

5 лет Красной Армии
1918 23 II 1923
От Петрограда до Владивостока! От Архангельска до Батуми! 23 февраля 1918 года Советская Россия занимала пространство в ОДИН МИЛЛИОН ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ квадратных верст и насчитывала 61 МИЛЛИОН жителей. 23 февраля 1923 года Советская Россия занимает пространство в ВОСЕМНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ТРИСТА ДЕВЯНОСТО ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ квадратных верст с 131 МИЛЛИОНОМ жителей.
Строясь и закаляясь в непрерывных боях, продолжала свой великий путь Красная Армия. На фронте, растянувшемся НА ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ верст, она воевала против всего мира...
ВСЕ СИЛЫ СТАРОГО МИРА были испробованы, чтоб сокрушить первую рабочую и крестьянскую революцию.
И все они разбились о мощь Красной Армии.
Потому что:
КРАСНАЯ АРМИЯ защищала поля, фабрики и заводы трудового народа...
КРАСНАЯ АРМИЯ после каждого поражения только крепче сплачивала свои ряды.
КРАСНАЯ АРМИЯ после каждой победы еще больше напрягала свои силы, чтобы окончательно добить врага.
КРАСНАЯ АРМИЯ СИЛЬНА ТЕМ,
ЧТО ВЕРИТ В СВОЮ ПРАВДУ.
КРАСНАЯ АРМИЯ СИЛЬНА ТЕМ ЧТО ТЕСНО СПАЯНА С КАЖДЫМ РАБОЧИМ У СТАНКА, С КАЖДЫМ КРЕСТЬЯНИНОМ У ПЛУГА.

В дни тяжкой разрухи, когда замирали мастерские и останавливались железные дороги,— кто на субботниках и воскресниках отдавал свой труд для восстановления хозяйства? КРАСНОАРМЕЕЦ!
В дни голода, кто делился последним фунтом хлеба с умирающим братом? КРАСНОАРМЕЕЦ!
Кто в промежутки между двумя ожесточенными схватками, во время похода запахивал поле бедной крестьянки? КРАСНОАРМЕЕЦ!
Кто устраивал в деревне
избу-читальню,
спектакль,
митинг?
Кто всегда и везде БЫЛ ПЕРВЫМ? КРАСНОАРМЕЕЦ!
Имя красноармейца с ненавистью и страхом произносит буржуа.
Имя красноармейца с любовью и восторгом повторяют трудящиеся всего мира.
В течение пяти лет Красная Армия высоко держала знамя пролетарской революции.
И она не опустит его до окончательной победы трудящихся!
Из листовки Политического управление Петроградского военного округа

Литературно-художественное издание
ИБ № 10247
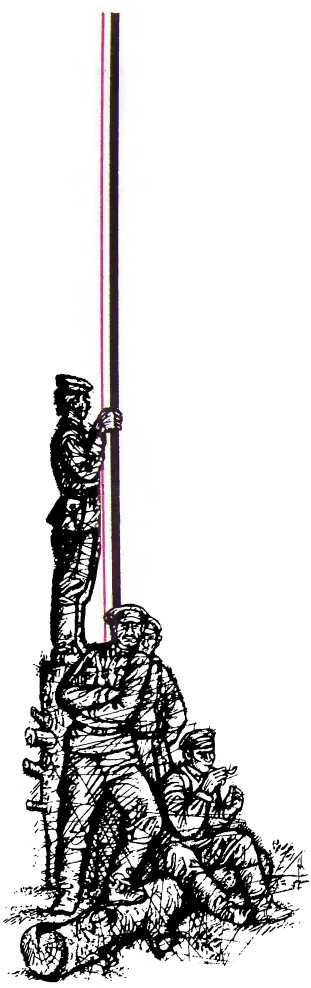
Для среднего и старшего школьного возраста
КАК СРАЖАЛАСЬ РЕВОЛЮЦИЯ
Рассказы участников гражданской войны
Ответственный редактор С. М. Пономарева Художественный редактор М. А. Трубецкой Технический редактор Л. П. Костикова Корректоры Г. Ю. Жильцова, И. Н. Мокина
Сдано в набор 13.06.88. Подписано к печати 16.01:89. Формат 70X90 /'®-Бум. офс. № 1. Шрифт литерат. Печать офсетная. Уел. псч. л. 1 1.7. Усл. кр.-отт. 4о.Уч.-изд. л. 11,65. Тираж 100 000 экз. Заказ № 8963. Цена I р. 10 к.


Как сражалась революция
Формула торжественного обещания красноармейца
Рассказы о мужестве
Час «пик»
Случай на переправе
Мужество и революционная сознательность рабочих увлекали за собой многих
По прямому проводу
В дни испытаний
Телеграмма
Киквидзе
И это им не поможет!
Ленинские уроки
За победу нужно драться!
Республика должна быть единым военным лагерем
Работать надо по-новому
Сила Красной Армии в ее неразрывной связи с народом
В 1918 году
Васика
Мы учимся воевать
Заамурцы
Меня ведут на расстрел
Береги винтовку!
В боях за Казань
«Порт-Артур»
Солдаты революции
Отомстим врагу!
На Казань
Первая революционная
Мобилизация
Червонный Валет
Железная дивизия
В боях за Симбирск
Телеграмма из Самары
Первая годовщина Октября
В степях Украины
Таким он был всегда
Бой за Седнев
Спартаковец Шварц
Во дворце губернатора
Казимир Квятэк
Кто ты, товарищ?
Комсомолки боевых отрядов
Шагаем дальше
«До свидания, Питер!»
Первая летучка
Так было разорвано вражеское кольцо Царицына
Сломихинский бой
Из заповедей коммунизма
В сибирском подполье
Важное поручение
Знакомый незнакомец
Через линию фронта
В Москве
У Свердлова
Путь обратно
С новыми силами
Новое поручение и арест
В Иркутской тюрьме
Сергей Лазо
Котовцы
«Я — Одесса»
Военная хитрость
Они сложили оружие
Героические дни
Подготовка к рейду
Поход в пустыне
Нас обнаружили
Мы переходим в наступление
Победа
Резолюция
В партизанских отрядах Крыма
Подготовка
В Анапе
Штурман Жора
Саша-перископ спасает нас
Начинаем все сначала
В море
Высадка
Крымская повстанческая
Еду в Советскую Россию
Всюду каратели
Путешествие с контрабандистами
Пешком в Трапезунд
Встреча с Фрунзе
На помощь партизанам Крыма
Начальное обучение
Рассказ комиссара
Будем учиться военному делу
Герой Первой Конной
Записывайте нас в партию...
Концерт
Жажда знаний
Приезд президента
Комсомолец Вася
Красные стрелы на карте
Опасное задание
На подступах к Вильно
Смерть героя
Одиннадцатая армия идет в Баку
Поединок
Случай в Решетиловке
Подавление
Кронштадтского мятежа
В Питере
Воззвание
Фронт
Ледобоязнь
Подготовка
Штурм
Черная бурка Фабрициуса
У Ленина
Волочаевские дни
В последний и решительный...
Атака
Победа
5 лет Красной Армии






Рассказы участников гражданской войны

Составление, научное редактирование и подготовка текстов кандидата исторических наук А. П. НЕНАРОКОВА
ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ
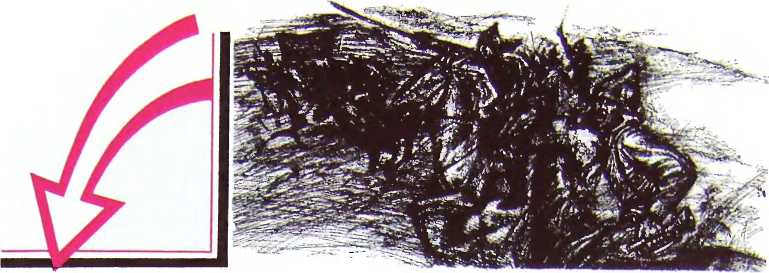
«Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться»,— говорил Владимир Ильич Ленин.
Когда в октябре 1917 года была свергнута ненавистная власть помещиков и капиталистов, когда над Россией взвилось знамя первой в мире социалистической революции, большевики знали: главные бои в защиту революции — впереди. И действительно, эти бои начались после установления Советской власти. В Петрограде поднимают мятеж юнкера. На революционную столицу движутся казачьи части генерала Краснова. Но и после того, как рабочие и солдаты подавили первые контрреволюционные мятежи, враги трудящихся не сложили оружия. Бывшие царские генералы сколачивают на окраинах страны белые дивизии.
Чтобы покончить с первым в мире государством рабочих и крестьян, объединились капиталисты всех стран. В порты Черного, Белого морей, Тихого океана идут караваны кораблей, груженных английскими танками, французскими пулеметами и пушками, американскими консервами. Мало того: они везут солдат. Войска интервентов маршируют по улицам Мурманска, Владивостока, Баку и Одессы.
На молодую Советскую Республику со всех концов огромной страны движутся вооруженные до зубов армии Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля.
Героические, спаянные в единый монолит волей Ленина, партии, идут в бой полки и дивизии рабочих и крестьян. И под их ударами отступают и бегут обученные и вооруженные армии белогвардейцев и интервентов.
Эта книга о тех людях, кто в жестоких боях гражданской войны отстоял молодую Страну Советов. Ее авторы — прославленные полководцы, комиссары и красноармейцы — рассказывают о деятельности Владимира Ильича Ленина по организации военной защиты Республики; о том, как из красногвардейских, полупартизанских отрядов складывалась регулярная Рабоче-Крестьянская Красная Армия — РККА; о мужестве и героизме ее бойцов; о бессмертных заслугах первых военачальников и политических работников; освещают ход боевых действий на многочисленных фронтах тех далеких лет.
Объективные свидетели прошедших событий, они повествуют, с каким напряжением приходилось бороться с наседавшим со всех сторон врагом, каких жертв и лишений стоила окончательная победа.
Но именно эти правдивые рассказы доносят до нас неповторимое величие дней, когда Советская власть защитила завоевания Республики и утвердилось и укрепилось первое в мире социалистическое государство.
А. Ненароков


Формула торжественного обещания красноармейца
1. Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики, принимаю на себя звание воина Рабочей и Крестьянской Армии.
2. Перед лицом трудящихся классов России и всего мира я обязуюсь носить это звание с честью, добросовестно изучать военное дело и, как зеницу ока, охранять народное и военное имущество от порчи и расхищения.
3. Я обязуюсь строго и неуклонно соблюдать революционную дисциплину и беспрекословно выполнять все приказы командиров, поставленных властью, Рабочего и Крестьянского правительства.
4. Я обязуюсь воздерживаться сам и удерживать товарищей от всяких поступков, порочащих и унижающих достоинство гражданина Советской Республики, и все свои действия и мысли направлять к великой цели освобождения всех трудящихся.
5. Я обязуюсь по первому зову Рабочего и Крестьянского правительства выступить на защиту Советской Республики от всяких опасностей и покушений со стороны всех ее врагов и в борьбе за Российскую Советскую Республику, за дело социализма и братства народов не щадить ни своих сил, ни самой жизни.
6. Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжественного обещания, то да будет моим уделом всеобщее презрение и да покарает меня суровая рука революционного закона.
Рассказы о мужестве

Рабочий, член Коммунистической партии с 1916 года. Командовал отрядами Красной гвардии и партизанской армией на Южном Урале. В боях против Колчака и Врангеля — начальник дивизии. В 1921 —1922 гг.— главнокомандующий, военный министр и председатель Военного совета Дальневосточной республики.
Один из первых Маршалов Советского Союза.
Час «пик»
В период нашего наступления на Верхне-Уральск в 1918 году в одном из селений подъехал ко мне верхом на коне седой как лунь старик и спросил:
— Где помещается штаб командующего?
— А зачем тебе штаб, дедушка?
— Молокосос! — возмутился он.— Я спрашиваю, где штаб командующего? Где командующий?
Ну, я ему и ответил:
— Я сам командующий.
Он был поражен и, недоверчиво осмотрев меня с головы до ног и с ног до головы, твердо сказал:
— Хочу поступить добровольцем, я рабочий Терлянского завода.
После этого я понял, что дальнейшая полемика авторитета мне не прибавит, а поэтому приказал сопровождающим зачислить его в челябинскую батарею.
Снова, и уже в последний раз, я встретился с ним в бою за гору Извоз. Эта гора господствует над Верхне-Уральском. Подступы к ней трудные, местность открытая. Мы не имели данных, занята ли гора противником. Отряд сосредоточился для атаки и залег у подножия горы. Белогвардейцы молчали. Тишина. Так продолжалось два-три часа.
Известно, что всякий бой имеет свой час «пик»... Наступил такой момент и в этом бою: либо атака, либо дрогнут бойцы перед этой тишиной и сомнет нас тогда противник контратакой. Я решил срочно разведать, есть ли кто на вершине. Вижу — люди мнутся. Разведка смертью грозила. Узнать что-либо можно было, лишь вызвав огонь на себя. Вдруг появляется верхом на лошади колоритная фигура старика добровольца и заявляет мне:
— Я поеду, товарищ командующий.
Трудно было принять решение, но речь шла о жизни сотен людей. Получив разрешение, он направил коня галопом на гору... Сто... двести метров... Скоро вершина, и вдруг... пулеметный огонь. Не выдержал противник, выдал себя. Когда мы после боя осмотрели тело старика, то на нем оказалось около тридцати ран. Но он сделал свое дело. Мы узнали, что на вершине горы — противник, что в лоб атаковать нельзя, а нужно действовать в обход. К великому сожалению, я не помню сейчас ни имени, ни фамилии этого героя. Много тогда было беззаветных бойцов-рабочих, которые по своему внешнему виду ничем не выделялись.
Случай на переправе
У Красного Яра нам нужно было переправиться через реку Уфу. Вспомнил я, что есть у нас в отряде М. Голубых, который учился когда-то в техническом училище. Вызвал его и приказал:
— Строй мост, чтоб к утру он был готов.
И правда, хоть на козлах, но за ночь мост был сделан. Течение реки быстрое, люди в холодной воде часами мучились, козлы заколачивали.
Когда проходили по мосту, он все кренился то вправо, то влево. Задерживаться на нем было опасно, и я отдал приказ, чтобы никто на мосту не останавливался. Вдруг какой-то старик остановил свою повозку как раз на середине моста и стал колесо исправлять. Мало того, что мост опасно накренило, так и вообще все движение стало.
Стали старику говорить, чтоб проезжал, а он отвечает, что надо кое-что исправить. Выругал я его крепко и велел бросить повозку в реку. Оттащили старика в сторону, повозку сбросили и открыли путь отряду.
Прошли части через реку, посмотрел я на старика. Вижу — стоит у берега, шапку снял, пригорюнился. Почувствовал я себя неловко, спросил:
— Ты очень крепко на меня обиделся?
Отвечает:
— Нет, я понял, что сделал плохо, всех задержал из-за своей подводы. Ты правильно сделал.
Так мог сказать только рабочий, у которого огромное сознание ответственности за общее дело.
Мужество и революционная сознательность рабочих увлекали за собой многих
В составе 1-го Уральского полка, действовавшего в нашем отряде в течение всего похода, находилось тридцать шесть офицеров старой армии. Командовал полком бывший офицер И. С. Павлищев.
Создан полк был в марте 1918 года в Екатеринбурге из рабочих, как показательный. В качестве инструкторов привлечены военные специалисты. Тогда действовал декрет, по которому на шесть месяцев можно было заключать договор с кадровым офицером старой армии.
По договору военным специалистам платили пятьсот рублей в месяц.
В начале мая, когда полк в составе моего отряда был направлен под Оренбург, срок договора, заключенного с офицерами, еще не истек, а поэтому они не могли отказаться от похода. В июле, когда отряд из Оренбурга двинулся на север, ко мне пришел адъютант полка бывший капитан Бартовский и сказал, что командир просит явиться к ним на собрание.
Прихожу. Все сидят в тесной халупе. Молчание. И вот Бартовский, крепко выпивший, говорит мне о том, что прошло шесть месяцев по договору и что они честно кончают свою службу как честные военные специалисты и политически разные с нами люди.
— Почему же вы в полку были?
Они ответили:
— Потому что договор подписали.
Я сказал, что они действительно служили хорошо, что с их стороны не было ни одного поступка, который опорочил бы кого-нибудь, и что мы по-честному разойдемся. Но наряду с этим предупредил:
— Вы командуете полком, который состоит исключительно из рабочих, не знаю, как они на это посмотрят. Я вам деньги дам. Но не думаю, чтобы это вас спасло.
После моего предупреждения наступила тяжелая минута. Тогда я сказал им:
— Расходитесь, больше мне говорить нечего. Я предлагаю подумать над таким предложением: давайте дойдем до соединения с Красной Армией и тогда разойдемся. Вы можете пойти к Колчаку или куда хотите.
Я ушел. Через пятнадцать минут пришел И. С. Павлищев и сказал:
— Мы обсудили, товарищ командующий, и решили остаться.
Когда меня выбрали в Белорецке главкомом, надо было назначить командующего отрядом. Я собрал партактив и сказал, что надо выбрать Павлищева, так как его любят и он грамотен в военном деле.
Павлищев был яркой фигурой. Всегда опрятно одет, всегда бритый, молчаливый. Красноармейцам отвечал вежливо. Всегда выполнял свои обещания. В бою был впереди всех. Меня все поддержали.
Я его вызвал и сказал, что мне трудно совмещать командование отрядом с общим руководством и ему придется взять отряд на себя. Он посмотрел на меня и ответил:
— Никак не могу, товарищ командующий.
— Первым Уральским полком командовали,— сказал я,— почему вы не можете теперь командовать отрядом?
— Я — честный специалист, пока я командовал полком, выполнял ваши указания и не нес политической ответственности за действия всего отряда. Как только я становлюсь командующим отрядом, я несу политическую ответственность.
— Могу вас утешить,— ответил я,— политическую ответственность будет нести главком,— и ушел.
Первый свой просоветский лозунг И. С. Павлищев произнес тогда, когда мы соединились с Красной Армией. Дело было под Кунгуром. Мы направили свои силы, для того чтобы отбить наступление белочехов в полосе железной дороги. Пулеметы косили наших бойцов. Павлищев ходил по окопам и поддерживал боевой дух. Один из бойцов сказал ему:
— Пока подойдут резервы, пройдет несколько часов. Нас за это время перестреляют всех до одного. Все равно умирать, так лучше пойдем в атаку.
И вот здесь впервые за всю историю своей службы в рядах Красной Армии Павлищев вскакивает и кричит:
— Вперед, за мной, за власть рабочих против белогвардейской сволочи!
Они пошли в атаку и отбросили два белочешских полка.
Я приезжаю на место боя, а командира полка нет. Подъезжаю к селу и не понимаю, что происходит. Вижу, что стоят два ряда рабочих, а в середине качают Павлищева и кричат «ура». Так мужество и революционная сознательность бойцов привлекали на сторону Советской власти все новых и новых сторонников из бывшего офицерского корпуса.
И вообще, если мы вышли победителями из решающих боев с белогвардейцами и иностранными военными интервентами, то только потому, что на нашей стороне были беззаветный героизм и самопожертвование рабочих и крестьян, организованных волей партии.

По прямому проводу

Участник революционного движения с 1903 года.
В Коммунистическую партию вступил в 1918 году. В годы гражданской войны начальник Оперативного отдела Народного комиссариата по военным и морским делам. Член РВС Республики, 12-й и 14-й армий, Юго-Западного фронта, Киевского военного округа. С 1921 года на дипломатической, государственной и научной работе.
Рядом с кремлевским кабинетом В. И. Ленина находилась маленькая смежная комната, так называемая «будка». Там стоял коммутатор, который осуществлял телефонную связь Ильича с народными комиссарами, членами ЦК партии, со штабами Красной Армии, с другими городами. Прямым проводом с этой «будкой» был соединен и наш Оперативный отдел.
Чаще всего Владимир Ильич рано утром звонил сам и спрашивал, что изменилось за ночь или за день на фронтах. Бывало, его звонки раздавались и ночью, и дежурный отвечал на вопросы Ленина. В случае необходимости и мы звонили Ильичу, спрашивали его указания по особо важным делам. Впоследствии в отделе установили прямую телеграфную связь с Лениным и фронтами. Мы передавали в Кремль оперативные и политические сводки, информационные бюллетени, доклады по интересовавшим Ленина специальным вопросам.
Прямой провод с кабинетом Председателя Совнаркома был для Оперативного отдела тем средством, которое много-много раз помогало правильно решить труднейшие вопросы.
В дни испытаний
Когда 6 июля 1918 года левые эсеры подняли мятеж в Москве, Ленин по телефону вызвал к себе работников Оперода и дал конкретные указания. Мне он велел проехать по Владимирскому шоссе (ныне шоссе Энтузиастов) и проверить, везде ли поставлены заслоны, чтобы не пропустить мятежников, распорядился также о сосредоточении рабочих отрядов у шлагбаумов и задержании автомобилей. Был весьма опасный момент: левые эсеры вероломно захватили Ф. Э. Дзержинского, который приехал в их штаб, чтобы арестовать убийц германского посла Мирбаха. Председатель ВЧК находился под угрозой расстрела. Хладнокровие и распорядительность Ленина, по приказу которого были арестованы в качестве заложников левоэсеровские делегаты Пятого Всероссийского съезда Советов, спасли Феликса Эдмундовича. Лично руководивший разгромом эсеровского мятежа, Владимир Ильич Ленин явился для всех нас примером выдержки и организованности.
Очень много сделал в те дни и Михаил Васильевич Фрунзе. На броневике он проехал в район, занятый эсерами, узнал их расположение. Потом с тремя бойцами проник в лагерь противника и захватил четырех «языков». Все это помогло очистить от мятежников телеграф, Покровские казармы. Дзержинский был освобожден невредимым.
В эти же дни вспыхнул контрреволюционный мятеж в Ярославле. При первом же известии Ленин по прямому проводу из Кремля потребовал от Оперода послать в Ярославль бронепоезд, направить против мятежников отряды московских рабочих с орудиями. Мы тут же исполнили эти приказания. Однако события нарастали.
Часа в три ночи 10 июля меня вызвали по телефону из Казани К. А. Мехоношин и П. А. Кобозев, которые сообщили об измене Муравьева, командовавшего тогда Восточным фронтом.
Это было совершенно непредвиденное, ошеломляющее известие. Владимир Ильич, лишь только я доложил ему о случившемся, предпринял самые энергичные конкретные меры: 11 июля специальным декретом правительства за подписью Ленина Муравьев был объявлен вне закона. Вечером того же дня симбирские коммунисты, взявшие на себя практическую ликвидацию заговора, расстреляли изменника. Авантюра Муравьева была ликвидирована. Необыкновенная ленинская распорядительность и энергия ободрили нас и в этом случае.
Телеграмма
Получив от И. В. Сталина с Царицынского фронта телеграмму, в которой тот просил пополнить армейские военные припасы, Владимир Ильич переслал ее к нам в Оперод со своей припиской: «Немедленно выполнить». Вскоре он позвонил мне по прямому проводу:
— Получили ли вы, товарищ Аралов, телеграмму?
Я о ней еще ничего не знал. Ленин сказал:
— Потребуйте почту и посмотрите, я подожду.
В очередной почте, полученной Оперодом, телеграммы Сталина не оказалось. Тогда Владимир Ильич пересказал мне ее содержание и добавил:
— Царицынский фронт сугубо важен. Белогвардейцы, казаки хотят отрезать от источника снабжения продовольствием рабочих Москвы, Питера. Во что бы то ни стало надо сохранить этот канал снабжения. Помните, это очень важный источник питания московских, питерских рабочих...
Спросив, какие у нас возможности быстрейшей посылки боеприпасов на Царицынский фронт, Ленин предупредил:
— Вы лично, товарищ Аралов, отвечаете за выполнение. Докладывайте ежедневно, что сделано. Срок исполнения — одна неделя. Если нужна будет помощь, звоните во всякое время.
Через несколько минут после этого разговора поступила в Оперативный отдел и сама телеграмма. Мы приложили все силы, чтобы выполнить распоряжение Ленина. Нашим сотрудникам пришлось поискать почти по всем московским военным складам. Все нужное нашли, привели в порядок и через несколько дней сформировали специальный поезд на Царицынский фронт. С большой радостью я докладывал об этом Владимиру Ильичу.
Киквидзе
С удивительным человеком познакомился я в мае 1918 года. К нам в отдел пришел молодой грузин с черными как смоль небольшими усиками.
— Киквидзе,— представился он.
Фамилия эта была мне знакома по военным событиям на Украине. Красногвардейский отряд под командованием Киквидзе перед новым годом храбро сражался за Ровно и изгнал оттуда гайдамаков. К весне 1918 года обстановка сложилась так, что советские войска вынуждены были временно отойти с территории Украины. Киквидзе со своими боевыми товарищами оказался в Тамбове. Ему поручили из украинских отрядов и других воинских частей сформировать дивизию для борьбы с контрреволюцией на Юге. И вот Киквидзе вызвали в Москву с докладом о ходе дел и за получением директив.
Совсем еще юный, двадцати двух лет, Василий Исидорович умел быстро сходиться с людьми. Казалось, только познакомились, только начали разговор, а он уже запросто говорил с собеседником, рассказывал о себе и сам расспрашивал, как будто встретил друга детства. Вспоминая о недавних боях, Киквидзе восторженно хвалил артиллеристов, которые своими снарядами разогнали новогодний бал офицерства в Ровно, назвал молодцами связистов, перехвативших секретный петлюровский приказ. Но о том, что сам находился на самых опасных участках, не проронил ни слова. Мои сообщения о положении на том или ином участке фронта Киквидзе слушал так, словно хотел впитать все, что могло быть ему полезным в дальнейшем. Полный надежд на победу, он буквально рвался в бой.
Во время нашей беседы Василий Исидорович, несколько смущаясь своей смелости, попросил:
— Ты бываешь у Ильича, скажи ему, что очень хочу повидать его.— И, помолчав, добавил: — Скажешь, да?
Нельзя было не выполнить столь искреннего желания. При первой возможности я рассказал Ленину о Киквидзе, поделился впечатлениями о нем. На замечание, что Киквидзе молод и горяч, Ленин задумчиво ответил:
— Что ж, молодости принадлежит будущее...
У Ленина Киквидзе был 20 или 21 мая. Владимир Ильич обстоятельно расспрашивал его о боевых действиях на Украине, советовал воспитывать солдат в духе товарищеской дисциплины, помогать политработникам и самому учиться военной теории у специалистов, ибо одного опыта командиру мало.
Ленин сказал Василию Исидоровичу, что дивизия, которая формируется в Тамбове, должна обеспечить охрану железной дороги, идущей на Царицын. Задача эта очень важная, и выполнить ее надо во что бы то ни стало.
В Тамбов Василий Исидорович возвращался в приподнятом, радостном настроении. После встречи с Лениным у него, как он сам говорил, столько сил прибавилось, что горы мог свернуть. И правда: Киквидзе с помощью Николая Ильича Подвойского, который возглавлял Всероссийскую коллегию по формированию Красной Армии, в короткий срок сколотил дивизию и уже в начале июня выступил с нею на фронт.
Недолгим, к сожалению, был боевой путь начдива Киквидзе: 11 января 1919 года он был смертельно ранен вражеской пулей. Мне так и не пришлось больше видеться с ним, но даже и одна встреча оставила неизгладимую память об этом замечательном человеке, храбром командире, молодом герое гражданской войны.
И это им не поможет!
Вспоминается мне и другой прославившийся на Украине герой — Николай Григорьевич Крапивянский. Мое знакомство с ним состоялось тоже в мае 1918 года.
В то время на украинской земле, захваченной немецкими оккупантами по сговору с буржуазными националистами Центральной Рады, развернулась партизанская борьба. Особенно широкий размах повстанческое движение приобрело на территории Черниговской, Киевской и Полтавской губерний, в лесных и болотистых районах.
Бывший полковник старой армии Крапивянский в боях доказал свою преданность Советской власти. Хорошо проявил он себя еще на посту начальника штаба 2-й армии. Теперь Центральный Комитет Коммунистической партии Украины направлял его через линию фронта для руководства партизанским движением на Черниговщине. В Москву Крапивянский приезжал договориться об установлении постоянной связи, о вооружении и денежных средствах. В Опероде, где имелось специальное отделение по связи с партизанами, ему оказали всемерную помощь.
Беседовать с Николаем Григорьевичем было весьма интересно. Коренастый, с обветренным румяным лицом и ясным волевым взглядом, он открыто смотрел в лицо собеседника. Речь его так и искрилась сочным украинским юмором.
Не знаю, виделся ли прославленный партизан в этот свой приезд с Лениным, но Владимир Ильич знал о нем. Мы регулярно сообщали в Кремль об исключительных по смелости и геройству операциях черниговцев.
Позднее в тылу оккупантов развернулись активные действия. 17 июля 1918 года вспыхнула всеукраинская забастовка железнодорожников. Она подорвала немецкие планы переброски войск, затормозила вывоз в Германию награбленного продовольствия и сырья. В разгар забастовки, в начале августа, трудящиеся Черниговской и других губерний подняли вооруженное восстание против оккупантов.
В полную силу проявили себя повстанческие отряды Черниговщины. Они нападали на отдельные немецкие гарнизоны, изгоняли их из украинских селений. То в одном, то в другом месте вспыхивали бои, наносившие серьезный урон врагу. Для борьбы с черниговскими партизанами немецкое командование выделило целый корпус регулярных войск. Окруженные вражескими войсками, они сражались в неимоверно сложных условиях.
Владимир Ильич Ленин, бывший в курсе всех этих событий, расценивал украинское восстание как братскую помощь российскому пролетариату в один из самых критических моментов существования Советской власти. Бодрый и энергичный, как всегда, он горячо верил в успех борьбы. В те дни у нас в Опероде то и дело раздавались его телефонные звонки:
— Каковы последние сводки?
— Вышли ли из окружения партизаны Черниговщины?
Как-то во время посещения Лениным Оперативного отдела я показал ему доставленный с Украины документ. Это было отпечатанное типографским способом объявление, которое развешивалось в городах и селах: немцы предлагали награду в 50 тысяч рублей за голову руководителя украинских повстанцев Крапивянского.
Ленин прочитал это объявление от начала до конца, усмехнулся и заметил: «И это им не поможет!» Возвращая документ, Владимир Ильич велел сохранить его для истории как свидетельство героизма партизан.

Ленинские уроки

Полковник старой армии. В апреле 1918 года добровольно вступил в Красную Армию. Осенью того же года назначен командующим Восточным фронтом. С лета 1919-го и до конца гражданской войны — главнокомандующий всеми Вооруженными Силами Республики, член Реввоенсовета Республики (РВСР).
Первая моя встреча с Владимиром Ильичем произошла в исключительной обстановке. В апреле 1919 года Восточный фронт, которым я тогда командовал, перешел в наступление. Разворачивалась большая операция, закончившаяся впоследствии полным разгромом Колчака.
Совершенно неожиданно, по крайней мере для меня, 5 мая было получено телеграфное распоряжение председателя Реввоенсовета Республики о снятии меня с должности командующего фронтом. Увольнение было произведено в весьма «деликатной» форме: дан отпуск и денежное пособие.
Крайне тяготясь вынужденной бездеятельностью в такое горячее время, я через несколько дней отправился в Москву просить о предоставлении какой-либо работы.
За победу нужно драться!
В Москве я со своей просьбой обратился непосредственно к зампреду РВСР Э. М. Склянскому. Не получив определенного ответа, я в достаточно подавленном настроении ушел на вокзал для возвращения в Симбирск. Едва я прибыл на вокзал, как комендант станции передал мне распоряжение немедленно вернуться в Реввоенсовет. Там уже ожидавший меня Склянский приказал, не теряя ни минуты, садиться в автомобиль и, только когда отъехали, сообщил, что едем мы на прием к Ленину.
Езды от Реввоенсовета до Кремля было не более двух-трех минут, а при быстрой езде Склянского, думаю, и того меньше.
Сообщение о том, что мы едем к Владимиру Ильичу, само собою разумеется, меня больше чем взволновало, тем более что Склянский ни слова не сказал, по каким вопросам мне предстояло сделать доклад, да и к тому же я не имел при себе никаких материалов. Приехав, мы поднялись на лифте. Предложив подождать, Склянский вошел в дверь, которая буквально через минуту вновь отворилась, и я очутился в кабинете Председателя Совнаркома.
Владимир Ильич, смеясь, о чем-то говорил со Склянским.
Первым вопросом, естественно, был вопрос о положении дел на фронте.
Обратившись ко мне, Ленин взял с вертушки возле стола атлас «Железные дороги России», издание Ильина. По этому картографическому материалу мне и пришлось делать доклад. Карты этой я никогда не забуду. На ней имелись лишь основные ориентиры. От волнения у меня исчезли из памяти все названия деревень, где находились части Красной Армии и разворачивались боевые действия. Вероятно заметив мое затруднительное положение, Владимир Ильич облегчил мне доклад подачей реплик, на которые давать ответы было уже много легче.
Обращая внимание Владимира Ильича на развитие военной операции, я стал восхищаться ее красотой. Владимир Ильич немедленно подал реплику, что нам необходимо разбить Колчака, а красиво это будет сделано или нет — для нас несущественно.
Замечание Ленина имело глубокий смысл. Я был военным специалистом старой школы и проглядел, что понятие воевать и драться на войне — не одно и то же.
Оказывается, можно просто, что называется, формально воевать — то, что имело место в первой мировой войне, и можно действительно драться за победу — за то, что стало возможным благодаря осознанию целей и задач войны. Являясь результатом титанической работы партии под руководством В. И. Ленина, это породило новые многообразные формы борьбы.
Волнение мое еще больше усилилось, когда стал излагать перспективы возможного развития событий на Восточном фронте. Владимира Ильича интересовало все: насколько достигнутые успехи устойчивы, что намечено и что делается для закрепления и завершения удара.
Докладывая, меня так и тянуло сказать, что все это только мои частные соображения, что я не у дел и являюсь теперь зрителем того, что происходит на фронте. Однако хорошо помню: ни я, ни Владимир Ильич, ни Склянский этого вопроса не затронули. На этом моя первая встреча с В. И. Лениным закончилась.
Выйдя из кабинета, я, негодуя на себя за свою растерянность, ожидал возвращения товарища Склянского. На обратном пути он ни слова мне не сказал, и из Реввоенсовета я опять отправился на вокзал. И тут опять повторилась старая история. Комендант станции вновь разыскал меня и передал распоряжение явиться в Реввоенсовет. И вот уже третий раз за день пришлось отправиться туда, правда, теперь уже на присланной за мной машине.
В Реввоенсовете товарищ Склянский сообщил, что мне приказано возвращаться в Симбирск и вновь принять командование Восточным фронтом. Такого оборота дела я никак не ожидал и даже считал невозможным, о чем незамедля и сказал ему:
— Как же я могу вернуться на должность командующего фронтом, когда буквально две недели назад был снят? Кто же будет меня слушать?
Указав на неуместность сомнений, Склянский передал приказание Владимира Ильича отправиться в Серпухов, где находился штаб главнокомандующего, которым тогда был И. И. Вацетис, чтобы договориться обо всем, найти с ним, так сказать, общий язык по спорным вопросам.
Неожиданности этого дня продолжались и в Серпухове. Здесь я впервые узнал, что был снят за недисциплинированность. Трудное поручение найти «общий язык» чуть было не обратилось в невыполнимое, когда я стал про-
тестовать против этого самым категорическим образом. Только вмешательство члена Реввоенсовета Республики С. И. Аралова привело к благополучному разрешению конфликта.
Поздно ночью возвратился я от главкома в Москву. Мысленно решил на будущее быть абсолютно дисциплинированным и не давать повода обвинять меня в этом недостатке, не представляя, что вскоре, в июне того же года, я уже в полном смысле слова не исполню приказ главнокомандующего.
Республика должна быть единым военным лагерем
Это было в дни, когда наступление на Восточном фронте развивалось вполне успешно. Армия Колчака откатывалась за Уфу. И вдруг, неожиданно, последовал приказ главкома остановиться на реке Белой. Я отказался свернуть наступление, и дело поступило на рассмотрение к Владимиру Ильичу Ленину. Перед ним был поставлен оперативный вопрос исключительной важности. Трудность решения усугублялась тем, что не только главное командование, но и Реввоенсовет Республики в лице его председателя стояли за то, чтобы отказаться от дальнейшего наступления и, остановившись на реке Белой, немедленно начать переброску частей Красной Армии с Восточного фронта на Южный. Яснее говоря, стояли за отказ от указаний В. И. Ленина в первую очередь ликвидировать Колчака.
Владимир Ильич с непревзойденным талантом решил стратегический военный вопрос, потребовав продолжать ликвидацию Колчака с еще большим нажимом, одновременно разрабатывая план переброски войск на Южный фронт по календарным срокам. Главком был сменен (8 июля на эту должность назначили меня). Ставка главного командования перемещалась в Москву.
Недовольный принятым решением, председатель РВС Республики Троцкий подал в отставку. Отставка не была принята, а его фактическое самоустранение, на мой взгляд, мало отразилось на нашей работе. Повседневно и непосредственно руководил Красной Армией Владимир Ильич Ленин.
Руководство это выражалось вовсе не только в том, что ему ежедневно представляли сводки, а зачастую и письменные доклады штаба РВС Республики.
Владимир Ильич организовывал борьбу страны в целом, борьбу, в которой действия Красной Армии были только частью общих мер, превращавших Советскую Республику в единый военный лагерь не на словах, а на деле.
Работать надо по-новому
Вся наша деятельность шла под повседневным контролем и нажимом Ленина. Но и контроль и нажим были какими-то особыми, своими, присущими только ему. Это не был только обнаженный нажим или контрольная проверка исполнения. Это было скорее обнажение твоего неумения работать по-новому. По этому поводу и мне пришлось получить от Владимира Ильича такого, назову — тяжкого, содержания записку.
Дело касалось ликвидации кулацкого восстания под руководством Сапожкова в Приволжском районе. Владимиром Ильичем был задан конкретный вопрос: почему ликвидация не была закончена в назначенный срок? На запрос штаб заготовил достаточно пространный и, надо сказать, маловразумительный доклад. Доклад был охарактеризован Лениным бюрократической отпиской, и главнокомандующему было предложено отказаться от бюрократических навыков. В. И. Ленин как бы указал мне: изволь работать по-новому, слабая сторона в твоей работе — бюрократизм; дальнейшая затяжка в ликвидации восстания нетерпима. В результате подавление мятежа было закончено в срок.
Самое печальное, что главной причиной первых неудач с Сапожковым действительно оказался бюрократизм, и очень скверного порядка, который вскрылся несколько позже. Сапожков был не так неуловим, как живуч. Банды Сапожкова настигались нами, разбивались и затем все же быстро оживали. При проверке выяснилось, что оживали они за счет наших же патронных складов. Напомню, что Сапожков до своего восстания был командиром бригады Красной Армии... Базы, на которых довольствовалась бригада Сапожкова до восстания, не списали с довольствия и после восстания. Он и продолжал довольствоваться, что главным образом и помогало ему быстро оживать.
Сила Красной Армии в ее неразрывной связи с народом
Я был буквально ошеломлен и новизной, и широтой, и глубиной организации, и построением борьбы в целом, которые раскрылись мне благодаря ленинским урокам. Неудивительно, чтовынесенные мною впечатления от империалистической войны теперь уже не подавляли, а, наоборот, поражали своей односторонностью. Владимир Ильич дал непревзойденный в военной истории пример создания армии как инструмента политики.
Основным костяком Красной Армии был рабочий класс. Большевики явились цементирующим началом в отношении как политической сознательности, так и боевой стойкости частей. Крестьяне из бедняков быстро сливались с рабочим ядром армии, усиливая его численно. Остальное крестьянство крепко обрабатывалось этими кадрами.
Сегодня красноармейские полки проходят интенсивнейшую политическую обработку, а завтра они уже сами заряжают окружающую среду, поднимают ее на борьбу за задачи социалистической революции, вносят развал в ряды белогвардейских частей или войск интервентов. Они проделывают таким образом потрясающий все старые основы переворот на громадных пространствах, после которого все «хотят красных» и все против белых, о чем свидетельствовали наши даже самые ожесточенные враги вроде английского генерала Нокса, военного советника адмирала Колчака, который в 1919 году писал своему правительству: «Можно разбить миллионную армию большевиков, но когда 150 миллионов русских не хотят белых, а хотят красных, то бесцельно помогать белым».
Средства борьбы множатся, нарастают и превращаются в несокрушимую силу. Эта сила могла только побеждать.
В 1918 году

Член Коммунистической партии с апреля 1917 года. Красногвардеец, комиссар, затем начальник дивизии, командующий группами войск на Западном и Юго-Западном фронтах.
Я никогда человеком военным не был да и ничего раньше в военном деле не понимал.
Начал свою «карьеру» с того, что организовал два-три десятка храбрецов и на грузовике преследовал румынских оккупантов у Кишинева.
Затем, вынужденный вместе с другими большевиками отойти из Бессарабии на Днестр, начал организацию красных отрядов. Занимался организацией, мобилизацией и прочими вещами, готовя сборные, сводные полки, батальоны и батареи.
Но это не все, что мне приходилось делать в Тирасполе — центре Тираспольского отряда, или, как его называли, «Особой армии по борьбе с румынской олигархией». Мне пришлось также командовать... китайским батальоном.
Я думаю, что это был первый китайский батальон в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Создался он так.
Васика
Было это в одну из очень тяжелых ночей. Я был дежурным по отряду, лежал на соломе в хате. То и дело поднимал меня с соломы телефон: звонили то с одной заставы, то с другой. Кто по делу, а кто и без толку, просто так — скучно в ночи слушать редкий снаряд, очередь пулеметную. Под утро меня разбудили в сотый раз. Продрал глаза — передо мной китаец, одетый в какую-то синюю кофту. Произносит одно слово:
— Васики. Я, мой, Васики.
— Что тебе? — спрашиваю.
— Китаиси надо?
— Какие тебе китайцы?..
Он все твердит свое:
— Китаиси надо?
Часа через два тот же китаец вошел в штаб и знаками предложил всем, кто был там, выйти во двор. Вышли, и все стало понятно. Во дворе в строю стояло человек 460 китайцев. По окрику «Васики» они подтянулись.
Оказалось, что оккупанты по подозрению в шпионаже расстреляли трех китайцев из числа работавших на лесной порубке. Остальные пришли к нам.
Голые они были, голодные. Ужасную картину представляли собой.
Людей у нас было мало, оружия много, все равно не вывезешь, придется оставлять... Ну и решили — чем не солдаты? (И будущее показало, что прекрасные солдаты были.) Обули, одели, вооружили. Смотришь — не батальон, а игрушка.
Вот меня и назначили командовать этим батальоном. Направили нас на оборону старой Тираспольской крепости.
Мы учимся воевать
Сподручными у меня были «Васика» и еще один китаец, Сен Фу-ян, именовавший себя капитаном китайской службы. Хороший был солдат. Он-то, собственно, и командовал, а я так — «осуществлял верховное руководство».
Как полагается вообще умным воякам, мы, получив распоряжение занять крепость, двинулись туда в колонне, впереди которой на заамурских лошадях (с большую собаку каждая; злые, но умные лошади) ехал я, Сен Фу-ян и «Васика». Дорога в крепость шла по совершенно открытому месту, и противник нас тщательно обстреливал. Тогда подавалась гортанная команда — и народ по-своему очень недурно применялся к местности...
Итак, первым делом, совершенным батальоном под моим руководством с помощью китайского «капитана», было движение в колонне под огнем по ничем не защищенной местности.
Второе — в крепости мы расквартировали свой штаб в пироксилиновом погребе с многоаршинными стенами (позже принуждены были оттуда выбраться, ибо ни один телефонист не желал тянуть туда провода).
Наше расположение в крепости также было очень неудобно: мы внизу, а неприятель выше. Мы на виду: чуть кого заметят, одиночку или группу,— сейчас огонь.
Посты наши стояли над берегом. Проверял я их довольно часто. Поедешь как-нибудь без «Васики», лошадь сдашь кому-нибудь на заставе, а сам пойдешь пешком. Ну и беды не оберешься. Пробираешься с трудом. Часовой не узнает. Сперва наведет на тебя винтовку и орет благим матом: «Не хади»; потом узнает и расплывается: «Капитана, хади...» Осмотришь все, устанешь, возвращаешься к коню... Опять та же история: «Не хади», опять винтовка наизготове — того и гляди, пальнет... Хотя я был и «капитана», а трудно приходилось на первых порах.
Потом привыкли. Каждый знал, без хвастовства скажу — любил. Но забот с ними было много.
На север мы отходили в арьергарде... Штаб, артиллерию и еще не помню что — в эшелонах двинули, а нас походным порядком. Мы прикрывали. Хорошо прикрывали.
Не помню, как называлась та маленькая станция, не доходя Одессы, где мы встретились с немцами. Дрались мы хорошо, много потеряли, но на нужное время задержали противника.
Когда отошли и стали подсчитывать потери, недосчитались и одного пу-
Через верст двадцать, на отдыхе, ночью догнали нас те, кого мы считали погибшими. Командир расчета был тяжело ранен. Двое бойцов протащили его на себе и пулемет не бросили...
В то время это было сильно... Тут, рядом, старые царские полки целые склады оставляли. Пулемет чуть не пятерку стоил, а то и дешевле. Пушку можно было достать за те же деньги. А они и товарища раненого, и оружия своего не бросили...
После этого наш батальон еще крепче стал. Сошлись мы с ними, сроднились...
Заамурцы
Я почти ничего не сказал об основном ядре нашего Тираспольского отряда. О тех, благодаря которым уже тогда, в январе 1918 года, удалось сколотить довольно крепкий кулак тысяч в пятнадцать. И не только сколотить, но и сохранить в значительной своей части на протяжении всей дальнейшей гражданской войны.
Нашей опорой, вокруг которой мы формировали новые части, был славный 5-й Заамурский полк. Еще в Бессарабии этот полк был твердым оплотом большевиков. В один прекрасный день из него тайком ушли все офицеры, но полк от этого не только не распался, а стал еще крепче, дружнее. Во главе сотен стояли старые унтер-офицеры. Все они были наши, мужицкие командиры, которые позже стали прекрасными коммунистами, и многие, пожалуй, почти все, погибли в боях за рабоче-крестьянское дело. Из 30—40 командиров в живых осталось только двое: Кокарев (да и то две пули прошли через легкое, возле сердца) да Медведев — пулеметчик, начальник команды, потом командир полка, бригады. Политические же организаторы этого славного полка погибли.
Погиб комиссар Ваня Рожков, храбрый, крепкий большевик. Погиб, когда вырос в большого, хорошего работника, уже под конец гражданской войны, под Мелитополем. Погиб Мелешин, секретарь нашего большевистского коллектива. Умней всех нас был и как большевик постарше. Очень мы его любили. Зарубили его казаки-красновцы.
Погибли Гуровой, помощник командира, Гожий... Многие погибли. Не перечтешь добрых боевых товарищей, боевой опыт которых позволял им командовать эскадронами и полками... Все они честно сражались за революцию и отдали ей свою жизнь.
Меня ведут на расстрел
Наряду с очень большой подчас боеспособностью, вольница и анархия царили в первые месяцы жизни наших частей. Поле для провокации было благодатное.
Как-то после боя я прибыл в штаб, оставив свой батальон в нескольких верстах в деревне на отдыхе. Доложил, как было дело, затем забрался в стоявший неподалеку вагон и не заметил, как уснул.
Разбудил меня какой-то шум. Я вышел и увидел большую толпу бессарабцев и приднестровцев, которым неясно было, куда уходят наши части, неясно было, почему надо прекратить борьбу за свои деревни... Толпу с трибуны подогревал провокатор комбат Чернов:
— И куда это, товарищи, мы идем, и как это нас обманули и оторвали от берегов наших? Кто и за сколько нас продал? Звестно хто: нас продал штаб, и идти нам надо спросить, за сколько, спросить нашими любыми штыками!
Тогда я мало соображал, как в таких случаях нужно поступать. Был молод и горяч, пробрался к трибуне, вскочил на нее и, когда он окончил, начал свое.
Смысл моих слов был предельно прост: да, верно, продают нас. Но продает не штаб, который организовывает крепкие красные полки, чтобы потом бить врагов наших, а продают Черновы. Служат они, эти Черновы, сознательно или несознательно, помещику и оккупанту, разбивают наше единство, главную нашу силу...
Говорил я уверенно, горячо. И это подействовало. Только что все ревели: «Правильно... Пойдем штыками спросим!» Ревели, одобряли Чернова, а после моей речи кричали опять, одобряли меня. Разошлись в хорошем настроении.
Все как бы успокоились. Но вот вызвал меня кто-то из Одессы к телефону по делу... Телеграф был далеко от вагонов, с версту... Не успел я окончить разговор, как распахнулась дверь... Показался Чернов, а за ним взвод, человек тридцать...
Он только рукой ткнул:
— Вот он, взять его, шпиона.
Я и слова не успел вымолвить, схватили — и на улицу...
Ведут меня по путям. Смертным боем бьют. Не только те, что ведут, а и те, что сотнями по путям слоняются. Подойдет, развернется справа да как двинет — клонишься в сторону, падаешь, а другой — слева. Так и припадаешь то на одну, то на другую сторону, а конвойные помогают прикладами. Припадешь от удара, а приклад как ухнет в спину, все в теле ломается, а идешь...
Били. Кто рукой, кто прикладом. Вели на расстрел. И все довольны были.
— Вот он когда попался, голубчик, шпион!
Был у нас рабочий, большевик Годунов, Исакием звали (расстреляли его позже немцы в Екатеринославле). Он как увидел, что ведут меня, бросился вперед, стал кричать:
— Товарищи! Кого же вы, своего же, да еще такого?!
Не подействовало. «Смазали» его прикладом, он и сошел с дороги. Сзади только слышался его крик.
Потом кинулся один командир спасать меня, Шмидт, крепкий большевик. Любили они его сильно, но и он ничего не мог сделать... Не так просто отнять у толпы человека, которого она хочет убить... Особенно трудно это было в феврале 1918 года.
И все же отняли. И довольно просто.
Вели меня мимо вагонов... Стоял там начальник оперативного управления Левензон, а рядом с ним командир полка Харченко. Хорошие ребята. Сделали вид, что не узнают меня:
— Кого это вы, товарищи?
— Шпиона.
— Куда?
— На расстрел.
— Как же это так, на расстрел без допроса? Его допросить надо серьезно.
— Верно! Правильно! — загудел мой конвой.
Я не все понимал. Ввели в вагон и стали допрашивать. Только потом я понял, что спасли.
Вышел командир, сказал, что дело серьезное, так, в минуточку, кончать нельзя, из «шпиона» все надо высосать. И толпа разошлась.
Только тогда они комедию допроса бросили и к Чернову:
— Как же это ты, скотина?
А он трус был. Когда за ним батальон да разжечь его сумеет герой, а в одиночку был труслив, предатель...
Так и обошлось...
Осип я от побоев. Долго грудь ныла. Два дня, пожалуй, пролежал...
Этот случай нехорошо и тяжело подействовал на некоторых. Не были они еще настоящими большевиками. «Как же это так,— говорили,— за «них» же страдаешь, от «них» же и побои терпи, смерть?» Я, хотя и битый, понимал тогда, что мы идем к крепкой Красной Армии, что этот путь не гладкая дорожка, знал, что нам придется встретить еще немало опасностей и преград. Так было везде, так было и с нашими приднестровцами.


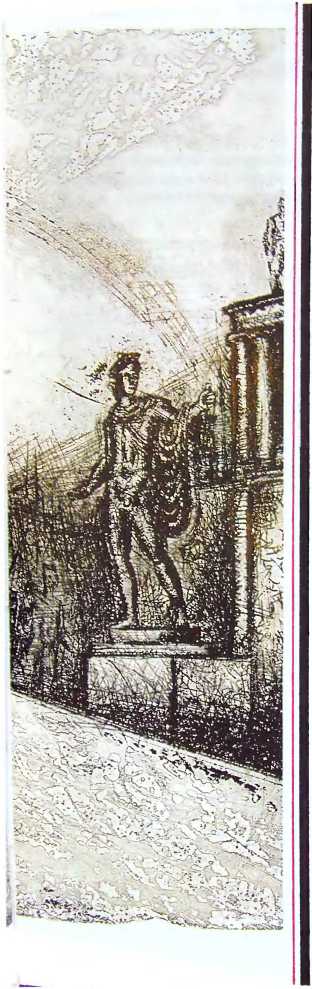
Береги винтовку!
Товарищ! Береги винтовку: в казарме, в траншее, в разведке, в дозоре, на посту, при отступлении — береги винтовку.
...В твоих руках винтовка — защита всех трудящихся, всех угнетенных.
В казарме береги ее, знай номер винтовки, чисти ее, смазывай аккуратно: иначе она изменит в бою, окажется негодной.
...БЕРЕГИ ВИНТОВКУ В РАЗВЕДКЕ... всегда готов будь к бою.
БЕРЕГИ ВИНТОВКУ В ДОЗОРЕ, на посту, на карауле, не выпускай ее из рук...
БЕРЕГИ ВИНТОВКУ, не бросай ее, когда отступаешь...
КАКОЙ ТЫ СОЛДАТ БЕЗ ВИНТОВКИ? Курам на смех, когда такой трус бежит и среди других сеет тревогу. А если отступаешь с оружием, неси все время, пока есть хоть один патрон, обороняясь, даже отступая, спасаешь тысячи людей от напрасной смерти...
Из листовки Военного отдела Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. 1918 год.

В боях за Казань

В шестнадцать лет в 1917 году вступила в партию. Одна из организаторов Союза молодежи. Летом 1918 года в составе Московского рабочего отряда добровольцев сражалась против белогвардейцев и белочехов.
В бой мы попали с ходу.
Наш эшелон подошел к забитой железнодорожными составами станции Свияжск. Где-то справа строчил пулемет.
У края платформы стоял Валерий Иванович Межлаук, представитель штаба свияжской группы войск. Размахивая красным сигнальным флажком, он кричал:
— Командира ко мне!
Кудряшов спрыгнул с поезда и побежал к Межлауку. Тот сказал ему несколько слов, показывая на восток, в ту сторону, откуда доносилась стрельба. Кудряшов пожал руку Межлауку и вскочил в теплушку.
Поезд, не останавливаясь, шел дальше. Через полверсты показался большой железнодорожный мост. Стрельба слышалась все отчетливее. Внизу, под высоким крутым берегом, блеснула широкая полоса воды: Волга.
— Белые хотят захватить мост,— передал Кудряшов слова Межлаука.— Сдать мост — значит открыть белым бандам дорогу на Нижний и на Москву. Ни шагу назад!
Подтянувшись на руках, он забрался на крышу вагона и побежал вдоль состава, оповещая соседние теплушки.
— Близко бьют,— сказал кто-то.
— Да нет,— отозвался Петр Васильевич Казьмин, бывалый солдат, воевавший в империалистическую войну.— Не ближе двух верст. Это по воде далеко слышно.
В эту минуту рядом в теплушке хлопнула ракетница. Поезд начал замедлять ход, но мы, не дожидаясь остановки, стали соскакивать на насыпь, на ходу подхватывая пулеметы и ящики с патронами.
Отряд быстро выгрузился. Вот когда пригодилась выучка, полученная в Москве на Чистопрудном бульваре и закрепленная во время занятий в пути! Мы бросились в ту сторону, откуда доносилась стрельба. Мы бежали полем, поросшим кустарником. Слева от нас темнел лес. Справа лежала Волга.
Вскоре между кустами показалась движущаяся на нас цепь. Мы залегли.
— К бою готовься! — приказал Кудряшов.
Защелкали затворы винтовок. Цепь приближалась. Пальцы у нас дрожали на спусковых крючках. Сейчас будет отдана команда: «Огонь!» Но раздалась команда: «Отставить».
Навстречу нам мчались охваченные паникой люди в красноармейских гимнастерках. Лица обезображены страхом. Большинство побросало винтовки. Многие бежали босиком.
Кудряшов — им наперерез:
— Стой! В чем дело?
— Белочехи!
Останавливать бегущих было бессмысленно. Мы бросились вперед. Шагов через триста произошло то, что в лекциях по военному делу называлось «войти в соприкосновение с противником». Мы уже приблизились к лесу, когда между деревьями заголубели чешские мундиры. Белочехи шли во весь рост, пересмеиваясь и переговариваясь, шли так, будто они были не в бою, а далеко в тылу, на тактических занятиях. Весело галдя, они показывали в сторону моста.
Подпустив белочехов на близкое расстояние, мы дали по ним залп. И самоуверенный противник тут же обратился в стремительное бегство.
Разгоряченные успехом, мы гнали белых, пока не оказались на узкой прибрежной полосе, окаймленной ракитником. Почти у самой воды стояла брошенная батарея; рядом с ней валялась опрокинутая набок походная кухня. Желтоватые волны набегали на берег. Низко над водой летали белые чайки. Позади нас в бледном свете сумеречного дня, обвитый волжским туманом, парил в воздухе мост — тот мост, защита которого стала теперь делом нашей жизни.
«Порт-Артур»
Вот так и кончился наш первый бой. Кудряшов приказал остановиться, проверить оружие, поставить походную кухню, сварить кашу, установить связь с соседом слева.
Сосед заставил себя поискать. Наконец он был обнаружен верстах в двух от нас. Назывался сосед полком, хотя насчитывал на более сотни штыков. Он не выставлял застав и охранялся полусонными часовыми, которые подпустили нас без окрика. Идти к соседу надо было перелесками и несжатым полем. На вопрос, где найти командира, часовой, прохаживавшийся около брошенной на землю винтовки, ответил:
— В «Порт-Артуре»,— и показал на большой овин, видневшийся неподалеку.
Из овина доносились звуки гармони. Когда мы вошли туда, никто не обернулся. Рядом с самозабвенно перебиравшим лады гармонистом сидел, полузакрыв глаза, молодой человек в нижней рубашке с подтяжками поверху. На его рваных, пыльных сапогах поблескивали серебряные шпоры. Это и был командир полка. Под стеной на соломе устроились красноармейцы — одни спали, другие резались в карты.
— Прохлаждаетесь? — сказал один из наших.— А тем временем белые мост берут.
— Что мост! — отозвался гармонист.— Мы Казань отдали — не ахнули...— И он лихо вывел очередную трель.
— Крести козыри,— сказали сбоку.
— Товарищ командир...— начал кто-то из нас.
Но командир, все так же полузакрыв глаза, вяло, длинно выругался. Игравшие в карты захохотали.
Мы оторопели. Что делать?
У нас было только одно оружие, которым мы могли привлечь на свою сторону эту деморализованную, казалось, полностью разложившуюся красноармейскую часть. Это оружие — открытое, честное, большевистское слово!
Мы поставили посреди овина ящик. Первым на него поднялся Алеша Крымов.
— Товарищи! — начал Алеша.— Положение наше в настоящий момент самое решительное...
— А теперь козыри черви,— сказали сбоку.
Светлое лицо Алеши, чуть опушенное первой бородкой, залилось краской.
— Товарищи! — продолжал он.— Неужели мы не сумеем постоять за себя? Неужели мы опять отдадим капиталистам нашу свободу, нашу землю, наши фабрики и заводы?
Алеша сделал паузу. Гармонист, явно в насмешку, завел «Марусю», подпевая:
Спасайте — не спасайте, мне жизнь не дорога...
— Когда нас посылали москвичи,— звенел голос Алеши,— они говорили нам: «Поезжайте и привезите победу. А если вы не привезете победу, то не возвращайтесь, пусть лучше привезут гробы с вашими телами». Это говорил народ, который шатается от голода, но крепко держит знамя революции в своих руках...
Гармонист по-прежнему перебирал лады, под стеной по-прежнему резались в карты. Но теперь уже на некоторых лицах можно было прочесть интерес к словам оратора.
— Мы не для того начали революцию, чтоб отдать страну в руки насильников,— говорил Алеша.— Мы должны сказать, что наше социалистическое отечество находится в опасности, мы обязаны бороться за спасение Советской России. Вы, красноармейцы, должны мужественно взяться за оружие. Революция не в том состоит, чтоб каждый мог урвать что-нибудь, чтоб хорошо прожить в своем доме. Нет! Революция состоит в том, что у каждого рабочего и крестьянина просыпается совесть, душа проясняется, и он говорит себе: «До сих пор я жил, как червь, теперь я пробудился, я не раб царя и капитала, я гражданин Советской Республики, я сын рабочего класса, и все мои силы и моя кровь должны быть отданы на службу рабочему классу и крестьянству!»
Тут впервые раздались аплодисменты. Теперь настала очередь выступать Саше Соченкову. Это был худенький светловолосый мальчик, откуда-то из-под Вятки, вступивший в наш отряд в пути. То ли он сам сочинил, то ли выучил наизусть стихотворный разговор двух рабочих — труса и героя, который с неизменным успехом исполнял и в теплушках, и во время остановок на станциях.
Саша начинал ненатуральным тонким голоском:
Товарищ, сегодня меня под ружье
Вожди призывают для боя.
Но жизнь моя... Жаль потерять мне ее,
Жаль выбыть из этого строя.
Допустим, пойду я и жизнь положу
За счастье людей и свободу,
На что мне тогда, чем живой дорожу,
Зачем тогда дождь огороду?
Тут голос Саши изменился, и он уверенно поднял голову.
Товарищ, пойми, в тебе трус говорит,
Ты чести бойца недостоин.
Стыдись же! Взгляни, как свобода горит,
Как свет ее нежен и строен.
Проклятие ляжет на жалких трусов,
Кто дрогнет в последнем напоре,
Опять кабала и насилье веков,
И тюрьмы, и казни, и горе...
Подняв над головой крепко сжатый кулак, Саша заканчивал:
К оружью, товарищ, бесстрашно вперед,
Сплотимся, воскреснем для счастья!
И тот, кто воскреснет, поверь, не умрет
В минуту грозы и ненастья!
С каждой строфой, прочитанной Сашей, как бы таяла стена, разделявшая нас и красноармейцев. Все больше становилось внимательных лиц. Вот гармонист положил гармонь. Вот раскрыл сонные глаза командир. Вот и картежники, бросив карты, обернулись к Саше.
И вот уже мы все сидим на соломе, окруженные красноармейцами, пьем душистый чай, настоянный на лесных травах, рассказываем о Москве, о последнем заседании ВЦИКа и Московского Совета, слушаем рассказы своих хозяев об их судьбе.
Это был Брянский полк, оставшийся от царской армии. После заключения мира большая часть людей разбежалась по домам, а остальные влились в Красную Армию. Но тут где-то в штабах о полке забыли, и полк слонялся по уездным гарнизонам, предоставленный самому себе, пока не попал в Казань, а оттуда сюда, под Свияжск. И все это время по традиции, оставшейся еще со времен царской армии, каждую свою казарму в полку называли «Порт-Артуром».
— Товарищи, а что такое «Порт-Артур»? — сказал Алеша, когда мы дослушали эту историю.— «Порт-Артур» — это напоминает о поражении, об измене. А мы должны побеждать и только побеждать. А потому переименуем «Порт-Артур» в «Новый Порт-Артур». Кто «за»? Принято единогласно.
Так не известный никому овин стал именоваться «Новым Порт-Артуром». Под этим именем он и фигурировал отныне в донесениях и сводках. И если сохранились оперативные карты левобережной группы войск, действовавших тогда под Казанью, возможно, на них обозначен небольшой кружок, около которого написано это неожиданное и непонятное для непосвященных название.
Солдаты революции
Ночи стояли темные, беззвездные. К рассвету Волгу затягивало плотной пеленой тумана. Становилось холодно. Костров мы не разводили, а, стуча зубами, плотно прижимались друг к другу и считали минуты, когда же кончится ночь. Наконец небо начинало бледнеть, туман, клубясь, подымался вверх, восток вспыхивал янтарным светом, и на этом фоне проступали легкие очертания моста через Волгу. Если на нашем берегу не было боя, на мосту показывались неясные черточки. Приближаясь, они превращались в мчащуюся кавалькаду, которая быстро пролетала по мосту.
Впереди на вороном коне скакала женщина в солдатской гимнастерке и широкой клетчатой юбке, синей с голубым. Ловко держась в седле, она смело неслась по вспаханному полю. Комья черной земли вылетали из-под конских копыт. Это была Лариса Рейснер, начальник армейской разведки. Прелестное лицо всадницы горело от ветра. У нее были светлые, серые глаза, от висков сбегали схваченные на затылке каштановые косы, высокий чистый лоб пересекала суровая морщинка. Ларису Рейснер сопровождали бойцы при данной разведке роты Интернационального батальона. Спешившись, они выяснили обстановку. Разговор велся то на ломаном русском, то на венгерском, то на немецком, то на чешском языке. Тут же принимали решение — провести разведку боем, взять «языка», послать разведчиков в тыл врага...
Мы то ходили в дозоры, то вели бои. Не особенно крупные по своим масштабам, они отличались предельным ожесточением. Если мы отступали и вновь занимали прежние позиции, то находили своих раненых мертвыми: белые пригвождали их к земле штыками.
Из Казани через линию фронта тайком пробирались тамошние коммунисты и рабочие. Они рассказывали о массовых арестах, виселицах, расстрелах без суда. Казань из незнакомого города, о котором почти все мы знали только по старинным песням, превращалась для нас в цитадель, где томились наши братья, чья жизнь зависела теперь от нашей решимости победить врага.
В одном из боев мы взяли пленного и привели его в «Новый Порт-Артур», ставший теперь чем-то вроде сборного пункта для отрядов, действовавших поблизости от берегов Волги. Это был гимназист с плоским бледным лицом и большими красными ушами, делавшими его похожим на летучую мышь.
На столе горел огарок свечи, ветер колебал пламя, по стенам плясали причудливые тени. Пленный смотрел на нас полными ненависти глазами. Он отказался отвечать на вопросы и, выходя из овина — его вели в штаб армии, а он думал, что на расстрел,— громко крикнул:
— Да здравствует Учредительное собрание!
Иногда с утра, иногда по вечерам, в зависимости от боевой обстановки, у нас собирался народ, приезжали «с того берега» члены Реввоенсовета и политические работники. Очень быстро наш овин обрел обжитой, советский, коммунистический вид. Солому выбросили, вымели земляной пол, прикрепили красное знамя и развесили самодельные кумачовые плакаты с лозунгами, принятыми после жарких дебатов:
ВСПОМНИ, КЕМ ТЫ БЫЛ, И ТОГДА ТЫ ПОЙМЕШЬ,
ЧТО ЖДЕТ ТЕБЯ, ЕСЛИ ТЫ НЕ ПОБЕДИШЬ!
ТЫ — СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО
ТВОЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ - РЕВОЛЮЦИЯ!
ЧТОБЫ УНИЧТОЖИТЬ ВОЙНУ, НАДО УНИЧТОЖИТЬ ТЕХ.
КОМУ НУЖНА ВОЙНА. ВОЙНА НУЖНА БОГАЧАМ!
ТВОЯ МОЛИТВА СОСТОИТ ВСЕГО ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛОВ:
«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»
ТВОЙ ВОИНСКИЙ УСТАВ ТОЖЕ СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛОВ:
«МИР ХИЖИНАМ— ВОЙНА ДВОРЦАМ!»
Спор шел о двух последних лозунгах: можно ли тут употребить слово «молитва» и стоит ли писать «воинский устав»? Всем это не нравилось, но лучшего ничего не придумали.
Однажды в «Новом Порт-Артуре» появился приехавший «с того берега» человек с мягкими чертами приветливого славянского лица. Он был одет в разномастный военный костюм: брюки австрийского образца, немецкая куртка и русские сапоги.
На фронте в тот день стояло затишье. По этому случаю в «Новый Порт-Артур» набилось порядком людей, свободных от дозоров и нарядов. Как-то само собой получилось нечто вроде вечера самодеятельности.
Талантов у нас набралось много — от поэта, сочинившего шестистрочную поэму «Три вздоха» (о чем вздыхает капиталист, о чем вздыхает мелкий буржуа и о чем вздыхает пролетарий), до певца, исполнившего под аккомпанемент оркестра из двух карманных гребенок арии Демона и Бориса Годунова.
Когда программа подошла к концу, приезжий поднялся и с застенчивой улыбкой попросил разрешения рассказать одну историю. Все охотно потеснились, освободив проход. Приезжий уселся на табуретку и приступил к своему рассказу.
— Весной пятнадцатого года,— начал он,— находясь в Восточной Галиции, я — неважно по какому поводу — обозвал нашего фельдкурата мешком с собачьим дерьмом и угодил в военную тюрьму. Тюрьма была как тюрьма — клоповник, в котором воняет парашей. Я уже готов был проскучать положенное число дней в ожидании суда и отправки с штрафной ротой на фронт, но когда вошел в камеру, вдруг услышал знакомый голос: «Здравствуйте, пан Гашек!» Ба! Передо мной был собственной персоной мой старый друг, с которым мы распили не одну кружку пива в трактире «У чаши». Его имя вам ничего не скажет, но запомните его, ибо оно заслуживает этого больше, чем имя Александра Македонского. Это имя отважного героя, старого бравого солдата Швейка. «У нас в Будейовицах...» — заговорил Швейк так, будто мы с ним расстались полчаса назад.
Тут лицо нашего рассказчика приняло смешанное выражение простоты и лукавства, глуповатого добродушия и тонкого ума. Перед нами сидел, потирая ревматические колени, Швейк — тот самый бравый солдат Швейк, которого теперь знает весь мир, а тогда не знал еще почти никто. В присущей ему манере, с бесчисленными подробностями и отступлениями он рассказывал нам про то, как повстречался в трактире «У чаши» с агентом тайной полиции, как тот отвел его в полицейское управление, как началась война и какие приключения пережил он, бравый солдат Швейк...
Рассказ этот был далек от той завершенности, которую он получил несколько лет спустя, когда зазвучал со страниц бессмертной книги Гашека. Образы, которые потом приобрели рельефность, тогда были только намечены легкими контурами. Но Ярослав Гашек с таким глубоким артистизмом перевоплощался в своих героев, что перед нами словно живые проходили австрийские офицеришки, пустоголовые щеголи, распутные священники, обжоры, доносчики, сластолюбцы — и прежде всего сам Швейк.
Сначала все это казалось нам смешным. Но постепенно сквозь причудливую ткань гротеска мы стали ощущать страшную правду жизни — и не чьей-то далекой, незнакомой жизни, а той жизни, которая была позади каждого из нас и против возвращения которой мы сейчас боролись с оружием в руках. Кто узнавал в одном из надменных австрийских офицеров своего старого командира роты в царской армии. Кто, слушая бессмысленные приказы, вспоминал, как его самого гнали на убой. Для кого с особенной силой звучали описания тюрьмы, для кого — солдатской казармы и жизни в денщиках.
Настроение аудитории передалось Ярославу Гашеку. Мягкая ирония, которой вначале был окрашен его рассказ, превратилась в бичующий, исполненный гнева сарказм.
Уже никто не смеялся. Все слушали затаив дыхание. Ярослав Гашек закончил свой рассказ среди глубокого, взволнованного молчания.
Тут встал Петр Васильевич Казмин, суровый, неулыбчивый человек. При Керенском он был приговорен к расстрелу за большевистскую агитацию на фронте, но Октябрьская революция помешала привести приговор в исполнение.
— Я полагаю, товарищи, так,— сказал он,— что, прослушавши доклад про товарища Швейка, мы должны вынести нашу резолюцию, что будь уверен, товарищ Швейк, мы свой долг выполним. Казань будет наша, а за Казанью и вся Волга. А ты, товарищ Швейк, пристраивайся скорее к русскому пролетариату и свергай своих паразитов — буржуев и генералов, чтоб да здравствовала бы мировая революция!
Отомстим врагу!
В двадцатых числах августа наш отряд вместе со стоявшим рядом с нами судогодским отрядом Говоркова перебросили на правый берег Волги. Теперь мы занимали позицию неподалеку от глубокого, заросшего лесом оврага. Здесь было просторно и далеко видно. Впереди нас лежали, слегка поднимаясь, холмистые поля. Слева сквозь сизую дымку поблескивала Волга, и уходили к горизонту густые черные леса.
По ту сторону оврага темнели соломенные крыши небольшой деревни. Здесь кругом было много деревень. В некоторых из них на красных смотрели косо, в других — приветливее, а из той, которая находилась рядом с нами, как-то пришла депутация и попросила «свеженьких номерков». Мы сначала не поняли, о чем идет речь. Оказалось, о газетах.
От нас по деревням ходили агитаторы. Собрания проводились в разных избах, по очереди. Бабы жались к стенам, с лежанок во все глаза глядели ребятишки. Когда темнело, зажигали лучину. Искры, шипя, падали в лохань с водой.
На второй или третий день нашего пребывания на правом берегу меня послали в разведку в тыл противника. Ночью меня отвезли на лодке верст за десять от линии фронта вниз по течению и высадили на берег. Я должна была пробраться в деревню Воробьевку, а потом в село Нижний Услон. На мне было коричневое платье, и, попадись я белым, сказала бы, что я гимназистка, бежала из Москвы, где моих родителей арестовали большевики, и пробираюсь в Казань разыскивать родственников.
В Воробьевке я сразу нашла нужного человека, и он передал мне собранные им сведения. Но в Услоне в назначенном месте меня никто не встретил. Я шла по селу. Улицы были безлюдны. На площади перед церковью стояла виселица, на которой висел босой человек. Глаза повешенного уже выклевали птицы. На груди у него белел плакат с надписью крупными буквами:
ЧЛЕНЪ КОМИТЕТУ БЪДНОТЫ.
По Симбирскому тракту тянулись обозы белых. Неприятель накапливал силы на нашем правом фланге. Я едва успела вернуться и сдать донесение, как далеко справа раздался взрыв огромной силы.
Позже выяснилось, что одна из частей действовавшей против нас дивизии полковника Каппеля совершила налет на станцию Тюрлема и взорвала там поезд с артиллерийскими снарядами.
Смеркалось, когда из деревни по ту сторону оврага прибежал взволнованный мальчуган и рассказал, что к ним пришли белые. Мы сообщили об этом в штаб армии и стали ждать приказа. Наступила черная, холодная ночь. Пошел дождь. Воздух наполнился шелестом струй, сбегавших к оврагу. Притаившись за деревьями и стогами сена, мы сжимали винтовки и вглядывались в кромешную тьму. Рядом с нами стояли,.вооружившись кольями и вилами, крестьяне из соседних деревень.
Бой начался уже под утро, далеко вправо от нас и сзади. Стрельба была то частой, то редела. Вдруг сбоку, оттуда, где стоял Второй номерной полк, шагах в полутораста, показались двигавшиеся на нас каппелевцы. Они шли сплошной стеной — впереди солдаты с винтовками наперевес, позади, поигрывая наганами, офицеры в черных мундирах.
Каппелевцы вплотную приблизились к нашим позициям, но тут из засады начали бить наши пулеметы, а с Волги открыла артиллерийский огонь наша военная флотилия. Атака каппелевцев захлебнулась, бой стал уходить на юг, в сторону противника, а к полудню и вовсе затих.
Уже потом мы узнали, что на этот день, 29 августа, белые назначили операцию, которая, по их замыслу, должна была увенчаться захватом моста через Волгу, после чего для них был бы открыт прямой путь на Москву. Но вместо разгрома красных каппелевцы вынуждены были поспешно отступить.
Утро 30 августа вставало в ярком блеске солнца. Мы все были возбуждены событиями вчерашнего дня. Никто не ожидал близкой беды. В войсках проводились занятия. Девизом этого дня было: «Учись на своих ошибках и на ошибках врага».
И вдруг тревога!
Из Свияжска прискакал начальник политотдела армии Иван Дмитриевич Чугурин. Ведя на поводу коня, он шел вдоль линии фронта и, переходя от одной группы бойцов к другой, повторял одни и те же слова: «На Владимира Ильича совершено покушение. Товарищ Ленин тяжело ранен. В Петрограде убит товарищ Урицкий. Товарищи, отомстим врагу!»
На Казань
Сколько было уже за этот год прожито и пережито, сколько дум передумано, сколько чувств перечувствовано! Но все испытанное прежде померкло перед известием о покушении на Владимира Ильича.
Иван Дмитриевич Чугурин шел вдоль линии фронта, и бойцы со слезами на глазах говорили ему, что нужно написать в резолюции.
— Ты отпиши, товарищ Чугурин, что за подлые покушения на вождей пролетариата мы клянемся беспощадно уничтожать белых разбойников,— говорил один красноармеец.
— А главное — что Казань возьмем,— добавлял другой.
— И так скажи: «Дорогой товарищ Ленин! Пусть предстоящее очищение Поволжья и Сибири от продажных наемников капитала заживит ваши раны»,— просил третий.
Тревога проявляла себя не в унынии, а в отчаянном мрачном воодушевлении. Зло и даже, пожалуй, весело ходили люди в атаки, высаживались десантами, впрягались в орудия там, где надрывались лошади, тащили пушки на себе по тяжелой глинистой грязи. Армия и раньше стремилась взять Казань, но теперь она рвалась в бой.
Третьего сентября со стороны Казани послышалась частая стрельба. Мы думали, что там действуют наши десантники. Оказалось, что рабочие подняли в городе восстание. Белым удалось подавить его. Но их торжество было недолгим.
Ночью я снова ходила в разведку в Нижний Услон. На околице села горели костры, там биваком расположились белые части. Костров было гораздо больше, чем требовалось по наличному составу солдат. Похоже было, что их нарочно развели, чтобы создать впечатление, будто там сосредоточены крупные силы.
Солдаты лежали на земле, угрюмо глядя в огонь. В большинстве своем это были насильственно мобилизованные местные крестьяне и вчерашние гимназисты. Белочешское командование, предвидя неизбежность поражения, оттянуло на вторую линию огня свои регулярные части, подставив под удар эти обреченные войска.
Несколько дней спустя тут, на подступах к Нижнему Услону, наши санитары подобрали умирающего командира судогодского отряда Говоркова.
Отряд Говоркова весь этот месяц стоял рядом с нашим. Он состоял из рабочих-стекольщиков со старинного стекольного завода в Судогде.
Говоркову было под тридцать. На заводе он работал с малых лет, мотом воевал в империалистическую войну. Очень любил рисовать и собирался после победы мировой революции пойти учиться в художественное училище.
Он был ранен в грудь навылет. Когда его раздевали, при нем нашли письмо, адресованное: «Всем! Всем!» Он завещал товарищам мстить белогвардейцам кто чем может.
«Письмо это вы получите после моей смерти,— писал он. Был Говорков — и нет Говоркова!»
Наступление на Услон было началом наступления наших войск на Казань. О том, как огнем нашей артиллерии неприятель был выбит из Услона и Красной Горки, как общей атакой советских войск, действовавших в тесном взаимодействии с Волжской военной флотилией и авиацией, было проведено окончательное очищение Казани, как наши моряки смелыми десантными операциями содействовали молниеносному успеху красных частей и вызвали паническое бегство неприятеля,— обо всем этом и о многом другом я узнала уже только по рассказам на перевязочном пункте, когда пришла в себя после контузии.
Перевязочный пункт помещался в большой рубленой избе. На лавках, на полатях, на полу — всюду лежали раненые. Солнце косо заглядывало в окно. Дверь внезапно распахнулась, в просвете появился солдат, весь измазанный грязью и кровью. Сняв шапку, он громко закричал:
— Товарищи! Братцы! Казань наша! Пойдем на Симбирск!

Первая революционная

Инструктор штаба Красной Гвардии в г. Пензе. Затем начальник штаба Первой Революционной армии. С 1919 года член КПСС.
Мобилизация
18 июля 1918 года в пензенской губернской газете был опубликован и во многих местах города расклеен приказ:
ДЛЯ СОЗДАНИЯ БОЕСПОСОБНОЙ КРАСНОЙ АРМИИ ВСЕ БЫВШИЕ ОФИЦЕРЫ-СПЕЦИАЛИСТЫ ПРИЗЫВАЮТСЯ ПОД ЗНАМЕНА.
Завтра, 19 сего июля, все бывшие артиллеристы и артиллерийские техники, офицеры-кавалеристы и офицеры инженерных войск должны явиться в губернский военный комиссариат в 16 часов.
Все бывшие офицеры пехоты должны явиться 20 июля в 12 часов туда же.
ПРИЗЫВАЮТСЯ ОФИЦЕРЫ ОТ 20 ДО 50 ЛЕТ.
Не явившиеся будут преданы военно-полевому трибуналу.
Подписали этот документ три лица: командующий Первой Революционной армией Тухачевский, комиссар армии Калнин и председатель губернского Совета Минкин. Приказ взбудоражил не только офицеров, но и все население Пензы. Встревожилось и контрреволюционное подполье. Эсеры и меньшевики понимали, что военные специалисты, работая под контролем комиссаров, умножат силы Красной Армии.
Начались провокации. По городу поползли слухи: большевики, мол, собирают офицеров для того, чтобы бросить их в тюрьму и затем расстрелять. А красноармейцам нашептывалось, что на их шею опять сажают «золотопогонников», возрождают в армии старорежимные порядки.
И вот наступило 19 июля. Еще задолго до 16 часов к губвоенкомату, разместившемуся в доме, который недавно занимал архиерей, стали стекаться офицеры. Приходили поодиночке и группами, некоторые с женами, с родными.
Ровно в 16 часов начался прием. В зале бывшей архиерейской трапезной за большим столом, накрытым красной кумачовой скатертью, сидели командарм Михаил Николаевич Тухачевский, политический комиссар армииОскар Юрьевич Калнин, начальник административного управления Иван Николаевич Устичев. Представителем Совета и губкома партии был комиссар инструкторского отдела военкомата Соловьев.
Подходя к столу, офицеры по укоренившейся привычке оправляли гимнастерки, подтягивались и четко представлялись: поручик такой-то, капитан такой-то. Они обычно обращались к Устичеву. Им импонировали солидность и осанка Ивана Николаевича, седеющие пушистые усы, суровый взгляд из-под золотого пенсне. Устичев имел в старой армии звание подполковника, но по виду его вполне можно было принять за генерала. Некоторые офицеры так и обращались к нему: «Ваше превосходительство».
Иван Николаевич тактично перебивал таких и жестом указывал на сидевшего рядом с ним Тухачевского:
— Представляйтесь товарищу командующему.
Он нарочито подчеркивал «товарищу», стараясь тем самым вернуть забывшихся к действительности.
Офицеров поражала молодость командарма. Михаилу Николаевичу было тогда 25 лет.
Он сидел в туго перехваченной ремнем гимнастерке со следами погон на плечах, в темно-синих, сильно поношенных брюках, в желтых ботинках с обмотками. Рядом на столе лежал своеобразный головной убор из люфы, имевший форму не то пожарной каски, не то шлема, и коричневые перчатки.
Манеры Михаила Николаевича, его вежливость изобличали в нем хорошо воспитанного человека. У него не было ни фанфаронства, ни высокомерия, ни надменности. Держал себя со всеми ровно, но без панибратства, с чувством собственного достоинства.
Весь облик командарма, его такт и уравновешенность действовали на мобилизованных успокаивающе. Беседу Тухачевский начинал обычно вопросом:
— Хотите служить в Красной Армии?
Ответы были разные, подчас маловразумительные: «Что ж, приказ есть приказ», «Раз призывают, повинуюсь». Некоторые вступали в объяснения, жаловались на усталость, ссылались на болезни, раны и т. д. Случались и другие ответы: «Я, товарищ командующий, по призванию военный, вне армии мне тяжело, я люблю свою родину, но... ведь нам, офицерам, не доверяют».
Это было понятно Михаилу Николаевичу. Он хорошо знал психологию русского офицерства, знал, как тяжело честным патриотам огульное недоверие.
Солдаты и рабочие имели основания для такого недоверия. Веками помещичье-дворянский офицерский корпус был оплотом царского трона. В офицере солдаты видели прежде всего барина-крепостника. Еще не забылись карательные отряды, возглавляемые офицерами, расстрелы по их команде рабочих демонстраций. Офицерам, которых от вступления в Красную Армию удерживало недоверие солдат, Михаил Николаевич говорил примерно так:
«Чувствовать по отношению к себе подозрительность — очень тягостно. Я испытал это. Но ведь доверие само собой не возникает. Его надо заслужить, завоевать. А чем офицер может завоевать доверие и авторитет у солдат? Во-первых, честностью, во-вторых, отличным знанием своего дела и, в-третьих, любовью к солдату, заботой о нем, уважением в нем человеческого достоинства».
Многим, очень многим офицерам помог Михаил Николаевич стать на путь служения Советской Родине...
Червонный Валет
Справедливости ради не могу не отметить, что не все мобилизованные специалисты проявили себя с лучшей стороны. Перед самым началом Сызрано-Самарской операции Тухачевский представил мне в своем салон-вагоне человека средних лет, небритого, в каком-то поношенном френче, небрежно развалившегося в кожаном кресле:
— Энгельгардт.
От матери, уроженки Смоленской губернии, и от отца, много лет служившего во 2-м пехотном Софийском полку в Смоленске, я знал, что Энгельгардты — коренные смоляне, что у крепостной стены в Смоленске стоял памятник коменданту Энгельгардту, отказавшемуся передать Наполеону ключи от города. Энгельгардт, представленный мне Михаилом Николаевичем, тоже был смолянином, земляком Тухачевского и, кроме того, его сослуживцем по Семеновскому гвардейскому полку. К нам он прибыл с предписанием Всероглавштаба.
Свои клятвенные заверения честно служить Советской власти Энгельгардт подкреплял ссылкой на былые дружеские связи с командармом:
— Неужели, Миша, ты думаешь, что я могу быть подлецом и подвести тебя?!
И, однако же, подвел, оказался истинным подлецом.
Во время Сызрано-Самарской операции Михаил Николаевич объединил в руках Энгельгардта командование Пензенской и Вольской дивизиями, а также двумя полками Самарской. Энгельгардт выехал в Кузнецк. В ходе операции он часто терял связь со штабом армии, его донесения противоречили донесениям из частей, и в конце концов мы вынуждены были связаться напрямую со штабами дивизий и осуществлять руководство ими, минуя Энгельгардта. А когда закончилась операция и армейский штаб перебазировался в Сызрань, Энгельгардт незаметно исчез и объявился потом у Деникина.
После Великой Отечественной войны, году примерно в 1949-м, ко мне явился пожилой человек весьма благообразной внешности. Это был еще один из Энгельгардтов — бывший член Государственный думы. Он приехал в Москву из Риги с письмами от друзей; они просили помочь ему в издании мемуаров. Я спросил его о том Энгельгардте, что был в Первой Революционной армии в 1918 году.
— Мой племянник,— ответил он и тут же дал ему характеристику: — Подлец, Червонный Валет, родную мать продаст...
На наше счастье, в Первой Революционной армии таких негодяев было очень немного. За все время помню два-три случая перебежек бывших офицеров к белогвардейцам...
Железная дивизия
Основным хребтом дивизий Первой Революционной армии явились рабочие красногвардейские отряды и отряды, возникавшие на местах в процессе борьбы с контрреволюцией. Так из рабочих отрядов Самары, Симбирска и Сенгилея был создан сначала сводный отряд под командованием Гая Дмитриевича Гая, переформированный затем в дивизию, получившую за свою стойкость и храбрость название Железной.
Действительно, красноармейцы этой дивизии не знали страха. Как-то при продвижении к селу Тетюшскому, числа 8 августа, противник оказал сопротивление встречной контратакой отряда в составе офицерского георгиевского батальона, роты белочехов и одной роты так называемой народной армии, всего до полка пехоты с приданной батареей. Белогвардейский батальон атаковал наш полк в сомкнутом строю, с барабанным боем, имея впереди священника с крестом. Это была «психическая атака».
Красноармейцы Железной дивизии встретили «психическую атаку» спокойно, без истерики, но с возмущением. Старые солдаты, знавшие о таких атаках в прошлом, говорили: «Чего они? Сбесились, что ли? Точно на басурманов с крестом прут!» Схватка была жестокая.
Село Тетюшское осталось за нами.
В боях за Симбирск
В конце августа мы получили скорбную весть: эсерка Каплан ранила Ленина. Красноармейцы дали клятву: освободить родину Ильича — Симбирск — от белочехов.
6 и 7 сентября в Пайгарме состоялся военный совет армии. Высказывались все соображения, которые могли быть полезны для успешного осуществления операции. В заключение и на основании всего, что было сказано начальниками и военкомами дивизий и управлений, М. Н. Тухачевский объявил свое решение: начать симбирскую операцию 8 сентября.
Основная тяжесть борьбы за Симбирск легла на Железную дивизию. Оказывая упорное сопротивление по всему фронту дивизии, белогвардейцы у станции Охотничья построили окопы полного профиля и обнесли их проволокой в три ряда. В середине дня 10 сентября здесь разгорелся горячий бой. Значительная часть сил Симбирской Железной дивизии была брошена в обход флангов противника, и в центре, по линии железной дороги, действовало лишь два полка. Противник встречал атакующих пулеметным огнем и засыпал шрапнелью. Несколько атак противником было отбито. Тогда Гай бросил на Охотничью свой резерв — Интернациональный полк, состоящий в основном из венгерских коммунистов. Они в образцовом порядке подошли к исходной для атаки позиции и дружно бросились на окопы противника. Забросав окопы ручными гранатами, штыками-ножами проделывая проходы в проволоке, венгры ворвались в окопы и в рукопашной схватке уничтожили почти весь батальон белогвардейцев. Около 20 человек венгерских интернационалистов пали здесь, у станции Охотничья, вдали от родной Венгрии, за Советскую власть.
К вечеру 11 сентября Железная дивизия сосредоточила свои передовые части в двух-трех километрах от Симбирска.
Ночь на 12 сентября прошла в подготовке к атаке. У костров, освещавших сосредоточенные лица бойцов, политкомы вели в эту ночь беседы. Политкомами были не только штатные работники политотдела.
Каждый коммунист считал себя партийным, политическим агитатором, пропагандистом.
На рассвете 12 сентября пять батарей из района Карлинская слобода беглым огнем возвестили о начале штурма. Их огонь был подхвачен батареями, приданными полкам. Пехота поднялась в атаку. Сильная схватка была на участке 2-го Симбирского полка в районе Винновской рощи, где полк дрался с офицерским инструкторским батальоном. Этот «образцовый» батальон белых был смят. Всадники Петра Боревича ворвались с флангов в Симбирск. Белогвардейцы уже не в силах были оказать какое-либо сопротивление. Сохранившие еще некоторую боеспособность части народной армии еще ночью переправились с артиллерией на левый берег Волги. Они рассчитывали на получение поддержки со стороны Уфы от белочехов. Не успевшие удрать белогвардейцы бросали оружие, разбегались, местами отстреливаясь от входивших в город красноармейцев.
Начальник Железной дивизии Гай отправил в Москву Ленину телеграмму:
«Дорогой Владимир Ильич! Взятие Вашего родного города — это ответ на Вашу одну рану, а за вторую будет Самара».
Вскоре через Валериана Владимировича Куйбышева был получен ответ:
«Взятие Симбирска — моего родного города — есть самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны. Я чувствую небывалый прилив бодрости и сил. Поздравляю красноармейцев с победой и от имени всех трудящихся благодарю за все их жертвы. Ленин».
28 сентября 1918 года я вместе с П. А. Кобозевым доставил в Симбирск Красное знамя ВЦИК, которым награждалась Железная дивизия за блестяще проведенную ею Симбирскую операцию. Отныне эту дивизию именовали Симбирской Железной дивизией.
С короткой речью Петр Алексеевич Кобозев вручил знамя начдиву Гаю, который принял его, встав на колено и поцеловав край полотнища. Держа в руках развернутое знамя, Гай, стоя в автомобиле, под эскортом конников, через весь город доставил знамя в штаб дивизии. Массы трудящихся на улицах Симбирска радостным «ура» встречали боевую награду, полученную Симбирской Железной дивизией за освобождение родины великого Ленина. Так еще на заре молодой Советской Армии в 1918 году впервые был установлен и вошел в жизнь, как традиция, воинский ритуал вручения и приема частью ее святыни — боевого знамени.
Телеграмма из Самары
После того, как пришло известие, что в оккупированной белочехами Самаре большевики-подпольщики подняли восстание рабочих, бойцы Первой армии рвались в бой, на помощь восставшим. А начальник Симбирской Железной дивизии Гай решился на отчаянный шаг, за который впоследствии получил от командарма серьезное внушение.
К этому времени в распоряжении армии появился авиационный отряд в составе двух «фарманов» и одного «сопвича». Поскольку я прошел краткосрочный курс офицерской воздухоплавательной школы, Михаил Николаевич возложил руководство действиями «армейской авиации» на меня. Основная ее задача состояла в осуществлении «глубокой» (до 30 километров) разведки.
Один из самолетов, насколько помню «сопвич», я придал Симбирской Железной дивизии. И вот после занятия Сызрани, когда в треугольнике Сызрань — Самара — Ставрополь шли бои, Гая Дмитриевич с летчиком (кажется, тов. Кожевниковым) садится где-то на картофельном поле под самой Самарой, узнает, что белогвардейцы из нее почти все удрали, и, вооружившись ручными гранатами, отправляется в город. Самару он знал хорошо и сразу двинулся на телеграф. Перепуганные его грозным видом, телеграфистки покорно стали отбивать на нескольких аппаратах: «Всем! Всем! Всем! Я, Гай, нахожусь в Самаре. Да здравствует Советская власть!»
А через некоторое время от Сергея Сергеевича Каменева по прямому проводу из Арзамаса мне пришлось выслушивать примерно следующее:
«Вы доносите, что войска армии ведут упорные бои на подступах к Самаре, а оказывается, Симбирская дивизия уже заняла ее. Доложите точно, до полка включительно, положение частей армии».
Почти одновременно меня запрашивал и Михаил Николаевич:
«Где сейчас находятся полки Железной?..»
Произошло это 7 октября. Мы с В. В. Куйбышевым очень опасались, что телеграмма из Самары от имени Гая является белогвардейской провокацией. Но в ночь на 8-е все разъяснилось. После тщательной проверки штаб донес С. С. Каменеву и по другим адресам о том, что рабочие Самары изгнали «учредилку». А к исходу дня, Не встречая сопротивления, в город вступили части сначала Четвертой армии, потом (часа два-три спустя) Первой Революционной.
Первая годовщина Октября
В памяти моей ярко запечатлелось празднование первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. По просьбе трудящихся Сызрани мы организовали военный парад. Командовать этим парадом М. Н. Тухачевский поручил мне. Принимали его сам командарм и члены Реввоенсовета О. Ю. Калнин и С. П. Медведев.
День выдался довольно прохладный, но еще бесснежный. На площади выстроились все части Сызранского гарнизона. Внешний их вид был далеко не блестящим — винтовки всех существующих в мире систем, изношенные до дыр шинели, порыжевшие кожаные куртки, нередко подпоясанные ремнями с медной пряжкой, на которой двуглавый орел старательно затерт или даже замазан краской. А обувь и того хуже — просто не разберешь, что у кого на ногах. И при всем том — радость на лицах, недурная строевая выправка.
В десять часов появился Реввоенсовет армии.
Подаю команду «Смирно! Слушай на караул!» и верхом на вороном гунтере курцгалопом подскакиваю с рапортом к командарму. Приняв рапорт, под звуки «Интернационала» Реввоенсовет во главе с М. Н. Тухачевским объезжает войска и выстроившиеся тут же колонны сызранских рабочих.
Мосле парада Реввоенсовет и командиры штаба армии собрались в бывшем «операционном» зале банка. Здесь был зачитан приказ по армии и вручены награды. Михаил Николаевич Тухачевский удостаивался золотых часов с надписью: «Храброму и честному воину Рабоче-Крестьянской Красной Армии от ВЦИК. 7.Х. 1918 г.». Такие же часы получили начальники дивизий тт. Гай, Лацис, Воздвиженский, а в штабе — И. Н. Устичев, М. Н. Толстой и я. Из командиров частей золотыми часами был награжден Петр Михайлович Боревич.
Многие командиры и отличившиеся в боях красноармейцы получили от ВЦИКа именные серебряные портсигары, подстаканники и... комплекты кожаного обмундирования. В частях в этот день было приказано выдать «улучшенное» питание: к обычной норме добавлялись полфунта черного и четверть белого хлеба. Но красноармейцы решили весь белый хлеб передать в только что созданные детские сады. Кроме того, по приказу Тухачевского из запасов армии сызранской детворе было передано два пуда сахару.
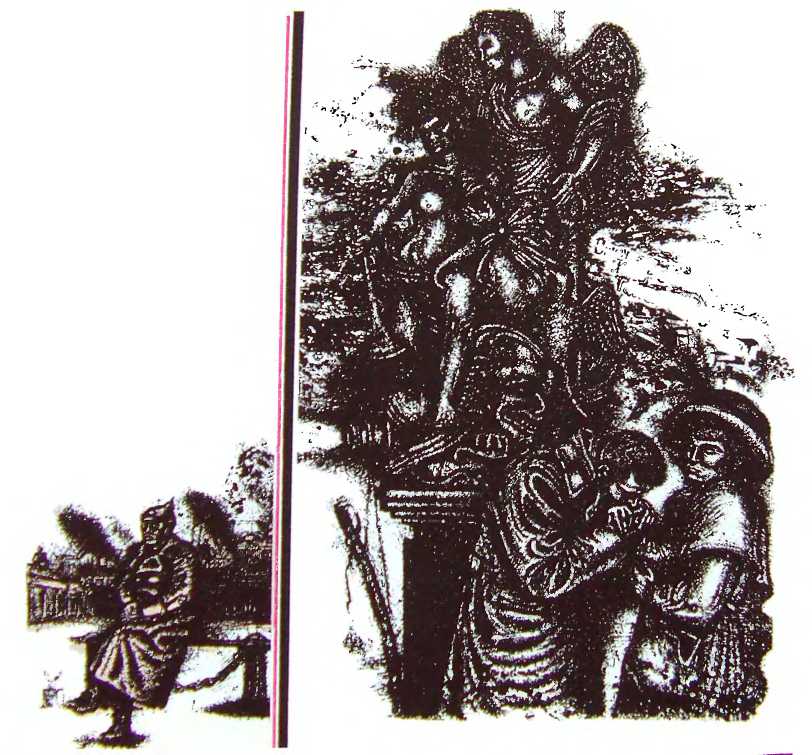
В степях Украины

Начальник штаба 1-го Богунского полка, сформированного Н. А. Щорсом. С июня 1919 года — командир 2-го (389-го) Богунского полка.
В Унече штаб богунцев занимал небольшой деревянный домик с высоким крыльцом и большим двором.
Однажды — это было в октябре 1918 года, когда, пытаясь разложить наши ряды, вражеские лазутчики всячески настраивали бойцов против ежедневных строевых и полевых занятий,— произошел один эпизод, характеризующий храбрость и собранность Щорса.
Таким он был всегда
Я сидел в штабе за работой. Время было послеобеденное. Щорс только что приехал с поля, с занятий, и писал, сидя за соседним столом.
Внезапно во дворе раздался топот, шум. На крыльце кто-то крикнул, и тут же просвистела пуля. Тотчас прогремели поблизости еще выстрелы, на крыльце затопали, дверь распахнулась, и в комнату ворвалось несколько человек с винтовками наперевес. Передние навели оружие на Щорса и на меня. В мою руку, потянувшуюся к поясу за револьвером, уперся штык. «Бесполезный и глупый конец»,— промелькнуло в голове.
— Выходи во двор, откомандовал! Там братва тебя научит, как вертать старый режим! — закричал на Щорса чубатый партизан.
Последующее произошло мгновенно. Щорс схватил лежавшую на полке у стола ручную гранату и, замахнувшись ею, крикнул:
— Назад, бандиты! Всех уложу на месте!
Дверь рухнула под напором ринувшихся в нее нападавших. Комната опустела.
— Братва, он нас бомбой! Спасайся! — закричал кто-то во дворе.
Щорс с гранатой в руке выскочил на крыльцо, у которого шумной, беспорядочной кучей толпились партизаны. Ближайшие кинулись назад, сминая задних. Толпа забурлила и отхлынула от крыльца.
— Стойте! Не бойтесь и не галдите! — крикнул Щорс.
Толпа остановилась и затихла.
— Товарищи партизаны! — продолжал Николай Александрович Щорс.— Бомба не для всех, а для гетманских и немецких холуев. Они обманщики. Не верьте им. Советская власть собирает и готовит вас, чтобы выгнать с Украины немцев и гетмана. Как же победите вы, если не научитесь владеть оружием? Тут все добровольцы. Кому не нравится, отпустим. Пусть идет куда хочет.
Щорс сошел с крыльца. Двор штаба уже оцепляли прибежавшие по тревоге дежурная рота и комендантская команда.
— В две шеренги становись! — подал команду Щорс, вытянув в сторону левую руку.
Толпа дрогнула и быстро вытянулась, пристраиваясь влево. Щорс, выйдя к середине строя и подав команду «Равняйсь! Смирно!», сказал:
— Сначала выбросим вон гетманских наймитов. Выходи! — сказал он чубатому верзиле, который только что угрожал Щорсу штыком.— И ты, и ты,— ткнул он пальцем еще двоих, врывавшихся в штаб.— Выходи!
Эти трое вышли из строя и были обезоружены комендантом.
— Товарищи партизаны! — сказал Щорс.— Не позволим предателям позорить наш полк. Предлагаю немедленно выбросить остальных шкурников.
В шеренгах загомонили, строй нарушился, вытолкнув вперед еще несколько человек.
Комендант уводил под конвоем арестованных.
— Повторяю,— обратился Щорс к стоявшим в строю,— кому не нравится дисциплина и порядок, того хоть сейчас отпустим. Кто хочет уйти из полка — три шага вперед, марш!
В шеренгах никто не пошевелился.
— Ротные командиры! — продолжал Щорс.— Разведите бойцов по баракам. Сегодня же провести собрания, выявить остальных чужаков и сдать в трибунал. Командиры батальона — в штаб.
Когда все мы вошли в помещение, Николай Александрович, кладя гранату на полку, рассмеялся:
— Как они отсюда рванули! Я думал, дом развалят. А граната ведь без запала...
Таков он всегда был — не терялся в трудную минуту.
Бой за Седнев
10 января 1919 года полк двигался к местечку Седневу, от которого не так уж далеко, верст двадцать пять, оставалось до губернского центра Чернигова. Был сильный мороз. На дорогах — сугробы. Для облегчения перехода пехоту посадили на крестьянские подводы, шедшие под прикрытием кавалерийского эскадрона.
Щорс с оперативными работниками штаба и группой кавалеристов находился впереди. Посланные ранее разведчики сообщили, что местечко занимает рота гайдамаков, вооруженная станковыми пулеметами.
Это давало основание предположить, что бой за Седнев не будет упорным и продолжительным. Однако обстановка оказалась посложнее.
Прискакавший позже к головному отряду конный разведчик доложил Щорсу, что неподалеку, на хуторе, удалось захватить гайдамака. Пленный показал, что в Седнев час назад прибыл из Чернигова батальон с пулеметами, одним орудием и обозом. Пехота разместилась по хатам, а пушка и обоз стоят на площади.
Наши разъезды, сообщил гонец, спешились и ведут перестрелку с гайдамаками, окопавшимися на окраине Седнева.
Щорс посмотрел на часы. Короткий январский день клонился к вечеру.
— Слезай! — отрывисто бросил командир полка. Он стал спускаться в овраг у дороги.
За ним направилась вся спешившаяся группа.
— Через час стемнеет,— сказал Щорс,— мы не успеем подтянуть всю пехоту. А в потемках гайдамаки могут уйти из-под удара.
Секунду-другую он помолчал, размышляя, как лучше поступить в этом случае. Потом кивнул своему помощнику Квятэку, тот подошел ближе.
— Казимир,— сказал ему Щорс,— галопом к колонне. Отбери лучших лошадей, сажай первую роту на сани. На рысях к местечку! Ты с нею. Атакуй с ходу! А мы,— Щорс обвел глазами свою группу,— отрежем выход на черниговскую дорогу. Гони!
Квятэк ускакал. Снова посмотрев на часы и на небо, Щорс подал команду:
— Становись! По порядку номеров рассчитайсь!
Нас оказалось двадцать восемь человек с двумя ручными пулеметами. Оставив на месте коноводов с лошадьми, которым было приказано двигаться вслед за ротой, мы побежали за Щорсом по оврагу, увязая в глубоком снегу. Видели только серое небо и слышали далеко справа перестрелку. Овраг тянулся к южной окраине Седнева. Мы пробежали по нему с версту. Неожиданно показались хаты.
— В цепь! К бою! — крикнул Щорс.
Через плетни и огороды мы цепью вбежали в местечко и перехватили центральную улицу. Без выстрела выбежали к площади, где находилось десятка полтора запряженных саней, орудие на огневой позиции и дымили походные кухни. Между всем этим сновали гайдамаки.
— Ложись! — подал команду Щорс.— Огонь!
Мы залегли за плетнем и открыли стрельбу из пулеметов и винтовок.
На площади началось невообразимое. Выскочившие из хат гайдамаки, не понимая, что происходит, в панике метались то в одну, то в другую сторону. Многие бросились к той окраине, откуда мы ждали свою роту. Кое-кто с противоположного от нас края площади открыл огонь.
А что же Квятэк? Ему пора быть тут. Промедлит он, опомнятся гайдамаки — нашей группе придется туго.
И вдруг на восточной окраине закипела стрельба, а за нею грянуло «ура», приближаясь к нам. Теперь гайдамаки очутились под огнем с двух сторон. Еще несколько минут, и на площадь выбежала цепь 1-й роты с Квятэком впереди.
Бой отгремел за полчаса. Большинство гайдамаков сдалось в плен, так и не разобрав, какие же силы их бьют. Лишь немногим удалось выскочить из местечка на черниговскую дорогу. Их дотемна преследовали и ловили наши кавалеристы.
Возбуждение и радость долго не могли улечься. К Щорсу подбегали бойцы, поздравляли. Нам достались около ста пленных, одно орудие (оно так и не успело выстрелить), два зарядных ящика со снарядами, шесть станковых пулеметов и обоз с тремя походными кухнями. Противник потерял десятки солдат убитыми и ранеными. У нас было ранено только несколько человек.
В сумерках вступили в Седнев основные силы полка. Ликование стало общим. Все удивлялись и радовались тому, что одна рота и тридцать спешенных всадников разгромили усиленный пушкой и пулеметами батальон гайдамаков, да еще с ротой в придачу.
Вечером в штабе, разместившемся в помещении школы, собрались командиры батальонов и команд для получения приказа на завтрашний марш.
Обжигаясь горячим борщом, доваренным в трофейных кухнях, перебирали детали сегодняшнего события.
— А едят, гады, не по-нашему. Смотри, какой жирный борщ,— говорил, вытирая усы, командир 3-го батальона Герасименко, бывший унтер-офицер.— Ну и мы их накормим в Чернигове, будет отрыгаться им до Киева...
— Не хвались, идучи на рать,— сказал ему комбат Кащеев.— Вот пленные говорят, что в Чернигове у них войск много и бронемашины. Попотеть придется. Как ты, Николай Александрович, думаешь? — обратился он к Щорсу.
— Мы новая, революционная армия,— ответил Щорс,— и воевать должны по-новому. Не бойтесь, что противник числом больше. Зато мы сильны революционным духом. Применяйте внезапность, нападайте с тыла. Зажигайте бойцов злостью к врагу и одной думой — победить. Тогда не устоять гайдамакам!
Спартаковец Шварц
В связи с боями за Чернигов вспоминается человек, совершивший геройский подвиг на улицах города. Это Генрих Шварц, член германского революционного союза «Спартак», бывший солдат 106-го немецкого пехотного полка, ставший бойцом-богунцем.
У нас в полку он появился в октябре 1918 года. В один из погожих дней партизаны привели в штаб полка немецкого солдата, встреченного ими в нейтральной зоне. Гайдамаков и петлюровцев — пленных и перебежчиков — приводили часто, к этому уже привыкли, а вот немец был впервые.
— Чудной какой-то. Сам пришел, за руку здоровается, похоже — рад нас видеть. Всю дорогу болтал по-своему и немного по-нашему, а понять трудно. Вроде просится к нам на службу. «Патронами и гранатами запасся до победы»,— говорил старший конвоир, ставя в угол немецкую винтовку и положив около нее сумку с боеприпасами.
Перебежчик был жилистый человек среднего роста и средних лет, в сильно поношенном, но опрятном немецком обмундировании. По-русски говорил плохо, но понимал все, о чем его спрашивали.
— Шварц Генрих...— рассказал он.— Работал слесарем в Мюнхене. Теперь солдат... Я — Спартак.— Он вынул из кармана френча и показал нам членский билет союза.— Пришел вам помогать. Нужно скорее делать капут войне, вашу революцию передать в Германию и дальше. Тогда скоро будет мировая революция.
Горячо просил Шварц принять его в наш полк и был зачислен в 4-ю роту. Среди недавних партизан он резко выделялся дисциплинированностью и аккуратностью во всем, что бы ни делал. Свою винтовку держал в идеальном состоянии. За это сторонники партизанской вольницы сначала невзлюбили «муштрованного немца».
— Выслуживается!..— говорили они.— Наверное, нашкодил на Украине, вот и пришел шкуру спасать.
Последующие события сразу изменили подозрительное отношение к нему.
Спустя несколько дней 4-я рота вела бой с крупным отрядом гайдамаков. На глазах у всех Шварц несколькими выстрелами сразил офицера и прислугу двух станковых пулеметов. Гайдамаки, отстреливаясь, начали отход, превратившийся под нажимом роты в беспорядочное бегство.
Второй гайдамацкий офицер, сев на коня, скакал к дальнему перелеску. Расстояние до беглеца увеличивалось с каждой секундой, а стрельба по нему из разнокалиберных, не обладавших меткостью партизанских винтовок и обрезов была безрезультатной. Еще сотня метров, и офицер скроется в перелеске.
— Шварц, стреляй! — закричали бойцы немцу, который чинил закапризничавший ручной пулемет.
Шварц схватил свою винтовку и выстрелил с колена навскидку в далеко маячившего всадника. Тот свалился с лошади, шарахнувшейся в перелесок. У убитого нашли ценные оперативные документы.
Бой кончился. Героем его был Шварц. Бойцы окружили немецкого спартаковца, шумно выражая восхищение его меткостью, хлопали по плечу и наперебой угощали куревом. Этот бой сделал Генриха полноправным членом ротной семьи. Он никогда не сидел без дела — то ремонтировал, то пристреливал винтовки и пулеметы.
— Рабочий человек, мастер на все руки! — с чувством симпатии говорили о нем бойцы.
Прошла неделя. 4-я рота находилась ночью на заставе в нейтральной зоне. Шварц с подручным — бойцом-украинцем — был поставлен в секрет в удаленном от роты перелеске. На рассвете на дозорных вышла гайдамацкая разведка — два отделения с унтер-офицером, всего пятнадцать человек.
Генрих бросил гранату и уложил троих. Потом он и его подручный из винтовок ранили еще двоих. Тогда Шварц поднялся с гранатой во весь рост и, мешая немецкие команды с русскими, приказал остальным бросить винтовки и поднять руки. Остолбеневшие при виде немца гайдамаки беспрекословно подчинились. Так с поднятыми вверх руками обезоруженные пленные и были сданы командиру роты, поспешившему на выстрелы с подкреплением.
Вскоре после этого, в темную ночь, Шварц стоял на посту у товарного вагона с боеприпасами в железнодорожном тупике станции Унеча. На него набросились три вооруженных бандита, намеревавшихся взорвать боеприпасы. Легко раненный, Генрих убил двоих, а третьего уложил в грязь и сдал живым прибежавшему по тревоге караулу.
А разве можно забыть, каким незаменимым человеком оказался Генрих Шварц в ноябрьские дни!
На третий день после того, как в Германии вспыхнула революция, узнавшие об этом солдаты 19-го и 106-го полков немецкой армии прислали к нам свою делегацию. Эти полки были расквартированы по ту сторону нейтральной зоны.
Политработники Богунского полка организовали митинг с участием бойцов и командиров, немецких делегатов и населения Унечи. Произносились горячие, революционные речи. Все понимали, что революция в Германии положит конец немецкой оккупации Украины и вызовет большие политические перемены в Европе. Генрих на митинге переводил слова делегатов и сам выступил, призывая земляков к братанию.
Это было 12 ноября. А на следующий день Богунский полк отправился в гости к немцам. Приглашение это передали нам делегаты, заночевавшие в Унече. В полном боевом составе, со знаменем и музыкой, богунцы перешли нейтральную зону. Оба немецких полка под руководством вновь избранных солдатских комитетов вышли навстречу нам. Состоялась бурная манифестация — братание и митинг. И опять Генриху Шварцу пришлось взять на себя обязанности переводчика. Бывшие его однополчане, увидев «пропавшего без вести» живым и невредимым, внимательно слушали Генриха, который говорил о большевиках только хорошее и советовал своим землякам скорее возвращаться домой.
Не забыть возбужденных лиц, восторженных возгласов на непонятном нам языке, но с вполне понятным смыслом, когда на этом многолюдном митинге солдаты немецких полков принимали постановление о том, что они прекращают военные действия против советских войск и начинают немедленную эвакуацию в Германию.
Когда церемония встречи закончилась, Генрих Шварц попросил разрешения остаться на сутки у своих земляков. Мы не возражали. Отдельные бойцы говорили, что теперь наш немец захочет уехать на родину и в Богунский полк не вернется. Но ровно через сутки Генрих прибыл в Унечу, явился к Щорсу и заявил, что будет драться вместе с богунцами за Советскую власть.
В боях за Чернигов 4-я рота, а с нею и красноармеец Шварц, наступала в обход города. Сжатые с двух сторон гайдамаки пытались вырваться на киевскую дорогу, где залегла и сдерживала их огнем 4-я рота. Против нее оказалось больше двух петлюровских рот.
Сбоку, из узкого переулка, выдвинулась вражеская бронемашина. Неистово строча из пулемета, она шла на помощь своим пехотинцам. Ружейный огонь безвреден стальной громаде, а наших орудий поблизости не было. Еще несколько метров, и броневик сомнет нашу цепь, выведет за собой гайдамаков.
Вдруг Шварц поднялся со связкой ручных гранат. Перескочив забор палисадника, он бросился к машине, швырнул под нее эту связку и тут же упал.
Прогремел взрыв. Броневик осел и остановился. Рота поднялась в атаку и отбросила противника. Экипаж бронемашины и гайдамаки сдались.
Шварц был смертельно ранен. Его оперировали после занятия Чернигова лучшие хирурги, собранные для этого Щорсом. Операция не помогла. Шварц прожил еще двое суток. Он умирал спокойно и мужественно.
И долго потом вспоминали богунцы немецкого солдата-спартаковца Генриха Шварца как живой пример братской солидарности рабочих всех стран и всех наций.
Во дворце губернатора
Оборонять Киев Петлюра уже не мог. Деморализованные его части, боясь окружения, спешно отступали, оказывая слабое сопротивление. Наша разведка, проникнув в Киев 5 февраля, установила, что город остался без власти и в нем орудуют темные элементы. Это подтвердила и прибывшая к нам делегация рабочих. На следующий день Богунский и Таращанский полки вступили в Киев.
Народ сплошной стеной стоял вдоль улиц от бедняцкого Подола до богатого Крещатика, бурно приветствуя Красную Армию. На Крещатике состоялся многотысячный митинг.
Встал вопрос: где расположиться штабу?
Ревком разрешил штабу бригады занять бывший губернаторский дворец, раскинувшийся в аристократических Липках на целый квартал. Щорс согласился, и мы во главе с ним подъехали туда.
Вошли в парадный подъезд громоздкого, мрачного снаружи двухэтажного здания. Вслед за Щорсом прошли в первый большой зал. Там нас встречала длинная шеренга людей. На всех одинаковые темно-синие фраки с блестящими пуговицами. От шеренги отделился представительный седой человек.
— Я дворецкий,— сказал он,— и являюсь старшим^из прислуги. Всех нас сорок человек. Мы много лет обслуживаем дворец и его хозяев. Петлюровцы хотели разграбить дворцовые ценности, но мы их спрятали. Здесь все цело и в порядке. Надеемся, что вы останетесь нами довольны. Все ключи у меня. Ждем ваших распоряжений.
Щорс улыбнулся.
— То, что вы бережете дворец и его ценности,— правильно. Советская власть это оценит,— сказал Николай Александрович.— Теперь этот дворец и все, что в нем есть, принадлежит трудовому народу. А мы люди простые, обслуживаем себя сами, и никакой прислуги нам не надо. Мы осмотрим дворец и займем три-четыре комнаты. Остальные помещения заприте. Ценности комендант возьмет на учет, и вы будете отвечать за их сохранность. Перед уходом отсюда мы сдадим дворец теперешнему хозяину города — революционному комитету.
— А как же с нами? — оторопело спросил дворецкий.— Ведь мы все здесь живем.
— Ну и живите, как жили,— ответил Щорс.— Советская власть позаботится о вашем жилье и даст вам работу.
Щорс направился к дверям в следующее помещение, но из шеренги вышел еще один человек.
- Я главный повар дворцовой кухни. Что изволите заказать на обед? Можно приготовить...— И он стал перечислять нерусские названия блюд.
- Голубчик, - перебил его Щорс, - мы питаемся из походной кухни вместе с бойцами, этих деликатесов не знаем, да и продуктов для их приготовления у нас нет.
— О продуктах не беспокойтесь, в кладовых много еще гетманских запасов. Там есть любые продукты и любые вина.
— Возьмите сегодня же все на учет,— сказал Щорс начхозу полка.— Продукты сдайте в полковые склады, наши и таращанцев, а вино — в санитарную часть для раненых.
Люди в шеренге удивленно переглядывались.
В губернаторском дворце мы жили несколько дней. И Щорс, и сотрудники штаба обедали в большой дворцовой столовой.
Нас поражало богатство обстановки, несчетные запасы столового серебра и хрусталя, расставленного за стеклами большого, во всю стену, буфета.
Сидя небольшой группой за массивным, рассчитанным на сто человек столом, мы ели простые борщи и каши, сваренные в походной кухне комендантской команды.
А со стен столовой, казалось, с удивлением на необычных гостей смотрела из дорогих рам галерея всех украинских гетманов. Последний из них — немецкий ублюдок Скоропадский — у всех вызывал улыбку: к его губам какой-то шутник-богунец прилепил махорочный окурок.
Казимир Квятэк
В марте 1919 года Николай Александрович Щорс был назначен на должность начальника 1-й Украинской дивизии. Командовать Богунским полком поручили Квятэку, а на его место — помощником командира полка — поставили меня.
Вместе с Казимиром Францевичем Квятэком мне пришлось прослужить уже полгода, а в условиях войны это срок немалый. Я узнал некоторые подробности его биографии и проникся большим уважением к этому человеку, много испытавшему в жизни и сохранившему самые светлые мечты.
Выходец из бедной польской семьи, Квятэк служил в Варшаве телеграфистом. Он был членом Польской партии социалистов. В 1910 году его арестовали и осудили на десять лет каторги за участие в убийстве варшавского генерал-губернатора. Из тюремных застенков Квятэка вызволила революция.
В Богунский полк Казимир Францевич был направлен Всеукраинским ревкомом. При первом знакомстве он казался угрюмым, суровым — семилетняя каторга наложила свой отпечаток на его характер. Но на самом деле это был человек чуткий, отзывчивый. Он располагал к себе исключительной прямотой, честностью и отвагой. Как-то по-детски любил он людей. Мог часами мечтать о грядущей светлой жизни.
Командиры и бойцы нашего полка с уважением и большой любовью относились к Квятэку. Щорс считал его своим помощником не только по должности, но и по духу. Если нужно было что-то сделать важное и срочное, он непременно поручал это Казимиру, как, просто по имени, называл он Квятэка. В бою сутулую фигуру Квятэка всегда можно было видеть среди красноармейцев. Тут он чувствовал себя своим, нужным всем человеком.
Встав во главе Богунского полка, Казимир Квятэк провел немало боев, в которых хорошо проявлялась щорсовская выучка,
20 марта 1919 года полк наступал на Винницу. Сильная распутица и непролазная грязь на полях замедляли действия пехоты и артиллерии. А тут как раз от захваченных пленных узнали, что петлюровцы готовят к отправке из города железнодорожные эшелоны с правительственными учреждениями и военным имуществом.
Медлить тут вовсе невозможно. И Квятэк с полковым эскадроном на рысях атаковал оборонявшихся на окраине города петлюровцев. Прорвавшись в город, конники захватили на станции стоявший уже под парами эшелон боеприпасов и снаряжения и два эшелона с буржуазией и «властью», в том числе целиком петлюровское казначейство.
Пока эскадрон во главе с Квятэком наводил панику внутри города, в Винницу с боем входили батальоны богунцев.
Через три дня штаб полка получил тревожное сообщение: пехота противника при двух бронепоездах заняла станцию и поселок Бородянку, в 50 километрах от Киева. Украинской столице вновь грозила опасность. Богунскому и Нежинскому полкам приказывалось немедленно переброситься в тот район.
Уже на рассвете 24 марта наш полк разгружался из вагонов неподалеку от Бородянки. Квятэк, не теряя ни минуты, приказал ротам развертываться для боя. Полк с ходу нанес петлюровцам удар и отбросил их на 20 километров за реку Тетерев.
В этом месте единственной уцелевшей переправой являлся железнодорожный мост, и противник подготовил его к взрыву. Для спасения моста Квятэк бросил вслед за петлюровцами 9-ю роту и сам пошел с нею. Захватив мост, Квятэк шашкой перерубил уже горевший шнур взрывного заряда. Почти одновременно Казимир Францевич был ранен.
В июне Богунский полк был развернут в бригаду, тоже названную именем знаменитого украинца. Старые кадры богунцев вместе с вновь прибывшим пополнением составили три Богунских полка. 1-м полком по-прежнему командовал Квятэк, меня назначили командиром 2-го. Не раз, взаимодействуя, мы с Казимиром Францевичем выигрывали бои, когда шансы на успех казались очень небольшими. Боевую дружбу двух полков мы хранили и развивали. Позднее, в декабре 1919 года, Квятэка назначили командиром Богунской бригады, я воевал опять под его началом.
Уже в боях против вторгшихся на Украину белополяков Казимир Квятэк показал огромную волю и находчивость в трудной обстановке. Богунская бригада была окружена врагом. Пять суток шел бой, измотавший силы красноармейцев и командиров. И все-таки Квятэк вывел бригаду из окружения. Сам он, находясь все время среди бойцов, ни на миг не терял хладнокровия.
Богунской бригадой К. Ф. Квятэк командовал до конца гражданской войны. За боевые заслуги он был награжден орденом Красного Знамени и именным золотым портсигаром.


Кто ты, товарищ?
(Из «Книжки красноармейца»)
1919 год
«Кто ты, товарищ?» Если тебя спросят, отвечай: «Я защитник всех трудящихся». «За что ты бьешься?» Если спросят, отвечай: «За правду, чтобы земля, и фабрики, и реки, и леса, и все богатства принадлежали бы рабочему люду».
«Чем ты бьешься?» Отвечай: «Я бьюсь винтовкой, и штыком, и пулеметами, а еще верным словом к неприятельским солдатам из рабочих и крестьян, чтобы знали, что я им не враг, а брат».
«Кто же твой враг, товарищ?» Если тебя так спросят, отвечай: «Мои враги те кровопийцы, кулаки, помещики, капиталисты, что отнимают у трудящихся их кровное добро и заставляют трудовой народ друг друга истреблять».
«Как же ты бьешься с врагами?» — «Без пощады, пока не сокрушу».
«Много ли вас, защитников труда?»
Если тебя так спросят, отвечай:
«В резерве у меня весь пролетариат и трудовые массы; трудящиеся всего мира спешат ко мне на помощь».

Комсомолки боевых отрядов

В шестнадцать лет добровольно пошла медицинской сестрой на фронт. В 1921 году во времяподавления Кронштадтского мятежа командир отряда «Роза Люксембург».
1919 год. «Запись в боевой коммунистический отряд работниц 1-го городского района производится у т. Крыловой».
— Девочки, вам что?
Пропустили мимо обидное слово «девочки», решив поговорить об этом после.
— Нам в боевой, пришли записываться.
— Боевой отряд делится на две части, на отряд красных сестер и на строевой.
— Мы в строевой,— откликнулись все разом.
— Ну это еще рано, пока запишитесь в санотряд.
Получив назначение в госпиталь, на курсы красных сестер, мы получили заодно и назначение на воинскую подготовку. Второе нам больше пришлось по душе. Взволнованные, не чувствуя под собой ног, понеслись в райком молодежи.
«В боевой!» — кричали мы и смеялись. «Ну?» — также смеялись радостно ребята. «В боевой! В боевой!» — все смеялось и радовалось с нами.
Дни шли за днями: занятия в госпитале, лекции, перевязки, операции. От крови, от запаха гноя с непривычки кружилась голова, звенело в ушах и сосало под ложечкой. Мы уверяли друг друга, что это, по всей вероятности, от голода. Часов в 8 вечера мы все выстраивались рядами, шли на плац. Я и Аня всегда были в последних рядах левого фланга.
— Раз-два, раз-два. Левой... левой... Правофланговые, голову выше!.. Довольно, вы, маленькие, устали.
Дается приказ об отдыхе. Женщины ворчат:
— И куда это детей принесло? Все лезут на фронт. Сидели бы дома.
— Мы — члены Союза молодежи. И учиться будем сейчас вот здесь, на плацу. А в райкоме будем протестовать против вашего отношения к нам. Умереть за революцию могут все, и большие и дети! — с горящими от возмущения глазами кричит Маня Мудрецова.
— Отряд, стройся!
Небольшая путаница после взрыва протеста, и мы снова в рядах. Снова звучит твердо голос командира: «Раз-два, раз-два». Подойдя к нам, он подмигнул:
— Не сдавайся, ребята! Молодчики! Маленькие тоже нужны и фронту и революции.
— Товарищ командир, мы каждый день растем,— уверенно сообщает Зина Дмитриева.
Взрыв хохота всего отряда, и мир восстановлен под теплыми взглядами взрослых работниц. Сдвоенными рядами, стройно, как можно стройнее — «ногу, ногу, ребята, держите!» — маршируем к райкому партии.
Шагаем. Только бы нам, последним в отряде, не отстать.
Шагаем... под злобные взгляды обывателей.
Усталые, голодные, но сильные духом, приближаемся к райкому. Начинаются споры о том, как скоро все фронты будут ликвидированы, кто следующий за нами — Германия или Франция — повторит Октябрьскую революцию. Кто? Спорить могли до утра, да завагиткружком Николай всегда урезонивал:
— Идите-ка, ребята, идите.
— Ну куда идти?
— Хотите домой, хотите в райком молодежи. В общем, как хотите. Не дежурить же вам.
В райкоме нет уже никого. Кто в казармах, кто на обысках, кто где. «Домой! Да разве есть у нас, девушек-большевичек, в такие дни дом? В дни, когда Республика в опасности». И мы никуда не уходили. Оставались в райкоме. Объявляли себя дежурными. Дверь райкома беспрестанно открывалась и закрывалась, впуская новых людей. И люди эти были самые родные, самые близкие — большевики.
Шагаем дальше
Серьезнее становились занятия. Звание красных сестер давалось не легко. У многих из нас была очень маленькая школьная подготовка. Приходилось все брать с бою.
Кадровый состав сестер относился к нам с насмешками: дескать, какие же это сестры в три-то месяца? Это не «сестры милосердия», а «сестры смерти». Мы, стиснув зубы, молчали. А сами смотрели, смотрели, как они работают. Читали, переписывали мудреные названия с баночек. Аква-вода, натрикар-боникум — сода и т. д. Ходили и зубрили. Все хотели знать, ни одной операции не пропускали. Ведь партия, Союз молодежи не в госпиталях нас будут держать. Нас ждет фронт, походные лазареты в госпиталях. Это мы твердо знали.
За месяцы учебы мы заметно «выросли». Нас уже не называли маленькими, хотя мы по-прежнему маршировали в самых последних рядах.
— Работница, красная сестра должна уметь не только перевязывать раны, но и держать винтовку и хорошо знать ее. Это — правило. Понятно?
Мы кивали головами в знак согласия.
Итак, тир. Нам дали по винтовке. Не сказала бы, что они очень легкие. Таня Смирнова разве чуточку была побольше винтовки. Сказала я об этом вслух, а сама глазами себя с уровнем винтовки смерила и покраснела. Но Татьяна только улыбнулась, не съехидничала.
Я стреляла первая.
— Эй, кто там у цели! Отчаливай!
Кепка у меня была на затылке, а после выстрела очутилась на земле. Такая ужасная, до чертиков, боль зазудила в плече. «Ой, мама родная!» Я посмотрела на других. У Марии были перекошены губы. Таня почему-то терла ноги.
Пришла первая рота. Нам предложили пока отдохнуть. Мы не очень настаивали и даже постарались уйти. Шли помалкивали. При входе в райком Мишка Козлов вздумал в знак приветствия хлопнуть меня по больному плечу. Я взвыла. Мишка не ожидал такой встречи.
— Черти, я вам воблу принес! Не дам.
— И не надо.
Этот первый вечер стрельбы из винтовки кончился невесело.
Перед отправкой на фронт на медицинском осмотре, недели через две после стрельбы, у нас почти у всех правое плечо было еще в синяках. И потом, когда нам приходилось стрелять из винтовки уже на войне, мы, крепко помня уроки в Семеновском тире, сильнее прижимали винтовку к плечу.
«До свидания, Питер!»
Райком молодежи превращен в боевой штаб. Комсомольцы уходят на фронт. Торопливое прощание с товарищами. И опять тихо.
Фронт не за тысячи верст, не за сотни, не за десятки. Сам Петроград — это фронт, передовая позиция. Окопы в пяти километрах от центра города.
Наступает генерал Юденич. Все ближе и ближе подходит к самому городу революции. Много нас, девушек, пришло в райкомы отметить комсомольские и партийные билеты. По дороге в Красный Крест Аня, смеясь, говорила:
— Куда-то нас пошлют? Этой весной я с одним парнишкой все дачные места, где теперь фронт, исколесила, соловьев слушали, а теперь, пожалуйста, вспоминай, Аня, дорогие пережитые минуты.
Вот и Красный Крест. Товарищ Лоторева — заведующая Красным Крестом — встречает нас.
— Скорее, скорее, товарищи, получайте амуницию и на вокзал!
Моросит дождь. На Детскосельском вокзале мелькает много-много белых косыночек и походных сумок красных сестер. Наш отряд — это сплошь молодняк, со всех районов. С нами врач, фельдшер и даже братишка милосердия, ученик лечкома, весельчак комсомолец Саша.
Подают состав. Все мы лезем, толкаемся, боимся, что вот-вот скажут: «Товарищи, в райкоме работать некому, потом поедете».
В вагоне темно. На платформе сыро и холодно.
— Маня Мудрецова, Рая и Зина!
Высовываемся из окна. Сердце екает. Снимут с поезда. Прощай, фронт.
Вылезаем. Стоят с узелками мокрые, растерянные, старые наши матери в слезах. Они узнали про наш отъезд, а ведь мы им ничего не говорили: дальние проводы — лишние слезы.
— Зачем ты едешь-то, о господи, такая маленькая?!
— Надо, мама.
— Без тебя, что ли, мало?
— Много, но и я должна.
«Хоть бы скорее подавали паровоз!» Зинушкина мать начала что-то часто сморкаться. У моей трясутся руки и голова. Наконец свисток.
— Сестры, по местам!
Еще раз свисток, и вагон качнулся. Мать схватилась рукой за окно.
— Отойдите, мама!
— Не могу... дочка...
Как дождь, текли по лицу матери слезы. Кто-то оторвал ее от окна. Поезд развивал скорость. Но в окно все еще долетали звуки рыдания. Поля Герасимова сидела в углу с плотно сжатыми губами. «Скорее, скорее!» Колеса, угадывая наше желание, говорили: «Скоро, скоро!» «До свидания, Питер!»
Первая летучка
Вот и приехали. Станция. Костры. Силуэты людей, лошадей. Издалека слышны выстрелы.
— Это фронт?!
К нам подошел комендант станции Детского села.
— Отряд, быстро идите в помещение вокзала. Раненые прибывают. Пять минут вам для подготовки.
В зале для пассажиров мы быстро расставили столы. Достали сена. Накрыли перевязочный стол. Распаковали корзины. Выделили дежурных. Все готово.
В первую летучку отправлены семь девушек, которые, набрав полные сумки медикаментов, разделились на две части. Трое пошли вправо, а мы, четверо девчат, прямо по аллее. Наш маршрут был мимо дворца, навстречу раненым.
Навстречу нам шли и ехали воинские части. В несколько рядов мчались орудия, кухни, повозки с ранеными. Над нами, около нас, впереди и сзади, ухали дюймовки, трещали пулеметы. Наши? Белые? Кто стреляет — мы или они? Нам было непонятно. Да и некогда было понимать. «Больше перевязать раненых!» А раненые едут и подходят при помощи товарищей. Работаем не разгибая спины. От белого передника ничего белого не осталось. Кровь. Бинт не слушается. «Или это руки такие неповоротливые? Скорее, скорее!»
— Сестры, дальше не идите!
Но мы идем, приседая после каждого выстрела. С непривычки жутко. И не стыдно об этом вспоминать. Но мысль, что Республика в опасности и революция может погибнуть, была еще страшнее.
— Сестры, куда вы прете? Наших раненых больше там нет. Разве вы не видите, что мы отступаем?
— Отступаете, отступаете, черт бы вас побрал! А вы не отступайте!
Но из-за грохота мчавшихся орудий не слышно было наших голосов. Мы быстро пошли обратно, торопясь застать отряд.
— Мудрецова, Васильева, Дмитриева, вы останетесь. Уйдете самыми последними. Помните, что кипятильник должен быть горячим до самого конца. Раненых принимайте. Последний санпоезд по отправке за вами. Не попавших на поезд — направлять на повозках по линии уходящих войск.
Отряд ушел. Санитары торопливо носили раненых в поезд. Еще немного, и поезд трогается. Мы на вокзале одни.
— Что вы здесь торчите? Сейчас будем взрывать радиостанцию, уходите!
— Мы должны уйти последними.
— Черти, да ведь белые в Детском уже!
Устроили совещание на ходу. Как быть? Раненых больше не видно.
— Сестры, я вам последний раз говорю, убирайтесь!
Комендант станции в матросской шапке, махая кулаками, наступал грудью на нас.
По кочкам, по рытвинам, по канавам, с тяжелым сердцем, не оглядываясь, пошли мы от станции. Над нами жужжали аэропланы. «Не попасть бы к белым!»
— Сестрица, сестрица!
Оглянулись. Ползут двое.
— Не оставьте! — вцепились в передники.
Зина побежала карьером к нашим за лошадью. Нам пришлось тащить раненых. Никогда мне не было так жарко. Дотащились до деревни Новое, где нас встретила Зина с подводой.
...День за днем в отряде, вместе с армией, несли мы все тяготы военной жизни. Детское было взято снова. Мы наступали. В отряде появился гость — тиф. Вши заели. Многим из нас пришлось расстаться с длинными косами. Мы, комсомолия, и то перестали улыбаться. Жила одна только мысль — ни черта, все переживем, только бы спасти революцию! О возвращении в Питер никто и не думал.
Под Веймарном в нашем отряде осталось только 18 человек. Кто был болен, кто ранен, кто убит. В братской могиле похоронили Зину Дмитриеву. В Ямбурге формируемся снова. Влиты новые силы. Идем дальше. Мы знаем, мы уверены — Юденичу конец.

Так было разорвано вражеское кольцо Царицына

Полковник старой армии. После Октябрьской революции перешел на сторону восставших. Член Коммунистической партии с 1918 года. В годы гражданской войны — командующий армиями, войсками Южного и Юго-Западного фронтов. Один из первых Маршалов Советского Союза.
Февраль 1919 года.
Наша линия обороны под Царицыном имела в радиусе в среднем не более 10 километров. Внутри этого кольца обороны был зажат героический Царицын.
Положение в кольце противника было критическим для дальнейшего существования Десятой армии. Она задыхалась. Если бы мы не поторопились разорвать окружавшее нас неприятельское кольцо, Десятая армия погибла бы несомненно.
Для меня было ясно, что единственной силой, способной спасти положение, была конница. Следовало обойти фронт противника и ударить по его тылам. А так как и противник мог одновременно с этим перейти в наступление на том участке, откуда снималась конница, то всю задуманную операцию следовало провести в возможно короткий срок.
И вот задача определена, общий ход операции исчислен в семь дней, действия начались.
В первый день на крайнем северном участке Южного фронта нами была занята Дубовка.
Я поехал туда лично. Поблагодарив за успехи, дал дальнейшие указания.
Начиналась самая трудная часть операции: рейд по тылам противника.
Конница двинулась в обход неприятельского левого фланга.
Прошло еще три дня. Сведений никаких. Тяжелое и тревожное настроение.
Противник проявляет особую активность именно на южном участке фронта, откуда сняты конные части.
Красноармейцы отходят к Царицыну. Все резервы исчерпаны.
Создалось такое положение, что если бы противник хоть немного нажал на всем фронте, то могла бы случиться большая катастрофа.
Единственная надежда мною возлагалась на конницу, результатов действий которой я ожидал с минуты на минуту.
Жил я в штабе. К концу шестого дня, когда я сидел в своей комнате, мрачно оценивая перспективы завтрашнего дня, вбегает дежурный:
— Вас зовут к аппарату.
Я подумал, что это обычный вызов одного из командиров частей, и передал, чтобы начальник штаба переговорил с ним сам.
Но через несколько минут не выдержал и быстро спустился в аппаратную.
— Кто вызывает?
— Пока неизвестно,— ответил телеграфист.
Налаживание аппарата нервирует.
— Откуда говорят?
— Говорит Гумрак.
Это известие меня, признаться, вначале ошеломило. Местечко Гумрак находившееся в центре Царицынского фронта, было в руках противника.
Но уже в следующее мгновение я догадался, в чем дело.
— Кто говорит?
— Говорит Буденный.
Не могу передать того особо радостного настроения, которое охватило меня при этом известии.
Никаких разговоров по аппарату дальше вести не стал, а приказал Семену Михайловичу немедленно прибыть для доклада.
Через пять часов Буденный был уже у меня.
Результатом действий конницы явился полный разгром противника перед фронтом северного участка и центра Десятой армии. Захвачены были большие трофеи. Разбито двадцать три полка противника.
После этого рейда нашей конницы в тыл противника для Десятой армии явилась полная возможность начать общее наступление. Это и было предпринято на следующий же день.
Из телеграммы В. И. Ленина на имя А. И. Егорова от 4 апреля 1919 года.
Предсовнаркома Ленин».
«Передайте мой привет герою 10 армии товарищу Думенко и его отважной кавалерии... Уверен, что подавление красновских и деникинских контрреволюционеров будет доведено до конца.

Сломихинский бой

Комиссар Чапаевской дивизии, уполномоченный Реввоенсовета Туркестанского фронта. В публикуемом отрывке из романа «Чапаев» сам автор выступает под фамилией Клычков.
Было еще совсем темно, когда поседлали коней и из Таловки зарысили на Порт-Артур. (Кстати, отчего это назвали Порт-Артуром это маленькое, ныне дотла сожженное селенье?) Пробирала дрожь; у всех недоспанная нервная дикая зевота. Перед рассветом в степи холодно и строго: сквозь шинель и сквозь рубаху впиваются тонкие ледяные шилья.
Ехали — не разговаривали. Только под самым Порт-Артуром, когда сверкнули в сумрачном небе первые разрывы шрапнели, обернулся Чапаев к Федору:
— Началось...
И снова смолкли и ни слова не говорили до самого поселка. Пришпорили коней, поскакали быстрее. Сердце сплющивалось и замирало тем необъяснимым, особенным волненьем, которое овладевает всегда при сближении с местом боя и независимо от того, труслив ты и робок или смел и отважен; с п ок о й н ы х нет, одна рыцарская болтовня, будто есть совершенно спокойные в бою, под огне м,— этаких пней в роду человеческом не имеется. Можно привыкнуть казаться спокойным, можно держаться с достоинством, можно сдерживать себя и не поддаваться быстро воздействию внешних обстоятельств — это вопрос иной. Но спокойных в бою и за минуты перед боем нет, не бывает и не может быть.
И Чапаев, закаленный боец, и Федор, новичок,— оба полны были теперь этим удивительным состоянием. Не страх это и не ужас смерти, это — высочайшее напряжение всех духовных струн, крайнее обострение мыслей и торопливость, невероятная, непонятная торопливость. Куда надо торопиться, так вот особенно спешить,— этого не сознаешь и не понимаешь, но все порывистые движения, все твои слова, обрывочные и краткие, быстрые, чуткие взгляды — все говорит о том, что весь ты в эти мгновенья — стихийная торопливость. Федор хотел что-то спросить Чапаева, хотел узнать его мысли, его состояние, но увидел серьезное, почти сердитое выражение чапаевского лица — и промолчал.
Подъехали к Порт-Артуру; здесь стояли обозы, на пепелище сожженного поселка сидели кучками обозники-крестьяне, наливали из котелков горячий чай и вкусно так, сытно, аппетитно завтракали. Чапаев соскочил с коня, забрался на уцелевшую высокую стену, сложенную из кизяка, и в бинокль смотрел в ту сторону, где рвалась шрапнель. Сумерки уже расползлись, было совсем светло. Здесь пробыли несколько минут, и снова на коней — поскакали дальше.
Навстречу — крестьянская подвода; в ней что-то лежит, укрытое старенькой, истрепанной сермягой.
— Што везешь, товарищ?
— А вот солдатика поранило...
Федор взглянул в повозку и рассмотрел под сермягой контуры человеческого тела, повернул лошадь, поехал рядом. Чапаев продолжал ехать дальше.
— Тяжелый?
— Тяжелый, батюшка... И голову ему и ноги...
— Перевязан ли?
— Завязали, как же, весь укрыт.
В это время раненый застонал, медленно высунул из-под серого покрывала обинтованную окровавленную голову, открыл глаза и посмотрел на Федора мутным, тяжелым взором, словно говорил:
«Да, браток. Полчаса назад и я был здоров, как ты... Теперь вот — смотри... Сделал свое дело и ухожу... Изувечен... Уж пусть другие — очередь за ними... А я честно шел и... до конца шел. Сам видишь: везут...»
Обрывки этих мыслей проскочили у Федора в голове. И было невыносимо тяжело оттого, что это п е р в ы й... Будут другие — ну так что ж? На тех спокойнее будет смотреть — на то и бой. Но этот первый — о, как тяжела ты, первая, свежая утрата!
И так же быстро, как эти мысли, промчались другие — не мысли, а картинки, недавние, вчерашние, там в Казачьей Таловке, у костра... Быть может, он тоже, как тот, вчера только, да и не вчера, сегодня ночью, сосредоточенно пропекал где-нибудь у костра полугнилую картошку, напарывал ее на штык и вытаскивал, проверяя горячую, раскаленную... губами?
Федор поскакал догонять Чапаева, но тот, видимо, взял стороной. Они встретились только в цепи.
И впереди, к фронту, и с позиции тянулись повозки: одни со снарядами, с патронами, пустые — за ранеными, другие, навстречу им,— только с одним неизменным и страшным грузом: с окровавленными человеческими телами.
— Далеко наши? — спросил Федор.
— А недалече, вот тут, верст за пяток будет...
Справа, за рекой Узенем, стоят киргизские аулы,— казаков отсюда выбили огнем. Видно через реку, как бродят там взад и вперед дозорные — два красноармейца. Они засматривают в лощинки, проверяют за грудами камня и кизяка, не завалился ли где раненый товарищ. Все ближе, звучней гудит батарея, ближе, отчетливей рвутся снаряды... Вот уж и Цепи чернеют вдали. Какие же пять тут верст? Почитай, и двух-то не было. Долга, видно, показалась мужичку дорога под артиллерийским огнем!
Подъехал Федор ко второй цепи и тут увидел Чапаева. С ним шел командир полка; они о чем-то серьезно, спокойно говорили.
— Посылал — не воротился,— отвечал на ранний вопрос комполка.
— А еще послать! — рубанул Чапаев.
— И еще посылал — одинаково...
— Опять послать! — настаивал Чапаев.
Командир полка на минутку замолчал. У Чапаева гневом загоралось сердце. Тронулись веки, хищно блеснули в ресницах глаза, насторожились, как зверь в чаще.
— Оттуда были? — резко спросил Чапаев.
— И оттуда нет.
— Давно?
— Больше часу.
Чапаев крепко схлопнул брови, но ничего не сказал и дальше разговор вести не стал. Федор понял: речь шла о связи. С одним полком связь была отличная, с другим — нет ничего. Потом уж только выяснилось, что- бойцы усомнились в своем командире: он бывший царский офицер. Они решили вдруг, что офицер ведет их под расстрел, и не пошли, надолго задержались, всё галдели да выясняли, пробузили самое горячее время.
Федор шел рядом с Чапаевым; лошадей вели на поводу. Тут же, неслышный, очутился Попов, невдалеке — Теткин Илья, рядом с Теткиным — Чеков. Когда они тут появились, Федор не знал: за суматохой, когда из Таловки выехал с Чапаевым вдвоем, он не приметил, остались ли хлопцы в халупе, ускакали ли раньше они в ночи, после песен.
До первой цепи было с полверсты. Решили ехать туда. Но вдруг сорвался резкий ветер, нежданный, внезапный, как это часто бывает в степи, полетели хлопья рыхлого, раскисшего снега, густо залепляли лицо, не давали идти вперед. Наступление остановили. Но пурга крутила недолго: через полчаса цепи снова были в движении. Клычков с Чапаевым разъехались по флангам — теперь они были уж в первой цепи. Показался справа хутор Овчинников.
— Здесь, полагаю, засели казаки,— сказал Чапаев, указывая за реку.— Надо быть, драка будет у хутора...
На этот раз Чапаев ошибся: гонимые казаки и не вздумали цепляться в хуторишке; они постреляли только для острастки и дали теку, не оказав сопротивления.
Подходили к Сломихинской. До станицы оставалось полторы-две версты. Здесь гладкая, широкая равнина, сюда из станицы бить особо удобно и легко. А казаки молчат... Почему они молчат? Это зловещее молчание страшнее всякой стрельбы. Не идет ли там хитрое приготовление, не готовится ли западня? Схватывались лишь на том берегу Узеня, а здесь — здесь тихо.
Федор ехал впереди цепи, покуривая, и бравировал своим молодечеством.
«Вот, мол, я храбрец какой, смотрите: еду верхом перед цепью и не боюсь, что снимет казацкая пуля...»
Это выхлестывало в нем ребячье бахвальство, но в те минуты и оно, может, было необходимо. Во-первых, подымался авторитет комиссара, а потом и цепь этот задор ободрял бесспорно: когда едет конный перед цепью, она чувствует себя весело и бодро,— об этом знает любой боец, ходивший в цепи. Но возможна эта лихость, конечно, только перед боем; когда открылся огонь и начались перебежки, тут долго не нагарцуешь.
Чапаев носился стремглав; он был озабочен установкою связи между полками, хлопотал о подвозе снарядов, справлялся про обозы...
Федор проехал из конца в конец, воротился к правому флангу, слез с коня и сам пошел в цепи, держа коня на поводу. Батарея сосредоточила огонь. Станица, как раньше, молчала. И пока она молчала, шел Федор спокойный, пошучивая, немножко позируя своей простотой и мнимой привычностью к этаким делам: он разыгрывал чуть ли не старого ветерана, закоптелого в пороховом дыму. Но ведь это же было лишь его первое боевое крещение — что с «гражданской шляпы» и спрашивать? Вы лучше посмотрите, что стало с ветераном через пять минут.
Подпустив саженей на триста, казаки ударили орудийным огнем. За артиллерией с окраинных мельниц резанули пулеметы. Федор сразу растерялся, но и виду не дал, как внутри что-то вдруг перевернулось, опустилось, охолодело, будто полили жаркие внутренности мятными студеными каплями. Он некоторое время еще продолжал идти, как шел до сих пор, но вот немного отделился, чуть приотстал, пошел сзади, спрятался за лошадь.
Цепь залегала, подымалась, в мгновенную мчалась перебежку и вновь залегала, высверлив наскоро в снегу небольшие ямки, свесив туда головы, как неживые. Так, прячась, и он перебежал раза два, а там — вскочил в седло и поскакал... Куда? Он сам того не знал, но прочь от боя скакать не хотел, только отсюда, из этого места уйти, уйти куда-то в другое, где, может быть, не так пронзающе свистят пули, где нет такой близкой, страшной опасности. Он поскакал вдоль цепи, но теперь уже не перед нею, а сзади, помчался зачем-то на крайний левый фланг. Выражение лица у него в тот миг было самое серьезное, деловое — вы бы, встретившись, и не подумали, что парень мчится с перепугу. Вы подумали бы непременно, что он везет какое-то очень, очень важное сообщение или скачет в трудное место к срочному делу.
На пути встретился Попов. Этот ехал на правый фланг. Зачем? Да, может быть, затем же, зачем и Федор скакал на левый. Впрочем, кто его знает, в бою никак не разберешь — за делом ли вывернулся человек али страх отшиб ему разум, и вот он тычется без толку, обалделый, в поисках спасенья. Столкнулись, приостановились, сдерживая коней, заторопились вопросами:
— Есть ли патроны? Хватит ли снарядов? Где Чапаев, как его найти?
Вопросы были для отвода глаз.
Пока они кружились на месте, из станицы заметили и решили, что два эти всадника никак не рядовые, а кто-нибудь из верховного начальства. Тогда наладили скорострелку и обложили всадников вокруг снарядами — все ближе, ближе, ближе...
Один упал саженях, может, в двадцати пяти, другой — в пятнадцати, третий и того ближе. Ясно было: станица берет на прицел! Снаряды ложились кольцом. Кольцо сжималось, смыкалось в огненных звеньях.
— Надо скакать! — шепнул торопливо и слышно Попов.
Лопнул близко новый снаряд.
Федор ничего Попову не ответил, дал вдруг шпоры коню и помчался в тыл, прочь от цепей...
Попов за ним, но обернулся, отстал, пропал в сторону правого фланга. Федор доскакал до бугра; за бугром лежало с десяток возчиков. Лег он с ними и следил, как рвутся снаряды в том самом месте, где за две минуты толкался с Поповым. Коня привязал к ближней повозке. Лежал и вслушивался в звенящий, в гудящий вой несшихся снарядов, и лишь только вой этот близился, Федор пластом вмиг приникал к обмерзшему снежному скату. Потом медленно, опасливо подымал голову и, страдая, следил, не гудит ли где мимо и близко новый. Долго ли пролежал он здесь — кто же знает? Да, именно здесь он, верно, и был бы убит шальным снарядом, изувечившим троих крестьян, что теперь с ним лежали на снегу. Но еще прежде того Федор поднялся, вскочил снова в седло и задумался на миг: куда же теперь? Словно на выручку, с левого фланга подскакал ретиво молодой красноармеец и задохнувшимся шепотом пробормотал торопливо, не обращаясь ни к кому:
— Где пулеметы? Где тут пулеметы?
— Какие пулеметы?
— Нам пулеметы нужны — с левого фланга казаки лавой идут...
Федор сразу решил, что этот вояка такой же, как он, но взглянул в сторону, куда указывал кавалерист, и увидел вдруг и с холодом в груди несущуюся невдалеке черную массу... Волосы шевельнулись на голове.
— Сейчас из обоза пришлю! — крикнул он, хлестнув коня, и помчался в обоз.
Прискакал туда и не знал, что сказать. Обозники посматривали хитро и косо, пересмеивались — чуяли, видно, зачем приехал молодец. А может, и показалось это Федору, и не до него, может, было мужичкам — смеялись и шутили они, чтобы прошли, ушли скорее эти долгие и страшные часы, когда стой вот тут и жди неведомо как долго. Стой и жди, с места не трогай до приказу, а кругом сверкают и воют, ищут снаряды жертв. Шальные снаряды летают далеко, они угодят и в самый обоз. Это только в смех говорят, будто в обозы трусов сплавляют служить. А ты сам послужи, тогда узнаешь, какое это трусиное гнездо — обоз! Хорошо солдату в цепи — там у каждого винтовка, там грудью идут сотни и сотни разом, там у сотен этих свои впереди пулеметы, там пулеметчикам орудия брешут в подмогу. В цепи что?! Там есть о кого толкнуться, к кому пришиться, кругом — подмога в цепи. А ты оглянься на обоз: двести возов, двести мужиков, а на двести на всех... одиннадцать винтовок! Винтовок одиннадцать, а патронов и вовсе мало. Пулемет в запасе стоит, да и тот чинить требуется. К тому же на двести — полторы сотни стрелять толком не умеют. А те, что умеют,— калеки да слабомощные; другому и винтовку в плечо не взять, только и дела может делать, что вожжами на кобылке перебирать. Вот тебе и обоз! А казак обозы любит: чего ж его не взять пустыми руками! И как налетела сотня — кто ж оборонит, на кого опереться, откуда подмога? Скачут казаки меж возами, сквозь прорубают головы обозникам. Одиннадцать винтовок, и те молчат — вышибли разом казаки из рук. Вот тебе и обоз, вот тебе и трусиное гнездо: обозники под таким страхом стоят, что страху этого и в цепи не бывает.
Так что зря и обидно говорят, будто в обозах трусы, а трусам везде страшно: обозный страх куда пострашнее того, что треплет бойца в цепи.
Горела на воре шапка, закатала-замучила Клычкова стыдобушка, не мог он с мужичками в смех, в разговор вступить, а уехать тоже — куда теперь? Так и болтался неприкаянным среди обозов часа полтора: спрашивал прикуривать, справлялся про фураж, про колесную мазь, про хлеб, про консервы, про деревню — дальние, мол, али ближние? И все это не удавалось, не получалось. Слова были пустые и глупые, никому не нужные. Казалось, что обозники гнушались разговором клычковским, уходили прочь от него небрежно и оскорбительно. Как ядовитые черви, медленно и копотливо проползали минуты; они истерзали, изъязвили, изрешетили Федору сердце, будто мстили за трусость, за позор.
Орудия ревом крыли окрестность. Шарахался по полю гул, будто метался в стороны и смертно ревел гигантский зверь, загнанный в круг. В стоне, в свисте и в реве шли веселые цепи, ободранные огнем.
В черной шапке с красным околышем, в черной бурке, будто демоновы крылья летевшей по ветру,— из конца в конец носился Чапаев. И все видели, как здесь и там появлялась вдруг и быстро исчезала его худенькая фигура, впаянная в казацкое седло. Он на лету отдавал приказания, сообщал необходимое, задавал вопросы. И командиры, так хорошо знавшие своего Чапая, кратко, быстро сообщали ему нужные сведения — ни слова лишнего, ни мгновенья задержки.
— Все пулеметы целы? — бросал на скаку Чапаев.
— Целы! — кричал ему кто-то из цепей.
— Сколько повозок снарядных?
— Шесть...
— Где командир?
— На левом...
Он мчал на левый фланг.
Цепи кидались стремительным боем. В тот же миг срывались с цепей казачьи пулеметы. Цепи падали ниц, впивались в снежную коросту — лежали замертво, ждали новую команду.
Позади цепей носился Чапаев, кратко, быстро и властно отдавал приказания, ловил ответы. Вот он круто свернул коня, мчит к командиру батареи:
— Бить по мельницам!
— Все пулеметы с мельниц скосить!
— Станицу не трогать, пока не скажу!
И, быстро повернув, ускакал обратно к цепям. Чаще, крепче и злей заговорили орудия. Станица нервно торопилась остановить бегущие перебежками цепи. Мельницы взвыли и вдруг разорвались, как лаем, сухим, колючим треском: были спущены все пулеметы враз. Обе стороны крепили огонь. Но с каждой минутой ближе и ближе красноармейцы, все точней падают, рвутся снаряды, дух мрет от мысли, что смерть так близка, что близок враг, что надо смять его, у него на плечах ворваться в станицу...
Возбужденный, с горящими глазами, мечется Чапаев из конца в конец. Шлет гонцов то к пулеметам, то к снарядам, то к командиру полка, то снова скачет сам, и видят бойцы, как мелькает повсюду его худенькая фигурка. Вот подлетел кавалерист, что-то быстро-быстро ему сказал.
— Где? На левом фланге? — вскинулся Чапаев.
— На левом...
— Много?
— Так точно...
— Пулеметы на месте?
— Все в порядке... Послали за подмогой...
И он скачет туда, на левый фланг, где грозно сдвинулась опасность. Казаки несутся лавой... Уж близко видно скачущих коней... Подлетел Чапай к командиру батальона:
— Ни с места! Всем в цепи!.. Залпом огонь!
— Так точно...
И он пронесся по рядам припавших к земле бойцов.
— Не робей, не робей, ребята! Не вставать... Подпустить — и огонь по команде... Всем на месте... Огонь по команде!!!
Крепкое слово так нужно бойцам в эти последние, роковые мгновенья! Они спокойны... Они слышат, они видят, что Чапаев с ними. И верят, что не будет беды...
Как только лава домчалась на выстрел, ударил залп, за ним другой... кинулась нервная пулеметная дрожь.
Тра-та-та... Тра-та-та... Тра-та-та...— играли бессменно пулеметы.
Ах...ххх! Ах...ххх! Ах...ххх! — вторили четкие, резкие, дружные залпы.
Лава сбилась, перепуталась, замерла на мгновенье.
Ахх! Ахх! — срывались сухие залпы. Еще миг — и лава не движется... Еще миг — и кони мордами повернули вспять. Казаки мчатся обратно, а им вдогонку:
Тра-та-та... Аххх!.. Аххх!.. Тра-та-та!.. Аххх!.. Аххх!
Сбита атака. Уж бойцы от земли поднимают белые головы. У иных на лицах, не остывших и тревожных, чуть играет пуганая улыбка... Цепи идут под самой станицей. Чаще, чаще, чаще перебежки... Пулеметный казацкий огонь визгом шарахает по цепи. И лишь она вскочит, цепь, бьют казацкие залпы, их покрывает мелкая волнующая рябь пулеметной суеты... Уж бойцы забежали за первые мельницы, кучками спрятались где за буграми, где у забора, все глубже, глубже, глубже — в станицу... И вдруг взорвалось неожиданное:
— Товарищи! Ура... ура... ура!!!
Цепь передернулась, вздрогнула, винтовки схвачены наперевес — это порывистой легкой скачью неслись в последнюю атаку...
Больше не слышно казацких пулеметов: изрублены на месте пулеметчики. По станице шумные волны красноармейцев. Где-то далеко-далеко мелькают последние всадники...
Красная Армия вступала в станицу Сломихинскую...
Жалкий и смущенный, выезжал Федор Клычков из своего позорного приюта. Ехал опять к цепям. Не знал, что там делается, но слышно ему было, как пальба все тише, тише, а теперь и вовсе стала.
«Верно, наши вошли в станицу,— подумал он.— А впрочем, может быть и иное: наши были окружены, побились-побились и сдались. Может быть, сейчас уж казаки справляют кровавое похмелье. А через десять минут прискачут сюда, за обозами. И вместе с обозом возьмут его, комиссара». О позор! Позорище-позор! Как ему стыдно было сознать, что в первом бою не хватило духу, что так вот по-кошачьи перетрусил, не оправдал перед собою своих же собственных надежд и ожиданий. А где же мужество, смелость, героизм, о которых так много думал, пока был далеко от цепей, от боя, от снарядов и пуль?
Совершенно уничтоженный сознанием своего преступления, он чуть рысил в направлении к тому месту, откуда так позорно бежал два часа назад. Проехал и бугорок, на котором лежал с возницами,— там совсем близко увидел огромную яму от снаряда и кровь на снегу. Что за кровь? Чья она? Тогда еще не знал, как ударил сюда снаряд и загубил троих его недавних собеседников.
За бугорком — ровная долина; здесь и шла наша цепь. Но где же она теперь? В станице? А может быть, на том берегу Узеня? Может быть, туда загнали ее казаки? Через станицу ли сквозь прогнали?
Он терялся в догадках, в предположениях.
В это время рысью подъехал всадник. Этот, видимо, тоже «искал пулеметы». Он молотил что-то вздорно и бессвязно. Федор посмотрел ему в лицо и понял, что оба они больны одной болезнью.
— Наши-то где? — спросил небрежно тот, подъезжая вплотную.
— А вот сам ищу,— брезгливо ответил Федор и застыдился.
Они друг друга поняли до самого позорного днища.
— Может, в станице уж они? — деланно зевая и с притворной безмятежностью спросил незнакомец.
— Может быть,— согласился Федор.
— Ну так што же, едем, што ли?
— Куда?
— В станицу-то.
— А как там казаки?
— Едва ли... Верно, вошли... А впрочем...
— То и дело-то... попадешься — не помилуют!
В этом роде предлагали друг другу несколько раз, столько же раз один другого отговаривали, предостерегали, указывали на необходимость как-нибудь исподволь узнать, осторожно: кто занимает теперь станицу.
За разговором все плыли и плыли вперед, не заметили, что были всего в полуверсте, что с мельниц их давно и отлично видать, что деться все равно никуда нельзя и даже в случае преследования едва ли имеется смысл удирать: пулеметы с мельниц достанут вослед!
Так ехали и дрожали от неизвестности, дрожали и ехали дальше.
Совсем неподалеку от крайних халуп увидели мальчугана годов десяти.
— Малец, эй, малец, вошла тут Красная Армия али нет?
— Вошла! — прозвенел мальчишка весело.— А вы откуда приехали?
— Беги, беги, мальчуган, гуляй! Про военные дела рассказывать нельзя,— урезонил отечески Федор его баловливое и неуместное любопытство.
Спутник, лишь только услышал, что опасности нет, куда-то нечаянно и вмиг пропал. Клычков, спокойный, но все такой же приниженный и ему-
щенный, въезжал теперь в станицу, занятую красными полками. Он все успокаивал себя мыслью, что со всеми новичками, верно, то же бывает в первом бою, что он себя оправдает потом, что во втором, в третьем бою он будет уж не тот...
И не ошибся Федор: через год за одну из славнейших операций он награжден был орденом Красного Знамени. Первый бой для него был суровым, значительным уроком. Того, что случилось под Сломихинской, никогда больше не случалось с ним за годы гражданской войны. А бывали ведь положения во много раз посложнее и потруднее сломихинского боя... Он выработал в себе то, что хотел: смелость, внешнее спокойствие, самообладание, способность схватывать обстановку и быстро разбираться в ней. Но это пришло не сразу — надо было сначала пройти, видимо, для всех неизбежный путь: от очевидной растерянности и трудности до того состояния, которое отмечают как достойное.



Из заповедей коммунизма
Сознательно, бескорыстно и без принуждения вступая в партию коммунистов, даю слово:
1. Считать своей семьей всех тт. коммунистов и всех, разделяющих наше учение не на словах только, но и на деле.
2. Бороться за рабочую и крестьянскую бедноту до последнего вздоха.
3. Трудиться по мере своих сил и способностей на пользу пролетариата.
4. Защищать Советскую власть, ее достоинство и честь словом, делом и личным примером.
5. Ставить партийную дисциплину выше личных побуждений и интересов.
6. Исполнять беспрекословно и безропотно все возложенные на меня руководителями по партии обязанности.
7. Поддерживать слабых духом тт. по партии и обличать корыстолюбцев, если замечу таковых в партии.
ОБЯЗУЮСЬ:
1. Не щадить и не покрывать сознательных врагов трудового народа, хотя бы этими врагами оказались бывшие друзья и близкие родственники.
2. Не поддерживать дружбу с врагами пролетариата и со всеми враждебно нам мыслящими.

3. Привлекать к учению Коммунизма новых его последователей.
4. Воспитывать свою семью как истинных коммунистов...
ОТРЕКАЮСЬ:
1. От накапливания личных богатств, денег и вещей.
2. Считаю позором азартную игру и торговлю, как путь к личной наживе.
3. Считаю постыдным суеверие, как пережиток тьмы и невежества.
4. Считаю недопустимым делить людей по нации, религии, родству и состоянию...
1919 год.


В сибирском подполье

Связная ЦК РКП(б), в дни колчаковщины член Иркутской подпольной партийной организации, секретарь городского комитета партии.
Лето 1918 года. Бои у Байкала. Положение наших частей, не получавших подкреплений, становится все более и более трудным.
На всю жизнь запомнился последний бой у станции Посольская.
Мы отступали. Десант белых и белочехов перерезал нам путь. Завязалась рукопашная схватка. Я и Варвара Артемьевна Ремишевская не успевали перевязывать раненых на своем участке. Те из них, кто был в состоянии двигаться, поодиночке уходили в тайгу, уносили с собой гранаты и патроны.
Кровопролитная схватка сменилась затишьем — на станции оставались тяжелораненые. Неожиданно новый белогвардейский отряд высадился на берегу Байкала и занял Посольскую. Мы попали вплен.
Белые обращались с пленными зверски, избивали раненых, убивали их на наших глазах.
Женщин отвели на пристань, где стояли готовые к погрузке пароходы. Я старалась не разлучаться с Варварой, наблюдала за ней и восхищалась ее спокойствием и выдержкой. Вдруг Варвара обратилась к проходившему мимо белому офицеру:
— Я требую, чтобы со мной были вежливы, я жена известного иркутского купца и прошу вас доставить меня с дочкой домой.
Нам поверили и, отделив от остальных, велели садиться на пароход.
Важное поручение
В Иркутске мы с Варварой сутки отсиживались дома. На другой день нам вручили по узелку и по венику и отправили в баню. Оттуда мы, убедившись в отсутствии слежки, прошли на новую конспиративную квартиру, к Прасковье Гедымин. Она работала в Переселенческой больнице и много сделала для облегчения участи больных и раненых коммунистов-подпольщиков.
Вскоре в нашем убежище появился Саша Ремишевский, член Иркутской подпольной группы большевиков. Он сказал, что мне поручается перейти линию колчаковского фронта и доставить в Москву, в ЦК партии, секретное донесение. Все инструкции должен был мне дать Андрей Червеный. Вечером накануне отъезда пришел незнакомый человек. Прасковья Иннокентьевна ему обрадовалась.
— Здравствуй, Конь,— сказала она при встрече.
Оба они рассмеялись. Потом мне объяснили, что «Конь» дореволюционная кличка Червеного. Незнакомец подсел ко мне.
Разговор наш длился долго. Выслушав всю устную информацию, я была в отчаянии и, не выдержав, спросила:
— А вдруг я что-нибудь забуду?
— Ничего, тогда все скажут твои косы,— загадочно успокоил меня собеседник.
К концу беседы подошла Мария Артемьевна Бабич. Она принесла корзинку с вещами. Андрей Червеный достал из корзины шелковые ленты и попросил сшить из них трубочки, потом сложил туда мелко исписанные куски тонкого батиста. Затем он спросил, была ли я в бане, чистая ли у меня голова, и поручил Марии Бабич заняться моим туалетом и прической. Я, конечно, была изумлена, но понимала одно — все уже кем-то тщательно продумано и мое дело только подчиняться.
Серое в клеточку платье одной из дочерей Марии мне было впору. Мы с Марией вышли в соседнюю комнату. Там она рассказала, что от дочерей она известий не имеет и ничего не знает о их судьбе. Вплетая шелковые трубочки в мои косы, она заплакала, вспомнила, что у Шуры были такие же светлые и густые волосы, как у меня. В то время Шура и Тоня Бабич вместе с частями фронта отступали на Дальний Восток. Потом они возвратились и принимали активное участие в подпольной партийной работе.
Я заметила, что Мария Бабич несколько раз назвала Андрея Червеного Борисом. Пока заплетали косы, я все гадала, в чем тут дело. Но вскоре все разъяснилось.
Знакомый незнакомец
Видом моим Червеный остался доволен. Он предупредил меня, чтобы берегла косы, сообщил адрес явочной квартиры для связных ЦК.
— Приедешь в Москву, не забудь передать привет Клавдии Тимофеевне и Якову Михайловичу Свердловым и скажи им, с кем ты приехала в Сибирь, тот и направил тебя к ним,— неожиданно закончил он напутствие.
— Неправда,— возразила я,— вы мне незнакомы!
Андрей снял парик, бороду, усы, и предо мной предстал совершенно изменившийся Борис Шумяцкий, председатель Центросибири, с которым я в предоктябрьские дни 1917 года, по поручению Я.М.Свердлова, выехала из Петрограда в Сибирь. Потом он вынул какой-то шарик изо рта и заговорил своим обычным голосом.
Конечно, я не удержалась и спросила, как он очутился в Иркутске, когда мы все были уверены, что он находится в Москве. Шумяцкий рассказал, что, как только стало известно о падении Советской власти в Самаре, на Урале и во многих городах Сибири, ЦК партии разослал уполномоченных в районы, захваченные белогвардейцами. Они должны были установить связь с большевиками, оставшимися в тылу, выяснить на месте обстановку, расстановку сил и информировать Центральный Комитет о положении на местах как можно чаще.
Вдруг я испугалась, что Бориса узнают, и попросила:
— Наклейте скорее бороду, а то вы совсем не похожи на Андрея Червеного...
— Не беспокойся, Катя,— заметил Борис Захарович,— здесь я нахожусь в обществе ангелов-хранителей.
— А где же ваш главный ангел-хранитель, ваша жена? — спросила я.
— Она всегда там, где я,— последовал короткий ответ.
Разговор наш принял шутливую форму. Однако не трудно было понять, какому риску подвергался Шумяцкий, следуя в Иркутск через фронт и оставаясь во вражеском тылу, в городе, где его очень многие знали.
Через линию фронта
...Меня никто не провожал. Я шла на вокзал без вещей. В вагоне из полумрака слышу знакомый женский голос:
— Вот ваш чемодан и ваша корзина.
Поставив то и другое, Рая Глокман, это была она, обняла меня, прижала к груди и чуть слышно прошептала:
— Возвращайся поскорее.
Я села у окна и закуталась в большой платок, будто у меня болели зубы. И так как все, что нужно в дороге, даже вода, было в корзине, я не выходила на станциях. «Острая зубная боль» избавила меня от необходимости беседовать с пассажирами. Моими соседями по купе оказались мужчина и женщина, видимо, муж и жена, не то купцы, не то богатые крестьяне, как я полагала. Они сочувствовали мне и давали поочередно советы, как избавиться от зубной боли. На станции Тайга «купец» взял свои вещи и, наклонившись ко мне, сказал:
— Выйди в тамбур.
Я медлила. Видя мою растерянность, жена купца говорит:
— Иди, иди, голубка, не бойся, я послежу за вещами.
В тамбуре мой сосед сказал:
— Прощай, Катя, может быть, видимся в последний раз. Это я, Борис, а со мной была Лия. Счастливого тебе пути. Береги косы, они у тебя красивые.
Раздался звонок, и Борис вышел, а я так опешила, что ничего не успела ему ответить. Когда я вернулась на место, Лии уже не было.
Ехала я спокойно, несмотря на три пересадки. Зубы у меня продолжали «болеть», и я почти не разговаривала. Пассажиры часто менялись. Все больше и больше появлялось беженцев с детьми и котомками. Они меняли вещи на продукты. Лица у них были невеселые.
Где-то в районе Арзамаса я перешла линию фронта. Мы долго добирались на лошадях, потом на лодках. Я помогала в дороге женщине с двумя детьми, оставалась с малышами, пока их мать добывала продукты на вещи, взятые из моего чемодана. Вероятно, меня принимали за члена этой семьи, и никто не обращал внимания на беженку, повязанную платком.
В Москве
Я с облегчением вздохнула, когда снова села в вагон. Поезд Пенза — Москва тащился медленно. В вагонах-теплушках ночью было холодно. Меня выручал платок — единственная уцелевшая вещь. Все остальное было «съедено» в пути.
Чем ближе к Москве, тем все чаще на станциях приходилось слышать имя Ленина. Люди беспокоились за него, говорили о состоянии его здоровья. Что-то, видимо, случилось с Ильичем. Но до самой Москвы ничего нельзя было толком выяснить. В Москве на вокзале я бросилась к первому встретившемуся рабочему, и он сказал, что Ленин ранен.
В Москву я попала впервые, долго разыскивала Центральный Комитет. Наконец я в приемной ЦК, здесь меня встретили две молодые девушки и стали допытываться, кто я и откуда, зачем приехала.
На все расспросы я отвечала коротко:
— Мне нужно видеть товарища Ленина или товарища Свердлова. Я приехала издалека, привезла им вести от друзей и никому другому передать их не имею права.
На мое счастье, в комнату вошла Клавдия Тимофеевна Свердлова. Я ее сразу узнала, а она меня нет. Тогда я напомнила, как она снаряжала меня в Сибирь с Борисом Шумяцким, передала привет от него. Мы расцеловались и проговорили очень долго.
Из беседы с Свердловой я узнала, что не одна Сибирь отрезана от Москвы, что фронтов много, таких, как я, связных в ЦК прибывает тоже много, Яков Михайлович всегда принимает их сам, вестям из Сибири он будет очень рад и поговорит со мной обязательно.
— Только все же должна быть записка от Бориса Шумяцкого,— спросила Клавдия Тимофеевна.— Где она?
Я подтвердила, что весточка при мне. Тут же я попыталась расплести косы, но они не расплетались. Не долго думая я отрезала их и извлекла нужные шелковые трубочки.
У Свердлова
В большом просторном кабинете Яков Михайлович был не один. Напротив него сидел Татаренко и Валек, такие же, как я, связные из Сибири. Свердлов поднялся ко мне навстречу и обнял.
— Вот первая девушка, которая не побоялась перейти колчаковский фронт. Теперь у нее есть опыт, придется тем же путем отправить ее обратно. Правильно?
— Конечно,— ответила я,— второй раз по знакомой дороге мне будет легче пройти, чем новому человеку.
Яков Михайлович достал какую-то папку и, просматривая ее, произнес:
— Мало, очень мало и редко приходят письма из Сибири. Надо, видимо, больше людей засылать туда, и прежде всего коренных сибиряков, которым легче будет связываться с нужными людьми при любых обстоятельствах.
Удивительно просто и легко было говорить с Яковом Михайловичем. Невольно забывалось, что перед нами секретарь Центрального Комитета партии и председатель ВЦИКа. Как заботливый друг этот большой человек выяснил, хорошо ли мы устроились, как живут наши родные, не нужна ли его помощь. С какой теплотой он расспрашивал о своих товарищах, старых сибирских большевиках. Всех помнил по имени.
Я не скупилась на подробности.
Отрадно было слышать, что председатель ВЦИКа одобряет действия цен-тросибирцев и просит передать им благодарность.
— Боевые действия партизан отвлекли силы Колчака с фронтов. Узнаю сибирских большевиков. Молодцы! — сказал Свердлов.
Из дальнейшей беседы выяснилось, что я повезу с собой для Иркутской и Томской партийных организаций директивы и инструкции ЦК, деньги, мандаты, а также специальные письма по военным вопросам.
Одно из этих писем, написанное рукой Якова Михайловича, было посвящено партизанскому движению. В нем указывалось, что необходимо наладить партийную работу среди партизан и связь между отрядами, чтобы их действия были согласованы. Партизанская война должна вестись в глубинных районах, и только в тех случаях вдоль железнодорожной магистрали, когда требуется сорвать движение вражеских эшелонов. Вооружаться надо самим за счет противника, совершая налеты и набеги на его базы. Главным, что определяло успех партизанской борьбы, Свердлов считал контакт с населением. Население дает партизанам нужные сведения и лошадей, помогает организовать связь между отрядами, снабжает их боеприпасами и продуктами. Лучше всего для этой цели использовать женщин, советовал он. С их помощью можно создать в населенных пунктах конспиративные квартиры. У хозяйки конспиративной квартиры связной сможет получить нужную информацию и необходимое подкрепление для отряда.
Прибегая к помощи населения, партизаны обязаны вести себя тактично, не совершать необдуманных поступков, подрывающих их авторитет. В тех случаях, когда сельские жители снабжают партизан лошадьми, фуражом, продовольствием, следует давать расписки в том, что после восстановления Советской власти все будет полностью возвращено.
Надо понять, указывал Свердлов, что партизаны не одиночки, обреченные на стихийную борьбу с белобандитами и интервентами, а большая народная сила, отстаивающая завоевания революции.
Позже, в Сибири, я не раз убеждалась на практике, как правильны были его советы.
Путь обратно
На этот раз сборы в дорогу были недолги. Я выехала из Москвы в Пермь. Переправиться через Уральский фронт было нелегко. Из десяти связных благополучно достигал цели один.
По распоряжению секретаря Пермского губкома партии Владимира Михайловича Косарева мне дали попутчика, не совсем приспособленного для фронтовых дорог — полуторагодовалую девочку Зою из детского дома.
Белокурая, голубоглазая, нарядно одетая Зоя сама казалась куклой среди своих дорогих игрушек. Наибольшую ценность представляла лошадка из натуральной конской шкуры. В ней были зашиты письма Я. М. Свердлова сибирским коммунистам, обращение Центрального Комитета к населению и партизанам, мандаты, инструкции и другие партийные документы. В других игрушках были вложены листовки, которые призывали к бдительности. В них говорилось, что враг осмелился поднять руку на Владимира Ильича Ленина, но Ленин жив и уже поправляется. Для Сибири, где белогвардейские газеты сеяли панику среди населения лживыми сообщениями о том, что Ленин убит, такие воззвания были необходимы, как воздух.
По документам я следовала в Иркутск как жена раненого белого офицера, находящегося там на излечении.
Но не помогли ни девочка, ни документы. По маршрутам, полученным в Перми, перейти фронт не удалось.
После нескольких неудачных попыток я возвратилась с Зоей в Москву. В ЦК решили переправить меня через линию фронта в районе Симбирска — Самары. Эта операция была поручена политотделу 5-й армии.
В Симбирск мы приехали почти вслед за частями Красной Армии, занявшими город. Улицы празднично убраны флагами, всюду плакаты, надписи: «Первый город за рану Ленина», «За каждую каплю крови Ильича враг заплатит с лихвой». Настроение у всех приподнятое.
В политотделе 5-й армии мне дали подушку, набитую «екатеринками». Их запрятали и в переплеты книг, и в игрушки, и в обувь. На территории белых эти кредитки представляли ценность.
Пока можно было, красноармейцы охраняли меня с Зоей и наш багаж. В районе Самары начиналась нейтральная зона. Дальнейшая опека могла нам только повредить. Мое «богатство» и мой вид, хрупкость Зои, принимаемая за изнеженность,— вот, что охраняло нас и позволяло медленно, но все же двигаться к цели.
С новыми силами
И вот я в Иркутске, иду по знакомым улицам. Вот и квартира Марии Артемьевны Бабич. Крепким спокойным сном уснула Зоя после дальней утомительной дороги.
В этот же день на заседании подпольного комитета иркутских большевиков ознакомились с материалами, которые я привезла из ЦК- Документы читали вслух, потом я рассказывала о встрече с Яковом Михайловичем в Кремле. Вести из ЦК воодушевили людей, влили в них новые силы, уверенность в победе.
Выступали очень активно — все говорили о желании претворить в жизнь указания ЦК. Было принято решение размножить листовки и другие документы, снабдить ими подпольные партийные организации. Нашлись охотники доставить эти документы в другие города Сибири.
Подпольный большевистский комитет поручил мне выехать в Томск, чтобы проинформировать томских коммунистов, передать им инструкции ЦК, партийные документы и деньги. Сопровождала меня Татьяна Лушникова.
В путь нас собирали все та же Мария Бабич и семья Мосиных. Поезд уже подходил к Томску, как вдруг я почувствовала себя плохо. Поднялась температура; начался бред. Я заболела сыпным тифом. Таня отвезла меня в больницу, а сама с Зоей, деньгами и документами отправилась на Анжеро-Судженские копи и поселилась у знакомой фельдшерицы Серафимы Марковны Мовшович. Это было далеко от Томска, но Таня неоднократно приезжала ко мне. Как только я выписалась из больницы, Таня привезла меня к моей знакомой, и они вдвоем за мной ухаживали, пока я окончательно не окрепла. Когда я смогла самостоятельно передвигаться, Таня проводила меня в Томск.
На заседании Томской подпольной большевистской организации были зачитаны материалы ЦК- Здесь они оказали такое же сильное влияние. Люди буквально рвались к работе. Листовки и воззвания ЦК были размножены в подпольной типографии и широко распространены. Крестьяне, солдаты, партизаны их до дыр зачитывали.
Незадолго до моего приезда в Томской партийной организации был большой провал — многие товарищи были арестованы. Людей не хватало. Мне пришлось остаться в Томске, включиться в работу, заняться размножением воззваний ЦК для организаций, где не было подпольных типографий,— Барнаула, Семипалатинска и других городов.
Таня не дождалась моего возвращения и вернулась с Зоей в Иркутск. Она была в полной уверенности, что я арестована, так как до нее дошел слух о томском провале. Зою отдали на воспитание в бездетную семью Козловских, которая в 1920 году выехала в Польшу. С тех пор я о своей юной помощнице ничего не знаю, да и она не знает, что «работала» в колчаковском тылу.
Новое поручение и арест
Томская организация направила меня своим делегатом на подпольную конференцию большевиков, которая состоялась в марте 1919 года в Омске. Руководил работой конференции председатель Сибирского областного комитета Александр Александрович Масленников. Омск был наводнен шпионами и провокаторами. Конференция проходила в условиях строжайшей конспирации, и лишь это спасло ее от провала.
Масленников поручил мне доставить в ЦК информацию о конференции и о положении в сибирском подполье. Вскоре он и другие члены Сибирского областного и Омского партийных комитетов были схвачены контрразведкой Колчака.
Я была арестована вблизи линии фронта, когда сходила с парохода на пристани в городе Стерлитамак. Донесение в ЦК, написанное на тонкой папиросной бумаге, было спрятано у меня на груди. Арестованных было много, и по дороге от пристани до здания, где помещалась контрразведка, мне удалось, незаметно для конвоиров, в несколько приемов проглотить донесение.
В Иркутской тюрьме
После допроса меня повезли в Иркутск, видимо, моя личность была установлена. Колчаковские контрразведчики обычно всех иркутян-большевиков, где бы их не арестовали, направляли в Иркутскую тюрьму.
Камера № 2 Иркутской тюрьмы, куда меня поместили, была для политических. Здесь я встретила Таню Лушникову, Нину Мосину, Шуру Башурову-Рябикову, которая сидела в качестве заложницы за своего мужа, тогда еще разыскиваемого колчаковцами.
Нас всех по очереди вызывали на допрос, пытали, били. И ни у кого не было уверенности, что после допроса она вернется в камеру.
Мы прощались с товарищами навсегда.
В одной камере с нами была врач Людмила Дмитриевна Геллен-Похорукова. Ей разрешили оказывать медицинскую помощь заключенным женщинам в камерах, так как больных было много и мест в больнице не хватало. Своей бодростью и оптимизмом она морально поддерживала многих узниц Иркутской тюрьмы. Людмила Дмитриевна помогла нам установить связь с другими камерами. С ее помощью удалось добиться у администрации некоторого послабления режима для больных и сильно пострадавших на допросах.
Я привлекалась как участница нелегальной конференции. На допросах не отвечала. Меня пытали, и я попала в тюремную больницу.
Вскоре в нашу камеру посадили Дору Жиркову, члена Иркутской подпольной большевистской организации. Юная, стройная девушка-якутка поражала своей жизнерадостностью. Она принесла с воли добрые вести.
От нее мы узнали, что инициатором созыва новой конференции выступил Иркутский комитет большевиков. Дора сообщила также, что колчаковская армия разлагается, что партизанское движение бурно растет и что Красная Армия приближается к Омску.
В конце сентября освободили двадцать женщин из политических, среди них была и я. Мы поступили в распоряжение агронома Писанко, заведующего сельским хозяйством отдела призрения. Жили в сарае, работали в поле на уборке картофеля.
Несмотря на то что за нами был установлен гласный надзор, подпольный комитет большевиков наладил с нами связь через коммунисток Раю Глокман и Гизу Сируль. Они информировали нас о всех событиях, приносили передачу — одежду и продукты.
Однажды Рая Глокман сообщила, что я и две учительницы — Геллерт и Чистякова — должны по заданию подпольного комитета выехать на станцию Тулун и там обосноваться для связи с партизанами отряда Николая Ананьевича Бурлова, действовавшего в Тулунском районе.
Нашим багажом оказались ящики с патронами для партизан. Мы доставили их своевременно. Через несколько дней партизаны захватили Тулун.
Был уже конец боевого 1919 года. Остатки разгромленных Красной Армией полчищ Колчака отступали на восток.
Сергей Лазо

Семнадцатилетним юношей в 1918 году вступил в Коммунистическую партию. Принимал участие в подпольной борьбе против белогвардейцев и японских оккупантов на Дальнем Востоке, в 1921 году комиссар бригады, делегат X съезда партии, участник подавления Кронштадтского мятежа. Известный советский писатель, крупный общественный деятель.
В январе 1919 года, в период колчаковщины, мне поручили проводить большевика Дельвига с квартиры в рабочей слободке, где он скрывался, на Первую речку, где жил железнодорожный рабочий-большевик по кличке «дядя Митя»...
У дяди Мити мы застали довольно много народу. Это был пленум Дальневосточного краевого комитета большевиков.
Я обратил внимание на одно совершенно примечательное лицо. Представьте себе молодого человека, лет двадцати трех, ростом выше всех на голову, с лицом поразительной интеллектуальной красоты. Овальное смуглое лицо, крылатые брови, волосы черные, густые, глаза темные, поблескивающие, черная вьющаяся бородка и необыкновенно умное лицо. А в движениях какая-то угловатость, характерная для людей застенчивых. Все были оживлены, давно не виделись друг с другом, а он чувствовал себя, как мне сначала показалось, неловко среди всего этого оживления. Но это впечатление рассеялось, когда он заговорил; голос у него был очень решительный, громкий, он чуть картавил — приятной такой картавостью.
Я обратил внимание на него не только потому, что у него была такая незаурядная внешность, а и потому, что многие из присутствующих относились к нему по-особенному: нежно и уважительно.
К великому моему огорчению, мне, как молодому члену партии, нельзя было остаться на этом ответственном заседании. И уйти я не мог: должен был после заседания отвести Дельвига обратно. Тут одна добрая душа сказала:
— А что, если мы уложим его и заставим в порядке партийной дисциплины спать?
Это предложение всем очень понравилось. Уложили меня спать. Разумеется, никто не думал, что я усну на самом деле. Я лег лицом к стене и, конечно, не уснул ни на одну минуту и прослушал все заседание.
Здесь я услышал доклад по текущему моменту, который меня поразил. Я много слышал до этого всяких докладов. Но этот доклад поразил меня своей необычайной логикой. Докладчик говорил точно, сжато. У меня было такое представление, будто он читает.
Я лежал лицом к стене, не мог видеть жестов, слышал только его твердый приятный картавый голос. И сейчас, закрыв глаза и сосредоточившись, я могу вновь услышать этот голос.
Примерно часа в три или четыре ночи меня «разбудили». Я отвел Дельвига обратно, а потом вернулся к себе на квартиру, где жил вместе с Игорем Сибирцевым, моим двоюродным братом. Он меня хотел проверить и все острил: проспал, мол, такое заседание! Я упорно утверждал, что действительно спал. Тогда он достал из кармана несколько листков бумаги и сказал:
— Посмотри, какие тезисы!
Я взглянул. Эти листочки были исписаны очень ровным, четким, почти каллиграфическим почерком, химическим карандашом. Я начал читать и понял, что это тезисы того доклада, который я слышал. Они были так написаны, что любой человек мог и без автора разобрать каждое слово. Я еще не знал, чей доклад слышал и чьи тезисы. Я не удержался и спросил, кто их написал. И тут я впервые услышал о Сергее Лазо.
— Какая логика,— сказал я брату,— как точно все сформулировано!
Он мне ответил:
— Это же изумительный человек: прекрасный математик, блестящий шахматист. И это, очевидно, у него сказывается во всем. Это один из крупнейших наших работников в Забайкалье. Он был командующим Забайкальским фронтом и проявил себя как исключительно талантливый полководец в борьбе с атаманом Семеновым...
Более близко я познакомился с Лазо уже во время партизанского движения на Сучане.
Был конец мая или начало июня того же 1919 года. Почти весь Ольгинский уезд был очищен от белых. Я только что вернулся из агитационного похода на север, под Ольгу и Тетюхе, в село Фроловку, где был штаб партизанских отрядов, и застал здесь большую группу работников Владивостокского подполья. Среди них был и Лазо.
Сергей Лазо был прислан комитетом как главнокомандующий. Впервые за все время партизанского движения революционный штаб назначил главнокомандующего. До сих пор все командиры выбирались. Главнокомандующего, по существу, не было. Были председатель революционного штаба, начальник штаба и командиры отрядов, такие же выборные, как и ротные, и взводные командиры.
Когда прошел слух, что приехал какой-то неизвестный человек, которого назначают главнокомандующим, наиболее отсталые из партизан, в том числе и некоторые командиры отрядов, заволновались, зашумели. Прямо с седла я попал на большой партизанский митинг, который происходил перед зданием революционного штаба во Фроловке. Митинг был такой, какой сейчас трудно себе представить. Все было как будто по правилам: и председатель, и секретарь,— но вокруг них ревело и бушевало море. Страсти разгорелись до того, что люди угрожали друг другу винтовками, шашками. На протяжении двух-трех часов шла борьба между организованным началом и этой стихией.
Здесь я познакомился с некоторыми удивительными качествами Лазо. Мало сказать, что ему присущи были исключительное хладнокровие и спокойствие: поражало то, что, будучи главным «виновником» всего это переполоха, он совершенно не заботился о том, как все это может обернуться лично для него.
Чувствовалось, что он совершенно не беспокоится о своей судьбе. Как я убедился потом, это качество было присуще ему и в боевой обстановке.
Ему свойственна была глубочайшая убежденность в том, что он говорит, убежденность такого рода, которая действует магически. Кроме того, он обладал незаурядным ораторским дарованием, умел находить простые слова, доходящие до сознания трудящихся людей. Несмотря на невероятное обострение отношений, он умел заставить массу слушать себя. Иногда отдельные партизанские вожаки начинали понимать, что он старается подчинить их себе, взять их в руки, и снова поднимали крик, но он стоял спокойно, ждал, пока они накричатся, и не уходил с трибуны. Когда они переставали кричать, он продолжал свою речь. Митинг закончился нашей победой. Впервые широкие массы партизан узнали, кто такой Лазо...
Расскажу, как выглядел Лазо в боевой обстановке. Он был очень высок, ноги у него были длинные. Когда он ехал на лошади, стремена едва не касались земли, а он возвышался над крупом лошади как каланча. Внешне он напоминал Дон-Кихота. Но это совершенно не соответствовало внутреннему его облику. В бою Лазо всегда умел найти неожиданные, смелые, стремительные ходы, но в то же время был расчетлив, распорядителен и абсолютно бесстрашен.
Мне много приходилось видеть смелых командиров. Я видел людей азартных, отчаянных, которые бросаются в бой первыми, полные страсти и боевого темперамента. Я видел просто хладнокровных, спокойно-храбрых людей. Но по поведению даже этих людей всегда можно видеть, что они находятся в бою, что их спокойствие необычно, не такое, как дома, в нормальной обстановке: это — спокойствие мужественного человека, который привык к боям и знает, что он должен быть хладнокровным. Сергей Лазо в бою оставался таким же, как всегда,— со своими приподнятыми бровями, с обычным внимательным и точно несколько удивленным выражением лица, безразличный к тому, что может лично с ним случиться и что о нем могут подумать. Он делал только то, что необходимо было для решения поставленной им боевой задачи.
Я тогда был рядовым бойцом и поэтому не был посвящен в план партизанской кампании, разработанный Сергеем Лазо. Знаю, однако, по личному опыту, что с его приходом мы буквально отрезали Сучанский рудник от города. Против нас были брошены намного превосходящие нас численностью и вооружением японские части. Японские силы были так велики, что мы не могли с ними справиться и, отступая с боями, вынуждены были очистить Сучанскую долину.
Я остался в той группе партизан, которая не ушла с Сучана, а сделала попытку закрепиться здесь, в сучанской тайге. Лазо с другими товарищами ушел в район села Анучина. Вскоре и нас выбили из сучанской тайги, и мы попали в тот же район, в родное мое село Чугуевку, где сколачивались партизанские силы для новой борьбы. Но Лазо уже там не было. Он тогда сильно болел и был где-то спрятан в тайге.
Встретился с ним уже после падения колчаковщины, в марте 1920 года, на дальневосточной конференции большевиков в городе Никольске-Уссурийском, куда был послан делегатом от партийной организации Спасско-Иманского военного района. Лазо был председателем Военного совета армии.
В это время в армии создавался институт политических комиссаров, или, как они у нас назывались, политических уполномоченных. Лазо обсуждал с нами, военными делегатами, кого назначить к нам в район политическим уполномоченным. Я при всяком удобном и неудобном случае бубнил, что надо назначить комиссаром Игоря Сибирцева. Это был мой первый партизанский воспитатель и учитель, и я очень любил его, так же как и его старшего брата Всеволода.
Лазо вдруг на меня посмотрел, засмеялся и сказал:
— А что, если мы назначим политическим уполномоченным Булыгу?
Булыга — это была моя партизанская фамилия. Я очень растерялся, замахал руками, стал говорить, что считаю себя слишком молодым для этой должности.
А он все смеялся:
— Нет, мы обязательно назначим Булыгу!
И вдруг завел со мной разговор о том, какое значение теперь, когда мы реформируем партизанские отряды в регулярную армию, имеет правильно поставленная политико-просветительная работа. Он развил передо мной целый план этой работы. Я и не подозревал, что он учит меня. Когда мы вернулись в свой район, оказалось, что политическим уполномоченным назначен Игорь Сибирцев, а я его помощником по просветительной части. Сейчас Игоря Сибирцева уже нет в живых: в 1922 году в бою с каппелевцами он был ранен в обе ноги и застрелился, не желая сдаваться в плен.
Последняя моя встреча с Лазо была уже недели за две до японского выступления — говорю о японском выступлении против наших гарнизонов в ночь на 4 и 5 апреля 1920 года. По каким-то делам я был командирован во Владивосток и встретился с Лазо в частной обстановке; не помню, на чьей квартире собрались друзья по Владивостокскому подполью времен колчаковщины. Было очень весело, многие из нас не видели друг друга около года, некоторые успели уже жениться. Была исключительно любовная и дружеская атмосфера. Лазо был центром этого общества, много смеялся, поблескивая своими красивыми, темными, умными глазами. Никто из нас и не думал, как скоро мы лишимся его.
...Я думаю, не будет преувеличением сказать, что Лазо принадлежал к очень незаурядным людям. Если бы он остался жив, он был бы сейчас очень крупным работником — и политическим и военным.
Какие качества ему это обеспечивали? Он был прежде всего пролетарским революционером, революционером до последней капли крови, и человеком, лично одаренным, всесторонне талантливым. Он обладал исключительным трудолюбием и работоспособностью, любой вопрос изучал всесторонне и до конца. Он был на редкость скромен и лишен ложного самолюбия. Это был человек высокой рыцарской чести и благородства.
Когда произошло японское выступление, наш спасский гарнизон был выбит из города и на несколько месяцев отрезан от Владивостока. Прошло много времени, пока мы услышали, что Лазо, а с ним и Всеволод Сибирцев и Луц-кий захвачены японцами. Не хотелось верить, что они убиты. Когда после перемирия я снова попал во Владивосток, еще все газеты выходили с аншлагом: «Где Лазо, Сибирцев, Луцкий?»
Японское командование «официально» заявило, что ничего не знает об этих людях. Но все мы знали, что это неправда: в первые дни японского плена Сибирцева навещал его отец, а к Лазо приходила его жена. Мы были бессильны сделать что-нибудь. И все-таки никому не хотелось верить, что они погибли.
Я остановился у Сибирцевых на даче, в двадцати шести верстах от Владивостока, на берегу Амурского залива. Очень тяжелое настроение было. Тетку мою, Марию Владимировну, мать Сибирцевых, очень волевую и умную женщину, неотступно глодала мысль о сыне и его товарищах.
Мы с Игорем выйдем в лес, я спрашиваю:
— Ну, как ты думаешь, Игорь?
— Я думаю, их убили,— угрюмо говорил он.
Только год спустя, по свидетельским показаниям и косвенным документам, подтверждающим эти показания, удалось установить, что незабываемый героический друг наш Сергей Лазо и два его верных товарища сожжены японской военщиной в паровозной топке.

Котовцы

Член Коммунистической партии с 1919 года. Командир полка в бригаде Котовского.
Первое серьезное испытание бригада Котовского держала в январе 1920 года. 30 января, заняв Вознесенск, кавбригада, не теряя времени, по следам отступающих деникинцев устремилась на Березовку.
Зная, какой хаос царит у белых (накануне прибыла делегация рабочих и дала обстоятельную информацию), Котовский решает освободить Одессу.
«Я — Одесса»
В местечке Потоцком (Севериновка), в 40 верстах от Одессы, заскочили мы на почту-телеграф и потребовали от начальника почты дать нам ленту с разговорами белых штабов в Раздельной и Одессе.
Пока разбирали ленту, раздался стук телеграфного ключа. Котовский приказал нашему телеграфисту сесть за аппарат. Раздельная вызывала Одессу.
Наш телеграфист отвечает: «Я — Одесса».
Раздельная просит начальника гарнизона города Одессы. Котовский подсказывает немедленно:
— У аппарата начальник гарнизона.
Телеграфист передает...
Завязывается интересный разговор. Из Раздельной мнимому начальнику гарнизона Одессы белогвардейский генерал Шевченко передает:
«Принимайте точную оперативную сводку. Красная 41-я дивизия — южнее Березовки, 45-я дивизия — севернее Березовки и Конная армия Котовского — в самой Березовке. Прошу выставить сильную охрану со стороны станции Сортировочная, а также организовать оборону Пересыпи. Все. Генерал Шевченко».
Котовский отвечает:
«Телеграмму принял Котовский».
Генерал начинает ругаться:
— Кто там, черт возьми, мешает разговаривать?!
— Успокойтесь, ваше превосходительство, приберегите ваши нервы,— успокаивает его Котовский.— Вашу сводку действительно принял сам Котовский.
— Вы, сын потомственного дворянина,— обращается по аппарату Шевченко,— в рядах кого вы воюете? Вы продаете Россию. Союз спасения родины предлагает вам опомниться и повести свою Конную армию против красных...
Котовский, перебивая его, отвечает:
— С малых лет я веду борьбу с эксплуататорами рабочих и крестьян и буду вести до тех пор, пока их окончательно не уничтожат.
Разговор прекращается. Сообщение между Раздельной и Одессой прерывается. Мы выходим из здания почты-телеграфа, поднимаем бригаду и идем на Одессу.
Военная хитрость
В пяти километрах от Одессы захватываем заставу белых. Узнаем пропуск и отзыв. Котовский приказывает бойцам свернуть красные знамена, снять красные звездочки и ленты.
— Сегодня,— говорит он,— мы «мамонтовцы», кавалеристы бригады генерала Мамонтова, отступающей под натиском красных.
Врываемся на Пересыпь, по Вознесенской улице перескакиваем галопом через всю Одессу к заставе № 1. Наша цель — не дать белогвардейцам эвакуироваться по железной дороге на Аккерман в Бессарабию. Из квартир и гостиниц выскакивают офицеры:
— Чья это конница?
— Мамонтовская,— отвечаем.— Идем в Бессарабию.
— Возьмите нас, господа.
— Садитесь.
Офицеры садятся на наши подводы, пулеметные тачанки. Некоторых даже усаживаем на ящики с зарядами и орудия.
Прискакали на заставу № 1. Котовский приказывает снять с передков одну батарею и поставить ее на позицию с расчетом бить прямо по полотну железной дороги, идущей на Аккерман.
Офицеры, сидящие на тачанках, лафетах и ящиках с зарядами, выражают удивление, спрашивают артиллеристов:
— Зачем же вы будете стрелять по железной дороге, если по ней уходят в Бессарабию, на Аккерман, наши эшелоны?
— Эшелоны-то ваши, да мы не ваши, а котовцы.
Лица офицеров глупеют...
Некоторые, убедившись, что они действительно в кругу немамонтовцев, стреляются. Это — непримиримые... Другие начинают плакать, скулить...
Обезоруживаем всю эту публику, собираем их в одну группу. Некогда было с ними долго разговаривать. Открываем огонь из батареи по эшелону, показавшемуся на железной дороге.
Они сложили оружие
Крупные отряды белогвардейцев в несколько тысяч человек, выбитые из Одессы, старались уйти в Бессарабию.
В районе станции Кучурганы и немецких колоний Страсбург, Зальц, Кандель появился многотысячный отряд — не то Бредова, не то Мартынова. С ним у Страсбурга вступила в бой наша пехота. Кавбригада ударила деникинцам во фланг и прижала их к Днестру. Сотнями и тысячами бродят белые в днестровских плавнях.
Кавбригада вступает в деревню Глинное (12 км от Слободзеи, где обосновались белые). В Слободзею посылаем в разведку эскадрон.
Миновав переправу, кавалеристы поставили лошадей по сараям, сами попрятались по огородам и за заборами. Ждут.
Ночь. Темно. Вдруг появляется автомобиль. Белые снопы света бросает фонарь по улице Слободзеи. Бойцы выскакивают из-за заборов.
— Стой! Ни с места!
Из автомобиля раздается голос:
— Что вы безобразничаете! Это я — начальник боевого участка!
— Тебя-то нам и надо.
Котовцы окружают машину:
— Руки вверх! Ни с места!.. Мы — котовцы.
Белогвардейцы — один полковник — начальник боевого участка и два генерала,— увидя направленные на них со всех сторон дула винтовок, вынуждены сдаться. Кавалеристы доставляют их в штаб бригады, в деревню Глинное.
Было далеко за полночь, когда пленные предстали перед Котовским. Котовский принимает их учтиво, просит садиться. Полковник со злости и горя заливается горькими слезами. Генерал просит дать ему стакан вина.
Котовский предлагает пленным взять себя в руки. Начинается деловой разговор. Котовский выставляет свои требования: полная, без всяких условий, капитуляция всей группы — солдат, офицеров и генералов.
Полковник, начальник боевого участка, долго не соглашается, ссылается на свои убеждения. Генералы настроены более примирительно, они уговаривают полковника написать начальнику группы предложение о сдаче. Наконец полковник сдается и пишет... С рассветом товарищ Котовский приказывает мне передать письмо полковника в штаб белой группы. Беру 60 человек бойцов-добровольцев и одного из генералов и еду. Помню, разорвали мы красноармейскую белую рубашку, надели на пику и отправились в плавни.
Подъезжаем к плавням. Навстречу выходит группа офицеров. Лица встревожены, в глазах беспокойство. Спрашивают генерала:
— Что это за делегация?
Генерал отвечает:
— Везут пакет в штаб группы.
Офицеры указывают нам дорогу в штаб. Оказывается, штаб — в плавнях, в крестьянских хатках. Едем туда. Остановив в 400—500 шагах от штаба свой отряд, посылаю генерала с пакетом в штаб и предлагаю ему долго здесь нас не задерживать, принести ответ как можно скорее.
Генерал уходит. Ждем час, другой — ответа нет. Через три часа появляется из штаба какой-то полковник: ничего определенного он не говорит. Я предъявляю через него ультимативное требование: в течение 15 минут дать мне ответ, в противном случае снимаюсь и ухожу, и за последствия пусть не пеняют.
Через 15 минут штаб высылает переговорщика. В переговорщике узнаю корнета Гиндина, моего бывшего сослуживца по 12-му уланскому полку старой армии, где я был вахмистром. Гиндин сильно взволнован, не может говорить. Наконец успокоившись, открывает мне, что в штабе и не думают сдаваться, а выжидают лишь ответа от румынского командования, к которому послана делегация с просьбой принять белых на свой берег. Гиндин бежит в штаб и скоро возвращается с группой офицеров, человек 20—30; во главе группы — полковник Самсонов, мой бывший командир полка по старой армии.
Полковник Самсонов, уже предупрежденный Гиндиным, подходит ко мне:
— Здравствуйте, Криворучко.
Отвечаю:
— Здравствуйте, господин полковник...
— Я не господин, а товарищ,— вдруг перебивает меня Самсонов.— Мое оружие сдаю вам.
Снимает с шеи бинокль, вынимает из кобуры револьвер и передает мне. Затем, повернувшись к офицерам, говорит им:
— Предлагаю последовать моему примеру и сдаться без всякого боя и условий коннице Котовского.
Большинство офицеров беспрекословно сдают оружие. Я веду эту группу в село Глинное.
У штаба бригады нас ожидают два пленника — генерал и полковник — и Котовский. Открывается что-то наподобие митинга. Котовский выступаетс приветственным словом. Отвечает на приветствие один из высших офицеров.
— Мы складываем оружие,— заявляет он.
В следующие два дня нам сдалось без боя около четырех тысяч человек.

Героические дни

Шестнадцатилетним юношей в 1904 году вступил в Омскую организацию РСДРП, примкнув к большевикам.
Один из организаторов вооруженного восстания за установление Советской власти в городе Самаре. Соратник М. В. Фрунзе по борьбе с армиями Колчака. Вместе с С. М. Кировым руководил обороной Астрахани, участвовал в освобождении Средней Азии.
В начале 1920 года я, будучи членом Реввоенсовета Туркестанского фронта,-был командирован из Ташкента в Закаспии для того, чтобы форсировать операции против деникинцев, которые там орудовали уже в продолжение нескольких месяцев. Происходил настоящий своеобразный танец на месте вдоль линии железной дороги: то противник занимал станцию Кизил-Арват, то эта станция бралась нашими войсками. Борьба шла лишь по тоненькой полосе вдоль линии железной дороги, так как кругом были непроходимые безводные пески.
Подготовка к рейду
К моменту моего приезда в Кизил-Арват уже был разработан план захода противнику в тыл. Операция предстояла необыкновенно сложная: надо было по голой пустыне провести большое количество войск и абсолютно все брать с собой — снаряды для артиллерии, патроны, продукты и даже воду, потому что кругом не было ни одной капли воды.
Даже корм для лошадей и верблюдов надо было также везти с собой, так как в пустыне не было ни травинки. Это безмерно увеличило обоз. Требовались тщательные подсчеты верблюдов, лошадей, необходимой воды, корма для животных. Нормы питания были взяты очень жесткие. И все же выходило, что при огромном обозе воды, пищи для людей, корма для животных хватало только на путь в один конец. Отсюда понятна опасность операции; в случае неудачи мы все должны были погибнуть в пустыне, так как на обратный путь у нас не осталось бы ни пищи, ни воды, ни корма. Это делало подготовку к операции крайне ответственной.
Мы ночами просиживали над разработкой мельчайших деталей, так как самая незначительная мелочь, не предусмотренная в плане, могла погубить все дело.
Наконец все было кончено, и однажды на рассвете мы двинулись в глубину пустыни.
На станции Кизил-Арват остался отряд, который получил задание: в определенный день, когда мы будем атаковать противника на станции Айдын, выступить вперед но линии железной дороги и атаковать передовые части противника.
Поход в пустыне
В нашем отряде, вышедшем в тыл противнику, было четыре тысячи лошадей. У нас были все виды оружия: две батареи артиллерии, конница, пехота, огромный обоз. Мы шли четверо суток, шли день и ночь, так как судьба операции заключалась в ее быстроте. Если бы противник как-нибудь обнаружил нас, то гибель всех была бы неизбежна.
Условия пути были кошмарные, особенно днем. Стояла невыносимая жара, температура доходила до шестидесяти градусов, воды мало, на каждого полагалось в день лишь по три стакана — нельзя было не только освежиться водой при этой температуре, но даже полностью утолить жажду. Особенно в кошмарных условиях была пехота: несмотря на большие обозы, мы не могли разместить всего по вьюкам на лошадях и верблюдах, и многие вещи красноармейцы несли на себе. И все же... В конце четвертых суток мы очутились около безлесной и песчаной горы, за которой находилась станция Айдын. Нам нужно было обойти эту гору и выйти на линию железной дороги.
Нас обнаружили
Была ночь, часов двенадцать. Удар мы решили нанести на рассвете. Таким образом, у нас оставалось часа два для передышки. Мы остановились бивуаком, подкрепили свои силы последними остатками воды и пищи и только начали собираться в последний поход, как вдруг увидели спускавшихся с горы конных разведчиков неприятеля. Их было человек пять. Ничего не подозревая, они спустились до половины горы. Нам ничего другого не оставалось, как отправить им вслед кавалерийскую разведку, которая перехватила бы их и не дала возможности противнику обнаружить нас. Десять лихих разведчиков помчались наперерез неприятелю. Мы с большим напряжением наблюдали в бинокли эту сцену и, к ужасу своему, увидели, что разведка противника заметила погоню и быстро начала удаляться за гору. У них были, конечно, все преимущества. Свежие лошади давали возможность уходить со значительно большей быстротой, чем шла погоня. Расстояние между ними росло, и в конце концов разведка неприятеля скрылась из глаз.
Настроение наше поколебалось. Противник не будет уже застигнут врасплох. Он будет иметь возможность подтянуть силы из Красноводска, с одной стороны, с передовых позиций — с другой, и дать сильный отпор. А это значило нашу гибель. Тем не менее не оставалось другого пути, и первое, что надо было сделать,— это немедленно взорвать путь и телеграфную связь как впереди станции Айдын, так и в тылу. Немедленно две группы были направлены для выполнения этих задач.
Я поехал с группой, которая была направлена в тыл противника. До линии железной дороги мы домчались в течение трех часов. Было совершенно очевидно, что разведка, обнаружившая наш отряд, могла достигнуть своего штаба значительно раньше. Тем не менее оказалось, что на линии железной дороги в тылу станции не было никакой охраны. Нам легко, без всякого сопротивления, удалось взорвать и железнодорожный путь и телеграфную связь, тем самым прервав возможность сношения штаба деникинской дивизии с Красноводском.
Как потом выяснилось, другой разведке, которая должна была взорвать путь впереди станции Айдын, не посчастливилось. Она наткнулась на большой отряд, охранявший железнодорожный путь. Таким образом, с передовыми своими позициями штаб деникинской дивизии сохранил связь.
Мы переходим в наступление
Вскоре подошли наши части, которые, перевалив через большую гору, отделявшую наше становище от станции Айдын, сосредоточились на маленькой возвышенности непосредственно около станции. Для нас было непонятно отсутствие каких бы то ни было приготовлений противника к обороне.
Мы начали громить станцию Айдын и все эшелоны, стоявшие в ее районе, из артиллерии. Повели наступление пехотой, оставив кавалерию в резерве для того, чтобы использовать ее в нужный момент.
Противник начал проявлять себя только после того, как засвистели наши пули, загремели наши снаряды. Началась было у него паника, но скоро была приостановлена, и он начал отстаивать каждую пядь своей позиции. Однако перевес явно склонялся на нашу сторону. Мы продвигались ближе, кольцом охватывая станцию Айдын.
Вдруг мы заметили, что с передовой позиции в подкрепление противнику идут два бронепоезда и большой эшелон пехоты. Противник, умело высадившись, прямо из вагонов бросился на наш фланг. Был такой момент, когда наш правый фланг немного дрогнул, но умелым маневрированием сил командование группы предотвратило отступление правого фланга, и в конце концов после ожесточенного боя мы приблизились к станции Айдын настолько близко, что из пушек в упор расстреливали противника.
Победа
Наконец наступил момент, когда враг побежал. С горки было видно, как противоположная часть пустыни, совершенно ровная, как скатерть, начала усеиваться огромным количеством бегущих людей. На этой же ровной скатерти мы заметили небольшой конный отряд, человек десять, убегавший с поля сражения. Как потом выяснилось, это был генерал Литвинов, командующий дивизией противника, со своим конвоем. Мы пустили свою кавалерию, которая усыпала скатерть пустыни огромным количеством убитых и раненых. К сожалению, она не сумела догнать отряд генерала Литвинова, мчавшийся на превосходных лошадях со скоростью значительно большей, чем могли дать наши утомленные лошади.
Победа была полная. Огромное количество солдат сдалось. Был захвачен штаб противника со всеми документами и материалами, со всем людским персоналом, были захвачены два броневика и огромное количество артиллерийского оружия и продовольствия.
Огромная тяжесть спала с плеч тех, кто рискнул предпринять эту трудную операцию.
У нас было сравнительно мало жертв. Красноармейцы получили возможность вдоволь поесть, попить, отдохнуть.
Резолюция
Нас удивляло, почему генерал Литвинов, несмотря на то что мы были явно обнаружены, не принял мер обороны, которые могли бы решить вопрос в пользу противника. Ответом на этот вопрос явился документ, найденный нами в штабе дивизии: разведчик такого-то дивизиона доносит генералу Литвинову, что он в четырех километрах от станции Айдын обнаружил огромное количество красных, причем он видел все виды оружия, вплоть до артиллерии. Подпись — разведчик такой-то.
На этом рапорте значилась резолюция генерала Литвинова:
Арестовать паникера. Чтобы в четырех верстах могли очутиться красные — это исключено.
Генерал Литвинов.
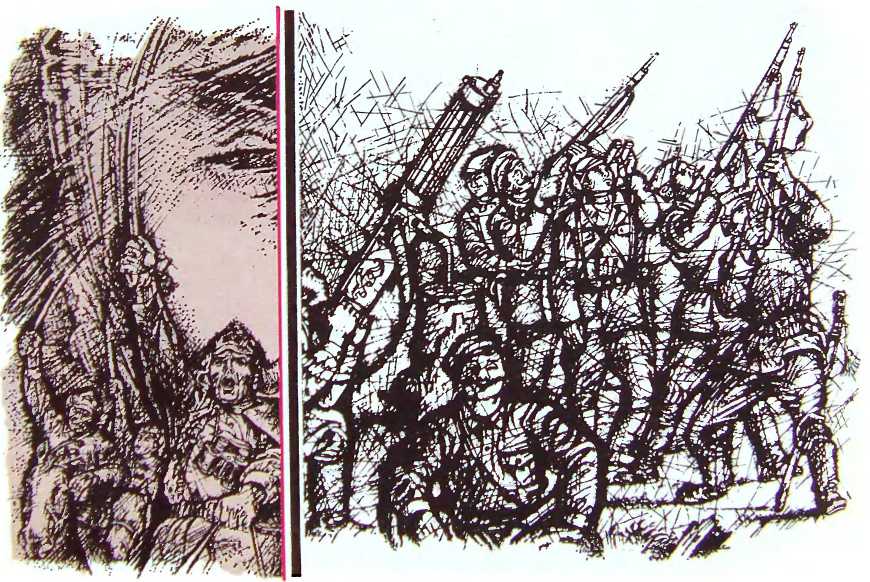
В партизанских отрядах Крыма

Известный полярный исследователь, руководитель первой советской научно-исследовательской станции на дрейфующей льдине в Центральной Арктике, доктор географических наук, контр-адмирал, дважды Герой Советского Союза. В годы гражданской войны активный участник гражданского движения во врангелевском тылу.
В 1920 году я был в Николаеве комиссаром оперативного отдела штаба морских сил Юго-Западного фронта. Летом сюда приехал старый друг Алексей Васильевич Мокроусов. Мокроусова я крепко любил за его кристальную честность, смелость и отвагу. Он был одним из боевых командиров, который водил красногвардейские отряды против Корнилова, Каледина и Деникина, громил белогвардейцев под Киевом. Все его уважали за необычайную храбрость и беззаветную преданность революции и народу.
Мы встретились и долго и задушевно беседовали. Мокроусов интересовался тем, что делается в Крыму. Затем так же неожиданно, как появился, исчез.
Вскоре после этого командующий морскими силами Юго-Западного фронта Измайлов выезжал со своими штабами инспектировать Азовскую флотилию. Вместе с ним в Ростов выехал и я.
И вот здесь снова встретил Мокроусова. Он уже возвращался из Харькова. От него узнал, что Закордонный отдел ЦК партии Украины и штаб Юго-Западного фронта поручили ему организовать повстанческую революционную армию в тылу у Врангеля. Мокроусов ехал в Крым и собирал людей для десанта. Разговор у нас был короткий.
— Согласен поехать? — спросил Мокроусов.
— Согласен,— ответил я.
Измайлов тотчас оформил откомандирование меня в распоряжение Мокроусова, и я сразу включился в работу.
Подготовка
Мокроусов отправился в Революционный военный совет Кавказского фронта. Там он предъявил приказ о том, чтобы ему срочно дали для переезда в Крым катер. Кое-кто из военных и даже один из членов Реввоенсовета так скептически отнеслись к этому делу, что чуть не в глаза называли нас авантюристами. Один из них говорил:
— Куда вы пойдете в тыл Врангеля, когда все Черное море находится в его руках, когда там ходят десятки иностранных военных кораблей?
Мокроусов настаивал на своем:
— Мы верим, что сделаем свое дело, несмотря на то что Врангелю помогает
Антанта. Люди, которые со мной, ни перед чем не остановятся. Доверие партии оправдаем.
Катер нам нашли на Кубани. Но и тут ухмылялись:
— Вы на этой скорлупе собираетесь пробраться в Крым?
Мы отшучивались:
— Где уж нам. Рыбу пугать разве...
Через три дня выехали в Краснодар.
Здесь в Реввоенсовете 9-й Кубанской армии получили катер «Гаджибей», погрузили его на железнодорожные платформы и выехали в Новороссийск.
В Новороссийском порту получили второй катер — «Витязь». Мокроусов предложил изменить внешний вид его, чтобы обмануть белых. Сделали из тонкого железа вторую трубу — фальшивую. Корпус и трубы покрасили в серый цвет. На дальнем расстоянии «Витязь» теперь казался миноносцем.
Подготовка проходила в большой тайне. Местные организации считали, что наши катера принадлежат береговой охране.
Много пришлось повозиться с моторами, чтобы не подвели при переходах.
Горючее (бензин) имели только для одного катера. Для второго потребовался уголь, но его было мало, и мы повсюду собирали макуху. Нагрузили катер макухой до самой трубы.
В Крым решили идти ближайшим путем: от Анапы. Для этого на двух катерах направились из Новороссийска в Анапу.
В Анапе
Когда подошли к городу, местные работники решили, что высаживается белогвардейский десант. В исполкоме мы никого не застали.
— Где председатель? — спросили у сторожа.
Он ответил:
— В город пришли белые, и все скрылись.
Узнав, что катера наши, а мы — свои, собрались члены исполкома. Переговоры с ними вел Мокроусов.
Мы с Колей Ефимовым разобрали и собрали мотор на «Гаджибее». Теперь уже были за него спокойны.
Все было готово.
Стоял прекрасный августовский день. Рыбаки наловили много кефали и стали угощать нас:
— Морячки, возьмите рыбки, покушайте.
Мы хотели заплатить, но рыбаки ни за что не хотели брать деньги.
Митя Соколов, большой весельчак, замечательный и преданный товарищ, собрал всю рыбу в мешок и, взвалив его на плечи, направился в местную пекарню. Немного погодя он, сияющий, возвратился с противнем в руках, еще издали крича:
— Ну, братки, навались на кефаль!
Аппетит у нас был зверский, и мы на прощание вволю покушали жареной рыбы.
Штурман Жора
В Новороссийске мы пригласили штурманом бывшего мичмана царского флота, носившего кличку «Жорж». Он слыл за человека, прекрасно знающего Крымское побережье, а нам нужно было найти удобное место для десанта. Но этот Жорж оказался горьким пьяницей. Он был настолько неравнодушен к спиртному, что, когда следовало залить компас чистым спиртом, мы приставляли к нему наблюдателя, чтобы спирт вместо компаса не попал в рот Жоржа. Именно этот Жорж и подвел нас.
Мы шли на двух катерах. Мокроусов командовал «Витязем», а мне поручили «Гаджибей». Наступила ночь, стало совсем темно. «Витязь» шел первым, я — сзади. Скоро должны быть берега Крыма, но в темноте ничего не было видно.
Вдруг «Витязь» резко замедлил ход. Оказывается, Мокроусов узнал феодосийскую бухту. Я быстро подошел к «Витязю».
— Ваня,— говорит Мокроусов,— давай за мной отсюда полным ходом. Мы влипли, тикать надо — попали в бухту к противнику. Приготовьтесь на всякий случай к бою...
Вот что наделал хваленый штурман Жора.
Саша-перископ спасает нас
Пришлось уходить снова к кавказским берегам. Уходить надо было быстро, чтобы до рассвета покинуть зону неприятеля, но когда мы подошли к Керченскому проливу, вышла из строя машина на «Витязе». Пришлось взять его на буксир, и мы поплелись дальше черепашьим шагом.
На фарватере пролива в погоню за нами из Керчи вышел военный транспорт. Мокроусов подал команду:
— Приготовить бомбы и пулеметы к бою!
Из-за «Витязя» мы, естественно, не могли идти полным ходом. Тут бы и был нам конец, но, к нашему счастью, нам повезло. На палубе «Гаджибея» стоял Саша Григорьев, неимоверно высокий человек, и белогвардейцы издали приняли «Гаджибей» за подводную лодку, а Григорьева за перископ. Второй же катер с фальшивой трубой они приняли за миноносец. Испугавшись миноносца и подводной лодки, транспорт прекратил преследование.
Мы повернули и столь же размеренно, как и прежде, пошли к кубанским берегам.
Начинаем все сначала
В Анапе вновь закипела работа — началась новая подготовка десанта. Прежде всего оставили вышедший из строя «Витязь» и все свои усилия сосредоточили на «Гаджибее». Работали по 16 часов без сна и отдыха.
Опять с Колей Ефимовым перебрали мотор и подготовили его к переходу.
Ночью загрузили «Гаджибей» пулеметами, бомбами, патронами, запаслись горючим и на рассвете вышли в море. Уходили так конспиративно, что в спящей Анапе никто не видел, в каком направлении мы скрылись.
В море
В первые часы погода была замечательная, мотор работал исключительно хорошо.
К вечеру пошли большие волны.
Мокроусов весь день стоял за рулем, а мы с Колей Ефимовым по очереди следили за мотором. Волны то и дело заливали катер, и все мы еле успевали вычерпывать из него воду.
От сильного напряжения Мокроусов устал и попросил:
— Ваня, подмени меня.
Я стал за руль и вел катер, следя за компасом. Тот компас совсем не был похож на современный, которым оборудованы корабли нашего времени. Он помещался в деревянном ящике, и в нем горела свеча, чтобы освещать его.
Вдруг послышались сильные перебои мотора. Оказывается, Коля Ефимов от усталости задремал. Насос и охлаждение испортились, мотор перегрелся.
Я бросил руль и остановил катер.
Наступили тревожные минуты; все затаили дыхание. Надо было разобрать грубку охлаждения, чтобы пустить мотор. Дали ему остыть. Потом вместе с Колей разобрали и собрали мотор и начали его запускать. Но он не идет, да и только. А ведь я тогда физически был очень здоров. Один из наших братков— Гриша Кулиш, обращаясь ко мне, говорит:
— Ванечка, дорогой, может быть, тебе кружечку винца дать, чтобы он пошел?
Народ был замечательный, умел бодро шутить и в трудные минуты.
Мотор исправили и пошли дальше.
Коля Ефимов почувствовал себя сконфуженным, а я мотора уже не доверял никому.
Мокроусов сидел у компаса и руля.
Шли далеко от берегов. По расчету убедились, что нам нужно идти еще часа три-четыре, чтобы попасть на побережье в район Судака.
Высадка
Прошло часа три. Из темноты показались контуры берега, черные горы. Мы круто повернули, градусов на 45, и пошли по направлению к берегу. Что ожидало нас там — мы не знали. У нас все было готово к бою: пулеметы, винтовки.
Мокроусов скомандовал:
— Тихий ход!
Я дал тихий. Подошли вплотную к берегу... Прислушались... Никого нет... Выскочили из катера. Двое товарищей выбрали место, куда сложить снаряжение и боеприпасы. Это было одно из ущелий около деревни Капсихор (ныне Морское). Чтобы скрыть следы десанта, «Гаджибей» пришлось затопить. Хорошие пловцы Сергей Муляренок и Николай Ефимов отвели катер подальше от берега и там пробили днище. Сами вплавь возвратились к нам.
Все чувствовали сильную усталость, отнимались руки и ноги. Никому не хотелось есть, все мечтали хотя бы часок поспать. Выставили часового, пристроили пулемет, подготовили бомбы, возле себя положили винтовки и прилегли кучей, как барашки.
Когда местные крестьяне узнали, что мы красные, они принесли нам поесть — молока, сметаны, хлеба и винограда, рассказали, где находятся белогвардейцы. Ночью нам дали подводы и проводили в лес к партизанам...
Крымская повстанческая
Собранная Мокроусовым повстанческая революционная армия наносила Врангелю серьезные удары. Белогвардейское командование вынуждено было отозвать с фронта целую дивизию для борьбы с нами. Был придуман план, каким образом уничтожить партизан. Воинские части из Феодосии, Судака, Ялты, Алушты, Симферополя стали окружать лес. Нам грозила верная гибель, если бы не выручили нас наши смелые товарищи.
Партизан-разведчик Поцелуев с группой товарищей (все были одеты в форму белогвардейских войск с погонами) выследили и поймали полковника генерального штаба Боржковского. Как выяснилось из найденных у полковника документов, он являлся начальником штаба временного фронта по борьбе с партизанами. Проверка остальных документов дала не менее важные сведения о готовящейся по уничтожению партизанской армии операции.
Партизанские отряды под самым носом белогвардейцев вышли из окружения и забрались в горы. Оттуда мы продолжали беспрерывно тревожить белых.
Еду в Советскую Россию
Положение наше было довольно тяжелым. В то время, конечно, у нас не было никакйх средств радиосвязи, не было и авиации. Нас окружали хорошо подготовленные, вооруженные войсковые группировки противника. Надо было связаться с командованием красных и доложить об обстановке, согласовав свои планы со штабом Южного фронта. Надо было получить также средства для дальнейшей борьбы в горах Крыма.
На военном совете было решено послать надежного человека в Советскую Россию как представителя Крымской повстанческой армии.
Мокроусов говорит мне:
— Ваня, тебе надо ехать. Лучше тебя никто не сделает.
Раз надо — никаких разговоров.
Сережа Муляренок написал на машинке мандат. В нем было написано, что тов. Папанин является уполномоченным Крымской повстанческой армии и командируется в Советскую Россию с особым заданием. Всем советским учреждениям надлежит оказывать всемерное содействие в выполнении возложенной на него задачи. Мандат подписали: командующий Крымской повстанческой армией Мокроусов и начальник штаба Погребной.
Затем Мокроусов написал в центр отчет. Сергей Муляренок его зашифровал. Ну, а хранить как?.. Достали аптекарскую резинку. Конверт с отчетом я положил выше колена и прижал к ноге резинкой. Вместе с конвертом Сережа передал мне капсулу со стрихнином.
— Держи на всякий случай,— сказал он,— чтобы белым не достаться живым. Если будешь ранен и не сможешь уйти — уничтожь доклад и проглоти стрихнин.
Решено было, что пробираться я буду через Новороссийск.
Всюду каратели
По заданию Мокроусова один из местных партизан взялся организовать мою переправу в Советскую Россию. Вдвоем двинулись через лес к морю.
Все побережье усиленно охранялось контрразведкой: белогвардейцы боялись, что большевики высадят десант.
Пришли в деревню Туак (ныне Рыбачье), расположенную недалеко от Судака. Здесь узнали, что деревня окружена несколькими эскадронами и контрразведчиками. Подпольный комитет арестован.
Мой проводник забеспокоился:
— Нужно уходить. Мы окружены со всех сторон, сейчас будет облава.
С величайшими предосторожностями пробрались в деревню Ускут (ныне Приветное). Отсюда только два дня тому назад ушел карательный отряд. На глазах матерей были убиты их сыновья, не желавшие идти в армию Врангеля. Настроение было подавленное. И все же нас крестьяне встретили радушно, накормили, напоили.
Оказывается, высадка нашего десанта не прошла незамеченной. Затопленный нами «Гаджибей» был выброшен волнами на берег, и по нему белогвардейцы узнали о нас. Они считали, что высажен большой десант, готовятся новые, поэтому усиленно охраняли берега, всюду стояли посты контрразведки, патрулировала кавалерия. И здесь на берегу моря, у самой деревни, стояла охрана. Для безопасности меня решили спрятать в курятнике.
Тревожная это была ночь. Куры чуть не оказались предателями, так как кудахтали всю ночь. Живя в лесу, мы порядком набрались вшей, а тут еще куры мне их добавили. Да и в той рваной и грязной шинели, которую крестьяне дали на подстилку, их кишело несчетное число. Словом, было не до сна. Здесь в сарае родился у нас со спутником новый план...
Путешествие с контрабандистами
Как известно, белогвардейцы забирали у крестьян все, начиная с лошадей, коров и кончая курицами. Поэтому население готово было за бесценок продавать свои продукты, чтобы только они не достались врангелевцам. Этим пользовались контрабандисты. Несмотря на строгую охрану берегов, они беспрепятственно покупали и вывозили муку: белогвардейцы получали за это хорошие взятки. Мы решили, что единственный возможный ныне путь в Советскую Россию — это путь через Трапезунд с помощью контрабандистов.
Мой проводник договорился, что за тысячу николаевских рублей контрабандисты перебросят меня в Трапезунд. Меня посадили в мешок, засыпали мукой и отнесли на лайбу. Так я бесследно исчез из Крыма, даже жители деревни не знали, куда же я делся.
На рассвете, в открытом море, слышу, капитан говорит:
— Давай сюда большевика, хочу на него посмотреть.
Мешок развязали. Я вылез, весь перепачканный мукой, да еще и ростом не вышел. Капитан был разочарован.
— Говорили мне, что ты большой большевик, а оказался маленький,— сказал он и засмеялся.— Давай деньги, со мной договаривались, что ты должен заплатить тысячу рублей николаевских.
У меня было с собой около трех тысяч рублей. Я отсчитал тысячу и отдал капитану. Он заметил, что у меня остались еще деньги.
Отошел я в сторону и сел на мешок. Слышу, капитан сговаривается с командой, как бы ночью меня выбросить за борт и забрать остальные деньги. На мое счастье, я понимал татарский язык, но и виду не подал, что понял весь их разговор. Ощупав спрятанные у меня два револьвера, я решил, что без боя не сдамся.
Несмотря на сильную усталость, всю ночь провел без сна, наготове. Мучительно прошел и следующий день. Не смыкая глаз, следил за каждым движением окружавших меня бандитов.
На вторые сутки на лайбе отказал мотор.
Моторист у них был молодой, неопытный. Возился он, возился, а мотор стоит. «Нет худа без добра»,— подумал я и решил использовать этот случай.
Подошел к капитану и говорю:
— Капитан, давайте я исправлю мотор.
— А ты разве механик? — удивился он.
— Механик.
— Тогда давай иди, исправляй.
Вижу, починка пустяковая, но делаю вид, что работа большая и трудная. Вожусь и вожусь у мотора... А моторист и не догадывается, в чем дело. Прошло часа два с половиной, мотор зашумел.
— Чок якши, кардаш [Очень хорошо, брат.],— обрадовался капитан.— Хочешь быть контрабандистом? — спрашивает.
— Приедем в Трапезунд, посмотрю вашу жизнь, и тогда договоримся.— отвечаю уклончиво.
И опять на палубе сижу, наблюдаю.
Прошло еще два дня. Вдали стали вырисовываться берега. Какая местность, не разобрать, но на Трапезунд не похоже. Из разговоров контрабандистов понял, что идем в Синоп, здесь мука дороже. Вот, думаю, история. До советских берегов добраться можно только через Трапезунд... Что делать?..
В районе Синопа лайба стала на якорь. Я сошел на берег. Вижу — контрабандисты за мной следят. Быстро заработала мысль: каким образом скорее добраться до Трапезунда? Увидел рыбака-турка. Подошел к нему, разговорились. Он, оказывается, раньше часто возил песок в Севастополь. Стал у него выспрашивать, как попасть в Трапезунд.
— Иди,— говорит,— по берегу и придешь...
На лайбу я все же вернулся, боялся подвоха. Но вечером, когда контрабандисты стали доверчивее, вышел «погулять», и больше они меня не видели.
Пешком в Трапезунд
Шел ходко, все вдоль берега на восток. Ночью поспал немного в скалах. Дождь промочил меня до нитки. На рассвете я поспешил уйти подальше и от этого места.
Через несколько дней попал в Кирасунду. На турецком побережье было много английских и французских шпионов, стояли английские отряды — можно было попасть в их руки. Решил, что безопаснее всего прикинуться нищим. Порвал еще больше шинель, а одежда на мне и так была грязная, оборванная. Я оброс бородой, вид у меня был измученный, жалкий. Денег не тратил, боялся, что без них не проберусь через море, да и чтобы не возбуждать подозрения, так как они были новенькие.
На турецком побережье растет много дикого инжира — ешь сколько хочешь. Им и питался. Прохожие, жалея, подавали иногда кусок хлеба. Шел недели две. Сначала дни считал, а потом и со счета сбился.
Наконец пришел в Трапезунд и сразу же отправился к советскому консулу. Мне купили костюм, феску, переодели турком, побрили, помыли, и стал я неузнаваем. В первую же ночь уходил в Новороссийск большой транспортный буксир. С ним меня и отправили.
Встреча с Фрунзе
Из Новороссийска в тот же день выехал в Харьков. Добрался до Харькова и отправился в Закордонный отдел ЦК КП (б) Украины. Здесь быстро расшифровали отчет Мокроусова.
Командующий Южным фронтом Михаил Васильевич Фрунзе был в эти дни в городе: ему сообщили, что я прибыл из тыла Врангеля. Руководитель Закордонного отдела ЦК партии Украины Немченко (Павлов) представил меня товарищу Фрунзе.
Серьезный урок революционной бдительности получил я во время этого свидания с Михаилом Васильевичем. Фрунзе встретил меня настороженно.
— Вы товарищ Папанин? Здравствуйте! Вы из тыла Врангеля?
— Да,— ответил я.
— Вы член партии?
— Да,— ответил я.
— Чем докажете?
— В Центральном Комитете Коммунистической партии Украины должны меня знать, я был комиссаром оперативного отдела штаба морских сил Юго-Западного фронта.
Товарищ Фрунзе тут же поручил своему секретарю связаться с Феликсом Коном, который в то время был секретарем ЦК партии. Через несколько минут раздался телефонный звонок. Из ЦК сообщили: «Папанин — член партии, и последняя его работа — комиссар оперативного отдела штаба морских сил».
Но и это сообщение не удовлетворило Фрунзе.
— Телефон телефоном, получите в ЦК официальную справку, — сказал Михаил Васильевич своему секретарю.
Откровенно говоря, мне стало не по себе. Вот, думаю, с таким трудом, с таким риском пробирался в Советскую Россию, а тут сразу недоверие, такой холодный прием!..
Невольно вспомнился Ростов, Реввоенсовет Кавказского фронта, где первоначально к нашему предложению высадить десант в тыл Врангеля отнеслись как к авантюре. Неужели и здесь нас считают авантюристами?
Мои мысли были прерваны появлением секретаря, передавшего товарищу Фрунзе пакет, присланный из ЦК партии.
Быстро прочитав полученную из ЦК справку, Михаил Васильевич еще раз пристально посмотрел на меня и, обращаясь ко мне, дружеским тоном сказал:
— Ну теперь давайте поговорим.
Долго и подробно расспрашивал меня о повстанческой армии. Его интересовало буквально все, до самых мелочей: он придавал исключительно большое значение повстанческому движению в Крыму. Товарищ Фрунзе интересовался количеством бойцов в повстанческой армии, чем мы вооружены, есть ли деньги, как питаются партизаны, как относится к нам местное население. Я еле успевал отвечать на вопросы. Внимательно выслушав меня, Фрунзе спросил, какая нужна помощь красным партизанам Крыма. Я подробно изложил, что необходимо Мокроусову и что требовалось для второго десанта.
Тут же при мне Фрунзе по телефону отдал приказ о выделении средств и оружия для крымских партизан и поручил членам Реввоенсовета Южного фронта товарищам Гусеву и Бела Куну оказать мне полное содействие в скорейшем получении оружия и средств и организации десанта в Крыму. Затем, вызвав Москву, связался с Реввоенсоветом Красной Армии, получил от них разрешение на выдачу мне двух катеров и дал указание командованию Азовской флотилии выделить в мое распоряжение два катера-истребителя...
Тепло распрощавшись с Фрунзе и руководителями Закордонного отдела ЦК Компартии Украины товарищами Павловым и Гавеном, я стал готовиться в обратный путь.
Окрыленный такой поддержкой, я с радостью возвращался к своим браткам, увозя с собой все необходимое для бойцов повстанческой армии и неизгладимое впечатление о славном полководце Красной Армии Михаиле Васильевиче Фрунзе.
Встреча с Фрунзе многому меня научила. Стала понятна его настороженность при первом приеме. Именно так и должен был поступать старый большевик, прошедший суровую школу революционного подполья.
На помощь партизанам Крыма
На третьи сутки я уехал в Ростов, а оттуда в Таганрог, из Таганрога в Новороссийск. Здесь стали собирать бойцов. Много пришло добровольцев. Крепко хранили военную тайну, никто не подозревал, что готовится десант в тыл Врангеля. Из политотдела пришел ко мне Всеволод Вишневский.
— Ванечка,— сказал он мне,— неужели ты меня оставишь здесь? Возьми меня с собой!
Мы крепко сдружились с Вишневским в 1919 году, когда воевали на Украине в бригаде бронепоездов, и очень любили друг друга. Всеволода Вишневского я назначил командиром нашего десанта. Стоял ноябрь. Беспрерывно штормило, и упускать время было нельзя. Ночью мы погрузились и отошли от берега.
Первыми вышли в море суда «Рион» и «Шахин». Несколько позднее за ними шел и я с отрядом моряков на катере-истребители «МИ-17».
Шли с потушенными огнями. Шторм. Темнота. Мелкий снег с дождем, норд-остовый ветер... Кто знает Новороссийск с его норд-остами, тот может себе представить условия нашего перехода. Шторм становился все сильнее и сильнее. Долго кружились, разыскивая в темноте «Рион» и «Шахин», но, убедившись в бесполезности поисков, решили не возвращаться обратно и взяли курс прямо на Крым. Нельзя было терять ни одной минуты, так как я вез оружие, патроны, бомбы для повстанцев. В пути встретили белогвардейское судно «Три брата». Я остановил его и, чтобы белогвардейцы не возвратились обратно и не донесли врангелевскому штабу о нашем десанте, взял хозяина судна и его компаньона заложниками, а экипажу предъявил ультиматум — в течение 24 часов не подходить к берегу. Непрекращавшийся шторм вымотал всех. Огромные волны беспрерывно перекатывались через палубу. Чтобы не снесло меня волной в море, я был привязан веревками к рубке. Заливало все. Все люки на истребителе были задраены. В помещениях стояла такая духота, что нечем было дышать. Бойцы измучились. Они страдали от жажды: не было воды, так как во время шторма сорвало с палубы анкера.
Большую помощь во время перехода оказал мне мой старый боевой товарищ по 1919 году, бесстрашный Всеволод Вишневский, который шел со мной в качестве моего помощника по политической части и старшего пулеметчика.
В самые тяжелые, ответственные минуты у Вишневского находились слова ободрения, которые глубоко западали в души бойцов.
— Браточки, крепитесь, не то еще переживали...— успокаивал он изнывающих от жажды бойцов.
Велика сила большевистского слова. Еще крепче сжимались пересохшие губы, еще зорче смотрели вперед глаза этих простых беззаветных героев, готовых в любую минуту отдать свою жизнь до последней капли крови за Советскую власть, за пролетарскую революцию.
В темноте мы подошли к тому месту, где впервые высадились с Мокроусовым — к деревне Капсихор. Огромные валы волн выкатывались на берег, с грохотом разбиваясь о прибрежные скалы... Что нас ждет на берегу, никто не знал.
С маузером в руке я выпрыгнул за борт. Набежавшая волна с силой подбросила меня вперед, и через несколько секунд я был уже у берега. За мной последовали остальные бойцы. Потом перетащили на берег весь наш груз пулеметы, винтовки, патроны, бомбы. Договорились, что пойдем па Алушту. Вскоре наше появление на берегу было известно всей деревне.
— Банка приехал,— радостно кричали татары, сбегаясь к нам со всех сторон. Они знали, что я уезжал в Советскую Россию, и с нетерпением ждали моего возвращения, верили, что вместе со мной придет необходимая помощь, которая навсегда избавит их от ненавистного Врангеля.
Подъем среди татарского населения был исключительный.
Отряд наш быстро вырос. Пришло много татар, все они просили оружия. Мы раздали им винтовки и двинулись к Алуште, по дороге обезоруживая отступающих белогвардейцев.
Подходим к городу и видим — спускается с другой стороны ударная огневая бригада 51-й дивизии. Вместе с ней добивали бегущих белогвардейцев.
В день высадки нашего десанта пал Перекоп.
Героическая Красная Армия разбила наголову Врангеля. Об этом я узнал от захваченных мною белых офицеров. В тылу белых царила паника. Повстанческая армия во главе с т. Мокроусовым вышла из леса и двинулась на Феодосию, чтобы отрезать путь для отступления белых.
Вскоре после взятия Алушты я был вызван обкомом партии, вместе со своим отрядом, в Симферополь. Здесь, в обкоме, неожиданно еще раз встретился с т. Фрунзе. Он был в серой шинели, без знаков различия. Михаил Васильевич, увидев меня, приветливо заулыбался и протянул мне обе руки.
— Ну, как добрались? Очень рад, что у вас все благополучно разрешилось,— сказал он, энергично пожав мне руки, и быстро зашагал в кабинет секретаря обкома т. Землячки Розалии Самойловны.

Начальное обучение

Член Коммунистической партии с 1914 года. Участник штурма Зимнего. На Втором съезде Советов избран членом ВЦИК. Осенью 1917 года откомандирован на Украину. Командовал полком, бригадой, дивизией, а с осени 1920 года легендарным корпусом червонного казачества.
Рассказ комиссара
Штаб червонной казачьей дивизии стоял в Перво-Константиновне, в доме попа. Начались теплые апрельские дни, и штаб, который особняком стоял в двух крайних комнатах, наполовину перекочевал в поповский сад, под зазеленевшие деревья, на согретую весенним солнцем первую зелень.
В ободранных, грязных комнатах поповского дома уныло бродили три поповны и их постоянные гости — сельский учитель и сельская учительница.
Шедшая рядом с монотонной деревенской жизнью кипучая жизнь и работа штаба, постоянный гром орудий, стоявших здесь же в деревне, в садах, постоянный грохот разрывающихся ответных неприятельских снарядов, летевших из-за Сиваша, от далекого Перекопа,— все это шло стороной, мимо жизни поповен, и только пугало их бешеным бегом, лихорадочным напряжением, постоянной опасностью военных дней. Им было и любопытно наблюдать жизнь штаба, и было весело отвечать на шутки и заигрывания молодых командиров из штаба, и было страшно — постоянно было страшно от этой атмосферы ран, смерти и грохота снарядов. Но об этом страшном лучше было молчать...
Разговоры были о картошке, о муке, о том, что нечего стряпать на обед, о том, что в штабе, кажется, тоже нечего стряпать, так как повар штаба дивизии, рыжий татарин Алей, грубо ругался на крыльце с каптенармусом, а потом бегал по соседним дворам, искал хоть луку, чтобы приправить картофельный суп без мяса. Через сад к дому подошел учитель-старичок и, постучав в окошко, с некоторым испугом и растерянностью спросил у девушек:
— А не видели ли вы комиссара дивизии?
Было видно по тому, как он оглядывался на лежащих в глубине сада казаков, что вопрос он задает ненужный, только для того, чтобы прийти в себя, потому что комиссар дивизии был в штабе рядом, в соседней комнате, и учитель знал не хуже, чем сестры-поповны. Но старику было страшно идти в штаб, страшно разговаривать с часовым, и он, вызванный в штаб по какому-то делу, оттягивал время ненужными вопросами. Сестры-поповны понимали это, они переглянулись, пожали плечами, вздохнули, и одна из них ответила:
— Да ведь вы же знаете, Семеныч, что комиссар дивизии в гостиной.
Семеныч достал из кармана кусок газетной бумаги и кисет с зеленой, ядовито пахнущей махоркой-самосадкой, вздохнул и молча стал крутить цигарку, а когда скрутил, зажег, пыхнул густым вонючим дымом, тогда только поправил шляпу и снова спросил у сестер:
— А не знаете, случайно, зачем я нужен комиссару дивизии?
Сестры ничего не ответили на вопрос, вполне бессмысленный, и только меньшая ответила на главное, что звучало в вопросе старика учителя:
— Да вы не бойтесь, Семеныч, комиссар дивизии — он очень молодой и очень добрый человек. Вы прямо пройдите через двор и спросите у дежурного комиссара дивизии. Это они, наверное, что-нибудь хотят в вашей школе сделать.
Семеныч вздохнул, еще раз поправил шляпу и пошел вдоль под окнами на большой двор, полный людей и лошадей, полный живой, деловой суетни и шума деловых разговоров.
Комиссар дивизии лежал на полу, на бурке, брошенной поверх охапки соломы. Рядом на бурках и шинелях лежало несколько человек из политотдела дивизии. Все они спали после трудной ночи. Большой стол был придвинут к стене; на столе были брошены военные карты, стояла пишущая машинка, и молодой парень, дежурный политработник, расписывал плакаты черными и красными чернилами, макая в них свернутую бумажную палочку.
Когда Семеныч вошел в комнату, дежурный обернулся к нему и, не вставая с табурета, коротко спросил:
— Вам что, дядько?
Семеныч, которому обидно стало, что его приняли за просителя, переступил с ноги на ногу, одернул рубашку, снял шляпу и сказал:
— Я здешний учитель. Меня вызвали к комиссару дивизии.
Дежурный подошел кспящему комиссару, несколько раз потянул его за ногу, потряс за плечо и, когда тот проснулся, сказал:
— К вам пришли, товарищ комиссар.
Комиссар дивизии встал с бурки, и Семеныч увидел молодое лицо, типично студенческое, обросшее первой бородкой, увидел добродушные серые глаза, увидел, что на одной заспанной щеке резко отпечатался след бурки и щека эта много румяней другой. Все это ободрило Семеныча, он шагнул уверенно на середину комнаты и сказал:
— Я здешний сельский учитель. Вы звали меня?
Комиссар дивизии подошел к нему, пожал руку и добродушно с растяжкой сказал:
— Извините меня, что я встречаю вас спросонок, пойдемте поговорим.
Они сели на углу стола, и комиссар предложил учителю организовать при школе, которая пустовала и не работала, вечернюю школу для взрослых — для казаков, находящихся в резерве полков.
— Состав людей,— сказал он,— у вас будет несколько текучий. Придется создать группу в каждом полку с тем, чтобы обучать каждую особо, но у нас очень большая тяга к учению, и казаки хотят, чтобы в свободное время с ними занимались. Вот мы вас и просим организовать преподавание в школе грамоты, первых четырех действий арифметики и начальных сведений по географии.
Семеныч был огорошен и молчал; и комиссар дивизии, желая дать ему время понять, в чем дело, еще и еще раз переповторил предложение, пока наконец Семеныч заторопился, оборвал разговор, сказал:
— Да я со всем удовольствием. Да только это очень удивительно, товарищ комиссар, как же это будут ваши люди учиться грамоте, когда все из пушек стреляют? Однако вы меня извините, только это, может, в самом деле для ваших людей не удивительно, а мне вот, старику, удивительно было вас слушать. А так, конечно, мы школу организуем, вот только позвольте мне для помощи прихватить местных учителей и учительниц и, может быть, ваших хозяек.
И комиссар дивизии поручил Семенычу разработать подробный план с инструктором политотдела и с ним окончательно договориться, кто и как будет налаживать школу, кто и за что в этой новой работе будет отвечать.
Школа неграмотных была открыта в селе Перво-Константиновке, и, вместо предположенной сначала только вечерней работы, школа стала работать с утра и до вечера, подряд весь день с небольшими перерывами на обед.
Первое занятие в школе старик Семеныч провел несколько растерянно. Его смущала усатая и бородатая аудитория, собравшаяся в школьном здании. Восемьдесят человек казаков, учившихся в первой смене (всех смен было четыре), густо набилось в школьном зале, заполнив все скамейки, подоконники, а те, кому окончательно не хватило места, уселись на полу.
Семеныч вошел в зал в сопровождении инструктора политотдела дивизии Виктора Горшкова, тощего паренька, длинношеего и синеглазого. Дежурный казак скомандовал «смирно», аудитория, грохнув оружием, встала, Семеныч совсем было растерялся, однако оглянулся на Горшкова — не ему ли, не Горшкову ли, эта воинская почесть,— но Горшков задержался в дверях, легонько подтолкнул Семеныча вперед, шепнул на ухо:
— Это вам, товарищ учитель, вы теперь для них старший.
Семеныч подошел к кафедре, Горшков прошел следом за ним и махнул рукой казакам. Те сели по местам, поудобней устроились. С полминуты длилась возня, затем школа затихла, и Семеныч начал свой первый урок грамоты. Усачи казаки разговаривали шепотком, и только иногда глухо брякали винтовки, поставленные между ног, да гремели об пол шашки, задетые ногой соседа или самим, шумно вздохнувшим после одоления какой-нибудь буквы казаком.
Семеныч расставил большие картонные буквы, намалеванные каждая отдельно черной тушью на кусках картона, и привычно составил из них легчайшее слово «мама». Он укрепил буквы, одновременно объясняя, что какая буква значит, показывая эту букву, чтоб ее запомнили, и, когда уже слово было готово, вдруг понял, что это слово как будто не самое подходящее для усатой и бородатой аудитории, каждый в которой давно уже или вовсе потерял мать, или много лет ее не видел. От этой мысли Семеныч сбился и, продолжая, однако, объяснять буквы и порядок образования слогов и слов, лихорадочно думал о том, как же быть дальше, какие слова должны быть первые для этой вот аудитории — те ли, что написаны были в старом букваре: «мама», «папа», «баба», или нужно искать иные слова. И, пока мысль вертелась вокруг этого, в голове уже складывался набор коротких слов, нужных и подходящих для бородатой аудитории и годных для первого урока.
После «мамы» он написал «воля», «земля», «пан» и, найдя верную дорожку, уже уверенно пошел по ней, почувствовав большое внимание, почувствовав, что овладевает аудиторией, и стал выравнивать урок, стал выходить из смущения.
Через час смена ушла, и Горшков, который оставался до конца смены, позвал Семеныча в политотдел дивизии выпить чайку, пока соберется вторая смена.
Так прошел весь день Семеныча. До вечера он занимался с сменяющимися группами казаков, в перерывах ходил в политотдел дивизии, пил там чай, обедал с полиотдельцами. От того же Горшкова он узнал, что его зачислили на все виды довольствия при политотделе. И незаметно для себя, к концу дня окончательно усталый, все-таки остался в политотделе помогать корректору править завтрашний номер дивизионной газеты.
Совсем поздно Семеныч пошел к себе, и по дороге, в саду, его окликнули поповны-сестры, сидевшие на той же постели и сумерничавшие. Все три они высунулись в окошко, одна повалилась на другую. Все три наперебой спросили:
— Ну что?
— Как урок?
— Кто учился?
И Семеныч, усталый, вполне удовлетворенный днем, свернул свою цигарку из самосадки, затянулся вонючим дымом и сказал:
— Знаете, всякие у меня ученики были, таких не бывало. С оружием, при винтовках, а тишина такая, что слыхать муху, и коли уж который из них кашлянет, так все на него цыкают, чтоб не мешал.



Будем учиться военному делу
...Товарищи рабочие и крестьяне-бедняки!
Для борьбы нужна подготовка, для войны нужно знание ее законов, для победы — святая жажда подвига и стойкости. Всему этому надо учиться.
БУДЕМ УЧИТЬСЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ!
Создадим стройные ряды борцов революции.
ВЫСТАВИМ НЕПОБЕДИМЫЕ ПОЛКИ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН!
Каждый завод, каждая фабрика, каждая мастерская и коммуна, село, волость, уезд, губерния — на защиту власти Советов!
Из листовки Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. 1918 год.

Герой Первой Конной

Член КПСС с 1919 года. Один из организаторов красной кавалерии на Дону. С момента создания Первой Конной армии (ноябрь 1919 года) ее командующий.
Вечером 14 мая 1920 года мы возвратились из 11-й кавдивизии в полевой штаб, разместившийся в маленьком уютном хуторке Алферово. С нами приехал комиссар дивизии К. И. Озолин. После ужина кто-то предложил ночевать в саду. Все согласились. Кто мог отказаться от сна на воздухе! Легли, но спать не хотелось. Климент Ефремович Ворошилов вспомнил о Стокгольмском съезде РСДРП, о первой встрече с Г. В. Плехановым.
Потом я попросил Озолина рассказать, что с ним произошло во время боя на Маныче в феврале 1920 года. Тогда мы считали его погибшим и в память о нем одному из отбитых у белых бронепоездов присвоили имя «Константин Озолин». Константин Иванович не любил говорить о себе, но на этот раз, уступая нашим просьбам, согласился.
— Вы помните, бой завязался рано утром,— начал он.— Противник, отброшенный Четвертой кавдивизией, навалился на нас. Сначала мы сдерживали его, а затем ввели свой резерв и сами перешли в контратаку. Все шло хорошо. Но начдив увлекся и забыл про фланги, а белоказаки, отступив в центре, уже начали обходить нас слева. Плохо бы для нас это кончилось, не подвернись мне штабной эскадрон. Взял я его и бросился на фланг. Началась рубка. Белых не меньше двух полков, а наших всего сотня. Внезапно поднялась пурга. Вокруг загудело, засвистело. Все перемешалось, ничего не видно, и нельзя понять, раненые стонут или ветер воет.
Не знаю, сколько это продолжалось,— рассказывал Озолин.— Только так же неожиданно настала тишина. Оглядываюсь — никого живого, кроме ординарца. А вокруг — трупы. Даже жутко стало. Поехали к нам в тыл. Но только спустились в небольшую лощинку, откуда ни возьмись, белоказачья сотня. Казаки увидели нас — и в погоню. Ординарца убили. У меня конь хороший. Думал, уйду. Не тут-то было. На первой сотне шагов конь споткнулся и медленно осел в снег. «Подстрелили лошадь, хотят взять живым,— понял я и тут же решил: — Этому не бывать!»
Оставив коня, бросился на казаков. В одной руке шашка, в другой — наган. Последняя пуля, решил, моей будет.
Трудно сейчас восстановить подробности. Только помню, здоровенный усатый казак поначалу пырнул меня пикой, пробил шлем, скользящим ударом ожег голову. Что потом со мной делали казаки, не знаю. Очнулся, содрогаясь от холода, раздетый, наполовину занесенный снегом. На голове — кровавый лед.
И такая боль, что казалось, мозги вываливаются. Поднял руку, потом вторую. Ощупал голову, подтянул ноги — понял, что жив. Однако встать не мог. Пришлось ползти к раскинувшемуся на бугре хутору. В пути натолкнулся на убитого ординарца. «Ну, брат, и мертвым тебе придется выручать комиссара». Стащил с него брезентовый плащ и надел на себя.
Немного согревшись, я даже на ноги встал и заковылял к стоявшей отдельно от других избушке. Шагов двадцати до нее не дошел, упал в снег. Силы окончательно оставили. «Ничего, ничего,— успокаиваю сам себя,— отдохну немного и доберусь. Только бы не потерять сознания». Лежу так, вдруг вижу, выбегает из хаты мальчонка лет двенадцати, в больших, не по росту, валенках. Задержался у покосившейся постройки, что-то собирает. А я хочу его позвать и не могу: голос на морозе потерял. Рукой машу, а он не видит. Страх меня берет: убежит — и тогда все пропало. Мальчик уже действительно собрался уходить, но на какое-то мгновение задержался, оглянулся и заметил меня. Осторожно, с опаской, подошел и, опершись руками на свои худенькие колени, пригнулся, посмотрел на меня большими черными глазами, в которых одновременно отражались испуг и любопытство.
«Тебя как звать?» — через силу, шепотом спрашиваю мальчугана.
«Мишкой».
«Так вот, Миша, позови мать».
Он убежал. А минут через пять привел седобородого старичка с такими же, как у него, большими черными глазами.
С помощью мальчика старик молча волоком потащил меня к избе. В хате он снял с меня шлем и бросил в печку, сказав, что в хуторе белые. Я спросил, нет ли у него бинта или куска чистой материи, чтобы перевязать голову.
«Нет, сынок, ничего. Вот разве мешок из-под картошки, он чистый».
Перевязали голову мешковиной. Ночью мне сделалось плохо. Я задыхался, терял сознание, на короткое время приходил в себя и снова проваливался в кошмарную бездну. Утром в хату пришли белоказаки.
«Кто это?» — спрашивают.
Опередив старика, я сказался обозником, мобилизованным из Витебска.
«Жаль, не попадается комиссар или командир, а все только дрянь обозная!» — выругался старший из казаков и сдернул с моей головы мешковину.
«Пустить в расход, чтобы не портил воздух»,— предложил второй казак.
«Да не трожьте его, сам помрет,— недовольно пробасил третий.— Разберись тут, кто прав, кто виноват. Офицеры теперь Деникина клянут не меньше, чем большевиков. Получается: паны дерутся, а мы страдаем, как этот»,— кивнул казак в мою сторону.
Из дальнейших разговоров я заметил, что недовольство проявляется и у других казаков. Большинство из них ко мне отнеслись беззлобно. Больше того, сварив суп, плеснули немного мне и даже отрезали кусок баранины. А когда уходили, тот, который заступился за меня, вытащил из сумки рваную рубаху и бросил старику:
«Замотай парню голову».
Еще день пролежал я в надежде, что мне будет лучше. Но лучше не стало, хотя хозяин изо всех сил старался выходить меня. Он достал гусиного сала и смазал обмороженные места.
«Худо тебе, сынок,— участливо говорил старик,— а нам с Мишуткой ни кормить, ни лечить тебя нечем. Мать у него давно померла,— кивнул старик в сторону молчаливо сидевшего Мишки.— И все, что осталось не взятого казаками, спустили мы с ним, чтобы прокормиться».
К вечеру меня увезли в здание школы, где белые устроили лазарет. Он скорее походил на мертвецкую. Раненые и больные лишены были всякой медицинской помощи. Умерших долго не убирали, и они лежали тут же, рядом с живыми.
Когда рассвело, я осмотрелся. Возле меня лежал мертвый казак.
Часов в одиннадцать в лазарет пришли жители. Они вытащили мертвых, а живым сварили похлебку из костей. Если бы не старик и его внук Мишка, не выйти бы мне живым оттуда. Старик два раза приводил местного лекаря. Тот остриг и смазал чем-то голову. Старик выстирал обмундирование умершего казака и помог мне переодеться. Мишка приносил воду и кусочки хлеба. Мне тяжело было жевать, но я ел, чтобы сохранить жизнь. А Мишка, молчаливо смотревший на меня широко открытыми, полными сострадания глазами, торопливо собирал крошки в костлявый кулачок...— Константин Иванович вздохнул и, вынув из кармана платок, вытер глаза.
— Что же было дальше? — нетерпеливо спросил кто-то из темноты.
— Потом я немного окреп и задумал бежать. Просил старика достать лошадь, но он принес мне зипун и сказал:
«Лошадей, сынок, у всех казаки позабирали. Если под силу, уходи пешком. Только идти надо перед рассветом, а то, не ровен час, беляки поймают».
До Маныча меня провожал Мишка.
«А тебе не страшно? — спрашиваю его.— Темно, да и казаки близко».
«Чего бояться-то! Батя говорил: «Бойся только своей трусости».
У Маныча мы простились. Осторожно ступая, я пошел по оттаявшему, изборожденному трещинами льду на правый берег реки, а Мишка, присев на потемневшую кучу снега, махал серой кубанкой. Постепенно густая дымка предрассветного тумана скрыла левобережье Маныча и моего юного спасителя.
Я благополучно добрался до Ростова и лег в госпиталь.
А когда выздоровел, захотелось повидать старика и Мишку. Пользуясь предоставленным мне отпуском для восстановления сил, я с попутной машиной поехал в освобожденный от белых хутор. Приехал поздно вечером. Забросив на плечи мешок с подарками Мишке и деду, зашагал к хате, где начиналась моя вторая жизнь. Но хаты не нашел. На ее месте чернела закопченная полуразрушенная печь с железной трубой. Соседи сказали, что старик умер от тифа, а Мишка куда-то исчез. К горлу подкатился комок. Не знаю, жив ли этот маленький хлопчик с большим, добрым сердцем и грустными черными глазами,— закончил свой рассказ комиссар Озолин.
Записывайте нас в партию...
...После разгрома Деникина популярность Коммунистической партии и ее вождя В. И. Ленина на фронте необычайно возросла. Помню, Е. А. Щаденко рассказывал мне, как однажды к нему явился целый эскадрон бойцов.
— В чем дело? — спросил их Щаденко.
— Записывайте нас в партию,— ответил за всех командир эскадрона.
— Как так — записывать? Вы же командир и должны знать, что в партию принимают не группами, а индивидуально.
— Я-то знаю. Но бойцы так постановили. Говорят: в атаку ходим сообща, все боремся за Советскую власть, следуем за товарищем Лениным и партийным Реввоенсоветом, так и в коммунисты вместе пойдем.
— Это похвально, что все желаете вступить в партию,— ответил Щаденко,— но я записывать вас в коммунисты не имею права. Подавайте каждый заявление в полковую ячейку...
Эпизод, рассказанный Е. А. Щаденко, показателен. Конармейцы беспредельно верили партии. И партия верила им.
...В кавалерии служило много людей, ставших впоследствии знаменитыми деятелями нашей Родины! Бывший командир радиодивизиона А. Л. Минц стал академиком. А кто мог угадать в скромном коннике будущего известного советского ученого, тоже академика, И. И. Минца, в молодом стройном бойце Андрее Гречко — будущего Маршала Советского Союза, министра обороны? Кто мог предполагать, что рядовой конармеец Павел Жигарев станет Главным маршалом авиации, командир артвзвода Кирилл Москаленко — Маршалом Советского Союза, пулеметчик Алексей Леонов — маршалом войск связи, командир взвода Ефим Славский — министром СССР, боец Андрей Стученко — генералом армии, а комиссар бригады Павел Рыбалко и командир эскадрона Семен Богданов — маршалами бронетанковых войск?
Много героических женщин дрались с врагом в рядах Конной армии. Разве не достойна высокой похвалы самоотверженная работа женщин-политработ-ников Екатерины Ворошиловой, Татьяны Соболь-Смоляниновой, Натальи Кузнецовой, славной дочери армянского народа Васкунаш Акопян?
Приходится только сожалеть, что невозможно перечислить имена всех конармейцев, каждый из которых заслуживает особого рассказа.
Концерт
Как-то мне довелось послушать концерт в одной из дивизий. И должен сказать, он произвел на меня большое впечатление. С тех пор прошло много времени, но тот вечер сохранился в моей памяти... Возможно, этому способствовали необычайная обстановка, своеобразные судьбы исполнителей, экстравагантность их костюмов.
Как сейчас вижу опушку большой рощи, освещенную электролампочками, питаемыми от радиотелеграфного двигателя. Сосредоточенные лица зрителей — бойцов и местных крестьян. Артисты играют отрывок из спектакля.
Отсутствие сцены не снижает достоинств постановки, а, напротив, усиливает впечатление естественности.
И вот кончилось представление. Артисты уже скрылись в темноте рощи, а зачарованные зрители молчат. Лишь через несколько минут послышались одобрительные возгласы, грохнули аплодисменты. Потом под аккомпанемент старенького пианино боец-пулеметчик исполнил арию Ленского. Я и сейчас вижу его перед глазами, опоясанного патронной лентой.
В конце первого отделения худенький русоволосый юноша-скрипач исполнил «Венгерский танец» Брамса... Поэты-самоучки читали свои стихи. И хотя они были несовершенны по форме, слушали их с вниманием, ибо стихи эти выражали подлинные чувства и мысли бойцов...
Мне запомнились стихи конармейца П. Горского, прочитанные на вечере.
Я сын восставшего народа,
Я воин рати трудовой,
Я авангард передовой,
Я рыцарь верный твой, свобода.
Меня Россия в бой послала
За вольный труд, за бедняков,
Чтоб их избавить от оков,
Чтоб свергнуть иго капитала.
Не для наживы, не для славы
Я смело встал под алый стяг,
А чтоб разбит был грозный враг,
Чтоб чтили все наш красный флаг!
Закрывая концерт, ведущий программу предложил спеть «Интернационал». И еще объявил, что собранные деньги будут переданы местному ревкому на строительство школы.
Жажда знаний
...Наша армейская газета «Красный кавалерист» активно поддерживала борьбу за ликвидацию неграмотности в рядах конармейцев. Одним из инициаторов организации школ грамоты была работник политотдела Конармии жена Климента Ефремовича Ворошилова — Екатерина Давыдовна.
Обучение неграмотных было делом трудным. Не хватало учителей, бумаги, времени. Но энтузиазм и сознание величия дела, за которое они взялись, воодушевляли и учителей и учеников.
Находчивые конармейцы обучались даже в походе, в движении. На спины бойцов прикреплялись буквы, и ехавшие позади заучивали их.
Когда учеба дала первые плоды, в «Красном кавалеристе» появился «Уголок политграмоты» с несложными текстами, по которым знающий азбуку мог продолжать свое образование.
В жажде бойцов к знаниям, даже когда они шли на фронт, проявлялся величайший оптимизм людей, твердо веривших, что Советская власть непобедима и тем, кому будет суждено остаться в живых, без знаний не обойтись, так как им придется строить свою жизнь по-новому...
Приезд президента
Во второй половине дня 25 мая 1920 года в армию прибыл М. И. Калинин. И сразу же пожелал выехать в части.
Мы сели в автомобиль. Погода после ночного дождя установилась теплая, солнечная. Михаил Иванович снял с себя поношенную кожаную куртку. Одет он был в простой хлопчатобумажный свитер и серые брюки, заправленные в обыкновенные яловые сапоги. Заметив, что я пристально осматриваю его экипировку, Калинин, улыбаясь, спросил:
— Что, не президентский вид у меня?..
— Ну что вы, Михаил Иванович! Вас в любой одежде встретят как своего.
— Не говорите, Семен Михайлович,— хитровато посмотрел на меня Калинин.— Вот помню, в прошлом году приехали мы с группой товарищей на Восточный фронт. Зимой дело было, и холод стоял ужасный. Так я, чтобы не замерзнуть, напялил на себя богатую шубу. Перед красноармейцами выступил, а после один из них, шустрый такой, совсем юный паренек спрашивает: «Что же это вы, товарищ Калинин, староста пролетарского государства, а одеваетесь вроде министра-капиталиста?» Поначалу я даже растерялся. Потом говорю: «А как вы думаете: хорошо будет, если наше пролетарское государство оденет Председателя ВЦИК в дырявый армяк, да еще в такой мороз?» Почесал паренек затылок и отвечает: «Нет, не хорошо! Стыдно будет перед мировым пролетариатом».
За разговорами незаметно подкатили к селу Тальное. На его окраине уже выстроилась 1-я бригада 6-й кавдивизии.
Приняв рапорт комбрига В. И. Книги, Михаил Иванович обошел строй конармейцев, поздоровался, затем поднялся на пулеметную тачанку. С этой импровизированной трибуны он произнес речь, и голос его, спокойный, негромкий, в наступившей тишине звучал внушительно и убежденно.
Он не скрывал трудностей предстоящей борьбы, но убедительно показал патриотизм советских людей, их твердую решимость защищать свою страну и неизбежность поражения интервентов.
Во время митинга в синеве майского неба появился самолет. Сделав круг, начал снижаться. Это никого не встревожило: на крыльях отчетливо виднелись красные звезды. А оказалось, враг использовал коварную уловку. Мы это поняли слишком поздно, когда летчик обстрелял нас из пулемета. От неожиданности бойцы метнулись в разные стороны, схватились за винтовки и открыли огонь. Лошади, напуганные беспорядочной стрельбой и шумом пропеллера, сбились в кучу. А Михаил Иванович и не шелохнулся. Он продолжал стоять на тачанке, словно ничего не произошло. Я предложил ему укрыться хотя бы под тачанкой.
— Что вы, Семен Михайлович! Прятаться на глазах бойцов? Нет! — решительно отказался он.
Получив отпор, самолет набрал высоту и ушел в сторону противника. Бойцы снова окружили Михаила Ивановича, и по их глазам, по отдельным фразам, которыми они перебрасывались, можно было легко угадать восхищение мужеством нашего гостя. Сами отчаянные, храбрые, они и в других особенно ценили хладнокровие и выдержку. На следующий день Калинин снова побывал в частях. Он выступал на митингах, беседовал с красноармейцами, награжденным вручал орден Красного Знамени.
Наблюдая за ним, нельзя было не восхищаться его удивительной простотой и скромностью, умением вызвать собеседника на откровенный разговор, по душам. С кем бы он ни встречался, с командиром или с рядовыми бойцами, Михаил Иванович ни словом, ни жестом не подчеркивал своего высокого положения... Беседуя, он вроде бы между прочим подмечал, что у бойца не в порядке обувь, не пришита пуговица. А потом с частных, бытовых вопросов как-то незаметно переводил разговор на общие, рассказывал о положении в стране, о жизни рабочих и крестьян, разъяснял задачи Красной Армии...
Рано утром 27 мая мы отправились в 4-ю дивизию. М. И. Калинин вручил Почетные Красные знамена ВЦИК. Из 4-й мы отправились в 11-ю кавдивизию. В ней много бойцов из рабочих губерний, и поэтому их встреча с М. И. Калининым прошла особенно сердечно. Михаил Иванович рассказал бойцам о положении в стране и на фронте, призвал их до конца выполнить свой долг перед советским народом.
С яркой ответной речью выступил комиссар дивизии К. И. Озолин...
На обратном пути Михаил Иванович расспрашивал меня об Озолине, высказывая восхищение его мужеством, проявленным на Южном фронте.
Это был последний день пребывания у нас дорогого гостя. После небольшого отдыха мы проводили его, попросив передать от конармейцев привет и добрые пожелания Владимиру Ильичу.

Комсомолец Вася

Член Коммунистической партии с 1918 года. В боях против белочехов начальник Симбирской Железной дивизии. Во время операций по разгрому Колчака командующий Первой Революционной армией, затем командир конного корпуса на Западном фронте, о боевых действиях которого повествуется в этом рассказе.
Красные стрелы на карте
— Ну, как думаешь, Вилумсон, возьмем Вильно? — спросил я начальника штаба корпуса, войдя в большую комнату, где размещался полевой штаб.
— Конечно, возьмем,— уверенно ответил тот.
— Титаев, ну-ка дай-ка карту!
Ординарец притащил измятую, местами изорванную, исчерченную красным карандашом десятиверстную карту. Видя ее печальное состояние, Вилумсон улыбаясь сказал:
— Придется, товарищ комкор, снова переменить вашу карту. Кажется, эта уже пятая.
Упрек был справедлив. Я действительно варварски обращался с картами, графически изображая на них ход своих мыслей. Это был не рисунок, а кривые, ломаные линии, понятные только мне одному.
— Погоди, дружок, сначала окончательно исчерчу ее, а потом уже переменим,— ответил я и вооружился толстым цветным карандашом.— Ну, докладывай обстановку.
Вилумсон вытащил из полевой сумки донесения начальников дивизий и стал их читать ровным, спокойным тоном, будто речь шла о самых скучных и эбыденных вещах.
Пока он читал, я наносил расположение частей на карту.
— А что известно о противнике?
— О противнике? — И Вилумсон тем же ровным тоном продолжил: — Вторая дивизия белополяков занимает оборонительный рубеж Озерное дефиле — река Вилия с передовыми частями в Подбродзе. На станции Подбродзе бронепоезда. От товарища X. из Вильно получено сообщение, что в городе строятся оборонительные сооружения и лихорадочно формируются добровольческие части, даже... женские батальоны...
— Женские батальоны?! — с удивлением переспросил я.— Неужели с женщинами придется воевать?!
— Да, товарищ комкор, очевидно. Они формируют женские легионы из дочерей и жен буржуа и офицерства.
— Вай-вай...— пробормотал стоявший у дверей мой второй ординарец Хачи.
— Молчи! — сердито оборвал его я и, обращаясь к Вилумсону, прибавил: — Об этом никому ни слова. А вы, Хачи и Титаев, ничего не слыхали.
Понятно? — И вновь Вилумсону: — А как насчет гарнизона и укрепления Вильно?
— Ничего не известно.
— Где же главные силы противника?
— Очевидно, на реке Вилия.
— Что же ты предлагаешь?
— Я думаю, необходимо боем выяснить силы противника на Вилии. Надо послать туда по меньшей мере бригаду от каждой дивизии.
— А как насчет атаки Вильно?
— Сейчас трудно что-либо сказать. О силе гарнизона и характере укреплений ничего пока не известно.
— Послушай, а где наш комсомолец-белорус, которого прислал к нам товарищ Мясников?
— Вася, что ли?
— Вот-вот, Вася. Где он?
— Он здесь, в Свенцянах. Я его видел сегодня в ревкоме.
— Вызови его ко мне.
Вилумсон вышел в коридор, чтобы позвонить в ревком. Наклонившись над картой, я измерил расстояние до Вильно, одновременно чертя красным карандашом все новые стрелки. Они шли до реки Вилия, до Вильно, до литовской границы.
Опасное задание
Хачи притащил керосиновую лампу, коробку сигар. Я закурил. В густых клубах дыма как будто вырисовывались контуры плана атаки. Через полчаса моя карта покраснела и посинела от многочисленных стрел и резко изменила свой вид. Река Вилия истекала жирным слоем синего, и некоторые пункты просто утонули в этой синеве — их нельзя было распознать без помощи лупы; не жалел я и красного цвета, постепенно обводя им синие места. Мыслями я витал где-то на подступах к Вильно, машинально насвистывая какой-то назойливо приставший мотив. Вдруг за моей спиной раздался чей-то молодой голос:
— Разрешите войти, товарищ комкор?
Я обернулся. Передо мной стоял восемнадцатилетний коренастый юноша, блондин, небольшого роста, в черкеске. Его светло-серые глаза смело смотрели на меня. Он держал в левой вытянутой вниз руке папаху, а правую руку приложил к голове. Фигура его застыла в уставной неподвижности, ему не свойственной.
— А, это ты, Вася?
— Так точно, я. У вас, товарищ комкор, накурено больно. Разрешите окно открыть?
— Ну что же, открой.
Вася открыл окно. Я указал ему на стул. Он молча сел. Дым потянулся в окно.
— Скажи, ты давно служишь в армии?
— Никак нет. Начал здесь, у вас, в третьем корпусе.
— Оно и видно,— усмехнулся я.
— Откуда, товарищ комкор?
— Ну хотя бы из того, что, сняв папаху, правую руку ты приложил к обнаженной голове. Ведь по-военному это не полагается.
— Виноват, товарищ комкор.— Вася встал, и рука его предательски потянулась к обнаженной голове.
— Садись, все это ерунда. Дело не в этом. Скажи лучше, откуда ты родом?
— Я, товарищ комкор, из Столбцов. Работал в комсомольских организациях Белоруссии. Товарищ Мясников направил в ваш корпус. Назначили меня в политотдел. Оттуда попал в Шестидесятый кавполк. Служу на должности секретаря при военкоме.
— Какой ты национальности и знаешь ли польский?
— Я, товарищ комкор, белорус, польский язык знаю хорошо. Служил четыре года вместе с отцом у помещика Четвертинского.
— Вот что, Вася. (Он сразу же напряг свое внимание.) Хочу поручить тебе важное, но опасное задание... Садись, садись. Я полагаюсь на тебя, верю в твою комсомольскую честность. Слушай: нам предстоит атаковать Вильно. Силы и намерения гарнизона, характер укреплений, воздвигнутых в городе, все это нам неизвестно. Твоя задача — подробно узнать все, что может помочь нам. Все, что узнаешь, следует сообщить мне не позднее тринадцатого июля, то есть через два дня в местечке Подбродзе, что в двадцати двух километрах севернее Вильно.— Я показал ему на карте.— Сможешь?
Его юношеское лицо, лучистые глаза внушали доверие. И я поверил, когда он твердо сказал:
— Смогу! Клянусь честью, смогу!
— Ну, а как же ты все это сделаешь?
Перейдя к делу, Вася тут же забыл благоприобретенную дисциплину. Жестикулируя сильными короткими руками, он с жаром излагал свой план действий, явно импровизируя:
— Переоденусь в гражданское платье. Поеду верхом до передовой. Брошу лошадь и сдамся в плен. Скажу, что убежал из большевистского ада. В Вильно узнаю все и приеду в Подбродзе, где подожду вас до...
Я прервал Васю:
— Так у тебя ничего не выйдет. Во-первых, до Вильно восемьдесят километров. Если даже противник пропустит тебя беспрепятственно, ты попадешь в Вильно через сутки, то есть в лучшем случае в ночь на двенадцатое. Во-вторых, тебя не пропустят. Думаю, что будут таскать по штабам для допроса и выяснения личности. Наконец, одному будет очень трудно узнать все подробности о противнике в Вильно: это не так легко, как кажется. Кроме того, где уверенность в том, что ты тринадцатого попадешь в Подбродзе?
По мере моего разъяснения лицо Васи делалось мрачнее. Огонь в глазах потух. После небольшой паузы он спросил сдавленным голосом:
— А как же быть?
— Так вот, ты переоденешься, как сказал, в гражданское платье. На моем автомобиле тебя доставят до деревни Маляты, к литовской границе, а оттуда через Литву до местечка Ширвинты, что тридцать километров северо-западнее Вильно. Вот тут, посмотри на карту. Из Ширвинтов ты проберешься в Вильно. Сейчас восемь часов. Через три четверти часа ты должен выехать. В полночь ты должен быть в Ширвинтах, а к утру в Вильно. Понял?
— Да! — радостно воскликнул Вася.
— Слушай дальше. Рано утром явишься в дом на проспекте Пилсудского. Там проживает товарищ X. Скажешь, кто тебя послал и зачем. А затем вместе обдумайте уже план действий в городе. Ночью с двенадцатого на тринадцатое июля, если тебе не удастся проехать через Неменчин в Подбродзе, ты должен попасть обратно в Ширвинты, а оттуда тебя доставят в Подбродзе. В Подбродзе я тебя буду ждать тринадцатого утром. Понял теперь, как надо сделать?
— Теперь все понял.
— Сейчас иди переоденься и через тридцать минут зайди за письмом.
— Зараз! — воскликнул Вася и пулей вылетел из комнаты.
Пришел Вилумсон и подал на подпись приказы и распоряжения. Через две минуты приказы были разосланы. Еще через некоторое время Хачи доложил:
— Товарищ комкор, на крыльце стоит старый хрыч с палкой, хочет к тебе. Я его не пустил. Орет там.
— Что за хрыч, Хачи? Зови его.
Через минуту вошел горбатый старик с белой бородой, в очках и с палкой. Он был одет в длинный черный халат с кушаком. В правой дрожащей руке держал палку, на голове простая соломенная шляпа, на ногах ботинки. На первый взгляд он был похож не то на еврея из близлежащего местечка, не то на литовского зажиточного крестьянина. Удивленный таким поздним посещением, я спросил:
— Что вам угодно?
Старик, выпрямившись, ответил молодым голосом:
— Зашел за письмом, товарищ комкор!
— А, Василий, это ты! Фу, черт, тебя совсем не узнать... Ну и ловкач!
Мой бедный Хачи, раскрыв рот, прибавил:
— Э... э... э... ловко ты меня надул, горбатый черт!
Вошел и Вилумсон. Мы все вместе посмеялись вдоволь.
— Ну, желаю тебе успеха, мой молодой старик. Не забудь адреса товарища X. Номер дома, квартиру, проспект Пилсудского. Тринадцатого утром жду тебя в Подбродзе. Вот тебе еще немного польских марок, пригодятся.
— Спасибо. Прощайте.
Я обнял Васю и проводил его к выходу. Внизу уже шумел заведенный мотор автомобиля. Через пять минут машина скрылась в ночи.
На подступах к Вильно
Тринадцатое июля. Полдень. Солнце палит безжалостно. Душно, как перед дождем. Начдив 10 утром сообщил, что его части с боем подходят к реке Вилия. Остается ликвидировать подбродзинские пробки. В двух километрах южнее
Подбродзе идет бой. Наступает 15-я кавдивизия. Кругом визжат пули и рвутся снаряды, пролетая над нашими головами. Утром поляки, потеряв Подбродзе, отошли на юг и теперь, в предсмертной агонии дерутся, как загнанные львы. Несколько минут назад начальник штаба получил донесение о том, что двукратная атака 2-й кавбригады не имела успеха. Кавбригада отошла в ближайший лес для перегруппировки.
Я, Вилумсон и мой ординарец Титаев расположились на высокой колокольне польского костела, находящегося на южной окраине Подбродзе. Хачи остался внизу с лошадьми. Внизу у северной стороны костела в пешем строю построены комендантская команда и команда связи.
Сверху хорошо видна окружающая местность. Я смотрю в бинокль. Вилумсон, прислонившись к деревянному столбу, что-то пишет в своей полевой книжке. Кажется, он готовит радиодонесение. Титаев, держа в руке трубку полевого телефона, то и дело кричит:
— Алло! Алло! Что? Не слышно? Что? Плохо слышно! Фу, черт!
Спрятавшись за столбом, я внимательно изучаю поле предстоящего боя. Вот впереди, в двух километрах южнее Подбродзе, на открытой поляне, через которую проходит шоссе на Вильно, виднеются польские полевые окопы, насыпи и засеки. Поляков пока еще не видно. Но вот изредка там и сям начали показываться отдельно движущиеся фигуры людей. Люди что-то тащат и что-то перемещают с одного фланга на другой. С нашей стороны впереди видны отдельные скачущие всадники. Эти всадники то останавливаются, то снова скачут, исчезают и снова появляются в поле моего зрения. Это дозоры кавалерийских частей. С правой стороны поляны тянется густая роща, а левее, в пяти километрах впереди, виден лес, откуда беспрерывно стреляет вражеская артиллерия.
Бух... бух... бух...— глухо вторит эхо.
Жж... жж... жж...— разрывая воздух, через головы наших всадников несутся снаряды.
Бах... бах... бах...— рвутся они где-то рядом, разворачивая землю и оставляя глубокие воронки.
Несколько снарядов попало в Подбродзе, разрушив дома и постройки. В двух, а вот уже и в трех-четырех местах начались пожары. Языки пламени, разрывая густой дым, тянутся к небу, захватывая все новые и новые кварталы. На пожар никто не обращал внимания. До этого ли жителям? Перепуганные, они спрятались в подвалах, убежали в леса. Минут десять назад я видел, как группа людей с мешками и узлами на плечах входила в каменное толстостенное здание костела, очевидно полагая, что здесь можно спастись от снарядов.
Я продолжал наблюдение. Вилумсон закончил свою работу; вырвав исписанный лист своей полевой книжки, протянул мне. Не успел я взглянуть на бумагу, как с диким шипением польский шестидюймовый снаряд, разорвав воздух, ударился в стену костела — тотчас же последовал сокрушительный взрыв. От сотрясения я упал. Снизу послышались отчаянные истерические крики и ругань. Мне показалось, что все здание колокольни закачалось. Внизу что-то рушилось и горело.
Нас окутал густой едкий дым. Минуты две-три я совершенно не мог говорить. Титаев, уронив из рук телефонную трубку, протирал своими большими кулаками глаза, кого-то отчаянно ругая. Вилумсон, с бледным лицом, обняв столб колокольни, смотрел на меня вопросительно.
— Все хорошо, что хорошо кончается,— сказал я, с трудом улыбаясь.
Поднявшись на ноги, начал искать свою папаху.
— Да, это верно,— подтвердил Вилумсон.— Но что там внизу делается? Ну-ка, Титаев, узнай.
— Алло! Алло!
Телефон шипел, но не отвечал.
Я посмотрел вниз. У южной стороны костела образовалась бесформенная груда камней, щебня, досок и решеток. На земле беспомощно барахтались три лошади. Люди панически бежали в разные стороны от костела. На паперти лежали двое, уткнувшись лицом вниз, рядом с ними сидел красноармеец без головного убора, наспех бинтовавший раненую руку. Было видно, что снаряд разрушил часть стены.
— Сволочи, даже своего костела не жалеют,— ругался Титаев, посылая по адресу шляхты крепкие слова.
Я молчал. Телефон заработал: дзинь... дзинь... дзинь... Вилумсон взял трубку:
— Алло! Да, да, я Вилумсон. Что?.. Пленных?.. Хорошо, сейчас!
— Что там еще такое? — спросил я сердито.
— Товарищ комкор, начальник связи доложил, что привели большую партию пленных, около тысячи человек. Один из пленных настойчиво требует свидания с вами. Что вы прикажете?
— Кто такой? Что ему надо? Узнай!
Пока Вилумсон говорил с Гавриленко, я вновь начал смотреть в бинокль. Из нашего леса уже стреляла артиллерия 15-й кавдивизии. Одновременно с этим затрещали ручные пулеметы передовых частей. Это уже предвещало близость наступления.
— Товарищ комкор! Пленный внизу у аппарата и желает говорить с вами по очень важному делу,— сказал Вилумсон, протягивая мне трубку.
Взяв трубку, я спросил:
— Кто? В чем дело?
В трубке послышался спокойный и знакомый голос с белорусским акцентом:
— Товарищ комкор, это я, Вася. Прибыл из Вильно, имею много новостей...
— Ба! Возможно ли? Неужели это ты? Ну и молодец! Быстро иди наверх. Живо! Живо! — торопил его я.
Ровно через пять минут Вася, одетый в польское обмундирование, с улыбкой на лице, был в моих объятиях. Целуя Васю, я спрашивал:
— Вася, что за метаморфоза? Почему ты в одежде польского солдата? Ничего не понимаю. Объясни скорее. То ты в кафтане литовского крестьянина, то в польском обмундировании,— говорил я, смеясь от радости.
— Позвольте, товарищ комкор, рассказать все по порядку,— ответил насквозь вспотевший и пыльный Вася.
— Ну, расскажи, расскажи подробно.
Вася начал докладывать. Я вытащил карту и цветной карандаш.
— Шурка доставил меня к литовской границе, а оттуда я прошел в Шир-винты. В два часа утра одиннадцатого июля на рассвете пробрался в лес и без каких-либо приключений перешел границу. Утром на подводе белорусского крестьянина, спешившего в Вильно с продуктами, попал в город. Соблюдая все предосторожности, ровно в восемь часов утра нашел указанную вами квартиру товарища X.
Товарищ X. подробно спрашивал о вас, о ваших намерениях и о месте нахождения красных частей. Меня покормили и уложили отдохнуть. Уходя, товарищ X. обещал принести одежду и документы. Около двух часов дня, когда я проснулся, около моей кровати уже лежало вот этообмундирование и удостоверение личности на имя Казимира Станиславского из Кракова. С этого момента я превратился в солдата первой секции обоза второго разряда второй польской дивизии. Как все это достал товарищ X., я не знаю и не спрашивал. После обеда он направил меня к товарищу А. на северной окраине города.
В течение ночи втроем мы прорабатывали план наших действий в Вильно на двенадцатое июля. По правде говоря, всю основную работу по разведке укреплений и численности частей товарищи взяли на себя. Мне же поручили сравнительно легкое: узнать, какие части имеются в городе и где расположены их штабы. Благодаря тому, что я хорошо говорю по-польски, мне задание выполнить удалось. Рано утром я вышел на разведку. На улице Пилсудского мне повстречалась молодая красивая легионерка. Одета она была в уланскую форму. Я подошел к ней, поздоровавшись, спросил:
«Не знаете ли вы, пани, где размещается наш штаб?»
Улыбаясь, она спросила:
«А какой ваш штаб?»
Я поспешил ответить, что мне нужен штаб второй дивизии.
«Прибыл из Познани и не знаю, куда явиться».
Она охотно и довольно подробно рассказала мне местонахождение штаба и как туда пройти. Сама она была из штаба женского легиона и по болезни находилась в отпуске. Короче, я с нею познакомился и провел целый день. Мы были в кафе, в городском парке и даже заходили на станцию. На станции она познакомила меня с одним солдатом сто пятьдесят девятого батальона. Мне кажется, я блестяще разыграл роль настойчивого кавалера. Будучи «богаче» их, я изо всех сил угощал и наконец пригласил в кино. В результате собрал много интересных сведений. Ввиду того, что встреча с товарищем X. была условлена на девять часов вечера, я, извинившись, оставил на минуту моих знакомых и вышел с тем, чтобы больше уже не возвращаться в кино.
Ровно в десять вечера я был на квартире товарища X. Здесь меня уже ждали.
В течение одного дня нам удалось выяснить следующее: в Вильно организован штаб обороны города под командованием генерала Барщука. Штаб размещается по улице Пилсудского в доме князя Пляттера. В группу Барщука входят гарнизон города и вторая белорусско-литовская дивизия. Дивизия находится на фронте, штаб ее в местечке Неменчин. В городе имеются: батальон
Виленского запасного полка, новосформированная маршевая рота тридцать седьмого стрелкового полка, запасной батальон Ковельского полка, один батальон лиги женщин, в него вступили жены и дочери офицеров и городской буржуазии.
Кроме этого, в городе расквартированы три эскадрона конницы улан и эскадрон так называемой «татарской Яздис». Имеется одна батарея, отряд танков и один бронепоезд, пришедший вчера из Лиды. Вот и все. Общая численность гарнизона четыре тысячи человек. Солидных укреплений на окраине города нет. Северо-западный мост защищает батальон Ковельского полка. Кое-какие укрепления имеются у Неменчина и по реке Видия восточнее города. Что касается танков, то я видел их собственными глазами на городской площади. Танки небольшие, главным образом французской системы «Рено». В городе чувствуется тревожное настроение, говорят о том, что литовские войска движутся по границе в направлении на Троки, что Пилсудский обещал срочно выслать из Лиды и Гродно подкрепления. Вторая дивизия в основном состоит из литовцев и белорусов, только офицеры из поляков. Солдаты не хотят воевать и очень боятся нашей конницы. В этом я сегодня сам убедился, когда увидел в восьми километрах отсюда, как целый батальон сдался в плен. В Вильно распространяются слухи о том, что на город наступает десятитысячная дикая орда в черкесках под командованием Чингис-хана. Вот, товарищ комкор, все, что я сумел узнать.
Я вторично обнял Васю со словами:
— Молодец! Спасибо тебе за ценные и своевременные сведения. За твою смелость после взятия Вильно я тебя представлю к награде орденом Красного Знамени.
Краснея от радости, Вася смущенно, но твердо ответил:
— Рад служить родной Советской Белоруссии!
Смерть героя
Предвидя упорные бои на подступах к Вильно и в самом городе, ровно в 5 часов утра 14 июля я направился в бригаду, обходящую город с северо-запада. Вместе со мною были Титаев, Хачи и Вася. Вначале я не хотел брать Васю с собой, но, уступая его горячей просьбе и думая о том, что он и здесь может быть полезным, захватил его.
В 15—18 километрах от города противник перешел к обороне и начал оказывать сопротивление. Очевидно, генерал Барщук, не желая без боя отдать древнюю столицу Литвы, решил напрячь все свои силы для обороны. Он выбросил на фронт все, что мог, в том числе и необученные, наспех сколоченные добровольческие батальоны, составленные из местного населения. Развернулся ожесточенный бой с переменным успехом.
Во второй половине дня бригада Уединова ворвалась на западную окраину Вильно. Начались уличные бои.
Мой Казбек, весь взмыленный, ретиво догонял головные части. Впереди бригады я увидел громадную фигуру комбрига. Его кабардинская бурка, распахнутая ветром, неслась вместе с ним, как черные крылья, развеваясь вправо и влево. Сзади была видна только папаха да вытянутая вперед рука с обнаженной саблей. Рядом с ним скакали, тоже с обнаженными саблями, командиры полков Смирнов и Балашев.
Подскочив к перекрестку какой-то улицы, мы попали под сильный пулеметный огонь. Стреляли из окна высокого дома. На моих глазах свалились с коней два красноармейца, сраженные вражескими пулями. Одновременно с этим в тридцати шагах впереди меня со страшным треском взорвались брошенные сверху ручные бомбы. Казбек встал на дыбы и перевернулся, я упал с лошади и больно ударился о мостовую. Не медля ни минуты, Титаев подскочил, поднял меня и потащил к воротам дома. Красноармейцы открыли огонь по окнам дома, из которого стреляли.
На мостовой я увидел упавшую лошадь Васи и его самого, неестественно неподвижного. Преодолевая боль, бросился к нему. Дрожащими пальцами приподнял веки его и убедился, что он мертв.
Хачи и Титаев положили тело на землю у ворот. Только теперь я заметил, что вся спина и затылок Васи были изрешечены осколками взорвавшейся бомбы.
...К вечеру, после ожесточенного боя в центре города, на городском бульваре и на южной окраине города поляки окончательно были выбиты из города.
В 19 часов штаб корпуса во главе с Вилумсоном прибыл в Вильно и тотчас же послал по радио командующему Западным фронтом и ЦК Белоруссии следующее донесение:
«Сегодня в 12 часов дня передовые части корпуса ворвались в г. Вильно. После восьмичасового кровопролитного боя под личным руководством комкора г. Вильно взят. 14 июля 1920 года. № 850. Наштакор Вилумсон. Военком Поверман».
Через день, при участии трудящихся города и бойцов корпуса, мы похоронили в городском саду тело Васи.
В последний раз прощаясь с ним, я воткнул в свежий могильный холмик деревянную дощечку с надписью:
ТИШЕ, ГРАЖДАНЕ!
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ТЕЛО ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНЕГО ЮНОШИ —
БЕЛОРУССКОГО КОМСОМОЛЬЦА ВАСИ,
ПАВШЕГО ЗА СВОБОДУ И СЧАСТЬЕ ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ.
В результате удачных боев под Вильно оперативный план контрнаступления, разработанный лично Пилсудским, потерпел фиаско. С этого момента, по словам самого Пилсудского, польские армии неудержимо катились до древних стен Варшавы.
Одиннадцатая армия идет в Баку

Член Коммунистической партии с 1915 года. Партийный организатор и пропагандист в Грузии, Армении, Азербайджане. Активный деятель Бакинской коммуны. С начала марта 1919 года становится во главе большевиков Азербайджана, налаживает работу в подполье, руководит борьбой трудящихся против контрреволюционеров и интервентов. Герой Социалистического Труда.
В марте 1920 года я с группой товарищей прибыл в Петровск. К этому времени, освободив Северный Кавказ, Одиннадцатая армия подошла к самой границе Азербайджана. Командующий армией Михаил Карлович Левандовский подготовил ее к дальнейшим боевым действиям, расположив передовые части по левому берегу реки Самур и сосредоточив здесь отряд бронепоездов...
Желая поскорее попасть в Баку, я обратился к Левандовскому с просьбой помочь мне войти в город с первыми воинскими частями. Он сказал, что первыми в Баку должны вступить бронепоезда. Именно им дано задание прорваться впереди остальных войск в район нефтепромыслов Баку, чтобы помочь бакинским рабочим обеспечить охрану этих жизненно важных объектов. «Поэтому,— сказал мне Левандовский,— если вы хотите попасть в Баку раньше, то вам следует отправиться с этим отрядом». Я попросил Кирова, как члена Реввоенсовета Одиннадцатой армии, дать на это согласие. Он меня поддержал и предложил ехать в качестве политического уполномоченного Реввоенсовета армии...
Выехав из Петровска к месту стоянки бронепоездов, я встретился в районе Дербента с командующим группой бронепоездов Михаилом Григорьевичем Ефремовым и военным комиссаром этой группы Дудиным. Бронепоезд «III Интернационал», на котором находился командный пункт Ефремова, стоял в 200—300 метрах от моста через-пограничную с Азербайджаном реку Самур, маскируясь в лесу. Поэтому с другого берега его не было видно.
Был теплый весенний день, деревья уже покрылись листвой.
Ефремов прочитал приказ командования, подписанный Левандовским. Приказ был очень короткий и необычный. Приказывалось 27 апреля выступить, лихим налетом прорваться в Баку, закрепиться на бакинских нефтепромыслах и, опираясь на поддержку рабочих отрядов, охранять промыслы от возможных поджогов до подхода основных сил Одиннадцатой армии.
— В котором часу мы выступаем? — спросил я Ефремова.
— В приказе назван только день выступления,— ответил он,— а час выступления не указан, а раз не указан, то, значит, нам предоставляется право самим решить этот вопрос.
— Ну и когда же мы выступим?
— Ночью, в пять — десять минут первого. Чем раньше, тем лучше.
Как же был выполнен этот приказ командарма Левандовского?
Мы ознакомились с состоянием готовности бронепоездов, побеседовали с бойцами. Наша разведка донесла, что на противоположном берегу расположен отряд азербайджанских войск и недалеко курсирует блиндированный поезд, командиром которого был офицер-грузин.
Обсудив с Ефремовым обстановку, мы решили попытаться вступить в переговоры с командиром этого поезда, постараться разведать, не заминирован ли мост, где проходят телефонные и телеграфные провода, связывающие караульный отряд моста с соседней станцией.
Мост был ничейным. На одном его конце стоял наш часовой, на другом — азербайджанский. Мы подошли к азербайджанскому часовому и попросили его передать командиру блиндированного поезда нашу просьбу — прийти для беседы с нами на мост. По вызову часового пришел начальник караульного отряда и сказал, что поезд ушел на другую станцию и что поэтому просьбу нашу передать командиру нет возможности. Мы попросили сделать это, когда поезд вернется. Он обещал.
Начальник караула производил впечатление человека, неплохо к нам настроенного, и мы решили рискнуть на большее — попытаться пройти дальше на территорию за мостом.
К нам подошли азербайджанские солдаты. Поздоровались. Чтобы усыпить их бдительность, мы завязали такой разговор:
— Мы пришли к вам в гости. Вот только водки у нас нет — она у нас запрещена. Может быть, у вас есть коньяк?
— Коньяку нет. Но купить можно, деньги только нужны,— ответил начальник караула.
— Значит, если мы дадим вам деньги и завтра в такое же время придем, то выпивка будет?
Я дал им пачку денег, которые мы специально взяли с собой на такой случай (деньги были царские, у нас они никакой ценности не имели, а в Азербайджане шли даже лучше, чем местные)...
Спросили их, как они живут. Нам ответили:
— Если хотите, посмотрите.
Мы пошли к караульному помещению, находившемуся в нескольких метрах за мостом. Тут же были небольшие казармы, на 50—60 человек.
По пути мы с Ефремовым внимательно ко всему присматривались и убедились, что мост не заминирован и что провода связи с тылом проложены вдоль железнодорожной насыпи. Идем, беседуем с азербайджанскими солдатами, ведем себя с ними по-товарищески. Они отвечают нам тем же. По всему было видно, что на азербайджанской стороне весьма мирная обстановка.
Вдруг показалась смена караула. Солдаты идут под музыку. Играет зурна, и бьет барабан.
«Наша вылазка может обернуться плохо,— подумали мы.— Хорошо, если начальник нового караула такой же простой человек, как и солдаты. А если это реакционный офицер,— вдруг возьмет и задержит нас?» Чтобы не вызвать подозрений, мы непринужденно шутили и, раз уж играла музыка, стали даже танцевать. Солдаты стали проявлять к нам все большее расположение.
К счастью, новый начальник караула оказался человеком разговорчивым, покладистым. Все же мы поторопились уйти на свою сторону, опасаясь, что они могут спохватиться и задержать нас. На прощание мы сказали им, что завтра приедем снова — пусть готовят коньяк.
И вот мы снова на нашей стороне моста. Рискованная вылазка закончилась вполне благополучно. Да и узнали мы немало. А если бы нас вдруг задержали да взяли в плен? И через несколько часов нам предстояло выступать. Но все хорошо, что хорошо кончается.
Не прошло и двух-трех часов, как нам докладывают, что командир поезда азербайджанцев прибыл на встречу с нами.
Мы вышли на середину моста. Сюда подошел и командир их поезда, человек высокого роста, постарше Ефремова, с усами, глубоким шрамом на лице, чуть полный, но бравый. Вел он себя строго, официально. Познакомились. Он отрекомендовался штабс-капитаном царской армии Лордкипанидзе. Стремясь ослабить его настороженность, расположить его к себе и к тому же узнать, что он за человек, мы в ходе разговора сказали ему:
— ...Вы штабс-капитан царской армии, опытный командир, если бы служили у нас, то получили командование дивизией, так как у нас офицеров мало. Переходите, мы охотно вас примем.
До этого офицер был спокоен, говорил сдержанно. Но, услышав наше предложение, повысил голос:
— Как вы можете мне это предлагать? Чтобы я, дворянин Кутаисской губернии, офицер русской армии, получивший ранение на войне,— он показал шрам на лице,— перешел на сторону большевиков? Этому не бывать!
— Что вас так разволновало, штабс-капитан? У нас много офицеров, которые раньше были в царской армии, а теперь служат у нас.
— Нет и нет,— ответил он.
— Как хотите, дело добровольное.
Расстались мы все-таки мирно.
...Ночь на 27 апреля. Погода стояла теплая, тихая, ярко светила луна.
Ефремов провел беседу с командирами бронепоездов, дал им необходимые указания. В половине двенадцатого устроили митинг экипажей бронепоездов и десантного отряда. Митинг открыл Ефремов. Он разъяснил оперативную задачу, поставленную командованием армии перед бронепоездами. Его выступление заняло не больше пяти — семи минут. Столь же кратко мною было разъяснено политическое значение нашего выступления...
Красноармейцы заняли свои места в вагонах. Мы с Ефремовым находились на орудийной площадке бронепоезда. Впереди поезда была прицеплена платформа, на которой стояли два заранее проинструктированных красноармейца.
Ефремов держал часы в руках, и ровно в ноль часов десять минут он приказал начать движение.
Двигались тихо, осторожно, чтобы не быть преждевременно обнаруженными. Въехали на мост, подходим к азербайджанскому посту. Там ничего не понимают...
— Что происходит? — спрашивают.
— Едем в Баку. Хотите, поедемте с нами,— отвечаем им.
Тем временем два красноармейца соскочили с передней платформы, осмотрели места, которые им указал Ефремов, перерезали телефонные и телеграфные провода, идущие от караульного помещения к станции Ялома.
Выслушав рапорт красноармейцев о выполнении задания, Ефремов громко скомандовал:
— Десантному отряду высадиться!
Азербайджанские солдаты разбежались. Кто-то из них открыл огонь, но вспыхнувшая было стрельба быстро прекратилась. Минут через пятнадцать бронепоезд пошел вперед.
По данным разведки, слева по ходу поезда, недалеко от станции Ялома, в лесу, был расположен отряд жандармерии. Чтобы его обезвредить, высадили десант с заданием пробраться лесом к казармам и окружить жандармов. Наши орудия сделали несколько выстрелов по казармам. Произошли короткие стычки, жандармы разбежались. Десантный отряд, состоявший из латышских стрелков, потерял при этом троих убитыми, несколько человек было ранено.
Но возникла новая опасность. На путях у станции Ялома стоял паровоз под парами. Ефремов высказал опасение, что его могут пустить нам навстречу, чтобы столкнуть с нашим бронепоездом и сорвать операцию. Он дал команду ударить по передним колесам паровоза. У нас были хорошие артиллеристы: уже третий снаряд попал прямо в цель, и паровоз уткнулся в землю.
Подъехали к станции. Никого нет. Ефремов и я сошли с бронепоезда с карабинами на плечах. Я хотел войти в здание вокзала, но Ефремов остановил меня.
— Нет, так не делают,— сказал он и, вытащив для предосторожности гранату, открыл дверь.
Вошли. В зале никого. Открываем дверь в соседний зал и видим: за столами, стульями спрятались человек пятнадцать железнодорожников и несколько пассажиров. Железнодорожники там были в большинстве русские. Обращаемся к ним:
— Почему прячетесь? Вы что, против Советской власти?
— Нет,— говорят.
— Красная Армия идет, железнодорожники должны быть на местах.
Среди присутствовавших был толстый азербайджанец в форме чиновника лесничества. Он очень волновался и спросил, может ли он уйти в свой служебный вагон. Ему, конечно, разрешили: мы стремились создать атмосферу мирного похода, а не военной обстановки.
Поговорив с железнодорожниками, поручили им поддерживать полный порядок на станции Ялома. Оставили там двух красноармейцев.
Когда уже рассвело и наступил день, мы с движущегося поезда видели, как по обеим сторонам железнодорожного полотна крестьяне обрабатывают свои поля, пашут, сеют. Поезд наш шел с поднятым красным стягом. Крестьяне неизменно приветствовали нас возгласами и поднятием рук. Мы восклицали в ответ: «Да здравствует Советский Азербайджан!», «Да здравствует дружба между азербайджанским и русским народами!».
У станции Худат дал о себе знать блиндированный поезд Лордкипанидзе. Из-за холма он открыл огонь по нашему бронепоезду, но стрелял неметко — не было ни одного попадания. Мы не отвечали: видимости цели не было, расходовать снаряды понапрасну не хотели.
Двигались осторожно, опасаясь, не минирована ли дорога. Вражеский поезд продолжал стрелять, уходя все дальше. Вскоре он вообще скрылся. На станции Худат я вызвал по телефону соседнюю станцию, спросил, не находится ли там азербайджанский блиндированный поезд и его командир Лордкипанидзе. Через некоторое время к телефону подошел Лордкипанидзе. На наше предложение перейти на сторону Красной Армии он снова ответил категорическим отказом.
Подходя к станции Хачмас, мы увидели, что большой отряд рабочих ремонтирует поврежденное железнодорожное полотно. Нас глубоко тронула и обрадовала забота рабочих о продвижении Красной Армии. Мы получили возможность продолжать путь без задержек. По прибытии нашего поезда на станции возник митинг с участием всех, кто там был. Говорили о значении установления Советской власти, о дружбе народов, о необходимости соблюдать полный порядок.
Вдруг кто-то со слезами радости на глазах бросается ко мне на шею. Узнаю бакинского коммуниста Перевердиева, с которым вместе работали в подполье. Обнялись. Помню, я сказал ему, что сейчас не время для слез, что нужно работать. Его тут же, на митинге, объявили председателем ревкома Хачмаса.
Подходим к станции Сумгаит. Ефремов регулярно посылал с дороги донесение Левандовскому о нашем продвижении. Командование знало, где мы находимся, и, видимо, было довольно нашими действиями. Неожиданно в Сумгаите мы получили телеграмму Левандовского о том, что бронепоезд «III Интернационал» далеко оторвался от основных частей, что есть угроза его уничтожения, поэтому нужно несколько отойти назад и держаться ближе к своим войскам.
Телеграмма была неприятной. Мы не понимали, чем вызвано изменение прежнего приказа, какая информация могла послужить поводом для этого. Никакой другой причины, кроме предосторожности, мы себе не могли представить. Стали обсуждать создавшееся положение. Если двинемся назад, противник подумает, что мы отступаем, и может разрушить железнодорожное полотно. Как поступить? Ответили Левандовскому, что находимся в Сумгаите и, следовательно, прибрежный участок железной дороги уже прошли. В случае нашего отхода Каспийская флотилия мусаватского правительства может расстрелять нас с моря. А ведь эту опасность мы уже миновали. Считаем, писали мы в завершение донесения, что теперь двигаться вспять уже невозможно, а надо продолжать выполнять приказ и прорываться в Баку... Так как указание о нашем отходе было изложено Левандовским не в очень строгом тоне, мы решили, не ожидая ответа на нашу телеграмму, двинуться дальше.
...Когда мы подходили к Баладжарам [Баладжары - узловая железнодорожная станция, от которой отходит тупиковая линия на Баку.], уже стемнело. По нашему поезду был открыт артиллерийский огонь. Ефремов приказал десантному отряду высадиться и продвигаться вдоль железной дороги по обеим сторонам бронепоезда. Впереди поезда шли несколько красноармейцев и проверяли, не минирован ли путь. Поезд шел медленно и в полночь прибыл в Баладжары...
Ночью из Баку мне позвонил Камо и сообщил, что наши товарищи предложили азербайджанскому правительству под угрозой восстания мирно сдать власть коммунистам. Те, видя боевое настроение бакинских рабочих, а также узнав о занятии Баладжар нашим бронепоездом и общем подходе частей Красной Армии, решили выполнить это требование. В ночь на 28 апреля они освободили из тюрьмы всех арестованных большевиков и сдали власть. Попросту говоря, разбежались...
Обрадованный этим сообщением, я заявил Камо, что мы немедленно выезжаем и рано утром будем в Баку... Поезд двинулся вперед. Шел он медленно: боялись, не заминировано ли полотно железной дороги.
К 6 часам утра 28 апреля наш бронепоезд благополучно прибыл на Бакинский вокзал. Встречал нас Камо. Вместе с ним поехали на автомашине к зданию азербайджанского парламента, где уже несколько часов заседали члены Военно-революционного комитета ЦК компартии Азербайджана.
30 апреля в Баку начали входить части Одиннадцатой армии. До этого в течение двух дней наш бронепоезд «III Интернационал» был единственной воинской частью в Баку. Остальные войска были на подходе.
В город прибыли Орджоникидзе, Киров, Левандовский, Мехоношин. Они посетили стоянку нашего бронепоезда, чтобы поздравить красноармейцев с успешным рейдом. Орджоникидзе вручил Ефремову орден Красного Знамени.
Вспоминаю, что награждению Ефремова мы все радовались не меньше, чем он сам. Тогда редко кому вручался орден Красного Знамени, единственный тогда боевой орден. Это было признанием больших заслуг Ефремова как красного командира.
Всего два-три дня, проведенные вместе с Ефремовым, оставили глубокий след в моем сознании. Бывают в борьбе, в жизни такие моменты, когда за несколько дней узнаешь человека лучше, чем иногда за много лет совместной работы. Я проникся глубоким уважением и товарищеской любовью к этому ранее незнакомому мне человеку, обаятельному в обращении с людьми, бесстрашному в бою, спокойному и решительному, внушающему к себе доверие товарищей и подчиненных. Таким навсегда остался в моей памяти этот командир-герой [Впоследствии Михаил Григорьевич Ефремов стал командующим Орловским военным округом. С началом Великой Отечественной войны командовал армией. Погиб при организации прорыва вражеского фронта на западе от Москвы. В Вязьме ему поставлен памятник.].
Как нам стало потом известно, после прихода Красной Армии в Азербайджан начали возрастать повстанческие настроения в Александрополе (ныне Ленинакан) — крупнейшем партийном центре Армении. Под давлением масс Александропольский горком партии попросил разрешения Арменкома начать организованное восстание для свержения дашнакского правительства. 10 мая в Александрополе Военно-революционный комитет провозгласил Советскую власть в Армении.
В тот же день знамя восстания было поднято в Карсе. Затем в Сарыкамыше, Кавтарлу, Нор-Баязете, Шамшадине, в Идживане. Потом оно перекинулось и в Зангезур. Во всех этих местах революционные комитеты объявили об установлении Советской власти в Армении. Обо всем этом армянские коммунисты сообщили в Баку и Кавбюро ЦК с большим опозданием. Поэтому мы этого вопроса в Баку не обсуждали и никакого плана помощи повстанцам, естественно, не имели...
Вскоре к нам поступило печальное сообщение о том, что повстанцы через три дня в Александрополе, а затем и в других районах были разбиты, многие участники восстания были арестованы, одиннадцать же руководителей, в том числе Алавердян, Мусаелян, Гарибджанян, Гукасян, как мы узнали позже, расстреляны...
Майское восстание в Армении хотя и кончилось поражением, но явилось историческим событием в борьбе за свержение антинародного правительства дашнаков, установление Советской власти в Армении и соединение ее с Советской Россией. Это восстание было массовым, что говорило о нарастании социалистической революции в Армении. Оно оказало большое влияние на трудящихся Армении. Поражение этого восстания подготовило победоносное восстание в ноябре того же года во всей Армении.
29 ноября Армения была провозглашена Советской Социалистической Республикой.
28 февраля 1921 года была провозглашена Грузинская Советская Социалистическая Республика.
Все Закавказье стало советским.

Поединок

Член Коммунистической партии с 1917 года. Начальник дивизии на Южном фронте в боях против Деникина; командующий армиями и группой войск в боях против Врангеля; один из организаторов разгрома Махно и других бандитских отрядов на Украине. Художественный рассказ «Поединок» написан на подлинном материале.
Наша Тринадцатая дивизия сидела в окопах. И был командиром батареи в Первом легком артиллерийском дивизионе и, кажется, единственным латышом во всей дивизии. По крайней мере, по-латышски мне удалось поговорить только тогда, когда на соседнем участке разместились латышские стрелки.
В латышской стрелковой дивизии я нашел друга детства — Яниса Зедыня. Он тоже был в артиллерии, но рядовым и дружески подшучивал надо мною, что я — начальство. Но об этом человеке я расскажу дальше.
Наша дивизия стояла в середине участка. Слева были сибирские стрелки, а справа, как я уже сказал, латышские. Днепр огромной дугой огибал нас с тыла. Наш берег, изрытый в то лето окопами, снарядами, истоптанный копытами лошадей, грустно чернел. Но по ту сторону реки далеко расстилался зеленый, не тронутый косарем простор. Только изредка проезжала по нему разведка да разгуливал на воле ветер. В сырых местах росла предательски высокая трава. Над озерами колыхался камыш. Когда смолкали орудия и винтовки, вдали слышалось кряканье уток.
Тогда во мне мучительно пробуждался инстинкт старого охотника...
У Днепра большое экономическое будущее. О нем может с таким воодушевлением говорить профессор экономики, как о красоте Днепра говорил Гоголь. Но я никогда не буду восторгаться им. Я могу говорить о нем только холодно, по-книжному, воодушевленный Гоголем. Я ведь знаю, что самая прекрасная и хорошая река может опротиветь, если во время боев она у тебя в тылу — враждебная, жадная, хитрая, а впереди неприятель, который с удовольствием утопил бы тебя в ней, как весной топят котят. А неприятель сильный... С землей Советов соединял нас один-единственный понтонный мост, по которому орудия и повозки могли проходить только в одиночку. Тяжести людей, скрытых в окопах, он бы не вынес, и думать об отступлении мы не могли. В случае неудачи нас ожидало одно — смерть...
Наверно, река была причиной тому, что слухи о танках, привезенных белыми из Франции, ползли из взвода во взвод, из роты в роту, пугающие, как сами танки. Казалось, уже слышался ужасающий грохот броневых щитов. О танках мы знали мало. Никто из товарищей, с которыми я говорил, не видел танка ни в действительности, ни на картине. Нам всем он рисовался огромным, жутким чудовищем...
О страшных, полных чудес свойствах танков распускали слухи сами белые. Во всяком случае, теперь я в этом уверен. Слухи эти были часто противоречивые и просто неправдоподобные, вроде того, что и реки и горы танку нипочем, а огромные дома он ломает в щепки. Трудно, конечно, поверить тому, что такой, очевидно, тяжелый предмет, как танк, может легко плавать. Но тогда мы верили всему, даже бессилию тяжелых орудий перед этим металлическим чудовищем.
Что мы могли сделать? У нас были винтовки, достаточно охрипшие в гражданскую войну, и орудия, уставшие от битв. У нас были адски выносливые ноги и желудки, адски (простите мне это выражение) хладнокровные головы и адски горячие сердца. Поэтому мы не ушли из окопов.
В конце августа меня вызвали в штаб, руководивший всеми тремя дивизиями. Я взял с собой мешок со всем своим имуществом и на всякий случай простился с товарищами. Простился с ними и с окопами с чувством боли и легко двинулся в путь. Ноги мои привыкли к походам, мешок за спиной был легкий.
В штаб к начальнику артиллерии вызвали еще четверых командиров батарей, всех мне знакомых. Жили мы на этом узком участке дружно и общительно. Они, как и я, гадали, зачем нас могли вызвать.
Уж не пошлют ли нас куда-нибудь учиться?
Мы не хотим. Мы будем протестовать. Пусть учатся те, кому нравится сидеть в тылу. Черт возьми, мы же бойцы!
Наши разговоры смолкли лишь тогда, когда в комнату, звеня шпорами, вошел начальник артиллерийской группы.
Мы встали. И тут я заметил, что с начальником артиллерии вошел еще один человек. Сомнений не могло быть. Это был командующий. До сих пор мне не удавалось его видеть — он командовал соседней дивизией.
Командующий показался мне родным и близким, как его и представляли мы в окопах. Я много слышал об этом замечательном человеке... Я знал — в трудные минуты он всегда появлялся среди солдат. Бесстрашный, спокойный, ходил он среди сражавшихся и спокойно всем распоряжался, как хороший хозяин в поле.
Он так же просто был одет в серое, как в те годы были одеты мы все. Он ел то, что и мы, так же почернел от порохового дыма и так же легко шел навстречу новым боям, как и мы. Все свое имущество носил он в легком мешке за спиной. (Начальник артиллерии — мы знали — возил с собой тяжелый кованый сундук и походную кровать.) Белые холщовые крестьянские брюки были заложены в высокие сапоги, порыжелые от времени и не доходившие до колен. Бородатый, огромный, грузный, командующий был полной противоположностью начальнику артиллерии — нервному, подвижному, всегда чисто выбритому, носившему синие офицерские галифе и чистенький китель со следами снятых погон.
Начальник группы пододвинул командующему стул, и мне показалось, что у этого крестьянина, брошенного революцией к берегам Днепра, мелькнула на лице улыбка.
— Товарищи, я вас вызвал сюда, чтобы услышать откровенный ответ на мой вопрос.
Командующий говорил просто и спокойно: так говорят о самых простых вещах. Он говорил о танках. Сказал, что подробные указания даст начальник артиллерии (тот приподнялся со стула и звякнул шпорами). Каждому из нас доверяет орудие для поединка с танком. Обычная трехдюймовка. Мы должны подпустить к себе танк на расстояние в несколько сот шагов и тогда его обстрелять. Тут нужна выдержка. И самоотверженность. Готовность к смерти. Каждый может выбрать себе товарищей по обслуживанию орудия из любой роты. Я при этом невольно подумал о своем друге Янисе Зедыне.
— Я никого не неволю, хочу только услышать ваш откровенный ответ, согласны вы или не согласны? Тут не может быть колебания. Ведь решается вопрос о тысячах других жизней.
Я взглянул на своих товарищей. Все были серьезны и спокойны.
— Да!
— Да!
— Да!
— Да!
Четыре «да» стройно встали в ряд и штурмовали сомнения командующего.
Командующий улыбнулся. Рукопожатие было крепкое, ласковое.
Днем иногда появлялись аэропланы. С назойливым любопытством кружили они над нашими окопами. Неутомимо и зорко следили за нашими батареями, как выслеживает коршун зазевавшегося цыпленка. А в общем, белые держались пассивно. Изредка проснутся одиночные выстрелы и быстро стихнут.
Армия, сидя в окопах, зарывалась все глубже в землю. Работала только разведка.
Днем было удушливо жарко. Солнце раскаленным утюгом скользило по выгоревшей степи. Но вечера приносили приятную прохладу с легкой дымкой тумана и звездной метелью.
Мы, четверо, скучали.
Днем, когда летали аэропланы, мы сидели в шалашах, сплетенных из веток и степной травы, чтобы белые коршуны не увидели нас сверху. Но ночью мы могли спокойно любоваться звездным небом и смотреть, как огненная рука прожектора ощупывает звезды и степь.
Я забыл уже наши разговоры. Да мы и мало говорили, за исключением Вани Петрова. Это был жизнерадостный парнишка. Фуражка его постоянно сползала на затылок, а живые глаза искрились веселым смехом. Петров умел рассказывать анекдоты, и мы прямо хватались за бока от хохота.
По вечерам мы с Янисом Зедынем частенько вспоминали о прежних хозяевах, о девушках, которых любили, и о многом другом из своей батрацкой жизни.
— Теперь в Прибалтике здорово холодно по вечерам.
- Да.
— Я думаю, что Давид Калнынь скоро начнет убирать свой картофель. Эх, поесть бы печеной в золе картошки!
Давид Калнынь кормил своих батраков картошкой. С утра — со снятым молоком. В обед — с простоквашей. Вечером — с тощей селедкой. Давида Калныня, у которого мы батрачили, мы не могли забыть и в далекой южной степи.
Янис Зедынь любил поесть. Он спокойно продолжал жевать, когда аэропланы белых бросали свинец. Ел неторопливо, ворочая сильными скулами.
— Ты, Петерис, давишься, как индюк... Схватишь какую-нибудь болезнь желудка,— всегда подшучивал он надо мной.
— Янис, стоит ли думать о таком пустяке, как болезнь желудка, когда кругом сыплются пули? Нам, батракам, набивавшим желудки хозяйской картошкой, теперь уже ничто не повредит.
Янис Зедынь был человек организованный. После еды он долго и старательно чистил свой складной нож. По утрам, делая гимнастику (это тоже вошло в его жизненную систему), он подбрасывал снаряды легко, как игрушки.
— Ты стал мягкотелым, Петерис, надо тебе заняться гимнастикой,— бранил он меня.
Его учеником и компаньоном по гимнастике стал наш четвертый товарищ, мадьяр, бывший военнопленный. Я уже забыл, как его звали. Он был из нашей батареи и сам вызвался мне в помощники. Я взял его еще и потому, что он видел немецкие танки и кое-что в них смыслил.
Зедынь учил его приемам гимнастики. Мадьяр, уже немолодой, седеющий, высокий и худой, очень старался подражать Зедыню, так как, по его словам, чувствовал себя после гимнастики здоровее.
— Погляди, какие у меня бицепсы. Бугры! У тебя тоже такие разовьются,— хвастал Зедынь, ощупывая свои мышцы.
Мадьяр был дряблый, но с удивительным старанием проделывал все, чему его учил Зедынь. Наблюдая за ними, Баня Петров сочинял новые анекдоты, над которыми сам смеялся больше других.
Иногда мадьяр рассказывал нам о своей стране. Он был когда-то учителем. Потом его призвали на военную службу. Сочувствовал социал-демократам.
Кричал «ура» императору и социализму. Потом попал в плен к русским. Дождался Октябрьской революции — социализма без царя. Теперь в Красной Армии борется с остатками контрреволюции, чтобы потом вернуться домой, в Венгрию, и бороться там за мировую революцию.
Такими были мы. И так текли наши дни, когда мы ждали наступления.
Кузнечики трещали с такой беззаботной радостью, что часто нам казалось — мы просто выехали в поле... Странная вещь — война! В особенности война с повседневностью, с которой человек сжился.
С вечера мы уже знали, что ночью надо ждать наступления, в котором примут участие танки. Эти сведения принес разведчик.
Начальник артиллерии еще раз проверил по телефону мою боевую готовность. Он любил держать связь с фронтом по телефонным проводам.
Последним его приказанием было:
— Ни в коем случае не бросать орудия. Подпустить танк возможно ближе. Не отступать, если даже из окопов отступят стрелки (стрелкам начальник артиллерии не верил). И главное, не бояться, когда станут палить из орудий. Все строго рассчитано. Ваши орудия в таком секторе, который не будет подвергаться непосредственно обстрелу своей артиллерии.
Признаться, я почувствовал глубокое уважение к авторитету начальника артиллерии. Он умел так тонко рассчитывать. По телефонному проводу он был безжалостен и непобедим.
Вечер был туманный. Туман поднимался с Днепра, подползал быстро, закрывая слепящей пеленой окопы и горизонт.
Где-то затрещал пулемет и смолк. Степь насторожилась. В тумане загремели колеса. Рассыпая искры, от окопов возвращались походные кухни.
Придут ли?
Ваня Петров рассказывал анекдоты. Но в тот вечер смеялись только его глаза. Мы все ждали, превратившись в слух и слившись с настороженной туманной тишиной.
Снова пулемет. Но уже трещит, не смолкая,— минуту, две, три, еще и еще... Трещит, задыхаясь (должно быть, глотает новую ленту), трещит, испуганный тревогой. Скоро к нему присоединились винтовки. Потом прогремел выстрел из тяжелого орудия. Над нашими головами пролетел и разорвался первый снаряд. В тумане, как в клубах пара, закипал бой, приближаясь со стремительной быстротой. По-видимому, стреляли и белые. За нами рвались снаряды.
Телефон перестал работать.
Где-то в надежной паутине проводов сидел осторожный начальник артиллерии. Ваню Петрова я послал в окопы узнать, что там происходит. Мы ждали его с нетерпением. Уж не заблудился ли он в тумане?
Вдруг из тумана выросли два всадника. Очертания фигур расплылись в тумане, и лошади казались невероятно огромными. Взмыленные кони тяжело храпели, белая пена летела клочьями. Всадники почти лежали на крупе.
Одним из всадников оказался командующий.
— Товарищ Гайгал, сейчас идут в наступление танки. По сведениям разведки, они взяли направление на ваш сектор. Примите их как должно.
— Будет исполнено!
— Ну, не дрогнули ли сердца?
— Нет, товарищ командующий!
— Всего хорошего!
— Будьте покойны, товарищ командующий!
Он ускакал к окопам. Мы остались в степи.
Вскоре вернулся и Ваня Петров.
— Все хорошо. Белые пытались подползти к проволочному заграждению, но отбиты с большими потерями.
Голос Вани дрожал от волнения.
— Почему так долго ходил?
— Расстрелял одну пулеметную ленту.
Но что это? Снаряды посыпались совсем близко от нас? Странно, казалось, что стреляют наши орудия. Разве наши отступили? Влево или вправо?.. Не может быть, мы заметили бы цепи перебегавших, несмотря на туман.
Впереди по-прежнему строчили пулеметы, трещали винтовки и грохотали орудия. Значит, дивизия там. Окопы не сдаются.
(Позже я узнал, что наши остались в окопах даже тогда, когда через окопы поползли танки, и открыли неожиданно огонь по белым, наступавшим под прикрытием танков.)
Мы сидели в тумане и ждали. Где-то вблизи заработал мотор. Уж не автомобиль ли командующего? Не решил ли командующий, как всегда, смело объехать на автомобиле позиции, несмотря на перестрелку?
Мы ничего не понимали и, признаться, о танке пока не думали. Совсем неожиданно для нас, бросая в туман панические вопли: «Танк, танк!» — проскакали мимо санитарные повозки (перевязочный пункт был рядом). Над повозками и над нашими головами засвистели снаряды. Где-то близко затрещал пулемет. И совсем уже рядом громко заработал мотор. Танк!
В каком направлении он движется?
Ваня Петров со смеющимися глазами снова пошел в разведку.
Снаряды соседних батарей рвались очень близко. Танк, вероятно, был недалеко и двигался не торопясь, точно нащупывая в тумане дорогу.
Петров скоро вернулся бегом.
— Танк! — вскрикнул он, запыхавшись, и показал рукой.— Танк там!
И вдруг упал с еще протянутой рукой.
— Ваня, что с тобой?!
— Ранен...
— Ваня!
— Ваня!
Он не отвечал. Ваня Петров ошибся — он был не ранен, он был убит.
Мы выстрелили в том направлении, куда показывал Ваня.
В том секторе, где был танк, все время рвались снаряды. Посыпались и наши. Но танк продолжал работать. Мы все время слышали беспокойный пульс его металлического сердца. Танк приближался медленно, обдуманно, часто останавливаясь, как бы лавируя между выстрелами. После каждого выстрела мы прислушивались — сердце-мотор все работало. Во мне росла злость от своего бессилия. Скорей, скорей!
— Янис, давай же снаряд! Заснул, что ли, Янис?
Янис в самом деле заснул... Заснул, прислонившись к колесу артиллерийской повозки... Изо рта его теклакрасная струйка...
Я его оттолкнул от повозки. Тогда нам некогда было думать о смерти и уважении к мертвым. Янис Зедынь был тяжелый, как те кули, которые мы с ним когда-то таскали осенью в хозяйский амбар.
Я не умел поднимать снаряды, как это делал Янис Зедынь. Но в ту ночь я подымал их, не чувствуя тяжести. Черт его знает, откуда сила бралась!
Но один снаряд застрял в орудии без выстрела — мадьяр не мог выстрелить, он корчился на земле, тяжело хрипя.
— Я сейчас... я сейчас... встану...
Мне некогда было ждать. Я выстрелил сам. Я остался один. Сам подавал снаряды, сам заряжал, сам стрелял, сам целился. Пули свистали вокруг. Жаркая ночь была, ну и потел же я тогда!
Как долго это еще продлится? Казалось, танк никогда не выползет из тумана.
Наконец выплыл он совсем близко из белой мглы — огромный, темный, выплевывая огонь. Он остановился в каких-нибудь тридцати шагах от меня, как будто нерешительно ощупывая дорогу и точно собираясь вернуться назад.
И тогда я выстрелил. Я выстрелил — и упал. Но, падая, видел, как подпрыгнул кверху танк, и слышал, как затрещали его кости, как он застонал. Мотор смолк. Из танка взвился кверху огненный столб. Два человека выскочили из него и, отстреливаясь из ручного пулемета, побежали в туман. Я погнался за ними. Махал своим револьвером с единственной оставшейся пулей и кричал: «Ур-ра!» Я хотел их поймать. Их пули испуганно летали мимо меня. Внезапно жгучая боль ожгла мне ногу. Я запнулся в траве. Упал и все же кричал свое безумное «ур-ра!».
Проснулся я в лазарете. Долго, должно быть, я спал. Голова тяжелая, пустая. Яркое солнце неслышно скользило по стенам. Но холодный пот выступал у меня капельками на лбу. И я подумал, что уже осень. Почему же я в лазарете? Да ведь меня ранили. Ведь у меня болит нога. Я ясно чувствовал, как горят от боли пальцы и колено. Значит, я ранен легко.
Мне хотелось говорить, но мне запретили. Сестра, милая, внимательная, двигалась тихой тенью, неслышно скользя по комнате, как солнце.
Я вдруг вспомнил Яниса Зедыня. Вспомнил, как мы ели с ним печеную в костре румяную картошку и дымящуюся на обеннем воздухе горячую кашу.
— Дайте есть! Есть!
Я почувствовал острый голод. Разве я так давно не ел?
Сестра начала давать мне с ложечки какую-то кислую жидкость. Я чувствовал, как она проходила холодной струйкой в желудок,— у меня, вероятно, был сильный жар. И вдруг рука сестры стала пухнуть, навалилась на меня тяжелой горой. Задыхаясь, я хотел кричать и не мог. И снова потерял сознание. Очнувшись от бреда, я увидел, что доктор сидит на моей кровати, держит мою руку в своей и внимательно смотрит поверх очков на меня.
— Как вы себя чувствуете?
— Хочу есть!
— Сегодня вам дадут бульона.
— Скоро заживет моя нога?
— Все страшное позади.
Он глядел куда-то в сторону.
— Кризис вы хорошо перенесли... Вам сейчас лучше поменьше говорить и меньше думать,— прибавил он тихо.
Мне было хорошо. Я чувствовал свою больную ногу, тяжесть в ней и тепло. Больше того, я чувствовал свои пальцы и смеялся.
— Ну? — улыбнулся доктор.
— Я чувствую свои пальцы на ноге. Я их чувствую лучше, чем пальцы на руках.
Доктор опустил голову. Он взял мою руку и сказал:
- Бросьте вы думать о своей болезни. Скоро вы совсем выздоровеете.
Когда я попытался приподняться на кровати, он ворчливо уложил меня на подушку. А я чувствовал себя хорошо, и так хотелось погулять по комнатам.
В тот же день меня навестил командующий. Пришел такой знакомый, большой, бородатый, в коротких сапогах. За ним вошел, позвякивая шпорами, начальник артиллерии, чистенький, выбритый, румяный.
Командующий неловко взял мою руку.
— Товарищ Гайгал, я пришел сказать вам, что Революционный совет наградил вас орденом Красного Знамени.
Огромные красные руки неловко прикрепили к моей рубашке орден. Я был счастлив и горд.
— Товарищ командующий, у меня к вам просьба. Хочу вернуться обязательно в свою дивизию.
Борода командующего расплылась в широкой улыбке.
— Хорошо, хорошо... Увидим... Видите, Андрей Петрович, какие у нас хорошие ребята — с одной ногой хотят воевать.
— Как? С одной ногой?
Доктор не успел положить меня обратно на подушку — так стремительно я сел и отбросил одеяло. У меня одна нога, вместо другой — забинтованный обрубок! Я — калека...
Товарищи, я не умею плакать. Но тогда я тихо заплакал, кусая до крови губы. Не мог сдержать своих слез. Горячими каплями падали они мне на щеки, на руку командующего.
— Успокойся... Это ничего... Мы тебе сделаем хорошую искусственную ногу, ты и не почувствуешь своей потери... Друг мой... Милый мой, хороший...
Теплая ласка была в его словах. Я невольно улыбнулся сквозь слезы.
— Ну, вот видишь... Воин должен ко всему привыкать.
Мне стало стыдно за свою слабость, за слезы. За то, что эти слезы видел не только командующий, но и начальник артиллерии. Я смеялся и плакал...
— Успокойся... Будь же солдатом, товарищ Гайгал!
Слезы меня успокоили и принесли сон. Он наклонился надо мной в мягкой пуховой фуфайке и щекотал бородой, так похожей на бороду командующего.
За все время, пока я лежал, мне так и не удалось поглядеть на себя в зеркало. Только когда я начал ходить (наши в то время были уже в Крыму), увидел свое отражение в зеркале. Я поседел.
К своей ноге я привык. Привык и к седым волосам. А сердце мое все такое же, как и тогда, когда я вместе со своим орудием колесил по дорогам вселенной... Думаю, что еще смогу бороться с танками...
Вы спрашиваете о командующем? Он погиб под Перекопом. В самую опасную минуту, когда огненный вихрь ломал в степи наши ряды, командующий шел впереди. Он гордо и не сгибаясь нес свою желтую бороду навстречу Перекопскому валу, а за ним, шагая через трупы, шла армия — оборванная, серая и непобедимая,— наша. Командующий остался на Перекопском валу, у ворот в Крым. Но то новое, что на своем гребне подняло его над простором таврических степей, шло вперед бурным весенним потоком, переливаясь через вал.
Я хотел рассказать о танках, а рассказал о людях и... любви. И мне кажется, что в битвах будущего победят лишь те танки, которыми управляют люди, сильные своей ненавистью и любовью.
Случай в Решетиловке

Член Коммунистической партии с мая 1917 года. Командовал бригадой Чапаевской дивизии, а после гибели Чапаева и самой дивизией.
В первых числах июня 1921 года я сдал зачеты за первый курс военной академии. Написал товарищу Фрунзе, что желаю принять участие в борьбе с бандитизмом, и через несколько дней, получив разрешение, выехал в Харьков.
На Харьковском вокзале узнал, что вагон Фрунзе прицеплен к бронепоезду. Михаил Васильевич принял меня и предложил располагаться в соседнем купе.
Бронепоезд, мерно постукивая колесами, шел на юг по направлению к Синельникову без всяких задержек, как курьерский. На больших станциях останавливались лишь на несколько минут. Михаил Васильевич говорил по прямому проводу то с командирами дивизий, то с разными уездными председателями ГПУ. Весь разговор сводился к налетам Махно.
Из Синельникова поезд пошел на Кременчуг, затем на Лубны и далее на Ромны. Деятельность подвижного штаба на протяжении этой дороги была однообразна: оперсводки, или, как их тогда называли, «бандсводки», доклады, приказания... Несколько раз приезжал помощник Фрунзе по борьбе с бандитизмом Р. П. Эйдеман. В глухую темную ночь, окончив доклад, Эйдеман садился в машину и снова спешил к своим истребительным отрядам. В то время ездить ночью на Украине было крайне опасно.
Фрунзе не раз оставлял его ночевать в бронепоезде, но Эйдеман всегда решительно отказывался.
Наше путешествие на бронепоезде и автомобиле в этом ромбе: Харьков — Синельниково — Кременчуг — Конотоп — продолжалось около месяца. Фрунзе был очень недоволен, что ликвидация банды затягивалась.
Однажды часов в шесть утра на станцию Решетиловка прибыл на автомобиле Эйдеман, весьма возбужденный, с печальной вестью, что махновцы опять вырвались из района станции Ромны. Разбудили Михаила Васильевича (он всю ночь не спал, ждал результатов этого окружения и заснул только на рассвете). Доклад и совещание длились не более двадцати минут. Решили, что Махно находится где-то поблизости. Эйдеман поехал по большаку в село Решетиловку.
В восемь часов Михаил Васильевич приказал, чтобы четыре верховые лошади были готовы. Через десять минут Фрунзе вышел с маузером через плечо. Я спросил:
— Куда едем?
— Поедем просто на Решетиловку.
Я выразил опасение, как бы не нарваться на банду.
Фрунзе молча на меня посмотрел и сказал, чтоб ординарец и адъютант взяли карабины.
Было тихое, ясное украинское утро. Кругом радостно зеленели засеянные поля. Ночная роса и небольшой дождик прибили дорожную пыль. Около пятнадцати минут мы молча шли галопом, потом перевели коней в шаг. У Михаила Васильевича настроение улучшилось, вероятно, под влиянием свежего утра и верховой езды.
Незаметно выехали на бугор, с которого хорошо была видна Решетиловка. В это время из местечка послышалась беспорядочная ружейно-пулеметная стрельба, а через несколько минут все стихло. Впоследствии выяснилось, что банда Махно окружила в одном из дворов местечка автомобиль Эйдемана. Ему удалось благополучно, хотя и на пробитой машине, отбиться и присоединиться к истребительному отряду.
Когда услышали стрельбу, Фрунзе сказал: «Нужно поторопиться». Мы подняли лошадей в рысь.
Через несколько минут были на окраине местечка, у кузницы. Я остановил лошадь и спросил кузнеца, что это была за стрельба. Он ответил, что стреляли с машины, а кто — не знает. Фрунзе наш разговор слышал.
Когда мы тронулись, из-за домов, саженях в семидесяти перед нами, вырос разъезд в составе трех всадников. Михаил Васильевич дал коню шпоры, лошадь сразу взяла в карьер. Разъезд, повернув, полным ходом начал удаляться в местечко.
Когда мы подскакали к церковной площади (на то место, откуда два большака идут: один — на Полтаву, а другой — на станцию Решетиловка), из-за поворота улицы вышла колонна в строю повзводно. Впереди ехали трое — один в черной бурке, без шапки, длинные черные волосы зачесаны на лоб, а остальные двое тоже в бурках, но в кубанках. В первом ряду развевалось красное знамя, в центре колонны — свернутое знамя черного цвета. Всего всадников насчитали не более двухсот человек. Сзади было несколько тачанок с пулеметами и каким-то имуществом.
Разъезд, за которым мы гнались, проскакал мимо колонны и в хвосте остановился у тачанок. Но они успели что-то крикнуть — разобрать было невозможно.
При виде этой колонны мы все четверо осадили коней и оказались от них на расстоянии тридцати метров. Колонна, вероятно от неожиданности, остановилась. С минуту мы молча смотрели друг на друга. Я успел разглядеть лица. Загорелые, они выглядели старше тридцати лет. У меня сразу блеснула мысль, что в нашей армии осталась только двадцатитрехлетняя молодежь. Значит, это махновцы. Перевожу взгляд на плотного всадника с длинными черными волосами, без фуражки. По фотокарточке, которую я видел в вагоне Фрунзе, можно безошибочно сказать, что этот самый и есть батька Махно.
В это время задние взводы поднажали на передних и, таким образом, наметилось хотя медленное, но верное движение флангов вперед, а первые ряды всадников начали спокойно снимать карабины.
Нас почти отрезали от дорог и прижали к какому-то огороду, обнесенному разными плетнями и изгородью.
Фрунзе спросил, какая часть. Главарь ему ответил: эскадрон 138-й бригады.
Я одновременно с вопросом Фрунзе наставляю с неимоверной быстротой наган и кричу:
— Стреляю я на ять, осадите фланги!
Они молча, но медленно пятят лошадей.
Тогда Махно сам спросил, кто мы, и в то же время ловко взбросил карабин на изготовку. Я в ужасе крикнул:
— Не стреляй, это комвойск Фрунзе!
В это время раздался залп. Сквозь дым и свист я видел, что Фрунзе удержался на коне и бросился через изгородь на дорогу, что идет на Полтаву.
Тогда я дал коню шпоры и помчался на решетиловскую дорогу, так как мне отрезали путь махновцы. Около пятидесяти человек устремились за мной с криком, выстрелами и шашками наголо.
Это происходило с головокружительной быстротой и продолжалось не более двух минут.
Мой адъютант, вероятно, заслушался и не держал коня в сборе. Его сразу же окружили и зарубили. Фрунзе и я обязаны ему жизнью, ибо первым махновцам он преградил своим телом дорогу. Это позволило нам оторваться метров на двадцать.
Таким образом, я и ординарец скакали по решетиловской дороге, а Михаил Васильевич по полтавской, причем эти дороги идут верст пять параллельно и расходятся к востоку. Наша дорога шла низкой местностью, а дорога Фрунзе — по возвышенности, и мне его хорошо было видно и слышно беспорядочную стрельбу и крики.
Красивая была картина. На фоне голубого неба кровный рыжий конь Фрунзе издали кажется черным, вытянулся стрункой — не скачет, а летит по воздуху. А за ним — с полсотни человек, тоже на приличных конях, с шашками наголо, которые на солнце блещут ярким стальным блеском, в развевающихся от быстрого хода черных бурках и разных цветов башлыках. Видно было по вспышкам дыма, что Фрунзе отстреливался из маузера. Он находился от погони метрах в пятидесяти, и все дальше уносил его верный конь.
Почему и как я мог все это видеть? За мной поскакало не более тридцати всадников. Махновцы от меня скакали метрах в восьми — пятнадцати. Я слышал свист шашки и хорошо видел злое загорелое курносое лицо их командира.
Рядом со мной скакал побледневший ординарец. Он жестоко бил свою лошадь по крупу шашкой, слегка согнутой от ударов. Впереди лежащий плохонький мостик не выдержал бы на таком скаку двух лошадей. Я решительно осадил коня и, обернувшись, в упор выстрелил в живот махновскому командиру. Шашка с визгом отлетела в сторону. Махновец упал, а скакавшие сзади попадали на него. Я услышал проклятия и несколько беспорядочных выстрелов. Пришпорив коня, за несколько минут отрываюсь от погони километра на полтора.
Я свернул с дороги вправо и взял направление наперерез Фрунзе, чтобы помочь ему в случае ранения. Так параллельно, в полукилометре, я скакал около пяти верст и наблюдал вышеописанную картину.
Затем я вижу, как Михаил Васильевич осадил коня, быстро соскочил на землю и открыл из маузера стрельбу. Махновцы (человек пять) тоже остановились, почему-то слезли и открыли огонь из карабинов. Их разделяло не более ста метров. Прошло с полминуты. Остальные махновцы, около сорока человек, уже приближались к ведущим огонь.
Конь Михаила Васильевича нервничал, все время дергал повод, но Фрунзе его держал. Я боялся, что коня могут ранить или он вырвется. В этот миг Фрунзе быстро вскочил на коня и помчался далее по дороге, которая уже круто поворачивала к Полтаве. Михаил Васильевич, вероятно, учел это и свернул влево по полю.
Через несколько минут мы соединились. Когда я подъехал, Фрунзе был возбужден и бледен. Я спросил, не ранен ли он, но он ответил, что нет. Спросил, где остальные. Я доложил, что адъютанта зарубили махновцы, а за ординарцем продолжается погоня.
Нас еще махновцы преследовали более полутора километров. Потом большинство остановилось, преследование продолжали не более пяти человек. Мы въехали в какой-то сосновый лес. Прошли на рысях с километр. Дорогу пересекала небольшая, с болотистыми берегами речка. Фрунзе решительно заявил, что дальше ехать не может, хочет пить и у него жжет бок.
Когда мы сошли с коней, я увидел, что правая сторона плаща Фрунзе пробита во многих местах пулями. У коня вся холка в крови.
Михаил Васильевич прилег на берегу речонки пить воду. Я осмотрел коня. Рана не опасна: конь около часа может выдержать, мы доедем до нашего бронепоезда.
Когда Михаил Васильевич напился и встал, у него появилось сильное головокружение. Я начал его осматривать. Когда поднял френч, то нательная рубаха оказалась в крови. Я осмотрел бок: пуля затронула достаточно глубоко кожу. У него в сумке седла оказался американский бинт, а в нем была маленькая склянка йода. Я вылил весь йод на рану. Фрунзе поморщился — щиплет. Я кое-как перевязал живот бинтом: торопился, боялся, что махновцы могут нас прижать к этой болотистой речонке.
Я помог Михаилу Васильевичу сесть в седло. Мы галопом взяли направление на станцию Решетиловка и около одиннадцати часов прибыли к бронепоезду. По пути к нам присоединился ординарец на своей измученной лошаденке.
Таким безумно храбрым, как горьковский сокол, был Фрунзе. Правда, за этот эпизод объявили ему выговор в Центральном Комитете Коммунистической партии Украины, не имел он права рисковать собой. А махновцев, вскоре после этой разведки боем, разбили окончательно.
Подавление

Член Коммунистической партии с 1903 года. В годы гражданской войны командовал красногвардейским отрядом, армией, группой войск в районе Царицына. Один из организаторов Первой Конной армии.
Кронштадтского мятежа
В канун открытия X съезда партии произошло событие, которое в первое мгновение казалось маловероятным: в Кронштадте вспыхнул мятеж... Лишь позже нам стали ясны причины, обстановка и условия, которые привели к тому, что контрреволюции удалось спровоцировать это выступление.
На закрытом заседании съезда было принято решение направить под Кронштадт часть делегатов и гостей. Возглавить эту группу, по предложению Ленина, поручили мне.
В Питере
Рано утром 12 марта 1921 года поезд с делегатами прибыл в Петроград...
На одной из площадей я увидел небольшие группы людей и среди них ответственного работника городского партийного комитета М. М. Лашевича верхом на лошади. На мой вопрос, что он здесь делает, Лашевич ответил:
— Да так... Вот видишь, буза! Буза!
К сожалению, он не мог ничего рассказать о конкретном состоянии наших войск и сил мятежников.
Зиновьев и Лашевич являлись руководителями Петроградской партийной организации и во многом повинны в том, что контрреволюционные элементы смогли поднять мятеж в Кронштадте. Они не принимали никаких эффективных мер по наведению порядка и в самом Петрограде.
Воззвание
В штабе армии было решено большую часть делегатов направить в Южную группу войск, в район Ораниенбаума, где сосредоточивались основные силы для штурма Кронштадта. Командованием Седьмой армии (командарм ее был М. Н. Тухачевский) мне был вручен мандат с назначением на пост комиссара Южной группы. В Северную группу войск решили послать Е. И. Вегера. Другие мои товарищи, имевшие большой боевой опыт, использовались в качестве командиров и политработников частей и соединений.
Прежде чем отправиться к местам своего назначения, делегаты съезда единодушно приняли решение обратиться к мятежникам с воззванием... Мы писали:
Кронштадтцы! Многие из вас думают, что в Кронштадте продолжают великое дело революции. Но действительные руководители ваши... рассчитывают, когда можно будет сделать следующий шаг по пути восстановления власти буржуазии. Они надеются вашими руками задушить Советскую власть. И тогда, очнувшись, протрезвев, вы поймете, что были орудием в руках врагов народа... Вы должны опомниться! Советская Республика не может ждать, пока белый Кронштадт станет базой для военных действий международной контрреволюции. Республика должна и будет действовать для спасения всей страны. А пролитая кровь падет на вас! Выбирайте скорее — с кем вы: с белогвардейцами против нас или с нами — против белогвардейцев!
Время не ждет! Торопитесь!
Делегаты X съезда РКП (б), прибывшие для выяснения кронштадтских событий.
Фронт
В период непродолжительного затишья поезд с погашенными огнями на предельной скорости проскочил опасную зону. На станции Ораниенбаум быстро выгрузились и направились в город.
Люди сразу подтянулись, стали сосредоточенными, немногословными. Каждый, видимо, думал: враг близко, каков он, как его поскорее уничтожить.
Изредка со стороны крепости видны были короткие вспышки орудийных выстрелов, доносился вой снарядов, землю сотрясали взрывы. Это был фронт.
Ледобоязнь
...Необычные условия предстоящего штурма, наступление против первоклассной морской крепости по льду залива вызывали у красноармейцев неуверенность, сомнения, страх.
Нужно ли обвинять их в трусости, предательстве? По-моему, нет. Сражаясь на земле, даже при тяжелом ранении, они могли получить помощь. А тут — лед, под ним — холодные воды Балтики. Каждый из них надеялся на жизнь, на возвращение к семье. Все эти надежды связывались с землей; только она, твердая и родная, много раз выручала и спасала их в самых кровопролитных боях. А лед их страшил.
Этим настроением, «ледобоязнью», пользовались подосланные мятежниками провокаторы. Заметив возвращавшихся разведчиков, они обычно начинали невинный на первый взгляд разговор:
— Слышь, ты, вон разведчики с досками ходили, с кольями: полыньев много,— говорил один.
— Да еще из тяжелых орудий вдарят и потопят нашего брата,— со вздохом обреченного произносил другой.
— Опять же перед берегом и в городе несколько рядов колючей проволоки, а пулеметов у них много...
— Как же с одними винтовками брать морскую крепость, да еще бронированные корабли? Как наступать по льду, где нет возможности укрыться? Лед тонкий, не сегодня-завтра начнет проваливаться под ногами. Вот тут и воюй...
Преодоление таких настроений потребовало от делегатов съезда и всех коммунистов напряженной работы, умелого подхода к людям.
Подготовка
Подготовка к штурму шла полным ходом. Принимались срочные меры по снабжению частей всем необходимым. Части были полностью обмундированы и переведены на боевой паек...
Значительное место в работе занимали вопросы разведки сил мятежников и особенно прочности льда...
В разведку вместе с коммунистами посылали наиболее колеблющихся красноармейцев, чтобы они сами убедились в безопасности движения по льду. Как правило, после каждой разведки ее участники шли по подразделениям и обо всем рассказывали красноармейцам. Последние охотно слушали такие сообщения, подробно расспрашивали. Кроме того, для подобных бесед использовались старые моряки, хорошо знавшие подходы к Кронштадту. Показания перебежчиков, а их становилось все больше, также подтверждали полную возможность штурма крепости.
Штурм
Безоблачное утро 16 марта. Ночью слегка подморозило. Вдали отчетливо вырисовывались очертания Кронштадта. Грозным и неприступным казался он. Всего несколько километров отделяло ораниенбаумский берег от острова Кот-лин, но какими тяжелыми они будут завтра для наших войск!
Чтобы в какой-то мере ослабить противодействие противника, помочь нашим бойцам сделать этот невероятный прыжок по открытому месту, уменьшить по возможности неизбежные потери, предусматривалась длительная артиллерийская подготовка по фортам, линейным кораблям и самой крепости. Она была назначена на 14 часов. Истекали последние минуты... И вот раздались первые залпы тяжелой артиллерии.
Мятежники немедленно начали отвечать. Артиллерийская дуэль то усиливалась, то ослабевала. Огонь затих лишь с наступлением сумерек. Ночь и тишина воцарились над Финским заливом. Но тишина казалась обманчивой, неустойчивой и скорее напоминала затишье перед бурей.
На полночь намечалось начало штурма. Шли последние приготовления. Все части уже получили приказ, знают свои задачи, места выхода на лед. направление движения, объекты атаки. Об отдыхе и сне никто не думает. Волнение, знакомое каждому перед боем, охватило и красноармейцев и командиров.
В полночь войска занимают исходное положение.
Противник, видимо, нервничает: то и дело мощные прожекторы обшаривают ледяное поле. На короткое время они гаснут, чтобы затем снова внезапно разорвать темноту.
Первый час ночи... Значит, наступило 17 марта — день штурма. Командиры докладывают о готовности частей. В разрывах облаков изредка появляется луна, так мешающая нам теперь. Но вот пошел небольшой снег — наш союзник. В половине второго первые .части спустились на лед...
Бойцы, одетые в белые халаты, словно растворились в ночной мгле. В нескольких шагах их уже трудно различить на белом снежном ковре. Твердый лед приободрил красноармейцев. Они пошли смелее, увереннее. Железное полукольцо неумолимо сжималось вокруг мятежного Кронштадта. Отличная маскировка красноармейцев, их бесшумное движение способствовали внезапному появлению штурмующих частей у стен крепости и фортов.
Черная бурка Фабрициуса
Но вот лучи мощных прожекторов заметались по ледяному простору залива и вдруг остановились, словно удивленные представившейся им картиной: все пространство от острова до южного побережья Финского залива было усеяно красноармейцами, которые неудержимой волной катились к фортам и крепости...
Забила артиллерия мятежников. Снаряды легко пробивали лед, вздымая огромные фонтаны воды, а образующиеся полыньи поглощали в глубины залива первые жертвы штурма.
Наша артиллерия открыла ответный огонь...
Некоторые части залегли, не имея возможности продвигаться дальше. Между тем противник продолжал усиленный и непрерывный обстрел, потери среди наступающих увеличились. Надо поднять полки, сделать последний рывок, но лед, хотя и ненадежный, приковал к себе бойцов. Трудно оторваться, поднять голову. Нужен пример, одно усилие волевых людей, и полки пойдут. Его подают коммунисты, делегаты съезда.
Перед 501-м полком появляется Ян Фабрициус. В отличие от других он в своей неизменной черной бурке, которая на его могучих плечах развевается подобно крыльям большого бесстрашного орла. Фабрициус идет перед лежащими красноармейцами и спокойно говорит им:
— Полежали, отдохнули, а теперь — за мной, вперед!
Мужество, хладнокровие этого замечательного человека оказались сильнее страха, прижавшего полк ко льду. Стремительный бросок, и полк ворвался на окраины Кронштадта.
...Невероятными усилиями, ценой больших жертв Кронштадт был возвращен Советской Республике.
У Ленина
20 марта делегаты вернулись в Москву. Съезд уже закончил свою работу. На следующий день мы были приняты Владимиром Ильичом Лениным. Эта простая, задушевная встреча с вождем нашей партии оставила в сердце каждого неизгладимый след на всю жизнь.
Ленин рассказал о решениях съезда, поблагодарил нас за успешное подавление мятежа. Мы в свою очередь проинформировали его и членов ЦК о подробностях ликвидации белогвардейской авантюры в Кронштадте.
Оживленно беседуя, все участники вышли во двор и попросили Владимира Ильича сфотографироваться вместе с нами. Он охотно согласился.
Во время подготовки группы к фотографированию Владимир Ильич обратил внимание на молодого человека в буденовке с забинтованной рукой.
— Кто этот раненый? — спросил меня Владимир Ильич.
— Товарищ Хмельницкий, участник боев в Кронштадте,— ответил я.
Владимир Ильич подошел к Р. П. Хмельницкому, моему секретарю, боевому товарищу, дважды раненному в боях за Кронштадт, и, бережно обняв его за правое плечо, пригласил сесть рядом с ним... Все присутствующие внимательно вслушивались в беседу вождя и солдата, взволнованные простотой обращения, его чуткостью, словно Ленин говорил с каждым из нас в отдельности.

Волочаевские дни

Рабочий, член Коммунистической партии с 1903 года. Один из организаторов партизанского движения на Дальнем Востоке.
Это было в морозный февраль 1922 года. Советская Россия приступала уже к великому строительству, а на Дальнем Востоке хозяйничали интервенты.
Правительство Дальневосточной республики готовило контрнаступление.
Партия выдвинула председателем Военного совета и главкомом вооруженных сил Дальневосточной республики Василия Блюхера, командование войсками фронта было поручено Степану Серышеву. Вместе с ними работал Павел Петрович Постышев.
По городам и деревням летел призыв: «Республика в опасности! Граждане, к оружию!» Шахтеры Сучана, бородатые уссурийцы, скуластые корейцы, степенные железнодорожники, вихрастая молодежь — все пошли по призыву партии и правительства громить белые армии.
В последний и решительный...
Станция Волочаевка утопала в снежных сугробах. В двух километрах от нее за небольшими холмами виднелась деревня того же названия. Вокруг станции и деревни расстилалась слегка холмистая равнина, поросшая редким кустарником. Позиция белыми была выбрана здесь очень выгодная. Заблаговременно они опутали Волочаевку колючей проволокой, за холмами расставили батареи и вырыли окопы. В снежных окопах, на морозе и пронизывающем ветре, от которого стыла кровь, залегла армия Восточного фронта.
Главком Блюхер по колено в снегу обходил наши части. Веселый и простой, он шутил с бойцами, внимательно слушал, говорил тепло и очень доверительно.
В беседе его лицо, загорелое и открытое, быстро меняло выражение. Когда он был чем-нибудь недоволен, оно делалось строгим, и черные брови близко сдвигались. Блюхер прибыл на фронт недавно, но его уже знали и любили.
С ним обходил позиции командующий фронтом Серышев. От напряженных, бессонных ночей он был очень бледный, но, как и Блюхер, бодрый и веселый.
Громкое «Здравствуйте, товарищи!» слышалось в снежных окопах. Командиры подразделений рапортовали о своих частях. Одни докладывали об обмороженных ногах своих бойцов, другие указывали на недостаток в патронах.
— Рискованно идти в наступление,— высказывали свои опасения некоторые.
У Серышева темнело лицо. Лоб пересекали суровые складки, он отступал на шаг и резко чеканил:
— Ни шагу назад, только вперед на последний и решительный удар! Если не будет патронов, в штыки пойдем!..
Так шла подготовка.
Атака
Вечером 10 февраля сводная стрелковая бригада окружила Волочаевку и рано утром, до солнца, перешла в решительную атаку. Головная колонна шла по линии железной дороги, колонна правого фланга двигалась на саму деревню, колонна левого — направлялась в глубокий обход станции.
Головная и правофланговая колонны были сформированы в основном из молодежи. Комсомол Приморья, Амура и Забайкалья мобилизовал несколько тысяч комсомольцев и молодых рабочих. Они принесли в полки беззаветную отвагу и веселый смех. На левом фланге сосредоточились старые и бывалые партизаны. Они сначала недоверчиво смотрели на молодежь:
— Сосунки, им бы у мамкиной юбки сидеть... И куда они годны? Зря патроны только тратить будут!..
Но славные комсомольцы в первой схватке своим энтузиазмом заразили старых партизан. Получилось как бы соревнование.
О бое трудно рассказывать... Грохот орудий, свист пуль, гул мерзлой земли от взрывов снарядов, треск пулеметов, крики людей, стоны раненых, слова команды и «ура» атакующих цепей... Наши части висли на проволоке и расстреливались картечью и шли, ползли, бежали на укрепления белых. Вот лежит в снегу длинная цепь. С фланга голос командира:
— Справа и слева по одному до ближнего увала — бегом!
Поднимаются бойцы и бегут. Одни бегут согнувшись, другие во весь рост.
Вдруг заговорил откуда-то справа пулемет. Упал один, другой...
11 февраля весь день грохотали пушки.
Огонь бронепоездов и замаскированных батарей ослаблял силу наших атак. И ночью свистели пули, гудела земля от взрывов.
Победа
Много погибло наших товарищей в эти горячие дни.
Полегли, уснули, скошенные пулей.
Утром 12 февраля наши части пошли в последнюю атаку. Белые не выдержали удара и покатились, минуя Хабаровск, по направлению к Спасску.
Красные войска преследовали противника по пятам, несмотря на острый недостаток провианта и снарядов. Но интервенты не дали героическим частям Дальневосточной республики тогда же добить белых. Докатившись до южного Приморья и Владивостока, контрреволюционные части укрылись под крылом японцев и некоторое время оставались недосягаемыми для наших ударов.
Лишь 25 октября 1922 года, когда японские войска окончательно покинули Приморье, Владивосток заняли полки Дальневосточной республики. Победа была полной и окончательной.
Последние комментарии
4 часов 6 минут назад
9 часов 50 минут назад
10 часов 57 минут назад
11 часов 55 минут назад
12 часов 9 минут назад
21 часов 19 минут назад