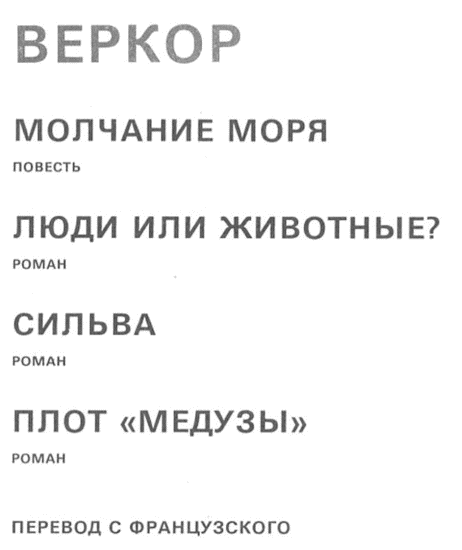
Веркор Избранное [Молчание моря. Люди или животные? Сильва. Плот «Медузы»]
Т. Балашова. Диалог с веком
Наш век сотрясали трагедии. Обрушивающиеся на человека. Выжигающие человеческую душу. Сколько иллюзий, лживых обещаний, разочарований, покаяний, снова надежд и отчаянных инвектив против тех, кто обманывал, и мучительных укоров себе, обманувшимся. Веркор принадлежит к не слишком многочисленной породе рыцарей, тех, кто во все времена самоотверженно устремляется на борьбу со злом и насилием. «Писатель должен быть прежде всего смелым и при всех обстоятельствах говорить то, что думает, какой бы ни была расплата за его откровенность. Таков первый догмат веры моей профессии», — заявляет Веркор. И сейчас, на пороге девяностолетия, этому рыцарю не в чем себя упрекнуть. Каждый шаг его в жизни и в искусстве — поверялся камертоном совести. Один мужественный поступок следовал за другим, не менее мужественным. Начиная с той тревожной предвоенной поры, когда он участвовал в сессии Пен-клуба в Праге, за несколько месяцев до вторжения туда войск фашистской Германии, и предложил включить в резолюцию осуждение антисемитизма. Разгорелись дебаты. Даже председатель — Герберт Уэллс — выступал против, опасаясь «оскорбить соседнюю страну», да и чешское правительство, гостеприимно принявшее членов Пен-клуба… Удалось внести лишь строчку об осуждении расизма. Но отныне Веркор был исполнен решимости слушать только голос своей совести. Тогда он был известен как художник-график Жан Брюллер (родился в 1902 году, в Париже), выпустивший несколько книг и альбомов, где тревожные видения («Двадцать один рецепт насильственной смерти») постепенно вытеснялись размышлениями о смысле бытия. «В рисунках моих — галлюцинации, проза — прозрачна», — скажет позднее Веркор. Война застала Жана Брюллера на плато Веркор, где позднее развернулись сражения между оккупантами и партизанами. Потрясенный капитуляцией Франции, исполненный решимости бороться против немецких захватчиков, он совершает еще один мужественный поступок — вместе с друзьями в 1942 году создает подпольное «Полночное издательство», которое выпустило за годы фашистской оккупации более тридцати книг: Арагона, Мориака, Маритена, знаменитую антологию, составленную Элюаром, «Честь поэтов». Но первой в «Полночном издательстве» была напечатана написанная Жаном Брюллером еще в 1941 году повесть «Молчание моря». Выбран псевдоним — Веркор. Начались опасные будни подпольной борьбы. Если каждая литературная эпоха имеет свои символы, то для эпохи Сопротивления это — «Свобода» Элюара, «Розы и резеда» Арагона, «Молчание моря» Веркора. «Молчание моря», более чем через тридцать лет писала «Юманите», «прозвучало в молчащей литературной Франции как резкий всплеск флага под внезапным порывом ветра, и все, кто способен был к сопротивлению, не могли не устремить на него свой взгляд». Сразу после войны Веркор пытается осмыслить не только причины зверств фашистов, но и ненависть, ими порожденную. «Вот что они сделали с нами» называлась статья Веркора 1944 года, исследующая эту тему. Став председателем Национального Комитета писателей, возникшего в подполье, Веркор скреплял своей подписью каждый протест против посягательств на человеческую жизнь и свободу — и в канун казни супругов Розенберг, и в дни, когда бросали в тюрьму Жака Дюкло, Андре Стиля или Анри Мартэна. Он ведет трудную борьбу на два фронта против тех, кто хотел бы предать память жертв, и против тех, кто во имя этой памяти совершает новые несправедливости. Выступление против начавшегося в Венгрии процесса Ласло Райка, резко отделившее Веркора от многих товарищей по подполью, было еще одним мужественным поступком. В ноябре 1956 года в печати появилось составленное Веркором и подписанное несколькими французскими писателями открытое письмо, осуждавшее введение советских войск в Венгрию. «Самое мучительное, — говорилось в нем, — видеть, что тот, за чьи идеалы ты боролся, поступает чуть ли не так же, как тот, против кого ты боролся». В то же время Веркор обращается к французским интеллигентам с просьбой «не порывать с советскими писателями, а помочь им поднять свой голос». Неожиданно для многих, предпочитавших бойкот, Веркор в мае 1957 года приезжает в СССР, сопровождая выставку французской живописи. Нужны встречи, контакты, взаимопонимание. Но в том же 1957 году выходит книга Веркора «Р. Р. С.» («Pour prendre conge» — смысл названия: «Почему я ухожу»), где писатель, собрав свои публицистические выступления послевоенных лет, объясняет, почему не хочет больше сидеть в президиумах, представлять ту или иную организацию или идею. В 80-е годы он полушутя скажет, что с той поры наблюдает «за историей с балкона», ни во что не вмешиваясь. Однако это было не совсем так. События, происходящие в мире, не могли не тревожить его, не вызывать отклика. В своей декларации «Гитлер выиграл войну», опубликованной в 1972 году, Веркор писал: «Гитлер проиграл войну на поле боя, но выиграл в душах, в сердцах людей», — так заострил писатель свою мысль о недопустимости борьбы с инакомыслием при помощи армий, танков и пушек — на каком бы континенте, при каком бы общественном строе это ни происходило — в Чили, Кампучии, Алжире или Чехословакии. В ноябре 1969 года Веркор, как почетный председатель Национального Комитета писателей, вместе с другими своими коллегами, подписывает манифест, начинающийся вопросом — «Неужели великие писатели всегда опасны?». «Исключение Солженицына из Союза писателей, говорилось далее в манифесте, — не просто вредит Советскому Союзу. Этот акт подтверждает то представление о социализме, которое распространяют его враги… Хочется предупредить советских собратьев — и тех, кто молчит, и тех, кого вынуждают говорить, и тех, кто напрямую связал свое имя с действиями, в которых трудно не видеть отражение недавнего прошлого: разве не знают они, что подписи их предшественников, одобрявших подобные исключения ранее, давали карт-бланш палачам?.. И все-таки мы надеемся, — завершается манифест, — что лучшие умы того народа, которому мы обязаны зарей Октября и победой над фашизмом, смогут осознать, какое свершается зло, и остановить его». Был и еще ряд страстных публицистических выступлений Веркора. Например, предисловие к документальной книге о фашистских зверствах «Довольно лгать!» (1979), где протест против войн, призыв к мирному решению конфликтов сопрягается опять с анализом сущности фашистской идеологии и «фашизации сознания». Или «открытое письмо издателю», озаглавленное «Двойное убийство» (1981) и взывающее к совести тех, кто в новых исторических условиях, когда стало чуть ли не модным прославлять Гитлера, готов считать компрометирующим самый факт участия того или иного писателя в антифашистском Сопротивлении. Все эти факты биографии писателя никак не подтверждают ответа, который дал Веркор на вопрос одного из журналистов о его политических взглядах: «Никаких. Абсолютно аполитичен». Ведь независимость от программы той или иной партии и аполитичность — вещи абсолютно разные. Впрочем, до сих пор речь шла скорее о поступках гражданина, нежели о творчестве писателя. Каждый из них — свидетельство прямой причастности к борьбе идей нашего века. И трудно не согласиться с выводом одного из французских критиков: «Если возможно было бы персонифицировать человеческое достоинство — это был бы Веркор». В истории литературы нередки случаи, когда между «поступком» и «творчеством» существует огромный разрыв, когда в творчество почти не проникают отзвуки реальной истории, реальной политики. Нередки и случаи слишком прямой связи между гражданским и творческим актом художника. Упрощение, примитивность бывают за это расплатой. Веркору нельзя предъявить подобных упреков. Конкретные факты, лики трагедии высвечены изнутри. Писатель не просто свидетельствует, он анализирует. Среди многих проблем, волновавших XX век, главной для Веркора была одна: где начинается человек? чем отличается от зверя? В книге «Глаза и свет» герой бросает своему антагонисту: «Ты не человек. Даже не животное. Ты — лакей». Свои размышления о взлетах и падениях духа, о палачах, жертвах и лакеях, охотно помогающих палачам, в своем творчестве Веркор развивает в двух направлениях — конкретно-историческом и условно-аллегорическом. К первому можно отнести новеллистические сборники «Типография Верден» (1947), «Глаза и свет» (1948), романы «Оружие мрака» (1946), «Могущество света» (1951), «Гневные» (1956), трилогию «На этом берегу» (1958–1960), повесть «Волчий капкан» (1979). Ко второму — философско-фантастические повести «Люди или животные?» (1952), «Сильва» (1961). Однако произведения конкретно-исторического направления у Веркора тоже высвечены аллегорией, и почти всегда за ними прочитывается второй план. Это относится уже к повести «Молчание моря». Слово «молчание» следует воспринимать в широком контексте, это и молчание одиночества, отчужденности, бессилия и симпатии. (На тему «молчания» до войны Жан Брюллер выпустил серию гравюр.) В повести молчание само по себе действие. Веркор, радуясь долгой жизни этой повести и восторженным читательским откликам, видит в этом подтверждение весомости писательского слова: «Сознание, что хотя бы одна из написанных книг тебя переживет, доставляет большую радость». Сила воздействия этой маленькой повести, конечно, не только в том, что она была первой вестницей духовного Сопротивления, это связано и с характерной для Веркора формой построения произведений: герой его чаще всего попадает в экстремальные обстоятельства, но не покоряется им. Вежливый, расположенный к тебе оккупант — ситуация для сознания пленника столь же экстремальная, как и жестокий допрос: жестокость может сломить человека, толкнуть на предательство; чрезмерная вежливость на смирение, коллаборационизм. И то, и другое недостойно Человека. Это слово в произведениях Веркора почти всегда читается с большой буквы. Нет, он вовсе не идеализирует род людской: со страниц веркоровских произведений смотрят на нас также источающие ненависть и подлость глаза монстров в человеческом обличье Каина от политики Лепрегра, садиста-эротомана господина Пруста, циника Гектора Гранваля (трилогия «На этом берегу»), нацистского пособника-убийцы («Волчий капкан»). Хозяин фермы из повести «Волчий капкан» почти символ, своего рода воплощение биологического регресса человека, он пытается возродить «звериную практику господства сильнейших над слабейшими». Даже не зная о том, что в прошлом он выдавал нацистам патриотов, достаточно вслушаться в его советы дочери, всмотреться в его движения, повадки, чтобы понять его агрессивную сущность, отсутствие всяких нравственных тормозов. Фашизм — не только то, что безжалостно давит на нас извне, но и то, что разъедает изнутри: равнодушие к чужой жизни и смерти, способность оправдать себя тем, что ты только выполняешь приказ. Веркора серьезно занимает вопрос, можно ли оправдать поведение человека внешними обстоятельствами? Снимается ли с человека вина, если он просто выполнял приказ? «Несчастье пробуждает в одних благородный героизм, в то время как в других людях проступает их омерзительная изнанка. Они идут на низость, предательство», — пишет он в «Волчьем капкане». Не менее экстремальна ситуация в «Антверпенском тигре» (1986), который как бы подводит итог «военной теме» — не только логикой размышлений, но и формой повествования. «Антверпенский тигр» как бы синтезирует темы ранних книг Веркора — «Оружие мрака» и «Могущество света». Уже в них появляется образ «тигра», как символ вселенского зла, принимающего разные формы. В романе оба веркоровских вопроса о фашизме, как социальном феномене, и человеке, как биологической особи, отличающемся от всех других живых организмов, — включены в единую экстремально-экспериментальную ситуацию. Герой романа, участник Сопротивления, казалось, вышел из концлагеря победителем: не выдал товарищей, выдержал пытки. Но сохранить в концентрационном аду живую душу гораздо труднее, чем просто жизнь и совесть. Он вернулся в свою Бретань совсем другим человеком — безвольным, настороженным… В конце концов его друг слышит от него душераздирающую исповедь: последние дни пребывания в лагере Пьер Канж под надзором эсэсовца бросал в печь трупы, и он не вполне уверен, что мертвым был каждый из объятых пламенем… Как подняться после такого падения? Как вернуть уважение к себе, желание жить? Только совершая решительные, мужественные поступки, уверена возлюбленная Канжа, только отдавшись такому же праведному делу, каким было Сопротивление. И Пьер Канж отправляется во франкистскую Испанию, ведет там подпольную работу. Это и есть путь к воскрешению человеческой личности. Композиционно «Антверпенский тигр» выстроен многоступенчато: повествование ведется от лица некоего сорокалетнего писателя, которому поведал трагическую историю Пьера Канжа его друг, восьмидесятилетний ветеран войны и Сопротивления. Авторскую точку зрения выражает поочередно то тот, то другой. Конечно, это сам Веркор говорит не пережившим войны о том, что История неделима, что прошлое продолжается сегодня. Да, Веркор, как и многие писатели, которым пришлось пройти через войну, «болен» этой темой, не перестает размышлять о ней в своих новеллах, романах, эссе, беседах. Сорокалетие со дня победы над фашистской Германией — 9 мая 1985 года — мне довелось встретить в Париже, и я не могла не испытать желания навестить автора «Молчания моря». Набережная Орфевр на острове Сите, выцветшая табличка с романтически-легендарным именем: Веркор — Жан Брюллер. Из окон комнаты виден непрерывный поток машин. Высокий, красивый в свои восемьдесят три года мужчина, во всем облике которого чувствуется высокое достоинство и спокойная уверенность, что, если бы пришлось начать сначала, он прожил бы жизнь точно так же. «До войны, охотно начал свой рассказ Веркор, — я был ультрапацифистом и, наверное, таким и остался бы, если бы не возникла — со всей неотвратимостью угроза фашизма. И я понял: надо воевать, надо дать отпор фашистской армии и самой идеологии фашизма… Я верю в силу общественного мнения, верю, что оно может повлиять на поли тику правительства. Сейчас напряжение в мире достигло опасной степени. Но я все-таки оптимистически смотрю в будущее и не думаю, что война неизбежна, фатальна. Перед лицом страшнейшего оружия люди не могут не осознать, что нападение любой страны не даст иного результата, кроме всеобщего уничтожения. По-моему, это понимают даже военные руководители. Наша цивилизация обязана спасти себя». В его монологе мое внимание задержали несколько раз повторенные слова «фашистская идеология». Они рождали ассоциации дальние, касавшиеся не только утвердившегося в 30-е годы и побежденного в 1945 году «нового порядка»; они звучали в контексте статьи «Гитлер выиграл войну», проясняли мысль писателя: не должно быть больше никогда не только войн вообще, войн между армиями, но и войны танков, пушек против идей. Над идеями могут одерживать победу только другие идеи. Называя себя оптимистом, Веркор верит, что это возможно, что человеческое слово способно победить, не призывая на помощь оружие. Историческая конкретность, которая лежит в основе многих художественных произведений Веркора, щедро питалась его профессиональным интересом к истории. Редко кому из писателей, уносимых на крыльях воображения, приходит желание целиком подчиниться строгим фактам, погрузившись с головой в документы. В 1981–1984 годах Веркор подготовил «как свидетель истории и блестящий писатель», по оценке критики, трехтомный труд «Сто лет истории Франции»; в своих очерках 50-х годов собрал документальный материал о посещении США, Вьетнама, Китая; выпустил одну из лучших книг о периоде Сопротивления «Битва молчания. Полночные воспоминания» (1967); потом неожиданно обратился к истории Англии XVI века, к схизме; раскол с римской католической церковью, по мысли Веркора, составляет фундамент самосознания нации. Книга названа по имени одной из жен Генриха VIII «Анна Болейн» (1985), но Веркор отнюдь не склонен к беллетризованной биографии, он вычерчивает последовательную цепочку фактов, точно обозначая, где кончается факт и начинается его собственная гипотеза. При этом Веркор-историк, строго придерживаясь документальных свидетельств, не перестает размышлять о том, что терзает его современников, — «о смысле и бессмыслице истории». (Именно так назван его эпод 1978 года.) Подобно тому как романы конкретно-исторического плана питались интересом Веркора к истории, «фантастические» повес ти укоренены в его философских раздумьях, в неотступном желании понять природу человека. Начало было положено эссе «Более или менее человек» (1950), где сравнивается эволюция животного мира и рода человеческого, сделана попытка показать, в какой момент и почему человеку понадобилась «абстракция», то есть аналитическое мышление, и как делает он этот решительный шаг из животного мира в мир людей, «начиная задавать небу вопросы». Размышляя о морали и поступках, нравственных условностях и нравственных константах, забвение которых ведет к разрушению человеческой личности, Веркор обращается к теориям Канта и Гегеля, Ницше, Кьеркегора. Эйнштейна. А сам вывод о тиранических режимах, «возбуждающих дурные инстинкты», оказывается завершающим звеном логической цепи глубинного философского анализа. Выступая инициатором открытых дебатов, некоего диалога между католиками и марксистами, он публикует книгу «Мораль христианская и мораль марксистская» (1960). Во вступительном слове и в своих резюме Веркор разворачивает концепцию роли нравственности, этического начала в биологической эволюции человека. «Исторической разобщенности», столкновению политических режимов, классовых интересов он противопоставляет «единые законы» подлинно человеческого сознания, вызревающего в недрах природы, но вносящего в нее качественные изменения. Эти «единые законы» функционируют, по мнению Веркора, в постоянном режиме, независимо от социального строя, класса, нации. В книге «Вопросы о жизни, обращенные к господам биологам» (1973) Веркор демонстрирует широкие познания в области биологии, биохимии, психологии. Одна из его основных идей — соотношение между качествами врожденными и приобретенными. Суждение автора, что «инстинкт не приобретается, а вписан в гены, как дыхание, как кровообращение», приводит и в этой, и во многих других книгах к определенным противоречиям: с одной стороны, существует некая фатальность человек не может изменить заложенных в нем наклонностей; с другой стороны, Веркор уверенно, без колебаний отстаивает могущество человеческой воли. Эта мысль обстоятельно развернута писателем в двух больших философских эссе, предваряющих изданные им под общим заглавием «Свобода или фатальность» (1970) пьесы — «Эдип» Софокла и «Гамлет» Шекспира. Свободен ли человек, принимая решения, или они ему «навязаны», запрограммированы генетическим ли кодом, общественным ли давлением, эта дилемма решается в «Свободе или фатальности» в пользу первой альтернативы. «Человек начинается… с нежелания подчиняться тирании „данности“ — как это свойственно животным, — в том числе и импульсам инстинктов». В эссеистской книге «Во что я верю» (1975) Веркор диалектически сопрягает эти «вечные» вопросы с коренным вопросом XX века — как мог утвердиться фашизм? как люди (особи, переставшие быть животными) могли творить зверства, равных которым не знала природа? Фашизм, возрождая звериную практику господства сильнейших над слабейшими, «толкал к гибели именно человека как такового». Очень выразителен эпизод, описанный Веркором в одной из его книг, возвращающих к тем дням, когда он с группой писателей проезжал в 1938 году через фашистскую Германию в Прагу. «В вагон входят двое в черном. Молодые, подтянутые, спортивного типа. Один из них улыбается, другой нет. Но у обоих такой ледяной взгляд, что сомнений нет: если бы им приказали не проверить наши визы, а убить нас, они выполнили бы это в один миг. Не переставая улыбаться. Даже не увидев нас. Просто раздавив, как насекомых». Веркор-философ, размышляющий о людской природе, и Веркор, погруженный в воспоминания о второй мировой войне, — это единая художественная личность. Предотвратить в будущем фашизацию сознания можно, только задумавшись о природе человека как такового. Фашизация сознания определяется Веркором как вседозволенность, попрание любых нравственных норм, отказ от человеческого в пользу звериных, ничем не обузданных инстинктов. Писатель вполне естественно обращается к абсолютно фантастическим сюжетам, которые к историческим коллизиям века словно бы не имеют ни малейшего отношения. Таковы его романы «Люди или животные?» (1952) и «Сильва» (1961). Произведения эти скорее даже не фантастические, а философские, в них Веркор продолжает традиции Вольтера, Дидро, Анатоля Франса. Когда на Новой Гвинее обнаружили что-то вроде нового вида обезьян — тропи, — философские проблемы переплелись с социальными. Английские промышленники заинтересованы считать тропи людьми в пику своим австралийским конкурентам, которые предпочли бы эксплуатировать тропи как животных. Остроумные дебаты в парламенте, поданные во всем блеске веркоровской сатиры, наукообразные, окрашенные авторской иронией силлогизмы, увлекательный сюжет, заставляющий следить за исходом спора и за необычным поведением тропи, — все это делает роман «Люди или животные?» почти что беззаботным по сравнению с теми произведениями, которые рождены воспоминаниями о второй мировой войне. Но за сюжетной и стилевой «легкостью» повествования, в его подтексте все тот же неизменно тревожащий Веркора вопрос с чего начинается человек? когда он перестает им быть? Герои других книг писателя Лепретр, Гектор Гранваль или любитель «волчьих капканов» по всем данным анатомии — люди. Но Веркор уверен, что «человеческая анатомия ничего не значит. Сущность человека проявляется в сфере, далекой от анатомии». В этом романе, как и во многих эссеистских работах Веркора, ощутимо противоречие в объяснении, как же возникают разные «расы». Раса — как определенный склад ума, определенная предрасположенность к выполнению или, напротив, торможению идущих от животного мира инстинктов. Заложена ли склонность к «фашистской идеологии» в том или ином человеке с рождения или каждый делает свой выбор? Как влияют политические доктрины на проявление тех или иных свойств? К русскому изданию повести «Люди или животные?» Веркор написал послесловие, оспорив некоторые упреки автора предисловия в абстрактности понятия «человек» и разъяснив свою позицию. Необходимость придавать общечеловеческому большее значение, чем классовому (мысль, которая лишь недавно стала пускать корни в нашей, советской науке), выражена Веркором в этом послесловии достаточно четко: «Каждый человек прежде всего человек, а уж потом последователь Платона, Христа или Маркса». Конечно, есть разные ступени цивилизации, есть разные периоды в истории народов, но это не дает основание устанавливать иерархию народов от «больших» к «малым». «Согласен, — пишет Веркор, — пусть наиболее развитые народы ведут за собой прочие, даже выступают в роли преобразователей! Но смотрите, как бы это не превратилось в дискриминацию!., я как раз хотел показать, что сама идея прогресса, если только ее не разграничить с идеей иерархии, может привести к прискорбной ошибке. Естественно, мне могут возразить, что подобная опасность не существует в социалистическом обществе». Веркор призывает помнить о том, что «преднамеренное извращение взглядов Маркса может привести к выводам, прямо противоположным его собственным», и поэтому он считает необходимым «выдвинуть в борьбе с расизмом такое понятие „человеческого“, которое не только было бы приемлемо для немарксистов, но и способно устоять против всяких попыток извращения» марксизма. Трагические пути развития социалистического общества подтверждают, сказали бы мы теперь, опасения Веркора. Как несовременному звучат слова писателя: «Тяжелые испытания недавнего прошлого показывают, что даже в самой лучшей системе взглядов всегда могут произойти серьезные отклонения, которые трудно, а может быть, и невозможно обнаружить и вскрыть при их возникновении из-за отсутствия критерия, существующего вне этой системы или, вернее, предпосланного этой системе». Новую фантастическую посылку размышлений о сущности человека Веркор предлагает романом «Сильва». Обыкновенная лисица, которую вот-вот должны были догнать собаки, вдруг на глазах героя романа превращается — типично сказочный поворот сюжета — в молодую женщину. Но в отличие o r персонажей сказки это существо сохраняет все повадки зверька, не понимает простых человеческих норм поведения. Сильве еще только предстоит стать человеком, зато ее неожиданные вопросы побуждают усомниться в гуманности многих принятых человеческим сообществом законов, хотя они так привычны нам, кажутся нормальными. Параллельно разворачивается история регрессивного развития на сей раз человеческая особь, Дороти, губя себя наркотиками, постепенно утрачивает лучшие качества, присущие человеку. Фантастическими коллизиями, складывающимися вокруг человекоподобных тропи или приключений девушки-лисы, проходящей «воспитание чувств», от инстинкта к проблескам разума, Веркор хотел, по его признанию, «пробить брешь в умонастроениях, привычных с детства, и сквозь нее повести читателя к новому видению вещей». Глубина философских проблем, затронутых в «Сильве», находит подтверждение в переписке между Веркором и Полем Мисраки («Дороги человеческого сознания», 1965) — в связи с публикацией романа. Сорок четыре письма, триста страниц, которые ведут от этой «увлекательной истории» к самым существенным проблемам бытия — свободы и детерминизма, сознания и предсознания, частичной и полной истины, желания и воли, прогресса технического и нравственного. Пожалуй, только в этой повести Веркор коснулся возможности изменений характера (и даже самой человеческой натуры) под воздействием среды. Обычно же его повествованию свойственно противостояние: тиран, палач не способен стать гуманным, а наделенный благородной душой не совершит подлости. Веркор делит все человечество вовсе не по классам, не по нациям. Есть разные биологические типы людей беспощадных хищников и благородных рыцарей. Еще герой трилогии «На этом берегу» размышлял: «Возможно ли… что существуют две расы на этой земле, только две, всегда и везде? Люди требовательного и непокорного разума, с их жаждой справедливости, и — звери джунглей, с их постоянной устремленностью к власти». Веркор совершенно сознательно не собирается отождествлять благородство или подлость с той или иной политической линией, партией. Не случайно Лепретр (из трилогии «На этом берегу») проходит через все метаморфозы политических взглядов: в тридцатые годы — он среди чернорубашечников, в начале войны — с Петэном, затем делает выбор в пользу де Голля, наконец, вступает в коммунистическую партию и вдруг — повернув на 180° — едет в Алжир истязать патриотов. Для Веркора здесь как раз нет «поворотов», «перемен». Самовлюбленный расчет был присущ этому персонажу всегда. Он не стал лучше, попав в президиум международного антивоенного конгресса, не стал хуже, заговорив языком расиста. Интересное решение получает мотив человеческого благородства, абсолютно свободного от политической принадлежности, в романе «Подобно брату» (1973). Трудно определить его жанр роман политический? детективный? социально-психологический? фантастический? Да, в его основе фантастическое превращение. Герой — Роже-Луи Туан на углу бульвара Распай и улицы Деламбр раздвоился: Роже отправился за приглянувшейся ему блондинкой, Луи устремился за хорошенькой брюнеткой. Соблазнительницы оказались лишь предлогом для «деления» Туана на две ипостаси. «Пусть меня не спрашивают, иронизирует Веркор, — как такое могло случиться. Если бы было какое-то объяснение, не было бы ни чуда, ни тайны… Впрочем, никто этого не заметил. А разве в городской толпе мог кто-нибудь заметить, что рядом с ними оказался еще один человек?» Роже и Луи зажили каждый своей жизнью. Роже приобретает замашки делового, вращающегося в высшем свете человека, делает карьеру. Луи остается на нижних ступенях социальной лестницы, он в гуще профсоюзной борьбы. Но фантастически разъятые линии начинают временами скрещиваться, пока наконец во время столкновения с полицией, выступая в защиту прав бедняков, они не оказались на баррикадах рядом, как единомышленники, и протянули друг другу руки. «Но в ту же минуту с крыш полетели десятки гранат. Одна упала прямо между Луи и Роже. Взрывная волна подбросила их в воздух. Тела их упали одно на другое… Снова слившись, теперь уже навсегда — единая жертва во имя Республики. Единый Роже-Луи Туан продолжал существовать всегда, и в то время, когда… они вели столь непохожие жизни». Эта финальная ремарка очень важна для понимания решительного отказа Веркора соединять благородство или, напротив, низость с классом, социальным положением, избранной сферой активности. Извечный веркоровский вопрос — что есть человек? — здесь видоизменен. Что есть гражданин? Чем определяется человек как гражданин? Для Веркора воплощение гражданского идеала есть служение Республике, демократической форме организации общества, которая ограничивает возможность возникновения тотальных режимов. Нет, Веркор не питает иллюзий (эпизоды романа «Подобно брату» это подтверждают), что Республика — прочный гарант социальной справедливости. Но для него это первая ступень к решению других общественных и социальных проблем. Республика, согласно убеждению Веркора, несовместима с фашизмом. Роман «Подобно брату» нечто среднее между конкретно-историческим повествованием и философско-фантастической притчей. Фантастическое «расщепление» здесь лишь повод, художественный прием для сопоставления (и сближения) разных человеческих характеров. Впрочем, обе эти художественные линии, с самого начала нами обозначенные, имеют и общие художественные константы. Константы, выделяющие Веркора среди его собратьев по перу. Многое поразит современного читателя в произведениях Веркора — предельная четкость сюжета, логическая завершенность характеров, крайние, исключительные ситуации, граничащие с невероятным. Жесткая романная (или новеллистическая) конструкция почти всегда открывает нам писателя-рационалиста, относящегося весьма неприязненно к психологической недоговоренности, иррационалистической туманности или, так сказать, «мерцанию» писательских оценок. Опубликовав в семьдесят пять лет одно из своих ранних неиздававшихся произведений — «Кони времени» (1977), Веркор счел нужным объясниться по поводу неожиданно возникших иррациональных мотивов. «Я не хотел бы, чтобы появление этой мистической любовной истории было воспринято как переход автора на позиции иррационализма. Не хочу быть соучастником наступления против разума, которое в последнее время развернуто всеми средствами массовых коммуникаций. Только и слышишь об оккультизме, астрологии, возвращении с того света и каких-то сверхъестественных способностях. Наука и разум на скамье подсудимых, их обвиняют, их высмеивают. Народом суеверным управлять куда легче, чем народом, способным размышлять». Веркор-рационалист, не страшащийся выстраивать некоторые романы почти как развернутые доказательства мысли, истинность которой не вызывает у него сомнений, редко бывает схематичным. Его персонажи, при всей априорности художественного замысла, довольно свободны от авторской воли, имеют собственную логику поведения. Такое сочетание ясности замысла с доверием к самому жизненному материалу, который словно бы ведет писателя за собой, определяет в известной мере специфику художественного метода Веркора. Веркор почти всегда предпочитает объективную манеру письма, героев, проявляющих себя в поступках, в четко очерченных ситуациях. Среди своих учителей Веркор не раз называл Рабле, Вольтера, Франса, выделяя здесь как общую доминанту ироническую манеру повествования. (В книгах «Люди или животные?», «Сильва», «Квота, или Сторонники изобилия» Веркор и сам блестяще демонстрирует этот дар.) «На примере Рабле, Вольтера, Франса не трудно убедиться, писал Веркор, — что серьезнее всего французы думают над проблемами, о которых им повествуют с улыбкой на устах». Мастера, который помог ему обрести лаконизм художественной речи, Веркор ощущает в Чехове. Все эти «опоры» действительно прослеживаются в веркоровской прозе. Но как-то мелькнуло в его ответах имя Марселя Пруста. На первый взгляд, довольно неожиданно, но не без оснований, если обратиться к роману Веркора «Плот. Медузы». «Плот „Медузы“» — произведение не совсем привычное для художественной манеры писателя. Это исповедь, монолог человека, вспоминающего историю своей жизни, интерпретирующего ее согласно собственным представлениям. Как и во многих книгах Веркора, в центре повествования проблема выбора. Здесь тоже автор требует от героя исполнения долга Человека во всей полноте. Но, избрав на этот раз взгляд на героя «изнутри», Веркор отказался от экстремальных, необычных ситуаций, а напряженность ожидания, желание развязать спутанные нити провоцируются не «ситуациями», а зазором, который существует между образом этого левого интеллигента и его собственным представлением о себе. В романе «Плот „Медузы“» все «происшествия» — гибель врача, записи которого и составили основу книги, непонятная болезнь пациентки, непроясненные обстоятельства гибели этой пациентки и ее мужа, знаменитого писателя, — не имеют, по сути, никакого отношения к внутреннему содержанию романа. Они нужны лишь для того, чтобы дать исповедь писателя Фредерика Леграна. Рассказывая год за годом свою жизнь врачу-психоневрологу, он возвращается к воспоминаниям, которые казались давно умершими, восстанавливает для себя — именно потому, что должен мотивировать это другому человеку, — логику своих действий, ищет самооправданий и постепенно полностью дискредитирует себя, а главное, свой бунт, с которого началась его громкая слава. Картина Теодора Жерико — «Плот „Медузы“» — символ трагедии человека на плоту цивилизации, символ равнодушия, которое виновники несчастья демонстрируют по отношению к жертвам. Назвав именно так свой стихотворный сборник, Фредерик Легран во всеуслышание заявил о ненависти к своей лицемерной семье, к самим буржуазным отношениям. Но в этом бунте слишком много слов, которые расходятся с делами. Кузен Фредерика — Реми Провен — его своеобразный двойник, как Роже для Луи Туана. Сначала Фредерик обвиняет Реми в конформизме, к финалу они меняются ролями. Неприятие Реми общества лицемерия и наживы оказывается гораздо более глубоким. Как и более глубокой, свободной оказывается его любовь к Бале. Без авторского нажима, исподволь формируется в книге представление об этом «блудном сыне» общества. Критика писала, что в этом романс Веркора чувствуется влияние «нового романа». Для того, кто считает, что утонченный психологический анализ движения человеческой души, ее непредсказуемых и не очень понятных самому индивидууму реакций принес именно «новый роман», такая взаимосвязь бесспорна. «Плот „Медузы“» действительно находится в русле новаторства современной психологической прозы. Тем не менее и в этой книге автор стремится не к зашифровке, а к расшифровке сложного кода петляющей мысли. Монологическая форма «Плота» опирается, так сказать, на фундамент повествовательных форм, сложившихся в творчестве Веркора ранее. Веркор принадлежит к тем художникам, которые не раз выступали против «интеллектуальных акробатических трюков», против концентрации внимания на внешней форме, безотносительно к тому, что хочет художник выразить. Во время одной дискуссии — «Позиции и оппозиции вокруг современного романа» (1971) — Веркор оказался главным оппонентом Ж. Рикарду, который требовал обсуждать только вопросы языка, ни в коем случае «не выходя к таким проблемам, как Человек, Человеческое, Гуманизм»; они, с его точки зрения, лежат вне сферы искусства. Веркор, напротив, решительно оспорил возможность обсуждать вопросы «романной техники», не соотнося произведение с тем, что в нем сказано о судьбах человечества. «Писатель, — заявил Веркор, — избирая в качестве орудия своей деятельности слово, берег на себя нелегкую, но неизбежную ответственность. Его творчество может или способствовать последовательному развитию человечности, или, напротив, тормозить этот процесс, то есть менять его направление, вести к регрессу». К дискуссиям о типах романа и вообще стилевых течениях Веркор относится с присущим ему юмором: «Мы напоминаем туристов, которые горячо обсуждают, какой вид транспорта — пароход, самолет или поезд — избрать, не обсудив еще, куда отправляться…» Подобно тому как Веркор-философ не собирается выдавать себя за обладателя истины в последней инстанции, Веркор-художник вовсе не проявляет непримиримости к иным художественным решениям. А если он отказывается следовать совету крайних экспериментаторов, то с такой же независимостью ведет он себя и слыша советы советских коллег поменьше заниматься «человеком вообще», почаще вспоминать, что истинную «суть человека» выражают судьбы Юлиуса Фучика, Габриэля Пери, Алексея Маресьева. Веркор смело отстаивал свое направление художественного исследования человеческого в человеке во время этих встреч в 1955 году, а позднее писал: «С той поры и у них выяснилось, что можно долго жить, путая героя с преступником, не замечая, как герой превращается в преступника». Каждая книга Веркора — к какой бы повествовательной модели она ни тяготела — всегда сигнал тревоги: «Я пишу, чтобы вселить дух беспокойства». И если Веркор призывает роман «быть все время с человеком, среди обстоятельств, от которых зависит его судьба», то ждет он от такого «соседства» результата, который — увы! — не реализован до сих пор ни на родине Веркора, ни на родине Чехова: «Необходимо, чтобы родилась новая мораль — без нее человек рискует оказаться беспомощным перед толпой, и она подчинит его коллективному сознанию». Пробудить в человеке личность, которая бы сама, без ссылок на авторитеты, без рабской зависимости от принятого, привычного, вела на равных диалог с веком, — от этой задачи Веркор не отступал никогда.
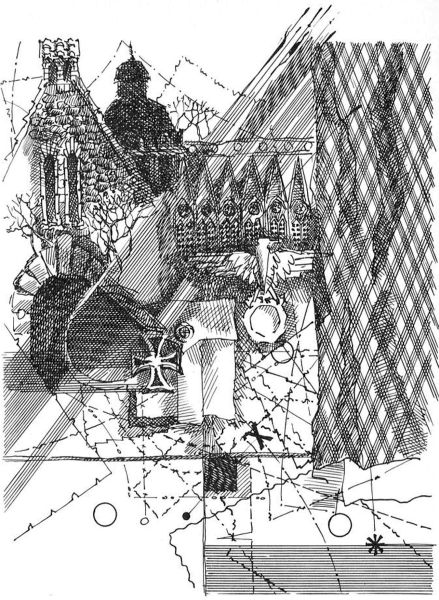
Молчание моря (Перевод H. Столяровой и H. Ипполитовой)
Памяти убитого поэта Сен-Поль РуДо него здесь побывали представители разных родов войск. Прежде всего пехтура: двое солдат, совсем белобрысых, один нескладный, тощий, другой коренастый, с руками каменотеса. Они оглядели дом, не заходя в него. Затем появился унтер-офицер. Его сопровождал нескладный солдат. Они заговорили со мной на языке, по их мнению, французском. Я не понял ни слова. Однако показал им свободные комнаты. Они, видимо, остались довольны. Утром военная машина, серая и огромная, въехала в сад. Шофер и худенький молодой солдат, улыбающийся и светловолосый, выгрузили из нее два ящика и большой тюк, обернутый в брезент. Они втащили все это наверх, в самую просторную комнату. Машина ушла, а через несколько часов я услышал конский топот. Показались три всадника. Один из них спешился и пошел осматривать старое каменное строение во дворе. Он вернулся, и все они, люди и лошади, вошли в ригу, служившую мне мастерской. Позднее я обнаружил, что в стену между двумя камнями они засунули гребенку от моего верстака, к гребенке прикрепили веревку и привязали лошадей. В течение двух дней не произошло ничего. Я больше никого не видал. Кавалеристы уезжали со своими лошадьми рано утром, возвращались вечером и ложились спать на сеновале, куда они притащили солому. На третий день утром вернулась военная машина. Улыбающийся солдат взвалил себе на плечи объемистый сундук и отнес его в большую комнату. Потом взял свой мешок и положил его в соседнюю. Он сошел вниз и, обращаясь к моей племяннице на правильном французском языке, потребовал постельное белье. Когда раздался стук, открывать пошла моя племянница. Она, как обычно, только что подала мне вечерний кофе, действующий на меня как снотворное. Я сидел в глубине комнаты, немного в тени. Дверь комнаты выходит прямо в сад, и вдоль всего дома тянется тротуар, вымощенный красными плитками, очень удобный во время дождя. Мы услышали шаги: стук каблуков по тротуару. Племянница взглянула на меня и поставила чашку. Я по-прежнему держал свою в руках. Было темно, не очень холодно. Ноябрь в этом году вообще не был холодным. Я увидел очень высокий силуэт, плоскую фуражку, плащ, наброшенный на плечи наподобие пелерины. Племянница молча открыла дверь. Откинула ее к стене и сама стояла, прижавшись к стене, не поднимая глаз. Я продолжал маленькими глотками пить свой кофе. Офицер в дверях сказал: — Простите. Он слегка поклонился. Казалось, он пытался вникнуть в тайный смысл нашего молчания. Потом он вошел. Плащ соскользнул ему на руки, он козырнул по-военному и снял фуражку. Он повернулся к моей племяннице и, снова слегка поклонившись, чуть заметно улыбнулся. Затем с более низким поклоном обратился ко мне. Он сказал: — Меня зовут Вернер фон Эбреннак. — У меня мелькнуло в голове: «Имя звучит не по-немецки. Потомок эмигранта-протестанта?» Он добавил протяжным голосом: — Я очень сожалею. Слова эти потонули в молчании. Племянница закрыла дверь. Она все еще стояла у стены, глядя прямо перед собой. Я не двинулся с места. Медленно поставил пустую чашку на фисгармонию, скрестил руки и ждал. Офицер продолжал: — Я не мог этого избежать. Если бы можно было, я бы уклонился. Надеюсь, мой ординарец сделает все, чтобы вас не беспокоить. Он стоял посреди комнаты. Он был очень высокий и тонкий. Рукой он мог бы достать до потолка. Благодаря наклону головы вперед (казалось, его шея поднималась не от плеч, а прямо от груди) он выглядел сутулым. У него были удивительно узкие бедра и плечи. Красивое лицо: мужественное, с впалыми щеками. Глубоко посаженные глаза было трудно разглядеть. Они показались мне светлыми. Отброшенные назад волосы, белокурые и шелковистые, мягко блестели при свете лампы. Молчание продолжалось. Оно становилось все плотнее и плотнее, как туман на рассвете. Плотное и неподвижное. Неподвижность моейплемянницы и моя, очевидно, делали это молчание еще тяжелее, наливали его свинцом. Растерянно, не шевелясь, стоял офицер. Наконец я заметил улыбку на его губах. Она была серьезной, эта улыбка, без тени иронии. Он сделал какое-то движение рукой, смысл которого ускользнул от меня. Глаза его остановились на моей племяннице, застывшей у стены, и я мог не таясь разглядеть волевой профиль, большой тонкий нос. Между полураскрытыми губами я заметил блеск золотого зуба. Наконец он отвел глаза, поглядел на пламя в камине и сказал: — Я глубоко уважаю людей, любящих свою родину. — Потом резко поднял голову и устремил взгляд на деревянную скульптуру ангела над окном. — Я мог бы теперь подняться в свою комнату, но я не знаю дороги. Племянница открыла дверь, выходящую на лесенку, и стала подниматься по ступенькам, не глядя на офицера, словно никого рядом с ней не было. Офицер шел за ней. Тут я увидел, что одна нога у него не сгибается. Я слышал, как они прошли через переднюю; шаги немца раздавались в коридоре попеременно то глухо, то явственно. Открылась и закрылась дверь. Племянница вернулась. Она взяла свою чашку и принялась снова пить кофе. Я раскурил трубку. Несколько минут мы молчали. Я сказал: — Слава богу, он как будто приличный человек. Племянница пожала плечами. Она положила к себе на колени мою вельветовую куртку и пришила незаметную заплатку.
На следующее утро, когда мы завтракали в кухне, офицер сошел вниз. Сюда ведет другая лестница, и я не знаю, услышал ли немец наши голоса или случайно пошел этим путем. Он остановился на пороге и сказал: — Я прекрасно провел ночь. Надеюсь, что и вы тоже. Он оглядел просторную комнату. У нас было мало дров и еще меньше угля, и мы решили переселиться на зиму в кухню; поэтому я отделал ее заново. Мы украсили ее различной медной утварью и старинными декоративными тарелками, перенесли туда кое-какую мебель. Он разглядывал все с едва заметной улыбкой, открывавшей узкую полоску ослепительно белых зубов. Я увидел, что глаза у него не голубые, как мне показалось вначале, а золотистого оттенка. Затем он пересек комнату и открыл дверь в сад. Он сделал два шага и обернулся, чтобы взглянуть на наш длинный, низкий дом с темной черепичной крышей, весь увитый виноградом. Его улыбка стала шире. — Ваш старый мэр обещал поместить меня в замке, — сказал он, указывая рукой на вычурное строение на пригорке, видневшееся сквозь оголенные деревья. — Я поблагодарю моих подчиненных за то, что они ошиблись. Этот замок много лучше. Он прикрыл за собой стеклянную дверь, поклонился нам через стекло и ушел. Вернулся он вечером, в тот же час, что и накануне. Мы пили кофе. Он постучался, но не стал дожидаться, пока племянница откроет ему, и открыл дверь сам. — Боюсь, что беспокою вас, — сказал он. — Если вам удобнее, я буду проходить через кухню: тогда вы сможете запирать эту дверь на ключ. Он прошел через комнату; взявшись за ручку двери, ведущей наверх, он задержался на минуту и обвел глазами стены. Наконец он слегка поклонился: — Желаю вам спокойной ночи, — и вышел. Мы так ни разу и не заперли двери на ключ. Я не уверен, что все наши поступки нам были в ту пору понятны и ясны. По молчаливому согласию мы с племянницей решили ничего в нашей жизни не менять, ничего — мы вели себя так, будто офицера не существовало, будто он был призраком. Но, быть может, это решение не запирать двери было подсказано и другим чувством: я не умею, не страдая, обидеть человека, даже врага. Довольно долгое время — больше месяца — эта сцена повторялась ежедневно. Офицер стучался и входил. Он произносил несколько слов о погоде, о температуре воздуха или о других столь же малозначительных вещах: слова, не требующие ответа. Он всегда немного задерживался на пороге маленькой двери и окидывал взором комнату. Легкая улыбка говорила об удовольствии, которое, казалось, доставлял ему этот осмотр, — и так каждый день. Его взгляд останавливался на склоненном профиле моей племянницы, неизменно строгой и бесстрастной, и когда он наконец отводил глаза, я всегда ловил в них сочувственное одобрение. Откланиваясь, он говорил: «Желаю вам спокойной ночи». Все неожиданно изменилось однажды вечером. На дворе шел дождь с мелким снегом; было ужасно холодно и сыро. Я подкладывал в камин толстые поленья, которые берег для таких дней. Помимо своей воли я думал об офицере, идущем по улице, представлял себе, как он войдет, покрытый снегом. Но он не приходил. Час, когда он обычно возвращался, давно миновал, и меня злило сознание, что я не могу отделаться от мысли о нем. Моя племянница медленно вязала с чрезвычайно усердным видом. Наконец послышались шаги. Но шли они из глубины дома. По их неровному звуку я узнал походку офицера. Я сообразил, что он вошел в дом через другую дверь и сейчас направляется к нам из своей комнаты. Конечно, ему не хотелось показываться в насквозь промокшей, потерявшей всякую элегантность форме: он переоделся. Шаги — один тяжелый, другой легкий — спускались по лестнице. Дверь открылась, и появился офицер. Он был в штатском. На нем были брюки из толстой серой фланели и куртка из серого твида с коричневыми прожилками, широкая и свободная. Он носил ее с небрежным изяществом. Свитер из толстой небеленой шерсти, видневшийся из-под распахнутой куртки, облегал его худую мускулистую грудь. — Извините меня. Я не могу согреться. Я сильно промок, а в моей комнате очень холодно. Я погреюсь несколько минут у вашего огня. Он с трудом присел на корточки перед камином, протянул к огню руки и, поворачивая их то одной стороной, то другой, повторял: — Хорошо!.. Хорошо!.. Он повернулся и, по-прежнему сидя на корточках, обхватив колено руками, подставил огню спину. — Ну, это еще ничего, — сказал он. — Зима во Франции мягкая. Вот у нас она жестокая. Очень. У нас леса хвойные, густые, снег на них лежит тяжелый. А здесь деревья нежные и снег, как кружево. Наша природа похожа на быка, мощного и приземистого, — ему нужна сила, чтобы существовать. А ваша — это дух, это мысль, утонченная и поэтическая. Голос у него был довольно глухой, какой-то тусклый. Акцент — легкий, заметный только на твердых согласных. Речь его напоминала чуть певучее гудение. Он встал, оперся локтем о высокий камин, прижался лбом к руке. Он был так высок, что ему приходилось немного нагибаться там, где я не доставал головой. Он стоял так довольно долго, неподвижный, молчаливый. Моя племянница вязала с механической быстротой. Она ни разу не взглянула на него, ни разу. Я курил, полулежа в уютном кресле. Я думал, что ничто не может нарушить тяжести нашего молчания, что он откланяется и уйдет. Но глухое певучее гудение послышалось снова, и казалось, оно не нарушало молчания, а возникало из него. — Я всегда любил Францию, — сказал офицер, не двигаясь. — Всегда. В прошлую войну я был ребенком, что я думал тогда — в счет не идет. Но потом я всегда любил ее. Только любил издалека, как Принцессу Грезу. — Он помолчал и добавил значительно — Из-за моего отца. Он повернулся и, засунув руки в карманы своей куртки, прислонился к камину. Головой он касался карниза. Время от времени он медленно терся о него затылком — движением, характерным для оленя. Тут же стояло кресло, совсем рядом. Но он не сел в него. До последнего дня он ни разу не садился. Мы не предлагали ему этого, и он никогда не делал ничего, что могло бы показаться фамильярным. — Из-за моего отца. Он был настоящим патриотом. Поражение было для него тяжелым ударом. И все же он любил Францию, любил Бриана, верил в него и в Веймарскую республику. Он был большим энтузиастом и часто говорил: «Бриан нас соединит, как мужа и жену». Он верил, что солнце наконец взойдет над Европой… Говоря это, он не сводил глаз с моей племянницы. Он смотрел на нее не как мужчина на женщину, а как смотрят на статую. И действительно, это была статуя. Живая — но все же статуя. — …Но Бриан был побежден. Отец увидел, что Францией управляет ваша жестокая крупная буржуазия — люди, подобные вашим Венделю, Анри Бордо, старому Маршалу. Он сказал мне: «Впервые на землю Франции ты ступишь в военной каске и в сапогах». Я вынужден был пообещать ему это, он был при смерти. И вот к началу войны я знал всю Европу, кроме Франции. Он улыбнулся и сказал, словно в пояснение: — Я ведь музыкант. Из очага выпало полено, вокруг рассыпались угли. Немец нагнулся, подобрал угли щипцами. — Я не исполнитель — я сочиняю музыку. В этом вся моя жизнь; мне странно, что я воин. И все же я не сожалею об этой войне. Я верю, что она послужит началом больших дел. Он выпрямился, вынул руки из карманов и, не опуская их, добавил: — Простите меня: может быть, я задел вас. Но я верю, верю всем сердцем в то, что я вам сказал. Я верю в это из любви к Франции. Что-то очень большое ждет и Германию и Францию после войны. Я верю так же, как и мой отец, что солнце взойдет над Европой. Он сделал два шага и склонился в легком поклоне. Как и каждый вечер, он произнес: «Желаю вам спокойной ночи». И вышел. Я молча докурил свою трубку. Кашлянув, я сказал: — Быть может, бесчеловечно отказывать ему в такой малости, как слово. Моя племянница подняла лицо. Ее брови высоко взметнулись над блестящими от возмущения глазами. Я почувствовал, что краснею.
С этого дня его посещения приняли новый характер. Теперь мы очень редко видели его в форме. Он переодевался, а потом уже стучался к нам. Поступал ли он так, чтобы избавить нас от вида вражеского мундира? Или для того, чтобы мы забыли, что он носит мундир, и привыкли к его присутствию? Вероятно, и то и другое. Он стучался и входил, не ожидая ответа, зная, что не получит его. Он делал это очень естественно и просто. Он подходил погреться к огню, служившему ему постоянным предлогом для прихода, — предлогом, который не обманывал ни его, ни нас и удобную условность которого он даже не пытался скрывать. Он являлся не каждый вечер, но я не помню, чтобы он когда-нибудь ушел, ничего не сказав. Он наклонялся к огню и, подставляя теплу то руки, то спину, тихонько заговаривал своим гудящим голосом. Все эти длинные вечера он вел нескончаемый монолог на темы, заполонявшие его душу: о родине, музыке, Франции. Он ни разу не попытался получить от нас ответа, одобрения или лаже взгляда. Он не говорил много, ни разу не говорил дольше, чем в первый вечер. Он произносил несколько фраз, то разделяя их молчанием, то соединяя их, как в непрерывной, однообразной молитве. Иногда он стоял у камина неподвижно, словно кариатида; иногда, продолжая говорить, подходил к какому-нибудь предмету или к рисунку на стене. Затем он замолкал, откланивался и желал нам спокойной ночи. Как-то раз в одно из первых посещений он сказал: — Чем отличается этот огонь от огня, пылающего у меня дома? Разумеется, и камин, и дрова, и пламя везде одинаковы. Но не похож отсвет от пламени! Он зависит от предметов, которые освещает, от обитателей комнаты, от мебели, стен и книг на полках… — …Почему я так люблю эту комнату? — задумчиво говорил он. — Она не так уж прекрасна — извините меня! — Он засмеялся. — Я хочу сказать, это не музей. О вашей мебели не скажешь: какое чудо искусства!.. Нет. Но у этой комнаты есть душа. Душа есть у всего дома. Он стоял перед книжными полками. Его пальцы с легкой лаской скользили по переплетам. …Бальзак, Баррес, Бодлер, Бомарше, Буало, Бюффон… Шатобриан, Корнель, Декарт, Фенелон, Флобер… Лафонтен, Франс, Готье, Гюго… Какая армия! — сказал он, усмехнувшись, и покачал головой. — А ведь есть еще Мольер, Рабле, Расин, Паскаль, Стендаль, Вольтер, Монтень и все остальные… — Он медленно водил рукой по переплетам и время от времени издавал легкое восклицание, видимо, когда встречал неожиданное имя. — У англичан, — продолжал он, — есть Шекспир, у итальянцев — Данте, у испанцев — Сервантес, у нас, конечно, есть Гёте. Остальных нужно искать в памяти. А у французов? Кто первый приходит на ум? Мольер? Расин? Гюго? Вольтер? Рабле? К то еще? Они теснятся, подобно толпе у входа в театр, — не знаешь, кого впустить первым. Он обернулся и сказал серьезно: — Но что касается музыки — тут уж ищите у нас: Бах, Гендель, Бетховен, Вагнер, Моцарт… чье имя поставить первым? А мы — мы друг с другом воюем! - воскликнул он и медленно покачал головой. Он вернулся к камину, и его улыбающиеся глаза остановились на профиле моей племянницы. — Но эта война последняя! Больше мы воевать не будем: мы сочетаемся браком. — У глаз его появились морщинки, во впадинах на щеках образовались ямочки, блеснули белые зубы. Он весело сказал: Да, да. — Движением головы он подтверждал свои слова. — Когда мы вошли в Сент, — продолжал он после паузы, — я радовался тому, что население нас хорошо встречает. Я был очень счастлив, я думал: все будет легко. Затем я понял, как обстояло дело: это была трусость. — Он сделался серьезным. — Я стал презирать людей. Я стал бояться за Францию. Я думал: действительно ли она так изменилась? — Он покачал головой. — Нет! Нет! Потом я увидел ее, и теперь я счастлив, что у нее такой строгий лик. Его взгляд обратился ко мне я отвел глаза, — немного задержался на различных предметах в комнате и вернулся к беспощадно равнодушному лицу, на которое был устремлен раньше. — Я счастлив, что нашел здесь старого человека с таким чувством собственного достоинства. И молчаливую девушку. Надо победить это молчание. Надо победить молчание Франции. Мне по душе эта задача. Он смотрел на мою племянницу, на ее упрямый, замкнутый и чистый профиль, смотрел с серьезной настойчивостью, но где-то еще таилась улыбка. Племянница чувствовала это. Я увидел, как она слегка покраснела, между бровями ее пролегла складка. Пальцы чересчур торопливо и резко тянули иглу, угрожая порвать нитку. — Да, — снова загудел низкий голос, — так лучше. Гораздо лучше. Это создает крепкий союз — союз двух великих. Есть прелестная детская сказка, которую читал я, читали вы, читали все. Я не знаю, как она называется у вас, у нас она называется: «Das Tier und die Schöne» Красавица и Чудовище. Бедная Красавица! Бессильная пленница, она во власти Чудовища, которое беспощадно терзает ее своим присутствием. Красавица горда, она с достоинством переносит свои страдания… Но Чудовище лучше, чем кажется. О, оно, конечно, очень неотесанно! Оно неуклюже, грубо и особенно уродливо рядом с Красавицей, такой изысканной. Но у Чудовища есть сердце, да, у него есть душа с высокими стремлениями. Если бы только Красавица захотела! Но нет, Красавица не хочет! Идут дни, долгие дни, и понемногу, постепенно что-то открывается Красавице: она начинает замечать во взгляде ненавистного тюремщика, в глубине его глаз что-то похожее на мольбу, на любовь. Она уже не так остро ощущает давящую лапу Чудовища, легче переносит свои оковы… Она уже больше не испытывает ненависти, ее трогает его постоянство, она протягивает ему руку… И вдруг — рушатся колдовские чары, грубая оболочка падает. Чудовища нет перед ней прекрасный рыцарь: красивый и чистый, мягкий и воспитанный. Каждый поцелуй Красавицы украшает его новыми сияющими добродетелями… Высокое счастье озаряет их брак. Их дети, одаренные всеми талантами родителей, — самые прелестные из всех, когда-либо рожденных на земле… Вам не нравится эта сказка? Я всегда ее любил. Я ее читал и без конца перечитывал. Я плакал над ней, особенно меня трогало Чудовище, я так хорошо понимал его муки. Даже сегодня я волнуюсь, когда говорю о нем. Он замолчал, вдохнул с силой воздух и поклонился: — Желаю вам спокойной ночи.
Однажды вечером, поднявшись к себе за табаком, я услышал звуки фисгармонии. Это были Восьмая прелюдия и фуга, которые моя племянница разучивала до разгрома. Ноты так и оставались открытыми на этой странице: до этого вечера моя племянница не решалась вновь прикоснуться к клавишам. Ее музыка вызвала во мне и удовольствие и удивление: что побудило ее играть, какая внезапная внутренняя потребность? Но играла не она. Она сидела на своем обычном месте за рукоделием. Ее взгляд встретился с моим, что-то хотел мне сказать, но что — я так и не понял. Я разглядывал высокую фигуру у инструмента, склоненную шею, длинные руки. Тонкие, нервные пальцы передвигались по клавишам, как живые самостоятельные существа. Он сыграл только Прелюдию. Встал, подошел к огню. — Что может быть выше этой музыки?! — сказал он глухо, вполголоса. — Выше?.. Не то слово, нет. Она вне человека, вне существа его. Она заставляет нас понять… нет, угадать… нет, почувствовать, что такое природа… божественная и непостижимая… природа, не вмещающаяся в человеческую душу. Да, это музыка нечеловеческая. Погрузившись в молчание, он глубоко задумался. Медленно покусывал губу. — Бах… Он мог быть только немцем. В самом характере нашей страны есть это: что-то нечеловеческое. Я хочу сказать — далекое человеку. Молчание. Затем: — Я люблю эту музыку, я преклоняюсь перед ней, я полон ею, она живет во мне, как Бог… но она не моя. Мне, мне бы хотелось создать музыку, близкую человеку. Это тоже путь к достижению правды. Это мой путь. Я не хотел бы, я не мог бы идти другим путем. Теперь я это знаю… Знаю твердо. С каких пор? С тех пор, как живу здесь. Он повернулся к нам спиной. Крепко ухватился за край каминной доски и, держась за нее обеими руками, подставил лицо огню как сквозь прутья решетки. Голос его стал еще глуше, еще тише: — Франция мне теперь нужна. Но я требую многого: я требую, чтобы она меня приняла. Не как иностранца — путешественника или победителя. Нет. Они от нее ничего не получат, им она ничего не даст… Ее ценности, ее огромные ценности не завоюешь. Нужно, чтобы она сама отдала их вместе со своим молоком, чтобы она в материнском порыве дала нам грудь. Я хорошо понимаю, что многое зависит от нас… Но и от нее. Нужно, чтобы она согласилась понять нашу жажду, согласилась утолить ее… согласилась соединиться с нами. Он выпрямился, по-прежнему стоя спиной к нам, уцепившись руками за камин. — А мне, — голос его стал звонче, — мне следует здесь долго жить. В таком доме, как этот. Жить, как сыну такой деревни… Мне это нужно… Он замолчал. Повернулся к нам. Улыбались только губы, но не глаза, смотревшие на мою племянницу. Препятствия будут преодолены, — сказал он. — Искренность всегда преодолевает препятствия… Желаю вам спокойной ночи.
Я не могу припомнить сейчас все, что было сказано в течение более чем сотни зимних вечеров. Но тема не менялась. Это была длинная Рапсодия его открытия Франции: любви к ней издали до того, как он узнал ее, — и любви, возрастающей с каждым днем с тех пор, как он имел счастье жить в ней. И, честное слово, я восхищался им. Да, восхищался тем, что он не терял надежды и что ни разу не попытался он разбить неумолимое молчание резким словом… Напротив, когда, бывало, молчание, как тяжелый, непроницаемый газ, проникнув в нашу комнату, заполняло ее до краев, казалось, что из нас троих легче всего дышалось ему. Тогда он смотрел на мою племянницу с тем особенным выражением одобрения — одновременно серьезно и улыбаясь, — которое появилось у него с первого дня. А я видел, как мечется душа моей племянницы в тюрьме, ею же самой воздвигнутой. Я видел это по многим признакам, из которых самым незначительным было легкое дрожание пальцев. И когда наконец он мягко и спокойно рассеивал молчание своим тихим гудящим голосом, казалось, что и мне дышать становится легче. Он часто говорил о себе: — Мой дом стоит в лесу; там я родился, там ходил в сельскую школу на другой конец деревни. Я не покидал его, пока не поехал в Мюнхен сдавать экзамены, а потом в Зальцбург — учиться музыке. Вернувшись из Зальцбурга, я уже постоянно жил дома. Я не любил больших городов. Я бывал в Лондоне, Вене, Риме, Варшаве и, конечно же, в немецких городах. Мне не нравилось жить в них… Я только очень любил Прагу: ни в одном городе нет столько души. Но особенно я любил Нюрнберг. В этом городе растворяется сердце каждого немца: там он находит дорогие ему призраки, там каждый камень хранит память о тех, кто был гордостью старой Германии. Я думаю, что французы испытывают то же самое перед Шартрским собором. Они также ощущают близость своих предков — их изысканность, величие их веры и благородство. Судьба привела меня в Шартр. О, какое волнение охватывает вас, когда над спелыми хлебами, в голубой, далекой дымке возникает этот призрачный собор! Я старался вообразить себе чувства людей, что некогда стекались к нему пешком, верхом, на телегах… Я разделял эти чувства, я любил этих людей, и как мне хотелось стать им братом! Лицо его омрачилось. — Вероятно, тяжело слышать такие слова от человека, приехавшего в Шартр в бронированной машине… Однако это — правда. Сколько противоречий теснится в душе немца, даже самого лучшего! И как бы он хотел, чтобы его от этого излечили… — Он снова улыбнулся едва заметной улыбкой, которая постепенно осветила все его лицо, и продолжал: — В соседнем от нас поместье живет девушка… Она очень хороша собой и очень кротка. Мой отец всегда надеялся, что я женюсь на ней. Когда он умер, мы были почти помолвлены, нам разрешали совершать вдвоем большие прогулки. Он остановился и ждал, пока моя племянница вдевала в иголку нитку, которая порвалась. Она делала это с большим усердием, но ушко было очень маленькое, и добиться этого было трудно. Наконец она вдела ее. — Однажды, — продолжал он, — мы гуляли с ней по лесу. Вокруг нас резвились зайцы, белки. Цвели самые разнообразные цветы — нарциссы, дикие гиацинты, амариллисы… Девушка вскрикивала от радости, она восклицала: «Я счастлива, Вернер. Я люблю, о, как я люблю эти божьи дары!» Я тоже был счастлив. Мы растянулись на мху среди папоротников. Мы не разговаривали. Мы смотрели, как раскачиваются над нами верхушки елей, как перелетают птицы с ветки на ветку. Вдруг девушка закричала: «О, он укусил меня в подбородок! Маленькая дрянь, скверный комар!» Затем она взмахнула рукой: «Я поймала одного, Вернер! Смотрите, как я накажу его! Я отрываю у него ножки — одну, теперь другую…» — и она проделала все это… — К счастью, — продолжал он, — у нее было много женихов. Совесть меня не мучила. С тех пор я навсегда сохранил страх перед немецкими девушками. Он задумчиво посмотрел на свои ладони и сказал: — Таковы и наши политические деятели. Вот почему я никогда не хотел примкнуть к ним, несмотря на призывы моих товарищей, которые писали мне: «Присоединяйтесь к нам». Нет, я всегда предпочитал оставаться дома. Конечно, это не способствовало успеху моей музыки, но много ли стоит успех по сравнению со спокойной совестью?! Я действительно не сомневаюсь в том, что мои друзья и наш фюрер исповедуют самые великие и благородные идеи. Но я знаю также, что они способны отрывать у комаров одну ножку за другой. Это всегда происходит с немцами, когда они остаются в полном одиночестве, это неизбежно. А кто еще более одинок, чем люди, принадлежащие к одной партии и ставшие хозяевами? К счастью, одиночество кончилось: они во Франции, Франция их излечит. И скажу вам: они это знают. Они знают, что Франция научит их стать действительно большими и чистыми людьми. Он направился к двери и проговорил негромким голосом, как бы про себя: — Но для этого нужна любовь… На мгновенье он оставил дверь открытой и оглянулся. Он смотрел на затылок моей племянницы, склонившейся над рукоделием, на хрупкий и бледный затылок с завитками волос цвета темного красного дерева. Спокойно и решительно он добавил: — …Разделенная любовь. Затем он отвернулся, дверь медленно закрывалась за ним, по-:;а он произносил свое обычное: «Желаю вам спокойной ночи».
Пришли долгие весенние дни. Офицер теперь спускался к нам при последних лучах солнца. Он по-прежнему носил серые фланелевые брюки, но надевал более легкую вязаную куртку на руднику с открытым воротом. Однажды вечером он сошел вниз книжкой в руках, зажав палец между страницами. Лицо его светилось сдержанной улыбкой, как у человека, предвкушающего удовольствие, которое он доставит своему собеседнику. Он сказал: — Я это принес для вас. Страница из «Макбета». Боже! Как это величественно! Он открыл книгу. — Наступает конец. Могущество ускользает из рук Макбета вместе с привязанностью тех, кто наконец понял гнусность его тщеславия. Дворяне, защищающие честь Шотландии, ждут его скорого падения. Один из них описывает трагические приметы приближающейся катастрофы… И он прочел медленно, патетически:
Ангус. На своих руках
Он чувствует налипшие убийства;
Измены мстят ему за вероломство;
Ему послушны только по приказу,
Не по любви; он чувствует, что власть
Болтается на нем, как плащ гиганта
На низкорослом ворс.
О те л л о. Задую свет. Сперва свечу задую, Потом ее.Мы не видели, когда он вернулся. Мы только знали, что он здесь, ведь пребывание чужого в доме узнается по многим признакам, если даже сам он, этот чужой, остается невидимым. Но в течение многих дней — много больше недели — мы его не видали. Признаться ли? Его отсутствие не давало мне покоя. Я думал о нем; не знаю, испытывал ли я сожаление и беспокойство. Ни племянница, ни я не заговаривали о нем. Но когда по вечерам мы слышали над собой глухой звук его неровных шагов, я понимал по повышенному вниманию, которое она вдруг начинала проявить к своей работе, по выражению лица — одновременно сосредоточенному и упрямому, — что она разделяет мои мысли. Однажды мне пришлось пойти в комендатуру по поводу какого-то объявления о шинах. Когда я заполнял бланк, который мне протянули, Вернер фон Эбреннак вышел из своего кабинета. Сначала он не заметил меня. Он обратился к сержанту, сидевшему за столиком перед большим зеркалом на стене. Я услышал его голос, глухой, с певучей интонацией, и хотя мне уже незачем было там оставаться, я продолжал стоять, не знаю для чего, странно взволнованный, ожидая какой-то развязки. Я видел в зеркале его лицо, оно показалось мне бледным и осунувшимся. Глаза его поднялись, встретились с моими, мы не отрывали друг от друга взгляда в течение двух секунд, затем он резко повернулся лицом ко мне. Губы его приоткрылись, он медленно поднял руку — и почти тотчас же уронил ее. С какой-то взволнованной нерешительностью он чуть заметно, не отводя от меня взгляда, покачал головой, как бы говоря себе: нет. Потом слегка поклонился, опустил глаза; прихрамывая, направился в свой кабинет и заперся там. Я ничего не сказал своей племяннице. Но у женщин чисто кошачья догадливость. В течение всего вечера она беспрестанно отрывала глаза от работы, поднимала их на меня, словно что-то пытаясь прочесть на моем лице, пока я старательно раскуривал трубку, с трудом сохраняя невозмутимость. Наконец она устало Уронила руки, сложила свою работу и попросила у меня разрешения удалиться спать. Она медленно провела по лбу двумя пальцами, как бы отгоняя мигрень. Она поцеловала меня, и мне показалось, что я прочитал в ее прекрасных серых глазах упрек и тяжелую печаль. После ее ухода меня охватил бессмысленный гнев: я сердился на собственную безрассудность и на свою безрассудную племянницу. Что это еще за идиотизм?! Но ответить себе на это я не мог. Если это и был идиотизм, то уже пустивший глубокие корни. Спустя три дня мы только закончили наш кофе, как раздались знакомые, неровные шаги, на этот раз, бесспорно, приближающиеся. Я вдруг вспомнил тот зимний вечер, шесть месяцев назад, когда впервые мы услышали эти шаги. Я подумал: «Сегодня тоже идет дождь». Дождь шел с утра: сильный, ровный и настойчивый, он затопил все вокруг и даже в доме создал атмосферу холода и неуюта. Племянница накинула на плечи шелковую косынку, на которой Жаном Кокто были нарисованы десять странных рук, томно указывающих друг на друга. Я согревал трубкой пальцы и это в июле месяце! Шаги прошли через переднюю, потом заскрипели ступеньки лестницы. Он спускался медленно, со все возрастающей медлительностью. Но не колебание чувствовалось в этой медлительности, а воля человека, решившегося на тяжелейшее испытание. Племянница подняла голову и смотрела на меня; все это время она смотрела на меня отрешенным, невидящим взглядом. Когда скрипнула последняя ступенька и наступила томительная тишина, взгляд племянницы оторвался от меня. Я увидел, как отяжелели ее веки, как склонилась ее голова, и она в изнеможении откинулась на спинку кресла. Вероятно, эта тишина длилась несколько секунд, но секунды эти были бесконечны. Мне казалось, что я видел, как человек за дверью стоит с поднятой для стука рукой и отдаляет, все отдаляет минуту, когда этим стуком он поставит на карту свое будущее… Наконец он постучал. В этом стуке не было ни легкости колебания, ни резкости внезапно преодоленной робости. Он постучал три раза громко, внятно и уверенно, как бы закрепляя этим бесповоротно принятое решение. Я ожидал, что дверь, как прежде, тут же откроется. Но она оставалась закрытой, и тогда невероятное волнение охватило мой ум; обрывки противоречивых желаний, неразрешимых вопросов все смешалось в моем мозгу, и с каждой мчавшейся, как лавина, секундой ощущение это становилось все более тяжелым, более безысходным. Нужно ли отвечать? Откуда эта перемена? Почему в этот вечер он ожидал, что мы наконец нарушим молчание, упорство которого он до этого времени одобрял всем своим поведением? В этот вечер, в этот час — что приказывало мне чувство собственного достоинства? Я посмотрел на племянницу, чтобы в глазах ее прочесть одобрение или какой-нибудь знак, но увидел лишь ее профиль. Она смотрела на ручку двери. Она смотрела на нее тем же нечеловечески пристальным, отрешенным взглядом, который уже однажды поразил меня. Она была очень бледна, и я видел, как поднялась ее верхняя губа, обнажив в страдальческой гримасе тонкую белую линию зубов. Какими благодушными показались мне мои колебания в сравнении с этой внезапно раскрывшейся душевной драмой! Я утратил последние силы. Раздались два новых удара — только два, — слабые и торопливые, и племянница сказала: — Он сейчас уйдет… Сказала тихо, с таким отчаянием, что я не стал больше ждать и внятно произнес: — Войдите, сударь. Почему я добавил «сударь»? Чтобы подчеркнуть, что я приглашал человека, а не вражеского офицера? Или, наоборот, чтобы показать, что я знал, кто стучит, и обращаюсь именно к нему? Не знаю. Да и неважно. Остается фактом то, что я сказал «войдите, сударь», — и он вошел. Я ожидал увидеть его в штатском, но он был в мундире. Я бы сказал, что он был в мундире больше, чем когда-либо: казалось, он надел его потому, что принял твердое решение привлечь к нему наше внимание. Он распахнул дверь и остановился на пороге, такой прямой и чопорный, что я стал почти сомневаться, тот ли это человек передо мной. Я в первый раз заметил его удивительное сходство с актером Луи Жуве. Так он стоял несколько секунд, прямой, чопорный и молчаливый, слегка расставив ноги, с безжизненно опущенными вдоль тела руками и с таким холодным, предельно бесстрастным лицом, что, казалось, его покинуло всякое чувство. Но мне, сидевшему в глубоком кресле, была хорошо видна его левая рука. Я не мог оторвать от нее глаз словно завороженный слишком волнующим было зрелище этой руки, патетически противоречащее всей позе человека… Я понял в тот день, что для тех, кто умеет видеть, руки могут выражать чувства так же, как и лицо, и даже сильнее: они меньше контролируются волей… Лицо и тело человека оставались напряженно неподвижными, а пальцы его руки сгибались и разгибались, сжимались и разжимались, их движения были предельно выразительными… Глаза его, казалось, ожили, они задержались на мгновение на мне — блестящие глаза с широко раскрытыми и неподвижными веками, усталыми и набрякшими, как у человека, который давно не спал. Мне почудилось, что меня подстерегает сокол. Затем взгляд его остановился на моей племяннице и уже не покидал ее. Наконец рука его замерла, пальцы впились в ладонь, рот открылся с придыханием, напоминающим звук, с которым пробка вылетает из бутылки, и офицер произнес — голос его был еще глуше, чем обычно: — Я должен вам сказать нечто важное. Моя племянница сидела напротив него, опустив голову. Она наматывала на пальцы шерсть с клубка, который, разматываясь, кружился на ковре. Видимо, только это бессмысленное занятие было ей под силу в те минуты, помогая ей скрывать свое состояние. Офицер заговорил снова — казалось, он сделал усилие, почти стоившее ему жизни: — Все, что я говорил в течение этих шести месяцев, все, что стены этой комнаты слышали… — он с трудом вдохнул воздух, как астматик, и на мгновение задержал дыхание… — …нужно… — он выдохнул, — нужно забыть. Девушка медленно уронила руки на колени, и так они и остались, бессильные и безжизненные, как выброшенные на песок лодки. Она медленно подняла голову и тогда впервые - впервые! - взглянула на офицера своими прозрачными глазами. Он сказал (я едва расслышал): — Oh, welch ein Licht![1] Но это был даже не шепот. И словно и вправду его глаза не могли вынести этого света, он прикрыл их рукой. На две секунды; затем он уронил руку, но веки его теперь были опущены, и он уже не поднимал взгляда… Губы его с трудом разомкнулись, и он произнес глухим голосом: — Я видел этих победителей. Затем, через несколько секунд, еще более тихим голосом: — Я говорил с ними. И наконец шепотом, с горькой медлительностью: — Они высмеяли меня. Он поднял на меня глаза и трижды едва заметно покачал головой. Глаза его закрылись, он продолжал: — Они сказали: «Вы что, разве не поняли, что мы их дурачим?» Они выразились именно так: «Wir prellen sie». Они говорили: «Вы, конечно, не предполагаете, что мы, как дураки, допустим восстановление Франции у нашей границы? А?» Они хохотали. Они весело хлопали меня по спине, смеясь мне в лицо: «Мы не музыканты!» Его голос, произнося последние слова, выражал презрение, и я не знал, хотел ли он передать этим презрение тех людей к нему или же свое собственное к ним отношение. — Я убеждал их долго и страстно. Они прищелкивали языком; они говорили: «Политика — это не мечта поэта. Как вы полагаете, ради чего мы вели войну? Ради их старого Маршала? — И они снова смеялись: — Мы не сумасшедшие и не простаки; нам представился случай уничтожить Францию, и мы ее уничтожим. И не только ее мощь, но и душу ее. Особенно душу. Именно в ней — самая большая опасность. Вот над чем мы трудимся сегодня, не обманывайтесь на этот счет, голубчик! Мы растлим эту душу нашими улыбками и церемонным обхождением. Мы обратим ее в пресмыкающегося пса». Он замолчал. Казалось, он задыхался. Он с такой силой сжимал челюсти, что я увидел, как на щеках его задвигались желваки, а на виске, выпуклая и извилистая, как червяк, забилась жилка… Вдруг вся кожа на его лице зашевелилась, словно от внутреннего трепета, — как озеро под порывом легкого ветра, как пенка на закипающем молоке. Его глаза не отрывались от прозрачных, расширенных глаз моей племянницы, и он сказал тихо, тускло, придушенно, с мучительной медлительностью: — Надежды нет, — и еще тише, еще глуше, еще медленнее, будто казня себя этим страшным признанием: — Нет надежды. Надежды нет! — И вдруг, неожиданно высоким и сильным голосом — к моему удивлению, ясным и звонким, как рожок горниста, как крик: — Нет надежды! Наступило молчание. Мне показалось, что он смеется. На напряженном лбу его образовались глубокие борозды. Губы его дрожали — лихорадочные и бескровные губы больного. — Они сердились и ругали меня: «Вот видите! Видите, как вы ее любите! Вот она, великая опасность! Но мы излечим Европу от этой чумы! Мы выкачаем из нее этот яд!» Они мне все объяснили. О, они ничего от меня не скрыли! Они хвалят ваших писателей, и в то же время в Бельгии, в Голландии, во всех странах, занятых нашими войсками, они уже поставили заграждения. Ни единой французской книги не пропустят через границу, ничего, кроме технических изданий, учебников по диоптрике или инструкций по цементированию… Ни единого литературного произведения. Ни единого! Его взгляд блуждал по комнате, натыкаясь на углы, как заблудившаяся ночная птица, пока не успокоился на темных книжных полках, где выстроились в ряд Расин, Ронсар, Руссо. Его глаза не отрывались от них, и снова страстно затосковал голос: — Ничего, ничего, ничего! — И как будто мы еще не поняли, не измерили чудовищность угрозы: — Не только ваших современников! Не только ваших Пеги, Прустов, Бергсонов… Но и всех остальных! Всех! Всех! Всех! Взгляд его еще раз с нежностью и отчаянием скользнул по] мягко блестевшим в тени переплетам. — Они погасят пламя совсем! - вскричал он. — Европу больше не озарит этот свет! И его голос, глубокий и торжественный, произнес одно лишь слово, нашедшее в моей груди неожиданный и потрясающий отзвук, — слово, протяжное, как трепетная жалоба: — Nevermore![2] Снова наступило безмолвие, но какое же оно было сумрачное и напряженное сейчас! Прежде в минуты молчания я видел под гладкой поверхностью вод схватку морских обитателей, брожение подводной жизни — скрытых чувств, противоречивых желаний и мыслей. Но за этим молчанием не было ничего, кроме ужасной подавленности… Его голос наконец тихо и горестно нарушил тишину: — У меня был друг. Он был мне брат. Мы вместе учились. Мы жили в одной комнате в Штутгарте. Мы провели вместе три месяца в Нюрнберге. Мы ничего не делали друг без друга. Я играл ему свои сочинения, он мне читал свои поэмы. Он был чувствителен и романтичен. Но он покинул меня и отправился читать свои поэмы в Мюнхен новым товарищам. Это он писал: мне постоянно, чтобы я присоединился к ним, именно его я видел в Париже с новыми друзьями. Я увидел, что они из него сделали! Он медленно покачал головой, как бы с мукой отказываясь слушать чью-то мольбу. — Он был самым неистовым! В нем бушевали попеременно ярость и насмешка. Он то смотрел на меня жгучим взглядом; и кричал: «Это яд! Нужно выпустить яд из животного!» То тыкал меня в грудь своим указательным пальцем: «Они теперь в великом страхе, ха-ха! Они дрожат за свои карманы и свою жизнь — за свою промышленность и торговлю. Только об этом они и думают! А тех, кто является редким исключением, мы усыпим лестью, ха-ха!.. Это совсем не трудно!» Он смеялся, и лицо его розовело: «Мы купим их душу за чечевичную похлебку». Вернер перевел дыхание: — Я им сказал: «Сознаете ли вы, что вы делаете? Сознаете ли вы?!» Он сказал: «Вы думаете, это нас смутит? Наша прозорливость иного закала!» Я спросил: «Значит, вы запечатаете эту гробницу? Навеки?» Он ответил мне: «Дело идет о жизни и смерти. Чтобы победить, достаточно силы; но чтобы властвовать — нет! Мы хорошо знаем, что армия не может удержать власть». «Но не этой же ценой! — вскричал я. — Не ценою убийства духа!» «Дух никогда не умирает, — возразил он, — дух — тот видал виды. Он возникает из собственного пепла. Мы должны строить на тысячелетия вперед, но сначала нужно разрушить». Я смотрел на него. Я смотрел самую глубину его ясных глаз. Он был искренен, да. И в этом весь ужас. Глаза его широко раскрылись — как при виде гнусного убийства. — Они сделают то, о чем говорят! — закричал он, словно боялся, что мы ему не поверили. — Методично и настойчиво! Я знаю этих остервенелых дьяволов! Он тряхнул головой, как собака, у которой болит ухо. Какой-то звук вырвался сквозь его стиснутые зубы, тоскливый и страстный, как стон обманутого любовника. Он не двинулся с места. Он по-прежнему неподвижно и напряженно стоял на пороге, с опущенными руками, словно пальцы его были налиты свинцом. Он был бледен, но не восковой бледностью, а какой-то серовато-землистой, как старая, покрытая известью стена. Я увидел, как он медленно наклонился. Он поднял руку. Он вытянул ее, ладонью со сложенными пальцами вниз, в нашу сторону. Он сжал кулак и потряс им, лицо его зажглось какой-то дикой энергией. Губы его приоткрылись, и мне показалось, что вот сейчас он бросит нам какой-то призыв; мне почудилось, да, мне почудилось, что сейчас он призовет нас к восстанию! Но ни одно слово не сорвалось с его уст. Он сжал рот, закрыл глаза и выпрямился. Его руки поднялись к лицу, делая какие-то странные движения, напоминающие фигуры из религиозных яванских танцев. Затем он прикрыл ладонями виски и лоб, зажимая веки вытянутыми мизинцами. — Они мне сказали: «Это наше право и наш долг!» Наш долг! Блажен тот, кто так легко и уверенно находит путь к своему долгу! Он уронил руки. — На перекрестке тебе говорят: «Идите этой дорогой». — Он покачал головой. — А ты видишь, что эта дорога ведет не к светлым вершинам, а вниз, в зловещую ложбину, в душнуютьму мрачного леса!.. Боже! Укажи мне, где мой долг! Он сказал — он почти крикнул: — Эта борьба — великая битва между Преходящим и Вечным! Он пристально и скорбно глядел на деревянного ангела над окном, вдохновенного и улыбающегося, излучающего небесное спокойствие. Внезапно он весь смягчился. Тело утратило напряженность. Он опустил взгляд к земле и затем снова поднял его. — Я использовал свое право, — сказал он просто. Я попросил разрешения присоединиться к боевой дивизии. Мне оказали наконец эту милость. Завтра я могу двинуться в путь. Мне почудилось, что на губах его мелькнула неуловимая усмешка, когда он уточнил: — В ад. Его рука указала на восток — в сторону огромных полей, где будущий хлеб взойдет на трупах. Я подумал: «Итак, он подчинился. Вот единственное, что они умеют делать. Они все подчиняются. Даже он». Мне стало больно, когда я взглянул на лицо моей племянницы. Оно было мертвенно-бледным. Губы ее, подобные краям опаловой вазы, разомкнулись, и лицо застыло в трагической неподвижности греческих масок. И я увидел, как на грани лба и волос у нее брызнули — не появились, а именно брызнули капельки пота. Я не знаю, увидел ли это Вернер фон Эбреннак. Его зрачки, казалось, соединились со зрачками девушки — как лодка, привязанная к берегу и увлекаемая течением, — такой натянутой, напряженной нитью, что нельзя было решиться провести пальцем перед их глазами. Эбреннак одной рукой схватился за ручку двери. Другой он держался за косяк. Не отрывая взгляда, он медленно тянул к себе дверь. Он сказал — и голос его был до странности лишен выражения: — Желаю вам спокойной ночи. Я подумал: сейчас он закроет дверь и уйдет. Но нет. Он смотрел на мою племянницу. Он сказал — он прошептал: — Прощайте. Он не шевелился. Он стоял совсем неподвижно, и на неподвижном и напряженном лице глаза казались еще неподвижнее и напряженнее. Они смотрели в широко открытые, прозрачные глаза моей племянницы. Это длилось и длилось — сколько времени? — это длилось до тех пор, пока наконец девушка не разжала губы. Глаза Эбреннака блеснули. Я услышал: — Прощайте. Нужно было ловить это слово, чтобы его услышать, но, так или иначе, я его услышал. Фон Эбреннак услышал тоже. Он выпрямился. Лицо и тело его успокоились, словно после освежающей ванны. Он улыбнулся, и эта улыбка осталась последним воспоминанием о нем. Дверь закрылась, и шаги затихли в глубине дома.
Его уже не было, когда я спустился выпить свою утреннюю чашку молока. Моя племянница, как обычно, готовила завтрак. Она молча подала мне молоко. Мы молча пили. На дворе сквозь туман просвечивало бледное солнце. Мне показалось, что очень холодно. Октябрь, 1941
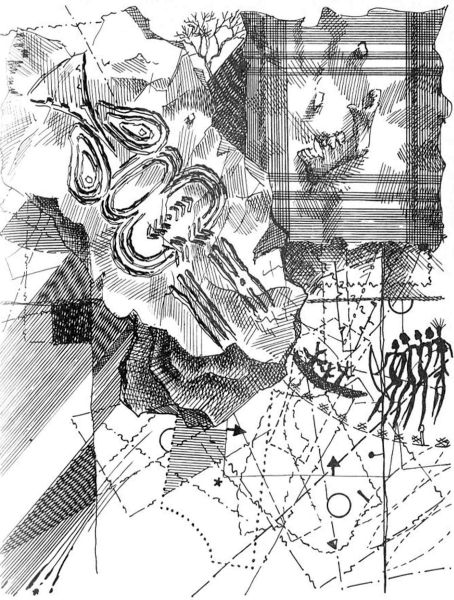
Люди или животные (Перевод Р. Закарьян и Г. Сафроновой)
Все несчастья на земле происходят оттого, что люди до сих пор не уяснили себе, что такое человек, и не договорились между собой, каким они хотят его видеть.Д. М. Темплмор. Животные или почти животные
Глава первая,
которая, как положено, начинается с обнаружения трупа, правда, трупа совсем крошечного, по озадачившего всех. Гнев и изумление доктора Фиггинса. Полная растерянность полицейского инспектора Брауна. К их неудовольствию, убийца настаивает на том, чтобы его привлекли к судебной ответственности. Первое появление Paranthropus. Согласитесь, если вас разбудят в пять часов утра (пусть даже, как врач, вы привыкли к таким ранним звонкам), вряд ли это настроит вас на юмористический лад. А потому нет ничего удивительною, что доктор Фиггинс, поднятый на ноги ни свет ни заря, совсем по-иному отнесся к событиям, которые наверняка развеселили бы и меня, и вас после хорошего завтрака в постели. Даже вид Дугласа Темплмора усугублял комизм этого совершенно невероятного происшествия, хотя Дуглас являл собой зрелище скорее трагическое, и не без основания; что же касается доктора Фиггинса — то все это настроило его на еще более мрачный лад. Так же как и, мягко выражаясь, необычный покойник, которого ему пришлось осмотреть. Ибо в этой истории речь сразу же пойдет о покойнике. Простите за слишком банальное начало, но это, право, не моя вина. Впрочем, надо оговориться, труп был совсем крошечный. И понятно поэтому, что доктор Фиггинс, который за свою многолетнюю практику видел столько разных трупов и больших и маленьких, — взглянув на этот, сначала даже ничуть не удивился. Он только на мгновение наклонился над колыбелькой, а затем, выпрямившись, посмотрел на Дугласа, и лицо его приняло, если можно так сказать, профессиональное выражение. То есть каждой своей морщинкой он сумел мастерски показать, что понимает всю тяжесть этой минуты, сочувствует Дугласу, но не может не осуждать его. Несколько минут длилось красноречивое молчание, потом густые усы доктора зашевелились, и он произнес: — Боюсь, что вы вызвали меня слишком поздно… При этих словах он не без некоторого раздражения вспомнил, как рано его разбудили сегодня. Но Дуг в ответ лишь наклонил голову и сказал бесстрастным голосом: — Я хотел, чтобы вы именно это констатировали. — Простите? — Ребенок умер, я полагаю, минут тридцать пять сорок тому назад? Тут уж доктор Фиггинс позабыл не только о том, что ему не дали сегодня выспаться, но и вообще обо всем на свете; каждый волосок его густых усов заходил от слишком бурного негодования. — Черт побери, но почему же в таком случае вы не вызвали меня раньше? — Вы не совсем меня поняли, — ответил Дуг. — Я ввел ему большую дозу стрихнина. Доктор попятился, опрокинул стул, пытался его подхватить и не сумел удержать довольно-таки глупого восклицания: — Но ведь это же убийство! — Вот именно, — согласился Дуг. — What the devil![3] Но почему же… Как вы могли… — С вашего разрешения, я объясню вам все несколько позже. — Надо немедленно сообщить в полицию, — проговорил доктор в сильном волнении. — Я как раз собирался просить вас об этом. Фиггинс дрожащей рукой поднял трубку, назвал номер полицейского участка Гилдфорд, вызвал к телефону инспектора и, овладев собой, спокойно попросил прислать кого-нибудь в Сансет-коттедж установить факт преступления, совершенного над новорожденным. — Детоубийство? — Да. Отец мне уже во всем сознался. — Черт возьми! Смотрите же, чтобы он не удрал! — Мне кажется, он и не думает удирать. Доктор повесил трубку и снова подошел к ребенку, приподнял его веки, открыл рот. Его удивили уши ребенка, слишком высоко посаженные, очень маленькие, почти без мочек, но он ничего не сказал, видимо не придав этому особого значения. Открыв чемодан с инструментами, он собрал на кусочек ваты всю имеющуюся во рту ребенка слюну. Ватку положил в маленькую коробочку и снова закрыл чемодан. Затем он тяжело опустился в кресло напротив Дуга. Все это время Дуг сидел неподвижно. Так, молча, просидели они до самого прихода полиции. Инспектор оказался очень любезным, благовоспитанным и застенчивым светловолосым молодым человеком. Допрашивал он Дугласа мягко и даже почтительно. Задав ему несколько вопросов, чтобы установить личность преступника, он спросил: — Вы являетесь отцом ребенка, не так ли? — Да. — Ваша супруга у себя? — Да, если вы хотите, я могу позвать ее. — О нет, — ответил инспектор. — Мне не хотелось бы беспокоить роженицу. Я сам пройду к ней немного погодя. — Боюсь, что я ввел вас в заблуждение, — заметил Дуглас. Это не ее ребенок. Инспектор заморгал своими белесыми ресницами. Прошло немало времени, прежде чем он понял. — О!.. Well…[4] Но мать ребенка тоже здесь? — Нет, — ответил Дуглас. — А… а где же она? — Ее вчера отвезли обратно в зоопарк. — Она там служит? — Нет, ее там содержат. Инспектор вытаращил глаза. — То есть как? — Видите ли, его мать, собственно говоря, не женщина. Это самка вида Paranthropus Erectus. Врач и инспектор с минуту стояли молча, тупо уставившись на Дуга, потом украдкой и с беспокойством переглянулись. Дуг не смог сдержать улыбки. — Если вы, доктор, более внимательно осмотрите ребенка, то, конечно, обнаружите явные отклонения от нормы. Поколебавшись секунду, доктор решительным шагом подошел к колыбельке, откинул с маленького тельца одеяло и развернул пеленки. — Damn![5]— только и смог произнести он, с яростью хватая чемодан и шляпу. Волнение врача передалось инспектору. — В чем дело? — спросил он, быстро подходя к колыбельке. — Это же не мальчик, — ответил врач. — Это же обезьяна. — Вы в этом совершенно уверены? — как-то странно спросил Дуглас. Фиггинс покраснел до корней волос. — То есть как, уверен ли я? Господин инспектор, нас с вами самым глупейшим образом мистифицируют. Не знаю, как вы, но я… И, не закончив фразы, он решительно направился к выходу. — Простите, доктор. Одну минутку! — проговорил Дуглас тоном, не допускающим возражений. И, вынув из письменного стола какую-то бумагу, он протянул ее доктору. Это был бланк Королевского колледжа хирургии. — Прочтите, пожалуйста. Не без колебаний доктор взял бумагу и надел очки. «Я, нижеподписавшийся, Э. К. Вильямс, член Королевского колледжа хирургии, кавалер ордена Британской империи, доктор медицины, удостоверяю, что сегодня в 4 часа 30 минут утра принял физически нормального ребенка мужского пола у самки человекообразной обезьяны, прозванной Дерри и принадлежащей к виду Paranthropus Erectus. 19 декабря 19… года в Сиднее в научных целях мною было произведено искусственное оплодотворение этой самки; своим появлением на свет новорожденный обязан Дугласу М. Темплмору». Глаза доктора Фиггинса, и без того готовые выпрыгнуть из орбит, приняли такие невероятные размеры, что Дуг подумал: «Сейчас лопнут». Не говоря ни слова, доктор протянул бумагу полицейскому инспектору, посмотрел на Дугласа так, словно перед ним был призрак Кромвеля, и снова подошел к колыбельке. Еще раз внимательно осмотрев ребенка, он перевел полный изумления взгляд на отца, потом снова посмотрел на ребенка и опять на Дуга. — Никогда не слышал ничего подобного, глухо пробормотал он. Что это за Paranthropus Erectus? — Пока о нем еще ничего не известно. — То есть как? — Это нечто вроде человекообразной обезьяны. Около тридцати таких экземпляров недавно доставлено в Антропологический музей. Там их как раз сейчас изучают. — Но вы-то, вы-то… — начал доктор и, не договорив, снова подошел к колыбельке. — Нет, это все-таки обезьяна. У нее четыре руки, произнес с явным облегчением. — Не слишком ли поспешный вывод? — мягко заметил Дуглас. — Четвероруких людей не бывает. — А вы представьте себе, доктор, ну хотя бы железнодорожную катастрофу… Вот давайте закроем ему ножки… перед нами просто маленький мертвый ребенок с отрезанными ножками… Вы и теперь настаиваете? — У него слишком длинные руки, — ответил доктор после минутного раздумья. — Ну а лицо? Врач поднял на Дуга растерянный взгляд: он был в полном замешательстве. — А уши? — наконец нашелся он. — Подумайте только, доктор, — произнес Дуглас, — что через несколько лет он мог бы научиться писать, читать, решать арифметические задачи. — Теперь, когда мы ничего уже не узнаем, предполагать можно все что угодно, — отпарировал Фиггинс, пожимая плечами. — Нет, почему же, вполне вероятно, мы все это еще узнаем. У него есть братья. Двое уже родились в зоопарке от других самок. Еще трое должны вот-вот появиться на свет… — Ну, вот тогда и будем… — пробормотал доктор, вытирая пот со лба. — Что будем? — Ну, изучать… решать… Подошел инспектор. Он быстро-быстро моргал своими белесыми ресницами. — Мистер Темплмор, что же в таком случае вы хотите от нас? — Я хочу, чтобы вы выполнили свои обязанности. — Но о каких обязанностях может идти речь? Это маленькое существо — обезьяна. Это совершенно ясно. Какого же черта вы хотите… — Это мое дело, инспектор. — Да уж не наше… — Я убил своего ребенка, инспектор. — Я понимаю, но этот… это маленькое существо, оно не… оно не является… — Его крестили, инспектор, и он зарегистрирован в мэрии под именем Джеральда Ральфа Темплмора. Лицо инспектора покрылось мелкими каплями пота. Вдруг он спросил: — А под каким именем записана мать? Под ее собственным: «Туземка из Новой Гвинеи, прозванная Дерри». — Ложное показание! — торжествующе воскликнул инспектор. — Этот акт гражданского состояния не имеет силы. — Ложное показание? — Мать не является женщиной. — Ну, это еще надо будет доказать. — Как доказать? Вы же сами говорили… — По этому вопросу существуют различные точки зрения. — Различные! Но по какому вопросу? Какие точки зрения? — Точки зрения крупнейших антропологов по вопросу о том, к какому виду следует отнести Paranthropus. Это промежуточный вид. Кто они, люди или обезьяны? У них много общего и с теми, и с другими. В конце концов, вполне возможно, что Дерри женщина. Пожалуйста, докажи те обратное. А пока что ее ребенок — мой сын перед богом и перед законом. У инспектора был такой растерянный вид, что Дугласу даже стало жаль его. — Может быть, вы хотели бы посоветоваться со своим начальством? — любезно предложил он. Бесцветное лицо инспектора просветлело. — О да, сэр, если вы разрешите. Инспектор поднял трубку и вызвал полицейский участок Гилдфорд. Он невольно с благодарностью улыбнулся Дугу. А доктор подошел к Дугу и спросил: — В таком случае… если я вас правильно понял… вы скоро станете отцом еще пяти таких обезьянок? — Вы, видимо, начинаете разбираться в существе вопроса, доктор, — ответил Дуг.Глава вторая,
которая, как и следовало ожидать, дополняет краткую историю одного преступления краткой историей одной любви. Читатель впервые знакомится с Френсис Доран в ее маленькой деревушке, расположенной в самом центре Лондона. Он снова встречается с Дугласом Темплмором, на сей раз в кабачке «Проспект-оф-Уитби». Впрочем, знакомство наших героев происходит не здесь и не там, а среди цветущих нарциссов. Вся эта история началась в одно прекрасное апрельское утро (право, зря клевещут на лондонский климат), в то время как Френсис Доран бродила по усеянным цветущими нарциссами лужайкам Риджентс-парка. Она шла, окутанная легким, прозрачным туманом, который поднимается в солнечные дни над мокрыми от росы лугами. Она любила этот парк нежно и как-то по-особенному. Странная и удивительная это была любовь, тем более для жительницы Хемпстед-хайта — самого большого и дикого парка Лондона, расположенного на его северной окраине. Дорога, по которой можно попасть в Хемпстед-хайт с юга, тянется сперва вдоль широкого, почти голого пустыря, где время от времени бывают многолюдные ярмарки, затем пересекает несколько маленьких улочек, на одной из которых некогда жил поэт Ките, и наконец поднимается в гору; и вот здесь, справа от нее, и лежит этот парк, впрочем, он скорее похож на холмистую, поросшую лесом равнину, пригодную для выпаса овец, чем на обычный городской парк. Теперь, когда вы поднялись до половины горы, сверните направо и начните спускаться по маленькой, еле приметной тропинке; извиваясь между деревьями, она неожиданно приведет вас к крошечной, утопающей в зелени деревушке, которая покажется вам необычайно трогательной посреди океана каменных громад. Носит она многообещающее название: «Вэйл-оф-Хелс», что означает «Долина Здоровья». Прозвали ее так не иначе как в шутку, потому что, по слухам, туманы обволакивают ее постоянно; впрочем, когда я впервые попал сюда, стояла чудесная погода… Мы открыли этот благословенный край с одной Моей лондонской приятельницей. И пришли в дикий восторг. Ведь пред нами была настоящая деревня, с небольшими домами, улочками, центральной площадью и даже «пабом» (кабачком) на берегу подернутого туманом пруда. Проходя по одной из этих улочек, такой узкой, что по ней с трудом проезжал велосипедист, мы вдруг заметили стоящий в глубине игрушечного садика небольшой двухэтажный дом, увитый цветущими глициниями и диким виноградом. Широкое окно первого этажа выходило в садик; прохожий, случайно попавший в этот почти неправдоподобный уголок, мог разглядеть очень уютную комнату, обставленную своеобразно, но не крикливо. В доме никого не было видно, и мы, залюбовавшись, простояли перед ним несколько минут, не подозревая, что этот домик в самом сердце деревушки, которая укрылась посреди парка, расположенного в самом сердце Лондона, в один прекрасный день прославится на весь мир. Потому что именно в этом доме жила Френсис. Не знаю, достался ли он ей по наследству, или ей просто посчастливилось снять его. Жила она в нем одна и почти безвыездно; здесь она особенно легко писала свои сказки и новеллы, которые, впрочем, журналы печатали без особого энтузиазма, а издатели с еще меньшим восторгом выпускали отдельными сборниками. Правда, у нее было несколько верных поклонников, искренняя преданность которых не могла компенсировать их малочисленности. А потому она часто страдала от неверия в собственные силы или просто из-за отсутствия денег. Что ни говори, а совмещение этих двух обстоятельств не облегчает жизни. Случалось, от этого страдали и литературные занятия Френсис, что, конечно, также не облегчало дела. Но порой трудности только придавали ей силы и обостряли восприятие мира; ее далекие, незнакомые и не слишком многочисленные поклонники с особым восторгом читали все, что ей удавалось написать в такие периоды, и мечтали с ней познакомиться. Дугласа тоже кормило его перо. Но в отличие от Френсис он отдавал предпочтение очеркам. Он умел откопать каких-то странных типов и затем в увлекательной форме описать их своеобразную жизнь. Так, в графстве Девоншир, например, он отыскал человек тридцать отставных майоров, убежденных холостяков, живущих семейной коммуной в старом, полуразрушенном замке, полном привидений. Даже не лишенные снобизма читатели журнала «Хорайзн» с добродушной улыбкой приняли этот очерк. Я не стану описывать дом Дугласа так же подробно, как уголок, в котором жила Френсис. Конечно, не потому, что ни разу не видел его собственными глазами. Таких домов в Лондоне не одна сотня, но именно это-то и отбивает у меня всякую охоту говорить о нем подробнее. Грустное зрелище представляют эти бесконечные лондонские кварталы однообразных унылых домов, одетых в копоть и траур. Правда, сам Дуглас утверждал, что он выбрал мрачную Кэрибиен-стрит в Ист-Энде, у самых доков, привлеченный своеобразием этих мест. На самом же деле ему на первых порах пришлось испытать и холод и голод. Но возможно, что со временем он действительно привязался к этим краям, где бок о бок со страданиями и нищетой уживаются и радость, и нежность, и преступление, и упорство, и отчаяние, и ему понравилось жить на берегу огромной судоходной реки, откуда корабли расходятся по всему свету. Во всяком случае, здесь-то у него появилось немало привычек, от которых ему нелегко было отделаться. Каждый вечер, часов в семь, он заходил выпить стаканчик пунша в соседний диковинный кабачок под вывеской «Проспект-оф-Уитби». В этот час там буквально яблоку негде было упасть. В зале не было никакой другой мебели, кроме стоящей в глубине скамейки и придвинутого к самой двери стола. В клубах табачного дыма посетители со стаканами в руках стояли, тесно прижавшись друг к другу, словно в метро в часы пик; они пили, разговаривали, курили и пели, а два старых гавайца тренькали на своих мяукающих гитарах, подсев к самому микрофону, отчего в этой тесной комнате можно было буквально оглохнуть. Позади стойки среди бесчисленных бутылок и чучел всевозможных рыб находилась не поддающаяся никакому описанию коллекция самых невероятных предметов. В ней можно было найти не только модели кораблей, искусно впаянных в бутылки, различные компасы, секстанты, колокола, корабельные фонари и другие морские приборы, но и вообще все, что только может придумать для забавы народная смекалка: цветы из бумаги, ракушек, перьев, кости, стекла, бархата, шелка, конского волоса, целлофана; вазы в форме ноги с мозолем на каждом пальце или круглой красной головы или продолговатой зеленой; пульверизатор для духов в виде знаменитого мальчика, занятого своим естественным делом; фонари и копилки, сделанные из тыквы, копилки в виде головы теленка с фарфоровой петрушкой, воткнутой в ноздри; ботиночки из солодкового корня; голых марципановых женщин в стыдливых юбочках из гофрированной бумаги… Дуглас так и не мог уяснить себе, какая таинственная сила влекла его каждый вечер сюда, в этот кабачок, где среди песен и табачного дыма жила полная радости любовь человека к вещам, созданным его собственными руками. Дугласу больше всего правилась ссохшаяся и ставшая не крупнее кулачка новорожденного голова индейца, у которой полностью сохранились связанные в пучок волосы. Ему не раз хотелось попросить хозяина продать ему эту мумию, но мешала врожденная скромность, так не вязавшаяся с его профессией. Впрочем, это было к лучшему: он наверняка получил бы отказ. Дуглас пил, не отрывая взгляда от головы индейца, в то время как за ярко освещенной стойкой, среди всех этих чудес, сбросив пиджак, суетился хозяин и его помощники — два буфетчика; а две официантки обслуживали посетителей, теснившихся в конце коридора на узком балконе, который казался совсем ветхим, так потемнели от времени, так лоснились деревянные балки, такое наслоение надписей покрывало его перила, так тяжело нависал он над самой Темзой в том месте, где в речной тине догнивали остовы двух старых кораблей. Рассказывают, что именно отсюда Генрих VIII не раз смотрел, как на другой стороне реки вешают осужденных. По ночам зловещий свет газового рожка в конце мрачной и темной улицы еле освещал нижние ступеньки деревянной, источенной червями лестницы, о которые бились темные, как чернила, с недобрыми отсветами волны; глядя на эти ступеньки, так и представляешь себе, как стаскивали по ним в реку тела убитых. Но Дуглас встретил Френсис не в ее живописной деревушке и не на мрачной Кэрибиен-стрит, а среди цветущих нарциссов, в подернутом легкой дымкой и освещенном лучами апрельского солнца Риджентс-парке. В их встрече, впрочем, не было ничего удивительного: Дуглас, как и Френсис, очень любил этот цветущий уголок. Вероятно, они не раз встречались там, но проходили мимо, не обращая друг на друга внимания. Что же изменилось в это утро? Конечно, виной всему были туман и солнце. В фигуре Френсис, склонившейся к цветам, было что-то призрачное, что делало ее еще более очаровательной. Она была без шляпы, и ее крашеные золотистые волосы отливали тускловатым блеском в легком тумане. Дуглас неясно видел черты ее лица, а ему вдруг так захотелось их рассмотреть. Он остановился. Девушка подняла голову, и взору ее предстало настоящее солнечное затмение: лицо Дугласа, стоявшего против солнца, было совершенно темным, а вокруг него пламенели, развеваясь по ветру, волосы цвета темной меди. Она невольно улыбнулась. Дуглас принял эту улыбку на свой счет; а так как девушка была хороша, хотя рот у нее был немного велик, он почувствовал, что благодарен ей за эту улыбку и за эту красоту, наполнившую теплом его сердце. Улыбка к тому же придала ему смелости. Он сказал: — Какие чудесные цветы! Но Френсис прекрасно поняла, что он хотел сказать «Какое очаровательное лицо», и, хотя она и без него знала, что хороша собой, ей все-таки было приятно услышать эти слова. Она снова улыбнулась, на этот раз мило, дружелюбно. И спросила: — А вы любите нарциссы? Он подошел поближе, опустился прямо на траву, скрестил ноги и, посмотрев на нее, ответил: — Страшно люблю. Но она воскликнула: — Что вы делаете? Вы же простудитесь! Легко вскочив на ноги со словами «Какая вы милая», он снял свой плащ и расстелил его на траве. И присел на краешке с таким выжидательным видом, что она, с минуту поколебавшись, опустилась на другой край плаща. Он широко улыбнулся. — Не правда ли, нам здорово повезло? — вдруг вырвалось у него. Она удивленно подняла брови. — Повезло, что мы с вами встретились. Бывают же такие чудные дни: солнце, цветы и улыбки юных девушек. — К вашему сведению, мне уже двадцать девять. — (На самом деле ей было тридцать.) — А я вам не дал бы и половины. Она непринужденно рассмеялась. Ей было очень весело… Мимо них проплыла лодка, в ней сидели полнотелая дама и молодой человек, вцепившийся в слишком тяжелые для него весла. — Я сегодня свободен до полудня, — решился наконец Дуг. — А вы? — А я хоть до будущего года. — Вот как! Свободны до будущего года? — Я вольная птица и работаю, только когда мне хочется. — И вам не захочется до будущего года? — Право, не знаю. Может быть, это желание появится у меня сейчас, а может быть — никогда. — Чем же вы занимаетесь? Живописью? — Нет, я пишу. — Не может быть! — воскликнул Дуглас по-французски. — Почему «не может быть»? — Потому что я тоже пишу. Теперь остановить их было уже невозможно. Разговор их не стоит пересказывать. То, что двое писателей могут наговорить о своей профессии, интересно лишь для самих писателей. Так просидели они около часу, пока им не стало холодно; тогда, не переставая болтать, они поднялись. Френсис прекрасно помнила его очерк об отставных майорах, напечатанный в «Хорайзн». Дуглас чувствовал себя страшно неловко: он не знал ни одной ее новеллы. Но когда по его просьбе она перечислила их и даже рассказала ту, где речь шла о том, как муж и жена, в сущности совершенно чужие друг другу люди, вынуждены жить в полном одиночестве в занесенном снегом загородном домике и проводить долгие зимние вечера, запершись каждый на своей половине, он с нескрываемым восторгом воскликнул: «Так это ваша?» И от этих слов ей сразу стало тепло на сердце. Вдруг они спохватились, что двенадцать уже давно пробило. Дуглас, махнув рукой, послал к черту свое деловое свидание, и они зашли в китайский ресторан, где заказали себе первое, что попалось им на глаза, — яйца под соусом и сандвичи с морской капустой.* * *
Спустя некоторое время они сели в автобус, идущий в Хемпстед-хайт. Дуглас был поражен и даже чуточку раздосадован; он знал о существовании этой любопытной деревушки, но никогда не видел ее своими глазами. Как он мог до сих пор не побывать здесь? Френсис рассмеялась с наивной гордостью. Прежде чем зайти к ней, они побродили по улочкам. Потом разожгли огонь в маленьком, с деревянными инкрустациями камине, и, пока она, не переставая болтать, готовила чай, он, не выпуская трубки изо рта, устроился в своих светлых фланелевых брюках прямо на полу у огня, обхватив руками колени. Когда стало смеркаться, он сделал вид, что собирается уходить. Она не отпустила его и открыла к обеду банку тушенки и консервированные ананасы. Наконец часам к десяти они расстались. Сидя на империале автобуса и глядя, как в темноте мелькают редкие огни Флит-стрит, он думал: «Честное слово, я влюблен». С ним это случалось не в первый раз. Но теперь он испытывал что-то совсем новое, что-то очень нежное и спокойное. Отрывок из верленовского стиха (он был без ума от Верлена) не выходил у него из головы: «…и плена не боясь…». Он даже не думал о том, будет ли эта любовь взаимной.Глава третья,
в которой Френсис и Дуглас решают, что дружба выше любви. Удобство литературных бесед с этой точки зрения. Неудобство молчания. Опасность улыбки. Страх и опрометчивость Дугласа. Опрометчивость и гнев Френсис Доран. Как принимаются важные решения. Три зуба на челюсти решают судьбу двух людей. Что может произойти, если отказаться от разговоров на литературные темы. Теперь они встречались почти ежедневно. И всегда у нее. Он приходил часам к пяти, снимал куртку и, оставшись в толстом красном свитере, усаживался на полу, у самого огня, который она разжигала к его приходу. Затем он набивал трубку, а она готовила чай и поджаривала ломтики пресного хлеба, купленного у еврея-бакалейщика в Суис-коттедже. Когда он не мог прийти, они переписывались. В письмах своих они всегда говорили о литературе, обсуждали тот или иной вопрос, который не успели решить во время последней встречи. К уходу Дугласа всегда оставался какой-нибудь нерешенный вопрос. То же получалось и в письмах. И потому у них всегда имелся предлог снова встретиться или написать друг другу. А главное, так легче было избежать молчания. Ибо их отношения приняли вполне определенную форму. По молчаливому уговору было решено, что они не влюблены друг в друга: слишком уж это было бы пошло и прозаично! Ей было тридцать лет, ему тридцать пять, страсть не раз уже опустошала их сердца. «У нас выработался иммунитет», говорили они. То ли дело дружба! Конечно, и у нее, и у него были свои друзья, и немало. Но не было таких, которым они могли бы открыть свою душу с этой чудесной непринужденностью, придающей необъяснимую прелесть их отношениям. В Дугласе Френсис нашла то, о чем мечтала всю жизнь: образованный, очень тонкий, с острым, критического склада умом, он высказывал ей свое мнение о ее новеллах без обиняков, без задней мысли, без снисхождения. Как это было хорошо! Чудесно было слушать, как он говорит: «Вещь никуда не годится» — и затем объясняет, почему не годится. Оставалось только разорвать написанное и начать все сначала (или просто отложить на время в сторону). Но зато, если он говорил ей: «Браво», она могла быть совершенно спокойной. Тогда как прежде, что бы она ни написала, друзья ее хором восклицали: «Чудесно, дорогая, замечательно!» А потом мучайся, решай сама, хорошо это или плохо. Прямо пытка! «Какое счастье, что он не влюблен в меня!» — думала она. И ей казалось, что она искренне просит у неба, чтобы этого никогда не случилось. Она боялась, что, полюбив, он утратит искренность, которой она так дорожила. Во всяком случае способность судить о ней здраво. И чего ради, спрашивается? Ради обыденных восторгов? В ее чувстве к нему было, пожалуй, что-то большее, чем простая дружба: он вызывал в ней нежность, а иногда даже чувственные порывы, с которыми она мирилась не без тайной услады, но, в сущности, все это было не очень опасно. «Лишь бы он, — молила она, — лишь бы он не думал обо мне так!»Он же забыл — или делал вид, что забыл, — о том, что испытал в первый вечер их знакомства, возвращаясь к себе в Ист-Энд на империале автобуса. Слишком свежи еще были раны от гнусной измены, которая переполнила его сердце если не отчаянием, то отвращением. «Женская любовь, — думал он, благодарю покорно! Зыбучие пески, тошнит даже… Они уверяют, что лгут для нашего же блага, чтобы уберечь нас от страданий! Но в конце концов все открывается, и мы, конечно, страдаем; только теперь к нашим страданиям примешивается еще чувство гадливости. А они презирают нас за эти страдания, и эту гадливость, и за то, что мы не сумели оценить ангельскую доброту их слишком чувствительных сердец!.. Упаси боже снова погрязнуть в болоте женской любви!» И он тут же садился в автобус, идущий в Вэйл-оф-Хелс, со счастливой улыбкой сжимал руки Френсис, сбрасывал куртку, набивал трубку и, в то время как она поуютнее устраивалась в углу спасительного дивана, среди подушек, сразу же начинал разговор, который остался неоконченным во время их последней встречи или в последнем письме. А она слушала, глядя на него доверчивыми, восторженно блестящими глазами, в которых и шестилетний ребенок сумел бы прочитать то, что Дуглас старался не видеть. Но бывали минуты, когда они чувствовали себя неловко вдвоем. Случалось, что вопрос, который они обсуждали, был до конца исчерпан, а они не сразу могли найти новую тему. Тогда наступали минуты гнетущего молчания, которых они с каждым разом боялись все больше. Они не знали, чем их заполнить. Они не хотели поверить, что им может быть хорошо просто оттого, что они вместе; им не приходило в голову посидеть молча, думая каждый о своем, до тех пор, пока слова не польются сами собой, или даже помечтать в полумраке, глядя на огонь в камине. Им казалось, что, если молчание продлится еще хоть немного, в комнату проникнет злой дух, который разоблачит их, и тогда произойдет что-то такое, от чего они растеряются и против чего оба будут бессильны. В такие минуты они храбро улыбались друг другу, как бы желая сказать: «Нам-то нечего бояться, не правда ли?» Они улыбались до тех пор, пока один из них не находил наконец новой темы, за которую они оба судорожно хватались. Но иногда им долго ничего не приходило в голову, и в панических поисках темы они чувствовали, как улыбка их становится нелепой гримасой, и все-таки они улыбались. И это было просто ужасно. И вот однажды, только для того, чтобы прервать ненавистное молчание, Дуглас вдруг сказал: — Вы знаете, Гримы предлагают мне ехать вместе с ними! Он сказал это, не подумав, и сразу же все было кончено. А ведь на самом деле никто ему ничего не предлагал.
Дуглас действительно встретил накануне Кутберта Грима, ожидавшего автобус на Риджент-стрит. Грим был школьным товарищем его отца, Хэрмона Темплмора, китаиста, члена Королевского общества. Дуглас сохранил к старику Гриму искреннюю нежность в память отца, которого очень любил, хотя, когда в юности сын захотел проявить самостоятельность, они чуть не разошлись. Грим был шестидесятипятилетний старик с круглым одутловатым лицом старого кучера-пьяницы и с голубыми ясными глазами невинного ангела. Он трогательно смущался, выступая перед аудиторией (даже если аудитория состояла всего лишь из одного человека), хотя и был крупнейшим палеонтологом, признанным учеными всего мира. При виде Дугласа он покраснел (впрочем, он всегда краснел при встречах со своими знакомыми), словно попался с поличным. В ответ на сердечное приветствие молодого человека он пробормотал: — D’you do?..[6] Я очень хорошо, очень хорошо… Да… А вы? Он посмотрел направо, налево, как будто собирался удрать. Дуглас спросил его, как поживает Сибила. — Прекрасно… прекрасно… То есть нет, у нее, представьте себе, корь. Дуглас невольно подумал: «Так ей и надо!»- и вспомнил себя тринадцатилетним мальчишкой: он лежит в кровати, а Сибила стоит в дверях его комнаты и, встряхивая белокурыми кудрями, с брезгливой гримаской смотрит на его красное, покрытое сыпью лицо. Им обоим было тогда по тринадцати лет. Но Дуглас до сих пор не мог простить ей этого выражения бессердечной гадливости. В двадцать лет Сибила вышла замуж за Грима, которому было уже пятьдесят. Конечно, все сразу же обвинили ее в продажности, а его — в развращенности и сластолюбии. Но когда стало известно, что они вместе отправились в Трансвааль с экспедицией, искавшей следы африкантропа, и весьма успешно участвовали в раскопках, злые языки умолкли. Неоспоримым, по общему мнению, оставалось лишь то, что своим замужеством она разбила сердца многих прекрасных молодых людей, и в первую очередь этого милого юноши, Дугласа Темплмора. Пожалуй, единственным человеком, который не знал, что сердце его разбито, был сам Дуглас. А потому ему, конечно, и в голову не приходило рассказывать об этом Френсис. Но стоило Френсис заговорить о Дугласе со своими друзьями, как ей сразу же выложили все. Однако она решила никогда не поднимать разговор о Сибиле: недоставало только поддаться смехотворной ревности. — Как «корь»? воскликнул Дуглас. — Это же детская болезнь! Во взгляде старого Грима промелькнуло что-то удивительно нежное. Он улыбнулся, тут же покраснел до корней волос, на его голубых глазах выступили слезы смущения, и он поспешно ответил: — Не всегда, не всегда: случается, что… Впрочем, теперь почти все прошло. И, увидев свой автобус, он с явным облегчением вздохнул. — Теперь, к счастью, она почти здорова, — добавил он. Ведь мы ускорили свой отъезд. Вы слышали? Мы едем в Новую Гвинею. Там нашли… а вот и мой автобус… челюсть… полуобезьяны-получеловека, понимаете, с тремя уцелевшими коренными зубами… Это слишком долго рассказывать… — Это действительно очень интересно, — вежливо заметил Дуг. — Интересно? Вас это в самом деле интересует? Мы хотим взять с собой двух кинооператоров, подумываем также и о журналисте. Разумеется, не для раскопок, а… Волна пассажиров увлекла за собой старого ученого. И уже с площадки, прежде чем окончательно исчезнуть, он помахал Дугласу рукой. — До свидания! — крикнул он и, улыбаясь, добавил что-то, что потонуло в шуме уходящего автобуса и могло означать «До скорой встречи!» или «Заходите!» — и исчез.
Дуглас сам растерялся от своих слов, в которых было так мало правды. «Что это я болтаю?» — подумал он и готов был уже раскатать, как все произошло на самом деле; но в это мгновение Френсис, как игрушечный чертик из бутылки, вскочила с дивана с неестественным оживлением воскликнула: — Но ведь это чудесно! Просто чудесно! Вы, конечно, согласились? Она не отдавала себе отчета, почему так говорит. Слишком долго длилось это невыносимое молчание, слишком долго пришлось ей напряженно улыбаться, испытывая, как и всегда в такие минуты, ужас и головокружение, граничащее с дурнотой. Она почувствовала настоящее облегчение, когда Дуглас наконец сказал что-то, и вместе с тем это «что-то» больно укололо ее. — Значит, надо было согласиться? — спросил он. У него был такой удивленный и растерянный вид. Но его слова больно укололи ее. Она повторила, на этот раз слишком уж радостно: — Конечно, это чудесно! Вы не должны упускать такой возможности! Когда же они уезжают? — Я еще точно не знаю, — пробормотал Дуглас. Вид у него и впрямь был самый несчастный. — Недели через две, я полагаю. Такой несчастный, что у Френсис на секунду сжалось сердце. Но он ведь ей тоже сделал больно, и еще как больно… — Звоните им! — вскричала она и весело побежала за телефоном книжкой. — Примроз 6099, — сказала она, передавая ему трубку. Дуглас готов был возмутиться. Он открыл рот, чтобы сказать: «Что с вами такое?», как вдруг услышал: — Вам пора переменить климат. Вы слишком засиделись в Лондоне. Потом она не раз спрашивала себя с гневом и болью, что заставило ее произнести эти слова. Не ревность же, в конце концов! Ей не было никакого дела до этой Сибилы. Пусть отправляется чей, если ему так хочется. Мы же не влюблены друг в друга. И вполне можем расстаться на некоторое время. Мы совершенно свободны. Дугласа словно обухом по голове ударили. «Слишком засидеть в Лондоне»… Так, значит, вот как она думает… Но почему же она ему не сказала об этом раньше? Он взял трубку и набрал номер. К телефону подошла Сибила. Она не сразу поняла, что он от нее хочет. Какой журналист? Она же прекрасно знает, что Дуглас журналист, и ему незачем сообщать ей по телефону столь важную новость… Ехать с ними в Новую Гвинею? Но, милый мой Дуг… Что? Что? Вечно по телефону ничего не разберешь. Заходите к нам, старина, если, конечно, не боитесь кори. Приходите, когда только сможете. Он повесил трубку. Перед ним как в тумане мелькнуло лицо Френсис. Но она уже подавала ему куртку и плащ. — Сейчас же отправляйтесь к ней, проговорила она все с тем же непонятным оживлением. — Надо ковать железо, пока горячо. Несколько секунд они простояли друг против друга, не двигаясь, и в голове у нее пронеслось: «До чего все глупо! Вот возьму и поцелую его сейчас. Слишком, слишком все глупо. А что, если не отпускать его? Нет, он сделал мне больно, теперь все, все про пало, пусть уезжает!.. Ох, если бы он только швырнул свою куртку в угол и обнял меня!» Но он уже надел куртку и набросил на плечи плащ. И она сама подталкивала его к двери. — Удачу надо хватать за волосы, — сказала она, звонко смеясь, — даже если они белокурые. Он взглянул на светлые волосы Френсис. О какой удаче говорила она? Ему даже в голову не пришло, что слова ее могут иметь хоть какое-то отношение к белокурой Сибиле. Какую удачу должен был он схватить за волосы? И вдруг в голове у него молнией пронеслось: «Я женюсь на ней!» Но, увы, он ей совсем, совсем не нужен. Он чувствовал, как она легким нажимом руки подталкивает его к двери. Он уже стоял на так хорошо знакомом ему коврике у двери и почти физически ощущал его коричневые и зеленые клетки, и от этого сердце переполняла такая отчаянная тоска, что он готов был разрыдаться. На пороге она еще раз повторила: — Вам надо торопиться. Возьмите такси. В маленьком садике в лучах заходящего солнца всеми красками переливались майские цветы: незабудки, барвинки, анемоны и множество ирисов, не уступающих по своей красоте орхидеям… Песок скрипел под ногами. Когда он вышел за калитку, она помахала ему рукой и крикнула: «Все-таки зайдите перед отъездом!» В мягком вечернем свет она показалась ему ослепительно прекрасной. Ее яркие, немного крупные губы улыбались. И, глядя на нее, можно было подумать что она невероятно счастлива.
* * *
— Что это вам наговорил Кутберг? — с удивлением спросила Сибила. Она полулежала на кушетке стиля Рекамье. Ноги ее были укутаны мехом. На лице еще были заметны красноватые следы сыпи. Но тому, на кого был устремлен взгляд Сибилы, вряд ли пришло бы в голову рассматривать ее кожу. Что касается Дугласа, ему вообще было не до Сибилы. — Он сказал мне, что вы хотели бы взять с собой журналиста, — ответил он, слегка искажая истину. — А потом он мне еще ткнул: «Поедемте с нами!» — Но чего ради вы с нами потащитесь? Вас что, интересует палеонтология? Ведь наши ископаемые совсем не похожи на ваших доисторических майоров. Дуглас ответил не сразу. У него не было никакого желания убеждать ее в чем-либо. — Меня вообще интересует все на свете, — наконец произнес он угрюмо. Она насмешливо взглянула на него. Он покраснел. — Признавайтесь-ка, — сказала она, — уж не бегство ли это? Не разбил ли вам кто-нибудь сердце? — Да нет, что за ерунда! — слишком поспешно ответил Дуглас: он не мог скрыть своего раздражения. — Уверяю вас, экспедиция меня очень интересует. И, конечно, для меня, как для журналиста… — А вы знаете по крайней мере, зачем мы туда едем? На минуту он растерялся, но тут же нашелся и с победоносным видом выпалил: — За челюстью… И, улыбаясь, добавил: — С тремя зубами. Она весело рассмеялась. До чего же он мил! Все-таки она оченьлюбит его. — Нет, — сказала она. — Челюсть с тремя зубами уже привез Крепе, немецкий геолог. Мы же попытаемся разыскать череп и скелет. — Это самое я и хотел сказать, — пробормотал Дуг. — И если только мы действительно их найдем, то, возможно, обнаружим так называемое «missing link» — «недостающее звено». А вы знаете, что это такое? — Да… ну… приблизительно, не слишком уверенно ответил Дуг. — Звено, которого недостает в эволюционной цепи… последнее звено между обезьяной и человеком… — И это вас интересует… страшно интересует? — с напускной важностью спросила Сибила. — Но, черт возьми, почему же, собственно говоря, вы решили, что меня это не может интересовать? — Потому что, старина, зоология не ярмарочный балаган: взял да и вошел. Вот если я сейчас вам скажу, что мы едем в Новую Гвинею только потому, что на третьем зубе привезенной Крепсом челюсти имеется пять бугорков, вы что, подпрыгнете от волнения или нет? — Нет, конечно, если вы будете мне говорить об этом таким тоном. Но я достаточно образован и понимаю, что Крепе, должно быть, нашел зуб обезьяны на челюсти человека или что-то в этом духе? Верно? — Да, действительно, почти так. — Вот видите, не такой уж я идиот. — Этого я и не говорю. Я просто спрашиваю вас, подпрыгнете вы или нет? — А почему, собственно говоря, я должен прыгать? Я не прыгал и тогда, когда узнал о существовании отставных майоров в Стетфордском замке. Я просто поехал гуда и рассказал читателям обо всем, что увидел. — Ну, если вы поедете с нами, то вряд ли сможете рассказать им что-нибудь интересное. — Почему же? — Потому что сразу видно, что вы никогда не присутствовал при такого рода раскопках. Уверяю вас, дружище, это вовсе не так интересно. Перерывают и просеивают тонны земли. И недель через шесть, а может быть, и через шесть месяцев находят наконец среди гальки и ракушек кусочек окаменевшей кости или один единственный зуб. Сначала надо выяснить, не попали ли они туда случайно. Действительно ли они того же возраста, что и пласт земли, в котором их нашли, то есть что им один или два миллион лет. Тогда раскопки расширяются, и если через несколько месяцев удастся обнаружить часть черепа или кусок бедренной кости, то все считают, что им повезло, так как обычно найти ничего не удается. Видите, для вас тут нет ничего интересного. — Не понимаю, как вы можете решать за меня, что мне интересно, а что нет. В эту минуту в комнату вошел Кутберт Грим. Приход Дугласа удивил и искренне обрадовал его. — Хелло, — сказал он, крепко пожимая ему руку. Затем поцеловал Сибилу. — Итак, — обратилась к нему Сибила, — все решено. Дуглас едет с нами. У Дугласа подкосились ноги. — Как, но… Однако Сибила, очаровательно улыбаясь, остановила его. Я сделала все возможное, чтобы отговорить Дуга. Одному богу известно, почему он уперся. А вы уже договорились со Спидом? — Да… нет… почти… — пролепетал Грим, не понимая, что здесь происходит. — Я не знал, что… но, конечно, можно было бы… — Послушайте!.. — воскликнул Дуг. — Я беру все на себя, — успокоила его Сибила. — Ведь Спид, по-моему, не так уж рвется. Вернее, ему просто не хотелось отказывать нам. Особенно мне, — добавила она с улыбкой. В сущности, я уверена, что он только обрадуется. А вы с ним знакомы? — обратилась она к Дугу. — Да, немного… Именно потому, заторопился он, — я не хотел бы… — Пусть это вас не смущает. Поверьте, Спид только обрадуется. Вести дневник экспедиции, повторяю вам, работа не из приятных. Среди нас писак нет, да и не можем мы вести регулярно дневник, у нас слишком много других забот. Итак, вы довольны? — заключила она. — Значит, решено? Он хотел сказать: «Дайте мне по крайней мере время подумать!», но у него не хватило мужества. Слова застряли у Дуга в горле — старый ученый и его жена смотрели на гостя с такой дружеской улыбкой, они были так откровенно рады, что могут доставить ему удовольствие… — Ну что ж, выпьем по этому поводу, — сказал Грим и пошел за бутылкой. Он разливал виски, и его доброе круглое румяное лицо светилось счастьем и нежностью.Глава четвертая
Отплытие в Сугараи. Френсис и Дуглас принимают любовь, но увы! слишком поздно. Когда молчать удобно, а улыбаться легко. На пароходе среди пассажиров немецкий геолог, ирландский бенедиктинец и английский антрополог. Прекрасная Сибила посвящает Дугласа в борьбу, которая идет между сторонниками ортогенеза и селекции. От ископаемых раковин до извилин человеческого мозга. Гофмансталь при свете луны. Последние дни перед отъездом экспедиция провела в Ливерпуле, где шла погрузка багажа. Дуг так больше и не виделся с Френсис. Он был слишком потрясен. Он уже не скрывал от самого себя, что любит ее. И теперь, когда он мог хладнокровнее смотреть на вещи, он понимал, что и она, вероятно, любит его. Между ними произошло глупейшее недоразумение. И он не знал, как теперь исправить дело… Ему было бы очень неудобно подвести Гримов, которые ради него отказали Спиду. У Дуга оставалась последняя надежда, быть может, Спид по-прежнему согласен отправиться с экспедицией; он съездил к нему. Но Сибила оказалась права: Спид был в восторге от того, что ему нашли заместителя. Дуглас даже не осмелился позвонить Френсис. А ему бы следовало бежать к ней, броситься к ее ногам и найти в себе достаточно смелости для решительного объяснения. Однажды вечером он почти решился. Он долго бродил по улочкам Вэйл-оф-Хелс. Но, увидав издали похожую на Френсис женщину, он бросился бежать со всех ног. Френсис тоже переживала тяжелые дни. Она без конца перечитывала письмо Дугласа, в котором он сообщал о своем отъезде. Это письмо совершенно ничем не отличалось от тех, которые она получала от него раньше. Оно было таким же милым, спокойным, полным юмора и той дружеской честности, которая вот уже больше года поддерживала в ней чувство уверенности. Но последние строчки письма потрясли Френсис. «В общем, писал он, — вот я и уезжаю, помимо своей воли. Но если Вы считаете, что это хорошо, значит, это действительно хорошо. Одно Ваше слово заставило меня поехать, одно Ваше слово могло бы удержать меня. Как ни жестока подобная покорность, но мне приятно подчиняться Вашей воле. Бывают ведь такие горькие радости, не правда ли, Френсис? Все, что исходит от Вас, даже то, что причиняет боль, мне всегда будет радостью. Не злоупотребляйте этим, мой милый друг. Прощайте. Думайте обо мне хоть изредка. Ваш Дуг» В день отплытия корабля, когда уже в третий раз завыла сирена и Дуглас со сжавшимся сердцем вышел на палубу, чтобы еще раз взглянуть на английский берег, на набережной среди толпы провожающих он вдруг заметил неподвижную фигурку, и у него перехватило дыхание. — Френсис! — крикнул он и бросился к трапу. Но слишком поздно: трап уже поднимался. Тогда он снова кинулся на корму. Френсис подошла к самой воде. Дуг видел обращенное к нему прекрасное, немного бледное лицо. Они оба молчали, потому что иначе им пришлось бы кричать. Френсис только улыбалась, и Дуг отвечал ей такой же улыбкой. И впервые они готовы были молчать хоть вечность, не боясь, что их улыбка превратится в гримасу. Напротив, с каждой минутой они улыбались все естественнее и нежнее. Когда судно медленно отвалило от берега, Френсис поднесла руку к губам, и Дуг сделал то же. И так, не переставая улыбаться, они посылали друг другу воздушные поцелуи, пока пароход не скрылся за молом.* * *
Дуглас надеялся использовать долгий путь, чтобы хоть немного приобщиться к палеонтологии. Но его ждало горькое разочарование: его спутники готовы были делать все что угодно, лишь бы не говорить о своей профессии. Их было четверо: трое мужчин и Сибила. Дуг только к концу путешествия разобрался в специальности каждого из них. Он искренне удивился, когда ему стало известно, что этот любитель есть и выпить, который не выпускал изо рта трубку и не слишком стеснялся в выражениях, был не кто иной, как ирландский монах-бенедиктинец. Дуглас не раз слышал, как его называли «отец», но он решил, что это — прозвище, которому тот обязан своим возрастом. — Ничего не поделаешь, это всегда будет чувствоваться, — сказала Сибила однажды вечером, заметив, что в коридоре промелькнула и исчезла седая кудрявая голова. (Они как раз проплывали мимо острова Сокотори). Дуг и Сибила лежали в шезлонгах. — Что именно? — спросил Дуглас. — Его скуфья, the cloth, — отрезала Сибила, которая несколько бравировала своим атеизмом. — Что за скуфья? — Эх, вы! Головной убор священников. Судя по тому, как расхохоталась Сибила, удивление Дугласа было достаточно комичным. — Как? Неужели вы до сих пор не знали? Он не только папист, он к тому же принадлежит к ордену бенедиктинцев. И, что хуже всего, является самым бешеным ортогенистом. — Простите, как вы сказали?! — Ортогенистом. Сторонником ортогенеза. Он считает, что всякое развитие имеет определенную цель или по крайней мере направление. На лице Дугласа была написана самая трогательная мольба, и Сибила с некоторым раздражением пояснила: — Он полагает, что мутации происходят не случайно, не в результате естественного отбора, но что их вызывает, подчиняет себе и управляет ими некая сила, воля к усовершенствованию. О черт! — воскликнула она, не выдержав тупости собеседника. — Словом, он полагает, что существует определенный план и его создатель и что Господу Богу наперед известно все, чего он хочет. — Но в этом еще нет никакого преступления, улыбаясь, заметил Дуг. — Преступления, конечно, нет, но это просто нелепость… — Ну а кто же вы сами? — То есть как это «кто»? — Если вы не ортогенистка, тогда кем же вы себя считаете? — Я никто. Я свободомыслящая. Я считаю ортогенез мистикой, и, по-моему, прав был Дарвин, отводя главную роль естественному отбору. Но в то же время мне кажется, что естественный отбор это еще не все. Развитие — результат взаимодействия самых разнообразных факторов, внутренних и внешних. Думаю, что никогда нельзя будет свести развитие к одному какому-нибудь фактору. И тех, кто это делает, я просто считаю ослами. — Объясните мне, пожалуйста, под внешними факторами вы понимаете климат, питание, других животных? Да? — Да. — А естественным отбором вы называете ту борьбу за существование, при которой выживают и развиваются формы, наиболее приспособленные к этим факторам, в то время как менее приспособленные погибают? — Да, приблизительно так. — Ну а что же тогда вы считаете внутренними факторами? — Внутренние факторы — это преобразующие силы, источник которых некая воля к постепенному самосовершенствованию, присущая тому или иному виду. — В общем, желание хотя бы немного приблизиться к идеальному образцу? — Ну, скажем так. — И вы придаете одинаковое значение обоим этим факторам? — Да, но есть еще и другие. Есть множество причин, которые не так-то легко объяснить. — Например? — Я не могу вам их объяснить, потому что они необъяснимы. — Божественного происхождения? — Конечно, нет. Просто они непостигаемы человеческим разумом. — И вы верите в их существование, не понимая, что они собой представляют? — Я не стараюсь их себе представить, потому что для меня ни непознаваемы. Но я думаю, что они существуют. Вот и все. — Но в таком случае это просто бессмысленно. — Как так? — Это то же самое, что верить в Деда Мороза. Она засмеялась и посмотрела на него с уважением. — Неглупо сказано! — Я бы предпочел держаться того, что было бы мне доступно. Например, естественного отбора или этого… как его… ормогенеза… — Ортогенеза. Что ж, это вполне разумно. Но существуют люди, которые не могут объяснить оба эти метода, даже вместе взятые. — Например? — Например, внезапное вымирание некоторых видов в период их наибольшего расцвета. Или еще проще: работа человеческого мозга. — Но при чем тут человеческий мозг? — Это слишком долго объяснять. Но grosso modo [7] здесь мы сталкиваемся с десятками противоречий. Если наш мозг должен содействовать лишь биологическому процветанию человеческого рода, почему же он ни с того ни с сего начинает заниматься совсем другими вещами? И когда речь заходит об этих «других вещах», нам приходится только руками разводить. — Значит, сделан еще только первый шаг… — Вот именно. Когда мы сделаем последний, все причины нам станут ясны. — Знаете, что я вам скажу? — Да, что такое? — В сущности, вы гораздо больший ортогенист, чем отец Диллиген. — Это заключение идет не от логики, а от чувств, мой милый Дуг! — От чувств? — Видите ли, даже Диллигена сделали ортогенистом его научные взгляды — по крайней мере он сам так считает. Он является ортогенистом не потому, что верит в божественное предопределение, а скорее даже наоборот: он ортогенист и потому вынужден верить в божественное предопределение. Очень большую роль здесь сыграл тот факт, что он занялся изучением форм свертывания у некоторых типов ископаемых раковин. Конечно, это было не единственной причиной… Он нашел разновидности, у которых свертывание зашло так далеко, что моллюски, полностью свернувшись, погибали замурованными, даже не успев развиться. Но, несмотря на такой гандикап, эти виды не вымерли. Исходя из этого, Диллиген пришел к выводу, что существует внутренний фактор, внутренняя «воля» к свертыванию, полярная всякому процессу приспособления. Кутберт, как верный последователь Дарвина, ответил ему, что этот внутренний фактор по своему происхождению есть не что иное, как процесс приспособления, просто плохо поддающийся контролю законов генетики. Уже года три они ссорятся по этому поводу, как базарные торговки. — Разве ваш муж занимается также и раковинами? — Если вы хотите, дорогой мой, хоть что-нибудь понять в происхождении человека, вам надо познакомиться сначала с тем, как произошло на земле все остальное… — Вы в этом уверены? — с минуту подумав, спросил Дуг. — Что за вопрос? Это же вполне очевидно. — Ну, не совсем. — Как «не совсем»? — Мне кажется, — продолжал Дуг, — тут есть какая-то путаница. Между вашими раковинами и, например, слоном или даже большими обезьянами… хорошо… я понимаю, проблема остается той же, поскольку можно проследить каждый шаг в развитии от одного вида к другому. Но между обезьяной и человеком или, скорее, видите ли… между обезьяной и человеческой личностью и даже, если хотите, между животным, от которого произошел человек, и человеческой личностью лежит целая пропасть. И ее не заполнишь всеми вашими историями насчет свертывания… — Вы, конечно, имеете в виду душу? Так, так, милый мой Дуг, уж не стали ли вы верующим? — Вы хорошо знаете, дорогая Сибила, что во мне нет и крупицы веры. Я такой же безбожник, как и вы. — Но о чем же в таком случае вы говорите? — О том, если угодно, что пришлось все же придумать такое слово: Душа. Даже если не веришь в ее существование, надо все-таки признать, что, поскольку ее пришлось придумать, и придумать специально для человека, чтобы отличить его от животного, значит, в самом человеке, во всем его поведении есть нечто такое… Но вы, конечно, поняли, что я хочу сказать? — Нет, объясните. — Я хочу сказать… что в причинах, определяющих человеческие поступки, есть нечто такое, нечто совсем особенное, единственное в своем роде, чего не найдешь у представителей всех других видов. Вот хотя бы даже то… что каждое поколение людей ведет себя по-разному. Образ жизни людей постоянно меняется. Животные же на протяжении тысячелетий ничего не меняют своем существовании. Тогда как между взглядами на жизнь моего деда и моими собственными не более сходства, чем между черепахой и казуаром. — Ну и что? — Ничего. По-вашему, это можно объяснить эволюционными изменениями челюсти? — Да, во всяком случае, теми изменениями, которые произошли с извилинами мозга. Дуг с ожесточением тряхнул головой. — Совсем нет. Не в этом дело. Это ничего не объясняет. Извилины головного мозга не изменились с того времени, когда жил мой дед. Черт возьми, как трудно выразить мысль, чтобы она стала понятной. Огромная черная тень, вставшая над ними, заставила их обернуться. Это был профессор Крепе, человек такого огромного роста, что, когда в салоне он проходил мимо окна, в комнате на мгновение становилось темно. Он всегда носил слишком узкие, обтягивающие ляжки, поношенные, без намека на складку брюки, что еще больше увеличивало его сходство с толстокожим животным. Даже в гневе глаза Крепса под припухшими, тяжелыми веками не теряли сходства с вечно смеющимися глазками слона. У него были тюленьи усы, в которых постоянно застревали крошки пищи. Но самым удивительным был его голос — высокий и тонкий, как у подростка. — Как, дети мои, вы еще не спите? Спасаясь от преследований нацистов, он много лет назад бежал из Германии, и, хотя уже давно жил в Лондоне и хороню говорил по-английски, в его речи попадались чисто немецкие обороты. — Неужели у вас хватит духу отправить нас спать? — сказала Сибила. Такая чудная ночь!.. Впрочем, а сами-то вы почему гуляете? — Вы же знаете, я никогда не сплю. Это было действительно так. Крепе редко ложился раньше двух или трех часов ночи и к тому же еще читал в постели. Сон одолевал его, он начинал дремать, потом снова просыпался, и так, не выключая света, дожидался первых лучей солнца. Тогда он глубоко засыпал на час, а затем вставал свежий, отдохнувший и бодрый. Этой ночью по фосфорически светящейся воде под чудесным небом, усеянным звездами, пароход выходил из Аденского залива в Индийский океан. Ночь была такая нежная и сияющая, такая теплая, такая свежая от ветерка, что они втроем просидели на палубе до самой зари. Крепе читал по-немецки стихи Гофмансталя и тут же переводил их на английский язык, немного тяжеловесно, но довольно поэтично. И когда он процитировал строфу из «Пения под открытым небом»:Она сказала: «Уходи!
Я не держу тебя,
Коль чувство спит в твоей груди.
Своим путем иди, мой друг…
…Но если я других милей.
То возвратись ко мне скорей…» —
Глава пятая
600 миль по девственным лесам. Как иногда бывает полезно сбиться с дороги. Отклонение в сторону на 80 миль приводит экспедицию как раз в то место, куда хочется автору. Приматы забрасывают лагерь камнями. Спор о том, где живут обезьяны. Преимущество полной неискушенности в науке перед шорами, закрывающими глаза ученых. Дуглас откровенно торжествует. Находка Крепса производит сенсацию.«Жизнь медленно течет, дорогая Френсис, но как сильна надежда» (Аполлинер, так же как и Верлен, был любимым французским поэтом Дугласа). Вот мы и в Сугараи. Подумать страшно, как далеко мы забрались… Лондон остался на другой стороне земного шара, которую мы теперь попираем ногами, так что по отношению к Вам я хожу вниз головой. Но прошедшие недели ничто по сравнению с теми, которые нам еще предстоят, когда мы пустимся сквозь девственный лес к месту раскопок шутка ли, восемьсот миль! Десять месяцев назад наш могучий Крепс проложил дорогу среди тропических лесов, лиан и папоротников (должно быть, он разрывал их, как носорог), но от нее уже давно ничего не осталось. Фактически весь этот район еще совершенно не изучен. Это одно из последних «белых пятен» на карте мира. Мы немедленно отправимся в путь. Весь наш отряд благополучно высадился на берег, ничего не растеряв из многочисленного багажа. Все остальное было приготовлено здесь заранее и ожидало нас. Признаться Вам откровенно? Я уже успел увлечься…Френсис улыбнулась. Как ей хотелось расцеловать сейчас своего милого мальчика! Она не удержалась и со словами: «Фу, как глупо!» — прижала письмо к губам. А в это время «милый мальчик» сражался в своей палатке москитами. Хотя сам он задыхался от сильного запаха мелиссы, насекомые, казалось, не обращали на него никакого внимания. Дуглас уже не верил, что когда-нибудь наступит утро. И так повторялось из ночи в ночь, до тех пор пока экспедиция не достигла, наконец, опушки леса. Они шли уже семьдесят шесть дней по компасу, а то и просто наугад под непроницаемым шатром зелени, что не позволяло пользоваться астрономическими приборами. И вот, когда по расчету Крепса они должны были выйти к цепи невысоких лесистых холмов, они вдруг натолкнулись на огромную скалистую стену высотой 120–150 футов. Секстант, который наконец удалось применить (впервые за эти дни они снова увидели небо), обнаружил отклонение на восток всего на несколько градусов, но после долгих дней пути это составило уже около сотни миль. Гриму и отцу Диллигену не терпелось обнаружить проход, который вывел бы их в район холмов. У них возникла бурная ссора с Крепсом. Крепс настаивал на том, чтобы экспедиция, раз уж она отклонилась от маршрута, сделала привал около этого любопытного утеса, что позволило бы ему, Крепсу, познакомившись с его строением, подтвердить свою теорию о вулканическом происхождении гор. Сибила не принимала участия в споре. Она только улыбалась. Дуглас последовал ее примеру, ибо готов был немедленно согласиться с любым решением. Крепс одержал верх благодаря своей внушительной наружности и своей настойчивости. Ему дали неделю на поиски. После беглого осмотра он заявил, что впадина, без сомнения, находится в нескольких милях к юго-западу. Отряд снова тронулся в путь. Впадину или, скорее, трещину в каменной породе действительно обнаружили в указанном Крепсом месте. Лагерь расположился у подножия утеса, рядом с источником. И Крепе вместе со своими помощниками, двумя малайцами и шестью папуасами, пробрался в узкое ущелье. На пятый день к вечеру произошло необычайное происшествие: лагерь забросали камнями; должно быть, это постарались орангутанги. Из-за темноты их не удалось как следует рассмотреть, и никто не мог понять, откуда они взялись. Лес начинался по меньшей мере в полумиле от лагеря. А, как известно, большие обезьяны не рискуют отдаляться от леса. Дуг высказал предположение, что они могли спуститься с учеса. Ему снисходительно объяснили, что человекоподобные обезьяны живут на деревьях и предположение его абсурдно. — А разве не абсурдно, — спросил Дуг, — что орангутанги вообще напали на лагерь? — Как ему было известно, обезьяны избегают человека и никогда не решатся напасть на него первыми. Ему снова объяснили, что бывают исключения из общего правила. Например, если какому-нибудь негру случается убить самку или детеныша, это может очень надолго озлобить обезьян. Кроме того, нередко бывает, что обезьяны, например павианы, нападают на одиноких путников и забрасывают их камнями. Но через два дня наступила очередь торжествовать Дугу. Крепс вернулся из своей экспедиции. Он был в восторге. Захлебываясь, он рассказал о резко перемещенных пластах туфа и лёсса миоцена, плиоцена и плейстоцена. Все слушали его, как будто речь шла о китайском или цейлонском чае. Один только бедный Дуг не понимал ни слова. Из всего этого нагромождения терминов он уловил только то, что Крепе между прочим обнаружил что-то вроде цирка, где грунт был выстлан плитками лавы, словно пол в ванной комнате. И, уж конечно, он услышал, как Крепе добавил: — Там кишат обезьяны. У Дуга не хватило деликатности сдержать свои чувства, и он с торжествующей улыбкой взглянул на ученых. Отец Диллиген и старый Грим приняли обиженный вид, явно говоривший, что журналист ведет себя не по-джентльменски. Но Сибила реагировала самым удивительным образом. Она обняла Дуга и расцеловала его в обе щеки. — Истина глаголет устами младенцев, — сказала она. — Как часто ученым мешают шоры! Грим и отец Диллиген высказали мысль, что, может быть, в какой-нибудь малозаметной впадине растут низкорослые деревья вроде знаменитых бутылочных. Но Крепе только покачал готовой. — Деревьев там не больше, чем на тыльной стороне моей руки, сказал он. — Это пещерные обезьяны, они живут в расщелинах скал. Тут Диллиген, явно стремясь перевести разговор на другую тему, спросил, когда же они отправятся в путь. — Не так скоро, — ответил Крепс, пряча невинную улыбку в своих тюленьих усах. — Как? Что такое? Еще что? — закричал Грим, и лицо его из красного стало кирпичного цвета. — О! — продолжал Крепе. — Сам я готов ехать хоть сейчас. То, что я хотел посмотреть, я уже посмотрел. Но я сомневаюсь, что вы со святым отцом захотели бы покинуть эти места. Он с наслаждением опустился в походное кресло, ножки которого подозрительно заскрипели под тяжестью огромного тела. С шаловливым видом он покачивал своей гигантской ножищей и внимательно разглядывал старого Кутберта из-под очков в железной оправе. Это была великолепная немая сцена, как сказали бы кинооператоры. — Да вы что-то откопали! — нетерпеливо воскликнула Сибила. Крепс улыбнулся и наклонил голову. — Не томите же нас! — вскричала она. — Что это такое? — Теменная кость, — спокойно ответил Крепе. Он сделал знак своему помощнику малайцу, и тот сейчас же скрылся в палатке геолога. — Где вы ее нашли? — не унималась Сибила. — В пластах плейстоцена. Если я не ошибаюсь, эта кость похожа на человеческую даже больше, чем кость синантропа. — Переведите, объясните мне! — наклонившись к Сибиле, вполголоса взмолился Дуг. — Сейчас, ответила она почти сухо. — Почему вы так решили? — обратилась она снова к Крепсу. — Взгляните сами на эту теменную кость. Вернее, на то, что от нее осталось, сказал Крепс. Малаец подошел, неся в руках коробочку. Крепс бережно открыл ее. Коробка была наполнена мельчайшим песком, его, должно быть, просеяли через частое сито. Своими толстыми пальцами Крепс с неожиданной ловкостью, почти с нежностью расчистил песок и вынул оттуда белый, продолговатый и округлый предмет, который положил на протянутую ладонь Сибилы. Грим и отец Диллиген молча приблизились. Оба они побледнели, насколько были на это способны, другими словами, просто стали не такими красными. Они смотрели через плечо Сибилы. То, что произошло потом, не поддается никакому описанию.
Глава шестая
Краткий курс генетики человека, рассчитанный на писательниц (а также на писателей). Десять тысяч веков отступают перед черепом человека, умершего тридцать лет назад. Неожиданное появление казалось бы давно вымерших человеко-обезьян. Люди они или обезьяны? Дуглас хотел бы добиться ответа, но Сибила и научная объективность отсылают его прочь. На свете появляются «тропи». «Я никогда не думал, дорогая, дорогая Френсис, что мне так скоро удастся послать Вам весточку. Ведь мы живем в семистах милях от ближайшего населенного пункта, более или менее цивилизованного. Перед нами возвышается неприступная горная цепь Такуры, а позади лежат массивы девственных лесов. Ни о какой почтовой связи не могло быть и речи. По крайней мере до сегодняшнего дня. Но все перевернуло одно открытие Крепса, о котором я хочу (если только мне удастся) рассказать Вам. Дорогая Френсис, мы с Вами чудовищно невежественны. Известно ли Вам, например (в лучшем случае Вы, вероятно, имеете об этом смутное представление), что такое питекантроп, австралопитек, синантроп, неандертальский человек? Мне становится стыдно за то пренебрежение, с каким мы относимся к вопросу о происхождении человека! А сейчас, представьте себе, я так этим увлечен! И, к счастью, Сибила терпелива со мной, как ангел. Правда, не всегда. Иной раз она кричит на меня, как на двенадцатилетнего мальчишку, — это бывает в тех случаях, когда своими вопросами я отвлекаю ее от размышлений. Итак, Вам необходимо знать: в настоящее время почти точно доказано, что человек и обезьяна происходят от одного и того же корня. Этот корень „кустился“ (специальный термин), то есть в зависимости от разных условий окружающей среды давал различные ветви. В настоящее время на конце одной из этих ветвей находятся все человеческие расы, а на конце другой — все семейства обезьян. Таким образом, человек не происходит от обезьяны, но и обезьяна и человек происходят от одного и того же корня. Среди ветвей, образовавшихся при этом „кущении“, было немало таких, которые после более или менее продолжительного расцвета исчезали. В пластах плиоцена и плейстоцена — о, простите! — в древнейших геологических пластах, примерно двух миллионов лет, находят множество окаменелостей различных видов обезьян, исчезнувших тысячелетия назад. На Яве, в Китае, Трансваале были найдены черепа или остатки черепов животных, исчезнувших с лица земли и очень близких к человеку. Их назвали: питекантропом (что значит человеко-обезьяна), австралопитеком (южная обезьяна), синантропом (пекинский человек). Их черепа (впрочем, отличающиеся друг от друга) развиты более, чем у современных человекообразных обезьян, но менее, чем у самого примитивного человека. Они находятся как бы на полпути. Среди антропологов одни, как Грим и Сибила, считают, что эти животные были нашими непосредственными предками; другие, как отец Диллиген, может быть из чисто теологических соображений (по крайней мере таково мнение Сибилы), думают, что они являются последними представителями самостоятельной ветви, которая угасла, вероятно, 700–800 тысяч лет назад, возможно истребленная очень похожими на них, но гораздо более высокоразвитыми и жестокими животными, представителями соседней ветви, от которой произошли современные люди. Я написал глагол „считают“ в настоящем времени, а должен был бы употребить его в прошедшем. Потому что вот уже несколько дней, как они вообще уже ничего не считают. Френсис, дорогая моя! Я вдруг так остро почувствовал, что Вы далеко от меня. Я даже не могу спросить, как бывало раньше: „Я не надоел Вам? Можно продолжать?“ И вот приходится продолжать, не получив Вашего ответа. О, умоляю Вас, дорогая, проявите хоть чуточку терпения. Если б Вы знали, как все это теперь меня интересует! Мне больно подумать, что, читая эти строки, Вы можете зевнуть. Итак, дней десять назад в вулканическом обвале, происшедшем тысячи веков назад, Крепс обнаружил кусок черепа. По его мнению, это был череп животного, занимавшего промежуточное место между синантропом (одной из ископаемых обезьян, наиболее близкой к человеку) и неандертальцем (ископаемым человеком, наиболее близким к обезьяне). Он уверен, что своей находкой льет воду на мельницу обоих Гримов, так как наличие в древнейшие эпохи этого двойственного существа — еще обезьяны и уже человека — лишний раз подтвердило бы их концепцию о единой линии развития. Не знаю, дорогая Френсис, какое впечатление произведет это на Вас, но мне в ту минуту, когда я понял, о чем идет речь, стало как-то не по себе, стало тревожно, даже страшно. Сибила нашла мой вопрос глупым. Мне же он кажется очень существенным. Я спросил: „Еще обезьяна и уже человек что это значит! Кем же считать такое существо: обезьяной или человеком?“ „Старина, ответила мне Сибила, — греки долго считали важным решить вопрос, сколько камней составляют кучу: два, три, четыре, пять или больше. В вашем вопросе столько же смысла… Любая классификация произвольна. Природа не классифицирует. Классифицируем мы, потому что для нас так удобнее. И классифицируем по данным, которые мы берем также произвольно. В конце концов, не все ли равно, как назовем мы существо, череп которого вы держите в руках: обезьяной или человеком? Кем оно было, тем и было… Имя, которое мы ему дадим, ничего не изменит“. „Вы так думаете?“ — спросил я. Она только пожала плечами. Но этот разговор происходил еще до… До того как мы окончательно убедились в том, что находка Крепса совершает настоящий переворот в современной зоологии. И хотя я сгораю от нетерпения поскорее Вам все объяснить, я все-таки хочу изложить события по порядку. Итак, Крепс вернулся из своей экспедиции и принес найденную им черепную кость. Надо Вам сказать, что Крепс геолог. И хотя в палеонтологии он разбирается, конечно, несравненно лучше, чем мы с Вами, все-таки это не его специальность. Так как он нашел этот череп в очень древних пластах, к тому же весь покрытый осадочными породами, естественно, он принял его за ископаемое, причем ископаемое такое же древнее, как и сам пласт. Поэтому он, так же как и я, не сразу понял, почему старый Грим, внимательно рассмотрев череп, пришел в неописуемую ярость. Он буквально налетел на Крепса, осыпая его ругательствами. В ту минуту его гнев действительно казался необъяснимым. Ну в чем, в сущности, он мог упрекнуть Крепса? Самое большее в плохой шутке. Но теперь, поразмыслив, я понял, что заставило так страшно рассвирепеть старика Грима: инстинктом ученого он раньше, чем разумом, понял, какие надежды таит в себе эта находка и какое его ждет страшное разочарование, если все это окажется только шуткой; и охватившее его волнение прорвалось в гневе. У Сибилы темперамент более спокойный. К тому же, возможно, ей просто понадобилось больше времени, чтобы понять то, что ее старый супруг схватил на лету. Вторым понял все отец Диллиген. Сначала он подпрыгнул на месте сразу двумя ногами, как девочка, прыгающая через веревочку. А потом начал таким же образом прыгать вокруг Сибилы, которая держала в руках череп. Грим кричал, отец Диллиген прыгал, а Сибила с каждой минутой все больше становилась похожей на мраморную статую. Был такой момент, клянусь Вам, когда я подумал, что они сошли с ума. Наконец великан Крепс тяжело приподнялся с места. Движением руки, каким отгоняют муху, он отодвинул в сторону Грима. Подошел к Сибиле, взял у нее череп, вынул из кармана перочинный нож и начал его скоблить. Здесь-то я и услышал поток такой отборной немецкой ругани, какая и во сне не приснится. Дело в том, Френсис, что этот череп оказался вовсе не ископаемым. Он действительно принадлежал одному из видов человеко-обезьяны, исчезнувшему уже пятьсот тысяч лет назад, и все-таки он не был окаменелостью; напротив, это был череп существа, умершего всего двадцать или самое большее тридцать лет назад. Вы, наверное, начинаете понимать. Едва отец Диллиген пришел в себя, он закричал: „Камни!“ — и бросился через весь лагерь собирать камни, которыми за два дня до этого нас забросали обезьяны. Удивительно, Френсис, до чего хорошо работает мозг, когда он возбужден. Я сразу же понял, зачем отцу Диллигену понадобились эти камни. Чтобы посмотреть, не обтесаны ли они. Ну, знаете, как наконечники стрел или кремневые топоры, которые находят в доисторических пластах каменного века. И мне показалось совершенно бесспорным, во всяком случае в ту минуту, что, если обезьяны, напавшие на нас, умеют обтесывать камень, это уже не обезьяны, а люди. Камни были обтесаны, Френсис. Не просто обтесаны, но обтесаны старательно и удивительно искусно. Это было то, что называют орудиями доисторического человека, другими словами, совсем примитивное приспособление, которым он пользовался, оглушая свою добычу. Заметьте, это открытие в какой-то мере только подтверждало то, что уже предполагалось ранее. В самом деле, рядом с остатками синантропа (ископаемая обезьяна, жившая миллион лет назад, которую откопали в окрестностях Пекина) обнаружили обтесанные камни и следы огня. Вокруг этих находок разгорелся страстный спор. Вот вам доказательство, говорили одни, что обезьяны на данной ступени развития умели высекать огонь и обтачивать камни. Напротив, возражали другие, вопреки господствующему мнению, это доказывает лишь то, что человек жил уже в ту далекую эпоху, что он своим каменным оружием уничтожил синантропа и поджарил его на огне, который умел добывать. С этой минуты в наших руках имеется доказательство, что правы были первые, ибо более чем ясно, что существа, которые забросали нас обточенными камнями, по своей конституции не люди, а обезьяны. После я расскажу Вам обо всем подробнее. Грим, Диллиген и Сибила уже приступили к научным наблюдениям. Вы легко можете себе представить степень их волнения. И я его вполне разделяю! Найти антропитека, missing link, недостающее звено в цепи — и найти его живым! Мы уже вырыли из земли сотни точно таких же черепов, какой нашел Крепс. Откопали даже целые скелеты — видимо, эти странные обезьяны хоронят своих покойников. Обнаружили целый некрополь — конечно, примитивный и грубо сделанный, но в том, что это именно кладбище, нет никаких сомнений. И все-таки они обезьяны. Я, конечно, плохо разбираюсь в таких делах, но достаточно на них взглянуть, и все становится ясным. У них слишком длинные руки, и, хотя обычно они держатся прямо, бывает, что при быстром беге они опираются на согнутые пальцы, точно так, как это делают шимпанзе. Несмотря на то что тело их покрыто шерстью, признаюсь, они производят несколько странное впечатление, особенно самки. Они меньше и изящнее самцов, у них хорошо развиты бедра, грудь совсем как у женщины и не такие длинные руки. Они покрыты короткой бархатистой шерсткой, немного напоминающей мех крота. Все это придает им очень грациозный, трогательно-изящный, почти чувственный вид. Но лица их ужасны! Хотя они лишены, как и наши, растительности, однако почти такие же плоские, как у обезьян. И на этом лице — низкий и покатый лоб с огромными надбровными дугами, жалкое подобие носа, выдающийся вперед негритянский рот, только без губ, как у гориллы, с крупными зубами и клыками, не менее острыми, чем у собак. У самцов имеется что-то вроде окладистой бородки, что придает им сходство со старыми матросами былых времен. У самок шелковистые, падающие на глаза гривки. Они очень покорны, и их легко приручить. Самцы далеко не так уравновешенны; чаще всего они спокойны и настроены миролюбиво, но у них бывают приступы неожиданного гнева, и тогда они становятся опасными. Поэтому с ними надо быть начеку. Вы видите, я говорю о них, как об обезьянах: называю их самцами и самками. Но иногда так и подмывает назвать их людьми ведь они обтачивают камни, добывают огонь, хоронят своих мертвецов; у них даже существует какое-то подобие речи, при помощи которой они объясняются друг с другом (небольшое количество артикулируемых звуков, которых отец Диллиген насчитал около сотни). Вот что мы успели установить. Сейчас мы еще не решили, как их называть. Откровенно говоря, боюсь, что по-настоящему это волнует только меня. Я говорил уже Вам, что мне ответила Сибила: „Какое это имеет значение?“ На первый взгляд кажется, что она действительно права. Грим, Крепе и Сибила называют их между собой попросту тропи (выкроив это прозвище из слов anth-röpos [8] и pithekos[9]). Но это, конечно, только временное решение вопроса. Еще любопытнее то, что Диллиген старается вообще не произносить этого, в сущности, очень милого имени. Он говорит о них обиняками, явно не осмеливаясь их назвать ни „людьми“, ни „обезьянами“, ни „тропи“. По-моему, он даже больше меня страдает от подобной неопределенности. Да, наверное, больше. В конце концов, я ведь так же, как и другие, принял это название — „тропи“. Оно проще. Но для меня совершенно очевидно, что это только „пока“. Потому что рано или поздно придется решить вопрос, кто же они — люди или обезьяны…»Глава седьмая
Печаль и смятение отца Диллигена. Есть ли у тропи душа? Нравы и язык человеко-обезьян. Живут ли они в первородном грехе или пребывают еще в невинности зверя? Крестить не крестить… Как всегда, исследование, наблюдение и опыт только увеличивают сомнения. «Мой милый Дуг, как я счастлива, что тоже могу написать Вам! Вы так и не объяснили — еще бы, Вам слишком много хотелось рассказать мне, — каким чудом Ваши письма дошли до меня из глубины пустыни и как мои смогут перелететь к Вам через горы и девственные леса. Но Вы так мило торопите меня с ответом — очевидно, в расчете, что мое послание не залежится на почте в Сугараи. Ну и приключение, Дуг! И какое открытие! Вы вдохнули в меня огонь Вашей страсти. Я сразу же скупила все, что было напечатано в Англии о человекоподобных обезьянах и доисторическом человеке. И погрузилась в чтение. Правда, мне трудновато освоиться с мудреной терминологией, но постепенно я привыкаю. Может быть, оттого, что я Вас люблю, Дуг, я испытываю совершенно то же, что и Вы. Я просто заболела из-за Ваших тропи! И даже не знаю почему. Возможно, во мне еще сильны пережитки той веры, в которой я была воспитана, но иногда мне кажется, что нужно совершенно точно знать: есть душа у тропи или нет? Ведь самый неверующий среди нас не может отрицать того, что как-никак, а именно в человека, только в него одного, вложена искра божья. И не отсюда ли наша извечная тревога? Если человек в своем развитии идет от животного, то когда, в какой момент в нем зажглась эта искра? До того, как он стал тропи, или после? Или именно на этой стадии? В конце концов, весь вопрос, Дуг, сводится к тому: имеют ли Ваши тропи душу? Каково мнение об этом отца Диллигена?»* * *
А бедный отец Диллиген потому и терзался, что не мог составить себе на сей счет определенного мнения. Первое время его занимали только научные проблемы. Вместе с другими он работал радостно и возбужденно. Но потом все заметили, что он помрачнел, стал раздражительным, рассеянным и молчаливым. Когда он слышал, как Сибила и Дуг спорят о природе тропи — люди они или нет, — его лошадиное багровое лицо бледнело, а толстые губы начинали дрожать, он все что-то шептал про себя; в такие моменты у него даже гасла трубка. Однажды, когда Сибила с раздражением бросила Дугу: «Оставьте меня в покое!» — отец Диллиген взял его за руку и прошептал: — Вы чертовски правы. В такие минуты наука вызывает у меня отвращение. Он схватил руку Дугласа, буквально вцепился в нее. — Знаете, что я думаю? — сказал он вдруг дрогнувшим голосом. — Мы все будем гореть в аду. — И он резко повернулся к Дугу, точно желая проверить, какое впечатление произвели его слова. Дуг не скрыл своего удивления. — Кто «все»? Все ученые? — Нет, нет! — живо возразил Диллиген, тряхнув своей серебряной гривой. — Я говорю о людях верующих и благочестивых. — Он отпустил руку своего собеседника и снова заговорил, понурив голову: — Мы будем гореть в аду за то, что нам не хватает воображения. Мы и представить себе не можем, к каким ужасным последствиям приводят подобные открытия. Он поднял глаза и с невыразимой тоской посмотрел на Дуга. — Иисус пришел на землю двадцать веков назад, а человек существует уже пять тысяч веков. И все эти тысячелетия люди прожили в неведении и грехе. Понимаете ли вы, что это значит! Но в нашей душе так мало милосердия, что мы над этим никогда не задумываемся. А нам бы следовало думать об этих несчастных людях, трепеща от любви и страха. Мы же считаем, что выполнили долг свой, если нам удалось спасти несколько грешных душ. — Вы полагаете, что Бог проклял тех, кто жил до Рождества Христова? Я думал, что, согласно учению церкви, поскольку они грешили в неведении… — Знаю… прекрасно знаю… Возможно, они и находятся в чистилище… Мы стараемся утешить себя этим… Но неужели вы думаете, что вечно блуждать в страшной пустыне чистилища менее ужасно, чем гореть в адском пламени? Наши представления о справедливости восстают при мысли… Но у Бога своя справедливость. Нам неведомы его предначертания. — И он шепотом добавил: — Неужели вы думаете, что это все меня не волнует? Смогу ли я чувствовать себя счастливым, воссев после отпущения грехов одесную Господа, если буду знать, что миллионы несчастных душ осуждены гореть в геенне огненной? Я был бы в таком случае не лучше нациста, который преспокойно празднует Рождество в кругу своей семьи, радуясь, что существуют концлагеря. Он протянул руку в сторону загона, где помещались пойманные тропи. — Как мы должны поступить с ними? — спросил он, и голос его прозвучал, как крик, хотя он говорил почти шепотом. — Нужно ли оставить тропи в их первобытном неведении? Но как знать, действительно ли они пребывают в неведении? Если они люди, то они грешны. И они ведь даже не приобщились таинства крещения. Можем ли мы допустить, зная, какой удел ждет их в жизни будущей, чтобы они жили и умерли некрещеными? — Что это вам пришло в голову? — вскричал пораженный Дуг. — Уж не собираетесь ли вы окрестить их? — Не знаю, — пробормотал отец Диллиген. — Я действительно не знаю, что делать, и это раздирает мне сердце.* * *
Здесь, кажется, уместно дополнить изложение Дуга. Ему и впрямь пришлось слишком много рассказывать, и он не мог всего упомнить. Только постепенно Френсис узнавала о делах и днях экспедиции, начиная с удивительного открытия Крепса. Когда улеглось первое волнение, заработала научная мысль, вернее, мысль исследовательская, или, еще точнее, мысль практическая; сразу же стали думать, как полнее можно использовать эту сказочную удачу, каким образом извлечь из нее максимум выгоды для науки. Для начала, чтобы быть поближе к тропи, лагерь переместился в вышеупомянутый амфитеатр, «который был облицован плитками лавы, как ванная комната». Амфитеатр действительно был облицован чьими-то искусными руками. Каждая плитка в точности соответствовала размерам естественных выбоин (лава здесь напоминала ноздреватый швейцарский сыр). Большинство этих выбоин было заполнено костями животных. Отец Диллиген и супруги Грим без труда рассортировали эту груду костей. Собранные скелеты по своему строению ничем не отличались от четвероруких животных, но были гораздо ближе к человеку, нежели любая из найденных до сих пор обезьян, и даже синантроп. И все же этих животных нельзя еще было отождествлять с неандертальцем, которого, несмотря на диспропорцию верхних и нижних конечностей, выдающуюся вперед маленькую голову и согнутый позвоночник, считают уже не обезьяной, а человеком, поскольку при раскопках вместе с ним были обнаружены различные предметы, сделанные его собственными руками. Больше недели не удавалось увидеть живых тропи. Вторжение экспедиции, конечно, испугало их. Отсутствием тропи воспользовались, чтобы обследовать их пустые пещеры. Повсюду были следы огня, подстилки из листьев и несметное количество обтесанных камней. Однако стены были совершенно чистыми: ни рисунков, ни знаков. В противоположность человекообразным обезьянам, которые питаются корнями растений, фруктами и лишь иногда насекомыми, многочисленные остатки пищи, найденные в пещерах, показали, что тропи — животные плотоядные. Между прочим, установили также, что мясо на кострах они не жарят, а коптят самым примитивным способом. Под выступами скалы было найдено несколько припрятанных кусков копченого мяса тапира и дикобраза, которые тропи, спасаясь бегством, не успели захватить с собой. Существа, способные действовать подобным образом, конечно, люди! — воскликнул Дуглас. — Не увлекайтесь, — отрезала Сибила. — Вы не видели, вероятно, как бобры строят плотины, меняют течение рек, превращают зловонные болота в города, более пригодные для жизни, чем Брюгге и Венеция. А знаете ли вы, что муравьи заготавливают себе впрок грибы, разводят скот, что у них есть свои кладбища? Когда речь идет о существах, находящихся ниже определенного уровня развития, трудно сказать, действует ли тут инстинкт или разум. Истинно научную, зоологическую классификацию нельзя основывать на таких вещах. Если бы лошадь научили играть на рояле не хуже Браиловского, она от этого не стала бы человеком. Она так и осталась бы лошадью. — Однако вы не отправили бы ее на живодерню, — заметил Дуглас. — Как вы умеете все запутать! — ответила ему Сибила. — Не об этом же идет речь! — Может быть, это и не имеет отношения к вашим ископаемым обезьянам, которые жили миллион лет назад, хотя у отца Диллигена есть свое особое мнение на сей счет. Но тропи-то живые существа! — Ну и что? — А ну вас, — сердито огрызнулся Дуг. — Сами-то вы кто? Человеческое существо или логарифмическая таблица? Но сочувственная улыбка Диллигена вернула Дугу спокойствие. Тем временем Грим пустил в ход маленький радиопередатчик, взятый экспедицией в основном на тот случай, если бы вдруг пришлось просить помощи. Сообщение, которое он послал в Сугараи, было тотчас же передано в Сидней и на Борнео. Как стало известно позднее, Антропологический музей Борнео только пожал плечами (если, конечно, можно так выразиться). Но Сидней заволновался. Богатый антрополог-дилетант отправил к ним сперва один геликоптер, а следом за ним и другой. Спустя две недели в лагере раскинулось семь новых палаток, появился врач-терапевт, патологоанатом, два кинооператора, биохимик со своей походной лабораторией, два механика с тоннами проволоки и стальных стоек и, наконец, фантастическое количество банок с консервированной ветчиной. Ибо стало известно, что ветчина пришлась тропи по вкусу. Действительно, через несколько дней они начали возвращаться в свои пещеры, сначала очень несмело, а затем — обнаружив там разложенные на всякий случай Гримом куски ветчины — поспешно и радостно. Повсюду зажглись костры тропи коптили ветчину, что было очень забавно, потому что они съедали ее тотчас же. И скалы снова огласились звуками, которые Крепе называл лопотанием, а отец Диллиген речью. — Речь! — иронизировал Крепе. — Не потому ли, что они произносят «ой-ой!», когда им больно, и «о-ла-ла!», когда чему-нибудь радуются? — Они не говорят ни «ой-ой», ни «о-ла-ла», — торжественно отвечал отец Диллиген. — Можно ясно разобрать отдельные звуки, уверяю вас. Мы их не различаем только потому, что они не похожи на наши. Но если их дифференцировать хоть раз, потом дело пойдет легче. Я уже начинаю понимать язык тропи. Крепе утратил свой сарказм, когда спустя несколько дней отец Диллиген проделал опыт, закончившийся вполне успешно. Диллиген негромко крикнул два раза — и скалы тотчас же погрузились в странное молчание. Он опять крикнул — и сотни тропи одновременно выглянули из своих жилищ. Снова и снова прозвучал его крик — и тропи насторожились, словно в ожидании чего-то, а потом с лопотанием скрылись в пещерах. — Что вы им сказали? — воскликнул Крепе. — Ничего особенного, — ответил Диллиген. — Сначала я дважды крикнул так, как обычно они кричат, предупреждая об опасности, потом попытался повторить их крики удивления и, наконец, решил окончательно поразить их воображение: известил их криком о приближении стаи перелетных птиц. Во всяком случае, я был в этом убежден, и я надеялся, что они хотя бы поднимут головы. Но я или плохо их понял, или неправильно воспроизвел этот звук. — Как бы то ни было, — отозвался Дуглас, — профессор Крепе прав: эти крики нельзя назвать речью. — А, собственно говоря, что вы называете речью? — спросил отец Диллиген. — Если вы удостаиваете этого наименования грамматику, то многие первобытные племена, с вашей точки зрения, вообще не умеют говорить. Ведды Цейлона располагают всего лишь одной-двумя сотнями слов, которые они выкладывают при разговоре одно за другим. Когда различные сочетания членораздельных звуков обозначают предметы или выражают ощущения и чувства, по-моему, их уже можно считать речью. — Но тогда, по-вашему, птицы тоже говорят? — Да, если угодно, но их песни слишком бедны модуляциями, чтобы считаться речью. — А разве крики тропи достаточно разнообразны? В общем, мы попали в знаменитую историю с грудой камней, — вздохнул Дуг. — Сколько требуется слов или членораздельных звуков, чтобы речь можно было назвать речью? — В этом-то вся загвоздка! — ответил отец Диллиген.* * *
Таким образом, каждый раз, когда бедный Дуглас считал, что наконец-то путеводная нить в его руках, она ускользала или же не приводила ни к чему определенному. Его поддерживало лишь то (весьма сомнительное) утешение, что отец Диллиген был еще несчастнее. — Теперь вы видите, отец, — говорил ему Дуг, — что страдаете понапрасну? Если даже тропи и люди, как вы сможете совершить над ними обряд крещения без их согласия? — Если бы надо было ждать согласия людей для того, чтобы их окрестить, — вздохнул Диллиген, — как бы тогда крестили новорожденных? — И в самом деле, почему же их тогда крестят? — В своем ответе Пелагию святой Августин дал этому точное объяснение: душа каждого родившегося ребенка отягощена первородным грехом. Католическая вера учит нас, что все люди рождаются настолько грешными, что даже дети уже осуждены на вечные муки, если они умрут, не возродившись во Христе. Будучи бенедиктинцем, я не могу подвергнуть сомнению слова того, кто, в сущности, заложил основы учения нашего ордена. Итак, если тропи люди — пусть даже они грешат в неведении, — они греховны, и только крещение может смыть с них первородный грех, а тем временем они прозреют, поймут, что творят, и уже сами станут отвечать за спасение своих душ. Ведь тех, кто умрет без крещения, ждет если не адское пламя, то в лучшем случае вечное безмолвие чистилища. Могу ли я примириться с мыслью, что по моей вине они будут обречены на такие страшные муки? — Тогда окрестите их! — сказал Дуг. — Чем вы рискуете? — Ну а вдруг они животные, Дуглас, не могу же я дать им святое причастие. Это было бы просто святотатством! Вспомните, — добавил он, улыбаясь, — ошибку святого старца Маэля, который по своей близорукости принял пингвинов за мирных дикарей и, не теряя времени, окрестил их. По свидетельству летописца, эта акция привела в страшное замешательство все царство небесное. Как принять в лоно божье души пингвинов? Наконец совет архангелов решил, что единственный выход — превратить их в людей. Так и сделали. После чего пингвины перестали уже грешить в неведении, и им самым законным образом были уготованы адские муки. — Ну, тогда не крестите их! — А вдруг они люди, Дуглас! Сибила хохотала до слез над терзаниями отца Диллигена. Она вставляла его объяснять себе энциклику «Humani generis»[10], в которой церковь устанавливает точную зоологическую границу между человеком и животными. — Но вот в том-то и дело, что эти злосчастные тропи находятся на самой границе, как Чарли на рубеже Мексики и Техаса и конце фильма «Пилигрим», одна нога там, другая здесь, — стонал отец Диллиген. — Подождите, отец, — успокаивала его Сибила, — потерпите немного. Над нами не каплет. Наши славные тропи могут подождать с крещением еще несколько месяцев. — Но как быть с теми, которые успеют умереть за это время? А умирало их действительно очень много, причем независимо от возраста, что в какой-то степени компенсировало их редкостную плодовитость. Не проходило и дня, чтобы тропи не выносили покойника из своих пещер. Но до сих пор никому из экспедиции не Удалось увидеть обряда похорон. В некрополе они больше не хоронили — возможно, оттого, что там расположился лагерь, а возможно, они покинули его еще раньше. Видно было только, как тропи с ловкостью макак взбираются на скалы и исчезают затем в долинах, унося свой погребальный груз. «Потом нам без особого труда удавалось находить похороненные ими тела, — писал Дуглас Френсис. — И кажется, тропи даже не заметили нашей коварной проделки: четыре ночи подряд мы выкрадывали из одной и той же выбоины в лаве трупы, которые они там оставляли. И только на пятую ночь, когда мы вставили плиту на место, они перешли к соседнему отверстию. Я присутствовал на вскрытии, которое производили Тео и Вилли (врач-терапевт и патологоанатом). Во всех случаях результат был один и тот же: некоторые органы почти не отличаются от человеческих, другие типичны для человекообразных обезьян. По данным вскрытия решить что-либо невозможно. Особенно смущает вид мозга. Почти такие же извилины, как и у человека. Однако борозды менее отчетливые и глубокие. По мнению Вилли, умственное развитие тропи вполне возможно. Есть все основания полагать, что в этом отношении можно добиться немалых успехов. С тех пор как я послал Вам свое последнее письмо, нам удалось поймать несколько самцов, самок и детенышей тропи, всего около тридцати. Хотя, пожалуй, здесь не подходит слово „поймать“. Мы завлекли их и обольстили. Завлекли ветчиной и обольстили при помощи радио. Ясно, что это самые смелые экземпляры и в то же время самые отъявленные попрошайки. В конце концов они начали ходить за нами по пятам и прижились в лагере. Мы поместили их в специальном „загоне“, рядом с нашими палатками, но так, чтобы их не могли видеть сородичи. Они вполне счастливы и не собираются никуда уходить. Ежедневно несколько новых попрошаек-тропи приходят в лагерь и присоединяются к живущим у нас. Несмотря на решетку, которой обнесен „загон“, я уверен, они не понимают, что находятся в плену. Мы заставляем их выполнять различные тесты, чтобы выявить их умственные способности. Вы читали в „Человекообразных обезьянах“, как это делается, и знаете, что полученные результаты иногда просто ставят в тупик: например, если шимпанзе умственно развит более, чем орангутанг, и гораздо быстрее решает задачи на хитрость (как схватить далеко лежащие фрукты, открыть замок и т. д.), то орангутанг, превращая железный брус в нечто вроде рычага и пользуясь им для того, чтобы раздвинуть прутья своей клетки, обнаруживает способность соображать, совершенно неожиданную для животного. Наши тропи недалеко ушли от этих обезьян. У тропи более подвижные руки, напоминающие руки пигмеев, с длинными, хорошо развитыми пальцами. Указательным пальнем они часто показывают на отдаленные предметы (чисто человеческим жестом). Однако их возможности весьма ограниченны. Они высекают огонь, ударяя двумя обточенными кремнями над лишайником. В их присутствии мы поджигали спичками бумагу. Сначала они просто испугались. Потом любопытство взяло верх. Они долго следили за нами, старались воспроизвести все наши движения, но им понадобилось очень много времени, чтобы установить в данном случае причинную связь. Наконец самый сообразительный из них понял роль спичек. Но он никак не мог усвоить, каким концом надо чиркать. И только случайно чиркал тем концом, каким полагается. Но зато отцу Диллигену удалось обучить их пяти-шести английским словам — обычным словам трехлетнего ребенка. Первое слово, которое они смогли сказать, было „хэм“ (ветчина), затем „зик“ (музыка), что означало требование включить радио, радио они обожают. Но это, по-видимому, тоже еще ничего не доказывает. Уже много лет назад, сказал мне Диллиген, некий Фэрнес добился таких же результатов от орангутанга. Только время покажет, сумеют ли наши тропи превратить эти слова в связную речь. Одного из тропи Диллиген научил даже узнавать букву „h“, показывая ему банки с ветчиной, на которых была написана эта буква. Теперь тропи умеет отыскивать ее среди прочих, говорит „хэм“, когда ее видит, и даже может написать карандашом. Но все это он выполняет только за вознаграждение, когда же он сыт, то не знает, что делать с карандашом. Он не проявил ни малейшего интереса к тем картинкам, которые рисовал ему отец Диллиген, впрочем, так же, как и ко всем другим рисункам и фотографиям, которые ему показывали. Было ясно, что он их просто „не видит“. В этом отношении тропи, следовательно, ближе к обезьяне, чем к человеку. Но в то же время многие факты могли бы доказать обратное. Их лица гораздо более выразительные, чем у орангутангов, на которых они в общем очень похожи. Они умеют смеяться, и, если считать, что смех свойствен только человеку, они такие же люди, как и мы с Вами. Не берусь утверждать, что им не знакомо чувство юмора! Другое дело, что они смеются над теми же пустяками, что и двухлетние дети. Но интереснее всего смотреть, как они обтесывают камни. Если бы не их покрытое рыжеватой короткой шерстью тело, сгорбленное, как у гориллы, если бы не слишком короткие ноги и не слишком длинные руки — фактически четыре руки, если бы, наконец, не срезанная линия лба и не клыки, то, глядя, как они работают, Вы вполне могли бы принять их за каких-нибудь ремесленников или первобытных ваятелей. Они ударяют по камню с необычайной точностью, отбивая от него сначала крупные, а потом все более и более мелкие куски. Удары становятся все легче и осторожнее. Они обтесывают камень до тех пор, пока он не примет формы яйца с острыми концами, чего ни один из нас здесь, в лагере, вероятно, не смог бы сделать. Конечно, странно, что они целыми днями изготовляют эти камни, ведь у них нет никакой возможности их применить, — я говорю о тех тропи, которые находятся в „загоне“. Совсем маленькие детеныши уже берутся за работу, сначала у них получается не очень ловко, они попадают себе по пальцам, а все вокруг смеются. Однажды Диллигену пришла в голову мысль показать им, как обтесывать камень при помощи настоящего молотка и долота. Тропи так и не научились пользоваться долотом, но из-за молотка началась настоящая ссора, так как они поняли, что молотком камни обтесывать гораздо быстрее.! Другими словами, усовершенствовать методы работы они способны, но не в состоянии понять, что сама-то работа бесцельна. Вроде крольчих перед окотом: устройте им гнездо — они все равно с прежним рвением будут выщипывать у себя шерсть, хотя уголок для будущих детенышей уже готов. Как видите, Френсис, мы совсем не продвигаемся вперед. Или, вернее, я сам не продвигаюсь вперед, так как, кроме меня (если не считать отца Диллигена), по-прежнему никого не волнует вопрос, принадлежат ли тропи к роду человеческому. На днях я по-настоящему поссорился с Сибилой. Она сказала: — Мало того, что этот вопрос не имеет никакого смысла, он еще затормозил бы нашу работу. Наша обязанность вести объективные наблюдения. Если же мы начнем доказывать что-то, вся наша работа полетит к черту. Вы рассуждаете, как журналист, которому важнее всего броский заголовок: „Можно ли считать тропи человеком?“ Но науке, чужды такие грубые приемы. Поэтому, прошу вас, отстаньте от меня раз и навсегда с этим вопросом. Я ответил: — Хорошо. Но представьте, что завтра у меня появится желание поохотиться на тропи. Вы разрешите мне это или нет? — Вы просто глупы, Дуг. Вы так же не вправе убивать их, как шимпанзе или утконосов. Закон охраняет вымирающие виды. — На вашем месте я не очень бы гордился подобным ответом. Хорошо, я поставлю вопрос по-другому: если бы нам пришлось голодать, а вокруг не было бы никакой дичи, кроме тропи, могли бы вы со спокойной совестью есть их мясо? — Противный человек! — сказала Сибила, поднялась и тотчас же вышла из палатки. Но она мне так и не ответила…»Глава восьмая
Дозволено ли христианам готовить себе обед из мяса тропи? Носильщики-папуасы решают этот вопрос. Отчаяние отца Диллигена растет. Лагерь в унынии. Визиты тропи. Их дружба с Дугом и его спутниками. Первое отступление от научной объективности. Акционерная компания фермеров Такуры. Австралийская шерсть и английским конкуренция. Бесплатная рабочая сила и проекты технического переоборудования текстильной промышленности. Будут ли продавать тропи как рабочий скот? Второе отступление от научной объективности. Колумбово яйцо. Щекотливое предложение. Отец Диллиген в негодовании. Как ни странно, именно так встал вопрос в один прекрасный день. Или, вернее, в одну прекрасную ночь, в ту самую ночь, когда в лагере носильщиков-папуасов необычно ярко запылали костры. — Что это они там затеяли? — с удивлением спросил Крепе. Дуг увидел, что отец Диллиген поднялся и, не говоря ни слова, исчез в темноте; он направился к лагерю, где при свете горящих костров можно было различить десятки темных силуэтов, не то кружившихся в пляске, не то размахивавших руками. — Святой отец беспокоится о своей пастве, — иронически улыбнувшись, заметила Сибила. — Они еще не слишком тверды в своей вере. В лагере часто подшучивали над отцом Диллигеном, пытавшимся обратить папуасов в христианство. И в самом деле, несмотря на все его увещания, новообращенные продолжали покрывать свои тела татуировкой. С той только разницей, что теперь среди прочих замысловатых рисунков можно было порой увидеть крест и терновый венец. Подобное кощунство приводило святого отца в такую ярость, его громовой голос звучал так грозно, что несчастные заблудшие овцы в смертельном ужасе застывали на месте. Дуг и его друзья замолчали и стали прислушиваться, ожидая очередной бури. Но все было тихо. Бенедиктинец возвратился бледный и растерянный. Молча, ни на кого не глядя, опустился он на свое место. — Ну как? — спросил Крепс. — Что они там делают? Кому это они поклоняются: Вишну, луне или еще кому? Но отец Диллиген лишь оглядел всех блуждающим взглядом, покачав седой головой, сделал не совсем понятное движение рукой, как будто медленно поворачивал вертел. — Они их поджаривают, — произнес он наконец. — Кого? Вишну или луну? — Нет, тропи. Произойди подобное «тропоедство» месяца на два раньше, ни один из членов экспедиции, кроме Дугласа и бенедиктинца, конечно, не придал бы этому большого значения. Отругали бы папуасов, пригрозил бы, что накажут их, если это еще когда-нибудь повторится. А между собой они, наверное, даже посмеялись бы, как смеются родители над шалостями своих детей. Но за это время отношение к тропи у всех обитателей лагеря, даже у Крепса и Сибилы, значительно изменилось. Постепенно равнодушие и чисто научный интерес вытеснила самая искренняя симпатия. Симпатия, а порой даже неподдельное уважение и сочувствие. Конечно, чувства эти они испытывали не к тем ласковым, ставшим совсем домашними тропи, которые жили в «загоне» (к ним они привязались так, как привязываются к прирученным животным, таким милым и верным), а к тем, которые продолжали жить на воле среди скал. Ибо вскоре стало совершенно ясно, что их отчужденность объясняется не столько трусостью или недоверием, сколько независимым нравом. Если первые небольшими группками с визгом и шумом сразу же стали толпиться у лагеря, выпрашивая куски ветчины, — той самой ветчины, из-за любви к которой они в конце концов отказались от свободы, вторые, наоборот, в течение нескольких недель не удостаивали лагерь своим посещением. Но вот в одно прекрасное утро к лагерю приблизился старый тропи. Неторопливо, без малейшего признака страха подошел он к лагерю и, как будто для него в этом не было ничего необычного, начал медленно прохаживаться среди палаток с невозмутимым, чуть скучающим видом завсегдатая выставок. Его решили не трогать, сделали вид, что на него вообще не обращают внимания. И он с непринужденностью парижского зеваки останавливался то здесь, то там, разглядывая вещи и людей. Его определенно заинтересовало белье, сохнувшее на ветру, казалось, удивило присутствие стоящего в специальном укрытии геликоптера, привел в восхищение работающий двигатель генератора и совершенно покорил вид бреющихся механиков с лицами в мыльной пене. Наконец отец Диллиген осторожно приблизился к тропи и, остановившись шагах в десяти, издал короткий гортанный звук. Старый тропи даже не вздрогнул, он внимательно посмотрел на Пятого отца, но не подал голоса. Отец Диллиген, не сходя с места, продолжая улыбаться, снова повторил тот же мягкий звук, но так и не добился ответа. Зато тропи, переложив в левую руку отточенный камень, который он, по-видимому, прятал в правой медленно погладил себя по волосатой груди, как бы желая этим жестом выразить свое миролюбие и кротость. Ничего интересного больше в этот день не произошло. Правда, когда тропи уходил, Дуг попытался предложить ему большой кусок ветчины, но в ответ получил высокомерный, подчеркнут пренебрежительный отказ. Дуг не стал настаивать, и старый тропи с величавым спокойствием удалился. На следующее утро явилось уже десять или двенадцать тропи. Был ли среди них вчерашний знакомец? Этого никто не мог бы сказать. Тропи слишком походили друг на друга, или, вернее, жители лагеря еще не научились отличать их друг от друга. Но в одном можно было не сомневаться: пришли только одни старики. Они так же невозмутимо и неторопливо осмотрели лагерь, напоминая отставных чиновников, впервые рискнувших выехать за пределы родной провинции. Замешкавшийся догонял своих товарищей, опираясь при беге на слишком длинные руки, как это обычно делают обезьяны. Было заметно, что они проявляют далеко не одинаковый интерес к одним и тем же предметам. Так, мыльная пена на лицах бреющихся на сей раз не привлекла их внимания. И даже работающий двигатель генератора, мимо которого никто из них не мог пройти равнодушно, воспринимался также по-разному: здесь, видимо, сказывались вкусы каждого из них! А один из тропи относился с подчеркнутым равнодушием ко всеми тому, что привлекало внимание его друзей. Он оглядывался на своих спутников с видом терпеливого отца, который устал ждать, пока его сынишка налюбуется витриной игрушечной лавки. Тем временем старейшины лагеря — Грим и отец Диллиген уже ждали гостей, усевшись по-турецки прямо на землю, меж, двух палаток. Они разложили вокруг себя с десяток консервных банок. Тропи остановились в изумлении. Святой отец повтори тот же короткий гортанный звук, что и накануне. Тропи сразу зашумели, залопотали, но не тронулись с места. Тогда Грим и отец Диллиген поднялись, отец Диллиген, обращаясь к тропи, снова издал несколько мягких звуков, и они с Гримом скрылись в ближайшей палатке. Увидев, что посторонних нет, тропи снова залопотали. Затем, благосклонно приняв дары, всей толпой направились к своим скалам, правда, двигались они куда живее, чем их флегматичный предшественник. С тех пор тропи все чаще и чаще стали появляться в лагере; Однако во время своих посещений они никогда не выпрашивали подачек. Напротив, посещения эти можно было бы, скорее всего назвать «визитами дружбы». Да, именно дружелюбие и любознательность приводили все новые и новые группы тропи в лагерь. Особой любознательностью отличались молодые: они обследовали лагерное оборудование с жадным любопытством мальчишек, попавших впервые на паровозостроительный завод. Мало-помалу они начали не без удовольствия помогать жителям лагеря выполнять ту часть работы, которая требовала простого подражания. Примечательно, что самок с собой они никогда не приводили. Однако никто из них не задерживался в лагере надолго. Никто ни разу там не заночевал. Однажды решили произвести довольно коварный эксперимент: открыли двери «загона». Но большая часть пленников даже не переступила порога. Те же, которые вышли, вернулись на ночь обратно. Мы подобрали самых бездельников, — заметил Крепе. И вот как-то утром Крепе, Дуг и доктор Вильямс (друзья звали его просто Вилли) решили в свою очередь отправиться в скалы. Им отплатили столь же учтивым приемом, какой был оказан самцам тропи во время их первого посещения лагеря: то есть хозяева, сделав вид, что не обращают на гостей ни малейшего внимания, позволили им спокойно осмотреть все самое интересное. И через несколько недель между лагерем и скалами наладилось постоянное движение. Крепс и его друзья почувствовали к тропи еще больше симпатии и уважения, когда увидели, что те живут мирной, на редкость демократичной общиной. Никаких вожаков, ничего, даже отдаленно напоминающего «совет старейшин». Просто молодые подражали старикам — учились так же искусно охотиться, так же осторожно и храбро защищаться от общего врага (вспомните, как на следующий вечер, после того как экспедиция обосновалась у скал, лагерь забросали камнями; и хотя нападение больше не повторялось, тропи бдительно следили за своими соседями). Со временем каждый обитатель лагеря обзавелся друзьями, но отношения между ними ничем не напоминали покорной привязанности собаки к своему хозяину; это была дружба равного равным. Молчаливая дружба ради простого удовольствия побыть вместе: так у Дуга появилось трое друзей, которые почти не покидали его. Одному из них особенно нравилось открывать консервные банки (причем сам он, пока его не угощали, никогда не притрагивался к содержимому), а двое других предпочитали мыть бутылки, которые они умудрялись доводить до хрустального блеска. Дуг попытался дать каждому из них кличку (сами они себя никак не называли), приучить их откликаться на зов, но безуспешно. Он хотел также научить их произносить свое имя, но и эта попытка не увенчалась успехом. Казалось, вообще сама мысль о каком-то разграничении, об индивидуальностях была им абсолютно чужда. Однако и это сперва показалось странным — прирученные тропи в конце концов стали отзываться на данные им имена, на что отец Диллиген совершенно справедливо заметил, что имена эти связывались у них с представлением о еде и что дело здесь, видимо, как и у собак, в условном рефлексе. Он обратил также внимание и на другое обстоятельство: когда кто-либо из тропи хотел указать на себя, то начинал потихоньку бормотать, как будто вместе с воздухом втягивал в глубину легких звук «м-м-м». Когда же он хотел указать на другого, то как будто бы выплевывал сквозь сжатые зубы очень твердое «т-т-т». И святой отец не раз задумывался над тем, нет ли какой-нибудь связи между этими двумя звуками, вдыхаемым и выдыхаемым, и словами «мой» и «твой», которые почти на всех языках мира начинаются первое со звука «м», а второе — с «т» или «д». Он утверждал также, что не раз вел настоящую беседу с одним из своих друзей на языке тропи — если, конечно, можно назвать беседой отдельные звуки, при помощи которых они сообщали друг другу, тепло сейчас или холодно, стоит день или уже наступила ночь… Пределом сложности был разговор, в результате которого оба они пришли к заключению, что огонь причиняет боль. Большего святой отец не смог добиться от своего друга-тропи. Впрочем, надо быть справедливым: так же как и тропи — от своего друга Диллигена, ибо при всех своих лингвистических способностях святой отец не в силах был различать многие едва уловимые звуки. Одна только Сибила не завела себе друзей среди обитателей скал. Не потому, конечно, что она испытывала к ним отвращение или не могла бы добиться их благосклонности; просто по некоторым признакам стало ясно, что ей не следовало без особой на то надобности встречаться с самцами тропи. Что касается папуасов, то они и тропи с первых же дней почувствовали друг в друге врагов. Между ними чуть ли не каждую минуту готовы были вспыхнуть драки. Тихие, спокойные тропи сразу же становились похожими на большого сторожевого пса, встретившего на улице чужую собаку: зубы ощерены, шерсть поднялась дыбом, слышится рычание. Папуасы отмалчивались. Но их взгляд, все их существо дышало жестокостью. И все же никто не ожидал, что в один прекрасный день они смогут тайно предаться тропоедству. Все в лагере были глубоко потрясены, искренне возмущены и по-настоящему опечалены. Понадобился весь авторитет отца Диллигена, все его красноречие, дабы спасти виновных от слишком суровой кары. И в то же время больше всех потрясло это злополучное приключение самого отца Диллигена, ибо он лишь недавно обратил своих папуасов в христианство. «Но, с другой стороны, в чем я, собственно говоря, могу их упрекнуть? — спрашивал он. — Кого съели они: животных или людей? Мы сами еще не в силах решить этот вопрос, как же можно требовать от папуасов, чтобы они знали больше нашего?» И никому не приходило в голову улыбаться (каждый чувствовал себя в какой-то степени виновным), когда святой отец патетически задавал себе в сотый раз один и тот же вопрос: должен ли он исповедовать папуасов в совершении ими смертного греха? Они вполне могут сделать вид, будто не понимают, о чем идет речь, говорил он. А в таком случае, на каком основании откажет он им в отпущении грехов без наложения епитимьи. Требовать же от них раскаяния лишь за то, что они предались чревоугодию, было бы лицемерием. Правда, Дуг был в какой-то степени удовлетворен. Он вскоре убедился, что Сибила не смеет смотреть ему в глаза. Но, хотя он и одержал победу после недавнего спора, сейчас ему было не до торжества. Ибо дальнейшие события, таящие в себе гораздо большие опасности, нежели тропоедство папуасов, со всей ясностью показали правоту Дуга и отца Диллигена, и теперь все члены экспедиции, и даже Сибила с Крепсом, желали как можно скорее решить проклятый вопрос: люди тропи или пег?* * *
Операторы ежедневно снимали тропи, но им не всегда удавалось поймать в объектив киноаппарата обитателей скал, а потому большинство кадров было посвящено пленникам, выполнявшим свои очередные тесты. Съемки, таким образом, шли в двух направлениях: с одной стороны, готовился игровой фильм для широкой публики, с другой — снимались кадры, имеющие чисто научный интерес. Это были, так сказать, своеобразные дневник и архив экспедиции. Геликоптеры, отправлявшиеся за продуктами, отвозили в лабораторию австралийской фирмы, приславшей своих операторов, Уже заснятые пленки, которые там и проявлялись. Что же, собственно говоря, произошло? По всей вероятности, среди владельцем) фирмы и их гостей, для которых в узком кругу демонстрировали эти кадры, находился некий Ванкрайзен, один из крупных Дельцов, известный своей акульей хваткой. Надо признать, что тесты, которые в последнее время выполняли прирученные тропи, не могли не навести на определенные размышления. Это была уже не столько проверка умственных данных тропи с целью установить их способности к наблюдению и размышлению (тут, как мы видели, тропи мало чем отличались от человекообразных обезьян), сколько проверка их восприимчивости с целью узнать, могут ли они усваивать и повторять определенные жесты, движения, выполнять ту или иную работу. Известно, что любого шимпанзе можно очень быстро научить одеваться, зашнуровывать ботинки, накрывать на стол, есть ножом и вилкой, курить сигару, ездить не велосипеде или верхом на лошади. В колониях нередко шимпанзе не хуже слуг выполняют всю домашнюю работу. Этот первый этап — этап несложных работ — был быстро пройден тропи. Под руководством двух механиков они с поразительной быстротой научились обращаться с металлическими частями машин, находить и даже подбирать нужные детали; правда, их так и не смогли научить обращаться с буравом, зато они с Явным удовольствием вставляли болты и завинчивали гайки. Они были бесконечно терпеливы в работе, напоминая этим слонов; правда, их нужно было время от времени ободрять ласковым словом, хвалить, а главное, в качестве поощрения давать кусок-другой ветчины. К тому же они были необычайно выносливы и не знали усталости. И неудивительно, что Ванкрайзен увидел в этих беззащитных существах дешевую и послушную рабочую силу. Отдельные подробности, в сущности, особой роли не играют. В общем, Ванкрайзен тут же вспомнил об Акционерной компании фермеров Такуры, основанной лет десять-двенадцать назад для разведки недр этого еще не изученного массива и ныне почти прекратившей свою деятельность. В то время предполагали, что на севере имеются большие запасы нефти. Они действительно существовали, но в течение двух лет были полностью исчерпаны. Правда, на западе обнаружили несколько сот гектаров каучуконосов, и благодаря этим плантациям компания с грехом пополам смогла продолжать свою деятельность. Она сдавала также в аренду отдельным обществам охотничьи угодья. Бесспорно, все это навело Ванкрайзена на мысль, что по концессии, полученной компанией, за ней остается исключительное право на эксплуатацию флоры и фауны во всей Такуре. Проверить это оказалось делом несложным, и, как выяснилось, все тропи и те, которые жили среди скал, и те, которые, возможно, населяли соседние долины, — действительно по закону принадлежали компании фермеров. Сам Ванкрайзен контролировал в Сиднее одно из крупнейших предприятий по переработке шерсти. Почти за бесценок он скупил через его посредство большинство акций компании фермеров. Как только они очутились у него в кармане, он вызвал к себе некоего Гренега, который был тесно связан как с правительственными кругами, так и с шерстепрядильной промышленностью. Как известно, иммиграция в Австралию строго ограничена и находится под контролем соответствующих органов. Уровень жизни там довольно высок, рабочей силы мало и рабочие руки дороги. В силу этого огромное количество шерсти, которое ежегодно дают бесчисленные отары овец, пасущиеся на плоскогорье, не может обрабатываться на месте: естественно, что австралийские ткани по цене не в состоянии выдержать конкуренции английских. Шерсть поэтому отсылается в Англию, где она обрабатывается и поступает на фабрики. — Вы уже видели фильмы о тропи? — спросил Ванкрайзен. — Нет, — ответил Гренет. — А что это такое? — Пойдемте, увидите сами, — сказал Ванкрайзен и повел Трепета за собой. — Ну а что вы теперь скажете? — спросил он после просмотра. — По правде говоря… — начал Гренет. — Представьте себе их, — начал Ванкрайзен, на ткацкой фабрике… Три тропи вместо одного рабочего. Гренет взглянул на него и даже рот открыл от удивления. — Я уже все прикинул, — продолжал Ванкрайзен. — Тридцать или сорок тысяч тропи, пройдя соответствующую подготовку, могли бы под руководством специалистов обработать две трети всей шерсти, получаемой в Австралии. А расходы самые пустяковые: питание, ну и кое-какой уход. Мы в два счета обставили бы англичан. — Черт возьми, — пробормотал Гренет. — Мы могли бы отпить у них американский рынок. — Without taking our coats off[11],— рассмеялся Ванкрайзен, — если не ошибаюсь, в Такуре насчитывается около двух или трех тысяч тропи. Животное становится взрослым уже в десятилетнем возрасте. Лет через пять около тысячи самок смогут дать нам необходимое поголовье. И самое позднее лет через десять-пятнадцать работа пойдет полным ходом. — Что же вам для этого нужно? — спросил Гренет. — В первую очередь, конечно, деньги, — ответил Ванкрайзен, — а также поддержка правительства. — Деньги дадут вам скотоводы. — Не нужно мне их денег, — возразил Ванкрайзен, — предпочитаю ссуду от правительства. — Почему? Ванкрайзен расхохотался и ответил вопросом на вопрос: — Вы плохо их рассмотрели, что ли? — Кого, скотоводов? — Нет, дорогой, тропи. Не слишком ли они похожи на на стоящих людей? Гренет с улыбкой пожал плечами. — Да, да, повторил Ванкрайзен. — Неужели, по-вашему, англичане не попытаются нам помешать? — И вы полагаете, что… — Конечно. Они таки постараются вставить нам палки в колеса. Начнут кричать о том, что мы не имеем морального права эксплуатировать этих слишком уж похожих на человека животных и прочее и прочее. Можете не сомневаться. — И все-таки я не понимаю, при чем тут банки… — Банки, — прервал его Ванкрайзен, — должны по горло завязнуть в этом деле. Если во время судебного процесса суду придется выбирать между моральным правом тропи и падением кредита австралийских банков, не сомневайтесь, выбор будет предопределен заранее. Понятно? — Понятно. Что же вы собираетесь предпринять? — Это зависит от вас, от того, чего вы сможете добиться в правительстве. Необходимо немедленно субсидировать постройку ткацких фабрик, оборудованных по последнему слову техники. Неважно, каковы будут размеры самой субсидии. Важно заставить банки вложить в предприятие необходимые миллионы… Вам ясна суть дела? Лишь сумасшедший согласится затем потерять такие деньги. Дайте только заполучить тропи, обратно мы их не выпустим. К тому же незачем дожидаться, пока их привезут. Надо уже сейчас построить образцовый лагерь с дортуарами, лазаретом, столовой, пригласить врачей, зоологов и т. д. И, конечно, открыть большую экспериментальную клинику. Ибо требуется развить их работоспособность, а главное, сократить у самок период вынашивания детенышей. Тут, по-моему, нам на помощь должна прийти селекция. Вы ведь отчасти скотовод и должны разбираться в подобных вопросах. — Все это так, — пробормотал Гренет. — Я даже думаю, — добавил он, — что не мешало бы также кастрировать самцов. Судя по фильмам, они очень неуравновешенны, это, пожалуй, их основной порок. Полагаю, что с ними произойдет то же, что и со всеми домашними животными: после кастрации они станут более покладистыми, но не потеряют работоспособности. — Счастливая мысль! — воскликнул Ванкрайзен.* * *
Гренет сразу же энергично, ловко и без лишних слов взялся за дело. Все уже было основательно подготовлено, когда экспедиция после восьмимесячного пребывания в Такуре возвратилась в Сидней. Она привезла с собой и поместила в Антропологическом музее около тридцати взрослых тропи обоего пола и несколько тропи-малышей. Через несколько дней после возвращения Дугу позвонили в отель по телефону: звонили из «Сидней геральд» и просили разрешения зайти к нему завтра утром. Дуг не придал значения этому разговору и только уныло подумал, что ему, видимо, придется вежливо выпроводить за дверь своего собрата: он действительно чувствовал себя не вправе делать какие бы то ни было сообщения для прессы, а тем более (если таково быложелание редактора) давать в газету серию статей о тропи. Посетитель с первых же слов успокоил Дуга: пришел он вовсе не ради статей. По его словам, у него просто были друзья среди сотрудников газеты. Сначала разговор шел о самых безразличных предметах. Элегантно одетый гость самоуверенно улыбался. Он несколько раз повторил, что решил встретиться именно с Дугласом, а не с кем-либо другим из членов экспедиции, ибо не сомневается в его доброй воле, и эта добрая воля откроет перед мистером Темплмором весьма заманчивые перспективы. Так что в конце концов Дуг почуял, что за этими туманными фразами кроется какое-то сомнительное предложение. Он пошел на эту игру и выказал себя настолько сообразительным, что, возможно, даже превзошел ожидания гостя. Не прошло и часа, как он уже знал все о компании фермеров Такуры, о ее средствах и целях, знал и то, чего они от него ждут: ему известна местность, дороги, нравы тропи, и он мог бы оказать им помощь в поимке первой партии животных. Дуг даже поспорил о размере вознаграждения и в заключение просил дать ему время подумать. Не успел посетитель удалиться, как Дуг ворвался в комнату Гримов. Через час вся экспедиция в полном составе с ужасом слушала сообщение Дуга. Были также приглашены директор Антропологического музея и его «solicitor» [12]. Как только Дуг закончил свою речь, все взоры обратились к юристу. С минуту адвокат сидел молча. Потом наморщил нос, энергично потер его указательным пальцем и спросил: — Но, в конце концов, кто же эти тропи? Люди они или обезьяны? Отец Диллиген, вскочив с места, воздел руки к небесам. И, подобно мужу, выведенному из себя глупостью жены, он возмущенно отошел к окну. Сибила взглянула на Дугласа. У нее было такое расстроенное лицо, что при желании свести с ней старые счеты Дугу ничего не стоило бы одержать победу. Но не этого он сейчас хотел. Его самолюбие было удовлетворено уже тем, что к нему первому обратила она с трогательной мольбой свои прекрасные, глубокие, как море, глаза. Гнев, горечь и даже угрызения совести боролись в ней; она нетерпеливо покусывала губы, ей необходимо было действовать, бороться. Наконец Грим собрался с духом. Все это время он сидел, опустив глаза и смешно выпятив нижнюю губу, так что почти не видно было его маленького, красного, морщинистого подбородка. Прищелкнув языком, он начал: — Люди это или обезьяны? С нашей стороны было бы… гм… было бы… большой оплошностью, — пробормотал он, краснея, — а может быть, даже… гм… преступлением, если бы… если бы… в конце концов… было… гм… вероятно… было невозможно… определить это. И Грим поднял на адвоката влажный и тоскливый взор. — То есть как «невозможно»! — воскликнул тот, вытаращив глаза. — Да самый темный пастух из саванн сразу же узнает человека. Даже зобастый кретин не станет колебаться в этом вопросе. Если в тропи нельзя с первого взгляда признать человека значит, они обезьяны! Грим тяжело вздохнул. — Видите ли, — ответил он уже более уверенным тоном, — до сегодняшнего дня нам самим казалось, что все это именно так. И действительно… биологически… гм… самый последний дикарь настолько ближе… к любому британскому подданному, чем к шимпанзе, что даже ваш зобастый пастух… мог не хуже любого антрополога отличить grosso modo человека от обезьяны. Но разве это не показывает нам, — продолжал Грим, ко всеобщему удивлению уже без всяких запинок, что сами антропологи до сегодняшнего дня не нуждались в особой проницательности, дабы отличить их друг от друга. Почему же довольствовались они столь поверхностным изучением вопроса? Да потому, что им просто везло. Им везло потому, что вот уже пять тысяч лет, как исчезли все промежуточные виды. И посему мы пребывали, как оказалось, в состоянии обманчивого покоя. С этой точки зрения, — добавил он вдруг жалобным тоном, — существование наших тропи настоящая катастрофа. Благодаря им мы вынуждены срочно решить вопрос, который мы по лености до сих пор обходили. Нам придется дать точный и исчерпывающий ответ: каковы характерные черты того существа, которое мы называем человеком? Не правда ли, прежде можно было и не торопиться, — продолжал он таким саркастическим топом, что друзья его удивленно переглянулись, — ошибки исключались. Мы даже гордились, что остаемся, таким образом, в разумных границах науки. Главное, провозглашали мы, не выходить за пределы нашей области! Не доверять своим чувствам, остерегаться ловушек психологии, неточностей этики! Только не путать разные вещи! Он снова вздохнул. — Мы упивались своим собственным невежеством, ибо человек занимал совершенно особое место в животном мире, он настолько отличался от всех прочих живых существ, что даже ваш зобастый пастух не мог ошибиться. Если вам дадут очень горячую и очень холодную воду, вы ведь тоже не станете колебаться. Ну а как быть с теплой водой? Как вы ее определите, если только, конечно, предварительно не договоритесь точно, при скольких градусах воду следует считать горячей? Именно это с нами и произошло ныне. Человека с шимпанзе не спутаешь: слишком велика разница. Ну а вот между шимпанзе и плезиантропом, между плезиантропом и синантропом, синантропом и тропи, тропи и неандертальцем, неандертальцем и негритосом, между негритосом и вами, простите за сопоставление, дорогой мэтр, расстояние всякий раз приблизительно одинаковое. Если вы сможете сказать нам, где кончается обезьяна и начинается человек, вы окажете нам огромнейшую услугу! — Если только, как вы сказали, предварительно не договоритесь?.. — Да… — Так разве нельзя это сделать? Разве нельзя, пусть даже с опозданием, потребовать, чтобы конгресс антропологов дал подобное определение? Крепс расхохотался и звучно ударил себя по ляжке. — От всего сердца желаю вам успеха в этом предприятии! — воскликнул он. — Но, уверяю вас, вы успеете поседеть, прежде чем ученые между собой договорятся. — Разве это так трудно? — Не то что трудно, дружище. Но существует слишком много различных мнений. Право, лучше просто бросить жребий: дело пошло бы куда быстрее, а результат был бы тот же. Еще триста чет назад Локк пытался разрешить вопрос, при какой степени Уродства ребенок перестает быть человеческим существом, а следовательно, не может приобщиться к таинству крещения, ибо в противном случае за ним признали бы существование души. Видите, все это не так уж ново. И вы сами понимаете, что за три дня и даже за три месяца нельзя решить спор, который ведется уже] столетия. Адвокат посмотрел на Крепса отсутствующим взглядом. Потом снял очки и, протерев стекла, снова надел их. — Что же, — сказал он, — если дело действительно обстоит так, боюсь, что компания фермеров добьется своего. — Простите!.. — воскликнула Сибила. Адвокат вопросительно взглянул на нее. — Ведь существуют же, — продолжала она, — законы, охраняющие от истребления вымирающие биологические виды. По-моему, можно сыграть на этих законах. — Можно-то можно, — возразил адвокат, — но лишь в том случае, если компания собиралась бы послать тропи на бойню. Но она, напротив, хочет оградить их от превратностей жизни в пустыне, намерена позаботиться об их существовании, гигиене, питании и даже о размножении. Она без труда докажет, что этот закон в данном случае не имеет к ней никакого отношения. Конечно, музей мог бы потребовать принятия специального закона об охране тропи… Но вы сами понимаете, сколько это займет времени. Да и добьется ли еще — неизвестно. Вы же знаете: у компании — железная хватка. Кроме того, здесь замешаны слишком крупные дельцы. Так что, видите ли, — заключил он, — если нельзя доказать, что тропи не являются животными, никто не сможет помешать их законным владельцам обращаться с ними, как с лошадьми или слонами. Одним словом: либо тропи — часть фауны Такуры, либо — часть ее населения. Или то, или другое, третьего решения нет. — А вы что можете предложить? — спросил Дуг, помолчав. — Надо подумать, — ответил юрист. — В настоящий момент я вижу лишь два способа действий. Первый — добиться, чтобы какое-нибудь авторитетное официальное учреждение, скажем вроде Royal Academy of Science[13], дало бы не вызывающее споров научное определение, но, судя по словам мистера Крепса, это невозможно. Второй же — получить судебное решение, которое ipso facto[14] исходило бы из того, что тропи люди. Таким образом, у нас был бы прецедент. И это, пожалуй, более реально… — То есть? — То есть… Предположим, мистер Темплмор берет себе в услужение тропи… Но жалованье ему не платит… Тропи обращается в суд, его защищает известный адвокат. Суд решает дело в пользу тропи. Таким образом, за ним, за этим тропи, признали бы такие же права, что и за мистером Темплмором, другими словами — права человека. — К несчастью, это невозможно! — отрезал отец Диллиген, по-прежнему стоя спиной к присутствующим. — Но… почему же? — Тропи может принести присягу, только будучи человеком. Иначе это святотатство, да и не будет иметь никакой законной сипл. И потом, как вы хотите, чтобы в качестве истца перед судом выступило существо, не имеющее гражданского состояния? Получается заколдованный круг. И вы сами понимаете, что компания фермеров не станет молчать. — Мне кажется, мы упускаем из виду самое существо вопроса. — негромко произнес Вилли. Все, кроме отца Диллигена, который в позе яростного спокойствия застыл у своего окна, обернулись к говорившему. — Мы ведь не Общество покровительства животным, — добавил тот. — Ну и что? — с тревогой спросил Дуглас. — Чего ради мы станем вмешиваться, если будет доказано, что тропи обезьяны? Разве только для того, чтобы вообще поставить под сомнение право человека пользоваться трудом домашних животных. Опираясь на какие моральные принципы, можем мы протестовать против планов компании фермеров? Ведь в таком случае ее намерения не только разумны, но и похвальны: они должны облегчить жизнь человечеству, избавить его от известной доли тяжелого труда. Не так ли? — обратился он к Дугласу. — Да, действительно… — ответил тот сдержанно. — Итак, — снова заговорил Вилли, — планы компании можно назвать преступными только в том случае, если тропи не являются обезьянами, если они, так же как и мы, принадлежат к человеческому роду. К тому же, если это будет доказано, планы компании сразу же рассеются как дым, ибо торговля рабами запрещена, по крайней мере на территории Соединенного Королевства. Но если, напротив, будет доказано, что тропи животные, мы обязаны, дорогие друзья, не только не препятствовать компании фермеров, но и сделать все возможное, дабы при помощи прирученных тропи облегчить труд человека. Мне кажется, что вот тут в какой-то степени мы попались на удочку собственных чувств. За эти полгода мы слишком привязались к нашим тропи. А нам следует быть объективными. И мы с вами должны не столько думать о судьбе тропи, сколько о том, как бы в один прекрасный день не оказаться соучастниками преступления, если в конце концов будет признано, что тропи люди. В сущности, проблема не так уж нова. Когда была открыта Америка, встал вопрос об индейцах: кто эти двуногие существа, которые, обитая по ту сторон; океана, никак не могут претендовать на право именоваться потомками Адама и Евы? Их прозвали тогда «бесхвостыми шимпанзе» и начали вовсю торговать ими. Не повторить той же ошибки — вот в чем наша задача. А все прочее не должно нас интересовать. Согласны вы со мной или нет? — обратился он к присутствующим. Но никто не ответил на его вопрос. — Да, — сказала наконец Сибила твердым голосом. — Ну, что же, милые мои друзья, — улыбнулся Вилли, пока что нам гордиться нечем. Нет ничего легче, чем определить цель. Простите меня, Кутберт, — обратился он к старому Гриму, — но вот уже полгода мы с вами рассуждаем, как антропологи или даже как палеонтологи. Как будто наши тропи ископаемые. Но ведь они живые, черт возьми, живые, как утки или крокодилы. Живут себе и размножаются! Не пора ли нам подойти к вопросу с точки зрения зоологов, как вы думаете? При этих словах великан Крепе оглушительно расхохотался. — Черт возьми! — воскликнул он. — Вот оно, колумбово яйцо! — Пусть будет так, — согласился Вилли. — Что мы называем видом? — продолжал он. — Группу животных, пусть даже внешне непохожих друг на друга, но дающих при скрещивании нормальное потомство, способное к дальнейшему размножению. Возьмем, к примеру, датского дога и померанского шпица, они похожи друг на друга не больше, чем кошка на жирафа, но при скрещивании дают потомство. Потому-то мы и относим их к одному и тому же виду — виду собак. И, наоборот, лев похож на пантеру, но, скрестив их, потомства не получишь, и, следовательно, их мы относим к разным видам. Вы понимаете мою мысль? Давайте попробуем скрестить человека и самку тропи. В зависимости от того, удастся наш опыт или нет, все сразу станет ясным. Отец Диллиген обернулся. Он был необычайно бледен, он не сразу нашел в себе силы заговорить, и голос его звучал хрипло. Он сказал, что, если только нечто подобное произойдет, он навсегда; удалится в бенедиктинский монастырь, укроет в его стенах свой вечный позор. — Но почему, отец мой?! — воскликнул Вилли. — Ежедневно и скотоводы, и исследовательские институты производят самые разнообразные скрещивания! Тут нет ничего особенного… Впрочем, успокойтесь, — добавил он, по-видимому догадавшись, что именно возмущает монаха. — Вы сами понимаете, что я не имею в виду естественное оплодотворение!.. В настоящее время и врачи, и биологи располагают столь совершенными средствами, что подобного рода эксперименты потеряли двусмысленный и неприятный характер. Кроме того… — Боже мой, это же содомский грех! — воскликнул отец Диллиген. — Животные не могут грешить, и нет никакого греха, если в интересах животноводства или науки используются их инстинкты. Это вполне дозволено, когда мы желаем вывести мула или путем скрещивания пытаемся создать новые породы. Но человек — это же божественное создание!.. И те извращенные приемы, о которых вы говорите, лишь прикрывают, но ни в коем случае не снимают ужаснейшего святотатства. — Постойте, постойте, отец мой, — сказал Вилли. — Если тропи люди, значит, самки их — женщины, и грех, которого вы так боитесь, вполне простителен, особенно если принять во внимание преследуемую нами цель. Конечно, я знаю, что церковь осуждает подобного рода эксперименты даже между супругами. Но осуждает их она, исходя из соображений семейного и нравственного порядка. И, поскольку я сам не раз делал подобного рода операции, я знаю, что церковь не так уж нетерпима и порой закрывает на них глаза. Мне кажется, что, если мы таким путем моими бы спасти от рабства… — Ну а если тропи обезьяны? — отрезал отец Диллиген. — И в этом случае ничего тут плохого нет. Ничего не произойдет, а мы по крайней мере будем знать… — Вы рассуждаете так, — возразил отец Диллиген, — как будто вообще не существует гибридизации: можно скрестить собаку и волка, ослицу и жеребца и даже корову и осла и получить ублюдков. Вы ни в чем не можете быть уверены. Я лично отказываюсь быть соучастником подобной профанации. Если же вы все-таки на это решитесь, пеняйте на себя. И, не добавив больше ни слова, не оглянувшись на присутствующих, которые молча и растерянно смотрели ему вслед, он вышел из комнаты.Глава девятая
Короткая телеграмма и еще более краткий ответ. Неожиданности, таящиеся в пустыне. Чистосердечное признание — мужество слабых. Опыт, чреватый самыми неожиданными последствиями. На сцену выступает расизм. Джулиус Дрекслер ставит под сомнение «видовое единство современных людей». Восторг в Дурбане. Люди ли негры? Несколько недель спустя Френсис, которой Дуглас после своего возвращения в Сидней писал каждый день, принесли телеграмму; в это время она как раз работала над своей новой большой новеллой. Телеграмма пришла из Австралии и гласила с предельной краткостью: Телеграфьте согласие наш брак Дуглас И все. Хотя предложение было для Френсис не совсем неожиданным, внезапность его породила тревогу и недоумение, оттеснившие радость. Вряд ли она тут же решила: он в опасности; вернее всего, ей просто стало страшно. Она поняла также, что ответить должна немедленно, не раздумывая. Подойдя к телефону, она продиктовала еще более лаконичный ответ: Согласна Френсис И, немного успокоившись, она начала перебирать в уме все возможные причины посылки телеграммы.* * *
Кроме одной, которая шесть дней спустя поразила и еще более, чем она ожидала, встревожила ее. Шесть долгих дней, в течение которых она ничего не получила — ни письма, ни открытки. И наконец в понедельник (в тяжелый для нее день) пришло письмо, которое все объяснило. «Френсис, дорогая, — говорилось в письме, — сегодня утром я получил Ваш ответ на свою телеграмму, и сердце мое переполнила радость. И хотя я знаю, уверен, Вы поняли, что я не могу обещать Вам счастья, что со мною Вас ждут испытания — не знаю, догадываетесь ли Вы, насколько они велики. С чего бы начать, Френсис? Впрочем, это нетрудно: мои колебания — чистое притворство; я должен начать с признания, с признания тяжелого и унизительного. В течение этих долгих месяцев, Френсис, проведенных в пустыне, я не смог сохранить Вам верность… Сибила? Да, это она… Уменьшит ли мою вину перед Вами то обстоятельство — а это истинная правда, клянусь Вам, — что сердце здесь ни при чем? Вы не знаете Сибилы, вернее, почти не знаете. Я же знаю ее с детства. Странная девочка, странная женщина. Безнравственная? Аморальная? Как Вам сказать? Все это не то. Для нее не существует общепринятых мнений. Обо всем она судит сама. Про нее нельзя сказать, что она отбросила все условности: просто условности никогда для нее не существовали. В шестнадцать лет она взяла себе в любовники тридцатилетнего мужчину. Она полностью подчинила его себе, переделала на свой лад, но бросила, почувствовав его ограниченность. Ее брак со старым Гримом вызвал настоящий скандал, но она даже бровью не повела, и скандал затих сам по себе. Вполне возможно, она так и не узнала об этом; во всяком случае, вела она себя, словно ничего не произошло. И вот, Френсис, прекрасной звездной ночью, скорее прохладной, чем жаркой, каких здесь бывает немало, эта женщина спокойно вошла ко мне в палатку. „Мой милый Дуг, сказала она не без иронии, — излишние размышления вредны“. Затем сбросила халат и спокойно, с естественностью раковины, смыкающей свои створки, прильнула ко мне всем своим ослепительным телом. И тут же, закрыв мне рот рукой, прошептала: „Вино, Дуг, надо пить тогда, когда чувствуешь жажду“ и опустилась на постель. Что оставалось мне делать? А потом… надо сказать правду, это оказалось сильнее меня. Вероятно, мне самому тоже хотелось пить. Не знаю, будет ли Вам от этого легче, или же Вы окончательно вознегодуете, но я должен сказать, что в ту минуту я обратился к Вам с немой мольбой, я молил Вас простить мне мои грехи! Как бы то ни было, но это тоже истинная правда. Правда и то, что за первым падением последовали другие. И хотя ни разу эти языческие забавы не начинались по моей инициативе, Френсис, я не мог отказаться от них, тем более, что им сопутствовала такая простота, такая естественная грация. По крайней мере до нашего приезда в Сидней. Не стану, не хочу красиво описывать свои чувства оправдывать себя, вымаливать у Вас прощение: я сам бы себе стал противен. А самое главное: это было бы уж слишком некстати, ибо, любимая моя, хотя самое страшное в моем признании уже сделано, я не сказал Вам еще самого важного. Я принял ужасное решение, Френсис. Не знаю, к чему это все приведет. По правде говоря, ничто, абсолютно ничто меня не принуждало. Но кто-нибудь должен был сделать то, что собираюсь сделать я. Не в моем характере — Вы это прекрасно знаете — приносить себя в жертву. Напротив, сама мысль о самопожертвовании претит мне. Но разве я могу уклониться от того, что должно быть сделано, если я один в состоянии выполнить это? Но я хочу, Френсис, дорогая моя, чтобы Вы были вместе со мной. Хочу принять решение вместе с Вами. Хочу, чтобы Вы одобрили мой поступок. Хочу, чтобы мы после спокойных размышлений вместе пришли к этому неизбежному выводу. И мне было бы слишком тяжело, если бы в один прекрасный день мой поступок показался Вам мальчишеским, романтичным, театральным. О, как мне нужна Ваша поддержка, Френсис, если, конечно, после моего признания Вы сохраните ко мне хоть чуточку уважения и любви. Вот почему я решил Вам во всем признаться. Согласитесь, меня ничто к этому не вынуждало. Я оказался не слишком-то честным и сильным, не слишком-то героическим субъектом, но много ли на свете мужчин могут бросить в меня камень? Вы бы ничего не узнали, а, как; говорил мой отец, „то, чего я не знаю, не существует“. Я не защищаю себя, Френсис, нет. Более того, признаюсь Вам: при других обстоятельствах я без малейших угрызений совести хранил бы благоразумное молчание. Быть может, это не слишком похвально, но я всегда считал, что чистосердечные признания порой просто отвратительны: они приносят лишь вред. Да, я бы Вам ничего не сказал. В конце концов, Вы никогда не спрашивали меня о моей личной жизни, так же как и я Вас — о Вашей. Но Вы должны узнать мои недостатки, прежде чем я поведу рассказ о своих достоинствах. Я просил Вас стать моей женой, Френсис, и Вы согласились. Но знайте, Вас это ни к чему не обязывает. Очень скоро я стану героем скандальной истории, и мы все — а нас немало, и я в том числе, — вместо того, чтобы замять грядущий скандал, делаем все; возможное, чтобы раздуть его еще больше. По всей вероятности, мне придется предстать перед судом. Возможно, меня даже повесят. Вот какая судьба ждет человека, который сейчас, пока он еще на свободе, просит Вашей руки. Так вот что произошло, Френсис…» Тут только Френсис заметила, что читает она машинально, почти не понимая написанного. Сердце ее учащенно билось, к перед глазами неотступно стояла эта развращенная Сибила, которая «с естественностью раковины, смыкающей свои створки» прильнула к Дугу. Наморщив лоб, она перечла письмо сначала, стараясь уловить смысл слов, но он ускользал, как ртуть между пальцами. Ей показалось, что она наконец поняла. «И с кем, прошептала она, — с этой Сибилой». «…Уже с субботы все сомнения отпали…» — прочла она и подумала: «И у него хватает бесстыдства…» Перевернув страницу, она прочла дальше: «Если бы мы только послушались отца Диллигена…» …Но кто мог бы подумать, что все эти опыты с искусственным оплодотворением принесут положительные результаты? Вы правильно прочли, Френсис, все. Поскольку мы были почти уверены, что скрещивание с человеком ничего не даст, мы как добросовестные биологи произвели одновременно скрещивание со всеми наиболее близкими к человеку видами обезьян: шимпанзе, гориллой, орангутангом. И все эти опыты удались. Однако с той точки зрения, которая нас интересует, опыт потерпел полное фиаско: он ничего не объяснил, ничего не доказал. Проблема так и осталась нерешенной, более того, она еще осложнилась, ибо теперь возникает новый мучительно трудный вопрос, который предвидел и которого так боялся отец Диллиген: кем будут эти несчастные детеныши, родившиеся от скрещивания тропи с человеком? Промежуточными существами, в которых окончательно будут смешаны все признаки, маленькими полулюдьми-полуобезьянами, о которых по-прежнему будут вестись бесконечные споры… При чем тут я, спросите Вы? Дело в том, Френсис, что отцом всех этих несчастных маленьких тропи буду я. Я догадываюсь, о чем Вы сейчас подумали: «Опять он что-то скрыл от меня». Почему я сделал такую глупость, почему я добровольно согласился участвовать в подобном опыте? И почему я Вам ничего не сказал? Пот ому что я сам в глубине души чувствовал, что совершаю глупость. И вы, конечно, не преминули бы меня упрекнуть. Почему же все-таки я на это пошел? Попытаюсь Вам объяснить. Но прежде всего, дорогая, Вы не должны ненавидеть Сибилу, хотя по ее вине я заставляю Вас страдать. Если она и совершает зло, то, надо полагать, по неведению самой природы зла. Да и творит ли она зло? Она действует — другие страдают. Разве можно обвинять огонь за то, что он жжется, а холод — за то, что от него коченеют? Она, как и стихии, не осознает того, что творит, а ведь само понятие зла предполагает сознание того, что есть зло. Сибила прежде всего «ученая женщина» в самом чудовищном смысле этого слова. Для нее нет ни в жизни, ни в области духа ничего святого, кроме научных изысканий и методов исследования. Прежде чем приступить к опыту скрещивания человека с тропи, нужно было решить один довольно-таки сложный практический вопрос: найти мужчину, который сумел бы сохранить тайну. И вот Сибиле показалось, что самым простым, да и самым верным было бы… По правде говоря, ей стоило лишь намекнуть, и, конечно, в назначенный день я подчинился всем необходимым биологическим и юридическим операциям. Используя новейшие научные методы, доктор Вильямс произвел искусственное осеменение шести самок, прошедших пятинедельный карантин и находившихся под наблюдением. И лишь значительно позднее вместе с чувством известной тревоги мне пришло в голову, что было бы лучше, если бы в этом случае воспользовались не только моими услугами и сделали бы таким образом вопрос отцовства менее ясным. По правде говоря, Френсис, в глубине души я не верил, я думал, что ничего не выйдет, что самки не понесут. В конце концов, при любых других обстоятельствах вся эта история меня бы лишь позабавила. Но то, что произошло в дальнейшем, не дает мне права отделаться шуточками, а тем более отмахнуться от случившегося. Обычно нелегко бывает установить, кто именно не сумел сохранить тайну. Так или иначе, но Акционерная компания фермеров почти сразу же узнала о наших опытах. А затем ей стали известны и их результаты. До поры до времени она хранила молчание, а теперь словно с цепи сорвалась. Антропологический музей получил официальное требование возвратить компании ее законную собственность, тридцать тропи («а также, — гласит документ, — весь имеющийся или ожидающийся от них приплод»), незаконно вывезенную из области, фауна коей находится в полном и безоговорочном владении Акционерной компании фермеров. Цель этого послания ясна — спровоцировать судебный процесс, а это как раз то, чего мы и сами хотели. Но сейчас суд бы начался в очень невыгодных для нас, вернее, для тропи условиях. По существующим законам, дело рассматривалось бы в гражданском суде как чисто коммерческое, и с этих позиций компания фермеров непременно выиграла бы процесс. Мы не имели никакого права увозить из Такуры животных, а тем более дарить их музею. Поэтому-то необходимо придать делу другой оборот, перевести его на иную почву, доказать, что претензии компании необоснованны, ибо тропи являются не фауной, а населением Такуры. Но тем самым музей признает себя виновным в незаконном похищении и лишении свободы людей, и Вы понимаете, что при такой постановке вопроса нам еще труднее будет выпутаться; конечно, нельзя рассчитывать, что в атмосфере подобного скандального процесса, напоминающего скорее фарс, может быть найдена объективная истина. Слишком просто можно побить музей его же собственными доводами: если он действительно считает тропи людьми, то ему придется признать, что место их скорее уж за ткацким станком, нежели в железной клетке… Все неизбежно превратится в глупый смешной фарс, а судьба тропи, возможно, решится навсегда. Юридический совет музея предлагает любой ценой избежать процесса, признать за Акционерной компанией фермеров право собственности на тропи, но попросить компанию в интересах науки на известное время «уступить» или даже продать некоторое количество экземпляров. Уже само признание ipso facto, что тропи по своей природе животные, даст в руки компании достаточно сильный козырь, и она, вне всякого сомнения, не откажется от подобного компромисса. А для нас это тоже единственная возможность выиграть время. И это еще не самое страшное, Френсис. Вместе с письмом посылаю Вам статью, которая недавно появилась в Мельбурне, в одном из самых больших австралийских журналов. Вы ее потом прочтете. Написана она Джулиусом Дрекслером, известным антропологом, по человеком весьма сомнительной репутации, который, как известно, находился на откупе у старика Ю. К. Пендлтона, одного из крупнейших мельбурнских биржевых гангстеров. У последнего нет более могущественного конкурента, чем Ванкрайзен, а Ванкрайзен держит в своих руках все нити управления компании фермеров… Итак, Вы, наверное, решите, что Пендлтон не прочь провалить начинание своего соперника, умело поставив под сомнение в этой столь не ко времени появившейся статье вопрос о природе тропи? С первого взгляда кажется, что автор льет воду на нашу мельницу. Но, как Вы увидите из дальнейшего, статья чертовски может нам напортить. Ибо, судя по всему, Пендлтон собирается затеять еще более чудовищное и гнусное дело. Во всяком случае, ясно, что статья Дрекслера широко открывает двери для самых мерзких преступлений. Статья задумана очень хитро. Бедняга Грим в ярости твердит: «Этому подлецу даже возразить нечего. С точки зрения палеонтологии он прав. И он это прекрасно знает!» Что же, собственно, говорит Дрекслер? Он говорит, что открытие Paranthropus greamiensis (это тропи, дорогая…) не только подтверждает все то, что мы уже знаем о происхождении человека, но — и это самое главное — показывает, насколько несостоятельны все наши представления о самом человеке, или, вернее, говорит он (нет, Вы только подумайте!), о тех различных биологических видах, которые мы до сих пор неправильно объединяли под этим общим именем. Относя Paranthropus к виду «homo»[15], пишет он далее, мы тем самым признаем, что в этот вид можно включать и четвероруких индивидуумов (не говоря о многих других присущих обезьянам чертах, которые мы обнаруживаем у вышеупомянутых Paranthropus); если же, наоборот (что, по-видимому, вполне кое-кого устраивает, добавляет он), не признавать их принадлежности к виду homo, то по какому праву мы тогда называем человеком ископаемое с челюстью шимпанзе, кости которого были найдены близ Гейдельберга, или неандертальца, отличающегося от тропи всего лишь несколькими деталями в строении скелета? А также почему мы называем человеком ископаемое, найденное в Гримальди, которое тоже мало чем отличается от перечисленных выше, или же кроманьонца, или, наконец, африканских пигмеев, цейлонских веддов или тасманцев, чья черепная коробка еще менее развита, чем у кроманьонца, а крайние коренные зубы все еще имеют пять бугорков, как у человекообразных обезьян? Появление на сцене тропи, пишет он, доказывает всю несостоятельность наших упрощенных представлений о единстве человеческого вида. Единого человеческого вида не существует, существует лишь большое семейство гоминид, своеобразная лестница оттенков, на верхней ступени которой находятся белые, то есть настоящие люди, а на самой нижней — тропи и шимпанзе. Пора отбросить наши старые представления, основанные на чувствах, и раз навсегда научно установить последовательность промежуточных групп, «ошибочно именуемых человеческими». Ошибочно именуемых человеческими! Итак, на наших глазах готов возродиться уродливый призрак расизма со всеми своими адскими спутниками. И какого расизма, Френсис! Расизма, во имя коего уже завтра целые народности могут лишиться права числить себя в рядах человечества, а следовательно, лишиться всех человеческих прав, дабы какой-то Пендлтон смог продавать их как рабочий скот! Где же в таком случае, Френсис, пройдет граница? Она пройдет там, где ее захотят провести сильные мира сего. Представьте себе только, что произойдет с туземным населением колоний или с неграми в Соединенных Штатах, где также существует дискриминация! Да и вообще со всеми этническими меньшинствами! По сути дела, это уже началось. Все газеты Южно-Африканского Союза под броскими заголовками перепечатали статью Дрекслера. «Дурбан экспресс» поспешила поставить вопрос: «Люди ли негры?» Следовательно, Вы понимаете, моя дорогая, что отныне речь уже идет не только о судьбе тропи, даже не о судьбе моего потомства. Боюсь, что вопрос придется ставить гораздо шире. Сейчас уже недостаточно только установить, люди тропи или нет — это лишь частный случай, одна сторона главного вопроса; речь идет о том, чтобы человечество, хочет оно того или нет, определило раз и навсегда, что же оно собой представляет, дало полное и исчерпывающее определение, которое не допускало бы различных кривотолков. Такое определение, при котором права и обязанности человеческого общества по отношению к своим членам строились бы не на зыбкой основе спорных традиций и преходящих чувств, церковных заповедей или узкокастовых требований, что, в сущности, шатко и слишком уязвимо, а на гранитном фундаменте, на четком знании того, что же на самом деле отличает человека от прочего животного мира. Если его отличает то, что у него есть душа, то надо будет установить, по какому признаку мы определяем ее наличие. Если его отличает то, что он живет обществом, надо будет точно сказать, чем же отличаются примитивные общества людей от обычного стада животных. Если его отличает что-то другое, надо будет уточнить, что же именно. И вот, Френсис, я в состоянии потребовать, — нет, правильнее сказать: я могу заставить весь огромный и величественный судебный аппарат Соединенного Королевства ответить на этот вопрос. И меня не удовлетворит, если он просто признает или не признает за тропи право называться людьми: пусть он также определит и во всеуслышание заявит, на каком основании принято такое решение. Понимаете ли Вы всю важность подобного юридического прецедента? И поскольку я — только я один — могу добиться этого, имею ли я право уклоняться? Даже если в это споре я рискую потерять не только свое счастье, но, быть может, и жизнь? Без риска ничего сколько-нибудь значительного не добьешься, Френсис. А Вы понимаете, что пустяками британское правосудие с его вековыми традициями не проймешь. Для этого придется совершить нечто поистине грандиозное. Я не могу доверить свой план клочку бумаги и превратностям почты. Но Вы, конечно, уже поняли, какое это опасное и трудное предприятие. Теперь Вы знаете все, Френсис. Согласны ли Вы выйти за меня замуж? Я Вас люблю. ДугласГлава десятая
Иерархия чувств в сердце женщины. Прогулка под дождем. Рассудок побеждает. Странная пассажирка. Масонское братство женщин. Дерри и Френсис. Френсис и Сибила. Роды Дерри. Первое крещение человеко-обезьяны. Первые затруднения с записью гражданского состояния. Страшная ночь. Пробежав глазами последние строчки, Френсис аккуратно сложила письмо вчетверо, потом нарочито спокойно поднялась с дивана, на котором она лежала, вытянувшись во весь рост, не спеша причесалась, подкрасила губы, закурила сигарету и, набросив плащ, вышла из дому — за покупками, решила она. Но она миновала бакалейную, мясную лавки, миновала булочную, даже не повернув головы, даже не выглянув из-под капюшона, который надвинула на самый лоб. Моросил мелкий и частый дождь, похожий на брызги морского прилива; сквозь него проступали неясные, как будто полинявшие очертания холмов Хэмпстед-хайта. Гравий на дорожке скрипел под ногами. «Boт так иммунитет!..» — подумала она и попыталась было улыбнуться. Да, еще недавно она верила, что у нее выработался иммунитет. В последний раз страсть ворвалась в ее жизнь года три назад, но в ту минуту, когда почва уже уходила у нее из-под ног, она огромным усилием воли сумела выйти победительницей. Бедный Джонни! Легкомысленный, непостоянный Джонни, Джонни — нарушитель спокойствия… Она, как обычно, бросила ему «до свидания» и даже помахала Джонни из окна вагона. Но она уже знала, что никогда больше его не увидит. Целый месяц, а то и больше он ежедневно писал ей — сначала письма, полные недоумения, потом гнева, потом пошли уговоры, слова нежности, упреки, угрозы, горькая ирония, бешенство и мольбы. Она не рвала ни письма: она их читала. Читала, рыдая от раскаяния и переполнявших ее желаний, но так она испытывала свою волю и стойкость. Наконец перестала читать: на смену пришли усталость и пустота. «У меня выработался иммунитет», — думала она не без гордости. Любить? Это еще возможно. Но страдать? Никогда в жизни. Разве нельзя любить не страдая? И разве не следует любить не страдая? Страдания любви унизительны. Она не позволяла себе такой роскоши, как страдания. И презирала тех женщин, которые потрясали, как славным знаменем, «своим возвышенным, но увы — разбитым сердцем». Она даже начала писать новеллу, где рассказывалась история женщины, для которой любовь без страданий не настоящая любовь: действительно ли ты любишь, если тебе не приходится страдать? Героиня новеллы чувствует себя униженной и падшей. И в конце концов уходит от этого слишком положительного человека, который дарил ей слишком безмятежное счастье. Иммунитет… Разве не подтвердили их спокойные отношения с Дугом, что Френсис действительно приобрела иммунитет? Пусть она любит его, а он ее нет (по крайней мере так ей казалось) — она от этого не страдает. Когда же наконец в один прекрасный день Френсис поняла, что и Дуг ее тоже любит, его захватила и увезла на целый год вместе со своим багажом эта женщина. Нелепые обстоятельства его отъезда приводили Френсис в ярость. Но чувствовала ли она себя несчастной? Почти нет. То, что она испытывала, нельзя было назвать страданием. Тут была терпеливая суровая надежда, напряженное ожидание весточки от него, иной раз тревога и даже — нечего греха таить — легкие уколы ревности. Но страдания, слава богу, нет! «Хватит, я больше не способна страдать…» — думала она. С гладких листьев каштанов падали крупные капли дождя и глухо разбивались о ее капюшон. И вот теперь началось все сначала. И все из-за этого несчастного журналиста. Непокорное сердце заныло, хотелось кричать, и потом снова эта острая боль, такая нестерпимо знакомая, пронизывающая насквозь все тело… И все из-за этой размазни, из-за этого бесхарактерного непостоянного мальчишки… Она закусила кончик носового платка. Этого еще недоставало — плакать! Нечего сказать, красивая сцена! Френсис яростно высморкалась. Правая нога соскользнула в лужу. Надо было надеть туфли на каучуке. И с кем? С этой Сибилой! С этой гробокопательницей! И у него еще хватает наглости писать мне: «В эту минуту я думал о Вас!» Идиот, идиот, трижды идиот! И я страдаю из-за такого идиота! «Не знаю, будет ли Вам от этого легче, или же Вы окончательно вознегодуете». Надо же быть таким дураком! Она даже не подумает ему ответить. Нет, ответит! «Мне казалось, что Вы не похожи на других, — напишет она ему. — Я любила Вас за то бесконечное доверие, которое я испытывала к Вам. Вы растоптали мое чувство». Целый час шагала она среди деревьев, сочиняя свое прощальное послание — великолепное и беспощадное. Но, поставив последнюю точку, она почувствовала, что в душе у нее пустота, тоскливый холод, такой же унылый, как эта пелена дождя. Вдруг она спохватилась: я даже забыла о его тропи. Она пожала плечами. Дождь становился все сильней и наконец перешел в настоящий ливень. Френсис туже стянула вокруг шеи шнурок капюшона. И вдруг вспомнила слова из его письма: «Возможно, меня даже повесят». Что еще за ерунда! — подумалось ей. Типичный газетный стиль!.. Его повесят! И он воображает, что она поверит… С какой стати его будут вешать? Она не поняла и половины в этой путаной истории с тропи. Эту часть письма, несмотря на самые благие намерения, она прочла как в тумане. Надо бы перечитать это, подумала она, чувствуя, как в душу закрадывается тревога и раскаяние. Что же было написано в конце? «Жестокое и кровавое дело». Нет, слова «кровавое» там, кажется, не было. Впрочем, не было и «жестокое». Почему же тогда ей на ум пришло слово кровавое? Там же написано «опасное и трудное». Но почему же все-таки она решила, что «кровавое»? Страх зашевелился в душе, охватил все ее существо. Она быстрее зашагала к дому. «Опасное и трудное предприятие», — вспомнила она подлинные слова. Но по предстоит ему сделать? И почему, почему «опасное»? Она почти бежала. Спустя час страдания Френсис, не потеряв своей остроты, приняли иной характер. Не то чтобы она простила Дугласу измену, но она перестала называть его про себя «несчастным журналистом» и «размазней». Она снова взяла письмо, прочла и перечла последнюю страницу. И она знала — да, хорошо знала, — что он выполнит все, о чем пишет. О мужчины, непонятные животные! С одной стороны, полнейшая бесхарактерность перед этой мерзкой Сибилой, а с другой — такая решительность и мужество. И ради кого? Ради тропи. В первую минуту она почувствовала себя вдвойне оскорбленной. Но комизм происшедшего помог ей взять себя в руки. Еще раз перечитав письмо, она уже могла судить обо всем более здраво. Прежде всего она поняла, что с первой до последней строчки его письмо проникнуто глубокой и сильной любовью к ней, и, согретая этим открытием, Френсис должна была признать, сколько в Дуге подлинного благородства и мужественной требовательности. Короче, она поняла, что, по трезвом размышлении, бедный Дуг заслуживает скорее уважения и даже восхищения, нежели презрения и гнева. Настолько заслуживает, что она даже начала обвинять себя. Теперь, когда она разобралась во всем, история тропи показалась ой куда значительнее и важнее, чем ее собственные переживания. Ей стало стыдно. Внезапный порыв материнской любви к изменнику охватил ее, и неверность Дугласа, заброшенного в пустыню, представилась ей минутной слабостью, вполне простительной, под небом пустыни… Даже Сибилы коснулась эта неожиданная умиротворенность. Отныне душа Френсис была открыта всем треволнениям. Я А вместе с треволнениями в ней проснулось непреодолимое желание быть рядом с Дугом. Только бы не оставлять его наедине с химерами! Если, к несчастью, думала она, уже слишком поздно предотвратить глупый шаг, пусть по крайней мере мы вместе разделим его последствия. Она послала телеграмму: «Поженимся немедленно», словно можно было немедленно пожениться, будучи разделенными расстоянием в двенадцать тысяч миль. Влюбленные, строя свои планы, не склонны принимать в расчет реальные обстоятельства. Но каким образом добраться к Дугласу без гроша в кармане? Ничего, оначто-нибудь придумает. Или Дуг найдет какую-нибудь возможность вызвать ее к себе. Или они смогут оформить свой брак заочно. Разве в случае чрезвычайных обстоятельств закон не допускает подобную регистрацию браков? Нельзя же, в самом деле, помешать людям жениться только по той идиотской причине, что жених и невеста находятся на разных концах света! Через два дня Френсис получила в ответ довольно длинную телеграмму: Дуг извещал о своем возвращении в Лондон. «Еду не один», — писал он. Первой мыслью Френсис было, что он возвращается с Сибилой, и на какое-то мгновение ярость ослепила ее. Когда же наконец Френсис поняла, что, по всей вероятности, речь идет о тропи, она снова почувствовала себя «подлой» по отношению к Дугу. Но потом ей пришло в голову, что, если он не упоминает о Сибиле, это еще не значит, что и она не едет вместе с ним. Вскоре пришло письмо, но и оно не рассеяло ее сомнений, не пролило свет на загадочное «еду не один». Дуг просто писал, что Крепс, отец Диллиген и Гримы также готовятся к отъезду. Еще через несколько дней Дуглас сообщил, что он летит самолетом. Сначала Френсис успокоилась: не может же действительно один самолет захватить всю экспедицию со всем багажом и тропи. Но, с другой стороны, они всегда могут разделиться. Френсис так ничего и не узнала вплоть до того дня, когда наконец она очутилась на аэродроме возле Слау и, не спуская глаз с туманного неба, ждала прибытия пассажирского самолета из Австралии.* * *
Из самолета уже вышли все пассажиры, а Дуг еще не появился. Френсис потеряла было всякую надежду, когда она вдруг увидела его в дверях кабины. Сердце ее заколотилось: Дуглас был не один, он держал под руку какую-то женщину… Френсис сразу же отметила, что незнакомка была гораздо ниже ростом и гораздо полнее прекрасной Сибилы. «Малайка», — пронеслось у нее в голове, так как путешественница была одета по-индийски, в просторном сари, чудесного желто-коричневого цвета. И, конечно, у нее больные глаза, иначе чего ради в такой сумрачный день она не снимает темных огромных очков, закрывающих чуть ли не половину лица. О, кажется, она замужем? Пассажир, который вышел из самолета последним, тоже весьма предупредительно подхватил ее под руку. Так втроем они спустились по приставной лестнице, и Дуглас, увидев Френсис за белым барьером, улыбаясь, помахал ей рукой. Затем, все так же втроем, они пересекли поле между приземлившимся самолетом и зданием аэропорта. Женщина шла, слегка сгорбившись и неуверенным шагом — так действительно ходят очень близорукие люди. Сопровождающие ее мужчины были полны предупредительности к своей даме. Они вошли в здание аэропорта. И время, которое они там пробыли, показалось Френсис бесконечно долгим. Наконец первым вышел Дуглас. Они молча обнялись. Френсис беззвучно заплакала. Когда (прошла всего одна минута или целый год?) Дуглас выпустил ее из своих объятий, совсем рядом оказалось поджидавшее их такси. Малайка и ее спутник уже сидели в машине. Дуглас помог Френсис войти. Машина тронулась, и вдруг Дуглас совершенно неожиданным жестом снял с лица туземки, забившейся в темный угол такси, ее огромные черные очки. Френсис едва не вскрикнула, хотя сразу же поняла, кто перед ней. Но «этого» она никак не ожидала. «Это», в сущности выражавшее ряд чувств, означало, что до последней минуты Френсис могла принимать это существо за женщину и что «у нее» именно такое лицо. «Она похожа на мисс Мерриботэм», — подумала она не без нежности, едва сдерживая смех. Мисс Мерриботэм в свое время пыталась научить младшего брата Френсис рисовать. В течение целого года она заставляла мальчика рисовать акварелью ветки остролиста, фиалки и бутоны роз. Иногда своею собственной рукой она подрисовывала синицу или ласточку. Держалась она очень важно, была полна печального достоинства, так плохо вязавшегося с ее смешным и звучным именем. Френсис вспомнила, какой безудержный смех охватывал их с братом, стоило и только увидеть ее полное меланхолического благородства лицо. Давясь от смеха, они закрывали рот ладонями, делая вид, что их душит кашель. Маленькая самка тропи была похожа на мисс Мерриботэм. Особенно выражением лица. — Ну как, она вам нравится? — спросил в эту минуту Дуг. Откровенно говоря — не считая этого первого впечатления, Френсис было вовсе не до того, чтобы выносить суждения о наружности спутницы Дуга: ее ум и сердце переполняли вопросы. Но как заговорить в присутствии незнакомого юноши? («А это Миме, — сказал Дуглас, — из Сиднейского музея».) — Она похожа на мисс Мерриботэм, — ответила Френси и объяснила почему. У вас все прошло гладко? — Как бы не так, — ответил с улыбкой Дуг. — Нам понадобилось одиннадцать виз и куча справок, удостоверяющих, что ей сделаны различные прививки. Вы сами знаете, какую бурную деятельность требуется развить, чтобы достать такие бумажки даже для нас с вами. Так представьте, как мы намучились с нашей лжедамой: животное мы вообще не смогли бы провезти с собой. К счастью, во время войны мне раз шесть приходилось прыгать с парашютом на оккупированную территорию, и я привык орудовать с фальшивыми документами. — А как она вела себя во время полета? — О, совсем как взрослый человек! — с нежной улыбкой ответил Дуг. Тропи, чинно сидевшая на своем месте, то и дело поднимала на Дугласа горящий взгляд, полный ожидания и покорности. Дуг улыбнулся и вынул из дорожной сумки, стоящей у его ног, завернутый в промасленную бумагу сандвич. Она следила за каждым его движением, как собака следит за обедающим хозяином в надежде получить от него лакомый кусочек. Дуг, подбросив на ладони сандвич, как мяч, поймал его на лету, тропи взвизгнула и рассмеялась совсем по-детски, обнажив сильные острые белые зубы с внушительными клыками. Дуг протянул ей сандвич. Она взяла его своей смуглой рукой с длинными тонкими пальцами, ногти у нее были подточены и покрыты красным лаком. «У нее руки красивее, чем у меня», — подумала Френсис со странным волнением. Тропи пережевывала сандвич своими мощными челюстями угрюмо и степенно, совсем как мисс Мерриботэм, уплетавшая пирожное с кремом. — Ее зовут Дерри, — сказал Дуг, повернувшись к Френсис, и тропи, услышав свое имя, перестала жевать. «У нее взгляд как у Ван Гога на том портрете, где он изображен с трубкой, — подумала Френсис. — А может быть, у самого Ван Гога в начале его безумия просто были глаза как у тропи…» Вдруг Дуглас сказал: — Дай! Дерри покорно протянула ему остаток сандвича. Он передал его Френсис и, улыбнувшись Дерри, подбадривающе кивнул ей головой. Та внимательно посмотрела сначала на Дуга, потом на Френсис и, наконец, произнесла что-то вроде «bliss» или «prise», которое, в общем, так походило на «please»[16], что Френсис, не колеблясь, протянула ей сандвич. Дерри сразу же вонзила в него зубы, но Дуг сурово прикрикнул: — Тс, тс! И она добавила «Zankion»[17] и снова так же коротко, совсем по-детски рассмеялась. Но уже через минуту ее лицо вновь приняло трогательное выражение меланхолического достоинства. — Откиньте у нее со лба вуаль, — попросила Френсис. Дуг повиновался, и сразу же исчезло сходство Дерри с мисс Мерриботэм: теперь она напоминала не то мартышку, не то портовую девку. Это двойственное впечатление, конечно, создавала доходящая до самых бровей челка. Без вуали оказалось, что лоб Дерри ненормально низкий. Сквозь пряди волос виднелись покрытые пушком уши, которые забавно двигались при жевании и были посажены слишком высоко. — Куда это мы едем? — с удивлением спросила Френсис. И действительно, машина шла уже не по дороге, ведущей в Лондон через Хаммерсмит, а свернула вправо, в сторону Виндзора. Дуг, улыбаясь, сжал руку Френсис. — Королевское общество антропологов отвело нам маленький домик в Саррее. Чудесный коттедж с небольшим садиком, затерявшийся в глубине леса. По крайней мере, — добавил он с улыбкой, — таким он мне представляется. — Кому отвели?.. Дерри и вам? — Дерри и нам. Ведь завтра — если вы не возражаете — мы непременно поженимся. — Уже завтра, Дуг?! — А почему бы и нет? Ведь мы и так достаточно долго ждали, Френсис. Хотя джентльмен, названный Мимсом, сразу же, как только тронулась машина, скромно отвернулся и, не отрываясь, смотрел на мелькавшие за окном поля, Френсис не решилась обнять Дуга. — Не будем терять оставшихся месяцев, — сказал он. Голос его прозвучал немного глухо и печально. Теперь уже Френсис сжала его руку, сжала тревожно, без улыбки. Она повернула к Дугу свое лицо, на котором застыло напряженно-вопросительное выражение, углы рта у нее опустились, губы задрожали. — Потом… — прошептал он. От тряски и глухого шума мотора Дерри уснула. Она откинулась назад, голова ее склонилась, и она непринужденно прижалась щекой к плечу Мимса, которое тот предупредительно подставил. У нее были темные шелковистые веки с длинными и очень густыми ресницами. Тонкие губы приоткрылись, нескромно обнажив выступающие вперед челюсти и мощные клыки. Из-под прядей волос выглядывало слишком высоко посаженное ухо цвета спелого абрикоса. На лице спящей застыло выражение кроткой печали и настороженной жестокости. Однако Френсис и Дуг поженились не на следующий день, они поженились только через одиннадцать дней, когда им удалось наконец выбраться в Лондон. Устроить Дерри оказалось нелегким делом. Что происходило за этим маленьким загадочным черепом? В Сиднее во время карантина, предшествовавшего искусственному оплодотворению, она, по-видимому, привыкла жить одна — вдалеке от других тропи. Как настоящий верный пес, она привязалась к Мимсу, потом еще больше — к Дугласу. Рядом с ними все ей казалось нипочем. Однако в первую же ночь в Сансет-коттедже Мимс, проснувшийся от холода, обнаружил, что окно открыто и комната пуста. В конце концов Дерри нашли в саду: она забилась между тисовыми деревьями и решеткой, через которую не смогла перелезть. Френсис терпеливо и насмешливо слушала догадки и предположения Дугласа и Мимса. Наконец, вмешавшись в разговор, она мягко заметила: — Она просто ревнует. — К кому? — воскликнул Дуг. — Ко мне… Мы, женщины, понимаем друг друга, добавила Френсис с неестественно кроткой улыбкой. Дуглас покраснел до корней волос. — Значит, вы меня не простили? — спросил он, когда они остались вдвоем. — Ведь я бы мог от вас все скрыть, — попытался он оправдаться совсем так, как и в своем письме. — Мне достаточно было бы взглянуть на вас, мой бедный Дуг, когда вы произносите имя Сибилы, чтобы сразу же обо всем догадаться. Но сейчас речь идет только о Дерри. Вы думаете, она привыкнет? — К чему? — К моему присутствию… — Неужели вы серьезно думаете, что она ревнует? Однако догадки Френсис вскоре подтвердились. Не то чтоб Дерри держалась враждебно в отношении Френсис. Напротив, она привязалась к ней так же, как и к обоим мужчинам. Но она совершенно не выносила, чтобы Френсис и Дуглас оставались вдвоем, вне ее поля зрения. В такие минуты она становилась нервной, молчаливой, бродила, ковыляя, по дому, открывала все двери. На следующую ночь, когда Френсис и Дуг ушли к себе, Мимс привязал Дерри за руку к своей руке. Но она всю ночь так металась на циновке, что он ни на минуту не сомкнул глаз. Решили сделать опыт, который дал положительные результаты: следующую ночь Дуг провел возле Дерри, и она спала спокойным сном. Френсис сменила Дугласа — Дерри спала так же хорошо. Но стоило Мимсу с веревкой на руке снова занять свое место, как поутру он обнаружил только веревку, а Дерри исчезла. Ей удалось высвободить руку, справиться с замком и пробраться в комнату Дуга. Ее нашли спящей на коврике у его кровати. Пришлось перепланировать весь дом. Ванную комнату, смежную с двумя спальнями, в одной из которых жил Мимс, в другой Дуг (а позднее чета Темплморов), переоборудовали для Дерри. Если двери в комнату Дугласа не запирались, Дерри спокойно засыпала с вечера. Тогда он мог запираться на задвижку, но под утро, если Дерри просыпалась первой, она прямо отправлялась к Дугу, как бы желая проверить, один он там или нет. Дуглас прогонял ее, и она беспрекословно возвращалась к себе на циновку. Но когда Френсис и Дуг поженились и Дерри обнаружила их вместе в спальне, выставить ее оттуда оказалось невозможным. Она улеглась на коврике возле кровати, и никакими силами нельзя было заставить ее сдвинуться с места: было ясно, что она скорее умрет, чем согласится уйти отсюда. Эти сцены повторялись каждый вечер. И, бесспорно, Френсис была права, убеждая Дугласа не обращать внимания на это маленькое неудобство и не закрывать дверь на ключ. Если бы Дерри заметила это, она перестала бы им доверять. Френсис забавлялась с Дерри, как маленькая девочка с новой куклой. Она сама помогала ей мыться, считая, что так оно благоразумнее: в ванной Дерри, со своей нежной розовой грудью, несмотря на тонкую сизую шерстку, покрывающую тело (а может быть, именно благодаря ей), выглядела слишком женственно. Ее приходилось мыть каждый день, иначе от нее начинало неприятно пахнуть, как от хищника в клетке. Первое время Френсис намыливала ее сама. Но Дерри слишком непосредственно реагировала на эти прикосновения: закрывала глаза, тихо постанывала, казалось, она вот-вот упадет в обморок. Скоро Френсис научила ее обходиться без посторонней помощи и хохотала до слез, глядя, как Дерри с чисто жонглерской ловкостью орудует своими четырьмя руками, перебрасывая из одной в другую мыло, губку и щетку. Видя, что Френсис весело, Дерри тоже начинала смеяться. В Лондоне Френсис накупила своей подопечной материи на платья. Вернее, на сари: в европейском костюме Дерри, с согнутой спиной и длинными руками, слишком походила на переодетую в человеческое платье обезьяну. Дерри явно нравилось одеваться. В ней даже пробудилось кокетство: если бы выбор оставили за ней, она носила бы только ярко-красные цвета. Но к украшениям она была совершенно равнодушна, и Френсис тщетно старалась заинтересовать ее безделушками. Повертев с минуту в руках бусы или браслеты, Дерри отбрасывала их в сторону. Очень трудно оказалось подобрать для нее обувь. Дерри не выносила туфель: обутая, она ковыляла, как калека; не могла она привыкнуть даже к сандалиям, которые еще больше подчеркивали, что ноги ее служат также и руками. Однажды Френсис решила ее подкрасить. Но результат оказался самым плачевным. Помада только подчеркнула полное отсутствие губ. А щеки под румянами казались еще более дряблыми и морщинистыми. Дерри сразу стала выглядеть старше пятидесятишестилетней мисс Мерриботэм. Присутствие Дерри и все те осложнения, которые она внесла в жизнь Френсис и Дуга, не могли, как видите, в какой-то степени не испортить их «медового месяца». Получилось так, словно в свадебное путешествие им пришлось захватить с собой сироту-племянницу, к тому же еще девицу болезненную и обидчивую. Пропала радость одиночества вдвоем, но зато удалось избежать оборотной стороны этого периода: мучительной взаимной «притирки» характеров и чувств. Но тем драгоценней казались минуты, когда, отделавшись от тирании Дерри (чаще всего это было ночью), они оставались вдвоем. Как пылко тогда они любили друг друга! В их страсти причудливо сочетались беззаботность и отчаяние. Теперь Френсис знала, что счастье их недолговечно: обреченное счастье, отпущенное слишком скупой мерой. Наслаждаться им надо бездумно: только так можно было победить безнадежность. Теперь Френсис знала во всех подробностях планы Дугласа. Сначала она воскликнула: «Ты никогда не осмелишься на такой шаг!» Но он спокойно ответил: «Ежедневно тысячи людей топят котят и щенков. Вряд ли кому-нибудь это доставляет удовольствие. Однако все это делают…» — «Но ведь то котята и щенки!» — «Ну и что ж?» — спросил Дуглас. Френсис долго не могла решить, согласна она или нет с мужем. Она никогда больше не говорила Дугласу о своих сомнениях. Для него это вопрос решенный, к чему терзать его понапрасну. Но затем, по мере того как она все яснее понимала, какие побуждения руководят Дугом и какие последствия может иметь его поступок, она постепенно начала соглашаться с ним, сочувствовать его планам, потом одобрила их и наконец приняла. Нет, не просто приняла, а стала поддерживать со всей страстностью ума и сердца — сердца истерзанного, полного тревоги, но готового вынести все будущие страдания. Тем временем все члены экспедиции: Крепс, отец Диллиген и Гримы — возвратились на пароходе. Они привезли с собой двадцать самцов и оплодотворенных в разное время самок. На всю эту партию пришлось заключить особое соглашение с компанией фермеров. В одном из пунктов соглашения значилось, что потомство вывезенных в Англию тропи может быть востребовано компанией в любое время. По совету Дугласа это условие было принято, оно как нельзя лучше отвечало его планам. Грим потребовал и сумел добиться от Королевского общества антропологов, чтобы приезд тропи в Лондон оставался в тайне и чтобы ему была предоставлена честь, на которую он имел полное право: первому сделать сообщение о Paranthropus Erectus в научной печати или в журналах. К счастью, излишняя развязность Джулиуса Дрекслера вызвала единодушное возмущение всех членов Королевского общества, что оказалось весьма на руку Гримам. Таким образом, когда наступили сроки родов Дерри и других самок, привезенных в Лондон, о них еще ничего не было известно ни среди широкой публики, ни в деловых кругах, ни среди ученых. Поэтому у Дугласа были полностью развязаны руки, а только этого он и хотел. Доктор Вильямс прилетел на самолете из Сиднея, чтобы присутствовать при родах. Самки разрешались от бремени в Кенсингтоне (с интервалами в несколько дней), в залах музея, специально переоборудованных для этого случая в клинику. Исключение было сделано только для Дерри, у которой Вилли принимал младенца, как и предполагалось, в Сансет-коттедже. По телефону из Лондона были вызваны Грим и его жена. Месяца за два до этого Сибила, зная наверняка, что застанет дома только одну Френсис, без всякого предупреждения приехала к ним. Когда они расстались, Френсис с радостью признала себя побежденной. И впрямь, думала она, все условности, весь строй наших чувств рушится перед такой женщиной. Непосредственность, обаяние, жизненная сила и то искреннее расположение, с каким Сибила отнеслась к Френсис, сразу же, как потоком, смыли все уже порядком увядшие злые чувства. Напрасно Френсис заставляла себя думать: «Эти руки обнимали Дугласа, ласкали его. Эти губы его целовали». Но она именно заставляла себя представлять — и не могла представить. Напротив, она неожиданно ловила себя на том, что Сибила вызывает в ней необъяснимое, почти родственное чувство… А главное, было так очевидно, так ясно, что она не предъявляет и никогда не предъявляла никаких прав на Дуга; поэтому Френсис могла чувствовать себя в ее обществе куда более спокойно, чем, думалось ей, в обществе какой-нибудь другой, менее откровенной женщины. В дальнейшем она не всегда испытывала к Сибиле столь благородные чувства. Случалось, что образ непристойной Сибилы «с естественностью раковины», проскальзывал в какой-нибудь улыбке, жесте или слове. Но это длилось не больше минуты. Поток вновь уносил с собой все грязное, оставляя на берегах лишь светлый песок. Подчас Френсис раздражало также непринужденное поведение Дугласа в присутствии Сибилы, свидетельствующее о его слишком короткой памяти. Дуг действительно вел себя весьма непринужденно. Он первый, как это часто бывает, полностью и безоговорочно отпустил себе свои грехи.* * *
В тайниках сердца Френсис страстно надеялась, что рождение детеныша тропи, слишком похожего на человека, поколеблет решимость Дугласа. И вот новорожденный спал перед ними. С первого взгляда он ничем не отличался от всех прочих новорожденных: так же гримасничал, был такой же краснолицый и сморщенный. Но все его красновато-оранжевое тельце было покрыто тонким и светлым подшерстком, «будто свиной щетинкой», по словам Вилли. У него были четыре чересчур длинные ручки, слишком высоко посаженные оттопыренные уши и голова, как бы сросшаяся с плечами. Грим открыл ему рот и сказал, что челюсть изгибается в виде подковы, более широкой, чем у настоящего детеныша тропи; возможно, надбровная дуга развита не так сильно; череп… впрочем, еще рано судить о черепе. В общем, ничего интересного. — Вы уверены в этом? — спросил Дуг. — Да, — ответил Грим. — Это тропи. Френсис молчала. Вдруг она почувствовала, как две холодные руки обняли ее сзади. Это была Сибила. Она увела Френсис в соседнюю комнату, и они долго просидели там вдвоем. Френсис все время судорожно сжимала руки своей подруги. Обе молчали. Но этот проведенный в молчании час окончательно скрепил их дружбу. Френсис быстро справилась с минутной слабостью. На следующее утро она сама одела новорожденного, спеленала его, завернула в одеяло, прикрыла чепчиком его крошечный, покрытый пушком череп и положила на руки Дугласа, словно это был их собственный ребенок. Спустя час Дуглас звонил у двери церковного дома в Гилдфорде. Пастор открыл не сразу. — Прошла моя пора вставать до света, — извинился он. Ужасные головокружения. Мои печень и желудок не ладят между собой. Полная анархия в стареющем государстве… Мне так же трудно убедить их жить в согласии, как и моих прихожан… Прелестное дитя, сказал он, рассеянно откидывая край одеяльца. Вы, я полагаю, хотите его окрестить? — Да, сэр. — Мы сейчас пройдем в церковь. Крестные, должно быть, уже там? — Нет, — ответил Дуглас. — Я один. — Но… — начал пастор, с удивлением взглянув на Дуга. — Меня принуждают к этому чрезвычайные обстоятельства, сэр. Пастор отошел к двери. — А!.. — произнес он, приближаясь к Дугу. — Понимаю, вы предложили свои услуги… Я слушаю вас, сын мой. — Я только что женился, сэр. А это мой внебрачный ребенок. Лицо пастора с чисто профессиональным искусством одновременно выразило строгость, понимание и снисходительность. — Мне хотелось бы, чтобы эта церемония осталась в тайне, — продолжал Дуг. Пастор закрыл глаза и кивнул головой. — Говорят, у вас при церкви живет старый садовник с женой?.. Нельзя ли, сэр, попросить их… Пастор продолжал стоять с закрытыми глазами. — Очень хотелось, чтобы об этом знали только я и моя жена… Она с исключительным благородством отнеслась к рождению этого ребенка. И мой долг оградить ее от страданий, так сказать, от излишней гласности… — Хорошо, мы сделаем все, как вы желаете, — ответил пастор. — Прошу вас, подождите минутку. Вскоре он вернулся в сопровождении престарелой четы — садовника и его супруги. Все вместе они прошли в церковь. Старуха держала ребенка над купелью. Ей очень хотелось сказать Дугу, чтобы доставить ему удовольствие: «Вылитый папочка!» Но, хотя на своем веку она перевидала немало безобразных младенцев, такого, право… Его записали под именем Джеральд Ральф. — Рожденный от?.. — Дугласа Темплмора. — И?.. — У матери нет фамилии. Она туземка из Новой Гвинеи. Ее зовут Дерри. «Так вот почему он такой…» — подумала старуха. Склонившись над книгой записей, пастор долго вертел перо в руках; он словно онемел, не зная, на что решиться. На сей раз он не сумел скрыть сурового осуждения, отразившегося на его лице. Наконец он записал в книгу, повторяя вслух каждое слово: …и от женщины… туземки… Потом попросил расписаться Дугласа, крестного и крестную. И молча закрыл книгу. Дуглас протянул ему пачку банковых билетов: — На ваши благотворительные дела. Пастор все так же молча и степенно наклонил голову. — Теперь мне придется, — начал Дуг, — зарегистрировать его рождение в мэрии. Свидетелей у меня нет. Нельзя ли попросить вас еще… Старики взглянули на пастора. Видимо, его ответный взгляд не выражал прямого запрещения. — Что ж, мы согласны… — сказала женщина, и все втроем они вышли. У старухи на языке вертелись десятки вопросов, но она не решалась задать их вслух. Она по-прежнему несла на руках спящего ребенка. И старалась представить, какое лицо будет у этого мальчугана, когда он подрастет. Она уже видела его в public school[18], видела, как издевается над ним детвора. «Бедный малыш, придется ему горя хлебнуть…» В мэрии дело тоже не обошлось без осложнений. Клерку, по его словам, никогда еще не приходилось записывать ребенка, «рожденного от неизвестной матери»! Он упрямо твердил: Английским законом это не предусмотрено… Дуг терпеливо разъяснял: — Но ведь ребенок существует? Вот он, перед вами… — Да… — Если бы у него не было законного отца, ведь вы бы его все-таки записали: рождение любого ребенка должно быть зарегистрировано. — Верно. Но… — Эти люди подтвердят, что он родился у меня в доме, в Сансет-коттедже, что он крещен и носит мою фамилию. — Но мать-то, черт возьми! Она же была там, когда его рожала! Должна же она существовать, должна же она быть известна, имя-то хоть должно у нее быть! — Я уже сказал вам: зовут ее Дерри. — Этого недостаточно для записи гражданского состояния! — Но нет у нее другого. Я же вам говорю: она туземка. Из этого изнуряющего состязания на выносливость Дугласу удалось выйти победителем. Клерк сдался; в конце концов он записал: «Мать — туземка, известная под именем Дерри». Дуг поочередно пожал руки всем присутствующим, щедро расплатился со «свидетелями», взял ребенка и направился в Сансет-коттедж. До самого вечера Дуглас и Френсис сидели у колыбели спящего ребенка и не отрываясь смотрели на него. Чтобы придать себе мужества, молодая женщина старалась отыскать на маленьком красном личике признаки его животного происхождения. И, конечно, их было немало. Не говоря уже о слишком высоко посаженных ушах, у него был очень покатый лоб с зачаточным костным гребнем, выступавшим под кожей, а маленький, выдающийся вперед рот придавал его лицу сходство со звериной мордочкой. Чрезмерно развитая нижняя челюсть со срезанным подбородком образовывала вместе с челюстной костью мощный выступ, шеи у него почти не было, и поэтому его плечи, казалось, почти срослись с основанием черепа. И хотя Френсис старалась сосредоточить все свое внимание на этих признаках, она никак не могла отделаться от ощущения, что перед ней ребенок. Дважды он просыпался, кричал, плакал: маленький язычок дрожал в его широко открытом ротике. Он двигал своими крошечными ручками с розовыми ногтями. И Френсис, чувствуя, как мучительно сжимается у нее сердце, дала ему бутылочку с молоком. Ребенок жадно засосал и вскоре уснул. В сумерках Дуг и Френсис наспех пообедали. Потом они долго бродили по лесной тропинке, держась за руки и крепко переплетя пальцы. Оба молчали. Время от времени Френсис касалась щекой лица Дуга или целовала ему руку. Когда окончательно стемнело, они решили вернуться домой. Прежде чем подняться по лестнице, Френсис крепко обняла Дуга, и они простояли так несколько минут. Потом Френсис прошла к себе; она обещала Дугу лечь спать, хотя ей было противно думать о сне. Пришлось выпить снотворное. Дуглас сел за письменный стол и начал писать. Он постарался как можно полнее изложить события последних месяцев. Время от времени он откладывал перо в сторону и выходил выкурить сигарету в сад, где этой летней ночью как-то особенно громко шелестела листва, или садился с трубкой во рту в глубокое кожаное кресло, стоявшее в углу, а затем снова принимался за работу. К четырем часам он кончил писать. Он распахнул окно, небо уже начинало бледнеть в первых лучах восходящего солнца. Ребенок проснулся и заплакал. Дуг согрел рожок. Ребенок попил молока и снова уснул. Дуг опять подошел к окну. Он смотрел на розовато-лиловое небо, которое постепенно становилось алым, затем закрыл окно, так и не дождавшись восхода солнца. Снял телефонную трубку и вызвал доктора Фиггинса из Гилдфорда. Дуг извинился, что беспокоит его в столь ранний час, но речь идет, добавил он, о смертельном случае. Шприц и синий флакончик с черно-красной этикеткой лежали в ящике стола. Он медленно наполнил шприц. Пальцы его не дрожали.Глава одиннадцатая
Шумный успех тропи в Лондонском зоопарке. Дело Темплмора. «Друзья животных». «Ассоциация мате рей-христианок Киддерминстера». Можно ли лишать таинства крещения младенцев тропи? Молчание Ватикана. Смятение англиканской церкви. «Они мне набросят петлю на шею!» Отличительный признак. К сентябрю, когда дело должно было слушаться в уголовном суде, Дуглас успел уже одержать первую победу победу над общественным мнением. Нельзя сказать, чтобы все симпатии были на его стороне, далеко не все. Но газеты изо дня в день трубили о его процессе, о нем велись бесконечные споры и в Тутинге, и в Челси, и в Оксфорде, и в Ньюкасле; Париж и тот начал поговаривать о нем, даже Нью-Йорк был заинтригован. Теперь уже нельзя было замять дело или обойти его молчанием. Все началось с того, что «Дейли пикчер» поместила на своих страницах портреты Дерри и других самок тропи с их детенышами. А всем известно, как лондонцы вообще любят животных. (Когда в зоопарке родился белый медвежонок Брюмас, то там за несколько недель перебывало больше миллиона посетителей. «Видели ли вы Брюмаса?») Каждому не терпелось составить свое собственное мнение о тропи. Однако Ванкрайзен оказался человеком предусмотрительным, к тому же у него повсюду были связи: как только тропи прибыли в Лондон, министерство здравоохранения установило строгий карантин, запретив посещение зоопарка. Но и британские суконные фабрики пользовались не меньшим влиянием. Не успела «Дейли пикчер» поместить фотографии тропи, как со всех сторон — на что и рассчитывали посыпались десятки тысяч писем с выражением протеста; и правительство, к которому в палате общин с весьма едким запросом обратился один из старых лейбористов, отменило запрещение. Наплыв посетителей был столь велик, что пришлось по воскресеньям, как и в период славы Брюмаса, чуть ли не в десять раз увеличить число автобусов. Вскоре успех тропи во много раз превзошел успех белого медвежонка. Спорили буквально все: тропи — люди или обезьяны? Кто же, в конце концов, Дуг: преступник или герой? Случалось, что, не придя к соглашению, старые, никогда ранее не ссорившиеся подруги расставались навсегда, разругавшись на прощание, как рыночные торговки; расстраивались свадьбы. За несколько дней до начала судебного разбирательства «Ивнинг трибюн» в нескольких словах подвела итог этих жарких споров: «Что ждет Дугласа Темплмора: орден или виселица?» В статье, помещенной под таким заголовком, описывалась драка, которой в Кингсвэй-холле окончился митинг «Друзей животных» (союз этот образовался из левого крыла расколовшегося «Общества покровительства животным» и обвинял последнее в чрезмерном попустительстве и нерадении). Как только (говорилось далее в статье) было покончено с текущими делами, с места поднялась председательница союза. — Через несколько недель, — произнесла она взволнованным голосом, — начнется суд над героем. Мы с вами бессильны повлиять на решение присяжных. Более того, мы даже, как вам известно, не имеем права открыто высказать свое мнение, ибо нас непременно обвинят в оскорблении суда. Но кто может помешать нам уже сейчас начать добиваться для Дугласа Темплмора почетного знака отличия? И разве не окажет в дальнейшем это обстоятельство влияния на приговор? Кто согласен со мной? Но тут со своего места поднялась невысокая дама. Ей не совсем понятно, заявила она, какую, в сущности, услугу обществу оказал этот человек? Разве он не убил своего собственного ребенка? — Он, — возразила председательница, — принес это маленькое существо в жертву его же братьям, которых гнусная компания фермеров Такуры собиралась обречь на ужасное рабство, на жизнь, полную мучений. Кто бы из нас не убил свою собственную кошку или верную собаку, лишь бы не отдавать бедное животное в руки мучителей? Разве можно забыть о той страшной опасности, которая угрожала бы этим милым животным — увы, мы знаем, что она и сейчас угрожает им, — если бы Дуг Темплмор, совершив свой поистине героический поступок, не пожертвовал собой ради них. Слово взял высокий худой мужчина с пушистыми светлыми усами. — Госпожа председательница, говоря о тропи, — начал он, — называет их «эти животные». Во-первых, называть их животными значит играть на руку тем, кому не терпится превратить их в рабочий скот. Во-вторых, если они животные, то с какой стати наше общество должно вмешиваться в это дело? Ведь никто не собирается их истязать. Если только, конечно, госпожа председательница не считает истязанием животных то, что их заставляют выполнять работу, которая обычно выполняется людьми. И наконец, в-третьих, я сам тоже видел этих тропи. Видел, как они обтесывают камни, подбирают части машин, видел, как они забавляются. И я имею честь заявить госпоже председательнице, что они такие же люди, как она и я. И никакая там форма пальцев ног не заставит меня признать обратное. Что же касается Темплмора, то я прямо заявляю: он убил своего сына. Вот и все. Даже если бы у него родился сын от кобылы или от козы, все равно это был бы его ребенок, черт возьми! И я утверждаю, что, если каждому будет дозволено топить своих детей, как котят, Англия погибнет. Вот почему лично я голосую за то, чтобы его повесили! Закончив свою речь, он собирался уже сесть на место. Но не успел. Его окружило с полдюжины, казалось бы, вполне миролюбивых дам, которые подступали к оратору с явным намерением расцарапать ему физиономию. «Значит, эти маленькие, грациозные, чистые и ласковые создания — люди? Значит, эти милые животные — люди? Ну-ка, пусть он только осмелится повторить это еще раз!» Другие же в свою очередь принялись доказывать, что именно такие вот раздражительные дамы со своей любовью к тропи наверняка погубят их, потому что, сколько ни тверди… Им не дали даже закончить. Раздражительные дамы получили подкрепление. В одно мгновение все присутствующие разделились на два лагеря: одни утверждали, что тропи — люди, другие, что они — животные. Напрасно председательница, отчаявшись навести порядок, звонила в колокольчик. Пришлось срочно вызвать полицию, дабы очистить зал. Большое впечатление произвело также помещенное в «Таймс» открытое письмо «Ассоциации матерей-христианок Киддерминстера». «Сэр, — говорилось в нем, — мы просим разрешить нам со страниц вашей газеты обратиться к Его Святейшеству Папе и Его Милости Архиепископу Кентерберийскому…» Далее по существу ставился вопрос, уже давно терзавший душу отца Диллигена: можно ли и должно ли лишать таинства крещения пятерых маленьких тропи, родившихся в зоопарке? Одна мысль, что над тропи не был совершен даже обряд малого крещения, «мучила их совесть матерей и христианок». Мысль эта «гнала сон от их глаз». А посему они умоляли папу и архиепископа сказать свое веское слово, решить, наконец, надо ли принять эти маленькие существа в общину христиан. Ватикан по-прежнему хранил упорное молчание. Архиепископ же в письме, свидетельствующем, по общему мнению, о его замешательстве, ответил, что, «действительно, перед всеми христианами встает весьма важный вопрос, который не может не волновать и не приводить в смущение наши души; однако, по имеющимся у нас сведениям, вопрос о происхождении тропи явится решающим фактором на уже начавшемся процессе, и, следовательно, пока дело находится еще sub judice[19], было бы неуместным с нашей стороны высказывать свое мнение». Итак, процесс, судя по всему вышесказанному, должен был начаться в достаточно накаленной атмосфере. Но если поначалу Дугласа радовало, что все население Британских островов так живо интересуется судьбой тропи, то теперь он начал опасаться, как бы океан бушующих страстей не поглотил основного вопроса. Ежедневно на его имя в Вэйл-оф-Хелс приходили десятки писем; Френсис приносила их в тюрьму Вёрмвуд Скрабе. В одних письмах, и таких было большинство, его старались ободрить, в других — оскорбляли, но и поклонники, и хулители выводили его из себя. — Эти идиоты на верном пути, — восклицал он, — но, боже мой, с помощью каких нелепых доводов приходят они к истине! — Почему же нелепых? — поинтересовалась как-то Сибила, которая иногда навещала Дуга в тюрьме вместе с Френсис. — Мне кажется, наоборот… — Они перепутали все на свете! — нетерпеливо ответил Дуг. — Можно подумать, что я убил это маленькое существо лишь для того, чтобы доставить удовольствие «Друзьям животных»! Есть и такие, которые видят во мне только несчастную жертву. Знаете, что пишет мне один из этих кретинов? «Вы новый Дрейфус!» Неужели я должен дать себя повесить, чтобы они наконец поняли, о чем идет речь? Впрочем, в скором времени все, и даже Сибила, стали действовать ему на нервы. — Что я ему сделала? — допытывалась она у Френсис. — Любое мое слово приводит его в бешенство. Он заслуживает снисхождения, — отвечала Френсис. — Не забывайте, что он рискует головой. — Я и не забываю, — оправдывалась Сибила. — Но хоть вы-то не сердитесь на меня! — умоляюще проговорила она, заметив, что Френсис вдруг побледнела. — Объясните мне лучше, какую глупость я опять сказала. — Я не сержусь, мне просто страшно, — призналась Френсис, — Страшно за него. Да и сам он, в конце концов, тоже боится. Если он выходит из себя, то лишь потому, что порой и вы рассуждаете так же, как те люди, которые, по его словам, накинут ему петлю на шею. — Не понимаю, — прошептала Сибила. — Они преуменьшают значение процесса. Большинство людей и вы, Сибила, в том числе, признаетесь вы в этом или нет, но моему глубокому убеждению, ждут лишь сохранения весьма неопределенного status quo[20]. Конечно, им хотелось, чтобы тропи оставили в покое, а Дуга бы оправдали. Обо всем прочем они вообще стараются не думать. — О чем прочем? О том, чтобы решить вопрос, люди тропи или нет? — Да. Видите ли, этот вопрос волнует всех. И вас тоже, что бы вы там ни говорили. — Меня это совершенно не волнует. Я по-прежнему считаю, что ставить вопрос в такой плоскости ненаучно. — В конечном счете это одно и то же; и если только Дуг почувствует, что заседатели придерживаются той же точки зрения, что все эти люди, и вы в том числе, пытаются вывернуться, не разобравшись в существе вопроса, он сам, рискуя головой, сделает все возможное, лишь бы доказать свою вину. И судьям придется, поставив на карту его жизнь, сказать свое последнее слово, даже если оно будет стоить Дугласу жизни. — Это же просто глупо! — И все-таки он поступит именно так, Сибила. И я не могу упрекать его, хотя при одной только мысли о подобном исходе у меня сердце разрывается. Но и он, и я, мы недолюбливаем тех нерешительных игроков, которые сперва храбро ставят на карту все свое состояние и тут же, испугавшись, стараются взять свою ставку обратно… Неужели вы думаете, что он сможет примириться с убийством маленького тропи, если это ни к чему не приведет? И после всего, что произошло, спокойно умыть руки и уйти, поблагодарив суд за его снисходительность? Да для него это было бы самым страшным поражением. — Небезызвестный Дон Кихот также не желал забирать обратно своей ставки. Тропи очень милы, не спорю, но все они, вместе взятые, уверяю вас, не стоят жизни такого человека, как Дуг. Френсис пожала плечами и тихо проговорила: — Сейчас речь идет о вещах гораздо более важных! Более важных, чем?.. — Чем судьба тропи, Сибила. Странно, что вы никак не можете это понять. — Но чего же в таком случае он ждет от процесса? — Откровенно говоря, определить это пока еще трудно. Быть может, и впрямь все это ни к чему не приведет. Нельзя сказать заранее. — В таком случае это безумие! — Возможно. А возможно, и наоборот: последствия будут самые неожиданные. Разве можно сказать наперед, как развернутся события. Вы помните капитана «Тайфуна»? — Да… но… почему вы о нем вспомнили? — Потому что Дуглас на него похож… Нужно ли обходить стороной циклон? — думал капитан. Пожалуй, так оно благоразумнее и для корабля, и для собственной шкуры. Но тут он вспоминает о судовладельцах. «Да, этот рейс обошелся нам в копеечку. Ну и сожгли же вы угля!» — скажут они. «Я сделал крюк в две тысячи миль, чтобы избежать бури», — отвечу я. «Черт возьми! — возразят они мне. Должно быть, действительно поднялся страшный ураган». — «Страшный или нет, этого, видите ли, я не знаю, раз я обошел его стороной». Вот почему он пошел прямо навстречу ветру… — И Дуг поступит так же. Нет, — вздохнула Сибила, — никогда я не смогу понять таких вещей… Ну что хорошего может выйти из всего этого? — Не знаю… Может быть, всего лишь… еще одна «хорошая новелла». Послушайте, Сибила, ведь вы сами… ведь вы же не верите ни в бога, ни в черта, я знаю… Но все-таки… Такое слово, как душа, оно вам на самом деле ничего не говорит? — Нет, говорит, — ответила Сибила. — Говорит, как и всем. При одном условии: пусть мне сперва объяснят, что она собой представляет. Или, вернее, каковы ее признаки. — Как раз то же утверждает Дуглас! — Что же удивительного, улыбнулась Сибила, — я сама подсказала ему такую мысль. — Ну а каковы эти признаки, могли бы вы ответить на вопрос, Сибила? — Если бы на него можно было ответить, все сразу стало бы ясным. — А вам не кажется странным, что никто не может ответить на этот вопрос? — оживившись, спросила Френсис. — Подумайте только! Никто не оспаривает, что у любой негритянки с плоскогорья, хотя по своему интеллектуальному развитию она в сто раз ближе к шимпанзе, нежели к Эйнштейну, есть все-таки с Эйнштейном что-то общее, что отличает их обоих от шимпанзе; назовите это душой или еще как-нибудь. Но вот по какому признаку, говоря вашими же словами, Сибила, мы узнаем, что это так? Трудно даже поверить, что люди столько времени спорят об этом и до сих пор не сумели найти ответа. До сих пор не сумели определить, что это за отличительный признак. Разве нет? — Да, действительно, возможно… — Вот вы, Сибила, гордитесь тем, что для вас «не существует моральных принципов». А потому ли их не существует для вас, что мы до сих пор не знаем, каков этот отличительный признак? И если бы мы установили этот признак, не повлиял бы он, хотя бы отчасти, на ваши поступки? Сибила задумалась. — Возможно… — повторила она. — Вы коснулись моего самого больного места, Френсис.Обычно мне удается довольно удачно скрывать свою слабость. — Голос ее неузнаваемо изменился. Да, для меня «не существует моральных принципов»… но я этим не «горжусь», уверяю вас… Представьте, я почти всегда знаю, что думают обо мне люди… Но вы не знаете, конечно, что порой это причиняет мне страдания. Конечно, не то, что они обо мне думают! А то, что все мои поступки полностью зависят только от меня одной, от собственных моих суждений… Иногда меня охватывает… такой ужас, что начинает кружиться голова… Вы удивлены, Френсис? Я казалась вам не столь уязвимой? Лучше «забронированной»? Все на свете уязвимы; броня — лишь видимость. Да, Френсис, на небесах никого нет, мы это знаем, и все-таки нам трудно привыкнуть к такой мысли. Привыкнуть к тому, что поступки наши не имеют никакого смысла… Что и хорошие, и плохие могут случайно породить добро или зло… А бог всегда, всегда молчит… Мы определяем понятие добра и зла, основываясь лишь на своих собственных, непостоянных, как зыбучие пески, представлениях… И никто не приходит нам на помощь… — Она вздохнула. — Не так уж все это весело. — Ну а если, — тихо спросила Френсис, — ну а если Дуг заставит наконец ответить… найти, раскрыть в конце концов этот признак, этот отличительный признак, которым должны обладать тропи, дабы мы смогли принять их в качестве равноправных членов в франкмасонское общество — я имею в виду сообщество людей, которое требует наличия души у своих членов… Разве не на этом признаке основывалось бы все наше поведение, поведение людей? Не на зыбучем песке наших представлений, как вы говорите, не на призрачном, расплывчатом определении добра и зла, а на незыблемом, как гранит, определении того, что есть человек… И даже разве вам, Сибила, не принесло бы это облегчения и спокойствия, разве не появилась бы у вас путеводная звезда? — Что есть человек… — прошептала Сибила. — Хотим мы того или нет, — в раздумье промолвила вполголоса Френсис. — Что есть человек… — снова проговорила Сибила. — Независимо от добра и зла, — добавила Френсис. — Что есть человек… — еще раз произнесла Сибила. — А это действительно можно было бы узнать? — спросила она, словно школьница, и в голосе ее прозвучало наивное и трогательное волнение. — И вы думаете, что это можно будет сделать? — повторила она через минуту все тем же тоном. — Если это возможно для тропи, Сибила, то это так же возможно и для нас, ответила Френсис. Но для этого не надо… не надо считать Дуга Дон Кихотом. Надо верить ему безоговорочно, прошептала она с верой и болью. — Даже если всем нам суждено умереть, так и не увидев плодов его самопожертвования… В конце концов, — заключила она с силой, — это ведь не в первый раз! Не в первый раз люди не внемлют шелесту дубов Додоны [21]… А потом, в один прекрасный день, их еле уловимый шепот превращается в песнь надежды.Глава двенадцатая
Сознание профессионального долга у доктора Фиггинса. Сведения о метизации, гибридизации и даже о телегонии. Осторожность доктора Балброу. Утверждения профессора Наача: «Покажите мне его астрагал, и я скажу, человек ли это». Противоположное мнение профессора Итонса. Спор о роли прямостояния. «Мысль создала руку человека». Странные выводы профессора Итонса. — Доктор Фиггинс! Это был первый свидетель, вызванный обвинением. Произнеся слова присяги, он подошел к месту, отведенному для свидетелей. Мистер Дрейпер, председатель суда, незаметно вытер лоб, под белым париком он буквально обливался потом. В этом году конец сентября выдался жаркий, душный, грозовой. Зал был так переполнен, что казалось, стены его не выдержат напора публики. Королевский прокурор, королевский адвокат, член парламента сэр К. В. Минчет открыл огонь. — Мы просим свидетеля, — начал он, — отвечать лишь на наши вопросы, не вдаваясь в излишние подробности. Как нам известно, седьмого июня в пять часов утра вас вызвали по телефону из Сансет-коттедж, куда вы и отправились. Констатировали ли вы там смерть новорожденного младенца мужского пола? Да. — Вызвали ли вы в свою очередь полицию, дабы она также констатировала смерть? — Да. — Последовала ли смерть от инъекции пяти сантиграммов стрихнина — дозы, смертельной даже для крупного животного? — Да. — Не заявил ли вам обвиняемый, что в то утро он сам сознательно сделал эту инъекцию? — Да. — Смогли ли вы сами установить, что данное заявление обоснованно? — Да. Правильность его подтвердило также вскрытие, произведенное в моем присутствии судебным врачом. — Нет ли у вас каких-либо оснований предполагать, что смерть могла бы произойти и при других обстоятельствах? — Нет. При других обстоятельствах она не могла бы произойти. — Ознакомились ли вы также с заявлением сэра Эдуарда К. Вильямса из Королевского колледжа хирургии, свидетельствующего о том, что обвиняемый, несомненно, является отцом жертвы? — Да.— Имеются ли у вас лично какие-либо основания ставить под сомнение авторитет самого сэра Эдуарда и не доверять сделанному им заявлению? — Нет. — Имеются ли у вас какие-либо основания сомневаться в том, что обвиняемый является отцом жертвы и виновником его смерти? — Нет. Прокурор с удовлетворенным видом сел на свое место. Поднялся защитник, королевский адвокат мистер Б. К. Джеймсон. — Доктор Фиггинс, внимательно ли вы осмотрели труп младенца? Не вы ли сами сказали при осмотре: «Это же не ребенок, это обезьянка»? — Да. — Придерживаетесь ли вы по-прежнему этого мнения? — Да. — Какие у вас на это имеются основания? — Некоторые особенности строения его тела, одни из которых сразу бросаются в глаза, другие же я обнаружил во время вскрытия. — Какие именно? — Диспропорция частей тела; строение ноги, имеющее очевидное сходство с нижними конечностями обезьяны, поскольку большой палец стопы отделен от остальных глубокой выемкой; форма позвоночного столба, у которого полностью или почти полностью отсутствует поясничный изгиб, а также некоторые другие особенности лицевого угла и строения черепа. — Сообщили ли вы свои замечания судебному врачу? — Да. — Подтвердил ли судебный врач правильность ваших слов? — Да. — Следовательно, вы считаете, что обвиняемый убил не человеческое существо, а звереныша? — Да. Адвокат поклонился и сел на место. Поднялся прокурор. — Не говорится ли в заключении, данном судебным врачом, показания которого мы выслушаем позднее, что жертвой преступления является ребенок? — Да, говорится. — Если бы судебный врач придерживался того же мнения, что и вы, мог бы он сделать подобное заключение? Этот вопрос был отклонен защитой. Прокурор продолжал: — Можете ли вы объяснить, каким образом, считая, что жертва не является человеческим существом, вы смогли составить свидетельство о смерти ребенка по имени Джеральд Ральф Темплмор? — Как биолог я могу считать, что жертва по ряду характерных признаков ближе к обезьяне, нежели к человеку. Это мое личное мнение, но как врач я обязан был составить акт о смерти, поскольку существует совершенно официальный документ о рождении и поскольку я лично констатировал смерть. — Признаете ли вы, таким образом, что все имеющиеся у вас сомнения относятся только к анатомическому строению жертвы, а не к ее гражданскому состоянию? — Да, это так. — Другими словами, вы признаете, что жертва с точки зрения закона является ребенком обвиняемого? — Да. Прокурор сел. Снова выступил представитель защиты. — Доктор Фиггинс, считаете ли вы, что в данном случае закон должен восторжествовать над зоологией? Прокурор отклонил вопрос, как побуждающий свидетеля высказать мнение, могущее повлиять на решение суда. — В таком случае поставим вопрос несколько иначе, — сказал адвокат. — Доктор Фиггинс, если бы обвиняемый вызвал вас не для того, чтобы констатировать смерть жертвы, а для того, чтобы принять роды, согласились бы вы сообщить об этом рождении в мэрию? — Нет. — Даже если бы обвиняемый настаивал на этом? — Все равно нет. — Значит, если бы это зависело от вас, вы бы не признали за жертвой гражданских прав? — Конечно. — Подобно тому как вы не признали бы подобного права за собакой или кошкой? — Да. — Кстати, вы, кажется, лишь после известных колебаний составили свидетельство о смерти? Не понудила ли вас к этому настойчивость обвиняемого? Не сам ли обвиняемый при помощи веских доказательств убедил вас в том, что жертва официально является субъектом гражданского права? — Да, это так. Прокурор поднялся было с места, но председатель движением руки остановил его и начал: — Суд, дабы восполнить пробелы, имеющиеся в его познаниях по зоологии, желал бы получить от вас, доктор Фиггинс, кое-какие сведения, если только вы, конечно, можете их дать: очевидно, жертва является плодом скрещивания. Для того чтобы убитого, как вы полагаете, можно было назвать обезьяной, необходимо — не правда ли? — чтобы хоть один из родителей был обезьяной. Но если нам не изменяет память, одним из критериев определения вида служит то обстоятельство, что два индивидуума разных видов не могут иметь потомства? Доктор Фиггинс кашлянул и ответил: — Это, конечно, выходит за пределы медицины… Однако, милорд, возможно, я смогу быть полезным… Сельский врач всегда в какой-то степени ветеринар, он связан со скотоводами, интересуется их опытами. Итак, милорд, скрещивание может дать вполне положительные результаты даже в том случае, если животные относятся к близким между собой породам, видам или в отдельных случаях — родам. Продукт скрещивания у близких между собой пород называется метисом, у близких между собой видов и родов гибридом. Естественно, что гибридизация удается гораздо реже, чем метизация. — В интересующем нас случае мы, вероятно, имеем дело не с метизацией, а с гибридизацией? — Не берусь этого утверждать, поскольку не знаю, к какому виду относится самка Paranthropus. — Простите, воскликнул председатель, — я вас не понимаю! Отцом ребенка был человек. Каким же образом ребенок мог оказаться обезьяной, если и мать принадлежит к человеческому виду? — Это вполне возможно, милорд. Даже если в конечном счете самку Paranthropus следует отнести к виду человека (в чем я лично весьма сомневаюсь), то, во всяком случае, она принадлежит к племени, слишком отличному от современного европейца. А еще Дарвин заметил, что, например, потомство, полученное от спаривания двух домашних, но далеких друг от друга пород уток, обычно похоже на дикую утку. Объясняется это тем, что у метисов развиваются главным образом черты, присущие обоим родителям; а совершенно очевидно, что общие эти черты имеются лишь у их общего предка, то есть у дикого животного. В данном случае ребенок мог объединить в себе обезьяньи черты общего предка Paranthropus и человека, другими словами, черты какого-то общего древнейшего примата. — И таким образом, больше, чем его родители, походить на обезьяну?.. — Да… Но, возможно, произошло и нечто другое, милорд. Возможно, тут имела место телегония. — Что это такое? — Телегония — это влияние первого самца на последующее потомство самки, родившееся уже от других самцов. Факт подобного влияния отрицается биологами, как не выдерживающий научной критики, но его признавали и признают все скотоводы. Наиболее известный случай — это случай с кобылой лорда Морона. Сперва ее спарили с зеброй и получили метиса. Затем ее уже спаривали с жеребцами ее же породы, но она по-прежнему приносила полосатых, как зебра, жеребят. Если мы признаем телегонию, то тогда вполне возможно, что самка, о которой идет речь, уже имела детеныша от самца своей же породы или от какой-нибудь большой обезьяны; и последующее потомство результат скрещивания ее с человеком — сохранило черты первого производителя. — Итак, обобщая все сказанное вами, вы считаете невозможным делать какие бы то ни было точные или даже приблизительные выводы о природе жертвы, исходя лишь из того факта, что она родилась от человека? — Да, я думаю, это было бы неосторожно. — Значит, вы можете повторить под присягой ваши слова? А именно, что жертву нельзя считать человеческим существом? — Под присягой? Нет, милорд. Еще раз повторяю, это лишь мое сугубо личное мнение. И вполне возможно, что правы те, кто придерживается в данном вопросе противоположной точки зрения. Вообще я полагаю, что врачи-практики вроде меня не компетентны в подобных вопросах: их должны решать специалисты по биологии человека, то есть антропологи. — Суд благодарит вас. Есть ли еще вопросы у обвинения? Нет. У защиты? Также нет. Вы свободны, доктор. Место доктора Фиггинса занял судебно-медицинский эксперт Доктор Балброу. Это был седой как лунь старик с изможденным землистым лицом. Он сильно сутулился. — Сообщил ли вам доктор Фиггинс во время вскрытия свои замечания о строении тела жертвы? — обратился к нему прокурор. — Сообщил, — ответил свидетель. — Пришли ли вы к тому же выводу, что и он? — Нет. — К какому же выводу пришли вы? — К выводу, что смерть жертвы последовала от введения смертельной дозы стрихнина. — Вас не об этом спрашивают, — вмешался председатель суда. — Нам хотелось бы узнать, — продолжал прокурор, — какие выводы сделали вы из этих наблюдений, то есть считаете ли вы жертву человеком или обезьяной? — Никаких выводов я не сделал. — Почему? — Потому что в мои профессиональные обязанности не входит делать подобного рода выводы. — Однако ж вы передали результат вскрытия полиции для того, чтобы та начала дело об убийстве, — сказал прокурор. — Совершенно верно. — Но ведь нельзя назвать преступлением убийство обезьяны! Следовательно, вы пришли к выводу, что от руки убийцы пал человек! — Ни к какому выводу я не пришел. Я лишь обязан выяснить причину смерти, и только. Остальное касается суда, а не меня. — Никогда не слышал ничего подобного! — воскликнул прокурор. — Но ничего подобного никогда и не происходило, — возразил свидетель. — Значит, вы решительно отказываетесь высказать свое мнение? — Решительно. Так ничего больше от доктора Балброу и не смогли добиться. Тогда вызвали известного антрополога члена Королевского общества антропологов профессора Наача. Королевский колледж естественных наук, к которому обратился суд, рекомендовал его в качестве эксперта, каковой должен был дать необходимые разъяснения о природе жертвы. Это был уже немолодой человек, с лицом, изрытым морщинами, с взлохмаченными волосами, по которым он то и дело проводил ладонью, тщетно пытаясь привести в порядок свою седеющую шевелюру. Он плохо слышал, и голос у него оказался неприятным, визгливым. Не успел прокурор закончить свой вопрос, как он начал пронзительным голосом, отрубая слова: — Это же просто идиотство! Что вы хотите узнать? Люди ли эти существа? Конечно, люди! Высекают они огонь? Высекают! Обтесывают камни? Ходят прямо? Ходят. Да вы взгляните на их астрагал! Видели ли вы когда-нибудь обезьян с подобным астрагалом? Не стоит вам его и описывать, все равно ничего не поймете! Есть такая кость в стопе. Одного астрагала было бы достаточно. Не говоря уже о костях плюсны, длинных, как фаланги! У них большой палец на ноге развит так же, как у обезьян? Ну и что же? Есть же у нас аппендикс и остаток третьего века, который достался нам по наследству от пленозавров; а для чего они нам сейчас? Должно быть, еще недавно, каких-нибудь пятьдесят или сто тысяч лет назад, эти тропи жили на деревьях, вот и все. А теперь не живут и ходят прямо, как и мы. В каждом из нас есть нечто от обезьяны! Посмотрите на детей, которые учатся ходить: ходят так же, как шимпанзе, ставят стопу боком, а не опираются сразу на нею подошву. Взгляните на большой палец ноги современных веддов: он столь подвижен, что им свободно можно поднять с земли шестипенсовую монету! Что же, выходит, они не люди? Нужно договориться о том, кого мы называем человеком. Кем были поди Нгандонга? А человек, кости которого откопали совсем близко отсюда, в Питтдауне? Череп у него, с вашего позволения, совсем такой же, как у нас с вами, милорд, а челюсть — как у гориллы. Ну а тот, которого называют Shkul Cinq, маленький подбородок и зубы тоже, а надбровные дуги как у гиббона! От этого не уйдешь. Держится прямо — значит, человек. Вот почему важна форма астрагала, на который опираются при ходьбе: если астрагал узкий и тонкий — значит, обезьяна; если широкий и плотный — значит, человек. Boт и все. Что, что? Приложив лодочкой ладонь к уху, он обратил к суду свое нервически подергивающееся лицо. — Я обращаюсь к защите! — прокричал судья. Имеются ли нее вопросы? — Нет, милорд, — ответил адвокат. — Но мы хотели бы, чтобы с разрешения суда был заслушан один из наших свидетелей. Обвинение высказалось против. Защита заметила, что показания профессора Наача доступны лишь специалистам и таким образом она, то есть защита, лишается своего священного права давать вопросы свидетелям обвинения. Суд удовлетворил ходатайство защиты, и для свидетельских показаний был вызван член Королевского общества естественных наук, член Королевского общества палеонтологии и Имперского колледжа антропологии профессор Итоне. Высокий, спокойный, изысканно вежливый, застывшей улыбкой на губах, он казался полной противоположностью своего ученого предшественника. — Труды профессора Наача, посвященные сравнительному изучению астрагала шимпанзе, австралопитека и японки, равно как и наблюдения Ле Гро Кларка, безусловно, относятся к числу наиболее авторитетных. Однако у нас есть все основания опасаться, что выводы сделаны слишком поспешно. И я, к сожалению, должен довести до сведения суда, что ему пришлось выслушать множество самых нелепых высказываний. Нам прекрасно известно, что профессор Наач в своей теории исходит из учения великого Ламарка, каковой полагал, что у людей были живущие на деревьях четверорукие предки, которые затем, спустившись с деревьев и покинув леса, постепенно стали двурукими. Но, судя по последним исследованиям… — Мы не в состоянии следить за ходом вашей мысли, — прервал его судья. Попросил бы вас выражаться яснее. На эту реплику судья решился лишь потому, что заметил побагровевшие от напряжения лица присяжных, не спускавших со свидетеля беспокойного взгляда широко открытых глаз. — Я говорю об учении Ламарка и его школы, — продолжал свидетель, согласно коему, как я уже имел честь заявить, предки человека жили на деревьях, подобно обезьянам, и так же, как и они, имели две пары рук, что давало им возможность цепляться за ветки. Впоследствии они покинули леса, в связи с чем постепенно менялись их нижние конечности, приспособляясь к передвижению по твердой земле. Таким образом, по мнению представителей этой школы, и сформировалась нога человека в том виде, в котором она существует ныне. Видимо, профессор Наач разделяет эти взгляды. К сожалению, последние данные сравнительной анатомии говорят не в пользу этой теории. Сопоставление конечностей всех млекопитающих — сошлюсь, например, на последние труды Фрешкопа — показывает, что нога человека не только не является дальнейшей ступенью в развитии стопы обезьяны, но, наоборот, по своему строению представляет собой гораздо более примитивный и грубый орган. Нога обезьяны, хотя на первый взгляд подобное утверждение может показаться парадоксальным, сформировалась значительно позднее, чем наша; не исключена возможность, что человек унаследовал ее от тетраподов третичного периода. Из чего явствует, что те индивидуумы (как, например, тропи), чье строение ноги имеет хотя бы отдаленное сходство со стопой живущих на деревьях обезьян, не относятся к той ветви, от которой произошел человек. — Таким образом, из ваших слов следует, — спросил судья, — что у наших млекопитающих предков уже миллионы лет тому назад была точно такая же нога, как у современного человека? Свидетель подтвердил, что так оно и было. — И что усовершенствовалась она у обезьян, когда те стали жить на деревьях, то есть произошло как раз обратное тому, что утверждал Ламарк, а именно что нога человека как таковая появилась тогда, когда он спустился с дерева? — Да, именно так. — Из этого, по вашему мнению, следует, что у представителей той ветви, от которой произошел человек, всегда были такие ноги, как у нас, и что эта ветвь в своем развитии не прошла через стадию обезьяны? — Совершенно точно. — И, наконец, что тропи, имеющих такое же строение ноги, как и обезьяны, нельзя отнести к тому биологическому виду, у которого на протяжении всего его развития была такая же нога, как у современного человека… Да, это как раз то, что мы называем philum [22]. Тропи не могут принадлежать к тому philum, который привел к созданию человека. — Другими словами (если только мы вас правильно поняли), тропи как бы находятся в конце philum обезьян, а не в начале philum людей; словом, по-вашему, тропи не какое-нибудь, как можно было бы предположить, пусть даже очень примитивное племя, а необычайно развитая порода обезьян? — Да, именно так. Профессор Наач говорил: «Они высекают огонь, они обтесывают камни!» Но ведь теперь, когда найден синантроп, мы знаем, что высекать огонь и обтесывать камни умели даже такие примитивные, мало чем отличающиеся по своему развитию от шимпанзе существа. Вообще достаточно внимательно понаблюдать за тропи, и станет ясно, что они скорее следуют некоему внутреннему стимулу, нежели повинуются голосу разума… Таким образом, — заключил профессор Итоне, — тропи весьма подходит данное им название Paranthropus: они похожи на людей, но это не люди. Профессор Наач, словно школьник, уже тянул со своего места руку. Прокурор попросил суд предоставить ему слово. Суд дал согласие. — Это неслыханно! — воскликнул Наач прямо со своего места, что в стенах английского королевского суда было поистине случаем беспрецедентным. Судья попытался было прервать его, но тщетно. Представитель защиты, улыбаясь, махнул рукой, как бы говоря: «Простим свидетелю его рассеянность — пусть себе говорит с богом!» — Неслыханно! — продолжал ученый, не заметив этой пантомимы. — Стимул? Что такое стимул? Все стимул! Логическое мышление и то стимул! Ведь должно же оно чем-то быть вызвано? Должно. Это вам не чудеса в решете! Химические процессы мозга и тому подобное! Стимул, разум! Пустые слова. Одно лишь имеет значение: то, что они делают, и то, чего не делают. Синантроп? Возможно, он был человеком, почему бы и нет? Покажите мне его астрагал, и я вам скажу. Черт возьми, господин профессор Итоне, неужели вы забыли Аристотеля? Что создало человека? — говорил он. Мысль, а мысль — это рука. Все органы животных выполняют всегда одни и те же и притом неизменные функции. А рука может стать и крючком, и щипцами, и молотком, и шпагой — любым инструментом, при помощи которого она как бы удлиняется. Вот отсюда-то и вытекает необходимость мышления. А что высвободило руку, профессор Итоне? Прямостояние. У четвероногих рук не бывает? Не бывает. А раз нет рук, нет и мысли. Если астрагал плохо развит, прямостояния нет. Так что же создало мысль? Астрагал. От этого не уйдешь. Может быть, желаете возразить? — Обязательно, если разрешит суд, — ответил его коллега с почтительной улыбкой, отвесив поклон в сторону председателя. Судья вопросительно взглянул на обвинение. Но прокурор, решив быть столь же снисходительным, как и защита, изящным движением поднял белую тонкую руку. — Суд полагает, что свободный обмен мнениями в данном случае желателен, сказал судья, — поскольку дело идет уже не о свидетельских показаниях, а о сопоставлении различных точек зрения экспертов. Слово предоставляется вам, профессор. Тот вежливо поклонился и начал: — «Рука создала мысль», — утверждает мой высокоуважаемый коллега. С его разрешения, я постараюсь доказать вам обратное. Не рука создала мысль, а мысль создала руку… Не слишком ли парадоксальное мнение? — спросите вы. Отнюдь нет, попробуйте просто изменить порядок слов: разум, рука, прямостояние. Именно потому, что человек начал мыслить, он встал на ноги и тем самым освободил руки. Вот истинная формула Аристотеля: мысль создала руку человека. — Ну и что же, — крикнул с места Наач, — у тропи есть руки? — Есть. — И у обезьян также… — Следовательно, они думают? А может быть, они еще и ходят прямо? Неслыханно! — воскликнул Наач. — Неслыханно! Просто галиматья. — …И у обезьян также есть руки, — терпеливо закончил Итоне, но сознательно они еще ничего не умеют делать руками, потому они не пытаются освободить их, приняв вертикальное положение. — Ну а тропи уже освободили руки, раз они держатся прямо! Значит, они люди. — Этого недостаточно. — Что же тогда нужно еще? — Нужен целый комплекс, профессор Наач, и вы это сами прекрасно знаете. Из тысячи шестидесяти пяти отличительных признаков, обнаруженных Кейтом при сравнительном изучении анатомии человека и различных видов обезьян, как-то: величина черепной коробки, число спинных позвонков или же число зубных бугорков и т. д., — две трети присущи как человеку, так и различным обезьянам, остальные же характерны лишь для того, кого мы именуем homo sapiens. И если у индивидуума отсутствует хотя бы один из этих признаков, и не только один из таких специфических, как, например, количество нейронов серого вещества или строение самой нервной клетки, но и такие, как форма и строение лбов, соотношение грудной клетки и позвонка или даже их отростков, если только мы отметим, повторяю, отсутствие хотя бы одного из этих признаков, мы уже не вправе считать его человеком в полном смысле этого слова. — А кем же в таком случае вы считаете неандертальского человека? — Он не принадлежит к homo sapiens. Мы называем его так только ради удобства. — А ведды, пигмеи, австралийцы и бушмены? Пожав плечами, Итоне сокрушенно улыбнулся и беспомощно развел руками. — Честное слово, профессор, — воскликнул Наач, — уж не согласны ли вы с гнусной статьей Джулиуса Дрекслера? — Статья Джулиуса Дрекслера, — спокойно возразил Итоне, — открывает перед наукой вполне разумные перспективы. Возможно, некоторые его выводы носят следы излишней поспешности и несколько упрощены. Но он совершенно прав в той ее части, где защищает неприкосновенность и независимость науки и напоминает нам, что последняя не нуждается в сентиментальных или так называемых гуманных предрассудках. Добиться равенства между людьми — задача, несомненно, благородная, но она должна интересовать биолога, как говорил мой учитель Ланселот Хогбен, лишь после восьми часов вечера… И если наука в конце концов докажет, что настоящим человеком является лишь белый человек, если она установит, что цветных нельзя считать людьми в полном смысле этого слова, мы, безусловно, сочтем этот факт прискорбным. Но обязаны будем согласиться с подобными выводами. И должны будем признать, что правы были не мы, а наши предки, некогда превратившие их в рабов, тогда как мы, исходя из чисто научной ошибки, неосмотрительно признаем их равными себе. Было бы правильнее, как говорит Джулиус Дрекслер, пересмотреть вообще весь вопрос и таким образом… Ропот возмущения пронесся по залу, постепенно он перерос в яростный гул, заглушивший голос профессора Итоне, который, не переставая вежливо улыбаться, умолк. Судья Дрейпер взглянул на свои часы. «Скоро шесть — весьма кстати», — подумал он. И, встав, покинул зал заседания. Публику попросили удалиться.
Глава тринадцатая
Размышление судьи Дрейпера о британском гражданине как о человеческой личности. Размышление о человеческой личности вообще. У всех народов есть свои табу. Неожиданное вмешательство леди Дрейпер. «У тропи нет амулетов». У всех народов есть свои амулеты. Обычно сэр Артур доезжал до своего клуба на автобусе; это был тот самый знаменитый Реформ-клаб на Пелл-Мелл, откуда одним дождливым утром отправился в кругосветное путешествие Филеас Фогг. Там судья спокойно прочитывал номер «Таймс» и затем часам к восьми возвращался в Онслоу-меншнс, расположенный в районе Челси. Но на сей раз он решил, что в такой чудесный теплый вечер гораздо приятнее пройтись пешком. На самом же деле впервые за тридцать лет ему не хотелось видеть своих старых одноклубников, не хотелось даже молча просматривать в их присутствии вечерние газеты. Размеренным, спокойным шагом шел он по набережной Темзы и думал о только что окончившемся заседании суда. «Что за странный процесс», — прошептал он. Ему было известно, какие именно соображения заставили Дугласа отдаться в руки правосудия. Мужественные, благородные соображения. «Но ведь, — думал он, — получается так, что обвинение выдвигает против него его же собственный тезис: тропи люди. А защита обязана доказать обратное, и, желая убедить нас в том, что тропи животные, она вызывает свидетелей, проповедующих как раз ту самую расовую дискриминацию, борясь против которой обвиняемый рискует своей жизнью; и он вынужден согласиться с такой системой защиты, при которой выдвигаются положения, прямо противоречащие его цели… Что за путаница! К тому же, если будет доказано, что тропи животные, победа останется за компанией Такуры… Потому симпатии подсудимого должны быть на стороне обвинения… Одним словом, только ценой своей смерти он может выйти победителем. И лишь потерпев поражение, может спасти свою жизнь… Интересно, отдает ли он себе в этом отчет, задумывался ли над последствиями? Трудно сказать; тем более что сам он не говорит ни слова, отказывается от выступлений». Вечерело, какой-то особенно прозрачный голубой туман окутал город, и прохожие встречались и расходились плавно и молча, словно статисты в балете. Судья смотрел на них с новым для него чувством любопытства и симпатии. «Вот оно, человечество, — думал он. — Относятся ли к нему тропи? Странно все-таки: задаешь себе подобный вопрос и не можешь сразу же на него ответить. Странно, но приходится признать, что происходит это оттого, что мы сами еще не знаем, чем же мы от них отличаемся… Надо сказать, что мы никогда не задумываемся над тем, что такое человек. Нам достаточно уже и того, что мы люди; в самом факте нашего существования есть некая очевидность, не нуждающаяся ни в каких определениях…» Стоя на небольшом возвышении, «бобби» не спеша, с чувством собственного достоинства регулировал уличное движение. «Вот ты говоришь себе, растроганно подумал сэр Артур, — вот ты говоришь: „Я полисмен. Я регулирую движение“. И ты знаешь, что это означает. Порой тебе случается говорить: „Я британский гражданин“. Это тоже вполне определенное понятие. Ho сказал ли ты хоть раз за всю свою жизнь: „Я человеческая личность“? Подобная мысль показалась бы тебе смешной, уж не потому ли, что она чересчур неопределенна: ведь, будь ты только человеческой личностью, ты бы не чувствовал под ногами твердой почвы?» Судья улыбнулся. «А чем я лучше его? — продолжал он размышлять. — Я тоже думаю: я судья, мой долг — выносить правильные решения. Если меня спросят, кто я, у меня готов и другой ответ: „Я верноподданный его величества“. Насколько проще определить, что такое англичанин, судья, квакер, лейборист или полисмен, чем что такое человек, просто человек!.. И вот вам доказательство — тропи… Все-таки куда удобнее чувствовать себя чем-то таким, что не требует никаких пояснений. И теперь по вине каких-то несчастных тропи, думал он, — я вновь запутался в тех не имеющих ни конца, ни начала вопросах, которые пристало решать двадцатилетнему юнцу… Запутался или, наоборот, снова вышел на правильный путь? — подумал он вдруг с неожиданной для самого себя откровенностью. — А в конце концов, почему перестал я задавать себе эти вопросы, были ли у меня на то достаточно веские основания?» Когда его назначили судьей, он был значительно моложе большинства своих коллег в Соединенном Королевстве. Он помнил, как мучили тогда его вопросы: «Что дает нам право судить других? На чем мы основываемся? Как определить основное понятие виновности? Что за нелепое стремление — проникнуть в душу и сердце человека! Что за абсурд: умственная неполноценность смягчает вину преступника, она как бы частично снимает с него ответственность, и мы судим его менее сурово. Но почему умственная неполноценность служит ему оправданием? Очевидно, потому, что он менее других способен подавлять свои инстинкты; но, стало быть, он может вновь совершить преступление. Как раз его-то и нужно было бы лишить возможности приносить зло окружающим; его следовало бы судить более сурово, чем человека, для которого нельзя найти подобного рода смягчающих обстоятельств, поскольку разум и мысль о неизбежном наказании скорее дают нам силу подавлять свои инстинкты. Но какое-то чувство говорит нам, что это было бы бесчеловечно и несправедливо. Таким образом, общественное благо и справедливость совершенно несовместимы». Он вспомнил, что в ту пору его так измучили все эти вопросы, что он чуть было не отказался от обязанностей судьи. Но со временем он очерствел. Правда, не так, как большинство его коллег, невероятная черствость которых и сейчас удивляла его и ставила в тупик. Тем не менее с годами он так же, как и все прочие, решил, что не стоит терять зря время и силы на эти неразрешимые вопросы, и с несколько запоздалой мудростью целиком положился на установленный порядок, традиции и на юридические прецеденты. И даже с высоты своего преклонного возраста с презрением поглядывал на ту самонадеянную молодежь, которая тщится противопоставить свою собственную крошечную совесть всему британскому правосудию!.. И вот на склоне лет он столкнулся с поразительным случаем, который вновь выдвинул перед ним все те же проклятые вопросы, потому что никакой установившийся порядок, никакие традиции, никакие юридические прецеденты не в состоянии тут помочь! И он сам не смог бы, положа руку на сердце, сказать, сердит ли это его или радует. Но, судя по тому бунтарски непочтительному смеху, который клокотал в груди, как бы служа беззвучным аккомпанементом хору его сокровенных мыслей, он вынужден был признать, что скорее радует; прежде всего вся эта история как нельзя лучше отвечала ироническому складу его ума. А потом, сэр Артур любил свою молодость. Любил и был счастлив оттого, что она оказалась права. Вступив на стезю восхитительного отступничества, он безжалостным, критическим оком пересматривал эти установившиеся порядки, прецеденты, почетные традиции. «В конце концов, — думал он, — и у нас, как у дикарей, существуют тысячи табу. Можно, нельзя. Ни одно из наших требований или запрещений не покоится на незыблемом фундаменте. Ведь все то, что связано понятием „человек“, можно постепенно разложить, как в химии, на отдельные компоненты и свести к простейшей основе, к определению того, что же мы считаем человеческим. Но именно эту-то основу мы никогда и не пытались определить. Просто невероятно! А разве необоснованные запрещения — не те же табу? Мы так же свято, как и дикари, верим в законность, в необходимости своих табу. Единственное различие в том, что мы сумели усовершенствовать свои табу. Мы создали их, опираясь не на магию или тотем, а на философию и религию, а теперь ищем им объяснение даже в социологии и истории. Порой нам приходится выдумывать новые табу. Или на ходу видоизменять старые (что, впрочем, бывает редко). Или, если вопреки традициям эти табу начинают казаться нам слишком устаревшими или слишком вредными, мы подновляем их. Я согласен, что в целом все это хорошие, превосходные табу. Чрезвычайно полезные табу. Необходимые для жизни общества. Но тогда на чем мы должны строить свои суждения о жизни общества? И не только о той форме, в какую она вылилась или может вылиться, но вообще судить о том, хороша она или нет сама по себе или просто необходима для чего-то другого. Но тогда для кого? Для чего? Ведь все это тоже табу, и ничего больше». Он остановился на самом краю тротуара, ожидая сигнального света, разрешающего переход. «У нас, у христиан, — думал он, — по крайней мере имеется Евангелие, заповеди, которые учат: „Возлюби ближнего своего, как самого себя. Подставь левую щеку…“ А ведь это находится в вопиющем противоречии с основными законами природы. Вот потому-то мы и считаем, что эти заповеди столь прекрасны. Но что прекрасного в том, что мы противопоставляем себя природе? Почему именно в этом пункте должны мы отвергать законы, которым подчиняются все животные? „Такова воля Господня“ этого, конечно, достаточно, чтобы заставить нас исполнить долг свой, но отнюдь не достаточно, чтобы растолковать его нам. Пусть меня повесят, если все это не просто табу!» Он переходил улицу прямо напротив Вестминстер-бридж. «Если бы я высказал подобные мысли вслух, все бы решили, что я богохульствую. Но я вовсе не богохульник. Ибо я глубоко убежден в справедливости евангельских заповедей, табу они или нет. И, возможно, именно потому, что они порывают с природой, с ее слепым волчьим законом взаимного пожирания. И вообще, не является ли милосердие, справедливость — словом, все эти табу — противопоставлением природе?.. Пожалуй, если поразмыслить немного, то неизбежно придешь к выводу: для чего были бы нужны нам правила, законы, религиозные заповеди, для чего нам были бы нужны мораль или добродетель, если бы человеку со всеми его слабостями не приходилось постоянно сдерживать и подавлять в себе мощный голос природы?.. Да, да, все наши табу основываются на противопоставлении человека природе… А ну-ка, ну-ка, — прошептал он вдруг, чувствуя приятное волнение мысли, — может быть, это и есть та самая неизменная основа? Не здесь ли следует искать ответ? Возможно, вопрос стоит именно так: есть ли табу у тропи?» — подумал было он, как вдруг произвольный визг резко затормозившей машины заставил его отскочить назад, и вовремя! Пришлось постоять немного, чтобы унять биение сердца. Стройный ход мыслей был нарушен.* * *
Вечером он обедал в холодной столовой Онслоу-меншнс. Напротив него, на другом конце длинного стола из полированного красного дерева, сидела леди Дрейпер. Как обычно, оба молчали. Сэр Артур очень любил свою жену, сердечную, преданную, мужественную женщину, принадлежавшую к тому же к весьма знатному роду. Но он считал ее восхитительно глупой и невежественной, именно такой, какой и подобает быть женщине из респектабельной семьи. Никогда она не задавала мужу неуместных вопросов, касающихся его служебных дел. Казалось, ей нечего было рассказать ему и о себе. И это давало чудесный отдых мысли. Но в этот вечер она неожиданно спросила его: — Надеюсь, вы не осудите молодого Темплмора? Это было бы чудовищно! Сэр Артур, слегка шокированный этими словами, поднял на свою супругу удивленный взгляд. — Но, дорогая моя, это не касается ни меня, ни вас: решение выносят присяжные. — О, — мягко возразила леди Дрейпер, — вы прекрасно знаете, что присяжные поступят так, как вы захотите. И она полила мятным соусом кусок вареного мяса. — Мне было бы очень жаль эту милую Френсис, — продолжала леди Дрейпер. — Ее мать дружила с моей старшей сестрой. — Все это, — начал сэр Артур, — не может ни в какой мере повлиять… — Конечно, — живо возразила жена. Но, — добавила она, — ведь Френсис — такая милая девочка. И было бы слишком несправедливо отнять у нее мужа. — Конечно, но все-таки… Правосудие его величества не может принимать в расчет… — Мне иногда приходит в голову, сказала леди Дрейпер, — не бывает ли то, что вы именуете правосудием… Я хочу сказать, что в тех случаях, когда правосудие несправедливо, мне приходит в голову… Вас никогда не тревожат такие мысли? — спросила она. Столь неслыханное вторжение леди Дрейпер в самую суть его чисто профессиональных дел настолько поразило сэра Артура, что он не сразу нашелся что ответить. — Да и вообще, по какому праву, — продолжала она, — вы пошлете его на виселицу? — Но, моя дорогая… В конце концов, вы же сами прекрасно знаете, что он убил всего лишь маленькое животное. — Ну, положим, этого еще никто не знает… — Простите, но всё указывает на это. — Что «всё»? — Не знаю. Это само по себе вполне очевидно, — ответила она, изящным движением поднося к губам ложку, где, как живой, трепетал кусочек розоватого бланманже. — Что именно очевидно? Право же, вы меня… — Не знаю, повторила она. — Хотя вот вам: они даже не носят на шее амулетов. Должно быть, позднее сэру Артуру не раз приходило на ум замечание его супруги; возможно, оно в какой-то мере определило его поведение на суде — настолько оно совпадало с его собственной мыслью: есть ли табу у тропи? Но в эту минуту замечание супруги показалось ему нелепым, и только. Он воскликнул: — Амулеты! А разве вы сами носите амулеты? Леди Дрейпер с улыбкой пожала плечами. — Порой мне кажется, что да. Я хочу сказать, иногда мне кажется, что ношу. А разве ваш прекрасный судейский парик, в конце концов, не тот же амулет? Подняв руку, она остановила готовое сорваться с его губ возражение. И он не без удовольствия — в который раз! — заметил, какая у нее тонкая, белая, еще очень красивая рука. — Я вовсе не шучу, — сказала она. — Я думаю, у каждого возраста есть свои амулеты. И у народов также. Конечно, молодым нужны амулеты попроще, другим, постарше, — уже более сложные. Но они, я полагаю, есть у всех. А вот у тропи, как вы видите, их нет. Сэр Артур молчал. Он с удивлением смотрел на свою жену. А она продолжала, складывая салфетку: — Амулеты совершенно необходимы, если во что-то веришь, не так ли? Если же ни во что не веришь, то… Я хочу сказать, что можно не верить в общепризнанные истины, но это не значит… Я хочу сказать, что даже вольнодумцы, которые утверждают, что ни во что не верят, и те, как мы видим, ищут что-то, не так ли? Одни… изучают физику… или же астрономию, другие пишут книги, это и есть, в сущности, их амулеты. Таким образом, они… Ну, словом, это их убежище против всего того, что нас так пугает, когда мы об этом думаем… Вы согласны со мной? Он молча кивнул головой. Она рассеянно вертела салфетку, продетую в серебряное кольцо. — Но если действительно ни во что не верить… продолжала она, — не иметь никаких амулетов — значит никогда ни над чем не задумываться, не правда ли? Никогда. Потому что, как только начинаешь задумываться… мне кажется… начинаешь бояться. Акак только начинаешь бояться… Даже у тех несчастных негров, которых мы с вами видели на Цейлоне, Артур, даже у этих совершенно диких негров, которые ничего не умеют делать, не могут сосчитать до пяти и едва умеют говорить… даже у них есть свои амулеты. Значит, они верят во что-то. А раз они верят… значит, они уже задумывались над чем-то… задумывались над тем, кто обитает на небе или, может быть, в лесу, не знаю где… задумывались над тем, во что они могут верить… Вот видите! Даже они, эти несчастье дикари, задумывались… Так вот, если какое-нибудь существо ни над чем не задумывается… действительно ни над чем, совершенно ни над чем… значит, это — просто животное. Мне кажется, только животное может жить и что-то делать на этой земле, не задаваясь никакими вопросами. Вы не согласны со мной? Даже деревенский дурачок и тот задумывается над чем-то… Они поднялись из-за стола. Сэр Артур подошел к жене, осторожно обнял ее и поцеловал в висок. — Вы высказали сейчас весьма интересные соображения, дорогая моя. Пожалуй, обо всем этом следует подумать. И если вы разрешите, немедленно же! Пока ко мне не пришли с визитом. Я как раз жду гостя… Леди Дрейпер нежно коснулась своими седеющими локонами щеки мужа. — Вы ведь оправдаете его, да? — спросила она с пленительной улыбкой. — Мне будет так жаль эту девочку! — Повторяю вам, дорогая, одни только присяжные… — Но ведь вы сделаете все, что от вас зависит? — Надеюсь, вы не потребуете от меня никаких обещаний? — мягко спросил сэр Артур. — Конечно. Я просто полагаюсь на вашу справедливость, Артур. — Супруги еще раз поцеловались, и сэр Артур вошел в свой кабинет. И сразу же опустился в глубокое кресло. — У тропи нет табу, — сказал он чуть ли не вслух. — Они не рисуют, не поют, у них нет ни праздников, ни обрядов, нет никаких знаков, нет колдунов, и у них нет даже амулетов. Они даже не людоеды. И он произнес еще громче: — Могут ли существовать вообще люди без табу? Рассеянным, но пристальным взглядом он смотрел на портрет сэра Уэстона Дрейпера, баронета, кавалера ордена Подвязки. Он прислушивался к неудержимому смеху, который зрел в самой глубине души и наконец тронул его губы.Глава четырнадцатая
Свидетельские показания профессора Рэмпола и опровержения капитана Троппа. Последние выступления свидетелей. Речь прокурора, речь защитника. Судья Дрейпер подводит итог судебному разбирательству. Присяжные растеряны. Прежде чем установить, люди ли тропи, необходимо определить, что такое человек. В кодексе законов полностью отсутствует официальное определение человека. Присяжные отказываются вынести вердикт. На следующем заседании были выслушаны еще два антрополога, вызванные в суд обвинением. И хотя ученые считали, что Рагanthropus следует отнести к человеческому роду, обосновывая этот вывод, они так противоречили друг другу, что защита ограничилась лишь насмешливым молчанием, куда более красноречивым, чем самая страстная речь. В свою очередь защита вызвала двух ученых-психологов: профессора Рэмпола, крупнейшего специалиста по вопросам психологии примитивных народов, и знаменитого капитана Троппа, посвятившего себя изучению умственных способностей человекообразных обезьян. Череп профессора Рэмпола был так восхитительно лыс, что казалось, он с умыслом лишился своей шевелюры, лишь бы предоставить к услугам френологов столь редкостный объект для исследования. В правом глазу, затянутом бельмом, он носил монокль, и это делало его похожим на офицера кайзеровской армии. Но мягкий, удивительно приятного тембра голос заставлял забыть неприглядную внешность профессора. Первый же обращенный к нему вопрос, казалось, привел ученою в замешательство: существует ли, спросили его, признак, по которому можно безошибочно, исходя из данных науки, отличить разум примитивного человека от ума животного? После минутного раздумья сэр Питер сказал, что несколько месяцев назад он бы ответил, что таким признаком является речь. Артикулированная у человека, в отличие от речи животного, отмеченная у первого деятельностью воображения и памяти, она у животного — застывшая и инстинктивная. Но появление тропи вынуждает его признать, что он не сделал всех необходимых выводов: речь тропи, по-видимому, инстинктивна, но в то же время и членораздельна; ее нельзя считать застывшей речью существа, лишенного воображения, поскольку запас слов у тропи увеличился, хотя бы пока за счет подражания; таким образом, ее нельзя считать ни человеческой речью, ни речью животных: она содержит элементы той и другой. Теперь ему стало ясным, что специфичным надо считать не речь, которая является лишь средством общения, а самую потребность общения, равно как и цель его. Подумав, он добавил: — Некоторые ученые считают, что это специфическое различие лежит в способности человека создавать мифы. По мнению других, оно заключается в способности человека пользоваться символами, и прежде всего простейшим из них — словом. Но в обоих этих случаях мы сталкиваемся с одной и той же проблемой: какой специфической необходимостью обусловлено создание мифов и символов? Он провел большой узловатой рукой по своему блестящему черепу. — Видите ли, рассуждая таким образом, мы вряд ли сумеем прийти к положительному выводу. Поэтому лучше остановиться на фактах, поддающихся контролю: то есть на тех, которые познаются путем анализа различных мозговых связей. Сравнительное изучение этих связей у человека и у животных, возможно, позволило бы установить точное и ясное различие. — Мы не совсем улавливаем ход ваших мыслей, — остановил его судья. — Мозг часто сравнивают, — продолжал сэр Питер, — с гигантской телефонной станцией, которая с неслыханной быстротой связывает тысячи различных центров: одни из них ведают наблюдением или изучением, другие руководят или приказывают. В общем, все эти связи определены довольно точно. Я хочу сказать — их роль и количество достаточно хорошо изучены как у человека, так и у различных видов животных. Итак, человеком, по-моему, следует считать всякое существо, мозг которого объемлет всю сумму перечисленных выше связей, а животным — существо, мозг которого этими связями не обладает. — Но, — попытался уточнить вопрос сэр Артур, — разве количество этих связей одинаково у всех людей, независимо от их классовой принадлежности, возраста, развития, расы? — Н-н-нет, — замялся сэр Питер, потирая переносицу. — Это было бы слишком просто… Различия существуют… и большие различия… и все-таки не в этом главное. Ведь сумма связей у самого отсталого из негритосов несравненно больше, чем у самого развитого шимпанзе. Можно даже, если хотите, взять количество и качество мозговых связей негритосов за тот минимум, которым должен обладать индивидуум, чтобы иметь право именоваться человеком. Сэр Артур задумчиво покачал головой и не сразу задал вопрос: — Не слишком ли произволен и даже искусствен принцип такой классификации? Ведь мы строим эту классификацию, приняв за необходимый минимум мозговые связи негритосов, а затем, исходя из той же классификации, считаем негритосов людьми, поскольку они действительно обладают этим минимумом. Профессор непринужденно рассмеялся и сказал: — Пожалуй. Но, право, я и сам не знаю, как выбраться из этого заколдованного круга. — Кроме того, не противоречите ли вы самому себе? Тот, у кого отсутствуют некоторые из этих связей, по вашим словам, уже не может называться человеком. Но разве их отсутствие нельзя объяснить специфическими умственными особенностями того или иного индивидуума? — Совершенно справедливо. — Следовательно, если у тебя нет тех или иных свойств, ты уже перестаешь быть человеком? А ведь вы сами утверждали здесь, что если это и возможно, то, во всяком случае, очень рискованно. — Вы совершенно правы, — ответил профессор. — Итак, из всего сказанного, — продолжал сэр Артур, — нам, очевидно, придется сделать вывод, что антропология, равно как и зоология, не в состоянии установить точной границы, отделяющей человека от животного? — Боюсь, что это так. Наступило довольно продолжительное молчание. Затем сэр Артур, чуть заметно улыбнувшись бледно-розовой тюлевой шляпке с зеленым бантом, видневшейся в глубине зала, спросил: — Если не ошибаюсь, профессор, на земле не существует такого племени, независимо от того, живет ли оно на самом отдаленном острове или где-нибудь в неизведанной пустыне, чью психологию вы бы не изучили самым детальным образом. Так вот, видели ли вы хоть одно племя, которое бы не носило амулетов? По залу пронесся легкий смех, несколько ослабивший напряжение. Но профессор даже не улыбнулся. — А ведь и в самом деле нет. Никогда не видел, — после некоторого колебания ответил он. — Чем же вы объясняете это явление? — Что именно вас интересует? — Не кажется ли вам, что вера в амулеты, которая существовала во все века и у всех народов, свойственна исключительно человеку? — Да. Равно как и способность создавать мифы. Но это еще ничего не доказывает. — Как знать, — возразил сэр Артур. — Разве способность задавать себе вопросы, даже самые примитивные, не свойственна только человеку, одному лишь человеку, пусть самому неразвитому, самому отсталому? — Конечно. — А нельзя ли, продолжал судья, — объяснить эту способность некоторыми мозговыми связями, которых нет у животных? — Нельзя ли? — задумчиво повторил профессор. — Ведь любопытство свойственно и животным. Многие животные страшно любопытны. — Однако они не носят амулетов. — Да, не носят. — Значит, если они и любопытны, то иначе, чем человек. Ведь они-то не задаются вопросами? — Вполне с вами согласен, — ответил сэр Питер. Отвлеченное мышление свойственно только человеку. Животным оно недоступно. — Вы в этом абсолютно уверены? Стало быть, у животных невозможно обнаружить признаков такого любопытства, пусть даже в самом зачаточном состоянии? — Не думаю, — ответил сэр Питер, — Такие вопросы выходят за пределы моей компетенции, но на первый взгляд… Животное смотрит, наблюдает, ждет, что станется с тем или иным предметом, какие произойдут с ним изменения… и только. Вещь исчезает, а вместе с ней проходит и любопытство. Ни… ни этого протеста, ни этой борьбы против немоты окружающего их мира вещей. Дело в том, что любопытство животного всегда остается чисто потребительским, ему нет никакого дела до вещей как таковых, они интересуют его лишь в той мере, в какой соотносятся с ним самим — животное неотделимо от них, неотделимо от природы, приковано к ней всеми фибрами. Оно не абстрагируется от вещей с целью познать их извне… Одним словом, — закончил сэр Питер, — животные не способны мыслить отвлеченно. Не здесь ли в таком случае следует искать переплетение связей… специфическое переплетение, которое доступно человеку, и только человеку. Вопросов к свидетелю не было, судья поблагодарил профессора и не стал его больше задерживать. Его место занял капитан Тропп — розовый дородный блондин с живыми смеющимися глазами. Сэр Артур напомнил присяжным, что капитан Тропп является автором многочисленных докладов, сделанных им в Музее естественной истории и обобщающих его опыты с человекообразными обезьянами, и что его известность уже давно перешагнула границы Великобритании. Судья вкратце изложил ему сообщение сэра Питера Рэмпола и те споры, которые оно вызвало. Затем задал ему следующий вопрос: — Считаете ли вы, капитан Тропп, что даже самые развитые обезьяны лишены малейшей способности абстрагировать? — Ну, конечно, нет! — воскликнул толстяк. — Простите! — Вовсе они не лишены этой способности. Они могут абстрактно мыслить, точно так же, как и мы с вами. Сэр Артур растерянно заморгал глазами, в зале воцарилось молчание. — Профессор Рэмпол сказал нам… — начал он наконец. — Знаю, знаю, — перебил его капитан Тропп — Все эти люди считают животных просто дураками! Сэр Артур не смог сдержать улыбки, и весь зал, облегченно вздохнув, улыбнулся вслед за ним. — Вы не читали моего сообщения, — продолжал Тропп, — об опытах Вольфа? Тогда послушайте: он установил у своих шимпанзе автоматический раздатчик изюма, работающий при помощи жетонов. Обезьяны очень скоро научились им пользоваться. Затем он установил автомат, выдающий жетоны. Обезьяны включили его и полученные жетоны сразу же опустили в первый. Но немного погодя Вольф выключил раздатчик изюма. Тогда обезьяны набрали себе жетонов и спрятали их в ожидании того часа, когда первый автомат снова заработает, словом, они как бы изобрели для себя деньги и даже узнали, что такое жадность. Что же, по-вашему, это не абстрактное мышление? А Верлен! Нет, не французский поэт, а бельгийский профессор. Взять хотя бы его опыты с макакой! Обезьяна низшая, заметьте это. Ему удалось доказать, что его макака прекрасно отличает живое от мертвого, зверя от растения, минерал от металла, дерево от ткани; она ни разу не ошиблась, разбирая гвозди и спички, а также пух и кусочки ваты. Что же, по-вашему, это не абстрактное мышление? Или, например, их речь! Обычно считают, что обезьяны не умеют говорить. Но они говорят, и еще как говорят! Шестьдесят лет назад Гарнер установил, что между нашим языком и языком обезьян существует только количественная разница; больше того, у нас с ними много общих звуков. Я знаю, Делаж и Бутан во Франции опровергают это мнение. Но сравнительное изучение гортани, проверенное Джакомини, дало возможность составить шкалу, показывающую, как постепенно совершенствуется гортань у гоминидов: от орангутанга через гориллу, гиббона, шимпанзе, бушмена, негритянку до белого человека. Почему же развитию гортани не должно соответствовать развитие речи? Разве обезьяны виновата в том, что мы не понимаем их языка? Кстати, милорд, они понимают нас гораздо лучше: у Гледдена была обезьяна-шимпанзе, она, не задумываясь, выполняла сорок три приказания, которые отдавались без сопровождения жестов. Что же, по-вашему, это не абстрактное мышление? А Фэрнесу удалось научить молодого орангутанга произносить слово «папа». Добиться этого было весьма затруднительно, ибо у животных имеется тенденция не выдыхать звуки, которым их стараются научить, а, так сказать, глотать. Но, научившись слову «папа», орангутанг произносил его всякий раз, когда к нему подходил мужчина, и никогда не называв так женщин: что же, по-вашему, и это не абстрактное мышление? Затем Фэрнес, придавливая язык орангутанга лопаточкой, научи его произносить слово «cup»[23]. Возможно, такой метод покажется вам искусственным, но с тех пор орангутанг всегда говорил слово «cup», когда ему хотелось пить: что же это, как не абстрактное мышление? Затем Фэрнес попытался научить его произносить артикль «the» — это ведь уж абстракция чистой воды. К несчастью, молодой орангутанг умер, так и не усвоив звука «the»… — Охотно верю, — сказал сэр Артур, — у меня есть немало друзей-французов, право же, людей достаточно смышленых, которые так и не смогли научиться произносить это слово… Бедная обезьянка… Но мы, кажется, не совсем правильно поставили наш вопрос. Комиссии хотелось бы знать: не приходилось ли вам самому наблюдать, или, может быть, вам известны факты, что кто-то другой заметил у обезьян хотя бы зачатки метафизического мышления? — Метафизического мышления… — задумчиво повторил капитан Тропп и опустил голову, отчего у него сразу же появилось три подбородка. — Что вы понимаете под этим термином? — наконец спросил он. — Мы понимаем под этим… чувство беспокойства, ответил сэр Артур, — чувство страха перед неизвестным, желание объяснить необъяснимое, способность верить во что-то… Словом, не приходилось ли вам встречать обезьян, у которых были бы свои амулеты? — Да, я видел обезьян, которые привязывались к какой-нибудь вещи так же, как ребенок привязывается к своему плюшевому медвежонку. Они играли с полюбившимися им предметами и не расставались с ними даже ночью. Но это вовсе не амулеты. Явление несколько другого порядка я наблюдал в Калькутте у молодой мартышки, отличавшейся чрезмерной стыдливостью: она никогда не засыпала, предварительно не прикрыв все что полагается зеленой сандалией, с которой никогда не расставалась. А вот амулеты?.. Нет… Но, черт возьми, — вдруг воскликнул он, почему вы хотите, чтобы у них были амулеты? Они живут в природе, в непрерывном общении с ней и не боятся природы! Ее боятся только дикари! Только дикари задают себе все эти дурацкие вопросы! Но какая им от этого польза? Если они, не в пример обезьянам, недовольны своим существованием и не желают быть такими, какими их создал бог, то гордиться здесь еще нечем! Они просто анархисты. Бунтари, которым ничем не угодишь. Почему вы хотите, чтобы мои славные шимпанзе начали задавать себе всякие дурацкие вопросы? Амулеты? Покорно благодарю! — Уверяю вас, мы вовсе этого не хотим, — с добродушной улыбкой успокоил его сэр Артур. — Мы просто хотели бы получить от вас точный ответ: действительно ли у обезьян полностью отсутствует метафизическое мышление, нет хотя бы его следов? — Никаких следов! Даже намека на них нет! Даже намека! — ответил капитан, торжествующе щелкнув ногтем по зубам. — И вы тоже, капитан Тропп, — спросил его вкрадчивым голосом адвокат, — не задаетесь подобными вопросами? — Какими вопросами? — насторожился капитан Тропп. — Я добрый христианин, я верю в бога, а отсюда все качества. Почему же вы… Вы что, за дикаря меня принимаете, что ли? Сэр Артур любезно уверил капитана Троппа, что за дикаря его никто не принимает, поблагодарил за выступление, и тот удалился. Затем один за другим выступили Грим, Вильямс, Крепе и отец Диллиген; они подробно рассказали о своих наблюдениях над тропи и о тех опытах, которые они с ними проделали. Им задали всего несколько вопросов. Было очевидно, что защита не пытается даже добиться каких-либо преимуществ и выиграть лишнее очко, она лишь постоянно уравновешивала силы, то есть делала все возможное, чтобы вопрос остался нерешенным: всякий раз, когда обвинение заостряло внимание на какой-либо детали, свидетельствующей о том, что тропи — люди, защита со своей стороны тотчас же обращала внимание на какой-либо факт или наблюдение, которые бы доказывали обратное. Но если, напротив, один из свидетелей приводил слишком веские доказательства в пользу того, что тропи животные, защита незамедлительно выдвигала новое доказательство, подтверждающее их человеческую природу. При этом прокурор торжествующе потрясал своими широкими рукавами, а окончательно сбитые с толку присяжные только дивились такой странной системе защиты. Последним выступал отец Диллиген. Он говорил так живо и забавно, что даже сумел несколько разрядить напряженную атмосферу, царившую в зале: он говорил в основном о языке тропи и даже несколько раз крикнул, подражая им. Во всякой иной аудитории его выступление встретили бы дружными аплодисментами; когда он возвращался на свое место, его перехватила пожилая дама и завела с ним бесконечную беседу о своих любимых попугаях, и бедный отец Диллиген не знал, как от нее отделаться.* * *
Сэр Керью В. Минчет, королевский прокурор, соединил кончики своих тонких белых пальцев. Он умолк и, словно во время молитвы, наклонил голову, предоставив присяжным любоваться безукоризненными локонами своего парика. Затем, подняв голову, он произнес: — Леди и джентльмены, господа присяжные, я вполне представляю себе ваше замешательство. Конечно, ни у кого не может быть сомнений в том, что обвиняемый совершил преднамеренное убийство. Мы полагаем, даже защита не попытается отрицать этот факт. Правда, она сделала все возможное, чтобы посеять сомнение в ваших умах относительно самой природы жертвы. Желая добиться оправдания обвиняемого, она профанировала одну из наших судебных традиций, наиболее дорогую нашему сердцу, наиболее прочно вошедшую в наши обычаи: традицию «разумного сомнения». Именно это и обязывает нас спросить: существует ли действительно основание для разумного сомнения в природе жертвы? Если вам кажется, что таковое сомнение существует, поверьте мне: это всего лишь иллюзия. Правда, защите удалось внести невообразимую путаницу в существо вопроса, она вела дебаты сразу на двух фронтах, в двух совершенно различных планах: в плане юридическом, законном, и в плане зоологическом; и она с завидной ловкостью перепутала все нити. Итак, леди и джентльмены, в чем же заключается ваш долг? Должны ли вы разобраться в самом факте убийства или же решать ученые споры? Здесь перед нами выступали профессора и виднейшие ученые. И вы сами убедились, что они не могут договориться между собой даже в вопросе, что есть человек. Неужели же вам надлежит объяснить им это? Неужели же вам решать их споры? Конечно, вы можете меня спросить: не вы ли первый вызвали профессора Наача? Действительно, это так. Но можно было не сомневаться в том, что защита вызовет в суд ученых, которые будут доказывать уже известный вам тезис. Их необходимо было опередить, иначе вы, чего доброго, поверили бы им. Но что дали нам, в сущности, все эти споры? Для себя вы можете извлечь лишь одно: от вас требуют, чтобы вы знали больше, чем эти ученые. Но разве это входит в вашу обязанность и можно ли говорить о сомнении, «заложенном в самих фактах», лишь потому, что вы знаете не больше, нежели ученые мужи. Только потому, что вас запутали слишком сложными и непонятными для нас аргументами? Нет, вы собрались здесь не для того, чтобы выяснить специфичность черт той или другой зоологической классификации или установить, права ли школа, называющая Рагапthropus то существо, которое другая школа именует homo faber [24]. Вы собрались здесь для того, чтобы судить о фактах с точки зрения суда и закона. А может ли существовать хоть малейшее сомнение именно в этом плане? Можно ли сомневаться в том, что обвиняемый преднамеренно умертвил рожденного от него ребенка, которого он сам зарегистрировал и окрестил, дав ему имя Джеральд Ральф Темплмор? Нет, сомневаться в этом нельзя. Но, быть может, у вас осталось все-таки зерно сомнения? Быть может, вы считаете, что в любом случае лучше оправдать преступника, чем наказать невиновного? Быть может, вы считаете, что, коль скоро существует хоть какая-то неясность, пусть даже вызванная этими учеными спорами, все же лучше оправдать обвиняемого, будь он даже тысячу раз виноват? Да, так бы и следовало поступить по-христиански, если бы речь шла только об одном обвиняемом. Если в результате вашей снисходительности вы отпустили бы на свободу убийцу. Но разве так обстоит дело в данном случае? Можно ли считать, что здесь решается судьба лишь одного обвиняемого? Heт, конечно, нет: это только видимость! Сейчас решается судьба тысяч, десятков тысяч, а может быть, десятков миллионов! Леди и джентльмены, на вас лежит огромная ответственность. За всю мою практику я, пожалуй, никогда еще не чувствовал такой ответственности. Ибо ваш вердикт может вызвать в будущем последствия, несравнимые по своему значению не только с судьбой обвиняемого, не только с вашей судьбой, не только с нашей судьбой, но даже с судьбой всего британского правосудия. Представьте себе, что, поддавшись уговорам защиты, которая, конечно, не преминет осыпать вас самыми резкими упреками, вы послушаетесь голоса своего сердца и проявите снисходительность; желая быть справедливыми, вы сочтете, что обвиняемый, умерщвляя свою жертву, искренне верил, что убивает обезьяну; короче, представьте себе, что, стремясь оправдать подсудимого, вы признаете его невиновным! Тем самым сразу же, во всеуслышание, быть может, даже против своей воли, вы признаете, что убита была обезьяна — во всяком случае, такое мнение должно будет сложиться не только у наших сограждан, но и миллионов людей за границей, которые ждут вашего вердикта и, конечно, только так и смогут истолковать его. Таким образом, одно ваше слово навсегда исключит тропи из человеческого общества. И не только тропи, но и множество других племен, ибо, как вы сами слышали, ученые утверждают, что, признав тропи животными, будет весьма трудно доказать, что, например, пигмеи или бушмены — люди. Понимаете ли вы, что рискуете таким образом приоткрыть ящик Пандоры? Если в один прекрасный день, лишившись права называться людьми и, следовательно, потеряв все человеческие права, эти примитивные и беззащитные племена попадут в руки тех, кто будет их безнаказанно уничтожать и эксплуатировать, то произойдет это только по вашей вине. А мы знаем — увы! — что охотников найдется немало. И это еще только начало! Ибо, как вы тоже слышали здесь, если на основании каких-то биологических различий будет поставлена под сомнение священная сущность человеческого рода, как удержать нам разгул страстей. Вновь возродится преступная идея высших и низших рас, кошмарные воспоминания о которой еще живы в нашей памяти, — но и это еще не все. И в этом новом несчастье будете повинны лишь вы одни! От такой перспективы содрогнутся люди более ученые, чем вы. Закон, я повторяю, не требует от вас учености. Он требует от вас мудрости. И вы без труда и риска справитесь с этой задачей; вам придется только взглянуть на дело именно с той точки зрения, с которой оно должно рассматриваться в этих стенах, то есть с точки зрения закона. Дуглас Темплмор убил Джеральда Ральфа Темплмора, своего ребенка, своего сына. Этого достаточно. Вы должны признать его виновным. Сэр К. В. Минчет снова соединил, как бы молясь, свои длинные белые пальцы. — Может быть, имеются какие-либо смягчающие обстоятельства? — добавил он. — Это уж решайте сами; но мы, к сожалению, не видим их. Поскольку это не только преступление, но преступление к тому же преднамеренное. Возможно, совершая его, обвиняемый полагал, что поступок его принесет человечеству пользу. Но не забывайте, что врачи-преступники, творя в лагерях смерти свои ужасные опыты, тоже считали, что действуют во имя науки! Пробив снисходительность, мы таким образом из-за своей непростительной мягкости не только подвергнем опасности новых покушений подданных его величества и обречем на рабство и вымирание множество ни в чем не повинных племен, но и поощрим в дальнейшем подобные гнусные опыты, прикрывающиеся именем науки и прогресса! В конечном счете это было бы прямым оскорблением для самого обвиняемого; возвратить ему жизнь и свободу, которыми он рисковал, совершая свой поступок, значило бы лишить этот самый поступок сомнительного оттенка благородства, если только уместно в данных обстоятельствах говорить о благородстве, которое при желании ему можно было бы приписать. Леди и джентльмены, я кончил. К чему распространяться о вещах, и без того достаточно ясных? Пусть защита произносит иные речи — ведь ей придется доказывать недоказуемое: что обвиняемый не убил своего сына. А он его убил. Достаточно и этих коротких слов, чтобы вынести вердикт. Сказав это, сэр К. В. Минчет сел. Судья, повернувшись к защите, дал слово ее представителю. Мистер Б. К. Джеймсон поднялся и заявил: — Согласно желанию обвиняемого, защитительная речь произнесена не будет. Однако он не сел на место и, делая вид, что не замечает удивленно-взволнованного шепота, пробежавшего по залу, добавил: — Защита считает своим долгом заявить, что по ряду вопросов она полностью согласна с уважаемым представителем обвинения. В особенности с той частью его речи, когда он заклинал взвесить лежащую на вас ответственность. Вообразите, говорил он, вообразите только, к каким последствиям может привести ваша ошибка! Однако мы позволим себе сделать из этого положении совсем иной вывод. Нет, нет, леди и джентльмены, вы не должны соглашаться с этим слишком упрощенным и чисто формальным предложением, которое опирается не на закон даже, а на формальность. И на какую формальность? На простую запись в книге мэрии! Представьте себе, что в юности кто-нибудь из вас, господа, вместе с товарищами, подпоив чиновника из мэрии, заявил его, шутки ради, зарегистрировать гражданское состояние новорожденного щенка, а потом, когда пес одряхлел, вы попросили бы ветеринара отравить его, и вот теперь ветеринара приговаривают к повешению! Это, конечно, шутка. Другие доводы уважаемого представителя обвинения гораздо более серьезны. Он предостерегал вас против последствий, которые может повлечь за собой оправдание, ибо оно признавало бы ipso facto, что тропи — обезьяны. Доводы весьма существенные. Ну а если тропи действительно обезьяны? Неужели, вы думаете, было бы меньшим преступлением отправить на каторгу, а может быть, и на виселицу английского джентльмена, пусть даже ради того, чтобы дать свободу двадцати пяти тысячам обезьян? Сознательно послать на смерть невинного, пойти на преступление, совершить, как это нам предлагают, вопиющую несправедливость, лишь бы не дать себе труда подумать! Как, по-вашему, можно это назвать? Это было бы преступным не только по отношению к личности человека весьма достойного, но и по отношению к нашим самым священным правам! Ибо поставить свободу и жизнь британского гражданина в зависимость не от его поступков, а от предполагаемых последствий, которые может вызвать его оправдание, — значит отдать каждого из нас, связанного по рукам и ногам, на произвол властей. Кто из нас в таком случае может быть уверен в завтрашнем дне? Это значит одним ударом покончить со всеми нашими свободами! Нет, леди и джентльмены, вы можете признать подсудимого виновным лишь в случае полнейшей уверенности в том, что он убил человеческое существо, то есть если у вас не будет никакого сомнения в том, что тропи — люди. Даже рискуя весьма удивить уважаемого представителя обвинения, мы не станем доказывать, обратное. Ибо здесь мы отстаиваем не свою собственную жизнь, которая, в общем, так мало значит. Мы отстаиваем здесь истину. Мы не станем доказывать, что тропи обезьяны, ибо, будь мы в этом уверены, мы не убили бы это невинное маленькое существо и не подставили бы шею позорной петле виселицы. Мы готовы ко всему. Однако мы хотим, чтобы наша смерть помогла по крайней мере выяснить то единственное, что важно для нас: не то, что может показаться полезным и нужным, а то, что справедливо и более соответствует истине, и не в ее сомнительной ясности, а в ее абсолютной очевидности! Да, мы готовы пожертвовать своей жизнью ради жизни тропи, если только удастся с полной неоспоримостью доказать, что они люди; и это разрушит замыслы тех, кто собирается обречь их на рабство. Но если тропи обезьяны, мы еще раз заявляем, что было бы позором приговорить к смерти человека в силу совершенно неслыханного довода, что так, мол, удобнее! Наша точка зрения совершенна ясна. Пусть ваша будет не менее ясной. Мы не просим ни милости, ни прощения, мы не нуждаемся в вашем снисхождении. Поймите нас хорошенько! Да, мы не нуждаемся в нем. Но мы требуем от вас лишь того минимума, на который вправе рассчитывать: серьезно подумать, прежде чем принять решение. — Вот почему, — проговорил он, повернувшись к суду, — мы обращаемся к вам, милорд, с ходатайством. Мы были кратки, и суд мог бы поддаться искушению, воспользовавшись оставшимся временем, заставить присяжных вынести вердикт сегодня же… И вдруг неожиданно для всех добавил странно равнодушным тоном: — Так или иначе, нам кажется, им следовало бы дать ночь на размышление, это бы привело к лучшим результатам. Судья Дрейпер озадаченно посмотрел на адвоката; взгляды их встретились: зачем защита вносит такое предложение? Ведь и так очевидно: чтобы спокойно обсудить вопрос, присяжным понадобится куда больше времени, чем у них остается… «Может быть, он хочет что-то дать мне понять… на что-то пытается намекнуть?..» — подумал судья. И первым отвел глаза. «Конечно, — подумал он, — конечно! Он прав! Им нельзя давать времени собраться с мыслями…» Он взглянул на часы и произнес: — Суд не может принять ваше ходатайство. У нас остается еще полтора часа. Суд считает, что этого времени вполне достаточно, чтобы вынести справедливый приговор. Сказав это, сэр Артур надел очки.* * *
Наступило тягостное и продолжительное молчание. Только слышалось, как в переполненном зале шаркают чьи-то подошвы и кто-то глухо покашливает. Откуда-то справа донесся шепот, но шести голов одновременно с осуждением повернулись в ту сторону, и шепот сразу стих. Дуглас не спускал глаз с сэра Артура. С самого начала процесса он старался не смотреть на Френсис. Он заранее решил, что не произнесет ни слова, при всех обстоятельствах останется безучастным, словно его нет в зале: он хотел присутствовать здесь в качестве некоего символа. Играть эту роль оказалось нелегко, Мучительно сжималось сердце. Один только взгляд Френсис, полный боли, страха, мольбы, — и, кто знает, доведет ли он до конца свою роль? И уж совсем невыносимой мукой оказался запрет не видеть трогательно прекрасного лица с чересчур крупным ртом… Из этих двух пыток приходилось выбирать ту, которая по крайней мере не лишала смысла его поступок, оправдывала риск, на который он пошел. И до сих пор ему это удавалось неплохо. У Френсис не было таких оснований сдерживать себя. Сидя между Гримом и Сибилой, она, казалось, не только слухом, но и глазами впитывала каждое слово. Иногда, схватив руку Сибилы, она до боли сжимала ее. Иногда, в полном изнеможении закрыв глаза, она откидывалась на спинку скамейки. Когда сэр Артур отклонил ходатайство защиты, Френсис, чтобы не выдать своего волнения, до крови закусила губу. Но в груди у нее что-то вдруг оборвалось. А Дуг даже бровью не повел. Как ей хотелось, о, как ей хотелось, чтобы он взглянул на нее — хоть один раз, ну хотя бы в эту минуту! Но они обещали друг другу: он — не смотреть на нее, а она — не искать его взгляда. Он был прав, прав! И она отвернулась. Теперь она тоже смотрела на судью. Сэр Артур медленно надевал очки. И вот, когда он укрепил их на носу, Френсис заметил вдруг, да, заметила этот беглый, как взмах ресниц, веселый, дружеский, почти сообщнический взгляд, который скользнул по лицу обвиняемого… — Видели? — шепнула Френсис в сильном волнении Сибиле. — Да, — ответила Сибила, — да… похоже, что… Сибила не кончила фразы, и пораженная Френсис увидела, как она тихонько трижды постучала о деревянную обшивку скамьи. — Вы и не подозревали, что я такая суеверная? — рассмеялась Сибила. — Конечно, нет! — ответила Френсис. — Уж кто-кто… — Подождите, вы еще и не то обо мне узнаете… Но взгляните на Дугласа! Дуг, казалось, окаменел. Но если он превратился в мрамор, то мрамор пурпуровый. Он покраснел до корней волос. Губы его приоткрылись, он смотрел на судью удивленными глазами, словно перед ним предстал ангел, несущий благостную весть. — Он тоже заметил, — прошептала Френсис. — Лишь бы… Но Сибила в страхе сжала руку Френсис и заставила ее замолчать. К тому же судья Дрейпер уже взял слово. — Леди и джентльмены, господа присяжные, — начал он, — в течение трех дней перед вами выступали свидетели обвинения и свидетели защиты, вы выслушали обвинительную речь, и только по желанию обвиняемого не была произнесена речь защиты. Теперь вам надлежит решить его судьбу. Но прежде, следуя традиции, суд в нескольких словах подведет итог судебному разбирательству, дабы по возможности облегчить вам принятие трудного и ответственного решения. Ибо оно действительно трудно и действительно ответственно, ос стороны дали вам ясно понять, что придется серьезно подумать, прежде чем вынести окончательный приговор. Не буду возвращаться к этому вопросу. Мой долг напомнить вам вкратце оказания сторон на этом процессе; я не смогу хотя бы в какой-то степени облегчить вашу задачу: только вам, вам одним, предстоит сделать выводы из всего сказанного. А теперь перейдем к сути дела. К чему же, в конце концов, она сводится? Обвиняемый, став вследствие экспериментального оплодотворения самки, принадлежащей к недавно открытому антропоморфному, то есть человекообразному, виду, став, как мы уже сказали, отцом маленького существа — гибрида, убил его. Вам предстоит решить вопрос, совершил ли обвиняемый, таким образом, убийство. Поступок, совершенный обвиняемым, можно назвать убийством лишь в том случае, если он полностью соответствует определению убийства, записанному к кодексе, то есть: «Убийство: умышленное лишение человека жизни». В данном случае вы можете признать обвиняемого виновным, если у вас не останется никакого разумного сомнения в том, что доказаны нижеследующие пункты: 1. Объект действительно убит обвиняемым. 2. Убийство совершено обвиняемым преднамеренно. 3. Объект убийства является человеческим существом. Вряд ли у вас возникнут сомнения по двум первым пунктам: Обвиняемый признает себя ответственным за свой поступок; он признает и заявляет, что совершил его преднамеренно; различные свидетельские показания подтверждают, что это действительно так. Но третий пункт далеко не столь ясен. Профессор Наач считает жертву человеческим существом. По его мнению, доказательством тому служит следующее: вид, к которому принадлежит жертва, помимо прямостояния, умеет обтесывать камни, добывать огонь, имеет зачаточные признаки речи. Той же точки зрения, хотя и по иным соображениям, придерживается профессора Кокс и Хансон. В противоположность им профессор Итоне утверждает, что жертву нельзя отнести к человеческому роду, ибо за всю историю существования ветви, от которой произошел человек, ни один из представителей ее не имел такой стопы, как стопа жертвы. Таково же мнение доктора Фиггинса. Представитель обвинения пытается убедить вас, что вам не следует решать ученые споры, но в то же время не признает за вами права умыть руки, оправдав подсудимого, не принимая в расчет все те страшные последствия, которые повлечет за собой оправдание; вы обязаны, утверждает обвинение, признать подсудимого виновным в совершении преднамеренного убийства, ибо с точки зрения закона и правосудия этот факт не вызывает сомнений. Однако суд не считает, что вы можете, безоговорочно принять данный тезис. Напротив, он полагает, что объявить подсудимого виновным вы сможете лишь тогда, когда у вас будет твердая уверенность в том, что полностью доказано третье условие в определении убийства: другими словами, когда у вас не будет никакого разумного сомнения в том, что жертва действительно является человеком. Никакого разумного сомнения! Это выражение не раз повторялось во время процесса. Долг суда раскрыть вам точное значение двух этих слов. В чем же заключается «разумное сомнение»? При истолковании этого термина и впрямь может произойти опасная путаница. Сомнение может корениться в самих фактах: так, обвиняемого застали на месте убийства, но виновность его не может быть доказана абсолютно точно. В этом случае, естественно, возникает разумное сомнение. Сомнение может корениться в сознании: так, например, если присяжные не в силах разобраться в нагромождении фактов, накопленных в ходе процесса, они не могут составить ясное представление о деле в целом. Здесь, конечно, нельзя говорить о разумном сомнении. В этом случае присяжные должны потребовать все необходимые им разъяснения. И если в конце концов разъяснения эти так и не помогут прояснить суть дела, им останется лишь один выход: объявить, что они не в состоянии решить данный вопрос. Если же, на ваш взгляд, разумное сомнение лежит в самих фактах, вам ни в коем случае не следует принимать в расчет любые возможные последствия, какими бы ужасными и грозными ни рисовало их вам обвинение: вы должны будете признать обвиняемого невиновным. Но если же, наоборот, вы решите, что сомнение лежит не в самой природе фактов, а в вашем понимании этих фактов, я буду вынужден согласиться с доводами обвинения: если бы речь шла только об одном обвиняемом, только о том, чтобы ввиду имеющихся сомнений отнестись к нему со всем христианским милосердием, против этого мы не стали бы возражать, но в данном случае снисходительный приговор может вызвать слишком тяжелые последствия, и ваш долг — долг людей гуманных — помнить об этих ужасных последствиях. Но и суровый приговор, вынесенный, несмотря на сомнение, закравшееся в вас, столь же неприемлем, в самом деле, вы бы создали не менее опасный прецедент для будущего нашего правосудия: потому что, послав на смерть, возможно и невинного, человека, осужденного не за совершенное им преступление, а только в силу предполагаемых последствий, в плане политическом или социальном, которые могли бы повлечь за собой оправдание, вы таким образом подорвали бы самые основы правосудия нашей страны. После короткой паузы судья продолжал: — Резюмирую вышесказанное. Мы, как и обвинение, считаем, в самих фактах у нас не может быть сомнения, факты остаются фактами, тропи остаются тропи. Их природа — факт, от нас не зависящий. Мы считаем, так же как и обвинение, что сомнение, если таковое и существует, вызвано вполне понятным замешательством, внесенным в ваши умы спорами ученых. Следовательно, так же как и обвинение, мы считаем, что сомнения такого рода могут расположить нас в пользу бездумной снисходительности, не считающейся с последствиями. Но зато мы полагаем — на сей раз так же, как и защита, — что вы сможете, не покривив душой, осудить обвиняемого, будучи лишь твердо уверены, что доказаны полностью все три пункта, определяющие убийство. Прежде чем высказаться за или против, необходимо предварительно решить для самих себя вопрос о природе жертвы — обезьяна она или человеческое существо. Только тогда, когда у вас не останется никаких сомнений на этот счет, вы сможете принять то или иное решение. Иначе, каким бы ни был ваш приговор, вы рискуете совершить трагическую и кровавую ошибку. Вновь последовала пауза, затем сэр Артур продолжал: — Теперь, леди и джентльмены, вам известна суть дела. Вам остается лишь ответить после совещания «да» или «нет» на вопрос, который вам будет задан: «Виновен ли подсудимый?» Судебный исполнитель, соблаговолите провести присяжных в комнату для совещаний. Объявляю перерыв. Он поднялся и, выйдя из зала, с облегчением снял надоевший парик, под которым невыносимо горела голова. И в ту же минуту публика, с облегчением нарушив тягостное молчание, зашумела, как морской прибой, бьющийся о скалы. Когда заседание возобновилось, присяжные вновь предстали передсудом. От имени своих коллег председатель присяжных попросил у суда кое-каких разъяснений. Лицо его было почти такое же белое, как и маленький листок бумаги, дрожавший в его руках. — У нас нет разногласий по основному вопросу, — начал он, то есть по вопросу… о преступлении. Здесь сомнений нет. Остается решить только одно, как вы сами изволили указать: люди тропи или нет? А вот этого-то как раз мы и не знаем. — Вполне естественно, — ответил сэр Артур. — Что же дальше? — Так вот… Не мог бы суд нам сказать, что он сам думает по данному вопросу. — Нет, это невозможно. Обязанность суда — уточнять отдельные факты и правовые вопросы. Но он не может иметь своего мнения по существу вопроса; если бы даже он имел собственное мнение, то по закону не имеет права сообщить его вам. Председатель присяжных — высокий худой старик с вьющимися вокруг маленького багрового блестящего черепа седыми кудрями — свирепо подвигал челюстями и наконец заговорил: — Вот мы подумали, что если бы по крайней мере… если б суд нам просто напомнил… то… стало быть… определение человека, общепринятое определение человека, ну, хотя бы то, которым пользуются вообще, стало быть, законное определение, юридическое… если это… конечно, не выходит за пределы обязанностей суда? — Нет, — ответил, улыбаясь, судья. — Но для этого нужно, чтобы такое законное определение существовало. Возможно, это покажется невероятным, но такого определения действительно не существует. Некоторое время старик тупо молчал, а затем переспросил. — Не существует? — Нет. — Но ведь это невозможно… — Суд согласен, что это странно, и мы уже высказались по данному вопросу; хотя, в сущности, это вполне соответствует духу нашей страны. Во всяком случае, таковы факты. — И такого определения нет ни в Англии, ни в других странах? — Нигде. Даже во Франции, где все определено и узаконено, где предусмотрен даже вопрос о том, кому принадлежит яйцо, снесенное моей курицей во дворе соседа. — Невероятно, произнес старик присяжный, помолчав минуту. — Выходит, что все определено и узаконено, даже самые мелочи… кроме… стало быть, нас самих. — Совершенно справедливо, — ответил судья. — Но неужели… с тех пор как существуют люди, никогда?.. Подумали обо всем… все определили и узаконили, за исключением?.. А не значит ли это, что люди вообще ни о чем не подумали? Просто начали с конца? Судья улыбнулся. Он беспомощно развел руками. — Потому что, — продолжал присяжный, — если мы не знаем… точно… я хочу сказать, если уж мы не договорились меду собой… по крайней мере… даже о нас самих… как же мы можем, черт возьми, тогда понимать друг друга. — Возможно, именно поэтому, — с улыбкой согласился судья, — мы так плохо и понимаем друг друга. Но мы уклоняемся сторону, а время уходит. — Прошу прощения, милорд, — продолжал старик. — Но право… стало быть… даже вот для нашего решения… разве это не ужасный пробел? — В вашей власти его заполнить, — заметил судья. — Как — в нашей? — Боюсь, что, не заполнив существующий пробел, вы не сможете здраво разобраться в этом деле; чтобы определить природу тропи, надо сначала дать определение самому человеку. Но если никто никогда не сделал этого до нас, как же мы-то сможем, милорд, мы… Пусть нам по крайней мере помогут! — Суд для того и существует, чтобы отвечать на ваши вопросы. — А когда я вас спрашиваю, вы отвечаете, что сами не знаете! — Суд существует для того, чтобы напомнить вам все, что говорилось здесь по данному вопросу, и чтобы объяснить вам то, чего вы не поняли. — Но, — с раздражением возразил старик присяжный, — мы прекрасно помним все, что здесь говорилось, и, мне кажется, достаточно хорошо поняли все. Дело в том, что… если бы только, стало быть… все эти профессора пришли к какому-нибудь соглашению… Но они только бранились друг с другом… Как же вы хотите, чтобы мы… мы… — И тем не менее вам придется это сделать, — ответил судья. — И даже, представьте себе, сделать безотлагательно: приговор должен быть вынесен через сорок минут, если вы не хотите завтра начать все сначала. Присяжных провели в комнату для совещаний. Старик председатель, выходя из зала, сокрушенно покачивал седыми кудрями. Когда через двадцать минут старик председатель вошел в зал, он все с тем же сокрушенным видом качал головой. — Мы не пришли к определенному мнению, — заявил он. — Мы только еще сильнее запутались. Чем больше мы спорим, тем труднее нам принять решение. Двое — за, трое — против, остальные ничего не говорят. Я и сам-то совсем растерялся. — И все-таки вы должны настоять, чтобы ваши коллеги вынесли решение, — сказал судья. — Сегодня в вашем распоряжении еще десять минут. По истечении последних минут старый председатель появился снова, на сей раз уже в сопровождении всех присяжных. — Мы решительно решили, что мы ничего не можем решить, — заявил он и умолк. Судья тоже молчал. — Наверное, вам просто не хватило времени? — заговорил он наконец. — Мы можем вам дать для размышлений ночь. Вас удобно разместят, накормят… — Совершенно бесполезно, — отрезал старик председатель. Мы решили окончательно. — Ничего не решать? — Ничего не решать. И заявляем, что мы не в состоянии решить этот вопрос. Несколько минут все молчали, наконец сэр Артур произнес: — Суд сожалеет, но при данных обстоятельствах ему придется освободить присяжных от возложенных на них обязанностей. Судебный процесс переносится на следующую сессию с новым со ставом присяжных. Заседание окончено. Лишь когда судья вышел из зала, присутствующие поняли, что произошло. Сначала в зале воцарилось растерянное молчание. Но потом затишье сменилось бурей. Только уважение к эти древним стенам умеряло рокот человеческих голосов. Люди вскакивали с мест, что-то спрашивали друг у друга сдержанными, но полными досады и возбуждения голосами. Френсис тоже не могла усидеть на месте. Через головы людей она старалась поймать взгляд Дуга, которого минуту назад привели выслушать приговор и теперь уже уводили обратно. Ей удалось встретиться с ним глазами. И он, словно боксер, вышедший победителем на ринге подняв обе руки, радостно приветствовал свою Френсис.Глава пятнадцатая
Волнение лорда-хранителя печати, равно как и владельцев ткацких фабрик. «Tropi or not tropi?[25] Вот в чем вопрос». Судья Дрейпер предлагает передать дело в парламент. Как обходят одну из самых славных традиций. Создание комиссии по изучению вопроса. Противоречия в комиссии. Угроза провала. Положение осложняется. Польза взаимопротиворечивых мнений. Мучительное признание Френсис. Солидарность всего человеческого рода. Основное различие между человеком и животным. Молчание устраивает. Сэр Артур Дрейпер ждал, что его вызовут. От кого последует вызов: от министра внутренних дел? Или, может быть, от генерального прокурора? Оказалось, что его просто попросил заглянуть в клуб лорд-хранитель печати — министр без портфеля. Пересекая Грин-парк, сэр Артур думал: «Стало быть, речь пойдет обо всем, кроме правосудия. С одной стороны, это меня даже устраивает…» И далее: «Не придется, по-видимому, объяснять ему, как, действуя, откровенно говоря… не совсем по форме, я фактически сорвал процесс и привел присяжных в полное замешательство. Напротив, он сам, по всей вероятности, собирается попросить меня о чем-то. И попросить, конечно, о чем-то не совсем официальном… Так что козыри в моих руках. Но сумеешь ли ты пустить их в ход, старина? Ты ведь никогда не был силен в дипломатии…» Лорд-хранитель печати не заставил себя долго ждать. Он весело приветствовал сэра Артура дружеским «хэлло!» и, фамильярно похлопав его по спине, провел в зал. Они уселись в укромном уголке. После нескольких любезных вступительных фраз министр протянул судье кипу газет. — Вы уже просмотрели иностранную прессу? Сэр Артур отрицательно покачал головой и не без интереса прочел напечатанный огромными буквами заголовок в «Чикаго Дейли пост»: «Tropi от not tropi? Вот в чем вопрос». Автор статьи весьма саркастически кратко изложил ход судебного разбирательства и подверг резкой критике британский формализм и британское правосудие, которое в силу полнейшего отсутствия гибкости заходит в тупик при любом выходящем за обычные рамки судебном разбирательстве. Французская газета «Паризьен» поместил статью под названием «Тропи и тропы британского правосудия». В ней, правда, в более игривом и не столь насмешливом тоне, развивалась все та же мысль. Однако, обращаясь к читателю, она с нескрываемым юмором добавляла: «А как поступили бы вы на месте присяжных?» Пражская «Руде право» в статье под ироническим заголовком «Буря в умах двенадцати» приводила бесконечное множество нелепых вопросов: «Кого бы вы стали спасать во время кораблекрушения: мать, жену или дочь, если бы могли спасти только одну из них? Вот какие нравственные проблемы ставит буржуазное правосудие перед несчастными присяжными…» Но ни одна из газет, казалось, не заметила тонкого маневра старого судьи. Сэр Артур молча положил газеты на стол и вопросительно взглянул на министра. — Неужели действительно было невозможно, — начал министр, — добиться определенного решения? Судья ответил, что, как известно, по английским законам нельзя заставить присяжных помимо их воли вынести решение. — Но… вы действительно… сделали все возможное? — спросил министр. — Вы действительно использовали все свое влияние? — В каком плане? — осторожно осведомился сэр Артур. — Ну, чтобы добиться от них решения. — Решения, но в каком именно плане? — повторил судья. Министр нетерпеливо пошевелился в кресле. — Не мне, конечно… — И не мне, — сказал сэр Артур. — Если судья не может сохранить беспристрастность, то к чему тогда институт присяжных? Это было бы просто оскорбительно для сознания и чести британских граждан. Пусть уж французское судопроизводство считает своих сограждан слабоумными; вы, надеюсь, не одобряете их закона, принятого правительством во время немецкой оккупации, по которому судья сам руководит совещанием присяжных? — Конечно, нет! — живо отозвался лорд-хранитель печати. — Однако… И все-таки это очень неприятная история, — добавил он, взяв в руки пепельницу и разглядывая ее с преувеличенным вниманием. — Но наши-то газеты вы по крайней мере читали? — Нет, только просмотрел. К тому же судья не может считаться с общественным мнением. — Общественное мнение возбуждено… даже слишком возбуждено… Пожалуй, не следовало бы… Что, по-вашему, произойдет в следующий раз? С новым составом присяжных? — А что, собственно говоря, может произойти? — спросил сэр Артур. — Вероятнее всего, то же самое. Это невозможно! — воскликнул министр. Сэр Артур развел руками и мягким движением опустил их на колени. Последовало довольно продолжительное молчание — министр, очевидно, решил на этот раз повести атаку с другого фланга. — Вчера у меня был мой коллега из министерства торговли, — начал он. Сэр Артур слушал с видом вежливого внимания. — Он сказал мне… конечно, все это между нами… Он сообщил мне… я говорю вам это только в порядке информации… само собой разумеется, ваши обязанности… вы не можете принимать к расчет… но, в конце концов, все-таки лучше, если вы будете знать… повторяю… только в порядке информации… Этот вопрос очень волнует определенные круги. Министр с задумчивым видом повертел в руках пепельницу. — Нельзя не учитывать… особенно когда такая серьезная опасность угрожает процветанию одной из крупнейших отраслей нашей промышленности… Вам, вероятно, известны, — добавил он, подняв наконец глаза на сэра Артура, — кое-какие планы австралийцев относительно тропи? Сэр Артур утвердительно кивнул головой. — Поистине счастливое совпадение, что… что интересы нашей прославленной во всем мире текстильной промышленности не находятся в противоречии с… с точкой зрения прокуратуры, — продолжал министр. — С точки зрения гуманной, не так ли? Именно гуманной. Но если бы даже… если бы даже ваша беспристрастность помешала вам полностью разделить эту точку зрения… было бы во всех отношениях крайне желательно — вы согласны со мной? — чтобы тропи раз и навсегда признали человеческими существами? Сэр Артур ответил не сразу. — Что же, это было бы возможно, — проговорил он наконец. Он умолк и молчал довольно долго. — Да, было бы возможно, — повторил он. — Но только при одном условии. Он замялся, и министр энергичным движением руки, плохо скрывавшим его нетерпение, дал понять, что ждет продолжения. — При том предварительном условии, что все поводы для сомнений будут уничтожены. Я вас не понимаю, — сказал министр. — Если даже новый состав присяжных, — начал сэр Артур, если даже новый состав присяжных и признал бы подсудимого виновным (хотя в настоящее время это мало вероятно), что бы это доказало? Лишь то, что по закону подсудимого считают виновным в убийстве собственного сына. Но вопрос о природе его сына по-прежнему оставался бы открытым. Равно как и вопрос о тропи в целом. Мне кажется, это не привело бы к желаемым результатам. Министр выжидающе посмотрел на сэра Артура. — Обвиняемого отправили бы на виселицу или на каторгу, продолжал судья, — но что помешало бы компании Такуры использовать тропи в качестве рабочего скота на своих ткацких фабриках? Разве только пришлось бы начать новый процесс, еще более запутанный, чем этот. Да и кто бы его затеял? — Ну, а вы что предлагаете? Сэр Артур сделал вид, что ответить сразу на этот вопрос не так легко. — Я думаю, для того чтобы добиться решения, и к тому же решения, которое бы дало положительные результаты, надо было бы… надо было бы, чтобы это решение строилось на совершенно определенной, не вызывающей никаких сомнений основе. — Согласен, — отозвался министр, — Но на какой? — На той, которую тщетно пытались найти присяжные. — То есть? — На узаконенном, ясном и точном определении человеческой личности. Министр широко открыл глаза. Наконец после минутного колебания спросил: — Но… разве оно не существует? — Как раз этот вопрос, — сдержанно улыбаясь, ответил сэр Артур, — задали мне сбитые с толку присяжные. — Прямо не верится! — воскликнул министр. Неужели же это возможно? — Подобного рода определения не английская добродетель… Скорее они вселяют в нас ужас. — Вы правы… но я хотел спросить: неужели возможно, что французы… или немцы, друг мой, даже немцы?.. Трудно поверить, что немецкие ученые писали свои философские труды о чем-то таком, чему они предварительно не дали определения. Сэр Артур улыбался. — Все это ставит нас в весьма затруднительное положение, — добавил министр, — во всяком случае, теперь. Что же делать? Как, по-вашему, можно добиться… — По моему мнению, — ответил сэр Артур, — следовало бы передать этот вопрос в парламент. Глаза министра заблестели. Наконец-то эта надоевшая история попадала в его родную стихию. Но он тут же досадливо поморщился. — Вы же сами сказали: подобный вопрос приведет в ужас наших милейших депутатов. Определение!.. Ясное и точное! Определение человека! Да никогда нам не добиться… — Как знать? Вы же видели, как отнеслись к этому присяжные во время процесса? Вспомните свою собственную реакцию. Самое невероятное во всей этой истории, что даже мы, англичане, чувствуем себя обязанными, преодолев свой инстинктивный ужас… — Вы шутите, господин судья, — с тонкой улыбкой возразил министр. — Никогда не позволю себе… — Так вы говорите серьезно? — Вполне серьезно. Необходимость в подобном определении давно назрела, и даже британский парламент, по моему мнению, согласится взять на себя этот труд. Министр ответил не сразу, он, очевидно, обдумывал слова собеседника. — Возможно, вы и правы, в конце концов… Словом, никто не удивится… если кто-нибудь… желательно из членов нашей партии… обратится в парламент с запросом… и упрекнет нас в том… что мы позволили высмеять… Покусывая губу, он рассеянно улыбался. Казалось, он совсем забыл о сэре Артуре. И вспомнил о нем, лишь когда тот заговорил: — Только, господин министр, не следует связывать обсуждение в палате общин непосредственно с процессом. Вы, конечно, знаете, что, пока дело находится sub judice, нельзя начинать политическую дискуссию, которая сможет так или иначе повлиять на приговор. — А, черт!.. Но в таком случае… это же все меняет… — Почему же? Надо только принять необходимые меры предосторожности. — Значит, мы можем рассчитывать на ваши советы? — Господин министр, я и мысли не допускаю, что более сведущ в юридических науках, чем господин генеральный прокурор или же… — Конечно, конечно, но они слишком заняты. Итак, решено: вы будете руководить нами. Он встал. Судья последовал его примеру. Молча прошли они по мягкому ковру. Вдруг министр спросил: — Скажите… а адвокат — член парламента? — Мистер Джеймсон? Конечно, — ответил судья. — Как вы думаете, а нельзя от него ждать, — сказал министр, — каких-либо… выступлений, которые могли бы затруднить… — Не думаю, — возразил судья, улыбаясь. — Наоборот, если ловко взяться за дело, мы, вне всякого сомнения, найдем в нем союзника. Министр остановился. Широко открыл глаза, наморщил лоб. — Но… начал он в замешательстве, — не следует заблуждаться… Если, как мы надеемся, тропи окончательно признают людьми… ведь это значит, что его подзащитного тогда повесят? — Не надо так говорить, господин министр, — сказал сэр Артур, — не надо так говорить, но… мне кажется, что при всех условиях… обвиняемый не слишком рискует. И, еще раз улыбнувшись, добавил: — Если только адвокат его не окажется последним глупцом.* * *
Дело оказалось не таким уж простым. Поначалу все шло гладко: в палате общин с запросом к правительству обратился молодой депутат, говоривший с безукоризненным оксфордским произношением; он разразился по адресу правосудия целым потоком острот, эпиграмм и цитат, позаимствованных из Шекспира и Библии. Ввиду отсутствия министра внутренних дел на запрос с достоинством, но и не без юмора ответил лорд-хранитель печати. Он смело встал на защиту суда его величества; доказав, что ни в одной другой стране суд не смог бы удачнее справиться с подобной задачей, он попутно высмеял глупость прессы, которая не разглядела даже того, что прямо-таки бросалось в глаза: отсутствия в международном праве точного определения Человеческой личности. Тогда молодой интерпеллянт спросил, что собирается предпринять правительство, дабы помешать одной и той же причине бесконечно порождать одни и те же следствия. Министр в своем ответе показал, что вопрос этот не застиг правительство врасплох и что оно уже успело обдумать его. Оно пришло к заключению, сообщил он, что парламент вполне компетентен заполнить сей удивительный пробел. Правительство предлагало создать специальную комиссию и поручить ей выработать с помощью ученых и юристов законное определение Человеческой личности. Тут на господина министра снизошло вдохновение, и он произнес блестящую речь. Он сказал, что Великобритания, явившая миру образец демократии, должна теперь взять на себя эту высокую миссию и заложить первый камень величественнейшего монумента. — В самом деле, — продолжал он, — вообразите только, какие последствия повлекут за собой подобное определение и подобный статут, когда в один прекрасный день они выйдут за рамки британского свода законов и будут внесены в международное право! Ведь, установив законом сущность Человеческой личности, мы тем самым определим и все обязательства по отношению к этой личности, поскольку то, что явится угрозой для нее, будет грозить всему человечеству в целом. Впервые все права и взаимные обязанности людей на всех широтах, во всех странах, людей различных социальных групп, обществ и наций, независимо от религиозных убеждений, будут определяться не отдельными утилитарными, а следовательно, недолговечными соображениями, не философскими, а следовательно, спорными теориями и не произвольными, а следовательно, непостоянными и изменчивыми традициями (не говоря уже о безумных и слепых страстях), — впервые их будет определять сама природа Человеческой личности, те не вызывающие никаких сомнений особенности, которые отличают Человека от Животного. И в самом деле, разве мало таких случаев, когда то, что считается преступлением у одного народа, не является таковым для его соседа или противника? А иногда даже может считаться долгом или делом чести, примером чему служат нацисты? И стоило ли вообще создавать в Нюрнберге Новое Право, если сама основа, на которой строились принципы Нюрнбергского устава, уже тогда признавалась не всеми? Если сегодня друзья осужденных, прикрываясь немецкими традициями, пытаются низвести эти принципы из высокой категории Общечеловеческих до уровня позорного Права сильных, а мы не в состоянии сразить непререкаемой очевидностью их гнусные заблуждения? Вот почему принципы Нюрнбергского устава, вопреки возлагаемым на них надеждам, начинают постепенно растворяться во мраке, и во мраке этом куются новые преступления. И вот, возможно, само провидение избирает нас, членов палаты общин парламента его величества (если, конечно, мы чувствуем себя в состоянии справиться с подобной задачей), дабы мы дали вечно враждующему человечеству столь необходимое законное основополагающее определение того, что отличает Человека от Животного. Определение это не подкрепит и не отвергнет другие существующие ныне политические, философские или религиозные концепции, которые даже в тех случаях, когда они противоречат или взаимоопровергают друг друга, являются — да, да, являются — ответвлениями одного и того же дерева. Иными словами, наша священная обязанность дать этой какофонии тот единственный ключ, который превратит ее в симфонию! Он возвысил голос: — Отныне сей ключ в наших руках. Вступив в обладание им, мы, возможно, растеряемся, возможно, даже будем неприятно поражены, ибо на первый взгляд все это идет вразрез с нашими привычками, с обычным нашим благоразумием. Но перед величием задачи должно отступить малодушие, и, как сказал Шекспир:Когда б традициям во всем мы подчинялись,
Вовек не вымести бы нам времен античных пыль,
Гора ошибок выросла б до неба
И заслонила истину…
* * *
Оказалось, что у каждого из членов комиссии имеется по этому вопросу своя более или менее твердая точка зрения, каковая и отстаивалась ими с пеной у рта. Старейшина, которого попросили высказаться первым, заявил, что, по его мнению, лучшее из возможных определений уже дано Уэсли. Уэсли, напомнил он, указал, что нельзя считать Разум, как то обычно делают, отличительной особенностью человека. И в самом деле, с одной стороны, никак не назовешь глупыми многих животных, а с другой вряд ли свидетельствуют о мудрости человека такие его заблуждения, не свойственные даже животным, как фетишизм или колдовство. Подлинное различие, по словам Уэсли, заключается в том, что люди созданы, дабы познать Бога, а животные не способны его познать. Затем слова попросила маленькая седая квакерша с детским глазами, робко смотревшими из-за толстых стекол очков; тихим дрожащим голосом она пролепетала, что ей не совсем понятно, как можно узнать, что творится в сердце собаки или шимпанзе, и как можно с такой уверенностью утверждать, что они по-своему не познают Бога. — Но, помилуйте! — запротестовал старейшина. — Тут нет никаких сомнений! Это же совершенно очевидно! Но маленькая квакерша возразила, что утверждать еще не значит доказать, а другой член комиссии, застенчивый на вид мужчина, негромко добавил, что было бы по меньшей мере неосторожно отрицать, что у дикарей-идолопоклонников есть Разум: они просто плохо им распоряжаются; их можно сравнить, сказал он, с банкиром, который доходит до банкротства, потому что плохо распоряжается своим капиталом. И все-таки этот банкир — финансист, и финансист куда лучший, нежели любой простой смертный. — Мне кажется, — закончил он, — что, напротив, необходимо исходить именно из этого положения: «Человек — животное, наделенное Разумом». — А где же, по-вашему, начинается Разум? — иронически осведомился изящный джентльмен в безукоризненно накрахмаленных воротничке и манжетах. — Это как раз нам и следует определить, — ответил робкий господин. Но старейшина заявил, что, если только комиссия намеревается дать такое определение Человеку, в котором будет отсутствовать идея Бога, он, в силу своих религиозных убеждений, не сможет принимать дальнейшее участие в ее работе. Однако председательствующий сэр Кеннет Саммер напомнил, что определение, которое им предстоит подготовить, должно, как указывало правительство, удовлетворять людей самых различных убеждений. А следовательно, нет никаких оснований опасаться, что в определении будет отсутствовать идея Бога; однако неправильно настаивать и на исключительно теологическом определении, ибо его не смогут признать многие агностики, и не только на континенте, но и на самих Британских островах. Высокий плотный мужчина с роскошными белыми усами, отставной полковник, служивший когда-то в колониальных войсках в Индии и прославившийся своими многочисленными любовными историями, сказал, что его мысль на первый взгляд может показаться присутствующим несколько парадоксальной, но, наблюдая в течение многих лет людей и животных, он пришел к выводу, что есть нечто такое, что свойственно одному лишь человеку: половые извращения. По его твердому убеждению, человек единственное в мире животное, создавшее, например, блестящие сообщества на основе гомосексуализма. Но один из присутствующих джентльменов, фермер из Хемпшира, спросил, заключается ли, по мнению предыдущего оратора, эта отличительная особенность в самом создании этих блестящих сообществ (в таком случае необходимо определить, почему именно человек создает цивилизацию), если же этот признак гомосексуализм, то в этом последнем случае он, к сожалению, должен сообщить уважаемому полковнику Стренгу, что однополая любовь нередко встречается у уток как среди самцов, так и среди самок. По его мнению, добавил он, комиссия ни к чему не придет, если будет придерживаться «строго разграниченных» представлений: зоологии, психологии, теологии и т. д. и т. п. Человек — «сложный» комплекс, сказал он. Он существует лишь в своих связях с окружающими его предметами и людьми. Это окружение и определяет его так же, как и он сам определяет это окружение, и это взаимодействие, беспрестанно возобновляемое, и создает постепенно Историю, вне которой ничто не имеет значения. Джентльмен в безукоризненных манжетах оттянул указательным пальцем, на котором сверкал бриллиантовый перстень, туго накрахмаленный воротничок и сказал, что его уважаемый коллега в своем хемпширском замке, видимо, здорово нахватался Маркса. Но если он собирается обратить в марксистскую веру не только членов комиссии, но и весь английский парламент, то пусть запасется терпением. Тут вмешалась маленькая квакерша, тихо прошептавшая, что вовсе необязательно быть марксистом, чтобы рассуждать так, как их коллега, но что его точка зрения, хотя практически она и может показаться правильной, все равно ничего не дает. Так или иначе, придется объяснять, почему подобное взаимодействие не происходит также и у животных. Раз история Человека находится в постоянном изменении, чего нельзя сказать о Животных, значит, существует же что-то особое, присущее только Человеку, что и следует определить. Сэр Кеннет Саммер спросил, не желает ли она изложить свою точку зрения. Маленькая дама ответила, что, конечно, желает, тем более что у нее на сей счет имеется свое особое мнение. Человек, сказала она, единственное в мире животное, способное на бескорыстные поступки. Другими словами, доброта и милосердие присущи лишь Человеку, только ему одному. Старейшина не без сарказма осведомился, на чем основывается ее утверждение о неспособности животных на бескорыстные поступки: разве не сама она только что попыталась доказать, что, возможно, они также познают Бога? Джентльмен-фермер добавил, что его собственная собака погибла во время пожара, бросившись в огонь спасать ребенка. Впрочем, даже доказав, что вышеназванные чувства присущи лишь Человеку, надо еще установить, как правильно указала многоуважаемая леди, источник подобного различия. Взяв слово, джентльмен в накрахмаленных манжетах заявил, что его лично очень мало волнует, будет или нет дано определение Человеку. — Вот уже пятьсот тысяч лет, — сказал он, — люди прекрасно обходятся без таких определений, или, вернее, они не раз уже создавали концепции о сущности Человека, концепции, правда, недолговечные, но весьма полезные для данной эпохи и цивилизации, которую они вознамерились создать. Пусть же действуют так и впредь. Лишь одно имеет значение, заключил он, — следы исчезнувших цивилизаций, иными словами Искусство. Вот что определяет Человека, от кроманьонца до наших дней. Но, — спросила его маленькая квакерша, — неужели вам безразлично, что целому племени, если, конечно, тропи люди, грозит рабство или что из-за каких-то обезьян, если тропи обезьяны, могут повесить невинного гражданина Великобритании? Джентльмен признал, что действительно, с высшей точки зрения, ему это совершенно безразлично. На каждом шагу натыкаешься на несправедливости, и единственное, на что можно рассчитывать, это сократить их до минимума. А для того существуют законы, традиции, обычаи, установившиеся порядки. Главное умело их применять. И поскольку мы не в силах точно установить, что такое справедливость и что такое несправедливость, не так уж важно, будут ли законы чуточку лучше или чуточку хуже. Джентльмен-фермер заметил, что, хотя мысль эта, конечно, спорная, лично он склонен ее принять. Однако он спросил у своего коллеги, может ли тот дать точное определение Искусству. Коль скоро, по его мнению, Искусство определяет Человека, надо раньше определить, что такое Искусство. Джентльмен в накрахмаленных манжетах ответил, что Искусство не нуждается ни в каких определениях, ибо оно единственное в своем роде проявление, распознаваемое каждым с первого взгляда. Джентльмен-фермер возразил, что в таком случае и Человек не нуждается в особом определении, ибо он тоже принадлежит к единственному в своем роде биологическому виду, распознаваемому каждым с первого взгляда. Джентльмен в накрахмаленных манжетах ответил, что как раз об этом он и говорил. Тут сэр Кеннет Саммер напомнил присутствующим, что комиссия собралась не для того, чтобы установить, что Человек не нуждается в особом определении, а для того, чтобы попытаться найти это определение. Он отметил, что первое заседание, возможно, и не принесло ощутимых результатов, но тем не менее позволило сопоставить весьма интересные точки зрения. На этом заседание закрылось. После следующего заседания члены комиссии выходили из зала уже не в столь спокойном состоянии духа. Холеные усы джентльмена в манжетах не смогли скрыть кислой улыбки, кривившей уголки его тонких губ. Старейшина был бледен, щеки его нервически подергивались. И уж не слезы ли блестели за толстыми очками маленькой квакерши? Крупные капли пота выступили на лбу джентльмена-фермера, а полковник Стренг нетерпеливо покусывал свои роскошные белые усы. Церемонно раскланявшись друг с другом, члены комиссии удалились, оставив председателя сэра Кеннета Саммера наедине с сэром Артуром, и тут сэр Кеннет не без тревоги признался судье: — По-моему, сегодня мы сделали еще меньше, чем в прошлый раз. Сэр Артур ответил, что и у него сложилось такое же впечатление. Тогда сэр Кеннет сказал, что его беспокоит мысль, возможно ли вообще при столь непримиримых взглядах членов комиссии прийти к… Сэр Артур возразил, что он лично не считает их точки зрения столь уж непримиримыми, как это может показаться на первый взгляд. Сэр Кеннет ответил, что если даже это мнение несколько оптимистично, он все-таки рад был его выслушать, и в голосе его прозвучало явное облегчение. Хотя, добавил он, он не совсем ясно себе представляет… — В сущности, — заметил тут сэр Артур, — это весьма отрадный признак. — Что?.. Что я не могу себе ясно представить? — Да нет, нет! То, что эти взгляды кажутся несовместимыми. — Весьма отрадный признак? — Конечно. Если бы среди членов комиссии царило единодушие, они бы в два счета состряпали определение. Неужели, по-вашему, такое определение могло бы быть приемлемым? — А почему бы и нет? Время тут вряд ли поможет. — Не спорю. Но определение человека, данное дюжиной британских подданных, незамедлительно пришедших к соглашению, имеет, на мой взгляд, слишком много шансов оказаться определением человека англосаксонской расы. А от нас не этого ждут. — Черт возьми, а ведь вы правы. — Тогда как уже сами расхождения во взглядах ваших уважаемых коллег приведут к тому, что члены комиссии пусть в ходе бурных споров, отбросив все, что их разделяет, — оставят в конечном счете лишь то скрытое зерно, то общее, что есть во всех этих концепциях. — Ваша правда. — Главное, наберитесь терпения. — Да… да… боюсь только, терпения-то мне и не хватит. И действительно, сэр Кеннет не отличался особым терпением. А потому постепенно, от заседания к заседанию, роли их менялись. Все чаще и чаще во время дискуссий сэр Кеннет прибегал к помощи сэра Артура. И вскоре с общего согласия сэр Артур стал фактически руководить работой комиссии. Как раз в это время леди Дрейпер познакомилась с Френсис. Однажды старая леди сказала своей племяннице: — А ты ловко прячешь свою подопечную. Леди Дрейпер знала, что слова ее попадут в цель. — Уж кто-кто, а Френсис не нуждается в опеке! — вскипела племянница. — Тогда почему же ты ее прячешь? — продолжала тетка. — Я ее вовсе не прячу, но я решила… А разве это удобно? — спросила она. — Что именно? — Ну, хотя бы привести ее сюда… Дядя Артур судил ее мужа и, может быть, будет судить его опять… Вот я и спрашиваю, удобно ли… — Но при чем тут я? — Как «при чем»? — Разве я буду судить этого простофилю, ее мужа? — Нет, но все-таки… — Так приведи ее завтра к чаю. Прежде чем принять предложение, Френсис побывала в тюрьме у Дуга и посоветовалась с ним. Почему она вдруг понадобилась этой старой даме? — Непременно пойди, — сказал Дуг. — Ясно, Дрейпер не будет меня судить. Будь у него хоть малейшее сомнение на сей счет, он не согласился бы участвовать в работе комиссии Саммера. Непременно пойди! — повторил он, вдруг воодушевляясь. — Много бы я отдал, лишь бы узнать, что думает Дрейпер, что происходит в комиссии и что из всего этого получится! Через разделяющую их решетку Френсис молча смотрела на мужа. Потом прошептала: — Это ужасно, любимый, но я не смею сказать тебе, о чем я думаю. — Френсис?.. Но почему же, бог мой? — Потому… потому что… во мне происходит такая борьба!. Я прихожу в ужас от собственных мыслей. Да, да, в ужас! Я больна от них. И все-таки не могу не думать. — Френсис, я никогда не видел тебя в таком состоянии. Что с тобой? Ты от меня что-то скрываешь? Френсис совсем по-детски задорно тряхнула светлыми пушистыми волосами. И так же по-детски задорно посмотрела на Дуга блестящими, полными слез глазами. — Ты, наверное, так же запиралась перед отцом, когда в детстве лгала ему, — ласково пошутил Дуг. Она засмеялась, но по напудренному носику скатилась слезинка. — Мне стыдно самой себя, — призналась она. Дуг не настаивал. Он смотрел на нее, и в его улыбке Френсис прочла такую доверчивую нежность, что вслед за первой скатилась вторая слеза. И, шмыгнув носом, как маленькая девочка, она удержала третью. И снова засмеялась: — Тебя это забавляет, но если бы ты только знал… — Что же, — сказал Дуг, — я сейчас узнаю. И все-таки она никак не могла решиться. — Я вовсе не такая сильная, как ты считаешь, — сказала она наконец. — Нет, сильная! — Да… но не такая, как ты считаешь. — Ну полно, — успокоил ее Дуг. Она смотрела на него через разделяющую их решетку. Ош смотрела на него. Она смотрела на его доброе, чуть побледневшее лицо под шапкой рыжеватых волос. — Нет, не могу, — проговорила она с душераздирающим вздохом. — Это так… так не к месту! Но тебе будет еще тяжелее, если ты не скажешь мне. — Конечно. — Тогда я сам скажу тебе, в чем дело, — промолвил Дуг. Она открыла глаза и рот, совсем как золотая рыбка в аквариуме. — Ты перестала верить в мою правоту, — очень серьезно сказал он. — Что ты говоришь! — закричала Френсис. Обеими руками она схватилась за решетку, словно собиралась вырвать ее. — Не смей, никогда не смей так думать. О Дуг, обещай мне..! Никогда! — снова крикнула она. — От всего сердца обещаю, — сказал Дуг со вздохом облегчения. — Никогда! — Ты знаешь, я всегда буду по-прежнему тебя любить и восхищаться тобой, что бы нислучилось, даже если они захотят… если только… они посмеют… утверждать, что ты… Я своими руками сплету шелковую лестницу, — сказала она, улыбаясь, — и передам ее тебе в пироге. Я убегу вместе с тобой. Спрячу тебя в пещере. Я смогу пойти даже на убийство, лишь бы защитить тебя… Ты ведь это знаешь? — Знаю. Но?.. Френсис молчала. Дуг повторил мягко, но настойчиво: — Но? — Но все-таки это будет уже не то, — прошептала она тихо, однако он расслышал. — Что же изменится? — Я буду любить тебя так же сильно, но любовь моя… уже не будет… такой… такой кристально чистой. — Ты… ты тоже будешь считать меня… убийцей? В ответ она лишь утвердительно кивнула головой. Дуг замолчал, ему требовалось время, чтобы все понять. — Странно, — произнес он наконец. И он с веселым любопытством посмотрел на Френсис, будто она сказала ему что-то очень забавное. — А вот я нет, — добавил он. Лицо Френсис вспыхнуло огнем надежды и ожидания. — Ты нет? Нет? Даже если тропи — люди? — Даже, — ответил Дуг. — Я не смогу тебе объяснить сейчас, но я уверен, что бы там ни говорили, я знаю, что убил всего лишь звереныша. Может быть, потому, что… в общем… ну вот, если бы… если бы во время войны я убил немца из Восточной Пруссии, и мне вдруг говорят: «Да, но, видите ли, теперь это польские земли — значит, вы убили нашего союзника». Но ведь я-то знаю, что это не так. Френсис задумалась. — Нет, это не одно и то же, — вздохнула она. Не поднимая глаз, она медленно покачала головой. — Твой немец был сперва одним, потом другим. А твой маленький тропи… он не был ничем. Он и сейчас еще ничто. Вот когда решат, кем он был, тем он тогда и будет. И вдруг ее словно волной подхватило. — Не могу больше этого выносить!.. — закричала она. — Ничего не смогу с собой поделать… если только решат… если только выяснится, что тропи люди… все равно я никогда не смогу отделаться от этой мысли… Я понимаю, что это возмутительно, условно до глупости, раз… раз сам ты не изменишься. Ведь ты, ты останешься точно таким же, но, несмотря на все… от того, решат ли люди, что ты убил обезьяну или человека, все изменится, и я… я при всем желании не смогу заставить себя думать иначе, чем они!.. — Знаешь, это даже хорошо. — Хорошо? — Да… хотя мне самому еще тоже не все ясно и я, пожалуй, не сумею объяснить тебе толком, о чем я подумал. Но, во-первых, это доказывает… доказывает, что убийство как таковое не существует. То есть не существует само по себе. Поскольку все зависит не от того, что я сделал, а от того, что по этому поводу решат люди, и в том числе я и ты. Люди, Френсис, только люди. Род человеческий. И мы так глубоко солидарны с ним, что невольно думаем так же, как и он… Мы не в состоянии думать иначе, ведь только он может решить, что мы такое: я, ты — мы все. И мы решим это сами для нас одних — не заботясь о вселенной. Вероятно, именно поэтому я сказал «хорошо». Остальное, право же, не так уж важно. Я знаю, мне будет очень тяжело, если твоя любовь ко мне потеряет, как ты говоришь, свою кристальную чистоту… Но, в конце концов, мне следовало это предвидеть. — Дуг, любимый… — начала Френсис, но к ним подошел надзиратель. Свидание окончено! — сказал он. И пришлось отложить до следующей встречи то, что она собиралась сказать.* * *
Трудно решить, в какой мере изменились или определились взгляды сэра Артура Дрейпера благодаря своеобразным флюидам, которые возникли между ним и Дугом через посредство обеих женщин. Отдавал ли он сам себе в этом отчет? Во всяком случае, Френсис, как и желал того Дуг, находилась в курсе всего, что происходило в комиссии от заседания к заседанию, и передавала все новости Дугу. Затем она сообщала леди Дрейпер о том, как воспринимал ее рассказы заключенный. Старая леди на досуге размышляла обо всем услышанном и за завтраком допрашивала сэра Артура. — Вы намерены пойти сегодня в комиссию? — Конечно. — Долго ли еще будут эти глупые улитки с вашего дозволения ощупывать друг друга рожками? — Но не могу же я их подгонять, дорогая. — На днях Дуглас говорил своей жене, что на суде после выступления капитана Троппа его как будто осенило. А возможно, после выступления профессора Рэмпола, не помню точно. — А может быть, после выступлений их обоих? — Может быть. Френсис говорила мне, но я ничего не поняла. — Однако оба ученых сказали то же, что и вы: у людей есть амулеты, а у животных их нет. — Конечно. Ну и что же из этого? — Полагаю, что Темплмор извлек из этой мысли кое-какие выводы. — А вы? — И я тоже. — Такие же, как и он? — Вполне вероятно. — Какие именно? Сэр Артур задумался. Как далеко сможет его супруга следовать за ходом его мыслей? Вернее, даже предвосхищать их, подумалось ему, и, так как он не забыл, что именно ее слова дали первый толчок его размышлениям, он пояснил: — Отсюда вытекают два положения, взаимно дополняющие друг друга: «Ни у одного вида животных нельзя обнаружить, пусть даже в самом зачаточном состоянии, признаков отвлеченного мышления. Ни у одного даже самого отсталого племени нельзя не обнаружить, пусть даже в самом зачаточном состоянии, признаков отвлеченного мышления». Не в этом ли кроется основное отличие? — Но, — воскликнула леди Дрейпер, — ведь это то же самое, как если бы сказать: «Нет такого вида среди животных, который обращался бы к услугам парикмахера. И нет такого племени, которое не обращалось бы к услугам парикмахера (какого, это уже дело другое!)». Следовательно, человека от животного отличает то, что человек обращается к услугам парикмахера? — И это было бы не так уж глупо, как может показаться на первый взгляд, — ответил сэр Артур. — Развив вашу мысль, можно прийти к выводу, что человек заботится о своей внешности, а животное нет. Другими словами, можно свести все это к понятиям ритуала и красоты: понятиям вполне отвлеченным. Видите ли, все сводится к тому же: человек задается различными вопросами, а животное — нет… — Как знать! — возразила леди Дрейпер. — Тогда давайте скажем так: человек, видимо, задается различными вопросами, а животное, видимо, не задается ими… Или еще точнее: наличие признаков отвлеченного мышления доказывает, что человек задается различными вопросами; отсутствие же этих признаков, видимо, доказывает, что животное ими не задается. — Но почему же? — спросила леди Дрейпер. — Потому что отвлеченное мышление… Но, моя дорогая, вы не находите, что это ужасно скучная тема для разговора? — Мы же одни, — заметила леди Дрейпер, улыбаясь. — И все-таки это ужасно скучно. — Ну что же, попрошу Френсис мне объяснить. А что думают по этому поводу ваши улитки? — Они еще не добрались до таких вопросов. — Почему же вам тогда не пригласить к себе Рэмпола или капитана Троппа? — Право, — воскликнул сэр Артур, — вас осенила гениальна мысль! Когда Рэмпол и Тропп, закончив свои выступления, удалились, старейшина воскликнул: — Разве я был не прав? Они сказали то же, что и Уэсли! — С чего вы взяли? — спросил джентльмен в манжетах. — Именно молитва отличает человека от животного. — Лично я ничего подобного не слышал! — Имеющий уши… — начал было старейшина. — Я слышал как раз обратное. Рэмпол сказал: «Ум человек способен за внешней формой предметов улавливать их сущность. А у животных ум не улавливает даже внешней формы, он не идет дальше ощущений». — Но Тропп опроверг это положение! — воскликнул старейшина. — Вспомните только макаку Верлена: она отличала треугольник от ромба, ромб от квадрата, кучку в десять бобов от кучки в одиннадцать! — Возможно, мне удастся внести ясность, — мягко сказал сэр Артур. Сэр Кеннет попросил судью примирить противоположные точки зрения. — Сравнивая ум человека и ум животного, — начал сэр Артур, — профессор Рэмпол, в общем, говорил нам не столько о количественном различии, существующем между ними, сколько о качественном. Он утверждал даже, что так всегда происходит в природе: небольшое различие в количестве может вызвать неожиданные перемены, полное изменение качества. Например: можно в течение некоторого времени нагревать воду, но она по-прежнему будет оставаться в жидком состоянии. А потом в определенный момент одного градуса будет достаточно, чтобы из жидкого состояния она перешла в газообразное. Не то же ли самое произошло и с интеллектом наших пращуров? Небольшое, может быть, совершенно незначительное количественное изменение мозговых связей заставило его совершить один из тех скачков, которые определяют полное изменение качества. Так что… — Пагубнейшая точка зрения, — прервал его джентльмен в манжетах. — Простите? — Я читал нечто подобное в… уже не помню где… Но, в конце концов, это же чистейший большевистский материализм. Один из трех законов их диалектики. — Профессор Рэмпол, — внес поправку сэр Кеннет, — племянник епископа из Кру. Жена его — дочь ректора Клейтона. Мать ректора — подруга моей матери, а сам сэр Питер — примерный христианин. Джентльмен подтянул манжеты и с подчеркнутым интересом стал рассматривать потолок. — Профессор Рэмпол, — продолжал сэр Артур, — указал, в чем именно заключалось это качественное изменение: разница между мышлением неандертальского человека и мышлением человекообразной обезьяны, вероятно, была количественно невелика. Но, надо полагать, в их отношениях с природой она была поистине огромной: животное продолжало бездумно подчиняться природе, человек же вдруг начал ее вопрошать. — Да это же… — воскликнули одновременно старейшина и джентльмен в манжетах, но сэр Артур не обратил на них внимания. — А для того, чтобы спрашивать, необходимо наличие двоих: вопрошающего и того, к кому обращены вопросы. Представляя единое целое с природой, животное не может обращаться к ней с вопросами. Вот, на мой взгляд, то различие, которое мы пытаемся определить. Животное составляет единое целое с природой. Человек не составляет с ней единого целого. Для того чтобы мог произойти этот переход от пассивной бессознательности к вопрошающему сознанию, необходим был раскол, разрыв, необходимо было вырваться из природы. Не здесь ли как раз и проходит граница? До этого разрыва — животное, после него — человек? Животные, вырвавшиеся из природы, — вот кто мы. Несколько минут прошло в молчании, которое нарушил полковник Стренг, прошептав: — Все это не так уж и глупо. Теперь мы можем объяснить гомосексуализм. — Мы можем теперь объяснить, — проговорил сэр Артур, — почему животные не нуждаются ни в мифах, ни в амулетах: им неведомо их собственное невежество. Но разве мог ум человека, вырвавшегося, выделившегося из природы, не погрузиться сразу же во мрак, не испытать ужаса? Он почувствовал себя одиноким, предоставленным самому себе, смертным, абсолютно невежественным — словом, единственным животным на земле, которое знает лишь то, что «ничего не знает», не знает даже, что оно такое. Как же ему было не выдумывать мифы о богах или духах, чтобы оградиться от своего невежества, идолов и амулетов, чтобы оградиться от своей беспомощности? И не доказывает ли как раз отсутствие у животных таких извращающих действительность измышлений, что им неведомы и страшные вопросы? Присутствующие молча смотрели на оратора. — Но тогда, если человек — разумный человек и история человечества обязаны своим появлением этому отрыву, этой независимости, этой борьбе, этому отделению от природы, если, для того чтобы животное стало человеком, ему необходимо было сделать этот мучительный шаг, то как, по какому признаку, наконец, мы можем понять, что шаг этот сделан? Ответа на его вопрос не последовало.Глава шестнадцатая
Каким образом твердый кристалл превращается в медузу. Законная тревога Дугласа Темплмора. Судья Дрейпер возмущается, но затем уступает. Уместное замечание профессора Рэмпола помогает вовремя решить щекотливый вопрос. Почетная традиция обойдена вторично. Английские текстильщики торжествуют. Когда Дуглас узнал, что предложение судьи было встречено враждебным молчанием и что лорд-хранитель печати снова вызывал судью в свой клуб, им овладело глухое беспокойство. — Они провалят все дело, — сказал он Френсис, не скрывая волнения. — Кто? — Да эти политиканы, — ответил Дуг. — Знаю я их. Самый твердый кристалл они способны превратить в медузу. В это самое время сэр Артур в обществе лорда-хранителя печати пил старое виски в маленьком кабинете Гаррик-клаба, обставленном креслами мореного дуба с сафьяновой обивкой. — Вы их здорово взбудоражили, — сказал министр. — Это я и сам понимаю. Но мне не совсем ясно, что именно их волнует. — По их словам, вы проповедуете бунт. — Каким образом? — Им не слишком нравится сама мысль, что человек отличается от животного тем, что он противопоставляет себя природе. Как это вы говорите? Вырывается из природы? — Но ведь мне никто не возражал. — Возможно, и все-таки эта мысль им не по душе. — Дело вовсе не в том, по душе она им или нет. — Быть может, они не сумели сразу найти нужный ответ. Но мне кажется, они вправе были вам сказать: «В действительности мы вовсе не вырвались из природы. И не вырвемся из нее никогда. Мы всегда будем составной ее частью. Каждая клетка нашего тела восстает против подобной мысли!» — Ну и пусть себе восстает. Я никогда этого не отрицал. — Знаю… Однако… — Мы вырвались из природы точно так же, как тот или иной человек отделяется от толпы: от этого он не перестает быть человеком, но зато может теперь смотреть на толпу извне, избавиться от ее воздействия и разобраться во всем беспристрастно. — Конечно, конечно, хотя, видите ли, это звучит несколько двусмысленно… И потом… вас также могут упрекнуть… ведь вы рассматриваете природу как нечто чуждое нам, почти враждебное? Но что бы мы делали, что бы с нами, без нее стало? — Почему враждебное? Это слово имеет смысл только для человека, оно неприменимо к самой природе. — Не спорю, но все это звучит также неубедительно. Принялось бы давать слишком много объяснений… Парламентское большинство никогда не согласится с подобными идеями… Удивительно уж и то, что под тяжестью фактов наши славные парламентарии, которым внушает ужас даже само слово «определение», пошли на создание специальной комиссии. Так не осложняйте их и без того грудную задачу. Поймите, в чем дело, дорогой мой. Возможно, вы и правы, не знаю, решать такие вопросы мне не по силам. Но в глазах парламента вы допускаете ошибку, в этом можно не сомневаться. Судья с подчеркнутым спокойствием отхлебнул большой глоток виски. — Вот если бы мы, — продолжал министр, — сумели ему предложить… с соответствующими комментариями, конечно… определение… которое никого бы не шокировало и всех бы устраивало… — Что вы имеете в виду? Министр с минуту молча смотрел на судью и затем произнес: — Религиозный дух. Судья онемел. — Я виделся с председателем, не давая ему опомниться продолжал министр. — Вся комиссия согласна. Даже этот слегка фашиствующий молодой человек. Как там его зовут? Конечно, эти понятия надо взять в самом широком смысле слова. Религиозный дух подразумевает и способность абстрактно мыслить, и способность исследовать, и жажду истины и прочее. Это понятие включает не только веру, но и науку, искусство, историю и даже колдовство, магию — словом, все что угодно. В общем то же самое говорите и вы. Только в несколько ином изложении. — И надо сказать, — воскликнул судья, — в изложении чертовски двусмысленном. Все это пустые слова, при желании их можно истолковать в противоположном смысле. Министр улыбнулся. — Это… хм… это как раз и удобно… — Но в таком случае какую пользу принесет подобное определение? Вы ведь сами, господни министр, вспоминали о Нюрнбергском процессе. Вы ведь сами хотели, чтобы была найдена солидная база, на которой бы строилось неопровержимое право людей, религиозный дух! Неужели вы надеетесь, что та же Россия согласится с подобным определением, какими бы комментариями мы его ни снабдили? Это все равно, что нам бы предложили принять, как универсальное, определение Энгельса, которое, право же, не менее точно! Пошли бы мы на это? — Дорогой мой, — возразил министр, в порыве страсти вы говорите как римский правовед. Теоретически вы, может быть, тысячу раз правы. Но практически быть правым в политике еще ничего не значит, и вы это сами отлично понимаете. Мы должны срочно решить некий вопрос. Этот вопрос не имеет международного значения, он касается лишь племени тропи и нашей текстильной промышленности. Наличие религиозного духа, как я вам уже творил, — предложение, вполне приемлемое для большинства членов английского парламента. Предложение неполное, согласен. Но ошибочно ли оно? Нет. Оно дает нам возможность проверить на практике, произошло ли с тропи именно то, о чем вы говорите, то есть вырвались ли они из природы, стали ли независимыми, противопоставили ли себя ей и так далее и тому подобное. Не так ли? — Да… Но как раз… А вдруг у тропи не окажется ни малейшего признака религиозного духа, тогда что? Они не носят даже амулетов… — По-моему, эта сторона дела не должна нас беспокоить… Всему свое время. Я виделся также с профессором Рэмполом. У него, если не ошибаюсь, есть замечания весьма разумные. Возможно, они помогут решить этот вопрос немедленно. А если мы предложим парламенту определение, не спорю, куда более полное, менее двусмысленное, но которое вызовет бесконечные дискуссии, поправки, отклонения sine die [26], мы никогда не добьемся положительного результата. Да и пользы это никому не принесет: ни тропи, ни обвиняемому, ни британскому правосудию, ни даже правам человека. Вспомните-ка пословицу: «Для того чтобы приготовить рагу из зайца, надо иметь зайца». Не следует ускорять события, поверьте мне. Удовольствуемся тем, чего можно добиться сейчас. Остальное придет в свое время. Доказательством тому вся история Англии. Предсказание лорда-хранителя печати оправдалось. На основании доклада комиссии Саммера, после небольших поправок парламент принял статьи следующего закона: Статья I. Человека отличает от животного наличием религиозного духа. Статья II. Основными признаками религиозного дух являются (в нисходящем порядке): Вера в Бога, Наука, Искусство во всех своих проявлениях; различные религии; философские школы во всех своих проявлениях; фетишизм тотемы и табу, магия, колдовство во всех своих проявлениях; ритуальное людоедство в его проявлениях. Статья III. Всякое одушевленное существо, которое обладает хотя бы одним из признаков, перечисленных в статье II, признается членом человеческого общества, и личность его гарантируется на всей территории Соединенного Королевства всеми законами, записанными в последней Декларации прав человека. Как только закон был принят голосованием, один интерпеллянт, известный своими связями с крупной текстильной промышленностью, запросил парламент о дальнейшей судьбе тропи. Ему ответили, что, по мнению правительства, этот вопрос не может рассматриваться сейчас в парламенте, ибо подобное обсуждение оказало бы незаконное давление на еще не законченный судебный процесс. Но интерпеллянт решительно выступил против такой точки зрения. Он спросил: «В том случае, если бы Шотландия, подобно Ирландии, решила отделиться (вещь, конечно, невообразимая) сформировала бы временное правительство и объявила себя независимой, отказался бы парламент рассматривать шотландский вопрос лишь на том основании, что в Эдинбурге не окончен еще процесс некоего мистера Макмиша, обвиняемого в оскорблении королевской власти, хотя было бы ясно, что решения, принятые за или против независимости Шотландии, могли бы значительно повлиять на судьбу уже упомянутого Макмиша?» Он сказал далее, что убийство одного из тропи и законный статут племени тропи — совершенно разные вещи и зависят они друг от друга не более, чем судьба Соединенного Королевства от процесса какого-то шотландца. Что, напротив, парламент обязан решать этот вопрос в первую очередь с точки зрения гуманности и лишь потом — с точки зрения экономической и национальной. Депутат оппозиции ответил ему, что такое разделение было бы необоснованным и искусственным. Нельзя, заявил он, сравнивать второочередной вопрос о статуте племени тропи, фактически полуживотного, с обсуждением вопроса о единстве Королевства, не терпящим отлагательств. К тому же, спросил он, разве может к чему-нибудь обязать Австралию или Новую Гвинею статут тропи, принятый в Лондоне? Но интерпеллянт напомнил, что Великобритания не раз заставляла считаться со своим мнением не только доминионы, но и иностранные государства, когда там слишком явно попирался принцип гуманности. Что же касается срочности решения вопроса, заявил он далее, то разве может благородный человек считать спасение целого племени от рабства, которым ему открыто угрожают, второочередным вопросом? После оживленной дискуссии было единогласно решено просить комиссию Саммера продолжить работу со специальной целью изучения вопроса о тропи. Однако было оговорено, что принятие статута тропи ни в коем случае не должно входить в компетенцию лондонского парламента. При случае он лишь выработает «проект» и представит его на рассмотрение в ООН, а также правительствам Австралии и Новой Гвинеи.* * *
Комиссия, в состав которой вошел в качестве эксперта по вопросу психологии примитивных народов сэр Питер Рэмпол, по очереди выслушала мнение Крепса, Диллигена, Вилли, супругов Грим и прочих антропологов, имевших возможность наблюдать поведение тропи со времени их прибытия в Лондон. Поначалу казалось, что у тропи невозможно обнаружить ни малейших признаков религиозного духа. Не говоря уже об искусстве и науках, у них не было ни идолов, ни амулетов, ни татуировки, ни танцев, ни каких-либо других ритуальных обрядов. Правда, они хоронили своих мертвецов, но точно так же, как хоронят их многие виды животных, большинство из которых зарывают даже свои экскременты, инстинктивно избегая опасности гниения или просто стараясь уничтожить свои следы. Никаких погребальных обрядов у тропи заметить не удалось. К людоедству у них не оказалось ни малейшей склонности. Они никогда не поедали друг друга и не пытались с этой целью похитить или заманить человека. Они не покушались даже на носильщиков-папуасов, к которым сразу же почувствовали антипатию. Выслушав эти неутешительные показания, комиссия поручила сэру Питеру Рэмполу совместно с сэром Артуром тщательно изучить их и постараться, если возможно, обнаружить более обнадеживающий признак. Сэр Кеннет в достаточно туманных выражениях дал понять психологу, что было бы крайне желательным обнаружить подобный признак конечно, не в ущерб истине. На следующем заседании сэр Питер заявил, что, внимательно изучив сообщения ученых-антропологов, они с сэром Артуром пришли к весьма важному выводу. — Мы имеем в виду, — сказал он, — каннибализм. Людоедство, даже в тех редких случаях, когда целью его является утоление голода или гурманство, есть не что иное, как ритуальный обряд. К сожалению, у тропи не удалось обнаружить никакой склонности к людоедству. К счастью, папуасы не проявили по отношению к ним такой же сдержанности: они не раз устраивали тайные пиршества, на которых ели мясо тропи. Обращаем ваше внимание на тот факт, что все эти пиршества; происходили втайне. А раз они происходили втайне, папуасы, видимо, либо вообще хотели скрыть это обстоятельство от белых, либо сохранить от белых в тайне обряды и церемонии, сопровождающие их ритуальные пиршества. Естественно, папуасы не принимали бы таких предосторожностей, если бы собирались полакомиться просто дичью. Следовательно, тропоедство было для них ритуальным пиршеством и ели они не мясо животных, но мясо людей. Тут сэр Питер сделал эффектную паузу, а затем продолжал: — Это лишь симптом. Мы, безусловно, не имеем оснований доверять инстинкту папуасов больше, нежели наблюдениям, которые в течение полугода вели над тропи наши виднейшие ученые. Но в то же время мы не можем и не считаться с инстинктами папуасов. Мы должны принять их в расчет, поскольку это инстинкты людей, которые по психологии своей гораздо ближе нас с вами к первобытным людям и благодаря этому могут скорее, чем мы, уловить в другом существе признаки примитивного мышления. Я думаю, следовательно, что мы с вами проглядели у тропи какой-то, пусть зачаточный, признак религиозного духа, который однако, не ускользнул от внимания папуасов. Мы с сэром Артуром догадываемся, в чем дело. Но для окончательного подтверждения нам необходимо уточнить некоторые уже заслушанные показания. Он добавил, что надеется получить эти сведения в первую очередь от своего уважаемого собрата, геолога Крепса. — Действительно, этот профессор, сказал сэр Питер, — имел возможность наблюдать тропи со всей пунктуальностью ученого и в то же время без предубеждений зоолога или антрополога. Ни одно показание, — заверил он, не может быть более объективным. Во время следующего заседания присутствующие снова выслушали Крепса. Сэр Питер спросил ученого, делали ли папуасы в своих набегах на тропи различие между теми, кто жил в скалах, и теми, кто жил в «загоне». Крепе ответил, что папуасы охотились исключительно на тропи, живущих в скалах. Факт достаточно характерный, заявил он, так как прирученные тропи находились буквально под боком. Они жили почти без присмотра со стороны белых, и папуасам, особенно в первое время, была предоставлена полная свобода действий. Сэр ГІитер спросил далее, много ли копченого мяса обнаружили в гротах члены экспедиции, когда впервые поднялись на скалы. Крепс ответил, что мяса там было обнаружено очень немного. — Мы полагали, — заметил сэр Питер, — что тропи коптили его с целью сохранить на более долгий срок. Такого же мнения сначала придерживались и мы. Но потом убедились, что тропи не делали запасов. Когда у них возникала нужда в свежем мясе, они охотились и тут же съедали убитую дичь. — А вы уверены, что они коптили сырое мясо? — Абсолютно уверен, ответил Крепе. — Нам ни разу не удаюсь заставить тропи хотя бы просто попробовать вареное мясо. Оно вызывает у них отвращение. Сырое же мясо их самое любимое блюдо. — Но если они такие любители сырого мяса, то в таком случае зачем они коптят его, ведь впрок они его не оставляют? — Откровенно говоря, я и сам этого не понимаю. Здесь действительно какая-то загадка: тропи, живущие в скалах, не желают взять в рот мяса, которое не провисело над огнем хотя бы день. То же самое они проделывали даже с ветчиной, которую мы им давали, как будто хотели удостовериться, что она тоже прокопчена по всем правилам. Что же касается тропи из «загона», то они жадностью поедали предложенное им сырое мясо, ни о чем не тревожась. — И вы из этого не сделали никаких выводов? — Видите ли, — сказал Крепе, бывает, что, попав в неволю, животные быстро утрачивают свои прежние инстинктивные привычки, свойственные им в диком состоянии. — И все-таки кое-какие факты действительно могут показаться странными, особенно если их сопоставить, — сказал сэр Питер. — Во-первых, тропи предпочитают сырое мясо. Во-вторых, тропи, обитающие в скалах, вопреки своему пристрастию, коптят его, однако не с целью запаса впрок. В-третьих, прирученные тропи сразу же изменяют своим привычкам. В-четвертых, папуасы-каннибалы охотятся за первыми и не обращают ни малейшего внимания на вторых. Но ведь вы сами, обратился он к Крепсу, — сказали о прирученных тропи: «Мы собрали самых бездельников»? — Совершенно верно, — с улыбкой подтвердил Крепе. — Поставим себя на место папуасов, продолжал сэр Питер. — Перед ними странное племя — полуобезьяны, полулюди… Одна часть этого племени производит на них впечатление гордецов и свободолюбцев. В некоторых их привычках папуасы справедливо видят нечто гораздо более важное, чем инстинкт или пристрастие, в их глазах это примитивное поклонение огню, признание его магической власти очищения. Другая часть племени, легкомысленная и беззаботная, продает свою свободу за несколько кусков сырого мяса; предоставленная самой себе, она сразу же отказывается от тех обычаев, которым до того следовала не инстинктивно и, уж конечно, не сознательно, а просто из подражания. И наши папуасы не ошиблись: первых они сочли за людей, вторых — за обезьян. Нам кажется, что они на правильном пути. У этого племени, стоящего на границе между человеком и животным, не все особи сумели перешагнуть эту границу. Но мы полагаем, что, если некоторые из них все же перешли грань, мы вправе требовать, чтобы весь вид был принят в лоно человечества. «Впрочем, — признавался он потом в разговоре с сэром Кеннетом, многие ли из нас имели бы право именоваться людьми, если бы нам пришлось перейти эту границу без посторонней помощи?..» Докладом комиссии Саммера устанавливалось, таким образом, что, поскольку у тропи обнаружены признаки религиозного духа, нашедшие свое выражение в ритуальном поклонении огню, они должны быть приняты в человеческую общину. Учитывая состояние крайней дикости, в которой пребывает это племя, говорилось в докладе, необходимо взять тропи под защиту, в частности оградить их от всех посягательств со стороны. Комиссия предлагала выработать особый статут, который Великобритания рекомендовала бы Австралии и Новой Гвинее под контролем ООН. Все эти предложения были приняты подавляющим большинством голосов, и в этот вечер наконец-то облегченно вздохнул огромный клан английских текстильщиков.Глава семнадцатая
Чисто формальный процесс. Присяжные вздыхают с облегчением. Все хорошо, что хорошо кончается. Мрачное настроение Дугласа Темплмора. Френсис черпает надежду в самой безнадежности. Забавные противоречия во взглядах судьи Дрейпера. «Новая эпоха становления». Оптимистические выводы, сделанные в кабачке «Проспект-оф-Уитби». Второй процесс, поскольку страсти уже улеглись, начался в обстановке доброжелательного любопытства к обвиняемому. Теперь, когда все сомнения исчезли, убийство это стало казаться будничным, как и всякое убийство. Обвиняемому дружно желали успеха, так как еще свежа в памяти была та роль, которую он сыграл в эмансипации тропи. Надеялись, что прокурор примет во внимание доводы защиты и что присяжные проявят достаточно снисходительности. Заключались пари о характере будущего приговора. Некоторые заядлые спорщики отваживались ставить даже на полное оправдание. Причем ставки были немаленькие. Леди Дрейпер старалась успокоить Френсис, она никак не могла взять в толк, что ее так угнетает. Новый судья, говорила она, давнишний друг ее мужа. Да и прокурор тоже. Конечно, оказывать на них прямое давление сэр Артур не имеет права. Но он с полуслова понял, каково их отношение к процессу. А оно, судя по всему, было благожелательным. И в самом деле, процесс носил чисто формальный характер. Было вызвано всего два-три свидетеля, так как предполагалось выяснить лишь обстоятельства убийства. Королевский прокурор, как и следовало ожидать, оказался не слишком строгим. Он сказал, что теперь уж нет сомнений в том, что было совершено убийство и что подсудимый виновен. Однако, принимая во внимание причины, толкнувшие его на преступление, равно как и тот факт, что в момент совершения убийства подсудимый еще не знал, кого он убивает — человека или животное, — обвинение не будет протестовать, если присяжные учтут эти смягчающие обстоятельства. Адвокат мистер Джеймсон поблагодарил прокурора за его снисходительность. Но тут же заметил, что тот был не совсем последователен в своих выводах. — Обвинение признает, — сказал он, — что подсудимому в момент совершения убийства не была известна истинная природа жертвы. Но так ли следует ставить вопрос? Мы лично полагаем иначе. Мы полагаем, что в момент совершения убийства жертва еще не являлась человеческой личностью. Он помолчал, а затем заговорил снова: — И действительно, потребовался специальный закон, определяющий человеческую личность. Потребовался также закон, дающий тропи право именоваться людьми. А уж одно это доказывает, что, будут или нет тропи признаны членами человеческого общества, зависело отнюдь не от них: только от нас зависело признать их людьми. Это доказывает также, что не одни только законы природы дают человеку право именоваться человеком: право это должно быть признано за ним другими людьми, для чего он должен пройти через своеобразное испытание, через своеобразный искус. Человечество напоминает собой клуб для избранных, доступ в который весьма затруднен: мы сами решаем, кто может быть туда допущен. Его внутренний устав действителен только для нас одних. Вот почему было столь необходимо найти для него ту законную основу, каковая облегчила бы прием новых членов и позволила установить правила, равно обязательные для всех. Само собой разумеется, что, пока тропи не были приняты в клуб, они не могли участвовать в его жизни, а члены его не были обязаны признавать за ними те привилегии, которые дает принадлежность к клубу. Иными словами, мы не имели права требовать от кого бы то ни было обращения с тропи как с людьми, пока сами не установили, что они достойны так называться. Объявить подсудимого виновным в этих условиях значило бы признать, что закон имеет обратную силу. Это было бы равносильно тому, что после введения правостороннего движения мы стали бы штрафовать водителей, которые до того ездили, придерживаясь левой стороны. Это было бы вопиющей несправедливостью, противоречащей всем нашим юридическим нормам. Вопрос совершенно ясен. Тропи — и этим они обязаны обвиняемому — официально признаны людьми. Они имеют все права человека. Ничто им не угрожает более. Ныне, когда существует официальное определение человека, ничто также не угрожает всем отсталым диким народам. Таким образом, присяжные могут не опасаться, что признание подсудимого невиновным повлечет нежелательные последствия. И нет ни малейшего сомнения, что, признав его виновным, они совершили бы грубейшую ошибку, чудовищную несправедливость. И не только потому, что в то время, когда было совершено убийство маленького тропи, его еще не признали человеческим существом, но и потому (а это главное!), что именно гибель его привела к эмансипации племени тропи и внесла определенную ясность в наше законодательство. Поэтому мы полностью доверяем присяжным и надеемся, что они вынесут мудрый и справедливый приговор. Судья с добродушной улыбкой подвел итог прениям. Оставаясь в рамках спокойного беспристрастия, он сумел дать понять, что здравый смысл на стороне защитника. Присяжные почувствовали подлинное облегчение. Посовещавшись несколько минут, они объявили, что Дуглас полностью оправдан, чем привели публику в восхищение.* * *
Прижавшись друг к другу, Френсис и Дуглас молча сидели в такси, которое увозило их на обед к леди Дрейпер. Глядя на измученное лицо Дуга, Френсис не решалась заговорить первой. Да и что она могла ему сказать? Она слишком хорошо понимала, что в его глазах, так же как и в ее собственных, подобный конец был скорее полупоражением, чем полупобедой. Однако при Дрейперах оба старались держаться как ни в чем не бывало. За столом, как и положено, никто не завел речь о том, что переполняло их сердца все эти дни. Только раз, без всякой связи с процессом, кто-то упомянул имена прокурора и адвоката, сравнив их таланты, но не в ораторском искусстве, а в искусстве играть в крикет. После обеда леди Дрейпер увела Френсис в гостиную, а Дуг и сэр Артур прошли в курительную комнату. — Вид у вас что-то не очень радостный, — дружески сказала леди Дрейпер. — Дуг потерпел поражение, — ответила Френсис. — Артур думает иначе. — Правда? — оживилась Френсис. — Артур очень доволен. Он считает, что достигнуто больше, нежели можно было ожидать. Ну а сама я, дитя мое, смотрю на всю эту историю совсем иначе, чем вы. Дуг свободен — и слава богу! Это главное. Но вообще, зачем ему надо было начинать все это? — Что начинать, Гертруда? — Дамы называли теперь друг друга по имени. — Неужели вы думаете, что тропи будут счастливее, став людьми? Я, например, в этом глубоко сомневаюсь. — Конечно, не станут счастливее, — ответила Френсис. — Вот как! Значит, вы согласны со мной? — Речь идет не о счастье, — сказала Френсис. — По-моему, это слово здесь не подходит. — Жили они, не зная забот, а теперь их, наверное, начнут приобщать к цивилизации? — с ядовитым сочувствием осведомилась Гертруда. — Должно быть, начнут, — ответила Френсис. — И они станут лжецами, ворами, завистниками, эгоистами, скрягами… — Возможно, — согласилась Френсис. — Они начнут воевать и истреблять друг друга… Нечего сказать, мы сделали им прекрасный подарок! — И все-таки подарок, — возразила Френсис. — Подарок? — Да. Прекраснейший подарок. Я тоже, конечно, много думала об этом последнее время. Вначале я очень страдала. — Из-за тропи? — Нет, из-за Дугласа. Его оправдали. Но он все-таки убийца, что бы там ни было. — И это говорите вы? — Да. Он убил ребенка, своего сына. И я ему помогла. И никакие хитроумные доводы ничего не изменят. Сколько ночей я проплакала. Кусала себе пальцы. Вспоминала свои детские годы. У моего крестного был автомобиль. В то время это считалось редкостью. Я восхищалась крестным, обожала его. И вот однажды папа рассказал нам, что крестного на месяц посадили в тюрьму. В узкой улочке дети играли в классы. Он даже не сразу понял, как это случилось, что он раздавил ребенка. Только выйдя из машины, он увидел размозженную головку… Толпа его чуть не растерзала. А ведь он был не виноват. Папа говорил нам: «Он не виноват, любите его по-прежнему». И я любила его по-прежнему. Только с тех пор, когда он приходил к нам, я испытывала ужас… Конечно, я была девчонкой… Я ничего не могла с собой поделать. Сейчас я бы вела себя иначе. И все-таки… когда я думаю о Дугласе… я не могу удержаться… Наверное, я кажусь вам отвратительной, да? — Вы меня просто несколько удивляете, — задумчиво признаюсь Гертруда. — Я и самой себе казалась отвратительной. А потом… Теперь считаю, что все это прекрасно. Мне это объяснил Дуг. Я не все помню. Но, как и он, я чувствую, что это прекрасно. В этом страдании, в этом ужасе — красота человека. Животные, конечно, гораздо счастливее нас: они не способны на подобные чувства. Но ни за какие блага мира я не променяю на их бездумное существование ни этого страдания, ни даже этого ужаса, ни даже нашей лжи, нашего эгоизма и нашей ненависти. — Пожалуй, и я тоже, — прошептала леди Дрейпер и глубоко задумалась. — После процесса, — продолжала Френсис, — нам по крайней мере стало ясно одно: право на звание человека не дается просто так. Честь именоваться человеком надо еще завоевать. И это звание приносит не только радость, но и горе. Завоевывается оно ценою слез. И тропи придется пролить еще немало слез и крови, пройти через раздоры и горькие испытания. Но теперь я знаю, знаю, знаю, что история человечества не сказка без конца и начала, рассказанная каким-то идиотом. «Вот что я должна была сказать Дугу», — подумала Френсис. Она думала также о том, что чем более сомнительны доводы собеседника, тем становятся тебе яснее твои собственные. — Нет, это полное поражение, — с горечью проговорил Дуг, отхлебнув глоток портвейна. — В вас говорит непримиримость молодости, — улыбнулся сэр Артур. — Все или ничего, не так ли? — Но то малое, что сделано, ничего не дает. Да и сделано-то отнюдь не из благородных побуждений! А это еще хуже, чем ничего. — Нет. Дело сделано. И это главное… Вам представился прекрасный случай посмеяться надо мной, — добавил он, сдерживая насмешливую улыбку. — Не понимаю почему? — Вам бы следовало послушать мой спор с лордом-хранителем печати. Я говорил ему как раз обратное. — Вы изменили свое мнение? — Ничуть. И в этом-то самое забавное. С ним я рассуждаю, как вы. С вами — как он. Знаете, из всего этого можно извлечь весьма ценный урок. — Интересно знать какой. — Не помню уж, кому принадлежат эти слова, — сказал судья: — «Было бы слишком прекрасно умереть за абсолютно правое дело!» Но ведь на свете таких «абсолютно правых дел» не существует. Даже в наиболее правом деле справедливость играет лишь второстепенную роль. Чтобы поддержать его, необходимы как раз те самые соображения, которые вы называете неблагородными. Почему это так, нам с вами отныне вполне понятно: человеческий удел двойствен в самой своей основе, не с нас эта двойственность началась, и мы постоянно пытаемся бороться против нее. В этой борьбе, даже в тех падениях и поражениях, без которых она немыслима, — величие человека. — Что вы советуете мне теперь делать? — спросил его Дуглас. — Ну, конечно, продолжать, старина, — ответил судья. — Продолжать? Неужели, по-вашему, я должен убить еще одного тропеныша? Бог мой! Конечно, нет! — расхохотался сэр Артур, утирая слезы, выступившие у него на глазах. Конечно же, нет! Я имел в виду вашу профессию, вы, надеюсь, помните, что вы как-никак писатель? Он с улыбкой протянул кипу газет, в них синим карандашом были отмечены места, представляющие интерес для Дуга. Это были отклики на опубликованную в «Таймс» статью сэра Артура, комментирующую официально принятое в Соединенном Королевстве определение человеческой личности. Все газеты дружно нападали на данное определение. Но иного никто не предлагал. И точек зрения, с которых критиковался новый закон, было больше, чем летом цветов на лугу. Один из французских парламентариев в своем интервью, данном корреспонденту газеты относительно нового закона, заявил, что он-де «слишком хорошо относится к своим британским коллегам, чтобы вообще распространяться на эту тему». Его ответ рассмешил Дуга. — Ну и злобный тип! — произнес он. — Куда честнее прямо сказать, с чем он не согласен. — Он, вероятно, не в состоянии этого сделать, — заметил судья. — Почему же? — Именно это я и пытаюсь объяснить в своей статье. Уже одно существование различных мнений яснодоказывает, что нам пока не дано знать истины (иначе не было бы поводов для разногласий), и все же, несмотря ни на что, мы стремимся найти эту истину (иначе о чем нам было бы спорить?). А ведь именно это в конечном счете и выражает закон при всей своей неполноте и двойственности. Стоит только начать спор, как наталкиваешься на неразрешимые противоречия. — И вы думаете, ваш французский коллега понимает все это? — Нет. Чаще всего, как вы сами убедитесь, разногласия вытекают из соображений чисто эмоционального характера, а иногда просто из предрассудков. Они, и это вполне закономерно, не опираются и не могут опираться на логические доводы. Но человеческий ум очень ловко обходит то, что его стесняет. «…B свое время Маркс и Энгельс доказали, — прочитал Дуг в „Уэлш уоркер“, — что человека от животного отличает его способность преобразовывать природу. Наши уважаемые парламентарии, которых трудно назвать коммунистами, потратили немало сил, чтобы в конце концов прийти, правда другим путем, к тому же самому выводу. Отдадим должное их доброй воле, но укажем по-дружески, что, приняв подобное определение, они открывают путь опасным заблуждениям». Но и здесь тоже ничего не объясняется, — заметил Дуг. «Само понятие религиозного духа, писал другой обозреватель, — взятое в широком смысле слова, может оказаться полезным и плодотворным. Но, коль скоро оно легло в основу закона, вынесенного политическим органом, оно не имеет в наших глазах никакого значения». — Ну, это уж слишком! — вскричал Дуг. — Ведь нужно просто решить, достаточно ли полно это определение, справедливо оно или нет. Какое отношение к делу имеет то, от кого оно исходит? — Не волнуйтесь, — успокоил его сэр Артур. Согласен, это нечестно, но кто из нас без греха? Но Дуг уже весело смеялся, читая третью статью: «В крайнем случае, мы могли бы согласиться с тем, чтобы данное определение базировалось на понятии религиозного духа, если бы понятие это было взято лишь в его христианском значении, но…» Отложив газету, Дуг произнес без улыбки: — Да, случай безнадежный. — Вовсе нет, — ответил сэр Артур. Вы подумайте только, что бы творилось сейчас, если бы мы попытались немедленно добиться более полного определения, в основу которого были бы положены отход, отказ, борьба окончательный отрыв от природы. — Такого определения никогда не добиться, вздохнул Дуг. — Почему же? Если только оно справедливо, его рано или поздно добьются, — возразил сэр Артур. — Истине — и это вполне понятно — не так-то легко одержать победу. Но в конце концов она торжествует. Впрочем, быть может, не в этом главное. — Но в чем же оно, черт возьми? — Главное в том, дружище, что сделали вы сами, сказал сэр Артур. — Вы вселили беспокойство в души людей. Вы ткнули их носом в совершенно непонятный пробел, существующий миллионы лет. Кто это из французов писал недавно: «Мы должны заново пересмотреть все наши представления. Началась новая эпоха становления». Вы показали, что это действительно так, что до сих пор все строилось на песке. Осознав это, мы постарались на скорую руку, по мере сил своих, заполнить существующий пробел. В будущем это надо сделать лучше и полнее. Не все сразу пойдет как по маслу. Но вы стронули с места машину, а такую громадину уже не остановить. На закуску сэр Артур предложил Дугу статью, напечатанную в литературном журнале «Гаргойл». «Давно пора, — писал автор, известный своими исследованиями в области лингвистики, — давно пора покончить с этой глупой историей; я имею в виду — с тропи. Поистине жалкое зрелище являли собой наши лучшие умы, тратившие свои силы (и время) на эти лженаучные, никому не нужные проблемы, связанные с определением человека! Благодарение Богу, отныне с этими проблемами покончено, и, надо надеяться, навсегда. Обратимся, господа, к вещам куда более серьезным. Недавно вышел в свет совершенно необычный (автобиографический) роман, который даст вам более глубокий материал для размышлений. Настоятельно рекомендую этот роман вашему вниманию. В книге показано, как в психологии автора (пожелавшего остаться неизвестным) вскоре после того, как подростком он задушил свою мать с целью грабежа (или изнасилования), слова вдруг претерпевают магические изменения, приобретают значение ритуала. Автор, опоив читателя дурманящим напитком своего поистине неслыханного словаря, водит его по лабиринту сногсшибательных непристойностей, где после каждого поворота, окончательно сбившись с пути, мы обнаруживаем в некоей многозначительной мистификации во всей его остроте смысл нашего существования. Естественно предположить, что человеческая личность определяется в результате именно этой изнуряющей погони за неуловимыми мифами. В противном случае как объясним мы…» Дуг поднял голову. Усталость, омрачавшую его лицо, как рукой сняло. Он дружелюбно и весело посмотрел на сэра Артура. Заглянув в курительную, Гертруда и Френсис с удивлением увидели, что их мужья от души смеются. И вдруг Дугласу ужасно захотелось отвезти своих друзей, хотя бы на час, в кабачок «Проспект-оф-Уитби», в его толчею и клубы дыма, где музыка, песни, знаменитая коллекция — ссохшаяся голова индейца, причудливые напоминания о морских путешествиях, свадьбах, кораблекрушениях, коммерческих сделках, игре, приключениях — все прославляло радостную любовь людей к этому раскрепощенному миру, который они создали для себя и по своему подобию. Мулен-дез-Иль Ноябрь 1951 года
Сильва (Перевод Ирины Волевич)
Часть первая
I
Моя фамилия Ричвик, и если я и отзываюсь на имя Альберт, то делаю это из чистой вежливости: терпеть не могу это имечко — всегда хотел, чтобы меня звали Брюсом. Мое свидетельство о рождении находится в мэрии Уордли-Коурт, Сомерсет, Великобритания, в регистрационных книгах за 1892 високосный год: родился я 29 февраля. Указываю эти сведения для того, чтобы любой Фома-неверующий мог удостовериться, если пожелает, в подлинности моего существования. Я родился в огромном фамильном замке Ричвиков и был воспитан бабушкой с материнской стороны, поскольку родители мои погибли ужасной смертью во время охоты, в самом сердце Арденнского леса, куда их пригласил барон Антуан Ван-Верпен, связанный, как известно, узами родства с королевским семейством Нидерландов. Мой отец поставлял барону выращенных им, то есть полудиких, лисиц. После его смерти, а равно и смерти моей матери (оба они были сброшены с лошадей и растерзаны разъяренными кабанами) предприятие это заглохло: убитая горем бабушка, потеряв детей, приказала снести изгороди фермы, и лисы разбежались. Я вырос под ее присмотром в замке — старинном просторном доме, затерявшемся среди лугов и лесов. Когда я достиг возраста, в котором начинают охотиться, бабушка умерла. На смертном ложе она заставила меня поклясться, что я навсегда откажусь от охоты. Я подчинился с радостью, ибо вынес из ее рассказов о гибели моих родителей неодолимое отвращение к этому кровавому виду спорта. И моим главным занятие в жизни помимо работы (я восстановил лисью ферму) стало отныне чтение. Я с детства рос в окружении книг. Они сформировали мой характер. В той мере, в какой вообще можно знать самого себя, я описал бы свою особу следующим образом: добрый христианин, но скорее по привычке, нежели в силу ревностной веры в Бога. Из чтения книг я составил себе не слишком лестное представление о роде человеческом и его разуме. Люди бегут суровых истин, укрываясь под сенью приятных им заблуждений. Пророки были всего-навсего людьми, так как же можно быть уверенным в том, что некое божественное откровение они истолковали верно, без ошибки? Пребывая в подобной неуверенности, я и сторонюсь церквей и священников, так же как, впрочем, философов и ученых. И только одно установление человечества кажется мне достойным доверия — наименее разумное, наиболее скромное, но в то же время самое древнее и самое устойчивое — традиция. А вместе с нею — благопристойность, а вместе с нею — религия; вот отчего, не слишком полагаясь на ее догматы, я все-таки остаюсь ей верен. Она делает отношения между людьми более отрадными и легкими. Она избегает жестокости и насилия. И я убежден, что нельзя требовать от нее большего, не впадая в иллюзии. Особенно укрепился я в этих мыслях со времени моего приключения. О коем я и начинаю сегодня свое повествование, хотя и не стану его публиковать: я и в самом деле решил подождать тридцать лет, прежде чем напечатать эти страницы. Этого требуют элементарная предосторожность и осмотрительность: люди ведь склонны верить лишь в те чудеса, что освящены в Библии, и отказываются признавать все другие — пусть они даже узрят их собственными глазами, — если чудеса эти не санкционированы властями, утвержденными в сем качестве самими же людьми. Да не будет эта мысль сочтена признаком некоего глупого нонконформизма. Напротив, я нахожу, что так оно вернее. Я уже говорил, как ценю общественный порядок. А независимый образ, мыслей, распространись он слишком широко, не позволит этому порядку просуществовать долго. Но то, что я решаюсь рассказать, являет собою чудо, именно чудо, в которое никто никогда не поверит. Если бы я опубликовал свой рассказ слишком рано, это могло бы повлечь за собой прискорбное и нежелательное расследование по поводу некоей особы, под предлогом разоблачения меня и моих измышлений. По прошествии же тридцати лет для подобного расследования будет уже слишком поздно; конечно, мне и тогда поверят не более, чем сегодня, но к 1960 году практические основания для такого недоверия, надеюсь, давно исчезнут. А пока что у нас 1925 год, и сейчас, когда я пишу эти строки, мне тридцать три года. Еще в прошлом году я считался стойким холостяком, хотя и подумывал о женитьбе, устав от коротких связей, начинавшихся и кончавшихся в Лондоне за те несколько зимних месяцев, что я проводил в городе, когда мое присутствие не требовалось на ферме. Да, я подумывал об этом, хотя, признаюсь, без особого восторга. В один из сентябрьских понедельников, заскучав в поезде, увозившем меня из Лондона в Уордли-Коурт, где ждал моего прибытия экипаж, присланный с фермы, я покопался в чемодане с книгами (каждый раз везу с собой кучу книг, купленных у букинистов) и выбрал роман Дэвида Гернета, которого друзья давно уже нахваливали мне, превознося его блестящий, легкий и тонкий юмор. Увы, он совершенно разочаровал меня. Да, признал я с усмешкой, то, что женщина превращается в лисицу на глазах своего несчастного мужа, — это забавная посылка. Но последующее длинное преображение светской дамы в дикое животное показалось мне бесконечно скучным, вялым. За несколько лет до того я прочел «Превращение» Кафки, вышедшее на немецком языке. Какая пропасть разделяла эти книги![27] Как видите, чувства мои ограничились чисто литературным анализом, впрочем вполне банальным. Разве здравомыслящему человеку могло прийти в голову принять эту невероятную историю всерьез или, скорее, буквально. Роман был недлинный, я дочитал его до конца к тому моменту, как поезд подъехал к вокзалу Уордли-Коурт. Я засунул книгу в чемодан и тотчас позабыл о ней.* * *
Могу поклясться, что ни разу не вспомнил о романе Гернета до того самого осеннего вечера, когда я стал свидетелем и главным участником точно такого же приключения, только наоборот. Говорю так для того, чтобы читателю было ясно: в событии этом ни воображение, ни внушение, ни память не сыграли ровно никакой роли. Гернет счел своим долгом окружить придуманный им сюжет множеством оговорок и предосторожностей, в первую очередь предоставив слово целой дюжине очевидцев, достойных всяческого доверия. Я же не могу сыскать ни одного, и не без причины. Читателю придется поверить мне на слово. Дело обстоит очень просто: так же как вы сможете при желании констатировать факт моего существования по регистрационным книгам актов гражданского состояния, у вас будет возможность проверить факт несуществования — по всем актам рождений во всей Англии — некоей Сильвы Ричвик. И хотя каждый житель моей деревни мог множество раз видеть эту юную особу вместе со мной на прогулке, любой Фома-неверующий легко может убедиться, что официально, с точки зрения закона, она не существовала никогда. Других доказательств я не имею. Итак, довольно разглагольствовать, и вперед, к цели! Нынче у нас 16 октября 1924 года. День клонится к вечеру, уже пять часов. Как и ежедневно, в хорошую погоду, я прогуливаюсь по лес Ричвик-мэнор, который некогда составлял часть территории замка; потом мне пришлось продать его одному лесоторговцу, чтобы заплатить налог на наследство. При продаже я, однако, выговорил себе право на прогулки. Но взамен мне пришлось разрешить новому владельцу охоту с гончими: в лесу еще оставалось несколько оленей и довольно много лис — потомков тех, что разбежались когда-то с фермы. И вот я гуляю один — я всегда гуляю один, но сегодня вечером, шорох сухой листвы под сапогами неизвестно почему обостряет это ощущение одиночества. Неужели оно начинает угнетать меня? Однако я мог бы еще долго брести по лесу, если бы дневной свет не угасал так быстро. И вот я медленно возвращаюсь к дому, уютному и удобному моему жилищу, вдыхая по пути прелый запах грибов и мха. Нет, эта одинокая жизнь не тяготит меня — напротив, я очень люблю ее. Я счастлив, доволен, я бесконечно спокоен. Я выхожу из леса. Мне остается пройти несколько сот ярдов по лугу, открыть калитку в изгороди, и вот я уже у себя дома. И тут я слышу вдалеке, в лесу, заливистый лай гончих. Отвращение мое к охоте с годами только возросло. Стоит мне заслышать, как эти мерзкие псы подают голос, я начинаю ненавидеть и собак, и охотников, и все мои симпатии оказываются на стороне дичи. Симпатии, впрочем, увы, чисто теоретические, ибо помешать этому я не в силах. Правда, должен признать, что не отказываюсь принять спинку зайца или оленью ногу, которые мне частенько приносят после охоты — без сомнения, как бывшему сеньору. И, уж если быть совсем откровенным, я, как правило, велю отнести приношение в кухню и не лишаю себя удовольствия полакомиться жареной дичью. Когда в тот вечер я добрался до садовой калитки, выходящей прямо на луг, уже совсем стемнело. Шум охоты приближался. Вообще это редкий случай, когда гон затягивается допоздна. Наверное, зверь попался бывалый. Если ему удастся еще немного породить собак, у него есть все шансы спастись под покровом ночи. Я желал этого от всего сердца. Не знаю почему, но я вдруг решил оставить калитку приотворенной (наверное, все-таки во мне жило неосознанное воспоминание о последней охоте в романе Гернета, когда гончие псы растерзали героиню прямо в объятиях мужа) в надежде, столь же смутной, сколь и неразумной, что преследуемое животное сможет укрыться у меня. Но шум вдруг стих и наступила тишина. Вероятно, зверь — олень или лиса — помчался в другую сторону, так как до меня не доносилось больше ни единого звука. Я вошел в дом и поставил на плиту чайник, чтобы вскипятить воду для чая. В ту минуту, когда я наполнял чашку, вновь послышались слабые отзвуки лая. Я оставил еду и вышел: тотчас же мне стало ясно, что охота совсем близко. Из лесу выскочила великолепная лисица, она мчалась в мою сторону, измученная погоней, собаки шли за ней след в след. Лисица как будто увидела распахнутую калитку и кинулась прямо в нее. Но я по глупости показался ей; заметив меня, она резко свернула и уже без всякой надежды на спасение понеслась вдоль ограды. Я проклинал себя, как мог: сейчас псы нагонят ее и она погибнет по моей вине. Позабыв об опасности, грозящей любому, кто окажется на пути разъяренных гончих, я бросился вперед, размахивая руками и рискуя быть опрокинутым наземь; я хотел напугать зверя и заставить его вернуться назад к калитке. Но лисица мчалась прочь от меня, в панике ища какую-нибудь дыру в изгороди, всего на один шаг впереди истерически рычащей своры. Я уже зажмурился, чтобы не видеть кровавой сцены. От душераздирающего лая у меня звенело в ушах. Внезапно настала тишина. Или, вернее, оглушительный лай сменился громким, прерывистым, озадаченным дыханием. Собаки сгрудились вокруг меня, они вертели головами, ошеломленно глядя по сторонам. Никакой лисы больше не было. Зато между изгородью и землей из щели торчала пара голых ног. Ноги бились в воздухе, пытаясь помочь туловищу протиснуться сквозь доски, обдирая о них кожу в кровь. Один или два пса, подбежав, обнюхали ноги и, поджав хвосты, трусливо повернули назад. Тем временем вдали показались охотники, и у меня не оставалось времени ни размышлять, ни удивляться. Я вбежал в калитку и резким рывком вытащил существо из щели. Оно отбивалось, пытаясь вырваться; в руку мне безжалостно вонзились острые зубы. Но я придавил его вверху всем телом и крепко прижал к граве. В этот момент я услышал конский топот, крики, расспросы, удивленные возгласы. Миг этот показался мне нескончаемым: лежа на земле, в полной темноте, я продолжал бороться с неведомым существом, из последних сил удерживая его. На самом деле это длилось всего одно мгновение. Послышались команды, щелканье хлыста. Собаки взвыли. Лошадиные копыта простучали барабанную дробь вдоль изгороди, в нескольких футах от моей головы. Наконец охотник умчались прочь. Когда все стихло, я слегка ослабил хватку. Существо даже не шевельнулось. Оно бессильно лежало на боку, без признаков сознания. Я привстал и вгляделся. Это была женщина.II
Как я уже сказал, у меня нет ни единого свидетеля этого удивительного события. Могу лишь заверить, что усомнился в увиденном собственными глазами не меньше любого скептически настроенного читателя. Да и позже, когда все сомнения окончательно отпали, я множество раз пересматривал в памяти каждую секунду, каждый образ того вечера, когда преследуемая гончим лисица прямо на моих глазах вдруг превратилась в женщину. Я могу лишь утверждать, что какой-нибудь фокус, трюк (с цель мистификации — но кого и зачем?) был бы еще более невероятным и потребовал бы присутствия поистине гениального иллюзиониста, обернувшегося невидимкой в самой гуще беснующейся своры. Да и продолжение событий сделало такого рода предположение еще более нелепым, чем само происшедшее чудо. Впрочем, какое это имеет значение? Если я и хочу о чем-то поведать, то вовсе не о самом чуде. О нем я уже рассказал, и мне нечего добавить к вышеописанному. А вот последующие события вполне заслуживают тяжкого писательского труда, предпринятого мною. Чудо там или не чудо, а события все равно развивались бы именно так. Остальное же не имеет никакого значения, разве что для умов, терзающихся метафизическими проблемами. Ну так пускай помучаются над этим вопросом, если им это в радость. Как бы то ни было, я стоял на лужайке, занимавшей большую часть моего сада, под темным небом, где уже поблескивали первые звездочки, и остолбенело таращился на юное нагое существо, без чувств лежащее у моих ног, — существо, которое, если и было всего лишь лисицей, тем не менее внешне обладало теперь всем признаками молодой девушки. Она была нагой, с головы до ног в грязи, ссадинах и кровоподтеках. Я взял ее на руки. Ее худенькое тело почти ничего не весило. Глаза были закрыты, тонкие веки посинели от изнеможения, а может быть, и от холода. Когда я приподнял ее, она встрепенулась и как бы ощерилась — я хочу сказать, что верхняя губа ее вздернулась, обнажив маленькие, но очень острые зубки, сквозь которые раздалось угрожающее звериное ворчание. Но этим дело и ограничилось. Ворчание перешло в прерывистое хриплое дыхание. Подняв ее на руки, я замер в совершенной растерянности. Сперва я решил было отнести ее на ферму. Там я мог бы доверить ее заботам фермерши. Но ведь при ее чудесном превращении никто не присутствовал. Как же я объясню все это? Представьте себе только: я вхожу к своим фермерам, неся на руках совершенно голую девушку, полумертвую, изнуренную, сплошь покрытую царапинами и кровоподтеками. Что они вообразят? Нет, это невозможно. Нужно отнести ее к себе домой, моля бога, чтобы никто — ни издали, ни вблизи — не заметил меня с этой странной ношей. К счастью, мне удалось беспрепятственно добраться с нею до дверей дома. Поднявшись на второй этаж, я положил девушку на кровать и пошел наполнять водой ванну, стараясь при этом думать только о самых необходимых в данный момент жестах, а не пытаться осмыслить происходящее. И однако мой скорбный внутренний голос отдавал должное Дэвиду Гернету. Я упрекал себя in petto[28] в своем пресловутом здравомыслии, в дурацком неверии. «Есть многое на свете, друг Горацио…»[29] Ну конечно, как же иначе! Чуть что, великий Вилли у нас на языке! Как это похоже на тебя, книжный ты червь! А вот попытайся-ка пораскинуть мозгами сам, без посторонней помощи. Я глядел на струю теплой воды, бегущей в ванну, и начинал смутно провидеть последствия своего деяния. Итак, ты находишься в доме наедине с женщиной, лежащей в твоей постели, нагой, как на Страшном суде, но ведущей свое происхождение отнюдь не от Адама и Евы, не имеющей ни метрики, ни малейшего намека на паспорт или на какое бы то ни было гражданское состояние. Что ты собираешься с ней делать? Кому сможешь ее показать? Как привести все это в соответствие с законом об иммиграции? Кто поверит твоим россказням? Да ведь это же еще хуже, чем убийство, сообразил я вдруг с ужасом. Мужчиной или женщиной меньше — это еще можно хоть как-то объяснить, особенно если речь идет об иностранце: ну просто взял да уехал на родину. Но лишний человек!.. Как объяснить его появление? Я уже видел себя виновником страшного беззаконного деяния, которое, будучи прямо противоположным убийству, тем не менее не переставало от этого быть актом того же порядка, столь же явно противоречащим закону. А тут еще лишняя женщина, которая вдобавок ко всему на самом деле не женщина, а лисица! Ибо она была именно лисицей и сразу же доказала мне это. Когда ванна наполнилась водой, я подошел к кровати, чтобы взять странное существо на руки, и оно мгновенно сверкнуло на меня острым, живым звериным взглядом. Тем не менее оно позволило унести себя в ванную. Что это — крайнее изнеможение или начало доверия? Я уже было приготовился умилиться, но тут ее тело коснулось воды; она бешено выгнулась, забилась у меня в руках, вырвалась и попыталась выскочить из ванны. Я в свою очередь старался удержать ее там. Воспоследовала схватка, которую я не скоро забуду. В три секунды я вымок с головы до ног, что, принимая во внимание мой осенний костюм из вельвета и замши, сделало меня тяжелее медведя. Она намертво впилась своими острыми зубами в мой галстук и не выпускала его. К счастью, я весил примерно вдвое больше ее, и она, без того сильно изнуренная, начала слабеть. Да и теплая вода, наверное, постепенно оказала на нее благотворное воздействие. Как бы то ни было, она наконец успокоилась. Бережно и очень осторожно я принялся обмывать губкой ее бедное израненное тело — зрелище было столь плачевным, что решительно исключало всякое вожделение; она не сопротивлялась и только тихонько постанывала, когда губка касалась раны. Глаза ее были широко открыты, но на меня она не глядела. Временами внезапная дрожь выдавала ее желание убежать, но стоило мне положить ей руку на плечо, как она затихала. Впрочем, под конец она, видимо, настолько разомлела, что закрыла глаза и, казалось, задремала. Я воспользовался этим, чтобы извлечь ее из ванны, завернуть в широкий халат, вытереть и уложить в постель. И вот тогда-то, сбрасывая с себя мокрую одежду и также натягивая халат, я смог убедиться в том самом знаменитом коварстве, в прославленной хитрости Лисицы, знакомой мне доныне лишь по басням Эзопа и прочей литературе. Внезапно обернувшись, я успел заметить, что она и не думала спать. Напротив, она в упор смотрела на меня своими узкими, необыкновенно живыми глазами. Но в тот же миг она притворилась, будто спит глубоким сном. Я понял, что она стережет удобный случай для бегства. И вот именно в эту минуту в душе моей возникли какие-то странные, необъяснимые побуждения и чувства. Казалось бы, если она собирается сбежать, чего уж лучше! Ей хочется вновь обрести свободу, вернуться к дикой жизни? Ну и прекрасно, малышка, беги, куда хочешь! Возвращайся к себе в лес! И скатертью дорожка, никаких проблем! Вот какой должна была бы оказаться нормальная реакция здравомыслящего человека на эту хитрость, на это явное намерение вырваться на волю. Ну так вот: я думал совсем иначе. Я понял: если она убежит, я никогда себе этого не прощу. Я рассуждал так: если она решила вернуться в лес к своей дикарской жизни, то либо ее ждет там смерть от голода, холода и прочих опасностей, либо ее рано или поздно обнаружат лесники, приведут в деревню и наверняка засадят в какой-нибудь приют для слабоумных, где она кончит свои дни в смирительной рубашке. Я был единственным свидетелем ее рождения и происхождения, единственным, кто способен ее понять. Вот что велит тебе долг, добавлял я в заключение, — тебе придется, пусть даже против ее воли, заботиться о ней столько времени, сколько потребуется. И все же, пока я упивался столь возвышенными чувствами, какой-то внутренний голос противоречил мне, не давая покоя. Твой долг? Какой такой долг? Что приют, что эта комната — не все ли ей равно, благодетель ты эдакий?! По какому праву ты собираешься стать ее тюремщиком? Если уж хочешь знать, старина, то истинный твой долг состоит в том, чтобы оповестить власти. Пускай они распутывают это дело и решают, как следует поступить с подобным созданием. Но я смотрел на ее остренькое личико, нежное, трогательное, притворяющееся спящим, и думал: «Не уходи…» Я думал это с глупо сжимающимся, глупо колотящимся сердцем, и мне приходилось признаться себе самому, что я просто-напросто боялся вновь потерять ее и боялся уже не только ради нее одной. Смущенный и взволнованный до глубины души такими поразительными мыслями, я тщательно запер все окна и двери и спустился вниз приготовить ужин. Пока на плите жарились грибы, я пытался яснее осмыслить новую ситуацию. Итак, я собираюсь держать у себя в домашнем плену женщину, о которой никто ничего не знает и не может ничего знать. Она абсолютно голая, и у меня нет ни единой тряпки, чтобы хоть как-то одеть ее, а разве возможно попросить у фермерши платье или комбинезон, не возбудив у нее подозрений? Сколько же времени мне удастся держать в тайне это компрометирующее пребывание? Я редко принимал гостей, но все же время от времени… И в тот день, когда по какой-нибудь случайности — а случайность такая неизбежна — кто-нибудь обнаружит в моем доме пленницу, на меня обрушится вся тяжесть закона. А поскольку я вдобавок не смогу дать никаких сведений ни о ней, ни о том, откуда она взялась, дело осложнится оскорблением судебных органов и бог знает чем еще. Нет, это безумие. Чистейшее безумие. Сейчас же пойди в спальню, идиот эдакий, разбуди ее и открой входную дверь! Но вместо этого я продолжал помешивать грибной соус, хорошо зная, что не поступлю так. Мне нужно, подумал я, найти надежного человека и рассказать ему все, посвятив в эту тайну. Прекрасная мысль, но кого же? Тщетно я перебирал в памяти всех своих знакомых, надежного не находилось: каждый из них примет меня за сумасшедшего, точно так же как это случилось с несчастным героем Дэвида Гернета. Тем временем обед мой поспел. Я рассеянно и торопливо проглотил его, не разбирая вкуса, а ведь я обожаю грибы. Потом я подумал: она, наверное, голодна. Я достал из кладовой цыпленка и прихватил его с собой наверх. Едва я открыл дверь, она спрыгнула с кровати и в панике заметалась по комнате, пытаясь вскарабкаться на стены, на занавеси. Я уселся в кресло и замер, чтобы дать ей время успокоиться. Наконец она забилась в угол между стеной и маленьким полукруглым комодиком. Глядя на меня своими слишком блестящими глазами, она не теряла из виду ни один из моих жестов. Я со своей стороны тоже смог как следует разглядеть ее. Походила ли она на лисицу? Да, если знать ее историю. Тоненький носик, очень высокие, монгольские скулы, впалые щеки и острый подбородок смутно намекали на ее происхождение. Да и волосяной покров говорил о том же: недлинные волосы, спадающие на плечи, были красивого рыжего, а местами прямо-таки огненного цвета. Она была прелестно сложена, но, если не считать ее вполне развитых форм, по которым ее можно было принять за взрослую женщину, она, со своим хрупким, миниатюрным телом, вполне сошла бы за девочку-подростка. Ступни были крошечные, длинные тонкие ножки приводили в умиление, щиколотки, казалось, вот-вот переломятся, как стеклянная ножка бокала; руки, еще более узкие и удлиненные, чем ноги, непрестанно шевелились, двигались туда-сюда, не давая отдыха нервно вздрагивающим пальцам. Улучив подходящий момент, я бросил цыпленка на пол так, чтобы он подкатился поближе к ней. Она тотчас подпрыгнула, судорожно схватилась за стену, готовая бежать, и на несколько секунд замерла в этой напряженной позе, пристально глядя то на меня, то на цыпленка. Потом слегка расслабилась. Птица лежала в шаге от нее. Долго она стояла неподвижно, как статуя, глядя на цыпленка с застывшим, почти сонным выражением лица. И вдруг проворным жестом схватила добычу и юркнула под кровать. Около получаса оттуда доносился хруст костей. Потом наступила мертвая тишина. Ни звука. Я не видел ее, но хорошо представлял себе, как ее острые узкие глаза следят за каждым моим движением. Я встал, сбросил халат и улегся в постель. Долго-долго не гасил я свет, в смутной надежде ожидая неизвестно чего. Но тщетно: ни движения, ни дыхания. Словно в комнате находился я один. Наконец сон сморил меня, и я погасил лампу.III
Назавтра меня разбудил отнюдь не шум, а запах. Да простит мне читатель эти низменные подробности. Но они помогут ему понять, какие трудности, какие неприятности пришлось мне сперва преодолевать. В конце концов, у меня под кроватью укрывалась всего-навсего лисица, отягощенная вдобавок человеческим обликом. Я не подумал накануне об этом неудобстве (да если бы и подумал, какая разница?!) и, когда запах достиг моих ноздрей, подскочил как ошпаренный. Точно так же из-под кровати с другой стороны выскочило это создание, прыгнуло на стул, с него на комод, а потом на шкаф и засверкало оттуда на меня своим кошачьим взглядом. Я сдвинул кровать, вытащил из-под нее коврик и вытряхнул его в окно, а потом бросил в таз, чтобы хорошенько промыть под струей воды. За всеми этими хлопотами я испытывал странные, противоречивые чувства. Разумеется, выжимая коврик, я страдал от оскорбленного чувства приличия. Но в то же время я невольно ощутил что-то вроде умиления. Значит, нужно будет воспитывать ее, как обучают щенят, котят, как приучают «проситься» ребенка. С тем лишь дополнительным неудобством, что она-то была взрослой и мне предстояло еще завоевать ее доверие. Возможность обрести это доверие льстила моему сердцу. Не уверен, что все эти излияния так уж достойны. Матерям хорошо знаком подобный род восторженного умиления, вызванного полновластным обладанием другим человеческим существом, обладанием к полному своему удовольствию, как предметом, как вещью. Но матери испытывают это чувство по отношению к младенцу, я же — по отношению к взрослой женщине. И я отнюдь не был уверен в том, что это похвальное чувство. Если я намеревался войти к ней в доверие, следовало сначала продумать средства к достижению цели. Достаточно ли будет одного терпения? Но у меня в руках имелся главный козырь — еда. Она будет получать ее от меня, и только от меня одного, день за днем. Ни одно животное не устоит против такой приманки. Так почему же она должна стать исключением? Я приготовил себе яичницу с беконом, а ей рыбу и крутые яйца. Поднявшись с подносом в спальню, я обнаружил, что она забралась в мою постель, но, завидев меня, стремглав снова вскарабкалась на свой шкаф. Я положил рыбу и яйца в папиросной бумаге на комод, а сам уселся спиной к ней за маленький столик и принялся завтракать. Прошло несколько минут, и я услышал как она зашевелилась, скрипнул комод, зашелестела бумага, затрещала яичная скорлупа. Все шло нормально. Следующей проблемой был мой уход из дома: я хотел появится на ферме в обычное время. Запереть ее в комнате означало найти по возвращении бог знает какой беспорядок, не говоря уж о нечистотах. Мне пришло в голову запихнуть ее в ванную комнату, но как заманить ее туда? Устроить на нее облаву в спальне? Об этом не могло быть и речи, тем более что она куда увертливее меня и я только напрасно потеряю время, не говоря уж о том разгроме, который она способна учинить. Ладно, тем хуже, оставлю ее здесь, и посмотрим, что из этого выйдет. Вернувшись в полдень с утенком, которого я принес моей гостье на обед, я испытал тоскливый испуг: в комнате никого не было. Я подбежал к окну, оно оставалось закрытым. И, только подойдя к кровати, я по едва заметному холмику под покрывалом догадался, где она прячется. Свернувшись клубочком, она угрелась там и спала в тепле. Я положил утенка на подушку, а сам уселся в кресло, чтобы почитать «Морнинг пост», в то же время искоса поглядывая на кровать. Спустя какое-то время покрывало заволновалось, задвигалось и оттуда вынырнул копчик розового носа, который стал принюхиваться к птице. Наконец, показалась и вся голова, повертелась туда-сюда, обнаружила мое присутствие и мгновенно втянулась обратно, точно у черепахи. Потом осторожненько высунулась опять. За ней последовала рука, схватившая утенка, и вмиг все это — нос, рука и утенок — исчезло под покрывалом. Ах, черт, придется поменять простыни, но теперь уж слишком поздно что-либо предпринимать. Тем хуже, делать нечего. Я с улыбкой слушал, как хрустят под покрывалом утиные косточки. Не стану утомлять читателя однообразными подробностями. В первое время распорядок нашей жизни и в самом деле был одним и тем же изо дня в день. Я постелил под кровать кусок брезента, который легче было отмывать. Довольно скоро она перестала по утрам взбираться на шкаф, но упорно держала, что называется, дистанцию между собой и мною. Часто я видел, как она дрожит от холода, но все мои попытки внезапно накинуть на нее купальный или комнатный халат оказывались тщетными перед ее проворством и удивительной юркостью. Хорошо еще, что моя прирожденная порядочность исключала, даже при виде ее грациозной наготы, всякие нечистые поползновения: в любом случае она была настолько неуловима, что я все равно остался бы с носом, пристыженный и неудовлетворенный. Впрочем, несмотря на ее соблазнительный облик, я тогда еще видел в ней всего лишь лисицу, не женщину, и одно это в самом крайнем случае удержало бы меня. Не знаю, чем она занималась целые дни — спала, исследовала комнату или просто бродила по ней, когда я бывал в поле или на ферме; но каждый вечер, в сумерки, у нас разыгрывалась одна и та же сцена: она начинала волноваться, метаться, кидалась к двери и, приложив личико к замочной скважине или водя носом вдоль дверной щели, принюхивалась с короткими, судорожными всхлипами. Руки ее царапали деревянную филенку. Потом она пробираюсь вдоль стены к окну и там повторялось то же, самое. От окна — обратно к двери, от двери к окну. Она упорно скребла раму или косяк и тихонько, почти бесшумно повизгивала, нюхая воздух. Это продолжалось до полного наступления темноты. Наконец, когда комната погружалась в абсолютный мрак (я нарочно не зажигал свет), она словно нехотя отказывалась от своих попыток выйти и забивалась под стеганое одеяло. Я давал ей уснуть, а сам спускался поужинать. Вечера я проводил как обычно, читая что-нибудь в курительной. Часам к одиннадцати я поднимался и спальню. Как бы крепко она ни спала, никогда мне не удавалось летать ее врасплох. Я укладывался в постель, но ее там уже не было: змейка и та не смогла бы соскользнуть вниз проворнее, чем она. На полу под кроватью я постелил толстое шерстяное одеяло, она укутывалась в него, и так мы проводили ночь — один над другим, словно пассажиры в спальном вагоне. Тем временем, как я и надеялся, она начинала привыкать к моему присутствию, которое не доставляло ей никаких неприятностей, более того — трижды в день сопровождалось кормлением. Теперь, когда я входил в спальню, она уже не пряталась, не пыталась бежать, напротив: когда ее тонкая остренькая мордочка выныривала из-под покрывала, она следила за мной не со страхом, а с жадным ожиданием. Вскоре она научилась различать мои шаги на лестнице и в коридоре и встречала меня у самой двери, радостно повиливая своим круглым задиком. Она брала у меня из рук котлету или жареную птицу, которые я ей приносил, и если пока еще укрывалась для еды под кроватью или в ванной комнате, то делала это из чисто атавистической предосторожности, которая со временем также полностью исчезла. С первых же дней я решил дать ей имя. Разумеется, я назвал ее Сильвой[30]— то был мой долг перед Дэвидом Гернетом. Чтобы приучить ее к этому, я на минутку задерживался за дверью, тихонько окликая ее по имени и слушая, как она царапает косяк, повизгивая от нетерпения. Очень скоро в ее примитивном мозгу установилась связь между этим именем и едой, и, когда она прибегала на зов, я вознаграждал ее дополнительным лакомством. Далее ей не понадобилось даже этой приманки; я командовал: «Сильва, сюда!», и она, вернувшись с полдороги, усаживалась есть у моих ног. Но очень долго она не позволяла приласкать себя. Стоило мне протянуть к ней руку, и, если на ладони ничего не лежало, Сильва тут же отпрыгивала прочь. Много прошло времени, прежде чем она разрешила пощекотать себя по затылку; погладить по голове, пока она, сидя на корточках, ела рядом со мной. Мало-помалу ей это стало нравиться. Она легонько терлась затылком о мой согнутый палец и, когда ноготь задевал верхний позвонок, вздрагивала всей спиной, напрягалась и замирала от удовольствия, закрыв глаза и откинув назад голову. Нередко теперь, покончив с едой, она сама подсовывала свою маленькую головку мне под руку прося ласки, и настал день, когда она, обернув лицо, благодарно лизнула гладящую ее ладонь. Боюсь, что это растрогало меня больше, чем следовало бы, но ведь завоевать любовь дикой зверюшки — всегда волнующая победа. На все это нам с ней понадобилось добрых две недели. Тем временем мне требовалось решить важную проблему с Фанни — дочкой моей фермерши, приходившей убираться в доме. Я просил ее ограничиться мытьем, чисткой и подметанием первого этажа, объяснив, что крашу стены на втором (что, впрочем, я и сделал для пущего правдоподобия). И все-таки я ужасно боялся. Любо шум, крик могли выдать присутствие Сильвы, и, хотя бедняжка Фанни была слишком глупа, чтобы проявлять к чему-нибудь настоящий интерес, все же она была женщиной, и я не сомневался, что она воспользуется первым же моим промахом, чтобы сунуть нос наверх и убедиться во всем самой. Тогда, конечно, назавтра же вся округа узнает, что мистер Альберт Ричвик прячет у себя в спальне совершенно голую девушку. Словом, первое, что нужно было сделать во что бы то ни стало, — это одеть Сильву. С той поры как она позволила подходить к себе, я много раз пытался надеть на нее халат, тщетно. Хуже того, она так пугалась, что мне приходилось затем два-три дня вновь завоевывать потерянное доверие. К тому же, если Фанни обнаружит Сильву, облаченную в один из моих халатов, это будет ничуть не лучше, чем если она увидит ее голой. И я решил отправиться в город купить ей платье. Но такая поездка требовала целого дня, и я не в силах был преодолеть страх перед тем, что могло произойти в мое отсутствие. Мне было тем более трудно решиться на это, что, по правде сказать, нагота Сильвы перестала смущать меня. Она доставляла мне чисто эстетическое удовольствие: всем известно, что к повседневно созерцаемой наготе привыкаешь и она уже не кажется вызывающей, теряет свою соблазнительность, вызывая даже пресыщение. Стоит лишь вспомнить пляж в Брайтоне, чтобы понять, что моя совместная жизнь с Сильвой в костюме Евы, в общем-то, не волновала ни души моей, ни чувств. Если бы это зависело только от меня, я охотно оставил бы ее в таком виде до тех пор, пока ей это будет угодно. Раны ее поджили, кожа стала свежей, упругой, атласной, мускулы под ней переливались при каждом движении, чарующем меня своей живой грацией; для чего же скрывать это прелестное нежное тело под нелепыми тряпками, облекать его в скверно скроенное платье? Я не строил иллюзий по поводу своего вкуса в области дамских нарядов и заранее знал, что выбор мой будет неудачен. Но я слышал, как внизу, на первом этаже, Фанни, невообразимо фальшиво насвистывая или напевая, обметает мебель, чистит кастрюли, вытряхивает ковры. Нет, это было действительно опасно. Нужно на что-то решиться. По средам в Уордли-Коурт бывал рыночный день. Я подмешал Сильве в завтрак сильную дозу снотворного, приказал запрячь тильбюри, надежно запер все двери в доме и отправился в город в сопровождении сына фермера, служившего мне кучером.IV
Парня я отослал к зерноторговцу, договорившись встретиться с ним на станции Уордли-Коурт, где, по моим словам, оставил в прошлую свою поездку чемодан в камере хранения. Я действительно приобрел большой чемодан, куда сложил купленные в «Литтлвуде», приблизительно по размеру Сильвы, женское белье и одежду, и взял фиакр до вокзала, куда спустя двадцать минут подкатило и мое тильбюри. Почти к ночи мы добрались до замка. В доме все было в порядке, иначе говоря, заперто так же надежно, как при моем отъезде. Но наверху, в спальне, царил невообразимый хаос. Я был несколько удивлен тем, что Сильва проснулась, но гораздо больше тем, что она пришла в такое неистовство. Вероятно, очнувшись от сна и обнаружив себя запертой и покинутой, она попеременно испытывала приступы то ужаса, то ярости. Видно, она искала меня: платяной шкаф был опустошен, словно пронесся смерч, вся одежда была раскидана по углам, костюмы валялись как попало, словно обезглавленные жертвы резни. Та же судьба постигла простыни и одеяла. Подушка был вспорота, в воздухе летал пух. И посреди этого разгрома, по щиколотку в пуховой пене, стояла, глядя на меня, Сильва. Я застыл на пороге, охваченный не гневом, нет, конечно (впрочем, и радоваться тоже было нечему), но странным очарованием; скажу даже, не боясь показаться смешным, что я испытал нечто близкое к экстазу. Напряженно замершая в белоснежной круговерти пуха и белья, нагая, как Венера Пеннорожденная, онабыла поистине прекрасна, моя Сильва, но, главное, меня поразило внезапное откровение совсем иного рода, нежели то, что внушала ее красота. Передо мною лежала груда неодушевленных тряпок, на ними возвышалось это восхитительное тело, живое — но и только, ибо ни одна искра разума еще не зажгла его; но трепет этого тела, его самоутверждение, неосознанное стремление к горделивой гармонии торжествующе противостояло окружающему хаосу. Именно в этот миг я, может быть как никогда внезапно и ясно, постиг — не разумом, а чувствами — ту истину, которую, кажется только сейчас начинают прозревать физики: что неодушевленна материя есть хаос, а единственный порядок — это жизнь. Возвышаясь над этим застывшим месивом, устилавшим пол, Сильва предлагала взору образ такой чистой, возвышенной красоты, такой удивительной грации, что если зрительное ощущение можно осмелиться назвать словом «сладострастие», то я испытал именно такое чувство, и при этом столь сильное, что оно переходило в сладостное восторженное осознание того, что жизнь, просто жизнь единственное, уникальнейшее чудо. Я хочу сказать, что в тот миг Сильва больше не была для меня ни женщиной, ни лисицей, что чудо ее превращения показалось мне ничтожным и смехотворным перед тем истинным, неповторимым чудом, какое явили собою, среди царящей вокруг анархии и медленной всеобщей деградации, эта жизненная гармония, это строгое благородство линий человеческого тела и эта красота, еще не озаренная сиянием разума, что делало ее еще более потрясающей во всем ее несказанном очаровании. Я вдруг поймал себя на желании жить отныне среди этого хаоса, лишь бы его продолжала венчать изумительная прелесть Сильвы. А я-то, дурак, притащил для нее этот чемодан с дурацкими тряпками! Разве, укрыв в их мертвых складках эту живую, первозданную чистоту, я тем самым не укреплю сон ее разума? Мне безумно захотелось вышвырнуть чемодан в окно. Это божественное тело должно остаться таким, каким оно сияет здесь, передо мною, — нагим, великолепным, победно утверждающим среди всеобщего беспорядка высший порядок свою красоту. Пусть оно остается таким как есть, и будь что будет! Достигнув сих горних вершин, мысли мои вдруг почему-то самым бедственным образом заколебались. Невзирая на смутные предостережения здравого смысла, я почувствовал, как мой возвышенный восторг порождает во мне довольно опасные ответвления, а воспаривший было взгляд невольно обращается к наименее благородным местам женского тела. Дрожь в руках послужила мне сигналом тревоги. Мой энтузиазм сменил свою природу, в то время как природа Сильвы, почудилось мне, также изменилась: внезапно красота ее показалась мне менее чистой, более желанной. Тут только я заметил, что и позы наши, и моя и ее тоже, пусть почти незаметно, но переменились. У меня подгибались колени, руки тянулись вперед, но я осознал это лишь тогда, когда увидел, что и она чуть согнула колени, словно собираясь с силами, чтобы бежать. Моя поза окончательно лишилась не только привычного достоинства, но и обыкновенного приличия, и этот факт оскорбил меня до глубины души, отняв всякое уважение к себе. Впрочем, этот внезапный приступ грубой похоти все враз загубил, испортил: в один миг моя прелестная Афродита превратилась в испуганную самку; грациозное тело судорожно сжалось, и теперь я видел перед собой лишь настороженную лисицу, дикую зверюшку, снова приобщенную к привычному хаосу миропорядка, тому самому хаосу, во власти которого я в свою очередь только что пристыженно ощутил себя. Со вздохом разочарования, горечи и жгучего раскаяния я затолкал чемодан под шкаф и начал прибирать в комнате.* * *
Я забыл сказать, что с тех пор, как Сильва жила у меня, я старался почаще высказывать свои мысли вслух. Или, вернее, называть словами любое, даже самое незначительное свое действие: открывать дверь, выдвигать ящик, складывать простыню, вытряхивать коврик. Если попугай способен повторять то, что он слышит, рассуждал я, почему бы этого не сделать и лисице, существу куда более сообразительному, особенно если она наделена органами речи? И Сильва, в самом деле, очень быстро научилась повторять то, что слышала от меня, правда, крайне невнятно, со странным резким акцентом, ей-богу, очень напоминавшим выговор жителей Юга Франции. Доводилось ли вам слышать, как декламируют Шекспира с марсельским акцентом? Это совершенно неотразимо. Как только Сильва открывала рот, я не мог удержаться от хохота. Она же не смеялась никогда. Не умела смеяться. Только позже, много позже мне довелось услышать ее первый смех. Я смеялся над ее акцентом, над шепелявым сюсюканьем, но одновременно восхищался тем, что она через такой короткий срок перестала повторять за мной все подряд, как это делают попугаи. Скоро я понял, что она в основном понимает то, что говорит, разумеется, иногда и шиворот-навыворот, но даже в этом случае вкладывает в свои слова определенный смысл. Правда, должен уточнить: речь шла о самых конкретных понятиях, о словах, немедленно подтверждавшихся вполне вещественным поощрением. Я так часто повторял, перед тем как дать ей пищу, вопрос: «Ты голодна?», что ничуть не удивился, услыхав, как она лепечет, стремясь сократить танталову муку ожидания: «Голодна… голодна…», виляя задиком, словно собачка при виде куска сахара. Так же как я отнюдь не был поражен, когда она, царапаясь в дверь, в обычный вечерний час, вместо жалобного повизгивания вдруг взмолилась: «Выйти… выйти!» — и твердила это до тех пор, пока я не крикнул: «нет!» — таким голосом, что она тут же стихла. Но с этого дня и она стала отвечать мне «нет» гораздо чаще, чем хотелось бы. Я надеялся, что, видя каждое утро, как я надеваю халат, она в конечном счете последует моему примеру, тем более что в спальне было холодно (я специально не топил здесь). Но она предпочитала таскать за собой одеяло и всякий раз, как я делал попытку уговорить ее сменить его на одежду, вырывалась у меня из рук с не терпящим возражения «нет!». Все же я положил под одеяло комбинацию, прочее белье, шерстяное платье. Почти весь день Сильва спала там, свернувшись клубочком; таким образом, думал я, вещи пропитаются ее запахом и она, привыкнув к ним, может быть, согласится их надеть. Она и в самом деле начала натягивать их на себя, однако самым нелепым образом, то и дело теряя и разбрасывая повсюду. Но я твердо решил проявить терпение и дождаться своего часа. Она воспринимала все больше и больше понятий, разумеется, по-прежнему сугубо практического порядка, из числа повседневных, и достигла в своем развитии ну, скажем, уровня умной собаки. Но ведь собаку можно научить множеству вещей — так их, впрочем, и дрессируют, заставляя понять, что за каждым действием, запрещенным или, напротив, желаемым, неизбежно следует соответственно хлыст или лакомство. В тот день, когда Сильва поняла мои слова: «Ты выйдешь, если оденешься», я выиграл партию — почти выиграл. Она послушно дала надеть на себя рубашку и кинулась к двери. Невозможно было убедить ее, что этого недостаточно, невозможно было просто заставить ее слушать, она до крови разбила себе руки, колотя ими в дверь. Самое печальное, что Сильва сочла меня обманщиком — ведь она-то подчинилась мне, а я не дал ей выйти! — и лишила большей части той привязанности, которую я завоевал терпеливой, упорной дрессировкой. По правде сказать, неудача эта раздосадовала меня лишь наполовину. Я дал ей это обещание скрепя сердце. Ее первый выход на волю пугал меня. И на то было множество причин: а что, если она сбежит? Если нас кто-нибудь встретит? И если даже она не сбежит, то удастся ли мне привести ее обратно домой? Она была слишком проворна, чтобы подчиниться силе, когда ей этого не хотелось. Словом, я шел на отчаянный риск и потому испытал облегчение оттого, что проиграл, даже не попытавшись выиграть партию. Мысль о том, что Сильва может убежать, становилась все более и более невыносимой для меня. Сказать, что мои чувства к ней в это время были весьма двойственного толка, — значит не сказать ничего. Ту вспышку чувственности, которую ее красота зажгла во мне в тот вечер, когда я вернулся из Уордли-Коурт, я погасил в себе, как мне казалось, раз и навсегда: настолько это наполнило меня отвращением — не к Сильве, а к себе самому. Я не мог как следует разобраться в своем отношении к ней. Когда я испытывал к ней чувства, какие питают к младенцу или к своей лошади, кошке, собаке, птице, я бывал счастлив. Когда же вдруг я обнаруживал, что привязан к ней как к женщине, меня охватывала неловкость, близкая к стыду, как при какой-нибудь противоестественной страсти. Может быть, это объяснялось тем, что она оставалась пока еще скорее лисицей, чем женщиной? По крайней мере я не находил другого объяснения живущему во мне внутреннему сопротивлению, чтобы не сказать — ужасу перед этим чувством. Впрочем, любые мои поползновения, по крайней мере самые грубые, в любом случае были обречены на неуспех. Согласившись наконец одеться в шерстяную рубашку, Сильва так полюбила ее, что больше вообще не пожелала с ней расставаться. Поскольку заставить ее помыться было невозможно, запах тела, резкий, звериный и не такой уж неприятный, когда она ходила обнаженной, быстро обрел под одеждой прогорклость застарелого кислого пота. От нее несло испарениями парижского метро в час пик. Вода по-прежнему внушала ей инстинктивную боязнь. Два или три раза мне все же удалось, с помощью всяческих приманок и обещаний, заставить ее скинуть это одеяние и кое-как отмыть в ванне. Прибегнув ко множеству уловок, я уговорил ее надеть поверх шерстяного белья легкое хлопчатобумажное платье. На несколько дней запах становился слабее, и Сильва выглядела вполне по-человечески. Но вскоре платье покрывалось пятнами, рвалось, и мне приходилось, все с теми же ухищрениями, снимать его, чтобы хоть как-то привести в божеский вид, а тем временем запах под шерстяной рубашкой опять сгущался, и все приходилось начинать сначала. Вот в каком положении были наши дела, когда произошел тот ужасный случай, который чуть было не выдал нас с головой.V
Это случилось вечером, после ясного осеннего дня. Уже взошла луна. Я читал в курительной, подле лампы. В окно я увидел силуэт Фанни, несущей воду из колодца. Вдруг она испустила дикий вопль и выронила ведро, расплескав воду. Я вскочил, распахнул дверь и крикнул: «Что стряслось?» Мой голос немного успокоил ее, но все же она оперлась о стену, не в силах обернуться ко мне и вымолвить хоть слово. Наконец, прижав обе руки к груди, она с трудом выдавила из себя: «Призрак!» Я через силу засмеялся: «Ну, вот еще глупости!», но меня пронзил страх: что же она увидела? Фанни затрясла головой: «Да-да, призрак в вашей спальне, там, за занавеской. Он глядел на меня из окна. Лицо такое бледное, как луна. И тело тоже все белое-белое». Она дрожала, как осиновый лист. Я завел ее в курительную и налил полный стакан виски, который она выпила залпом, все еще продолжая дрожать. «Вас успокоит, если я схожу наверх поглядеть?» Она ответила: «О да!» — и усердно закивала головой. Я поднялся в спальню, потом спустился обратно: «Вам померещилось, бедняжка вы моя. Ничего там нет, все в полном порядке». Фанни медленно приходила в себя. Я налил ей второй стаканчик виски. Наконец она поверила мне и стала смеяться. «А ведь я его взаправду увидала. Надо же, наваждение какое! Такой весь белый, ни дать ни взять утопленник». Я довел Фанни до колодца, помог набрать воды (окно спальни было черным и пустым, и я вздохнул спокойно) и проводил ее до фермы. Она поблагодарила меня, и я вернулся домой. Тревога миновала, но опасность по-прежнему нависала над нами. Было решительно невозможно долее хранить эту тайну одному и одному охранять существо, которое только и подстерегало удобный случай, чтобы убежать. Я решил, что теперь, когда домашняя дрессировка сделала мою лисицу более или менее, «приличной», нужно нанять надежного человека, который следил бы за ней, когда я ухожу по делам, составлял бы ей компанию, воспитывал, развивал, насколько возможно, ее речь и умственные способности — словом, попытался сделать из нее, проявив терпение и выдержку, приемлемую особу, которую я смог бы когда-нибудь без особой боязни или стыда показать своим друзьям. Естественно, у меня была заготовлена на сей счет легенда — как для фермеров, так и для будущей воспитательницы: одна из моих сестер, вдова, живущая в Шотландии, собирается вторично выйти замуж и попросила меня заняться ее несчастной дочерью на то время, пока ее будущий муж привыкнет к мысли о совместной жизни с ненормальной падчерицей. Итак, я дал объявление в «Санди таймс» о том, что требуется няня к молодой девушке spastic (припадочной) — так называют в Англии не совсем нормальных детей. Тщательно изучив предложения, я обменялся письмами с двумя-тремя претендентками и наконец остановил свой выбор на бывшей учительнице, которая сама имела дефективного ребенка, девочку, умершую в возрасте двенадцати лет, и с тех пор посвятила свою жизнь заботе о таких же несчастных. Я назначил ей встречу в гостиной отеля «Бромптон-Хаус» в Лондоне, на среду утром. Никого не предупредив, я еще с вечера приготовил экипаж, и мне удалось вместе с Сильвой покинуть замок так, чтобы нас никто не видел. Лошадь и тильбюри я, как всегда, оставил у ресторанчика рядом с вокзалом. Чтобы избежать возможных осложнений, я смастерил из двух собачьих ошейников что-то вроде кожаных наручников, которые соединяли наши с Сильвой запястья. Я рассчитывал вернуться домой на следующий день утром, вместе с няней. На пути в Лондон Сильва вела себя вполне прилично, хотя в глазах попутчиков, будь они рядом, мы представляли бы собой весьма странное зрелище; но я позаботился о том, чтобы занять все купе целиком. Ночная тьма, шумный вокзал, грохот локомотива безумно напугали ее, и, когда я открыл дверь купе, она, в ужасе от того, что ее могут оставить одну на перроне, стремглав кинулась внутрь, так свирепо оттолкнув меня, что я чуть не свалился со ступеньки. Усевшись в купе и надежно закрыв двери, я отстегнул ее наручник от своего, и она тут же принялась обнюхивать все углы и закоулки, залезая даже под скамьи. Потом ей вздумалось вскарабкаться на багажную полку, и мне стоило немалого труда усадить ее на место, где она скрючилась, поджав под себя ноги, словно опасалась спустить их вниз. Но мало-помалу вагонная качка убаюкала ее; я погасил свет, и она наконец заснула. Самым тяжелым оказалось наше прибытие в Лондон, на вокзал Ватерлоо. Хотя и такси, и кебы подъезжают сплошной вереницей прямо к поезду, мне пришлось силой тащить Сильву за собой — она испускала нечленораздельные крики, до смерти напуганная толпой пассажиров, яркими огнями, сутолокой и шумом. При виде лошадей, запряженных в кебы, ее ужас дошел до самого предела, так что я, признаться, не был уверен, удастся ли нам сесть в такси. Люди оглядывались на нас, шофер подозрительно уставился на странных пассажиров. К счастью, вид у меня вполне респектабельный и к тому же слегка высокомерный, что внушает окружающим невольное почтение. Сильва металась туда-сюда, но она была мне всего лишь по плечо, и наручники помогали мне удерживать ее. Я просто сказал шоферу тоном благородной скорби: «Don’t mind her![31] Это несчастный ребенок», и, когда мы наконец приехали, он даже сам открыл нам дверцу, помогая выйти. В гостинице, сохраняя на лице все то же выражение возвышенной печали, я попросил помощи у горничной, и та занялась Сильвой с жалостью, хотя и не без легкого отвращения. На следующее утро явилась миссис Бамли. Она не разочаровала меня. Это была высокая дюжая особа, и ее стать успокоила меня: у нее хватит сил справиться со своей подопечной. В лице было что-то бульдожье: широкие челюсти угрожающего вида, обвисшие щеки, но зато во влажном взгляде сияла бесконечная доброта. И взгляд этот, обращенный к Сильве, когда я представил ее, исцелил меня от остатков беспокойства. Миссис Бамли улыбнулась, обнажив огромные желтоватые зубы: — Боже мой, какая она хорошенькая! Пока мы беседовали, она не спускала восхищенных глаз с Сильвы и наконец заметила: — Право, эта девочка очень удивляет меня. Она не похожа ни на одну из тех spastic, за которыми мне приходилось ухаживать. Наверное, это потому, что она так красива. Но, главное, она кажется такой ловкой, такой грациозной! Естественно, она засыпала меня вопросами о рождении Сильвы, о ее детстве, первых проявлениях болезни, успехах в лечении. Я заранее подготовился к такому допросу и неплохо справился с ответами. Миссис Бамли выразила желание повидаться с матерью своей будущей воспитанницы, но я объяснил ей выдуманную мной ситуацию и сказал, что, хотя бы поначалу, нам придется отказаться от этого. Она вздохнула: «Жаль» — и хотела подойти к Сильве. Но та отпрыгнула в сторону, вскочила на кресло, а с него на шкаф. На добром бульдожьем лице выразилась такая оторопь, что я не смог удержаться от смеха. Миссис Бамли по очереди оглядела нас, словно раздумывая, кто из двоих — Сильва на шкафу или ее хохочущий до слез дядюшка — более «чокнутый», потом сухо осведомилась: — И часто на нее такое нападает? Не в силах успокоиться, я лишь беспомощно воздел руки к небу. Потом, все еще смеясь, ответил: — Не знаю, я удивлен не меньше вашего. Сильва не спускала глаз с миссис Бамли. Та понемногу успокаивалась, и взгляд ее опять засиял добротой. — Какие глаза! — наконец прошептала она. — Живые, сообразительные. Просто сверкают умом! Она обратила ко мне свое доброе бульдожье лицо, глядя одновременно уверенно и вопросительно, и мне осталось лишь опять воздеть руки к небу, но на сей раз без смеха. — Наверняка с ней что-то случилось, — задумчиво продолжала миссис Бамли. — Хотелось бы знать, что именно. Могу дать голову на отсечение, что органических изменений у нее в мозгу нет. Очень интересно было бы попробовать перевоспитать ее! — добавила она. Глаза ее заблестели, но тут же померкли. — Это ее необыкновенное проворство — вот что совершенно нетипично для spastic. А вы уверены, что она действительно spastic? — подозрительно спросила она. — Что она не… не… ну, в общем, просто не сошла с ума? Я ведь не умею обращаться с сумасшедшими, — добавила миссис Бамли боязливо. — Нет, нет, — успокоил я ее. — Врачи единодушно признали, что это случай замедленного развития нервной системы. Ненормальная отсталость. Намечается кое-какой прогресс, но весьма незначительный. — Да, но почему она боится меня? — прошептала миссис Бамли. — Я никогда не внушала страха детям, даже самым пугливым. — Она провела детство в полной изоляции. Ее мать овдовела и поселилась в Шотландии, в уединенном месте. — Сколько ей лет? — Кажется, восемнадцатый год. — Но как же мы заставим ее спуститься со шкафа? — спросила все еще ошеломленная миссис Бамли. Я достал из саквояжа крутое яйцо и копченую селедку: два самых любимых Сильвиных лакомства. — Оставайтесь на месте, — сказал я. — И не двигайтесь. — Затем я подошел к шкафу. — А ну, слезай! — скомандовал я. Не бойся! Ты хочешь есть? Я стоял между миссис Бамли и Сильвой, это ее успокоило. Она с непостижимой легкостью соскользнула со шкафа, схватила рыбу в одну руку, яйцо в другую и, не спуская глаз с незнакомки, принялась уплетать свои лакомства, забившись между стеной и кроватью. Миссис Бамли обволакивала ее своим любящим взглядом доброго бульдога. Сильва на миг оторвалась от еды, в ее глазах блеснуло нечто отдаленно, очень отдаленно, но все же напоминающее улыбку. — Господи, какая же она хорошенькая! — повторила миссис Бамли, совсем растрогавшись. — Эти высокие скулы, очаровательные раскосые глаза. А этот остренький подбородочек! Ну настоящая лисичка!VI
— А она и есть лисица, — сказал я внезапно. Я колебался всего несколько секунд. И вдруг, позабыв осторожность, опрокинув все собственные планы, решился на признание. Не могу даже объяснит ь, почему я так поступил, — просто, видимо, почувствовал, что вот он — подходящий случай, который больше не представится. — Она… кто? — переспросила миссис Бамли. — Лисица. — Вы хотите сказать, что она такая же хитрая? Я покачал головой, глядя ей прямо в глаза. — Я хочу сказать, — повторил я, подчеркивая каждое слово, — что она лисица. Самая настоящая. Она выглядит женщиной, но на самом деле это всего лишь животное. Точнее, молодая лисица. Миссис Бамли вытаращила на меня свои серые глаза, в них я заметил тоскливый ужас. Я улыбнулся. — Успокойтесь, я не сумасшедший. И это не бред. Сядьте-ка и выслушайте меня спокойно. Я придвинул кресло и жестом предложил ей сесть. Она медленно опустилась в него, не спуская с меня настороженных глаз. — Все, что я рассказывал вам до сих пор, неправда. Это не умственно отсталая девочка. И у меня нет никакой сестры в Шотландии. Миссис Бамли прижала к груди свою широкую узловатую руку. Представляю, как у нее билось сердце. Я постарался улыбнуться как можно любезнее, чтобы успокоить ее, боясь только одного: чтобы в ужасе она не вздумала позвать на помощь. Куда мне тогда деваться? Нужно во что бы то ни стало убедить ее, что я вполне нормален. — Вы первый человек, которому я осмеливаюсь это рассказать. Когда-нибудь мне все равно пришлось бы заговорить. До сих пор я боялся довериться кому бы то ни было, ведь меня сочли бы безумцем. И не без оснований. И я рассказал ей всю историю, до последней подробности. Про охоту, гон, внезапное перевоплощение. Если она не верит, пусть расспросит людей в округе: странное исчезновение лисицы, почти из-под копыт лошадей охотников, породило множество пересудов в нашем деревенском кабачке. Далее я рассказал ей обо всех перипетиях дрессировки, успехах и просчетах, о невероятной трудности в одевании Сильвы. Добрая женщина слушала меня молча, ее толстые щеки слегка подрагивали, взгляд изредка отрывался от моего, чтобы обратиться к Сильве, увлеченно грызущей свою копченую селедку, а от Сильвы обратно ко мне. По мере моего повествования на ее широком лице появился намек на улыбку и почти восторженное изумление. Я победил: она поверила мне. — Еще полчаса назад, — закончил я, — мне и в голову не приходило признаться вам во всем этом. Я собирался дать вам возможность самой заметить несоответствия в поведении Сильвы, чтобы у вас возникли вопросы ко мне. Но вы внушили мне доверие, добавил я, положив на ее руку свою, — и я убежден, что вы не выдадите меня. Она правильно оценила эту вольность, вполне оправданную странными обстоятельствами, и долго не отнимала руки, глядя на меня слегка повлажневшими, смятенными глазами и неуверенно улыбаясь. Потом в волнении встала. — Но это… это еще более увлекательно! — воскликнула она сдавленным голосом. Она буквально пожирала Сильву глазами, разглядывая ее с еще большей жадностью, чем та заглатывала свою селедку. — Недаром я сразу сказала, что… что она отличается от всех, за кем я ухаживала! — Но вы ведь никому не расскажете, правда? — настойчиво спросил я. — Ну разумеется, нет! — А то ведь нас обоих запрут в сумасшедшем доме. Она усмехнулась. — Да уж, вполне возможно. Я и то подумала вначале, что вам не помешала бы смирительная рубашка. — Или же меня обвинят бог знает в чем — в растлении, в похищении и прочих смертных грехах. — Это ваша племянница, — твердо заявила миссис Бамли. Сестра у вас вдова, она живет в Шотландии, выходит замуж вторично и потому доверила вам свою дочь. Ничего другого я знать не знаю. Чтобы сблизить Сильву с ее будущей воспитательницей, я попросил эту последнюю к полудню принести ей обед — пару голубей, купленных в Сохо, и они в самом деле быстро подружились. Добрая женщина попыталась было завязать с Сильвой разговор, но потерпела неудачу: та еще была неспособна понимать отвлеченные вопросы, даже самые простые, если они не были тесно привязаны к конкретным, вполне материальным жизненным явлениям. Миссис Бамли огорченно вздохнула. — Может быть, для лисицы она уже знает довольно много, но для женщины, даже самой темной, совсем недостаточно. Мы вернулись в Уордли-Коурт в обычном купе — я хочу сказать, что на сей раз я не стал занимать отдельного. Присутствие няни должно было объяснить все возможные странности в глазах других пассажиров, и, вообще, нам полезно было проделать такой опыт. Сильва, сидевшая между мною и миссис Бамли, вела себя вполне пристойно. Мы заняли наши места заранее, чтобы быть первыми. Всякий раз, как входил очередной пассажир, Сильва вздрагивала, пыталась вскочить, и нам приходилось успокаивать ее. Всю первую половину пути она просидела в страшном нервном напряжении, не сводя глаз с попутчиков, пугаясь каждого их движения, каждого слова. Но наше обращение с ней тотчас все объяснило окружающим, и они перестали удивляться ненормальному поведению «бедной девочки». Сперва они смущались и, испытывая неловкость, как это бывает в подобных случаях, старательно отводили глаза. Но потом наша спокойная снисходительность успокоила их, они расслабились и сделались чрезвычайно любезны, с улыбкой разглядывали девушку и, наконец, спросили, нельзя ли угостить ее шоколадом. Миссис Бамли отрицательно покачала головой: — Она совсем не любит сладостей. Вот если бы у вас нашлась сосиска или котлета, — добавила она шутливо. — А она понимает, о чем мы говорим? — участливо спросила одна пожилая дама. — О нет, вы можете беседовать в ее присутствии о чем угодно, — заверил я. — Она понимает только самые простые слова. Тут же мне пришлось удовлетворять любопытство моих попутчиков — весьма нескромное, хотя и окрашенное жалостью и сочувствием. С удовольствием услышал я, как миссис Бамли, вступив в разговор, излагает вымышленные подробности болезни, звучащие куда более убедительно, чем у меня. Когда поезд остановился на станции Уордли-Коурт, все наперебой кинулись помогать нам выйти и сердечно замахали на прощанье. Сильва к тому времени уже совершенно успокоилась и на «good-bye»[32] попутчиков даже ответила: «Вуе… Ьуе», вызвав новый прилив улыбок и дружеских жестов — до чего же она была грациозна и очаровательна! Едва поезд отошел, мы с миссис Бамли обменялись победными улыбками — и вздохами облегчения. Наше дерзкое испытание увенчалось успехом, и надежды оправдались. Мы нашли лошадь и экипаж там, где я оставил их под присмотром, и поехали в замок. Я представил фермерам миссис Бамли и ее воспитанницу, сопроводив знакомство заранее приготовленными объяснениями, к которым они отнеслись с тем же безразличием, что и ко всему, их лично не касающемуся. Я немного побаивался памяти Фанни, но та не уловила никакого сходства между Сильвой и «призраком», увиденным ею две недели назад. Она отправилась вместе с нами в замок, чтобы помочь миссис Бамли приготовить ее спальню и смежную с ней и с моей спальню Сильвы, если та согласится ночевать там. На это надежды наши были слабыми, и мы заранее приготовились к ожесточенному сопротивлению. В чем оказались и правы и не правы, ибо поведение Сильвы в этом пункте резко разошлось с тем, которого мы ожидали.VII
Она не отказалась от своей спальни, но и не довольствовалась только своей постелью: каждую ночь она перебиралась из одной кровати в другую, вся во власти лихорадочного возбуждения, завладевавшего ею особенно сильно с наступлением темноты, когда ее оставляли одну. Сквозь сон я вдруг ощущал теплую тяжесть ее тела у себя на ногах; какой-нибудь час она спала, свернувшись клубочком, потом внезапная легкость возвещала мне, что она ушла. Наступал черед миссис Бамли принимать непрошеную гостью. Или же Сильва начинала с нее, а потом приходила ко мне: мы никогда не знали, в чьей комнате, на чьей постели застанем ее утром. Сперва мы попытались запираться, чтобы приучить ее ночевать у себя, но она так упорно скреблась в двери, что заснуть было невозможно. Нам следовало привыкать к Сильвиному беспокойному, изменчивому нраву; впрочем, ко всему ведь быстро привыкаешь, и мы не только смирились с этим неудобством, но даже в один прекрасный день, много позже, когда визиты внезапно прекратились, испытали вдруг растерянность, лишившись прочной привычки, растерянность и даже огорчение от подобного дезертирства. В чем и признались друг другу со смехом. Миссис Бамли обращалась ко мне «сэр», я же звал ее «Нэнни»[33]. Прислушавшись, Сильва также начала величать меня сэром. Я упросил миссис Бамли преодолеть свою сдержанность и звать меня моим детским именем «Бонни». Сильва то и дело окликала Нэнни, но стоило появиться мне, как «Бонни» буквально не сходило у нее с языка. Миссис Бамли слегка уязвляло это; предпочтение, хотя справедливости ради она и признавала за мной по крайней мере право первенства. Мы не решались предположить вслух, что здесь, возможно, играет свою роль пол, но каждый из нас про себя думал об этом. Нэнни бдительно следила за нами, и я знал, что она вмешается в случае необходимости. Впрочем, я признавал, что Сильва несправедлива в своем предпочтении: ведь и едой, и играми, и туалетом — всем этим теперь занималась Нэнни. Однажды в четверг утром, пока Нэнни после завтрака помогала Сильве одеться, я удостоился неожиданного визита, который напомнил мне, какой опасности, невзирая на присутствие няни, — я по-прежнему подвергаю себя, не приводя свои дела в порядок с точки зрения закона, что было не так-то легко, если принять во внимание известные обстоятельства. И однако визит этот не был столь уж неожиданным. Доктор Салливен, не будучи моим соседом, тем не менее жил в нашем округе, неподалеку от Уордли-Коурт, в старинном доме под названием Дунсинен-коттедж. Прелестное строение, чем-то напоминающее то, в котором слепой поэт Мильтон жил со своими дочерьми; каждый добропорядочный англичанин посетил и знает этот дом в окрестностях Элсбери: старые, изъеденные временем и непогодой кирпичные стены, стрельчатые окна с мелким переплетом, низко нависшая над ними крыша, которая некогда, видимо, была из соломы, сад с прелестными яркими весенними цветами, правда очень небольшой, — вот на что походило жилище пожилого джентльмена, которого вся округа знала как превосходного врача. Хотя мы и были в прекрасных отношениях, но встречались редко: конечно, расстояние в пять-шесть миль — это не бог весть что, но нужно собраться, вывести тильбюри или запрячь верховую лошадь, да и телефона у меня нет — зачем он мне? — так что никогда не знаешь, застанешь ли хозяина дома. Обычно мы оповещали о своем визите письмом, тем же способом два-три раза в год мы приглашали друг друга в гости. Самые лучшие друзья — те, что живут врозь; именно так поддерживали мы много лет нашу дружбу — наследницу той, что связывала некогда доктора Салливена и моего отца: они вместе учились в Public school[34] близ Таунтона. Доктор рано овдовел: его жена умерла при родах, произведя на свет их первого ребенка, девочку, которую он назвал в честь умершей матери Дороти. С возрастом доктор все больше стал походить на старозаветного персонажа восемнадцатого века, как будто он прямиком сошел с какой-нибудь карикатуры Роулендсона. Он постоянно носил — да и сейчас носит — широченный черный сюртук, глухой жилет, доходящий до белоснежного пристяжного воротничка, и узенькие панталоны, туго обтягивающие колени и щиколотки. Доктор напоминал епископа, перерядившегося в светское платье. У него был большой ястребиный нос, вдобавок еще и толстоватый, высокий лоб, переходящий в лысый блестящий, как зеркало, череп со скудной бахромкой седых волос, пушистых, кудрявых и таких легких, что они трепетали на ветру, как паутинка. Его дочь была моей ровесницей или чуть моложе. В двадцать лет она весьма неудачно вышла замуж. К счастью, ей не пришлось долго страдать, ибо ее муженька скоро укокошили в одном из мрачных притонов лондонского Челси. То было таинственное убийство, совершенное при весьма подозрительных обстоятельствах. Мужа Дороти нашли почти бездыханным в глубине зловонного коридора, за помойными ящиками, куда затащил его убийца. Он умер по дороге в больницу. Брак этот огорчил меня: я был изрядно влюблен в Дороти. Но я выглядел в ее глазах молокососом, где же мне было тягаться с обаятельным авантюристом-краснобаем. После его смерти я стал надеяться, что молодая женщина вернется и мне удастся завоевать ее сердце, излечив его от печали и разочарования. Но Дороти не вернулась. Она нашла работу в Лондоне и осталась там жить. Мало-помалу я забыл ее, иначе говоря, время и разлука сделали свое дело: чувства мои переменились, и когда несколько лет спустя я снова увидел ее, то понял, что любовь моя давно перешла в дружбу. Я побывал в маленькой квартирке Дороти на окраине в районе Фулхем с поручением от ее отца; и если мы в тот раз и обнялись горячо, то лишь как друзья детства, которые слишком Давно знакомы, чтобы испытывать друг к другу что-нибудь, кроме нежности. По крайней мере я считал именно так. И однако во время двух или трех встреч с доктором Салливеном мы избегали разговоров о его дочери. Он также был весьма удручен ее браком, а потом до глубины души оскорблен тем, что она предпочла остаться в Лондоне. Тем не менее он время от времени навещал ее там. Не знаю, но каким признакам он счел, что я по-прежнему увлечен ею. Я никак не мог придумать, чем же разуверить его в этом. Так вот и получалось, что он старался не говорить о ней, дабы щадить мои чувства, а я следовал его примеру, чтобы не расстраивать старика. И вот в то утро в четверг я корпел над составлением счетом к концу года, как вдруг заслышал скрип гравия под колесами двуколки. Встав, чтобы разглядеть гостя, я узнал выходившего из экипажа доктора Салливена. Он помахал мне длинной рукой в черной перчатке и со смехом крикнул: — Заехал так просто, поглядеть! Помогая доктору привязать лошадь под вязами, я с тревогой гадал, на что же это он собирается «поглядеть»? Неужели слухи о Сильве уже дошли до него? Уж он-то ни на минуту не поверит басне о моей шотландской сестре. Я был единственным ребенком в семье, и он отлично знал это. — Я еду от папаши Троллопа, — объяснил доктор. — У него самый обыкновенный насморк, а он поднял тарарам. А к вам завернул, будучи уверен, что наверняка застану дома. В это время года вы, я знаю, редко покидаете замок. Мы вошли в гостиную. Он бросил свой плащ-накидку на кресло и подошел к камину. — Я решил воспользоваться тем, что проезжал мимо, и сообщить вам великую новость: Дороти возвращается в воскресенье! — Она возвращается в Дунсинен-коттедж? Вы хотите сказать, что она распрощалась с Лондоном? Это окончательно? — Надеюсь, что так. Я ведь старею, а она, в общем-то, хорошая дочь. Ее беспокоило, что мне приходится жить в одиночестве. Он энергично растирал руки над огнем. Его длинное полнокровное лицо старого священника сияло от радости. — Вдобавок эта работа в Лондоне была абсолютно бесперспективна. Дороти так и не привыкла к городу. — Я тоже никогда не мог понять, зачем она там живет. Лицо доктора омрачилось. Он неопределенно повел рукой. — Из гордости, я полагаю. Или, скажем, из самолюбия. Не хотела возвращаться на манер блудного сына, так мне кажется. Но слова его были столь же неопределенны, что и жест. Мне показалось, что то была скорее отговорка, нежели ответ. — Да, действительно, великая новость, — промолвил я менее убежденно, чем мне хотелось бы. Я не знал, что и думать о возвращении Дороти. Ведь я должен был просто порадоваться ему. Но по какой-то необъяснимой причине к радости этой примешивалась изрядная толика беспокойства. Старый доктор приписал мое смущение куда более понятным причинам. Взглянув на меня с широкой улыбкой, он сказал: — Это ведь она сама просила меня сообщить вам. — Поблагодарите ее от моего имени. Она, вероятно, хочет, чтобы я в воскресенье встретил ее на вокзале? — О нет, для этого вам пришлось бы встать очень рано, ведь ночной поезд приходит в шесть часов с минутами. Нет-нет, вы просто приезжайте днем в любое время к нам в Дунсинен. Пообедаем вместе. Я говорил себе, что мне, как старому другу, следует настоять и поехать на вокзал. Но воскресные утра я посвящал Сильве, и было бы жестоко, и для нее, и для меня, отказаться от этой единственной возможности близкого общения, оставшегося мне с тех пор, как миссис Бамли взяла бразды правления в свои руки. — Да, правда, — сказал я, — утром мне довольно трудно будет освободиться. Извинитесь перед Дороти, поцелуйте от меня и передайте, что я приеду к чаю. Доктор взял плащ, но на пороге, как мне показалось, заколебался. Ему явно хотелось подробнее поговорить со мною про дочь, о которой мы с ним так редко вспоминали за эти десять лет. Но я не рискнул удерживать его, боясь, что на лестнице каждую минуту может показаться Нэнни со своей воспитанницей. Что я скажу ему, как объясню все это? Я еще не был готов к этому и сам злился на себя за собственную непредусмотрительность. — Не говорите с Дороти о ее замужестве, вымолвил наконец старик несколько смущенно. Странная просьба: ему ведь было хороню известно, что я много раз виделся с его дочерью в Лондоне. — Мне это и в голову никогда не приходило, — заверил я его, незаметно тесня к выходу: я все больше и больше опасался того, что он замешкается в доме. — Ей ведь было всего восемнадцать… Конечно, такая юная, невинная овечка для этого опытного волка в овечьей шкуре… Если бы вы знали, как я корю себя за то, что не смог вовремя разоблачить его. Мы наконец добрались до двуколки. Доктор отвязал лошадь. Перед тем как сесть в экипаж, он задержал мою руку в своей. — Если моя слепота испортила Дороти жизнь, я себе никогда этого не прощу, — сказал он, глядя на меня повлажневшими глазами, с настойчивостью, приведшей меня в замешательство. — Она еще так молода! — пробормотал я. — Не так уж и молода! — прошептал он и, выпустив мою руку, взгромоздился в экипаж. — Да и не о том речь, — добавил он ворчливо, уткнувшись носом в ворот плаща и не глядя на меня. Хотя эти слова вроде бы не предназначались для посторонних ушей, я понял, что он надеется услышать: «А о чем же?» Но, несмотря на любопытство, я так и не задал этого вопроса. «Уезжай! Уезжай!» — молил я про себя. Он устроился на сиденье, и я сказал ему: «Добрый путь!» Доктор встряхнул поводья, щелкнул языком. Двуколка со скрипом двинулась вперед. И тут я увидел, что сзади, на пороге дома, показалась Нэнни. Она с любопытством глядела на удаляющуюся двуколку, удерживая Сильву у себя за спиной. Господи, что будет, если старик обернется! Но он, не оборачиваясь, махнул на прощанье рукой. И наконец повозка скрылась за поворотом дороги. Я вернулся в гостиную, вытирая пот со лба.VIII
Итак, в следующее воскресенье я, как и обещал, отправился в Дунсинен на файф-о-клок. За десять лет в этом когда-то дорогом моему сердцу доме почти ничего не изменилось, и мы не так уж сильно состарились, несмотря на прожитые годы. Каждый из нас инстинктивно занял свое обычное место: доктор в глубоком кресле, Дороти на диванчике, покрытом ее собственной вышивкой, а я между ними. К чаю, который в Дунсинене заваривали всегда очень крепко, подали все тот же сдобный пирог и те же scones[35]. Мне почудилось, что и разговор наш начался с того места, на котором он прервался десять лет назад. Единственное, чего я не обнаружил, — это своего былого чувства. Хотя и в этом я был не очень-то уверен, судя по умилению, которое испытывал. Но мне было не до выяснения собственных ощущений, заботило меня совсем другое: каким образом объявить о существовании Сильвы? Как и прежде, самым разговорчивым среди нас был доктор Салливен. Он говорил медленно, сопровождая свои речи широкими взмахами рук, что делало его похожим на священника, читающего проповедь с кафедры. Дороти сидела молчаливая, с той таинственной улыбкой на губах, которая так волновала меня в былые времена. Я отвечал на вопросы старика — в той мере, в какой мне позволяло навязчивое желание высказать свои тайные мысли. Пока Дороти наливала нам по третьей чашке чаю, наступила пауза. Я воспользовался ею, чтобы с дурацкой поспешностью спросить напрямик: — Скажите, доктор, вы верите в чудеса? Дороти застыла с поднятым чайником в руке. Ее отец поперхнулся и, захлопав глазами, изумленно воззрился на меня. Доктор всегда был крайне религиозен, религиозен на старый манер, основательно, даже если ему и случалось ожесточенно отстаивать перед своим старым другом епископом Солсберийским теорию Дарвина. Наконец он обрел дар речи: — Мы должны верить Писанию. Я покачал головой. — Нет, я говорю о чудесах, которые происходят сегодня, у нас на глазах. Он удивился. — Чтобы я мог ответить вам на это, нужно, чтобы они произошли. Но за всю мою долгую жизнь я лично ни одного чуда не видел. — А как же Лурд? Он скептически махнул рукой. — Позвольте мне усомниться в подобных вещах. Я не папист, и все эти истории католических попов отнюдь не внушают мне доверия. Кроме того, многие врачи, даже убежденные католики, единодушны: большая часть этих так называемых исцелений, даже если предположить, что они имели место, объясняется вовсе не чудом. Резкая активизация обычного биологического процесса под воздействием сильного душевного потрясения — вот вам и объяснение «чуда». — И никто еще не видел, чтобы отрастала ампутированная нога, — добавила Дороти. Я взял чашку, которую она протягивала мне, и возразил: — Прошу извинить, но вы забыли о чуде в Каланде, когда некий Мигель Хуан Пельисер вновь обрел ампутированную ногу по милости Святой девы Пилар Сарагосской. — Это когда же было? — осведомилась Дороти, предлагая мне сахар. — В семнадцатом веке. — Слишком давно. И с тех пор больше ничего? Насколько я знаю, ничего, но вот Дэвид Гернет высказал по этому поводу одно весьма существенное замечание: чудеса, сказал он, не так уж редки, просто они случаются нерегулярно — иногда может пройти целый век без единого чуда, а потом внезапно они начинают сыпаться как из рога изобилия. Я размешал сахар и добавил: — Не знаю, можно ли это считать началом очередной серии, но одно чудо я, во всяком случае, увидел. — Чудо? — воскликнула Дороти. Все-таки глаза у нее были очень красивые, особенно когда она вот так изумленно раскрывала их. Они были голубые, но за этой голубизной, казалось, таился какой-то черный отблеск, который смущал их лазурь — и меня тоже. Ониказались странными на этом чересчур правильном лице — таком правильном, что оно на первый взгляд казалось бы банальным, если бы не чистота черт. — Расскажите! — попросила она. Ее отец, напротив, не думал изумляться: нахмурясь и покусывая губу, он задумчиво разглядывал меня. Я начал: — Мне хотелось бы попросить вас о двух вещах: во-первых, поверить в то, что я вам расскажу, а это отнюдь не легко. Во-вторых, не считать меня сумасшедшим. И, наконец, ни одной живой душе не передавать того, что вы сейчас услышите. — Это уже три вещи! — весело поправила меня Дороти, и видно было, что она принимает мои слова за обычный розыгрыш. — Но все равно, обещаем! Я приготовился сказать: «Я видел, как лисица превратила в женщину», но в тот момент, как слова эти готовы были слететь у меня с языка, я вдруг так ясно осознал всю их необычность, что удержался и промолчал. Последовала долгая пауза, в течение которой я наблюдал, как на лицах моих собеседников медленно проступает удивление, а за ним тревога. Наконец я обескураженно покачал головой. — Нет! — выдохнул я. — Это невозможно. — И, поскольку они явно ничего не понимали, я добавил: — Вы все равно мне не поверите. Дороти собралась было взять меня за руку, но я отстранился, поставил чашку и встал из-за стола. — Извините меня, сказал я. — Боюсь, что глупо испортил вам вечер в самый день приезда. Мне не следовало сегодня заговаривать об этом. Но вы не можете себе представить, насколько я… ну, словом, отступать некуда, теперь мне все равно нужно, рассказать вам. Но я понимаю, что без должной подготовки это невозможно. И я чувствую, что вас, Дороти, я должен пока избавить от моей истории, по крайней мере на первых порах. От всего, сердца прошу вас не сердиться на меня, но сперва я должен довериться только вашему отцу: иначе мне поступить нельзя. Дороги не выказала ни разочарования, ни огорчения — только чуть испуганно взглянула на меня. Я засмеялся, чтобы успокоить ее, и сказал: — Не волнуйтесь так! — хотя мне нечем было подкрепить свой совет. Потом я добавил: — Будет лучше, гораздо лучше, если ваш отец сначала приедет ко мне один. Можно ли, — спросил я доктора, — просить вас снова наведаться в Ричвик-мэнор в один из ближайших дней, если это не слишком затруднит вас? — Я поймал взгляд, которым обменялись отец и дочь, — даже непосвященный понял бы скрытое в нем беспокойство. — Если хотите, я могу приехать завтра утром, — предложил доктор. — О, что вы! — запротестовал я. — Это не так уж срочно. Впрочем, вот что, — торопливо добавил я, ибо мне пришла в голову удачнейшая мысль, — не встретиться ли нам сперва в «Единороге»? Вам это не трудно? — Где угодно и когда угодно, — ответил доктор, и мы договорились о встрече на неделе, утром, до часа аперитива. — Чтобы нам никто не помешал, — объяснил я. После обмена преувеличенными любезностями, за которыми каждый из нас скрыл свое изумление или смущение, я откланялся.* * *
Хозяина кабачка «Единорог» звали Энтони Браун. У него была только одна страсть в жизни — охота с гончими. Я был почти уверен, что он участвовал и в той, где моя лисица исчезла на глазах у охотников. Во всяком случае, мне было известно, что случай тот долго обсуждался в «Единороге»: выдвигалось множество гипотез, из коих ни одна не подтвердилась. Вот почему я и назначил встречу доктору Салливену именно здесь. Когда мы расположились за одним из дальних столиков, я пригласил мистера Брауна распить с нами стаканчик. Мне не стоило никакого труда навести разговор на его любимую охоту. Для начала нам пришлось выслушать скучные подробности многих приключений, где он так или иначе отличился. — Раз уж мы затронули охоту, — вмешался я наконец, расскажите-ка нам, мистер Браун, что это за история с испарившейся лисицей? Я слышал, вы как будто участвовали в деле? — Лучше скажите, что я видел собственными глазами, как она исчезла, словно мыльный пузырь! — завопил он. — Ну а все-таки? Расскажите поподробней. — Да ведь это же прямо у вас под носом случилось, разве не так? Лисица, — объяснил он доктору Салливену, — привела нас прямехонько в Ричвик-мэнор. Ух, до чего ж она была сильна, — водила наших собак до самой темноты. Но под конец и она выдохлась. Псы уже висели у нее на хвосте. Конечно, к тому времени темнело, что правда, то правда, но уши-то у меня, слава богу, на месте. Когда гончие берут зверя, нужно быть новичком зеленым, чтобы не признать их вой. Они вот-вот должны были зацапать ее, это уж точно. — И она исчезла? — спросил доктор. — Я же вам говорю: как мыльный пузырь, перед самым их носом! Когда мы подоспели, псы стояли совсем обалдевшие. Ей-богу, никогда не видал, чтоб у них был такой дурацкий вид. Впрочем, — добавил он со смехом, — мы выглядели не лучше! — Вы знаете, — лицемерно сказал я, — ведь изгородь-то я осмотрел, в ней полно дыр. — Да уж можете мне поверить, — вскричал хозяин, — если бы эта проклятая зверюга, черт ее побери, проскочила в дыру, собаки ее все равно догнали бы. Не стану хаять вашу изгородь, мистер Ричвик, но они перескакивали через заборы и повыше вашего. Нет, нет, она лопнула, как мыльный пузырь, точнее не скажешь, и на моей охотничьей памяти такого сроду не приключалось, мы до сих пор об этом толкуем. А вы, сэр, тоже охотник? — спросили он доктора. Тот ответил отрицательно, мы еще немного поболтали и наконец распрощались с хозяином. Я сел в докторскую двуколку и, пока он щелканьем языка подгонял лошадь, сказал: — Ну как, убедились, что это в самом деле странное исчезновение? — Это и есть ваше чудо? — осведомился доктор. — Увы, если бы так! Это только первая его половина. Скоро покажу вам вторую. — А разве лисица не могла все-таки юркнуть в какую-нибудь укромную щелочку в изгороди? — Ну разумеется, — откликнулся я со смехом, — она именно так и поступила. Только вопрос: почему собаки не догнали ее? Непонятно, не так ли? И почему они вообще вдруг перестали лаять? — По тому что им довелось, — ответил доктор, в свою очередь засмеявшись, встретиться нос к носу с одним из ваших призраков. Я всегда подозревал, что в вашем замке ими кишмя кишит. — С призраком… my foot[36],— пробормотал я мрачно, и доктор заинтересованно глянул на меня. — Вы никому об этом не расскажете? — взволнованно спросил я его, ибо мы уже подъезжали. — Вы помните свое обещание? — Ну да, да, только чего же вы боитесь? — Ни прямо, ни намеком? — настаивал я. — Например, вдруг у вас вырвется невзначай, что вы дали слово молчать, но если бы вы могли заговорить… — Клянусь, мой современный Гамлет, не волнуйтесь вы так! Черт побери, речь ведь идет всего лишь о лисице! Доведись вам убить кого-нибудь, вы бы и то нервничали меньше, ей-богу! — Доведись мне убить кого-нибудь, мне было бы куда легче. — Я первый человек, с кем вы говорите о своем деле? — Второй, после миссис Бамли. — Кто такая миссис Бамли? — Воспитательница Сильвы. — А кто такая Сильва? У вас там еще много припрятано незнакомок про запас? — Нет, это все. Вот мы и приехали. Сейчас вы получите ответ на свой вопрос. Мы в самом деле подъехали к замку. Оставив двуколку на ферме, мы вошли в дом. Миссис Бамли сидела у себя в комнате, о чем я заранее попросил ее. Я предложил доктору выпить еще по стаканчику виски, чтобы набраться храбрости. — Ей-богу, вы начинаете беспокоить меня, — сказал доктор с принужденным смехом, — уж не прячете ли вы у себя труп? — Я ответил, что он даже не представляет, какой сюрприз его ждет. Собравшись с духом, я предложил ему: — Ну что ж, пошли! Я поднялся по лестнице, он за мной. Прислушался у двери. Ничего. Вероятно, Сильва спала. Я стукнул кулаком в косяк, чтобы разбудить ее, и тут же услышал шлепанье ее ног. Тогда я резко распахнул дверь и протолкнул доктора впереди себя. Я заранее рассчитал, какой потрясающий эффект произведет на мою лисицу появление этого человека в черном, длинного, как жердь, с лошадиным лицом, с развевающейся белой гривой. И я не ошибся. Сильва была в одной рубашке. Она подпрыгнула, затявкала — точь-в-точь лисица — и в паническом ужасе заметалась по комнате, пытаясь вскарабкаться вверх по занавесям, как тогда, в самом начале, потом вспрыгнула на комод, а с него на шкаф, откуда уставилась на нас, дрожа всем телом. Этого я и ждал. Выведя доктора за дверь и прикрыв ее, я сказал: — Ну вот, вы видели. Спустимся вниз. Скажи я ему в тот миг: «Влезем на крышу!», он машинально полез бы за мной и туда. Он явно был настолько ошеломлен, что послушно брел следом, спотыкаясь о ступеньки. Когда мы вошли и гостиную и сели, к нему наконец вернулся дар речи, и он глухо пробормотал: — Боже мой! — Потом спросил: Что это за существо? И тогда я рассказал ему все с самого начала. Когда я кончил, он бросил: — Это невозможно, — и кругами заходил по гостиной. Я только возразил: — Дайте мне другое объяснение… Но доктор лишь покачал головой. — Если то, что вы рассказали, правда, значит, произошло действительно чудо. С точки зрения биологии разумного объяснения здесь не существует. И речь не идет о соматическом взрыве, вызванном психическим стрессом, как в Лурде. Подобное преображение, хотя бы в смысле размеров, не укладывается ни в один естественный процесс, даже в самый исключительный. И как ученый я не имею никакого права признать его возможным. — А как верующий? Такая возможность кажется мне крайне сомнительной. Я вздохнул. — Ладно. Тогда не думайте больше об этом. Считайте, что вы ничего не видели. Возвращайтесь домой и забудьте эту историю. Помните, вы обещали мне молчать. Доктор обернулся и взглянул на меня умоляющими, трагическими глазами: — А вы можете поклясться, что сказали мне правду? — Клянусь. Да и зачем бы я стал вас разыгрывать? Он продолжал молча смотреть на меня, потом принялся обескураженно растирать себе лысый череп, и без того красный, безостановочно твердя: — Господи боже мой, господи боже мой! Немного при в себя, он пожевал губами и спросил: — Так что же вы от меня-то хотите? — Сам не знаю, — признался я. Все равно вы рано или поздно обнаружили бы ее. Поэтому я предпочел показать вам ее сам. И потом, я надеялся, что вы подтвердите… — Что вы имеете в виду? — Ну, может, вы осмотрели бы ее? Как вы полагаете, возможно ли, что у нее нормальный человеческий организм? — Да откуда же мне знать?! Впрочем, как уговорить Сильву подвергнуться медицинскому осмотру? Ее понадобилось бы либо связать, либо усыпить. — Спешить некуда, — сказал я, поразмыслив, — успокойтесь, доктор. Вы ее увидели: на первый раз этого уже достаточно. Теперь у вас будет время все обдумать, а я пока буду приручать ее. Приезжайте к нам почаще, чтобы она привыкла к вам. Привозит Дороти — с миссис Бамли Сильва подружилась очень быстро. Надеюсь, что когда-нибудь вы сможете спокойно обследовать ее с всех сторон. Слушал ли меня доктор? Не знаю, во всяком случае, он не ответил. Помолчав, он сказал: — Н-да, ну и история! Хотелось бы знать, как вы из нее станете выпутываться. Только этого мне не хватало! Как будто я сам ежедневно не измерял всю опасность ловушки, в которую мне довелось угодить! Я сказал: — Надеюсь, вы не посоветуете мне пригласить ветеринара, чтобы усыпить ее раз и навсегда? Это предположение было настолько диким, что доктор с удвоенной силой принялся тереть лоб. И внезапно как-то странно засмеялся. — Знаете что? Вы выпутаетесь из этого только одним способом — женившись на ней. Если это была шутка, то настолько глупая, что я даже не счел нужным ответить.IX
Только лишь когда доктор уехал, я с опозданием понял, что в конечном счете он не поверил мне. У нас ведь не принято, каковы бы ни были обстоятельства, проявлять обидную недоверчивость к человеку. К тому же, согласно старой британской традиции, нам свойственно признавать, что в этом мире все возможно, — отсюда наша вера в старину, в призраков. Доктор Салливен отнесся ко мне как истинный джентльмен: вслух он не подверг мои слова сомнению, хотя в глубине души ни на минуту не поверил в них. Да и можно ли было сердиться на него за это? Но что же он хотел сказать своим последним замечанием? Оно, по здравом размышлении, яснее ясного выдавало его мысли: я, по неизвестным ему пока причинам, прятал в замке молодую девушку, явно странную, но слишком уж красивую; одним я выдавал ее за свою племянницу, тогда как сроду не имел сестры, другим пытался объяснить ее появление совершенно невероятным чудом, которому не поверит ни один нормальный человек; в конечном счете это могло привести только к одному — к скандалу, разве что до того я успею жениться на девушке. И вот это, подумал я со стесненным сердцем, он и поведает по приезде своей дочери! Я не сомневался в том, что доктор в глубине души лелеял тайную надежду на возможность устройства нашего с Дороти общего будущего. Не было у меня сомнений и в том, как он воспринял мою историю с лисицей, превратившейся в женщину, и как смотрит на тайное, неестественное присутствие в моем доме этой юной особы. Я мог с уверенностью положиться на его скромность и даже, при необходимости, на публичную поддержку, но только не на его личное одобрение. Неужели я потеряю если не его дружбу, то по крайней мере уважение, которым так дорожил? А вместе с тем и уважение Дороти. При этой мысли я понял, насколько мне по-прежнему дорога дружба молодой женщины… Нет, решил я, без боя я от нее не отступлюсь! В конце концов, я же ни в чем не виноват! Произошло действительно чудо! И Сильва не что иное, как лисица в человеческом облике. Мне нечего скрывать, нечего стыдиться, некого обманывать. Старый доктор не поверил мне? Ну так ему придется поверить, и Дороти тоже. Таковы были мои размышления на исходе того мучительного воскресенья, которое последовало за визитом доктора. Я тотчас написал в Дунсинен, предупреждая, что приеду навестить их в следующее воскресенье. Но к концу недели пылу у меня поубавилось. Какие же доказательства я представлю им? Впрочем, лучшее из доказательств — полное их отсутствие. Мне требовалась основанная на одном лишь моем свидетельстве слепая вера. В довершение неприятностей миссис Бамли получила во вторник срочную телеграмму от одной из своих сестер: у ее матери случился инсульт и она была при смерти. Вот уж, право, не во-время! Я собирался повезти миссис Бамли к Салливенам, чтобы она объяснила им разницу между Сильвой и обычными «бесноватыми»: мнение профессиональной сиделки явилось бы в их глазах вторым — и солидным — свидетельством. Теперь этот шанс был потерян, ведь не мог же я удерживать ее. Она села на поезд вечером того же дня, оставив меня наедине с Сильвой. И тогда, за неимением миссис Бамли, я решил привезти в Дунсинен свою лисичку собственной персоной: разве ее умственное развитие не будет лучшим подтверждением моих слов? Впрочем, скоро я как нельзя более ясно понял всю сложность своего плана: во-первых, обыкновенный здравый смысл обязывал меня представить поведение Сильвы в незнакомом доме и все неприятности, связанные с ее пребыванием там. Стоило только вообразить, как она будет метаться среди множества драгоценных хрупких безделушек: такая сцена была бы достойна фильмов Мак-Сеннета, но ей никак не было места в нашей респектабельной действительности. Кроме того, если Нэнни наловчилась почти прилично одевать Сильву, мне это удавалось лишь с огромными трудностями, а порой не удавалось вовсе. И ни я, ни миссис Бамли так и не смогли пока приучить ее мыться в ванне. А потому стоило закрыть окна и двери в ее спальне, как комната тут же пропитывалась острым запахом дикого зверя. Так оно и случилось в отсутствие Нэнни, ибо весь день я проводил на ферме и не мог следить за Сильвой. По возвращении я буквально задыхался от вони. И я не мог попросить Фанни заменить меня: она боялась подходить к моей «бедной племяннице», которая, по ее уверениям, внушала ей страх. — У меня и так мозги слабые, — жаловалась она. — А поглядишь на того, у кого их и вовсе нет, так вконец свихнешься! — И, добавив: — Лучше уж мне держаться подальше, — тут же подтверждала свои слова делом. Чтобы избавиться от этого невыносимого запаха, мне пришлось бы устраивать в комнате мощные сквозняки, проветривать в саду ковры и одеяла. Но как, оставшись одному, открыть окно — ведь Сильва может тут же выскочить наружу. Я понимал, что прыжок с высоты шести-восьми футов не испугает ее, и у меня не было никаких оснований полагать, что она уже распростилась мыслью о бегстве в свой драгоценный лес. Значит, придется привязывать ее. Легко сказать — привязывать! Продеть один из моих поясов в пряжку, прикрепить ее к цепи, а цепь к ножке кровати не составляло никакой трудности, оставалось только придумать, как надеть этот пояс на Сильву. Помните: лучший способ изловить птичку — насыпать ей соли на хвост? Может быть, сделать это, пока она спит? Но она спала слишком чутко, сторожко, мгновенно просыпалась, и ее трудно было застать врасплох. Сон у нее был действительно лисий — даже не вполглаза. Любой звук поднимал ее на ноги. Итак, моим последним шансом на удачу были наши игры. Сильва очень любила играть с Нэнни и со мной, когда мы на это соглашались. И мы считали необходимым соглашаться, хотя бы для того, чтобы не давать ей спать. Иначе, когда мы не занимались ею, когда она не ела или не бегала от двери к окну, принюхиваясь, повизгивая (мы так и не смогли изжить в ней эту привычку) и пытаясь выбраться из комнаты, все её дневное время было занято сном. Самое тягостное для зверя в неволе это скука. Всякое живое существо, едва лишь оно перестает заниматься привычным делом, утрачивает смысл и основы своего существования, ощущает пустоту и полную бесполезность его. Скука для животного куда более тягостна, чем для человека, она лишает его интереса к жизни, и против этой смертельной напасти оно борется лишь одним способом — сном. Двадцать раз на дню Сильва начинала зевать во весь рот, едва не вывихивая себе челюсть, как запертая в четырех стенах собака, с тем же долгим жалобным подвыванием. И, подобно собаке, она сворачивалась клубочком и засыпала — на десять минут, на четверть часа. Проснувшись, она начинала метаться по комнате, пыталась играть. Если Нэнни и я занимались другим делом, она охотилась: ее излюбленной дичью был табурет. Маленький, круглый, он вертелся у нее в лапках, то есть я хочу сказать в руках, как клубок шерсти, который гоняет кошка. Ей нравилось катать его по комнате и догонять; потом, когда это надоедало, она набрасывалась на какой-нибудь стул и, таким образом, два или три уже сломала. Я восхищался ее ловкостью; она ни разу не ушиблась, как бы ни падала на пол со своей добычей. Она могла разбить стул, но на теле у нее не оставалось ни единого синяка. Когда я бывал дома и в настроении, она предпочитала играть со мной. Это ведь поинтереснее, чем сражаться со стулом, хотя игра всегда носила один и тот же характер борьбы. Я был значительно сильнее ее, но отнюдь не проворнее и, оказываясь побежденным, не всегда делал это по доброй воле. В таких случаях она кусала меня за ухо, в шею. Я старался не слишком затягивать игру: бороться с красивой девушкой в легкой одежде — не самым лучший способ сохранять хладнокровие, даже если сознаешь, что перед тобой всего лишь лисица. Я грубовато отталкивал ее, но она не обижалась, только замирала на мгновение, пристально глядя на меня своими зелеными, холодными, неподвижными глазами, потом зевала со стоном и отправлялась спать. Вот одним из таких «сеансов игры» я и воспользовался, чтобы надеть на Сильву пояс. Поверьте, нелегко одной рукой застегнуть пряжку, однако мне удалось сделать это до того, как она успела понять, что произошло. Она попыталась вырваться, но пряжка уже защелкнулась. Я думал, она убьется, так яростно она отбивалась и рвалась, но цепь была крепкая, кровать тяжелая, и дело кончилось тем, что после серии бешеных рывков, безумных метаний, прыжков и кульбитов, от которых она едва не перерезала себя пополам, накрененная кровать очутилась в другом углу комнаты, а рядом на полу лежала Сильва, такая же выдохшаяся, измотанная, как в тот памятный день охоты, когда она спасалась от собак. Я воспользовался этой передышкой, чтобы распахнуть все окна и дверь, вытащить на солнышко подстилку и матрас и расстелить на лужайке ковер и одеяла. Время от времени Сильва опять впадала в неистовство, но безуспешно. Расстегнуть пряжку ей было не по силам — я выбрал застежку с секретом. Когда запах выветрился, я запер окна и двери и освободил Сильву, отстегнув цепь, но оставив на ней пояс, так как прекрасно понимал, что во второй раз этот номер у меня уже не пройдет. Тогда как «закрепить карабин», как говорят моряки, — это всего лишь вопрос ловкости рук и неожиданности. Впрочем, отстегивая цепь, я тоже порядком намучился, настолько Сильва была напугана и разъярена. Вне себя от бешенства, она жестоко искусала меня. Когда я наконец справился с делом, она, изогнувшись, выскользнула у меня из рук и забилась в свой любимый угол между стеной и полукруглым комодиком, откуда стала наблюдать за мной так же зорко и настороженно, как в первые дни. Я спрятал цепь в ящик, перетащил кровать на прежнее место, расставил вещи по местам и вышел из комнаты, чтобы дать моей лисице успокоиться. Весь этот день она отказывалась от пищи. Назавтра она взяла еду, но издали и спряталась с ней под кроватью. Казалось, она забыла все немногие усвоенные ею слова, и они вернулись к ней очень не скоро, лишь когда она полностью успокоилась. Но даже и теперь ремень продолжал раздражать ее. Она постоянно дергала его, теребила пряжку, но, ничего не достигая, конце концов привыкла к нему. Однако в комнате снова запахло зверинцем, и в следующую пятницу, к тому времени как моя милая Сильва опять стала ручной, пришлось все начинать сначала. Я улучил момент, когда она, повернувшись ко мне спиной, старательно обгладывала петушиный остов, и проворно, так что она даже сперва не заметила, зацепил крючок цепи за пряжку. Увидев, что я открываю окна и дверь, Сильва вскочила и, почувствовав, что ее держит цепь, вновь стала рваться, хотя и не так бешено, как раньше. Она следила за каждым моим жестом. Я успокаивающе твердил: «Ну-ну… стой спокойно… ты же знаешь, что я тебя отвяжу», и она действительно затихла, замерла, только руки ее по-прежнему упорно теребили ремень. Я вынес на воздух подстилку, ковер и расстилал их на траве, когда вдруг услышал за спиной звук мягкого падения. Обернувшись, я увидал Сильву, еще на четвереньках, в цветочной клумбе у стены дома. Мгновенно поднявшись на ноги, она в три прыжка достигла ограды. Я остолбенел от изумления. На Сильве была шерстяная рубашка, но без пояса: вероятно, неустанно теребя его, она случайно расстегнула пряжку. Теперь уже поздно было волноваться по этому поводу. Не успел я опомниться, как она перемахнула через забор и с быстротой лани помчалась к лесу. Я бросился следом, выкрикивая ее имя, но бежал в два раза медленней, чем она. Я еще не одолел и четверти луга, как Сильва испарилась, исчезла в густых лесных зарослях.* * *
Долго бродил я по лесу, зовя Сильву и в отчаянии понимая, что она не откликнется, а отыскать ее в чаще нечего и думать. Несмотря на это, я вернулся, оседлал на ферме лошадь и начал свою одиночную верховую охоту, которую ожесточенно продолжал до самой темноты. Я поднял множество всякого зверья, и среди прочих лисицу, но та была более крупная и матерая, чем Сильва до своего превращения, да и мех у нее был с серым отливом, так что я не стал гнаться за ней. Правда, тут у меня мелькнула мысль, что я ничуть не удивился бы обратному превращению, может быть даже ожидал увидеть Сильву снова в лисьем обличье. Одновременно я вынужден был признаться себе самому, что моя привязанность к ней была не менее двойственной, чем она сама: в каком бы виде я ни нашел ее — зверем ли, женщиной ли, — я бы от чистого сердца возблагодарил за это небеса. Вернулся я уже при лунном свете, в глубоком отчаянии и смятении. Комната показалась мне зловеще-мрачной — холодная, пустая. «Ах! Если я не найду ее, я женюсь, — подумал я. — Я уже разучился жить в одиночестве. Женюсь на Дороти». Но перспектива ввести сюда не мою лисицу, а другое существо почему-то вызвала у меня внутренний протест, странное и невыносимое ощущение кощунственной измены. Словно я был вдовцом, которого, едва он схоронил жену, посещает недостойная мысль жениться снова. Боже! И все это из-за какой-то лисицы! Я был в равной мере поражен и подавлен этим. Истина заключалась в том, что, если бы мне сейчас предложили выбирать между красивейшей девушкой Англии и моей лисицей, пусть даже в ее первоначальном облике, я бы не стал колебаться ни секунды… По этому примеру вы можете измерить всю силу этого моего безумного наваждения к концу изнурительных поисков Сильвы.X
Назавтра, в субботу — в день охоты, я снова оседлал лошадь и весь день рыскал по лесу, с ужасом вслушиваясь в отдаленный гомон загонщиков и лай собачьей своры. К вечеру я подъехал к кабачку «Паблик бар» выпить кружку пива, надеясь и одновременно страшась услышать новости. Разве осмелился бы я вслух заговорить о бегстве Сильвы, о том, что она, может быть, вновь обратилась в дикого зверя — охотничью добычу? К счастью, нынче был гон оленя, и лис оставили в покое. Никто не заговаривал также о встрече с таинственной молодой девушкой, а мне трудно было бы заявить свои права на нее, не рассказав прежде о ее бегстве… Если я найду Сильву, нужно будет показать ее всем моим деревенским друзьям, тогда в следующий раз я не окажусь в таком глупом и безвыходном положении. У меня слегка отлегло от сердца, и я вернулся в замок. Но это лишь вопрос времени, думал я, ведь если мне не удастся изловить Сильву, все может окончиться только трагедией, кто бы ни обнаружил беглянку в том или ином ее облике. Я подумал: а не принять ли мне участие в охоте, несмотря на отвращение к ней, — может, хоть так я смогу помочь Сильве? Во всяком случае, следующая охота начнется лишь через неделю. А что делать пока? В воскресенье я вновь долго и безрезультатно кружил по лесу перед тем, как отправиться, как и договаривался, к Салливенам. Дверь мне отворила Дороги. Вероятно, вид у меня был довольно странный — прилипшие ко лбу потные волосы, растерзанная одежда, потому что она вскрикнула: — Боже мой, что случилось? Позвав отца, она провела меня в гостиную. Пока она наливала мне виски, а старый доктор в своем черном рединготе, усевшись напротив, молча и чуть свысока рассматривал меня, я немного пришел в себя. Даже через силу засмеялся, как бы над самим собой: — Не обращайте внимания. Я весь день провел в седле и слегка устал. Такая дурацкая история! — И я повернулся к Дороти: — Ваш отец оказался на высоте, дорогая. Но я отнюдь не строю иллюзий. Мой рассказ не убедил его. Я полагаю, он передал его вам? Она кивнула, но явно держалась настороженно. — И что вы обо всем этом думаете? — храбро спросил я. Дороти пожала плечами. — Трудно судить по рассказу, ничего не увидев своими глазами. Звучит действительно неправдоподобно, — призналась она. — Вы мне покажете эту… это существо? — Слишком поздно, — сказал я. — Она убежала. — Как убежала?! — вскричал доктор. — Через окно. И умчалась в лес. Вид у меня, наверное, был очень подавленный. Помолчав, старик сказал: — Ну что ж, ей-богу, это лучшее, что она могла сделать. Теперь вы свободны. — Да, — согласился я с горечью, — мне, конечно, следовало бы думать именно так, если бы я был благоразумнее. Но, на свою беду, я думаю как раз обратное — жестоко упрекаю себя. И я поведал им все свои страхи: охоту с гончими, возможность заключения в сумасшедший дом. Дороги сказала немного резко: — Но если это всего лишь лисица, какое это имеет для вас значение? Вы же не несете за нее никакой ответственности! — Нет, — возразил я, — как раз я-то и чувствую себя ответственным за Сильву. — Сам не знаю почему, но, если с ней случится несчастье, я никогда себе этого не прощу. К тому же в деревне ее теперь считают моей племянницей, вот почему невозможно забросить поиски, не объяснив причины. Помолчав, Дороти спросила: — Ну а вы-то сами, кем вы ее считаете? По-прежнему лисице или уже женщиной? Вопрос обрадовал меня. Ибо для того, чтобы задать его, Дороти нужно было начать принимать положение вещей как оно есть. Но он же и привел меня в замешательство. — Вот этого-то я и не знаю, — вздохнул я. — С точки зрения анатомии это, конечно, женщина, но в умственном отношении она лисица. А разве одной анатомии достаточно? — Но если она ведет себя во всем как лисица… — начала было Дороти, но сбилась и слегка покраснела. Я закончил ее мысль: — То вы бы оставили ее в лесу, будь вы на моем месте? Она не решилась ответить «да», только задумчиво потерла кончик носа. Я повернулся к ее отцу: — А что вы думаете об этом, доктор? — Ну, если предположить, что она и в самом деле лисица… — начал он осторожно. — Да, если предположить именно это. А то бы вы ответили если бы я позвал вас лечить ее? Сказали бы, что это дело ветеринара? — Нет, разумеется, но это, как вы сами сказали, вопрос одной лишь анатомии. И я, конечно, стал бы лечить ее, будь она умственно всего лишь лисицей. Но вслед за тем я бы все-таки предложил поместить ее в какое-нибудь специальное заведение. Это единственное разумное решение, поверьте мне! — заключил он, настойчиво глядя на меня. Не начал ли он тоже верить в чудо? Или же это был всего лишь совет… и совет не совсем бескорыстный? Я ответил, пряча от него глаза: — Нет, нет, это невозможно. В приюте она наверняка погибла бы. Как погибнет и в лесу, если останется там. Она нуждается во мне. — А вы, вероятно, в ней? — спросила Дороти тоном, который показался мне слегка ядовитым. — Да, наверное, — сказал я просто. — Я привык к ней. Мину, сиамский кот Дороти, терся о мою ногу. Я погладил его, улыбаясь хозяйке. — Вот если бы Мину пропал, разве вы бы не скучали? — Да, верно, — согласилась Дороти и, словно эти слова, определившие природу моих переживаний, успокоили ее, так же дружески улыбнулась мне в ответ. Хотя тут же и добавила: — Но это ведь не совсем одно и то же, разве не так? Я улыбнулся еще шире: — Да, не совсем… Мину вспрыгнул ко мне на колени и, ласкаясь, замурлыкал. Мы с Дороти теперь глядели друг на друга понимающе, как сообщники. Она сказала: — Мне бы очень хотелось увидеть ее, когда она вернется в замок. — А вы думаете, она вернется? — воскликнул я. — Мину часто сбегает из дому, но всегда возвращается. — Сильва не кошка, она дикая лисица, — озабоченно возразил я. Дороти участливо погладила меня по руке. — Вам будет легче ждать ее, если я в один из ближайших дней составлю вам компанию? — А кто же будет ухаживать в это время за вашим отцом? — Во вторник к обеду приглашен настоятель, — напомнил ей доктор. — Тогда я приеду к вам в среду, — решила Дороти.* * *
Мысль о ее приезде немного успокоила меня. Ночью я довольно крепко спал. В понедельник работа на ферме всецело заняла меня на весь день. Вернулся я очень усталый, но то была приятеля усталость. После ужина я сел у камина и попытался читать. Напрасная попытка — тревога вернулась ко мне. Я старался подавить ее, как вдруг робкое царапанье в дверь заставило меня вскинуть голову. Звук повторился еще и еще раз. С бьющимся сердцем кинулся я открывать. Это была Сильва. Она проскользнула внутрь, как тень, и так же неслышно улеглась на пол у камина. Дышала она учащенно и тем не менее почти спокойно. Но вид ее надрывал сердце: злосчастная рубашка была изодрана в клочья, из-под которых виднелась расцарапанная, кровоточащая, вся в репьях и колючках кожа. Она лежала на боку, в усталой, расслабленной, отдыхающей позе гончей после охоты, откинув назад голову с разметавшимися волосами. Лежала с закрытыми глазами, дыхания ее не было слышно. Я опустился на колени и принялся снимать с нее лоскутья одежды, кое-где прилипшие к ранам. Она позволяла мне делать это, тихонько вздрагивая, когда я тянул за ткань, пропитанную высохшей кровью. Сходив за тазиком с водой, я начал бережно обмывать ее, то и дело извлекая из кожи то репейник, то шип. Она и этому подчинилась, не протестуя, лишь жалобно постанывая. Тут я обнаружил на ней следы укусов: наверняка она пытала, вернуться в свою нору, к лису и лисятам, но ведь теперь она был женщиной, как же могли они признать ее? Конечно, они защищались от этой пришелицы, как от вторгшегося врага. Сколько же времени она, ставшая слишком большой и неуклюжей для своих сородичей, блуждала по лесу, раня тело колючками и шипам, прежде чем решилась возвратиться? А может быть, ей и от охотников пришлось спасаться? Помыв и почистив ее, я смазал раны подсушивающей мазью и припудрил все тело тальком. Мы сидели у камина, здесь был тепло, и она, прижавшись ко мне, что-то зашептала, должно быть в полудреме. Я обнял ее и стал убаюкивать, как ребенка. Впервые я осмелился вот так привлечь ее к себе — обнаженную и беззащитную; я человек порядочный, но также и осторожный и всегда полагал, что самый верный способ противостоять соблазну — это избегать его. Но в этот вечер возвращение Сильвы, на которое я уже почти не надеялся, огромное облегчение, развеявшиеся страхи, преувеличенно острая радость от ее столь трогательной верности мне — все это слегка подорвало мою бдительность; я вдруг ощутил легкость, ликование, беззаботную смелость, к которым примешивалась новая, неизвестная доселе нежность более свободная, более влекущая, более дерзкая и мало-помалу превратившаяся в чувственный порыв… В конце концов, рассуждал я, охваченный пьянящим волнением, ведь она женщина! Так что здесь дурного? Если же это лисица, лишенная души, то где здесь грех? Она мурлыкала в истоме, отдаваясь моей убаюкивающей ласке, ласке пока еще целомудренной. Но вот, не в силах более сдерживаться, я позволил рукам коснуться ее крутых бедер, груди. Пальцы мои задрожали. Мурлыканье прекратилось или, вернее, перешло в нежное кошачье мяуканье. Живот Сильвы вздрогнул и заколебался, меня охватило волнение, и, когда Сильва одним движением повернулась и прильнула ко мне, я едва окончательно не потерял голову. Но тут мяуканье утратило мирную вкрадчивость, зазвучало пронзительно и настолько по-кошачьему, настолько по-животному, что меня словно молния пронзила: я оттолкнул от себя это зачаровавшее меня тело и кинулся прочь, шатаясь от головокружения, от священного ужаса, от тоски, от обыкновенного страха и пронзавшего меня вопроса, безжалостного, как удар кинжала под ребро. Как только я выпустил мою похотливую лисицу, она тут же перестала мяукать и даже мурлыкать и, растянувшись на ковре, стала перекатываться по нему туда-сюда, причем тихонько терлась об него лицом. Я издали смотрел на нее и чувствовал вскипающее во мне смешанное необыкновенное чувство желания и отвращения — мне уже много раз случалось ощутить его, но никогда оно не завладевало мною с такой силой, как в этот вечер. К счастью для меня, Сильва уснула — мгновенно, как засыпают младенцы. Она уснула, сморенная животным изнеможением, а зрелище это, так же как раньше ее мяуканье, погасило во мне последние вспышки похоти, оставив вместо нее одну лишь нежность. Я воспользовался ее забытьем, чтобы искупать ее в ванне; почувствовав касание теплой воды, она слегка вздрогнула, но не проснулась, так я и уложил ее, спящую, в постель, перед тем надев на нее новую рубашку. Я давно уже утратил привычку молиться. Но в тот вечер я возблагодарил Господа за его вмешательство. Я чувствовал, даже не умея, быть может, ясно выразить это словами, что уберегся от особого, тяжкого греха. Я вспоминал, какими коварными, неисповедимыми путями соблазн завладел моими чувствами, когда я сжимал в объятиях мою маленькую лисичку в человеческом облике: ну и что? — говорил я себе в тот миг, кто узнает об этом? Не узнает даже она сама: твои объятия пройдут для нее так же бесследно, как шпага сквозь воду, как уж сквозь щель в скале; назавтра она даже не вспомнит ничего… Благодарю же Тебя, Господи, за избавление грешного раба Твоего от позорных воспоминаний, которые назавтра, в бледном утреннем свете, исполнили бы его отвращением перед самим собой… Я тоже улегся спать. Как и всегда посреди ночи, я почувствовал на ногах теплую тяжесть ее тела… Его соблазнительная близость на миг опять возбудила мое чувственное смятение. Но я уже вполне владел собой. И если я выстоял в самый разгар бури, то мне ли теперь было гибнуть при полном штиле.XI
Но, несмотря на все происшедшее, утром меня ждало разочарование. Почувствовав, что я зашевелился, Сильва проснулась, зевнула, потянулась и спрыгнула с кровати. И почти сразу же оказалась у двери, царапая ее и принюхиваясь. Потом пробежалась по комнате. И вот она уже, тихонько повизгивая, смотрит в окно. «Опять хочешь убежать, — подумал я огорченно. — Значит, ты еще не способна ничего помнить…» Желая посмотреть, что она станет делать, и зная, что входная дверь на ночь была заперта, я выпустил ее из спальни. Она почти оттолкнула меня и кинулась за порог. Пробежала по коридору, но у лестницы как будто заколебалась, помедлила и замерла, наклонясь над перилами в неуверенной, настороженной позе, словно вслушиваясь в недоступные моим ушам звуки. Она так долго стояла неподвижно, что в конце концов я подошел поближе. Вдруг Сильва повернулась ко мне и уткнулась своей нежной мордочкой мне под мышку, словно спасаясь от опасностей внешнего мира. Я боялся шевельнуться. И когда наконец я поднял ей подбородок, чтобы заглянуть в лицо, то увидел, что по ее щеке ползет слеза. Я был буквально потрясен. Слезы! Первые слезы, что пролил Сильва! До сих пор она часто стонала, иногда вскрикивала, но не плакала никогда. Что это, начало преображения? И что оно сулило — надежду или опасность? В любом случае сомневаться не приходилось: то было внезапное пробуждение памяти. Пока мы держали Сильву в доме взаперти, она всем своим инстинктом лесного зверя стремилась на свободу. И нынче утром в спальне, запертой на ключ, именно это инстинктивное стремление вновь неодолимо захватило ее. Но когда я позволил ей выйти, дал возможность снова убежать в лес, к своему лису и своим лисятам, воспоминание о вчерашнем внезапно встало перед ней во всей свое неприкрытой жестокости. Ничем иным, я думаю, невозможно объяснить тот факт, что она так круто повернула назад, показав свою печаль, пролив слезы. Впервые моя лисица не последовала слепо и бездумно зову инстинкта, но поступила как существо, осознавшее свою неудачу. Я, однако, не слишком обольщался на сей счет: собаки, например, тоже не лишены такого рода памяти. И все же я был взволнован, не зная, радоваться или нет. Я отвел Сильву в спальню — впрочем, ее и вести не понадобилось: она жалась ко мне совсем как в день поездки в Лондон, будто опасаясь потеряться, и этим яснее всяких слов дала мне понять, что, поскольку лес отверг, оттолкнул ее, отныне ее жизнью стали эта комната и я. И однако еще много ночей спустя я слышал, как она бродит вдоль стен, принюхивается, скребется в дверь и окно. Да и странно было бы другое поведение у существа, пока еще целиком находящегося во власти атавистической тяги к свободе. Странно было бы, если бы воспоминание о ее горестной неудаче не побледнело в ее дикой душе перед неодолимым зовом родной норы в лесу. С меня хватало того замечательного факта, что я мог наконец держать широко открытыми окна и двери, по крайней мере днем, не боясь ее побега. Страх перед неведомым, казалось, пересилил в Сильве тягу к лесу. В доме она теперь ходила за мной по пятам, как собачонка, и, возвращаясь с фермы, я всегда находил ее сидящей со скрещенными ногами на полу возле двери: она ждала меня. И я почувствовал себя наконец спокойно и уверенно. Мне и, голову не приходило, что покой этот может быть обманчив.* * *
Тем временем Дороти, как и обещала, приехала в следующую среду, после возвращения Сильвы. Выходя из коляски, запряженной пони, которым она правила сама, Дороти тут же спросила: Ну как? Я ответил: — Вернулась. Ослепительно улыбнувшись, она передала поводья парню с фермы, чтобы тот отвел пони в конюшню, и бросила мне: — Вот видите, я же вам говорила! — В руках у нее был небольшой саквояж. — Я приехала с вещами, но, может быть, теперь это лишнее? Я забрал у нее саквояж со словами: — Уж не думаете ли вы, что я позволю вам уехать? — и проводил ее в дом. Мы вошли. Сперва она погрелась у огня, потом я предложил ей показать ее комнату. Мы поднялись на второй этаж. Проходя мимо моей двери, мы услышали мелкие шажки, царапанье, нетерпеливое повизгивание. Дороти остановила меня: — Это она? Я кивнул. — О! — воскликнула она, я хочу взглянуть! Устройтесь сперва, посоветовал я, а потом я приведу ее к вам. — Нет, нет, — настаивала она, — сейчас же! Она так упрашивала, лицо ее горело таким любопытством, что я сдался. — Стойте там, — сказал я и отворил дверь. Сильва в своей шерстяной рубашке стояла на пороге. Увидев, что я не один, она вздрогнула и кинулась прочь. Я удержал ее за руку: — Ну-ну… Не бойся… Дороти тихонько приблизилась, протянув руки и улыбаясь преувеличенно ласково, как улыбаются очень маленькому ребенку. Сильва пристально следила за каждым ее движением. Она оскалилась, обнажив свои острые зубки. И из горла у нее вырвалось глухое ворчание. Я быстро сказал: — Не подходите! Ясно было, что сделай Дороти еще шаг — она будет укушена. Вероятно, она и сама это почувствовала, ибо быстро отдернула руку и огорченно взглянула на меня. Я объяснил: — Это же дикая зверюшка. Дайте ей время привыкнуть к вам. — Обычно животные любят меня, — жалобно ответила Дороти, — позволяют себя гладить. Я улыбнулся. — Здесь не совсем тот случай… Вы ведь сами признали это в воскресенье, когда я был у вас. — Вы хотите сказать… что это… женская ревность? — Очень может быть. Не исключено. Сильва тем временем не спускала глаз с гостьи и продолжала глухо рычать. Вернувшись позже вместе со мной в гостиную, Дороти все еще не могла избавиться от неприятного осадка из-за оказанного Сильвой приема. — Она очень хорошенькая внешне, — признала она. — Но, боже мой, какой скверный характер! — Ну, не жалуйтесь! — возразил я. — Смотрите,ведь она позволила запереть себя в комнате. А часто ли вы встречали такое послушание у дикого зверя? Или у ревнивой женщины? — Вы очень усердно ее защищаете, — заметила Дороти. Я сделал вид, будто не понял намека (если таковой и был), и ограничился усмешкой. — Так как же вы собираетесь поступить с ней в дальнейшем? — спросила она, помолчав. — Ну, откуда я знаю… — начал я, разведя руками. — Сначала нужно приручить ее, разве нет? — Но вы уже сделали это, ведь она вернулась. И, кажется очень любит вас. — Да, но, как вы могли убедиться, она никого, кроме меня, не знает. Не считая, конечно, миссис Бамли. Необходимо сделать ее более коммуникабельной. — Вы думаете, вам это удастся? — Ее успехи позволяют мне надеяться. Видели бы вы ее в первые дни! Да что говорить, спросите у своего отца! Помолчав, Дороти сказала: — Кстати, о моем отце. Он смотрит на это крайне пессимистически. — Отчего? — встревожился я. — Он говорит, что она родилась женщиной слишком поздно. Я поднял брови, ожидая продолжения. — Он утверждает, что если основы, структура интеллекта не сформировались в младенчестве, между двумя и шестью годами, то потом становится уже слишком поздно. В возрасте вашей… лисицы… вы, по его словам, сможете лишь выдрессировать ее, как кошку или собаку, да и то еще вопрос, удастся ли вам это. Все, что сказала Дороти, так совпадало с моими собственными страхами, что я не нашел ничего лучшего, как съязвить. — И именно на это вы, конечно, и надеетесь? — спросил я сухо. Дороти побледнела, потом покраснела, губы ее задрожали от гнева. — Не понимаю, что вы имеете в виду. Мне-то какое до этого дело? Ведь не я же сделала эту замечательную находку! Я устыдился самого себя. В самом деле, что я имел в виду? — Простите меня, — сказал я. — Не знаю, что на меня нашло — наверное, я просто испугался того, что вы правы. — Да я также не понимаю, какое и вам до всего этого дело. Это существо не имеет никаких прав на вас — как, впрочем, и вы на него. — И все-таки именно я подобрал ее. Думаю, это налагает кое-какую ответственность. Во всяком случае, я не могу бросить ее на произвол судьбы, ничего не предприняв, не могу дать ей закоснеть в этом диком состоянии. — Потому что внешне она — женщина? Но если во всем остальном она только лисица, и ничего больше? — А если есть хоть один шанс из тысячи, что она перестанет ею быть, неужели я имею право упустить его? — Но ведь существуют профессиональные воспитатели, специальные заведения, в которых люди умеют гораздо больше вашего, больше даже, чем миссис Бамли. Странное дело: ведь я стремился обсудить с Дороти и ее отцом именно эту проблему. Отчего же теперь эта дискуссия так раздражала меня, стала почти отвратительна? — Я уже объяснял вам, — сказал я нетерпеливо, — что это невозможно по многим причинам. Достаточно будет и такой: я не могу официально подтвердить ее существование. Я ей никто: ни отец, ни брат, ни кузен, ни опекун. По какому праву я буду просить поместить ее в такое заведение? — Да просто сказав правду или полуправду: вы не знаете, откуда она явилась, вы обнаружили ее возле дома в этом плачевном состоянии и подобрали, чтобы вылечить. И теперь вы обращаешь в благотворительное учреждение с просьбой забрать ее от вас. — Слишком поздно. Теперь всей округе известно, что у меня живет дочь моей сестры. — В этих организациях обычно умеют хранить тайну. Они проведут расследование и, без сомнения, сделают нужные выводы. Ваши возражения безосновательны. Если вы пожелаете, мой отец может выступить свидетелем. Ну почему вы упрямитесь? Ведь вы без всякой на то причины взваливаете на себя нелепую ответственность. Ее устами говорило само благоразумие, и однако все мое существо восставало против этого плана. Я злился на Дороти за то, что она вовлекла меня в этот спор, заставив выдвигать против нее доводы, в убедительность которых я и сам не верил. Я попросил Фанни приготовить нам ужин. Во время еды да и после нее Дороти и я избегали продолжения этого разговора. Мы болтали о том о сем, вспоминали детство, нашу последующую жизнь, у каждого свою. Однако о своем житье-бытье в Лондоне Дороти говорила на редкость уклончиво. Я не осмелился расспрашивать ее, мне казалось неприличным проявлять столь нескромное любопытство. Да и помимо соображений приличия, я боялся, что моя настойчивость заставит ее еще больше замкнутся. Ее доверие, напротив, было приятно мне. Да и ей мое, кажется, тоже. Мы допоздна засиделись у камина за беседой. Наконец я проводил Дороти до ее комнаты и пошел к себе. Сильва уж спала, свернувшись клубочком под одеялом, — как всегда, в ногах кровати. Она тихонько простонала, когда я зажег свет, но не проснулась. Мне показалось неприличным сегодня, когда у меня в доме Дороти, делить постель с Сильвой. Я отправился ночевать в соседнюю комнату. Но сон не шел ко мне — мешали взбудораженные, противоречивые чувства. Почему бы не проводить так приятно каждый вечер? Почему бы не жениться на Дороти? Любовь… Нам обоим уже за тридцать, и для счастливого супружеского союза любовь вовсе не обязательна. Мы могли бы вдвоем воспитывать Сильву. Она стала бы нашей приемной дочерью. Но что-то, чего я не мог даже четко сформулировать, мешало мне поверить в такую возможность. Словно я заранее был уверен, что никогда эти две женщины не смогут ни сблизиться, ни мирно ужиться. И что в конце концов мне все-таки придется пожертвовать одной из них ради другой. И, разумеется, Сильвой. А на это я пойти просто не мог. Господи, да неужели же я лишу себя спокойного, приятного будущего, мирного семейного счастья из-за какой-то глупой лисицы?! Я ведь и сам прекрасно понимал, что только безумец может так вести себя. Ладно, решил я, хватит думать о всякой ерунде. Не мучайся больше и спи! Но мысли упрямо продолжали свой бег по кругу. Мне удалось забыться сном лишь на заре.* * *
Уж не знаю, о чем думала этой ночью Дороти, но поутру она была еще очаровательнее обычного, а главное, полна благожелательности к Сильве. — Позвольте мне отнести ей завтрак, — попросила она. — Нам надо подружиться. Мы приготовили вместе яйца и ветчину, и я поднялся вслед за Дороти по лестнице, стараясь на всякий случай держаться не слишком далеко от нее. Я не очень-то был уверен, что Сильва придет в хорошее расположение духа, несмотря на лакомый запах еды, когда увидит вместо меня женщину. Вмешиваться мне не понадобилось, но и об успехе тоже говорить не приходится. Увидав Дороти с подносом в руках, Сильва заворчала, потом с криком «Heт!» вырвала у нее поднос и отшвырнула прочь; подобрав с пола ветчину и то, что осталось от яиц, она залезла под кровать и принялась поедать свою добычу, как маленький неопрятный зверек. — Мне очень жаль, — только и сказала огорченная Дороти. Она помогла мне вытереть запачканный пол. Я был возмущен, но на кого сердиться? На Сильву или на Дороти? Я глядел, как она возится с тряпкой — неизменно изящная, непринужденная. Неужели Сильва при малейшем противоречии будет впадать вот в такое состояние первобытной дикости? И не готовлю ли я себе, упорствуя в желании держать ее в доме, постоянные и нескончаемые неприятности? Дороти протирала пол, а я разглядывал ее профиль — чуточку заурядный, но такой милый, мягкий под очень светлыми белокурыми косами, уложенными надо лбом, — и вспоминал свои ночные размышления, и твердил себе, что если я не женюсь на ней, то буду круглым дураком. Когда все было вычищено, она поднялась и спросила: — Вы ведь не накажете ее, правда? Я возразил: — Но ведь, будь она ребенком, ее бы наказали. Нельзя спускать такие выходки. Она завтра же сделает то же самое. Дороти не соглашалась со мной: — Если вы накажете ее из-за меня, она мне долго этого не простит. Наконец, мне пришлось обещать. Сильва упорно сидела под кроватью, хотя наверняка давно уже съела все до крошки. Ясно было, что она дуется. — Оставим ее в покое! — сказала Дороти. Мы спустились в курительную и сели у камина. Спустя несколько минут я сказал: — Может быть, вы и правы. Вероятно, самое лучшее было бы отдать ее в какое-нибудь специальное заведение. — Это не так уж срочно! — к моему удивлению, возразила Дороти. Она ласково и понимающе улыбалась мне. — Хотел бы я знать — может, со временем… — начал я. Дороти прервала меня: — Вы сами увидите. Заметьте, что в любом случае… — Тут она заколебалась: — Ну-ну? — спросил я, и она продолжила: — В любом случае, каковы бы ни были ее успехи, кому вы сможете демонстрировать ее потом? Столько усилий — и все впустую. — Как это — кому? — Я хочу сказать, что она не из наших. Наверное, взгляд мой выражал в ту минуту полнейшее непонимание. Я хочу сказать, — продолжала Дороти слегка раздраженно, — что вы сможете ее показывать лишь как любопытный феномен. Но не как родственницу и даже не как близкую знакомую. — Да отчего же? — спросил я удивленно. (Я и в самом деле был поражен.) — Оттого что это было бы неприлично. — Господи, да объяснитесь же яснее! — нетерпеливо воскликнул я. — У нее прелестная кожа, но кожа цвета янтаря. Очень красивые глаза, но темные как агат. У них миндалевидный разрез, а скулы похожи на абрикосы… — Вы что, сочиняете стихи или, может быть, это натюрморт? — Одним словом, дорогой мой, она типичная азиатка. Я полагаю, что лисы и пришли к нам когда-то из Азии. У нее такой вид, словно она родилась в Индии или во Вьетнаме. — Это с рыжими-то волосами? Дороти состроила насмешливую гримаску: — О, ну, может быть, кто-нибудь в ее роду согрешил с европейцем… Я был в растерянности. Сам я тоже находил внешность Сильвы несколько экзотической, но не до такой же степени… Если это действительно так, то в будущем мне грозили вполне реальные унижения и неприятности в тот день, когда я вздумаю ввести английское общество «туземку»… Мне захотелось убедиться в том, что говорила Дороти, и я сказал: — Пойдемте взглянем на нее. Мы поднялись наверх. Сильва, вся перепачканная яичным желтом, спала, свернувшись клубочком, в кресле. Мы долго рассматривали ее, потом вышли так же тихонько, как вошли, и я прикрыл дверь. — Ну, признайтесь, что вы преувеличили! — тут же сказал я Дороти. — А вы со мной не согласны? — Нет, я не спорю, доля истины в этом есть. Но не до такой степени… — До такой или не до такой, все равно это слишком. — Я не знал, что вы настолько строги в расовых вопросах, — дивился я. — Строга?! Да я просто обожаю индусов — Ганди, Кришнамурти, Рабиндраната Тагора… Но каждому свое место, не так ли? — А мне кажется, — упрямо сказал я, — что она скорее уж похожа на герцогиню Батскую. — Да ведь всем известно, что матушка герцогини была в наилучших отношениях с каким-то там магараджей. — Ну вот видите, вы же сами сказали, что матушка герцогини согрешила, тем не менее герцогиня Батская живет и благоденствует. Так что давайте кончим этот разговор. — Как хотите, мой дорогой. Но помните: я вас предупредила. Тон нашего разговора, и с той, и с другой стороны, был вежлив, но чуточку суховат. Меня покоробили рассуждения Дороти. Разумеется, каждому свое место, иначе все в обществе пойдет прахом, но все-таки я не сторонник теорий этого французика по имени, кажется, Гобино[37]. Не стоит преувеличивать[38]. Я предложил Дороти прогуляться для разнообразия. Как только мы перестали говорить о Сильве, к нам тотчас вернулись прежнее дружеское согласие, теплая наша привязанность, старая, испытанная годами нежность, согревающая сердце. Мы чудесно провели целый час, бродя по лесу. На обратном пути Дороти, немного устав, опиралась на мою руку. И я спрашивал себя: так ли уж я уверен в том, что больше не влюблен в нее?XII
Дороти прогостила у меня до конца недели. Она считала делом чести подружиться с Сильвой прежде, чем уедет. Ей удалое это лишь наполовину, вполне достаточно, чтобы не посрамить себя. Увидев нас еще раз вместе, Сильва опять зарычала. Но теперь Дороти приносила ей лакомства — цыплят, ветчину. И когда моя лисица поняла, что ей придется либо поститься, либо стать полюбезнее, она отбросила свою враждебность и сделалась мало-помалу вполне сговорчивой. Но ни разу не выказала ей той трогательной привязанности, которой почтила меня или даже Нэнни. Впрочем, вот что странно: когда Дороти уехала, мне показа лось, что Сильва скучает по ней. Правда и то, что у домашних животных это наблюдается довольно часто: привязанность в большинстве случаев есть одна из форм привычки, и они страдают о перемен. Увидев меня одного, Сильва заглянула мне за спину, словно не понимая, где же прячется та, другая, потом обследовала коридор и лестницы. Никого не обнаружив там, она была край не озадачена. Рассеянно, невнимательно поела. Еще дважды или трижды попыталась отыскать отсутствующую. Потом постепенно смирилась с переменой и, казалось, перестала и думать о ней. Но когда через неделю или дней через десять Дороти опять нанесла нам визит, Сильва встретила ее почти радостно. Я говорю «почти»: поведение ее по-прежнему оставалось двойственным, — и двойственность эта была не лишена комической окраски, ибо свидетельствовала об усложненности — пусть и наивной — ее души, если можно говорить о наличии души у молодой лисицы. Сперва, мурлыкая от удовольствия, она позволяла гладить себя по голове, потом внезапно, словно устыдившись собственной слабости, вонзала свои острые зубки в ласкающую ее руку, конечно, довольно слабо, стараясь не поранить, и все же причиняя боль. После чего тут же проворно улепетывала с виноватым видом, но, видя, что Дороги и я смеемся, вновь подходила к нам. Я всегда испытывал большую симпатию и уважение к диким, животным, нежели к домашним (если не считать лошадей), и от меня не укрылось, что Сильва все больше и больше одомашнивалась. И особенно быстро это пошло после того дня, как она добровольно решила остаться в четырех стенах, в Ричвик-мэнор. Став домоседкой, она сделалась послушной, соглашалась мыться в ванне, причем делала это даже с удовольствием, и больше не упорствовала в своем отвращении к платью. Теперь она владела уже целой сотней слов, правда самых прозаических, но, к счастью, сохранила прежний по-южному резкий акцент, доставляющий мне столько веселых минут. Да, в ней оставалось все меньше и меньше влекущего меня дикого очарования, но рождалось нечто иное, что волновало, внушало мне какую-то тревожную нежность, привязанность с примесью страха: то было какое-то лихорадочное нетерпение, охватывающее ее из-за любого пустяка, часто и вовсе без видимой причины. Оно не имело ничего общего с тем волнением, которое побуждало ее скрестись в дверь, принюхиваться у окна, блуждать по комнате. Скорее, это было нетерпеливое стремление двигаться, необходимость перемены места, желание все время ходить из комнаты в комнату. Не понимая источника этого беспокойства, тем не менее выявил одну из его причин: она все реже и реже погружалась в сон и, стараясь избежать скуки, заменила его этим лихорадочным метанием. Когда миссис Бамли, похоронив свою мать, вернулась в замок, я поделился с ней своими наблюдениями. Она ответила: с Сильвой нужно гулять. Все в округе — и на ферме, и в деревне — знали, что я взял на воспитание ненормальную девушку, дочь сестры, и я старался показывать Сильву каждому, кто заходил на ферму. Вот почему мне ныне не приходилось ни прятать ее, ни даже опасаться ее бегства: худшее, чего я мог опасаться в такой ситуации, — это что мне рано или поздно приведут ее, расцарапанную колючками и уставшую. Итак, я поручил ее заботам Нэнни и бесстрашно выпустил в прогулки за пределы ограды. И действительно, спустя час или два обе они благополучно возвращались домой. А какое счастье было наблюдать за их сборами! Каждое утро Сильва так ликовала, словно вчерашняя прогулка начисто выветривалась у нее из памяти: выход за порог был словно освобождением после долгого заключения. Радость переполняла ее, била через край, она вихрем проносилась по саду, крича и прыгая, потом вылетала на дорогу, тут же возвращалась проверить, идет ли за ней Нэнни, и так без устали сновала взад-вперед. Я следил, как они уходят (только не по направлению к лесу, этого мы еще пока боялись), и когда они вновь появлялись на тропинке — то была совсем другая Сильва, чинно шагавшая рядышком с Нэнни. Наконец угомонившаяся, усталая, но сияющая, с развевающейся по ветру гривой волос, грубошерстной юбке, падающей тяжелыми складками, и шерстяном свитере, облегающем ее очаровательную фигурку, она казалась мне издали элегантнейшей спортсменкой, утомленной после долгой игры в гольф. Я открывал ей объятия; она не бросалась в них, как маленький ребенок, а как бы укрывалась, ласкаясь и пытаясь лизнуть мне подбородок. «Нет, не так!» — ворчал я и свою очередь целовал ее, наглядно показывая, как это делается. Но она не понимала разницы, и ей пришлось очень долго учиться целовать меня в щеку так, чтобы не обслюнявить.* * *
Прошло несколько недель. Дороти более или менее регулярно наносила нам визиты, два или три раза в сопровождении отца и мало-помалу Сильва настолько привыкла к присутствию посторонних, что оно перестало ее беспокоить. Но она так и не дала осмотреть себя доктору, как мне хотелось. Однако он и без того с уверенностью утверждал: нет никаких причин полагать, что сложение Сильвы хоть чем-нибудь отличается от человеческого. А вот по поводу ее умственного развития он никаких иллюзий не питал. Да и добрячка Нэнни, с большим пиететом относившаяся к суждению доктора, тоже временами жаловалась на то, что Сильва развивается крайне медленно. И все же она, несомненно, развивалась, и успехи у нее были немалые. Но они всегда ограничивались чисто механическими навыками — скорее как у дрессированной обезьяны или попугая, чем как у ребенка, который учится понимать, рассуждать. Она владела гораздо большим, чем прежде, количеством слов и даже неким количеством фраз, правда очень коротких — не длиннее, чем некоторые немецкие слова, и куда менее сложных, чем некоторые французские; они, эти фразы, выражали не отвлеченные идеи, а всегда что-либо конкретное — какое-нибудь желание или примитивное чувство: страх, нетерпение, неудовольствие. Бедняжка Нэнни по десять раз на дню спрашивала у нее: «Сильва, ты меня любишь?», и та покорно отвечала: «Любишь», но было очевидно, что слово это ровным счетом ничего не означало для нее и что ее любовь к нам, вполне реальная, даже горячая, совершенно не соотносилась с тем, что это понятие означало для нас. То была обыкновенная привязанность дикого существа, неосознанная, органическая, следствие ее боязни одиночества, ее жгучей жажды покровительства, возникшей с тех пор, как она почувствовала себя в лесу чужой, неуклюжей, опозоренной, преследуемой и отвергнутой. На мой взгляд, к этой склонности у Сильвы примешивалось и еще кое-что, трудно определимое словами: некая чувствительность к моему настроению, обостренное внимание к моим словам и жестам и примитивная ревность, проявлявшаяся в тех случаях, когда я слишком долго беседовал с Дороти или даже с Нэнни, забывая о ее присутствии. Тогда она подходила и, точно как в случае с Дороти, вонзала мне зубы в мочку уха ровно настолько, чтобы причинить боль, но не поранить. Я шлепал ее по руке, и она, надувшись, забивалась в угол, откуда продолжала пристально следить за мной. Ее успехи в практической жизни были того же порядка: они являлись результатом скорее дрессировки, чем воспитания. Она сама мылась, одевалась (если не считать пуговиц и шнурков — ими она себя затруднять не желала), ела за столом правда, руками и вылизывая свою тарелку до полного блеска. Позже она лишь подбирала весь соус до капли хлебом, но от этой привычки так и не отучилась никогда. Шло время, и доктор Салливен стал наезжать к нам все чаще и чаще. Может быть, он в конечном счете все-таки поверил, что Сильва — бывшая лисица? Он больше не утверждал обратного и явно увлекся этим феноменом. — Это единственный в своем роде опыт! — восклицал он, встряхивая своей воздушной шевелюрой. — Подумайте: ведь это существо возвращает нас на пятьсот тысяч лет назад, когда первобытные люди, с их сформировавшимся, но еще абсолютно свободным от всякого опыта, от всякого знания мозгом, внезапно перестали быть животными. И все, что будет возникать в ее мозгу, будет для нас потрясающе интересно — если, конечно, допустить, что там вообще может что-нибудь произойти, — добавлял он из осторожности, хотя, по всей видимости, расстался с изрядной долей своего пессимизма. — Этот опыт не будет чистым уже по той простой причине, что моя лисица живет в окружении людей, мыслящих на уровне двадцатого века, — возражал я. Но доктор упрямо качал головой: — Нет, нет, просто опыт пойдет быстрее — к счастью для нас, иначе пришлось бы ждать двести или триста тысяч лет… но он все равно будет не напрасен. Предположим даже невозможное: что ее интеллект в один прекрасный день сравняется с нашим, — так вот, для этого ему необходимо последовательно пройти все этапы развития. Например: осознаёт ли Сильва то, что нам кажется простым и естественным, а именно факт своего существования? Конечно, нет, так же как не осознают этого лиса, лошадь, обезьяна, как не знали первобытные люди, еще полностью находящиеся во власти своих темных инстинктов. Вот он — первый, абсолютно необходимый этап развития. Как он появился, как был преодолен? Чего бы мы ни отдали, чтобы присутствовать при этом первом проблеске сознания наших предков?! И вот теперь, может быть, с помощью Сильвы это произойдет на наших глазах! Разумеется, мы должны ей помочь. Более того, подталкивать ее к этому изо всех сил. Не знаю, каким образом. Я должен это обдумать. Так ли уж я был заинтересован в успехе подобного «опыта»? И преодолении Сильвой всех этих «этапов»? С одной стороны, разумеется, я желал этого, с другой испытывал смутный, невольный страх. И однако, когда Герберт Салливен заговорил со мной о зеркалах, я и не подумал препятствовать ему. Правду сказать, я был слегка уязвлен тем, что Сильва по-прежнему вела себя перед зеркалом, как лисица, а именно: никогда не смотрелась в него. — Великолепно, великолепно, — приговаривал доктор Салливен, — значит, мы начинаем с нуля. Важно устроить ей шок, объяснял он мне. И мы отправились на поиски зеркала больших размеров. Обойдя вместе бесчисленные пустые комнаты громадного замка, мы наконец обнаружили в пыли заброшенной бельевой огромное псише. Почистив, мы притащили его в комнату Сильвы. Все мы собрались там: доктор, Дороти, миссис Бамли и я. Но наша лисица даже не взглянула на него, уделив ему не больше внимания, чем остальным зеркалам в доме. После целого часа тщетного ожидания, в течение которого Сильва, наверное, раз двадцать прошла, мимо псише, не интересуясь им, доктор попросил Нэнни, чтобы та подвела свою воспитанницу к зеркалу и заставила посмотреться в него. Нэнни послушалась, и нам на минуту показалось, что опыт вот-вот удастся. Когда Сильву чуть не силой принудили встать перед собственным отражением, она наконец-то, кажется, увидела, обнаружила себя в зеркале. Но она тут же (классическая реакция!) бросилась искать за зеркалом увиденную ею особу, вернулась растерянная, вновь обнаружила свое отражение и, подойдя поближе, долго принюхивалась, но, не почуяв никакого запаха, потеряла к нашей затее всякий интерес. Для доктора это было чувствительным ударом, но он, как истинный ученый, не принял свой неуспех трагически. — Слишком рано! — заключил он. — Оставьте это зеркало в ее комнате. В один прекрасный день она наконец узнает себя именно в силу привычки. Огорчительно только одно: что я этого не увижу. Но вы мне расскажете. Что же до бедняжки Нэнни, то она переживала нашу неудачу куда более остро. — Ничего у нас не выйдет! — причитала она вечером, когда гости уехали. — Ее несчастный мозг так и останется лисьим. Да, первое заключение доктора было верным: мы сделаем из нее милую дрессированную зверюшку, и ничего больше. Я вспомнил, что Дороти во время опыта загадочно улыбнулась, но мнения своего так и не высказала. Что же до меня, то я склонен был разделить пессимизм Нэнни, но в глубине души, сам себе в том не признаваясь, испытывал какое-то смутное утешительное чувство, весьма похожее на удовлетворение: пока Сильва простодушная, нежная Сильва — останется лисицей, мы будем избавлены от многих осложнений, разве не так? И тогда я мог бы по-прежнему питать к Дороти чувства, которые, именно в силу своей неопределенности, выливались бы то в возвышенные мечты, то в реальные планы. И в то же время у меня будет возможность сохранить около себя такую спутницу жизни, которую всякому мужчине случалось втайне пожелать: скромную, преданную, как бывают преданы только собаки, не предъявляющую никаких требований или претензий. Чем больше Сильва походила на ту, какой была в день своего превращения, тем счастливее и увереннее я себя чувствовал и тем спокойнее и крепче была моя любовь к ней. Правду сказать, я всегда сильно побаивался женщин: скудоумие и безрассудство, скрытые в их маленьких изящных головках, неизменно портят все. И к Дороти я тоже относился с некоторым недоверием. «Ах, думал я, пускай моя маленькая Сильва подольше останется такой же прелестной лисичкой, как сейчас…» Ну а что касается зеркала, то мы его оставили на том же месте. Не знаю, действительно ли доктор рассчитывал, что на Сильву снизойдет внезапное озарение, или же не отступался просто из упрямства. Какое-то время он интересовался у меня, как идут дела, потом, получая один и тот же отрицательный ответ, кажется, окончательно потерял надежду. Да и наезжать стал гораздо реже, предоставляя дочери одной посещать замок. Дороти появлялась у нас довольно часто. Я радовался нашей новой тесной дружбе и даже за нее был благодарен моей маленькой лисичке — ведь это она, сама того не зная, явилась ее очаровательным творцом.XIII
От этой тесной дружбы, от долгих вечеров, проведенных вместе с Дороти, а иногда и с ее отцом у камина, у меня остались воспоминания, полные и очарования, и некоторой монотонной скуки. Я хочу сказать, что за это время ровным счетом ничего не произошло, и все дни были неразличимо похожи один на другой. Несколько раз, воодушевленный особенной нежностью какой-нибудь минуты, я пытался скрытыми намеками навести разговор на возможность совместной жизни. Но всякий раз Дороти уводила беседу в сторону до того, как она рисковала более ясно обнаружить мои или ее чувства. А чувства эти явно совпадали: достаточно нежности и понимания с обеих сторон, чтобы брак получился удачным, но недостаточно любви, чтобы ринуться в этот брак очертя голову. Когда Дороти уезжала, я восхищался ее осторожностью и, даже испытывая некоторую досаду, все-таки гордился собственной осмотрительностью, хранившей меня от поспешных и, может быть, неразумных решений. Когда же я заметил перемену? Да и заметил ли? А может быть я осознал все это уже много позже, a posteriori[39]? Или мне уже тогда чудились в поведении Дороти странные повороты, капризные, ничем не объяснимые всплески настроения? В некоторые дни она приезжала если не мрачная, то по крайней мере рассеянная, вялая; потом мало-помалу ее охватывали возбуждение и разговорчивость, переходившая в нескончаемую болтливость. И, напротив, бывали дни, когда, приехав в прелестном оживлении, она постепенно впадала в безразличие, граничащее с черной меланхолией. И это, было совершенно непредсказуемо. Мне показалось также, что он стала ездить реже; правда, я не придавал этому значения помню лишь, как бывал несколько раз обескуражен, подготовив все к приезду Дороти и так и не дождавшись ее. Все эти странности могли бы насторожить меня, но, повторяю, воспоминания мои пишутся сегодня; а тогда я, если и замечал что-нибудь, не принимал это близко к сердцу. Ибо в тот момент Сильва удостоила нас такими потрясающими сюрпризами, которые потребовали всего моего внимания и неотложных забот. Уже поблекло золото зимнего жасмина, а на смену ему засияли форсигии, пылая огнем среди черных голых ветвей боярышника с едва народившимися почками. На лужайке высовывали головки крокусы и подснежники, дикий виноград тысячами острых пурпурных язычков лизал стены замка. Солнце теперь вставало к востоку от леса, который всю зиму скрывал от нас его восход. Повсюду трепетала заново нарождающаяся жизнь. Именно весной и осенью лес неодолимо притягивает меня. Когда он умирает и когда возрождается. Первыми зеленеют березы; их легкое, как облачко, зеленое кружево листвы приукрашивает нищую наготу дубов и вязов. Ковер из осенней палой листвы пропитался влагой и принял оттенок красного дерева или амаранта; теперь листья уже не шуршат под ногами, не потрескивают с сухим металлическим шелестом, а уходят вглубь, вяло, мертво, словно водоросли, оставленные на песке приливом. На смену глубокому, раздумчивому, сонному молчанию октября, подобному тишине в соборах, приходит победный гомон весенних птиц — перекликаясь меж собой, мягко трепеща крылышками, они суетятся среди легкой вязи еще голых веток: отсутствующие листья пока не соткали для них густой зеленый занавес, который скоро укроет от чужого глаза эту веселую пернатую возню. Лес наполнен множеством прочих звуков: треск сломанного сучка, легкое шлепанье чьих-то ног по мокрой подстилке листвы, ворчание, рык, отдаленный возглас, вздох. Так и идешь сквозь все эти шумы — приглушенные всхлипы, фырканье, чириканье, свист, жужжание, — разбивающие, но бессильные разрушить до конца тяжкое молчание замерших деревьев. Иногда, на короткий миг, тот гам стихает, словно лес вслушивается во что-то, и в тишине чудится, будто слышишь, как поднимаются земные соки от корней к вершинам. Нужно ли было приводить Сильву сюда, в самое сердце этой весенней ликующей стихии, ее родной стихии, в которой она чувствовала себя вольно, как рыба в воде? Ведь она была плотью от плоти этого леса. Я решался на это не без страха. Но теперь моя любовь к ней очистилась от эгоистических притязаний: да, я слишком любил в ней именно то, чем она была, — лисицу и просто не мог лишить ее леса, охваченного весенним возбуждением, которое и сам испытывал столь остро. В конце концов, чем я рисковал? Даже если лес позовет ее и она убежит, что ей останется, как не вернуться ко мне — ведь возвратилась же она тогда, в первый раз! Да и если она не вернется, теперь я могу поднять на поиски хоть всю деревню, поскольку окружающие считают ее моей племянницей и «ненормальной». А если, в худшем случае, ее не найдут, значит, она вернулась к своему прежнему существованию — и тем лучше для нее, я же буду свободен для Дороти… Итак, думал я, смелее, больше великодушия и широты души! В будние дни на прогулку с Сильвой ходила Нэнни. По воскресеньям наступал мой черед, если что-нибудь непредвиденное не одерживало меня на ферме. Бурная радость, которая охватывала Сильву каждое утро, когда она отправлялась на прогулку, переходила в настоящий восторг, когда она видела меня надевающим сапоги, шляпу и плащ. Пока я шел по саду, она прыгала вокруг меня с криками: «Бонни гулять! Бонни гулять!» и норовила первой проскочить в калитку, ведущую в поля, где они с Нэнни гуляли каждодневно. На сей раз я позвал: «Сильва!» Она остановилась как вкопанная и, обернувшись, вопросительно взглянула на меня; на ее остреньком личике было написано крайнее удивление. Мне показалось, что у нее даже ушки встали торчком. Я сделал ей знак и направился к тропинке, ведущей в лес. С каким-то птичьим вскриком она бегом нагнала и перегнала меня и промчалась еще ярдов двадцать, не переставая испускать ликующие, как у жаворонка, трели. Но вдруг она смолкла, приостановилась, словно вслушиваясь, побежала опять. Мне показалось, что на сей раз она двигалась как будто медленней. Словно что-то удерживало ее, тянуло назад. Она вновь остановилась и как бы нехотя, с сожалением, повернулась и неверным шагом направилась ко мне. Вид у нее был настороженный, оробелый. Подойдя, она чуть неуклюже прижалась ко мне, стараясь приноровиться к моему шагу, и пошла рядом, молча, с низко опущенной головой. Мне почудилось, что она слегка дрожит. И я понял, что лес если и не пугает, то по крайней мере со времени бегства моей лисицы выглядит для нее чужим, враждебным может быть, даже жестоким. Я захотел проверить это и, повернувшись, направился обратно к дому. Но, взглянув на Сильву, я увидел, что она с упреком пристально смотрит на меня: так собака, взявшая след, глядит на хозяина, не понимая, почему он не идет за ней. Конечно, я внял этому немому призыву, и мы направились к лесу. Сильва успокоилась, и, когда мы подошли к опушке, она уже перестала дрожать. Дорога сузилась, превратившись в тропинку, вьющуюся между деревьями среди зарослей папоротника. Вдвоем по ней пройти было нельзя. Сильва обогнала меня и пошла первой. К великому моему смущению, я заметил, что теперь у меня заколотилось от волнения сердце. Чего я ждал? Сам не знаю. Может, того, что она вдруг на моих глазах вновь обернется лисицей? Внезапно я понял, что если и не желаю этого, то по крайней мере смотрю на такую возможность с тайным упованием. И это озадачило и смутило меня до крайности. Что же значит, я не люблю ее? И хочу — может быть, из-за Дороти — потерять навсегда? Но при этой мысли сердце у меня заколотилось еще сильней, подсказав совсем иную фантазию, наполнившую мою грудь пьянящими лесными ароматами: хорошо бы нам обоим превратиться в лис! Кто из нас не мечтал хоть однажды стать газелью, дельфином, ласточкой — иными словами, вновь попасть в Эдем, полный невинных радостей и свободы, сбросив с себя груз человеческих обязанностей, оковы христианской морали, гнетущее сознание долга британского гражданина?.. Ах, как хорошо было бы мчаться рядом с моей лисицей по лесным тропам, перепрыгивать через папоротники, охотиться за зайцем или за лаской… Разумеется, подобные фантазии несерьезны, и моя была ничуть не лучше, но, если я и не желал на самом деле превратиться в лиса, мог же я по крайней мере надеяться на то, что сама она станет лисицей?! Да разве и не была она лисицей под обманчивой человеческой личиной? Постепенно до меня дошло, что сожалею я именно о том, что до конца она ни женщина, ни лисица. Ибо, глядя на Сильву в человеческом облике, жестоко оторванную от ее естественного окружения, как отрывается от листа бумаги силуэт, вырезанный из нее ножницами, я постиг наконец, до какой степени одинока и безотчетно напугана ее бедная, примитивная душа. Когда-то Сильва дышала одним воздухом с этим лесом, жила одной с ним жизнью; теперь ей оставалось лишь смотреть на него, как зрительнице, со стороны, любоваться им, как любовался я, — извне, пусть даже мы и проникли в самую его чащу. Все, что раньше было слиянием с природой в каждый миг, в каждом взгляде и движении, — стало нынче лишь объектом наблюдения со стороны, зрелищем, даже если по-прежнему зрелищем чарующим. И, видя, как она вертит головой с живостью белки, следит за полетом вяхиря или коноплянки; как она, подобно проворной лани, прыжком покидает тропинку, чтобы обследовать заросли папоротника, или скребет на ходу кору сухого дерева в надежде отыскать там мед диких пчел; как она замирает на месте, услышав треск ветки или приглушенный жалобный писк куницы; видя, как она повторяет все свои лисьи движения, хотя они давно уже перестали быть движениями дикого зверя и теперь являли собою лишь бледную имитацию, подражание, я чувствовал, что горло у меня сжимается от жалости и нежности. И однако как прекрасна была моя Сильва среди этого леса! Ее пышная рыжая грива горела на солнце, точно лиственницы по осени; головка на подвижной, нервной, но крепкой шее хранила свою гордую, прямую посадку; узкая спина, обтянутая свитером цвета опавшей листвы, изгибалась, чутко вздрагивала при малейшем шуме, при самом легком шорохе; а ноги такие прекрасные, таких благородных очертаний, что в них можно было влюбиться, забыв обо всем остальном, — словно пара проворных лососей, мелькали в своем нескончаемом вальсе среди сумрачно-голубоватых зарослей подлеска… Так мы и шли: Сильва впереди своей упругой поступью, непрерывно переходящей с шага на бег и обратно, всеми клеточками тела открытая шепотам, запахам, трепетам пробуждающейся весны, и я следом, забытый ею, говорил я себе, совершенно забытый!.. Но если я и испытывал от этого легкую грусть, то почти не страдал от нее, напротив, надеялся, от всего сердца и изо всех сил надеялся в этот миг, что Сильва вновь обретет, хотя бы в малой степени, свою — как бы это назвать? резвость? возбуждение? ах да, свою былую кипучую радостную энергию, свойственную ей до превращения, былую неистощимую полноту жизни дикой лисицы, повинующейся одной лишь своей природе одной лишь Природе. Три часа пролетели как одно мгновение. Я осознал длительность нашей прогулки только по внезапно навалившейся на меня усталости, по тому, что вдруг начал волочить ноги. Я взглянул на часы: половина первого! А ведь я даже не знал толком, где мы находимся: Сильва вела меня за собой как бог на душу положит, уступая своим внезапным побуждениям. Но ясно было, что мы отошли от Ричвик-мэнор не меньше, чем на милю. Что скажет Нэнни! Обед, наверное, давно подгорел. А Сильва по-прежнему неслась вперед, как на крыльях, неподвластная усталости. Я позвал ее. Сперва я решил, что она не расслышала — или не захотела услышать. Я позвал ее громче, и она, обернувшись, взглянула на меня добрыми глазами преданной собаки, с промелькнувшим на лице подобием улыбки, умей Сильва улыбаться. Но она тут же понеслась дальше, не сбавляя шаг. На этот раз я выкрикнул ее имя уже тоном приказа, и приказа почти что гневного. Она наконец повернулась, сделав чуть ли не полный оборот и продолжая бег на месте, и встала передо мной в ожидании. Я сказал: — Уже поздно, надо возвращаться. — Сильва молча глядела на меня — внимательно, но отстраненно. Я не знаю, где мы находимся. Ты можешь показать дорогу? Вместо ответа она прошла мимо меня и стрелой рванулась в обратный путь. — О, не так быстро! — воскликнул я со смехом. — Я уже выдохся! Сильва, как будто не поняв меня, мчалась с той же скоростью, и мне пришлось приостановить ее, потянув за юбку. — Не так быстро! — повторил я, и она сбавила шаг. Мы шли так по лесу с четверть часа. Я уже не следил за направлением, будучи уверен, что Сильва еще не утратила ту инстинктивную способность ориентироваться, которой мы, цивилизованные люди, лишились вместе с первобытной дикостью. И в самом деле, вскоре мы оказались на опушке к счастью, она была не так далеко, как я опасался. Прекрасно, значит, мы не слишком опоздаем. У самой кромки леса Сильва остановилась и пропустила меня вперед, как из вежливости пропускают в дверь гостя. Я сделал несколько шагов по направлению к дому, на пороге которого уже ждала нас обеспокоенная Нэнни. Она взволнованно махала рукой. Я радостно помахал ей в ответ, и вдруг, сам не знаю почему, мне показалось, что Сильва не идет за мной следом. Я еще успел заметить, как Нэнни в отчаянии воздела руки к небу, и резко обернулся. Сильва исчезла.XIV
Первым моим порывом было кинуться снова в лес, выкрикивая, как и в тот первый раз, ее имя. Но, очутившись среди деревьев кустарника, среди всех этих лесных шелестов и шумов, еще более глухих, чем тишина, я быстро пришел в себя и с горечью признал свое поражение: бесполезно было искать ее здесь. Сильва скользнула в лес, как ящерица в густую траву, и догнать ее невозможно. Ну как, как я мог позабыть о том, чего так опасался в начале прогулки! Я был разъярен и раздосадован — больше даже раздосадован, ибо за этой яростью на самого себя таилось хрупкое чувство просветленности, если не счастья, которое я испытал при мысли, что Сильва может вернуться в прежнее состояние. И радость того, что Сильва оказалась на свободе, среди своего лесного царства, уравновешивала в моей душе горечь от ее исчезновения. Лишь по этим противоречивым волнующим чувствам я смог измерить всю силу моей привязанности к ней. Так что сейчас потеря Сильвы не слишком сильно мучила меня. Я уже говорил, что допускал подобную возможность и даже предвидел ее последствия: либо внезапное возвращение Сильвы, когда она набегается вволю, либо облава, в результатах которой сомневаться не приходилось. Итак, я повернул обратно. На опушке леса я едва не сбил с ног Нэнни, потрясенную и обессилевшую от быстрого бега. Я попытался успокоить ее, но прежде она выложила мне, как говорится, нею правду-матку. — Да стоило мне увидеть, что вы идете в лес, я сразу поняла, чем это кончится! — кричала она, еле поспевая за мной на своих коротеньких ножках. — Какая преступная неосторожность! Какое недомыслие! И это в вашем-то возрасте! Боже мой, боже мой, бедная девочка, что теперь с ней будет! — Да что с ней может случиться? — спросил я в высшей степени спокойно, вооруженный своим прошлым опытом. — Откуда же я знаю! — простонала Нэнни. — Все, что угодно! — Ну например? — сыронизировал я. Мы быстрым шагом направлялись к замку. Нэнни вдруг остановилась и в упор поглядела на меня. Когда она гневалась, ее сходство с бульдогом становилось просто устрашающим. Обвислые щеки тряслись от ярости, зияющие ноздри пуговки носа конвульсивно вздрагивали, а оскал рта открывал огромные свирепые зубы. В таком состоянии она способна была напугать даже тигра. Но я не был тигром, я улыбнулся, и это привело ее в совершенное неистовство. — А дровосеки?! — прокричала она мне в лицо. — А браконьеры?! А бродяги, а хулиганы, а всякие сатиры, что шляются в воскресенье по лесу?! Вы об этом подумали? Я уже не улыбался. Конечно, Нэнни преувеличивала, но, в общем-то, черт возьми, она была права. Постоянно думая о Сильве как о лисице, я совершенно упустил из виду, что для любого ухватистого парня, бродящего по лесу в поисках приключений, она будет выглядеть обыкновенной красивой девушкой — более красивой, чем другие. «Да нет, ерунда! — подумал я. Она всегда сумеет убежать». Но уверенность моя продержалась недолго. Так ли уж очевидно, что ей захочется убежать? И я вспомнил сцену, происшедшую как раз нынче утром. Нэнни приучила Сильву приходить ко мне по утрам, когда я еще лежал в постели, — «пожелать Бонни доброго утра». И Сильва уже довольно давно и очень охотно делала это. И вот сегодня, поцеловав меня и, как всегда, слегка обслюнив нос и щеку, она внезапноскользнула в постель и прижалась ко мне так пылко, что я, и смущенный и позабавленный, понял причину ее порыва: весна, черт бы ее взял… Природа Сильвы — природа дикой самки, подчиняясь велению весны, требовала своего. Я оттолкнул Сильву и встал с кровати; она тут же, по обыкновению своего пустого мозга, забыла обо мне и отвлеклась, занявшись игрой с каким-то предметом, валявшимся на полу. Я постарался возможно быстрее забыть этот прилив не слишком приятной страсти, но теперь, после предположения Нэнни, что любой нахальный молодчик, повстречавший Сильву в лесу, может воспользоваться ее весенним любовным пылом, чтобы (тут ревность сделала меня вульгарным) «отхватить себе лакомый кусочек», я задрожал, словно охваченный лихорадкой. Холодный пот прошиб меня. И потом, почему только один молодчик? Почему не два, не десять? А сколько лис-самцов, подумал я вдруг, содрогаясь от острой душевной боли, разделяли с ней когда-то любовную весеннюю лихорадку? Слава богу, у меня хватило хладнокровия ровно настолько, чтобы задать себе в тяжелом недоумении вопрос: что же это творится со мной? Неужели я ревную лисицу к ее бывшим избранникам-самцам? Вот это номер! Смеху подобно! Увы, сомнений не было: я не смеялся, напротив, испытывал смертельную муку. «Вот еще новости!» — в бешенстве воскликнул я про себя. Безжалостно бросив бедную Нэнни, я почти бегом устремился к замку. Она беспомощно взывала вслед: «Погодите, погодите, сэр!», не понимая, чем могла обидеть меня, но смутно угадывая, что ее слова глубоко уязвили меня. Я как сумасшедший взбежал по лестнице и заперся в спальне. Сжимая кулаки и скрежеща зубами от бессильной ярости, я метался по комнате, а внутренний голос вопрошал меня: «Ну что, что с тобой? Уж не сошел ли ты с ума?» Но я слушал не его, а голос своего сердца, и не мог не придать, что безумно ревную. Ревность в любой форме всегда казалась мне недостойным чувством. Французы смеются над ней, выявляя в комическом свете в своих театрах (но, поскольку они там еще больше издеваются над обманутыми, но довольными мужьями, они противоречат сами себе и в этом, как и во всем другом), я же считаю, что ревность должна быть предметом не насмешек, а отвращения. Этим частично объясняется тот факт, что и долгие годы воздерживался от женитьбы: лучший способ избежать ревности — оставаться холостяком… И вот теперь я безумствую от мук ревности и от ненависти при мысли обо всех этих лисах-самцах, обуянных жаждой спаривания и кружащих вокруг моей лисицы, которая щедро расточает им свои милости! Так что же мне остается — смириться со своей любовью к ней, и с любовью самой банальной, самой низменной, с физической любовью-желанием? Я призвал себе на помощь образ Дороти. Но это лишь внесло еще большую сумятицу в мои мысли. Да, конечно, когда-то я был увлечен Дороти, может быть, до конца не избавился от того увлечения и теперь, но разве по отношению к ней я терзался такими мыслями? Даже во времена ее постыдного брака я ни за что в мире не унизился бы до того, чтобы представить ее в объятиях мерзавца мужа. Ибо, опустившись до этих воображаемых образов, я в первую очередь испытал бы отвращение к самому себе. И вот теперь эти образы осаждали меня лишь потому, что речь шла не о девушке из хорошей семьи, а о женщине-лисице! Я попытался убедить себя, что эти чувства легче объяснить, принадлежи они не любовнику, а отцу. И мне почти целый час удавалось верить этому: да, конечно, я питаю к Сильве чисто отеческую нежность, я страдаю от отсутствия в ней целомудрия, меня волнует ее будущее, я вообще ненавижу всяких совратителей женщин. Вот какие благородные побуждения движут мной! Но, увы, обман этот длился недолго, и боль, жгущая мне нутро при очередной слишком откровенной мысли, не имела ничего общего с отеческими огорчениями. Муки мои были настолько непереносимы, что я в конце концов подумал: а не лучше ли — как для моего рассудка, так и для сохранения самоуважения — больше не видеть Сильву, предоставить ее своей участи там, в лесу. И как можно скорее жениться на Дороти. Но если даже предположить, что я, приняв это благое решение, найду в себе достаточно сил для его осуществления, это все равно невозможно. Разве могу я открыто взять да и бросить на произвол судьбы свою «племянницу», коль скоро сам столь изобретательно выдал Сильву за таковую? Нет, сказал я себе, слишком поздно. Подобное отречение от нее выглядело бы во всеобщем мнении непонятным и преступным. Хочу я того или нет, мне придется разыскивать Сильву. И я без всякого удивления понял, что эта необходимость исполнила меня одновременно и страхом, и безотчетной радостью. Жестоко измученный всеми этими противоречивыми чувствами, я почти рухнул на постель и наконец заснул. К вечеру я проснулся в состоянии, которое сам определил как душевную просветленность. «Бедный мой друг, ты устроил бурю в стакане воды. Сильва давно уже не лисица, и ее былые лесные браки значат для нее не больше, чем для индийской принцессы любовные похождения свиньи, чья душа переселилась после смерти в душу этой женщины: они просто-напросто канули в небытие. Но Сильва и не женщина, и, если тебе довелось в какой-то момент питать в отношении ее нечистые помыслы, ты все же ни разу не позволил себе хоть на йоту поддаться им. Достоинство свое ты спас. Ну а ревность бог с ней, с ревностью, коли ты поборол ее в себе. И значит, если ты любишь Сильву — неважно, как любовник или как отец, — дай ей свободу быть счастливой на свой манер, а не на твой, пусть потакает своим инстинктам, пусть следует, слепо и покорно, зову своей природы». Я встал. Мне казалось, что хладнокровие вернулось ко мне. Возвышенность этих чувств, благородство моей самоотверженности подняли меня в собственных глазах, придали сил и спокойствия. Выйдя в столовую, я увидел бедную миссис Бамли, которая ждала меня за обеденным столом, такая расстроенная и подавленная, что я невольно улыбнулся и сказал: — Ну, полно, Нэнни, не устраивайте из этого драму. Глядите-ка, я совсем заспался: она меня вымотала вконец этой трехчасовой беготней по лесу. Не горюйте, она скоро вернется, или же мы сами найдем ее, и найдем, поверьте, без всякого труда. Миссис Бамли молча взглянула на меня своими большими грустными и добрыми глазами и покачала головой. — Сильва не вернется никогда, — сказала она.XV
Я не придал почти никакого значения этому пессимистическому предсказанию: известно, что матери и няни склонны впадать в панику от малейшего пустяка. Легкий насморк — и ребенок обязательно должен заболеть воспалением легких, небольшое опоздание: он наверняка попал под машину! Мы прождали беглянку три дня — я довольно спокойно, Нэнни в тоскливом волнении, Сильва не возвращалась. Нужно было на что-то решаться. На четвертый день рано утром я отправился в деревню, чтобы повидаться со своим другом Джоном Филбертом Уолбертоном, который уже больше десяти лет был мэром. Он владел знаменитейшим конным заводом — самым лучшим в Соммерсете (два или три рысака-фаворита последних лет вышли именно из его конюшни) и председательствовал в местном охотничьем обществе. Это был гигант с багровым лицом и густыми пшеничными усами, лезущими рот. Увидев меня, он воскликнул: — А я как раз собирался к вам! Мне ничего не пришлось объяснять ему. Оказываемся, Сильву уже нашли. Или, вернее, было известно, где она находится: в хижине угольщика. Такие углежоги во множестве работали в лесу, превращая древесину в уголь. Хозяином хижины был молодой парень по имени Джереми Холл — молчаливый и, как говорили, слегка придурковатый. Остальные угольщики, старше его по возрасту, издевались над ним, словно желали выместить на обездоленном идиоте все беды своей трудной жизни. Вот почему Джереми жил на отшибе и от одиночества сделался подозрительным, ожесточился. В понедельник вечером угольщики заприметили, что Джереми Холл возвращается из леса в сопровождении какой-то девушки. Они успели разглядеть издали, что одета она была богато, но казалась очень усталой. Сперва они ее приняли за дочь Уолбертона, поскольку она часто охотилась вместе с отцом. Решили, что она, заблудившись, ночевала в лесу, где ее и обнаружил Джереми, который, наверное, пригласил ее отдохнуть в свою хижину, а потом собирается проводить до деревни. Но каково же было их удивление, а затем и возмущение (впрочем, возможно, и зависть), когда наутро они увидели, что Сильва вместе с Джереми вышла из хижины и они вдвоем отправились к ямам для пожога. Она следовала за ним, словно тень. И вернулась с ним вечером в хижину. Высоконравственные угольщики сочли своим моральным долгом отрядить посланца с докладом об этом событии к Уолбертону. Час назад посланец явился в деревню, ожидая увидеть убитого горем отца: дверь ему открыла мисс Уолбертон собственной персоной. Тогда угольщик и мэр стали гадать, кто же эта лесная незнакомка. Косноязычное описание ее внешности, сделанное угольщиком, не подходило ни к одной девушке в округе. И тут Уолбертон вдруг сообразил, что он ни разу не видел моей приемной то ли дочери, то ли племянницы, и уже собирался наведаться ко мне, когда я появился сам. Мы немедленно двинулись в путь. В лесу угольщики указали нам дорогу, и вскоре мы отыскали лачугу Джереми. Она стояла посреди небольшой лужайки, под легкой изумрудной сенью плакучих берез. Внутри никого не было. Но, по словам его товарищей, Джереми имел привычку возвращаться домой часам к десяти утра, чтобы перекусить. Шел как раз десятый час. Я попроси Уолбертона подождать вместе со мной, и он согласился с торопливой любезностью, плохо скрывавшей жгучее любопытство. Мы обследовали хижину. Зрелище было поистине мерзкое. Я заметил, что взгляд моего друга (как, впрочем, и мой собственный то и дело обращается к бесформенному топчану, очевидно служившему кроватью. В ногах этого убогого ложа были навалены грудой ветви и листья, которые лишь с большой натяжкой могли называться постелью. Но вполне можно было представить себе Сильву, проводящую ночь на этой подстилке, среди всяческого мусора, раскиданных ржавых кастрюль, облупленных мисок, покореженных инструментов и прочих предметов, настолько запущенных и старых, что я затруднился бы определить их истинное назначение. Уолбертон посасывал свои усы. В его выпученных глазах светилась странная усмешка, которую он спешил пригасить, взглядывая на меня. Он сокрушенно и важно качал головой, но его красный, как морковка, нос подозрительно вздрагивал. — Надеюсь, — промолвил он, — что эта лачуга не была свидетельницей прискорбного заблуждения… Он умолк, ожидая, что я выражу ту же надежду, но я, памятуя о принятых мною благих решениях, и сам не знал, что лучше надеяться на это или нет. Я не нашел лучшего ответа, как пробурчать что-то нечленораздельное, и тогда он добавил, запинаясь: — Поскольку… если будут последствия, сами понимаете… Я хочу сказать, между этим… недоумком, не правда ли? и этой… этой бедной девочкой… — Я молчал, и он уже слегка раздраженно спросил: — Вы хорошо их себе представляете, эти последствия? — О, никогда ведь нельзя знать наверное… — промямлил я, но он отмел прочь мои слова свирепым: — Ну вот еще! — не оставлявшим никаких сомнений. Не спуская с меня глаз, он твердил свое: — Вы их себе представляете? Я вынужден был молча кивнуть с видом крайней озабоченности, которой на самом деле отнюдь не испытывал: этот едва скрытый упрек по поводу моей легкомысленной неосторожности ничуть меня не задел. Я, хоть убей, не чувствовал себя виноватым. «Последствия?» Ну что ж, если случится такое несчастье, я просто возьму все последствия на себя, вот и все. Что касается остального, то есть «прискорбного заблуждения», то, с честью выйдя из душевной бури, перенесенной мною накануне, я мог поздравить себя с тем, что принимаю его таким, в какое и могли впасть оба эти примитивных создания: естественное действо, невинное следование закону природы, бесконечно далекое от того, что мы называем добром и злом или, иначе, грехом. Но когда двадцать минут спустя я увидел выходящих из леса предполагаемых «провинившихся», мое хваленое хладнокровие покинуло меня в один миг.* * *
Грива жестких, слипшихся волос — некогда белокурых, а теперь черных от грязи и сажи, молодое, но уже изрытое морщинами лицо, мощный, как у гориллы, торс, под тяжестью которого словно бы подгибались тощие ноги колесом, как у бывалого кавалериста; в довершение картины шея, вздутая если не от зоба, то от какой-то опухоли, пустые глаза под нависающей, как романские своды, лобной костью и щетинистые густые брови — одним словом, настоящий питекантроп. Сильва шла рядом с ним, чуть позади. Узнав меня, она с доверчивой радостью кинулась ко мне, потерлась лицом и поцеловала снизу в подбородок на свой манер, слегка лизнув языком. Парень же, завидев нас, остановился шагах в шести и сипло спросил ее, трудно ворочая языком: — Это кто будет? Отец, што ль? Сильва обернулась к застывшему на месте чудовищу, но не ответила, да и как могла она ответить? Ей было еще незнакомо слово «отец». Джереми сделал несколько шажков на своих кривых ногах и схватил ее за руку. Мотнув головой в мою сторону, он повторил — громче и почти угрожающе: — Тебя спрашивают, это твой отец, што ль? Он грубо тряс Сильву за руку. Она, видимо, смутно поняла, что волнует ее кавалера, и ответила: «Бонни», вслед за чем опять поцеловала меня. Парень подошел к нам вплотную. Я был выше его на голову, и ему пришлось задрать подбородок. Глаза его горели диким огнем из-под бровей. Он пробурчал: — Зачем явились? — И, не ожидая ответа, вдруг завопил — Она моя! Слыхали? Катитесь отседова, оставьте нас в покое! И он еще сильнее стиснул хрупкое запястье Сильвы. Мэр выступил вперед. Он был куда выше нас троих. — Послушай-ка меня, парень. Если будешь вести себя смирно, тебя не тронут. Но эта малютка несовершеннолетняя. Так что предупреждаю: тебе грозит тюрьма. — Я и жениться могу, — ответил тот мрачно. — Прекрасно! — со смехом подхватил Уолбертон. — Со временем можешь официально предложить ей руку и сердце. А пока что советую тебе проявить благоразумие и отпустить девушку с ее дядей. Захочешь — приходи любезничать с ней по воскресеньям: — Вы разрешаете? — спросил он, взглянув на меня. До сих пор я не произнес ни слова, так душил меня гнев, так трудно мне было сдерживаться. Подумать только: это чудовище, эта образина, этот дикарь мог подмять Сильву под себя, налечь на нее своей волосатой грудью! Все мои благие побуждения, все разумные доводы рассеялись как дым, мучительная ярость жгла меня. «Идиот, идиот!» — ругал я себя, корчась от первобытного бешенства самца, бешенства, куда более жгучего, чем ревность мне хотелось бы схватить Сильву за волосы, затащить в чащу, повалить на мох и заставить стонать от наслаждения в моих объятиях, а потом бросить там подыхать, и пропади она пропадом. Моего здравого смысла хватило ровно настолько, чтобы заметить удивленный взгляд Уолбертона. Я не ответил на его вопрос, и бледность ясно выдавала мои чувства. Я опомнился как раз вовремя, чтобы не скомпрометировать себя вконец и не дать разгореться ироническому огоньку, уже зажегшемуся в серых глаза мэра. И смог выговорить достаточно сурово, подавляя дрожь в голосе: — Пусть приходит, когда хочет. Пошли, Сильва. Я в свою очередь схватил Сильву за руку, но дикарь не выпускал ее. Мы долго мерили друг друга взглядом. Не знаю, как обернулось бы дело, будь я один: думаю, мы просто схватились бы и бились до крови, до смерти, точно два оленя-самца в брачную пору. К счастью, присутствие моего друга гиганта Уолбертона воспитанного и флегматичного, джентльмена до мозга костей спасло меня от этой крайности. Он похлопал Джереми по волосатой руке и повторил: — Ну-ну, не злись… веди себя смирно… И дикарь ослабил свою хватку. Я мягко сказал: «Пошли…» — и тихонько потянул Сильву за собой. Сперва она как будто подчинилась и, не сопротивляясь, пошла за мной. Я даже почти разжал руку, которой держал ее. Так мы сделали несколько шагов. И вот тут-то, настолько неожиданно, что я даже не успел ничего понять, Сильва вырвалась и, в три прыжка перемахнув через заросли папоротника, скрылась в сосновой чаще. Еще миг и треск сломанных веток на ее пути стих вдали. Мы все втроем остолбенело глядели, как плотно, словно желая защитить беглянку от преследования, сомкнулись за ней кусты. Потом тишину разбил сумасшедший хохот дикаря — торжествующий, издевательский хохот… — Ага! Нате вам… уведите-ка ее теперь! Ну, чего ж вы ждете?! — И он, икая от смеха, заковылял к своей берлоге. — Одну минуту, парень! — Это сказал мэр, и голос его прозвучал так повелительно и жестко, что смех Джереми стих и он обернулся. Мрачно и с тайным беспокойством он взглянул на невозмутимого великана из-под своих кустистых бровей. — Тебя предупредили, — сказал гигант. — Эта девочка несовершеннолетняя. Так вот, если ты сам, по доброй воле, не приведешь ее до вечера в Ричвик-мэнор, завтра утром я пришлю за тобой жандармов. И тогда не миновать тебе тюрьмы, а то и каторги. Имеющий уши да слышит. Не ожидая ответа, Уолбертон схватил меня за руку и потащил за собой.XVI
Мы молча шли по лесной тропе. Уолбертон шагал впереди, и я был рад тому, что он не видит меня и я могу попытаться взять себя в руки. Но мне это плохо удавалось. Говорят, любовь — это зуд, который, чешись не чешись, не проходит. Вот именно такое невыносимое ощущение сейчас и мучило меня, и все мои попытки унять его были напрасны. На опушке леса, расставаясь со мной, Уолбертон сказал: — Не расстраивайтесь. Холл приведет ее к вам, иначе я пошлю за ним жандармов: в любом случае вам беспокоиться теперь незачем. Впрочем, — добавил он, хитро посмеиваясь (почему «впрочем» и почему он усмехался?), — впрочем, эти примитивные существа проявляют иногда большую деликатность, чем этого можно от них ожидать. Помните маленькую Нэнси, служанку в кабачке? Джереми довольно долго за ней ухаживал — если можно так выразиться. А она смеялась над ним, потому что он ни разу не осмелился даже поцеловать ее, хотя бы в щеку. Для чего он говорил это? Чтобы успокоить меня? То, что бедный парень боялся насмешницы Нэнси, было вполне понятно. И Джереми проявлял деликатность, а скорее, робость, но с чего бы ему робеть перед Сильвой? Элементарные приличия требовали, чтобы я пригласил Уолбертона в замок выпить стаканчик виски. Но у меня не было на это сил: мне так хотелось поскорее остаться одному и всласть! «почесаться», что я не сказал ни слова и дал ему уйти. Домой я вернулся не сразу. Одна мысль о встрече с Нэнни в моем теперешнем состоянии (да и в ее тоже) была непереносима для меня. Загнав себя до изнеможения, я почти бегом дошел до старинной ветряной мельницы, чей полуразрушенный остов торчал на холме Шеллоунест-хилл среди зарослей дрока. И там, сидя на развалинах, одетых густым столетним плющом, я наконец отдышался и попробовал спокойно обо всем поразмыслить. Всякий раз, когда мне предстоит решить какую-нибудь личную проблему, я начинаю с того, что честно и беспристрастно оцениваю свои права. В этом есть двойное преимущество: во-первых, я чувствую себя честным человеком, что немаловажно; во-вторых, если права эти действительно подтверждаются (что бывает чаще всего), я уже не боюсь угрызений совести по поводу устранения мною всех препятствий на своем пути. Это род умственной гигиены, которая мне всегда удавалась. Но на сей раз дело было сложнее. Я не мог утвердиться в правах, которые имел на Сильву, и чем дольше размышлял, тем крепче утверждался в тех, которых вовсе не имел. Разве только одно — то, которое мы предъявляем на домашних животных. Сильва не приходилась мне ни дочерью, ни сестрой, ни невестой, ее нельзя было даже назвать сиротой, оставленной мне на воспитание каким-нибудь умершим другом. Абсолютно никаких прав, кроме того, по которому владеешь собакой или лошадью. Ну хорошо, подумал я, обрадованный удачной мыслью, если у тебя есть кошка, ты же не даешь ей по весне бегать с уличными котами. Ты подбираешь для нее подходящего партнера, не так ли? Прекрасно! Значит, если ты отнимаешь у Сильвы этого дикаря, то ты, разумеется, прав, но тогда предложи ей другого, более приличного партнера! Вот тут-то и начиналась путаница. Я подумал о двух-трех вполне приглядных деревенских парнях. И поймал себя на мысли о том, что их любовный союз с Сильвой возмущает меня ничуть не меньше, а может быть, и сильнее, чем отношения с дикарем! Внутренний голос настойчиво подсказывал мне, несмотря на сопротивление: «Ну а ты?… Почему бы и не ты?…» Я отгонял прочь эту искусительную мысль, но она упрямо возвращалась ко мне, и пришлось рассмотреть ее, не обманывая себя. Я взглянул на себя со стороны и явственно вообразил эту картину: достопочтенный мистер Альберт Ричвик в постели с самкой-лисицей, женщиной лишь по облику, занимается, как животное, спариванием с единственной целью — удовлетворить в этом существе без души и разума простое звериное нетерпение, слепую плотскую жажду — результат весенней течки. Отвратительно! Если хорошенько подумать, куда более отвратительно, чем Сильва в паре с лесным питекантропом. Следовательно, и честь моя и благоразумие требуют, чтобы я оставил ее в объятиях этой гориллы? Разве он не подходящий супруг для женщины-лисицы? Разве они две дикие, одинаково примитивные натуры — не созданы друг для друга, чтобы жить вместе, понимая один другого без слов и спариваясь в блаженном неведении греха? Этот головастый урод сразу смекнул, что никакая другая женщина не подойдет ему лучше, не даст больше счастья. А Сильва? — спросил я себя, и ответ был настолько очевиден, что поразил меня, точно удар кинжала. Ей ведь тоже не найти лучшего партнера. И она тоже безошибочным звериным инстинктом угадала это: самец и самка, лис и лисица, не больше и не меньше. Вот какова была их правда, которая никогда не станет моей. Так что же тогда? Мог ли я разлучить их? Имел ли на это право? Но все мои чувства восставали против их союза, — чувства, несомненно подкрепленные логикой, но, как я и сам понимал, уходящие корнями в куда более загадочные глубины, смутные и неведомые для моего разума. Да, я постепенно начинал понимать, что оставить Сильву этому злосчастному Джереми Холлу означало, может быть, дать ей счастье, но притом и наверняка предать ее. Дальше этого в своих рассуждениях я уже не пошел. Ощущение, что я могу предать что-то очень драгоценное для самой Сильвы, властно захватило меня, хотя я и затруднился бы сформулировать это более четко. Я рискую предать ее — но в чем? Уж конечно ее лисьей натуре ничто не грозит. Как и ее примитивному блаженству. Но тогда отчего же, доискивался я, отчего же меня так больно ранит эта мысль о предательстве? Я искал и не находил ответа, и вновь волна нетерпеливого беспокойства захлестывала меня. И внезапно нетерпение это вылилось в желание, весьма своеобразное при подобных обстоятельствах: мне захотелось побыть среди людей. Как будто, общаясь с другими человеческими существами, я мог найти ответ на терзавшие меня вопросы. Вообще-то я уже давно стал настоящим бирюком — старался как можно реже ходить в город, поскольку люди обычно утомляли, раздражали, беспокоили меня; среди них я чувствовал себя уязвимым и испытывал одно лишь желание — как можно скорее вернуться к своим книгам, в мирную тишину старого замка. И вот теперь одиночество среди шелестящих на ветру кустов дрока, среди этих лугов и стены леса на горизонте невыносимым гнетом навалилось на меня. Появилось ощущение — неясное, но навязчивое, что если я не могу, не умею разрешить свои сомнения, то виновата в этом буйная зелень вокруг меня, мощное пробуждение природы от зимней спячки, мое жалкое человеческое одиночество среди слепо и немо торжествующего весеннего расцвета, обрекающего меня на бесславное поражение перед победителем-питекантропом. И пока я, оглушенный этим неслышным гимном природы, нахожусь здесь, мне не найти достойного человеческого ответа. Я встал. Покинув печальные развалины, я добрался до хутора. Там я нанял экипаж у знакомого фермера и попросил его отвезти меня в Уордли-Коурт: была среда, базарный день, народу съедется более чем достаточно. Полчаса спустя я уже бродил в густой толпе или, вернее, позволял ей нести себя, подобно обломку кораблекрушения, который беспомощно отдается на волю беспокойных, неутомимых морских волн, с мерным гулом набегающих на береговую гальку. Я больше ни о чем не думал. Только смотрел. Уши. Шеи. Развевающиеся волосы. Груди — одни упруго стоят под трикотажными платьями, другие тяжело и мягко колышутся. Лица — цвета кирпича, цвета репы или картофеля; щеки гладкие и блестящие, будто из красного мрамора, подбородки вздутые, точно почки по весне, носы, острые, словно нож, торчащий из груши. Вздохи, крики, смех. Натужное кряхтение, устало сопение, тошнотворный запах трепещущего, распаренного на солнце мяса, внезапные приливы и отливы людской массы, подобно скисшему майонезу в опрокинутой банке, который вначале замирает, судорожно вздрагивая, а потом низвергается всей массой прочь из посуды. Я задыхался. Вновь меня захлестнуло это тошнотворное наваждение — органическое кишение жизни, от которого я пытался бежать и которое в избытке нашел здесь; и тот факт, что оно касалось уже не растительного, а животного мира, ровно ничего не менял: лесной питекантроп был по-прежнему прав передо мной — в этом месиве из человеческой плоти я мог видеть лишь все то же слепое, жадное устремление к непристойному соитию, животное желание убежища в четырех стенах и ночной тьмы для того, чтобы свободно предаться бесстыдному блуду. Я вспомнил статью в «Таймс», несколько дней тому назад прочитанную мной, — автор беспокоился о перенаселении земного шара: за полвека людей стало вдвое больше, а к концу нашего столетия будет и втрое! Сплошное мясо, мясо! Обезьяны, гориллы! Нет, мне нечего искать среди этого племени, этого человечьего месива, — здесь я нужного ответа не найду. Я был так убит и подавлен, что завернул в первую попавшуюся пивную, уселся в глубокое кожаное кресло, поседевшее от старости, и заказал два виски, одно за другим. Меня не покидало чувство, что я в чем-то допускаю ошибку, поскольку, оставив Сильву в руках ее питекантропа, я все-таки предал ее. И это чувство я не мог ни прогнать, ни принять. Сколько же виски я выпил? Не знаю. Как не знаю и того, сколько времени провел в пивной, сгорбившись в своем кресле и с закрытыми глазами мысленно смакуя бесчисленные непристойные образы, танцующей вереницей проносящиеся передо мной в алкогольных парах. Не помню, как я выбрался на улицу, могу лишь сказать, что была уже ночь. Не помню, как нанял экипаж (или как кто-то нанял его для меня) и как доехал до Ричвик-мэнор. Первое, еще неясное воспоминание, об этой ночи — бульдожье лицо миссис Бамли. Или, вернее, отдельные части лица, которые мне никак не удается соединить вместе: два скорбных глаза, две неодобрительно дрожащие щеки, две длинные, узкие губы, раздвинутые так, что рот кажется пропастью, в глубине которой движется влажный багровый язык, ужасно зачаровавший меня своим цветом. И ее слова, долетающие до меня откуда-то издалека: «Сильва вернулась. Она наверху». Дальше я вспоминаю бесконечно длинную лестницу, которая упорно поднимается и опрокидывается вместе со мной. Наверное, я падал бессчетное количество раз, потому что на следующий день колени у меня болели адски. Дверь в конце темного коридора коварно сопротивляется мне. Потом еще более коварно и неожиданно уступает, распахивается, и я грохаюсь наземь, а уж дальше продвигаюсь по ковру на четвереньках. Тяну к себе простыни с кровати, за ними следует одеяло, и то, что я вижу, разом выбивает из меня хмель, или нет — ах нет! — опьянение мое волшебно ширится, заводит вдохновенную песнь, гремит в поднебесье, словно труба архангела… Я созерцаю это спящее тело, грациозно изогнутое в позе красавиц Корреджо, и мне кажется, что наконец-то чудесная истина открылась моему сердцу. Тайны больше нет. Осиянный неведомым светом, я возношу небесам благодарную хвалу, может быть неумелую, но оттого не менее благоговейную. Аллилуйя! Аллилуйя!.. но все, что произошло вслед за этим, осталось навеки сокрытым от меня. Поверьте, если бы намять моя сохранила хоть один образ, даже самый туманный, я описал бы это здесь. Но нет, ничего: то, что последовало за моей осанной, кануло в черный колодец забвения. И, пробудившись, я смутно осознавал лишь одно: что провел чрезвычайно бурную ночь.XVII
Проснувшись на следующий день уже протрезвевшим, я обнаружил, что держу в объятиях, зажав между подбородком и коленями, точно орех в щипцах, Сильву, по-лисьи свернувшуюся калачиком; ее волосы щекотали мне лицо. И я удивился тому, что, хотя хмель и слетел с меня, я совершенно не чувствую себя ни сконфуженным, ни пристыженным, ни растерянным, лежа в обнимку с этим юным созданием. Напротив, у меня было легко и радостно на душе. Хорошо помню, что я подумал, в счастливом опьянении созерцая это грациозное золотистое тело спящей сильфиды: «Наконец-то я все понял! Нет больше никакой тайны». Но тщетно я силился, несмотря на это ощущение внезапного провидения, отыскать то, что так ясно и непреложно постиг вчера, в алкогольных парах. Я не помнил ничего. Впрочем, так же тщетно я пытался определить, из какого источника черпал накануне то чувство не то стыда, не то отвращения, которое так долго преследовало меня и которое удалось изгнать лишь шести стаканам виски: по логике вещей оно должно было возродиться сегодня, поскольку, думал я, условия со вчерашнего дня не изменились, поскольку эта маленькая теплая зверюшка, что лежит мягким комочком в изгибе моего тела, по-прежнему, женщина лишь по внешнему облику. Я отнюдь не стремился к самообману. Это лисица. И все же, стараясь представить, что могло произойти нынешней ночью (а может, ничего и не произошло?), я не ощущал ни стыда, ни сожалений. Былое отвращение казалось мне теперь глупостью, нелепым предрассудком. Так что же изменилось? Если не Сильва, значит, я сам? Сначала я, движимый христианским смирением, предположил, что, если мне не удалось поднять Сильву до человеческого уровня, следовательно, я сам опустился до ее, лисьего. Так ли уж это невозможно? Разве не испытал я, толкаясь в рыночной толпе, это животное, плотское наваждение? Не было ли оно вещим знаком постыдной деградации личности? Но я держал в объятиях мою спящую лисицу, чувствовал, как дыхание тихонько вздымает ее молодое, прильнувшее ко мне тело, и не испытывал ни стеснения, ни даже беспокойства: я только улыбался с невыразимой нежностью, и, клянусь, в нежности этой, в бесконечном покое, завладевшем мною, не было ровно ничего звериного. Чтобы полнее убедиться в своем душевном умиротворении, в новом настрое мыслей, я разбудил Сильву и спокойно стал поглаживать ее по спине, как гладят мурлычущую кошку. И, вслушиваясь в это довольное, нежно рокочущее в ее груди мурлыканье, я с восторженным изумлением понял, что уверен, глубоко уверен: однажды я добьюсь того, что это мурлыканье перестанет быть одиноким голосом неодушевленной плоти и превратится в любовную песнь существа, которое не только покоряется, но и само одаривает другого, душой и телом предается священному причастию человеческой любви; я понял, что если вырвал мою лисицу у ее питекантропа, лишил невинных, но слепых любовных игр, услаждающих нищие духом создания, то сделал это (даже сам того не сознавая) именно в силу неопровержимой уверенности, что когда-нибудь, позже, моими стараниями, Сильва обретет способность приобщиться истинной любви; что отдать ее на произвол собственных инстинктов, пусть даже составляющих ныне ее счастье — благодать примитивных существ, было бы именно предательством; что лишь моя неуклонная верность, преданность и мужество, напротив, заставят ее, пусть медленно, переродиться из бездумной зверюшки в любящую женщину, в возлюбленную, даже если это и чревато для нее страданием; что отныне мне предстоит жить этой надеждой или, вернее, этим стремлением. И должен с некоторым стыдом признать: пока я справлялся с нахлынувшим потоком мыслей и ощущений, я ни разу не подумал о Дороти.* * *
Но когда рано поутру миссис Бамли обнаружила меня в Сильвиной постели (что, в общем-то, оказалось самым простым способом ввести ее в курс моих намерений), возмущению ее не было предела. Она буквально задохнулась и от неожиданности едва не лишилась чувств. Я влил в нее стаканчик рома и, накинув халат, повел в гостиную со словами: «Нам нужно поговорить». Но миссис Бамли была слишком потрясена, чтобы выслушивать меня. Она разразилась бессвязной нескончаемой речью, словно от шока у нее внутри включился какой-то неуправляемый автомат. Настоящая шарманка, без конца выдающая несколько возмущенных восклицаний: «Злоупотребить положением этого создания!..» Трудно было понять, чего в этом бурном потоке больше — стыда за меня или страха за «бедную малютку». И наконец я уразумел, что она обвиняет меня в ужасающем разврате (я и сам думал накануне то же самое), который грозил в первую очередь погубить надежду на развитие этого отсталого юного существа, порученного ее заботам. — Не начнет ли она скоро нуждаться в вас как в отце?! — вопрошала миссис Бамли с пылким состраданием. — Вы только представьте себе, что будет с ней, когда… Напрасно пытался я остановить ее, объяснить, какое открытие я только что сделал и как надеялся со временем заставить мою милую Сильву взглянуть на меня иными глазами, миссис Бамли не слушала меня. Десять раз я принимался за объяснения, но она упрямо трясла головой, не прекращая своих поношений. Наконец, взбеленившись, я вскочил на ноги с криком: — Вот дурья башка! Если вам это не нравится!.. Она вскинулась и бросилась к двери. Я поймал ее за руку, заставил снова сесть и собрался в сотый раз начать свои объяснения, как вдруг раздался стук, и дверь, ведущая в сад, отворилась. На пороге стоял злосчастный Джереми. Он явно вымылся с головы до ног, облачился в праздничный костюм, и его волосы альбиноса, распушенные хорошим шампунем, торчали дыбом вокруг его грубой физиономии, уподобляя голову одуванчику. Но я был чересчур взбешен, чтобы оценить комизм положения или умилиться. Я только-только успел засадить Нэнни обратно в кресло и в ярости обернулся на стук; увидев это разряженное чучело, я бросился на него с таким решительным, а может быть, и угрожающим видом, что он попятился назад, отступив за порог. Я трясся от гнева. — Вон отсюда! — взревел я. — Катись, и чтоб я больше тебя не видел или сейчас спущу на тебя собак! Хорош бы я был тогда, дойди дело до этого: оба мои мастифа, отличаясь весьма свирепым видом, неспособны были и муху обидеть. К счастью, Джереми об этом не знал, он отступил еще дальше, на крыльцо, и я, захлопнув дверь перед самым его носом, дважды повернул ключ в замке. После чего, все еще дрожа и злобно сжимая кулаки, вернулся к Нэнни, которая с разинутым ртом и трясущимся подбородком, смертельно бледная, в ужасе глядела на меня, ожидая, вероятно, что я сейчас брошусь душить и ее. «Спокойствие! — подумал я. — Только спокойствие». Я подошел к ней, постарался улыбнуться. И тут окно гостиной разлетелось вдребезги. За ним второе, и третье. Один из камней подкатился к моим ногам. Что было делать — позволить этой скотине перебить все стекла в доме? Но когда я выбежал в сад, Джереми уже превратился в смутную тень, стремглав несущуюся к лесу — совсем как некогда убегала Сильва. При этом воспоминании весь мой гнев мгновенно улетучился. Бедный парень! Я слишком хорошо понимал его отчаяние. И в последний раз я спросил себя, не проявил ли я излишний эгоизм и жестокость, оторвав мою маленькую лисичку от родного леса и дикой любви этого лесного лорда-дикаря. Задумчиво вернулся я обратно в гостиную, где Нэнни так же задумчиво ждала меня. Мы обменялись долгим взглядом, в котором уже не было ни нетерпения, ни гнева. Я вздохнул и сказал: — Вы, конечно, считаете меня виноватым. — И, поскольку миссис Бамли не отвечала, я продолжал: — Она была бы счастливее в лесу, с этим человеком. Гораздо счастливее. Да-да, это именно так. — Нэнни по-прежнему молчала, глядя на меня. — Она всего лишь молодая лисица, — признал я грустно, — она была, есть и будет ею, а мы строим химерические планы по поводу ее будущего, когда, вероятно, упорствовать просто глупо. — Я смолк и сел у камина, вороша щипцами давно остывшие угли: с минуту в гостиной царило молчание. Поскольку Нэнни сидела, застыв, как статуя, и молчание становилось невыносимым, я вскричал, не глядя на нее: — Да скажите же хоть что-нибудь! Тысяча чертей, я ведь знаю, о ком вы сейчас думаете: о миссис Дороти, не так ли? О том, что я обращаюсь с ней как последний негодяй! Вы ведь именно так думаете, разве нет? Ну так выскажитесь, черт возьми! Давайте, отводите душу! — Ваша миссис Дороти достаточно взрослая, чтобы самой за себя постоять, — сказала наконец Нэнни, произнеся это имя на удивление жестко, почти враждебно. — Нет, я думаю не о ней, — добавила она, — я ведь раньше не видела… — Как не видели! — прервал я ее. — Да ведь она приезжает каждую неделю! — Я говорю не о ней, — возразила Нэнни, — а о нем. Об этом чудовище, этой… горилле. Я и представить себе не могла… Нэнни так взволнованно ворочалась в своем кресле, что оно жалобно кряхтело. — Эта чудовищная обезьяна… Какое счастье! — воскликнула вдруг она, и тут уж я окончательно перестал что-либо понимать. Наверное, вид у меня был настолько глупый, что миссис Бамли тихонько засмеялась, хотя глаза ее увлажнились слезами. Она махнула рукой, как бы желая сказать: «Не обращайте внимания, это пройдет», трубно высморкалась, аккуратно сложила платочек и разгладила его ладонью на своей широкой, как стол, мясистой ляжке. — Эта бедная девочка… вечно я забываю, — проговорила она, — вечно я забываю… Нэнни сокрушенно качала головой, а я никак не мог взять в толк, что же такое она забывает. — Я ведь не видела Сильву лисицей, не так ли? Это меня несколько оправдывает. Я не присутствовала, как вы, при ее превращении. И поэтому я вечно забываю, что она не отсталый ребенок, что она все еще молодая самка со всеми свойственными ей инстинктами. И ей необходимо удовлетворять их. Даже в объятиях такого чудища, как… как этот Джереми… Но что же тогда сталось бы с нею?! — вскричала Нэнни. — Я прошу у вас прощения за недавнюю сцену! — добавила она с пылким раскаянием. — Я не могла понять. Но теперь… теперь, когда я увидела его… Ах, как вы правы! — опять воскликнула она. — И такое счастье, что вы… что вы… И она зарделась, как маков цвет. — Когда-нибудь она полюбит вас, — продолжала Нэнни все еще взволнованно. Да-да, так оно и будет. И вы превратите ее в женщину своей любовью. Это было, слово в слово, именно то, что три минуты назад она отказывалась выслушать. И однако эти слова, эхом вернувшиеся ко мне из уст доброй Нэнни, прозвучали настолько нелепо и неуместно, так смутили меня, что я не нашел ничего лучшего, как ехидно засмеяться. Но при этом хихиканье на бульдожьем лицея выразилось такое скорбное изумление, что смех застрял у меня в горле и я строго упрекнул себя за напрасную жестокость.XVIII
Деревенский тамтам работает одинаково усердно что в Сомерсете, что в Замбези. Вскоре все графство было в курсе приключения молоденькой «ненормальной» из Ричвик-мэнор с деревенским дурачком. Сплетни бурлили вовсю. Кто-то хвалил меня за решимость, с которой я положил этому конец, другие осуждали за то, что я разбил единственно возможное счастье двух обездоленных существ. Слава богу, никто как будто не заподозрил, что] в этом деле я мог руководствоваться какими-нибудь иными мотивами, кроме стремления к благопристойности. Все это дошло до меня стараниями Уолбертона, который пересказывал мне сплетни с некоторой долей иронии, чтобы не сказать: со скрытым сарказмом. Я никак не мог понять, каковы его собственные соображения на этот счет. Он открыто взял сторону тех, кто одобрил меня, когда я разорвал этот «нелепый» союз, так он говорил. Но тут же добавлял каким-то странным тоном: «Надеюсь, теперь она утешилась?» И это мне очень не нравилось. А может, у меня просто разыгралось воображение. То же самое происходило и с Дороти, не говоря уж о ее отце. Довольно скоро после этого события они нанесли мне визит. Невзирая на влажную жару, царившую тогда на равнине, доктор был облачен в неизменный черный редингот и жилет, застегнутый до самой шеи. Его дочь поступила разумнее, надев легкое летнее платье, открывавшее ее прекрасные плечи. Доктор заставил меня во всех подробностях описать прогулку в лес и бегство Сильвы, обнаружение ее в хижине Джереми, ее поведение и вторичное бегство и, наконец, возвращение в родные пенаты заботами «орангутанга», которого, к счастью, напугали угрозы Уолбертона. — Все, что вы рассказали, превосходно уложилось бы в схему поведения молодой и умной собаки, — сказал док тор, когда я кончил. — Весеннее бегство… Это странно. Если верить тому, что мне рассказывала Дороти после каждой своей поездки к вам, наша юная особа как будто добилась поразительных успехов? Я ответил, что она действительно прогрессировала, но до поразительных успехов ей еще далеко. Напротив, успехи эти казались мне скромными и весьма сомнительными. Разумеется, их было немало, и они вполне могли показаться проявлениями человеческих черт во многих отношениях: привычка к чистоплотности, речь — очень, конечно, примитивная, но с постоянно расширяющимся словарным запасом, пользование предметами и инструментами, также самыми простыми: гребешком, ложкой, вилкой, метелкой для пыли, половой щеткой (она без особого труда научилась подметать свою комнату и стелить постель); и все-таки главная сложность состояла в том, что она, как и в первые дни, подчинялась своим влечениям, порывам, аппетитам, страхам; она следовала этим своим настроениям мгновенно, не размышляя и ни на секунду не задумываясь о том, что возможен иной вариант поведения, выбор или хотя бы какое-то колебание. Да, она вела себя именно как молодая умная собака, даже как очень умная, которую можно было обучить чему угодно, кроме одного: размышлять. — В отношении зеркал ничего нового? — спросил доктор. — Да! — воскликнул я. — Однажды мне показалось, что тут есть успех! Она долго разглядывала Нэнни перед зеркалом, потом сама уселась перед ним, взяла щетку и долго расчесывала волосы. Но, к сожалению, это оказалось чистой иллюзией. Простое удовольствие подражать чужимжестам, как у мартышки. Но себя она в зеркале не видит, и мы сразу же получили тому доказательство. Нэнни потихоньку подошла к ней и воткнула розу в волосы: Сильва попыталась отбросить ее руку, но не реальную, а ту, что увидела в зеркале. Она сильно расшибла пальцы о стекло, страшно испугалась и теперь избегает зеркал еще больше, если это возможно. — Как интересно! — вскричал, к моему великому удивлению, доктор. — Потрясающе интересно! Увидев мое изумленное лицо, он объяснил: — Вы назвали это иллюзией. Но это вовсе не так. То, что вы зовете иллюзией, само по себе иллюзорно; вы видите в неудаче лишь ее негативную сторону и не принимаете в расчет ту скрытую работу, которая при каждом подобном фиаско тем не менее день за днем вершится в этом первозданном мозгу: какие столкновения, какие сопоставления обманчивых впечатлений, забытых видений, какой неведомый нам синтез, какие внезапные озарения. Вы ничего не знаете о рефлексии, и, естественно, вам трудно все это представить себе, но как, вы думаете, она вырабатывается в мозгу младенца? А ведь ваша лисица больше не ведет себя как дикий звереныш, скорее как весьма развитый примат, а это, мой дорогой, весьма длинный отрезок на пути эволюции. И явное доказательство того, что ее серое вещество быстро активизируется, на что мы и надеяться боялись. Терпение, друг мой, терпение, и, поверьте, очень скоро мы станем свидетелями важнейших событий. Когда доктор говорил, то он, со своим огромным мясистым носом, лысым черепом, обрамленным воздушной белой бахромкой волос, и величественными взмахами длинных рук с худыми пальцами, выглядел весьма необычно, напоминая старого пророка с гравюры Роулендсона. И это сходство придавало его словам любопытную окраску — не то комическую, не то вдохновенную В данный момент я был настроен скорее на первую, и мне пришлось сдержать улыбку. Но то, что он высказал, все-таки свершило неслышную работу у меня в мозгу: когда наступил знаменательный день и произошли, по выражению доктора, «важнейшие события», я вовсе не так сильно изумился — несомненно, потому, что был отчасти готов к этому. А в ту минуту, повторяю, я увидел в оптимизме доктора лишь упрямство старого ученого-сухаря, который не любит оказываться неправым. Впрочем, я оказался не одинок: Дороти, слушая отца, не давала себе труда сдерживаться и почти открыто смеялась. Она заметила вслух, что он, по всей видимости, не боится противоречить самому себе: ведь еще несколько недель назад он, наоборот, предсказывал, что интеллект Сильвы развить невозможно, поскольку она для этого уже слишком взрослая. — Да, я это утверждал, — признал доктор Салливен. Именно таково и было мое мнение. Да я и сейчас думал бы так же, не появись в последнее время явных признаков того, что у Сильвы возникли некоторые зачатки интеллекта. Я, видите ли, не учел тот факт, что ее мозг так же девственно чист, как и мозг новорожденного младенца, с той единственной разницей, что он имеет размеры мозга взрослого человека. Вот в этом-то и все дело, и это поразительно интересно! Сделав подобное заявление, доктор зевнул так, что едва не вывихнул себе челюсть, и спросил, не позволят ли ему вздремнуть перед обратной дорогой: вот, сказал он, прискорбное воздействие обильного ленча на его старый желудок! Нэнни увела его в гостиную и уложила на софу, накрыв одеялами. Потом она поднялась к Сильве: та давно уже в лихорадочном нетерпении металась по комнате. Вероятно, снизу до нее доносились наши голоса, и она проявляла свое беспокойство в беготне. Едва мы остались одни, как Дороти грубо спросила меня — тихо, но злобно: — Вы и мне надеетесь втереть очки? Я был так огорошен этим неожиданным выпадом, что сперва буквально онемел. Потом еле-еле выговорил: — Что вы хотите сказать? — Я говорю об этой истории с беднягой Джереми. — Ну так что же? — Да ведь вам в высшей степени наплевать на приличия! — Как, я же… — Ну признайтесь: вы влюблены в нее? — Послушайте, Дороти… — Я не святоша, и если вам ее хочется, то я ничего не имею против. У вас, насколько мне известно, любовниц было предостаточно. Но, прошу вас, не забывайте о своем положении в обществе, о своем происхождении. Это ведь будет потрясающий скандал. — Вы воображаете, что я собираюсь жениться на ней? — вскрикнул я. — Кто знает? Я сама задаюсь этим вопросом. — В жизни не слыхал подобной нелепицы. Жениться на лисице! Вам-то уж должно быть известно, что она пока не что иное, как лисица, и ничего больше. — Вы сами сказали «пока». Но она изменится. Мой отец, конечно, прав: она изменится. — Ну значит, у меня еще есть время подумать, не так ли? — ехидно спросил я, ибо Дороти здорово разозлила меня. А вот и нет: думать об этом вам придется сейчас. — Она произнесла эти слова настойчиво и встревоженно и, схватив меня за руки, сильно сжала их; взгляд ее выражал нежность и беспокойство. — Вам грозит большая опасность, — сказала она. — Вспомните Пигмалиона. — Какая же здесь связь? Сильва не мраморная статуя. — Я говорю о пьесе Шоу. То, что вы собираетесь сделать, далеко превосходит замысел профессора Хиггинса. Он всего лишь превратил цветочницу в леди. Вы собираетесь превратить в женщину дикую лисицу. И вы полюбите ее. Да вы уже ее любите. — Я?! Вы с ума сошли, Дороти! Если я и люблю кого-нибудь, то это… — Молчите! — крикнула она. Я терпеть не могу, когда мне затыкают рот. И однако мне нужно было бы порадоваться ее грубости: в том крайнем смятении чувств, нахлынувших на меня, я и в самом деле готов был на любое признание. Но это «молчите!» возымело обратное действие вместо того чтобы предупредить мою неосторожность, оно мен совершенно вывело из себя. — А с какой стати я должен молчать? Я и так уже молчу целых десять лет. Один раз я упустил вас, неужели же я и сейчас позволю вам ускользнуть? Я увидел, как побледнела Дороти, как отчаянно машет она рукой, пытаясь остановить меня, как беззвучно вздрагивают ее губы, не в силах произнести ни слова: взволнованный и умиленный, я схватил ее за руку. — Значит, мне грозит опасность? — воскликнул я. — Ну так вот, спасите меня! Если только вы меня любите, Дороти, — добавил я, прижав ее пальцы к губам. Но она вырвала руку, встала с места и нервно заходила взад вперед, сгибая и разгибая пальцы стиснутых рук. — Это то, что я сама должна была прокричать вам десять лет назад, — глухо сказала она и, тяжело вздохнув, прошептала: — А теперь я уже сломлена вконец. И никого спасти не смогу. — Да полноте вам… — Нет! — вскричала она и продолжала, уже мягко и задумчиво — Люблю ли я вас? Да разве я могу еще любить? И смогу ли вообще когда-нибудь? — Она все сильнее стискивала руки. Мне казалось, что я любила этого человека, — тихо, чуть хрипло проговорила она. Я готова была жизнь за него отдать, да в каком-то смысле я это и сделала: он внушал мне ужас, и все-таки я пошла бы за ним на край света. Его смерть и утешила меня, и ужаснула, она уподобила меня тем медузам, которые высыхают, выброшенные на берег — вялые, ко всему безразличные. Их может подобрать кто угодно, вот и я целых десять лет позволяла подбирать себя кому угодно, а сейчас почти и не помню об этом. С похолодевшим сердцем слушал я эту внезапную исповедь; в голове у меня была мертвая пустота. Дороти задумчиво взглянула на меня. — Что бы ни случилось, что бы вы ни сделали, знайте: я вас прощаю, — сказала она каким-то странным тоном. Я встал, подошел к ней и, сжав ее прекрасные плечи, заставил повернуться ко мне. — Послушайте, Дороги, — сказал я спокойно, — представьте себе, что Сильва слышит нас, — сможет ли она понять хоть одно слово из сказанного здесь? Что осветило ее лицо намек на улыбку, возвращавшийся румянец? Она повторила за мной, как эхо: — Нет, ни одного слова из сказанного здесь. — Как же вы можете всерьез думать, что я собираюсь жениться на ней, даже в отдаленном будущем, — жениться на таком бездуховном существе, когда вы тут, рядом со мной. Разве это не полная нелепица? Дороти качнула головой. Теперь она и в самом деле улыбалась. Но нерадостная то была улыбка. — Я тоже не та женщина, на которой можно жениться, — прошептала она, опустив голову. — Мне нечего больше дать вам. Я теперь как высушенный краб: один панцирь, а внутри пустота. — Она приподняла голову, — А в пустом панцире новая жизнь же не зародится. Сильва тоже пуста — пока пуста. Но в ней однажды сможет что-то возникнуть. И вот это-то и вызывает у меня страх — за вас. Вероятно, она поняла по моему взгляду, что я не уловил ее мысль. Взяв мои руки, она сняла их со своих плеч. — Все, что возникнет у нее в мозгу, будет вложено туда вами, мой друг. А что нравится Пигмалионам? Как раз их собственный образ. Разве они могут устоять перед ним? И вот в тот день, когда это случится, мне нечего будет положить на другую чашу весов. Мое присутствие начнет обременять вас, как слишком громоздкая мебель. Но если вы женитесь на этом создании, с вами, Альберт, все будет кончено. Я не ревнивица и не святоша, повторяю нам. И не мне, увы, поучать вас, ибо я не имею на это ни малейшего права. Но я очень боюсь, что, когда Сильва обретет разум, вам уже недостаточно будет одной плотской связи с ней. — Тогда выходите за меня замуж, — сказал я тихо. Но Дороги опять упрямо покачала головой. — Я предлагаю вам другое, — просто ответила она. — Хотите, я стану вашей любовницей? Так будет по крайней мере честно; правда, я боюсь, что, когда наступит решающий день, это ничему не помешает, только сделает меня еще более несчастной. — Давайте попробуем, — откликнулся я так же просто, но глубине души я был глубоко взволнован. Дороти взяла мою голову, слегка коснулась губ поцелуем. — Не сразу, — шепнула она. — Только тогда, когда вы действительно захотите меня.XIX
После отъезда Дороти я впал в крайнее смятение, а ведь я не причисляю себя к легкомысленной латинской расе — к французам, для которых любая встречная девчонка — самая красивая в мире, к сицилийцам, способным поклясться в вечной любви сразу трем женщинам в один и тот же день. Я был абсолютно искренен с Дороги. Но когда она уехала и я остался наедине с Сильвой, все мои слова показались мне чистейшим безумием. Нет, я не хочу сказать, что мои чувства к Сильве стали более определенными, менее двусмысленными. И я, конечно, не солгал Дороти в тот день, когда сравнил эту привязанность с той, которую она питал к своей сиамской кошке. Но разве не признал я зато (или по крайней мере не перестал отрицать), что меня всем существом мощно, неодолимо тянуло к Сильве? А ведь я скрыл от Дороти еще боле опасные мысли, и тот факт, что она угадала главное, ничего не менял: я все-таки кое-что утаил от нее. Я ни словом не обмолвился о том восторге, который охватил меня при мысли, что любовь способна превратить Сильву в настоящую женщину. Разумеется, обретя былое хладнокровие, я все-таки попробовал убедить себя, что строю иллюзии, что все перевернул с ног на голову и что на самом деле Сильву нужно сначала сделать женщиной для того, чтобы она смогла узнать настоящую человеческую любовь. Hо именно с этим я и не мог смириться, не мог видеть Сильву такой, какая она сейчас, — прелестным созданием, отданным, однако, на милость темным инстинктам животного естества. Я твердо решил вырвать ее из этого состояния, зажечь в ней искру человеческого разума. Дороти предупредила меня на сей счет: я рисковал серьезно увлечься женщиной, которая в большой мере будет моим собственным творением. Но я знал, что все равно поступлю так а не иначе. И, зная это, тем не менее предложил Дороти свою любовь, а теперь чувствовал свою страшную вину перед ней. Но при этом я сознавал себя также виноватым и перед Сильвой. Как бы я поступил в будущем, покажи себя Дороти менее предусмотрительной или менее откровенной? В лучшем случае поручил бы Сильву заботам миссис Бамли — но тогда что сталось бы с ней впоследствии? А в худшем — последовал бы благоразумным советам доктора Салливена, тут же сдав ее в какой-нибудь приют. Ну а то, что это оборвет напрочь ее развитие?.. Да разве так оно не благоразумнее? Может, ей стоило бы навсегда остаться лисицей. Ведь даже при самом благоприятном стечении обстоятельств она, превратившись в женщину, будет отличаться такой отсталостью, такими проблемами в развитии, что все равно не сможет войти как равная в наш современный мир. Так, может, не готовить ее к столь сомнительной судьбе и не делать несчастной? Но упрямый внутренний голос протестовал во мне против этих пессимистических прогнозов, убеждая, что бросить Сильву в теперешнем состоянии означает чуть ли не совершить преступление. Ибо самые различные многочисленные признаки говорили мне, что доктор был прав: наступают времена «важных событий». Мог ли я предполагать, что они — эти времена — так близки?!* * *
Не стану утверждать, что эти вещие признаки проявлялись так уж ясно, поражая меня и Нэнни. Многие из них ускользали от нас (нельзя же быть бдительным круглые сутки!), другие были обманчивы. Подобно всем приматам, Сильва была одарена врожденной способностью к подражанию. Повторяя наши слова и жесты, она в конечном счете связывала жесты со словами, что имело видимость логики, но как трудно было понять, когда это делалось сознательно, а когда — нет. Сколько раз Нэнни и я смотрели друг на руга, задыхаясь от волнения, решив, что мы наконец стали свидетелями великого шага нашей ученицы, выхода за пределы узкого круга животного существования, — и сколько раз приходилось нам разочаровываться: то была лишь видимость, обыкновенное обезьянничанье, пустая пародия на реальность. Достаточно вспомнить тот случай перед зеркалом — розу в волосах. Но было множество и противоположных случаев, когда жест, который должен был бы нас заинтриговать, задержать наше внимание, оставался преступно не замеченным нами. Помню, например, такое мелкое происшествие: однажды вечером Фанни приготовила нам шоколадное мороженое, и Сильва, попробовав его, принять дуть в свою тарелку. Мы ужасно смеялись над ней, не сразу отдав себе отчет, до какой степени этот забавный промах являл собой связь причины со следствием. Лишь много позже мы вспомнили этот случай и уже тогда, a posteriori, оценили его скрытый, но вещий характер; но как легко быть пророком после свершившегося события! Короче говоря, то медленное, прерывистое развитие, с рывками вперед и огорчительными отступлениями, больше походило на успехи дрессируемого животного, чем на развитие отсталого ребенка, и сбивало с толку как Нэнни, так и меня. Ничто не предвещало нам, что натура Сильвы изменялась: она была лисицей, все более и более домашней, иногда просто на удивление ручной, однако не следовало по этому поводу строить химеры. По крайней мере именно в этом мы себя пытались убедить. И убедили до такой степени, что если по-прежнему я готовился к новым успехам, то есть к великим переменам, если даже ожидал их со смесью страха и надежды, все же не думал, что они наступят столь быстро и внезапно. А может быть, людям всегда суждено позволять событиям, даже предусмотренным заранее застать себя врасплох? Возьмите, к примеру, войну. В оправдание себе могу лишь заметить, что для рассеянности у меня были веские причины. После той драматической сцены, когда Дороти, боясь признания, заставляла меня молчать, она приехала ко мне со своим отцом всего один раз. По правде говоря, я никак не мог избавиться от тягостного впечатления, которое произвел на меня ее возглас: «Пустой панцирь!» В этот последний визит Дороти показалась мне похудевшей и какой-то поблекшей. Она избегала моих взглядов. Почудилось мне также, что и доктору было сильно не по себе. Я сказал Дороти: — Помогите мне приготовить чай, — надеясь таким образом поговорить с ней наедине. Но она уклонилась: — Я приготовлю его вместе с миссис Бамли, был ее ответ, и мы с доктором остались лицом к лицу. — Мне кажется, — заметил я, — Дороти неважно выглядит. Что-нибудь не ладится? Ей-богу, доктор тоже избегал смотреть мне в глаза! — Ее очень утомил Лондон, — наконец промямлил он. — Ей нужно отдохнуть, прийти в себя. Это потребует времени. — Надеюсь, ничего серьезного? — обеспокоился я. — Нет, нет. Обыкновенный вегетативный невроз. Постепенно деревенская жизнь все поставит на свои места. Ну а как наша лисичка? — спросил он без всякого перехода, будто спешил сменит тему. — Что нового? — Да ничего, ответил я. — Никакого прогресса. Есть, конечно, два-три новых слова, подхваченных у нас. Но в основном почти ничего. — Что вы называете основным? — Я хочу сказать, например, что пока единственный способ запретить ей следовать своим импульсам и вести себя прилично — это наказание, и только наказание. Страх наказания заменяет ей разум или, если хотите, вторую натуру — так, кажется принято выражаться. — Ну что ж, — сказал со смехом доктор, — разве это не есть начатки морали? — Конечно: морали укротителя, — сыронизировал я, — дрессировщика диких зверей. Видите ли, это подтверждает мою былую уверенность: я всегда полагал, что тюрьма и смертная казнь в качестве назидательного примера суть пережитки палеолита, подобный метод ничему не помогает и ничему не мешает. Ведь не стало же в наши дни меньше грабежей и убийств, чем во времена осков и вандалов. Нет, человеческое сознание питается совсем иными источниками. Но какими, вот в чем вопрос. Вы и представить себе не можете, сколько бедняжка Нэнни проглотила за последние недели ученых трудов по психологии приматов, философии нравов или недавним открытиям о тайнах сознания… Увы! Все это неприменимо в случае с женщиной-лисицей. — Разум человека, — возгласил доктор, — родился вместе с личностью. Вот ключ к разгадке. Человек вдруг обнаружил, что он существует отдельно от окружающих вещей и от членов своего племени. Разумеется, племя послужило ему зеркалом для этого открытия, но одновременно оно же и замедлило его. Мы наталкиваемся все на ту же диалектику: сперва нужно, чтобы ваша лисица поняла, что она существует, Нэнни и вы помогаете ей в этом, но вместе с тем и мешаете. Вот почему я подумал о зеркалах. С этой стороны тоже ничего нового? О зеркалах доктор не вспоминал давным-давно. — Нет. Я даже убрал псише из ее комнаты и перенес в свою, здесь от него больше пользы. — Да-да… — откликнулся он вдруг рассеянно (казалось, он даже не услышал моих последних слов). — Стало быть, вы находите, что она плохо выглядит? Мне понадобилась целая минута, чтобы понять, что речь идет снова о Дороти. — Ну то есть… она, по-моему, чуточку похудела, и цвет лица у нее изменился, — подтвердил я. — Мне кажется, ее здоровье беспокоит вас больше, чем вы хотите показать. — Ах, если бы только здоровье… — прошептал он. — Вы что-то скрываете от меня, доктор… Может быть, тут есть доля и моей вины? — спросил я храбро. — Вашей?! Бедный мой мальчик! — воскликнул он, и если и собирался добавить что-нибудь, то я этого так никогда и не узнал, ибо появилась Дороти с чайным подносом, уставленным яствами; Нэнни отправилась наверх за Сильвой. Как обычно, Сильва кинулась ко мне с радостью щенка, куснула за ухо, лизнула руку, которой я заслонился от нее; всякий раз, когда ей приходилось слишком долго сидеть у себя в комнате, она обретала свои старые привычки и вспоминала о хороших манерах лишь по мере того, как утоляла радость встречи. Итак, я отстранил Сильву, и теперь настал черед доктора: она давно привыкла к его черному рединготу и питала к старику самые дружеские чувства. Тот терпеливо позволил обцеловать и покусать себя, потом в свою очередь мягко отстранил ее. — Ну а я? — спросила Дороти. Сильва приблизилась к ней — гораздо менее охотно, хотя и с почти прежней живостью. Они уже собирались поцеловаться, как вдруг Сильва вздрогнула и отпрянула в сторону. Выскользнув из протянутых к ней рук Дороти, она укрылась за креслом миссис Бамли и оттуда настороженно и испуганно взглянула на молодую женщину острым кошачьим взглядом. Что-то встревожило ее, но что именно? Дороти так и застыла с протянутыми руками. Потом медленно опустила их под нашими удивленными взглядами. Казалось, ее поразил не испуг Сильвы, а какое-то неведомое внутреннее потрясение. Лицо ее как будто омертвело, и в течение нескольких секунд Дороти внушала мне почти ужас. И я понял: то, что волновало ее отца, когда он перед чаем говорил со мной, тоже был некий страх. «Мертвый краб», — кто-то словно шепнул мне на ухо эти слова. И вдруг до меня дошло, что я совсем не знаю Дороти, что она для меня — тайна. В конце концов, что мне известно о ее жизни, о причинах возвращения? Все это промелькнуло у меня в голове в мгновение ока. Спустя миг Дороти вновь улыбнулась, ее лицо засияло спокойной красотой — чуть банальной красотой блондинки с косами вокруг головы. Можно было подумать, что все это мне привиделось. — Ну так как же? — спросила спокойно Дороти. — Значит, меня здесь больше не любят? И она с веселой усмешкой протянула Сильве сандвич с паштетом: ей было известно, что та по-прежнему не любит никаких сладостей. Сильва взяла сандвич, Нэнни разлила чай, и больше в тот вечер ничего не случилось.XX
Событие произошло лишь на следующей неделе, незадолго до полуночи. Не могу вспомнить эту сцену без того же волнения, что испытал и тогда. Отдал ли я себе ответ в тот миг, что моя лисица действительно совершила гигантский скачок по пути к человеческому сознанию, покинув те мрачные области, где томится в неволе дух животного? По тому волнению, которое охватило меня, я могу утверждать, что понял значение происходящего, даже если и не осознал его во всей полноте — не в пример доктору Салливену, когда я ему это рассказал. И однако произошло это совсем не так, как он предсказывал. Помнится, он выражал надежду, что Сильва, постоянно видя себя в зеркале, в конце концов начнет себя узнавать; но, заметив ее безразличие к этому предмету и полное невнимание, граничащее со слепотой, я решил перенести псише в свою спальню: там оно по крайней мере пригодится мне, а главное, эта неудача переполнила чашу моего терпения. Итак, с этой стороны я ничего больше от Сильвы не ждал. И если, по словам доктора Салливена, главным этапом в пробуждении сознания моей лисицы должно было стать открытие факта собственного существования, то я давно расстался с надеждой на то, что инструментом этого открытия послужит именно зеркало. Впрочем, я оказался не так уж неправ. Сильва открыла себя не потому, что вдруг узнала в зеркале, а, напротив, потому, что внезапно перестала находить там свое отражение. Нэнни оказалась куда настойчивее меня и, невзирая на неудачи, каждый день, утром и вечером, ставила свою воспитанницу перед ее отражением в зеркале. Это мне напоминало случай с Тротти, фокстерьером моих родителей: ребенком я тоже пытался подолгу удерживать его перед зеркалом, чтобы он узнал себя; и он точно так же принюхивался к отражению, презрительно фыркал и, вырвавшись у меня из рук, удирал прочь. Вот и Сильва вела себя как настоящая лисичка: нетерпеливо увернувшись от рук доброй Нэнни, она сворачивалась клубком в ногах постели, зевала, смыкала глаза и тут же засыпала. Она не желала привыкать к зеркалам казалось, эти ежедневные попытки все сильнее раздражают ее. «Оставьте ее в покое!» — советовал я Нэнни, сам раздраженный нашим неуспехом, но та была не менее упряма, чем ее ученица. И вот однажды вечером, когда я, сидя в кресле у себя в спальне, подпиливал ногти перед сном, вошла Сильва, наверное, чтобы на свой манер поцеловать меня, как всегда на ночь. Кресло стояло спинкой к двери, и я увидел ее отражение в псише. Спинка была высокая и скрывала меня от Сильвы, так что она тоже могла видеть меня только в зеркале. В результате она направилась ко мне, но не туда, где я, невидимый ею, сидел на самом деле, а туда, где я отражался. Для этого ей пришлось пройти рядом с креслом. И вот, в течение какого-то мгновения, она увидела нас обоих в зеркале — себя и меня рядом. Что ей почудилось, когда она обнаружила рядом со своим «Бонни» эту неведомую женщину? Она замерла на месте и тихо зарычала — совсем как в тот раз, когда впервые увидела Дороти. Да, она рычала на свое собственное отражение, неподвижное рядом с моим, а потом рванулась вперед, к зеркалу, где ее отражение, также безмолвно рычавшее, кинулось ей навстречу. И вдруг Сильва прыгнула на непрошеную гостью. Раздался грохот разбитого стекла, и пораженная Сильва плюхнулась наземь, прямо на зеркальные осколки. Я сразу увидел, что она не поранилась. Но она глядела на эти осколки со все возрастающим изумлением. Взглянула на свою руку, лежащую на осколке, убрала ее, снова положила. Опять приподняла, слегка пошевелив пальцами, и, должно быть, увидела какое-то движение в осколке, проворно и испуганно вскочила на ноги, побежала туда, где полагала увидеть меня, и, не видя больше, остановилась как вкопанная; подошла к псише, от которого осталась лишь пустая рама, пощупала, если можно так выразиться, эту пустоту рукой, подпрыгнула, в ужасе отпрянула, вдруг заметила меня там, где совершенно не ожидала увидеть, испустила вопль и убежала к себе в комнату. Я наблюдал эту сцену молча, не шевелясь, слишком заинтересованный всем происходящим. Впрочем, этим дело и кончилось. Сильва так и не вернулась. Я подобрал осколки зеркала, пошел выбросить их на помойку и, вновь поднявшись к себе, улегся в постель, в который уже раз огорченный таким упорным невниманием. Погасил свет и попытался заснуть. Мне далось это нелегко; впрочем, сны мои почти сразу же сменили направление: отступившись от моей злополучной лисицы, они обратились к Дороти. Со времени ее последнего визита такое со мной происходило каждый вечер. Что же творилось с молодой женщиной? Что произошло между последним ее приездом и предыдущим? И этот мертвенный цвет лица, заострившиеся черты..! Была ли в этой перемене доля моей вины? Но тогда что означал тот убитый и вместе с тем почти саркастический тон, которым ее отец сказал: «Бедный мой мальчик!» Непонятно, радоваться мне этому или чувствовать себя униженным? Люблю ли я Дороти или не люблю? Всем известно, как мысли в полусне мечутся по кругу, возвращаясь в конце концов к отправной точке. Они мешают уснуть, но и сами не приводят ровно ни к чему. Вот так и со мной этой ночью сон мой беспокоен, я все время ворочаюсь на постели. А потом меня словно током ударяет: я чувствую, что в комнате кто-то есть. Я не слышал ни звука, ни шороха. Но, открыв глаза, вижу совсем рядом, у изголовья, неподвижную тень. Луна освещает комнату через щели жалюзи, вся комната залита ее молочным, по-тигриному полосатым светом, и, перерезая эти колеблющиеся полосы, медленно движется, наклоняется ко мне темный силуэт; притворяясь спящим, я сквозь полусмеженные веки вижу лицо Сильвы, которое приближается к моему и — не могу подобрать других слов — осматривает, изучает его. Так она не глядела еще никогда. Словно хочет открыть в нем что-то, до сих пор ей неведомое. Она смотрит так долго, так пристально, что я едва осмеливаюсь дышать; неизвестно почему у меня в памяти всплывают слова доктора о той невидимой работе, которая день за днем идет в этом нетронутом чистом мозгу: какие столкновения, говорил он, какие сопоставления полученных впечатлений, забытых видений, какие внезапные озарения… И вот Сильва, отвернувшись от меня, подходит к псише и опять рассматривает его, настойчиво ощупывая эту зияющую пустоту. И тут меня осеняет, я наконец понимаю, что происходит, я встаю и беру ее за руку, и она покорно дает отвести себя в ванную и поставить перед большим зеркалом; я зажигаю свет, и Сильва какое-то мгновение — сколько оно длится, не знаю — смотрится в него вместе со мной. Глаза ее медленно расширяются. Неужели она наконец узнает себя? Но как она может сделать это, если она никогда еще себя не видела? И действительно, Сильва, как обычно, рвется у меня из рук, и, когда я пытаюсь удержать ее, она в приступе не то страха, не то гнева, с коротким пронзительным взвизгом кусает меня за палец и понуждает отпустить. С досадой я смотрю, как она убегает, но… но что это? Что она делает? Впервые за многие недели она забивается, как раньше, между стеной и своим любимым полукруглым комодиком и, дрожа, устремляет на меня расширенные страхом глаза. Я подхожу, она не двигается. Я нагибаюсь к ней, прижимаю ее к себе. Она не сопротивляется. Дрожит. Я шепчу ей на ухо: «Ну-ну… не надо… что с тобой?» Но я знаю, слишком хорошо знаю, что ни ее запас слов, ни зачатки разума не позволят моей лисице ответить на этот вопрос. И однако она обращает ко мне свое потрясенное лицо. Рука ее поднимается с мучительной нерешимостью, почти со страхом, ощупывает нежную грудь, ключицы и медленно ползет вверх по длинной, гибкой шейке, словно осторожный паук. Пальцы, колеблясь, задерживаются на щеках, на подбородке, ушах, носу — чуткие пальцы слепого, изучающего чужое лицо. Долго, боязливо и осторожно исследуют они эти черты — открывают впервые или проверяют? — и вот наконец Сильва шепчет, почти лепечет, еле слышным голоском, вопросительно и боязливо: — Силь…ва? Впервые выговаривает она свое собственное имя; пальцы ее останавливаются, рука замирает. Она ждет, крепко прижавшись ко мне, явно ждет, чтобы я ответил: «Ну да, ну да, конечно, это ты, моя маленькая Сильва…» И я и вправду говорю ей это, и теперь она цепляется за меня с отчаянным страхом ребенка, чувствующего, как почва уходит у него из-под ног. Я решаю, что ее нужно слегка встряхнуть, и опять веду ее в ванную. Но она упирается, она сдавленно кричит: «Her! Нет!», мне никак не удается преодолеть ее ужас, и я в раздражении называю ее про себя идиоткой. Господи боже, вот еще трагедия — узнать себя в зеркале! Что за глупые страхи, да она через минуту сама начнет веселиться и хихикать от радости, а ну давай-ка, пошли, будь умницей! Но Сильва бьется как одержимая… ну, хватит, говорят тебе, гляди, вот она ты, посмотри на себя! Она как будто уступает, подходит к зеркалу и вдруг, нырнув, выскальзывает у меня из рук, бросается к двери и, захлопнув ее за собой, мчится со всех ног по коридору, и я слышу, как она бегом взбирается по лестнице, ведущей на чердак. Бежать за ней или оставить ее в покое? Может, я зря принуждал ее? Да ну, ерунда! Вот еще причуды — бояться собственного отражения! Пускай теперь сидит там и дуется, если ей так угодно. Я снова ложусь. Но сон бежит от меня: я, как никогда, странно взбудоражен, заинтригован поведением моей лисицы. Мало-помалу я опять погружаюсь в полудрему, и теперь мне кажется, что я угадываю, яснее понимаю случившееся, что я могу уподобиться Сильве, проникнуть в ее ощущения. Или, вернее, я представляю себе, чем она была всего полчаса назад: маленьким неразумным зверьком, беззаботным и не осознающим самого себя, существом, которое, по словам доктора Салливена, жило и действовало, даже не понимая, что оно существует, не выделяя себя по-настоящему из остального мира. Мы, люди, с самого детства привыкли, принуждены видеть самих себя, различать себя среди других, и эта самообособленность настолько естественна, что мы о ней и не думаем. Но лисица! Трудно даже представить себе, что означает для нее сделать подобное открытие: внезапно ощутить себя изолированной, обособленной, изгнанной из рая матери-природы, с которой доныне она была связана общей кровью, общим дыханием, общим теплом. О, как ясно я вдруг представил себе также то жестокое потрясение, которое испытали наши далекие предки-неандертальцы — эти дикие косматые полулюди; у них не было зеркал, чтобы осознать себя как личность, они открывали это в глазах других, себе подобных, в их криках, в их угрозах, в их жестикуляции и враждебности, открывали себя такими, какими и были в действительности: уязвимыми, нагими и одинокими, предоставленными самим себе, могущими рассчитывать лишь на собственные силы среди опасностей окружающего леса… И тут, словно в подтверждение этих диких образов, тишину разбил оглушительный грохот. Я вскочил на ноги. Что это? Грохот повторился уже чуть дальше, зазвенело разбитое стекло. Я выскочил в коридор и увидел разлетевшиеся осколки двух стенных зеркал. В тот же миг звон раздался снизу, из гостиной. Потом из холла. Потом из курительной. Нэнни выбежала из своей комнаты в папильотках и халате. «Что происходит?» — вопросила она. Я крикнул: «Это Сильва бьет зеркала!» — и бросился вниз по лестнице. Но внизу уже никого не было. Осколки стекла хрустели у меня под ногами. Пройдя по всем трем нижним комнатам, я не нашел ни одного целого зеркала. Я поднялся наверх по другой лестнице. Нигде ничего. И — ни звука. Дверь в комнату Сильвы была открыта. Войдя туда, я увидел неподвижную Нэнни, молча глядевшую на кровать. Моя лисица лежала на животе, судорожно сжавшись и стараясь поглубже зарыть голову под подушку и под одеяло — так заяц ищет убежища в своей норе; так ужаснувшийся ребенок стремится вернуться в темное, надежное, успокаивающее тепло материнского лона, где его убаюкает первозданное, досознательное забытье… И если до этого я еще не все до конца понимал, то теперь, при виде Сильвы, я смог ощутить во всей полноте, что она испытала (как и неандертальцы), когда впервые с ужасом поняла, окончательно и бесповоротно, что эта, скорченная и дрожащая под одеялом, и та, минуту назад узнавшая себя в зеркале, — и есть она, Сильва; что Сильва есть вещь, существующая отдельно от всех других вещей, обособленная, отделенная от всего прочего вещь, которая существует и не может не существовать, перебей она хоть все зеркала на свете, и что все это уже непоправимо.Часть вторая
Нo этот человек — чистейший анахронизм: ведь он родился еще до наступления железного века, даже до наступления каменного. Подумать только: он принадлежит к началу начал человеческой истории.Редьярд Киплинг. Среди толпы
XXI
Дни, последовавшие за этой поразительной ночью, разочаровали меня. Тогда я не сомкнул глаз до самого рассвета, изнывая от нетерпения. Я все ожидал каких-то новых чудес, в полной уверенности, что Сильва наконец переступила границу и проникла в страну людей, что мне предстоит увидеть огромные, быстрые перемены. Нэнни первая окатила меня холодным душем. Когда наутро я вышел к завтраку, она с отдохнувшим видом сидела за столом, преспокойно намазывая себе маслом тартинки. Я воскликнул: — Неужели вы спали сегодня? Я лично провел бессонную ночь. — Из-за разбитых зеркал? Разве они так дорого стоят? — Да кто говорит о зеркалах? Наплевать мне на них! Но тот факт, что Сильва… Нет, ей-богу, — возмутился я, — у меня такое впечатление, что вам все это безразлично. Неужели вы еще не поняли: она узнала себя и испугалась этого. — Во-первых, еще не доказано, что она себя узнала, — ответила Нэнни осторожно. — Вы слишком спешите с выводами. — Ну а чего же она тогда испугалась? — О, пока еще рано доискиваться причин. — Но ведь это же ясно как день! — сказал я, изо всех сил сдерживая накипающее раздражение. — Сильва поняла наконец, что она существует, а для лисицы, согласитесь, это страшное открытие. И вот тогда-то она и испугалась, испытала ужас, вполне естественный в данной ситуации, и этот испуг, этот ужас — первое свидетельство того, что она начала мыслить разумно, первый признак ее cogito[40], так разве же это не поразительная новость? — Она могла, — возразила Нэнни с кротким упрямством, которое окончательно вывело меня из себя, — испугаться неизвестно чего, самой простой, самой обыкновенной вещи, которую вам, поскольку вы человек, а не лисица, трудно себе представить. Вот, например, ребенок, даже очень отсталый, никогда не боится зеркала — напротив, он радуется, он восхищенно хлопает в ладоши и любуется своим отражением. — Именно так! — ответил я. — Именно об этом я и толкую! Разве мы с вами не ждали того мгновения, когда Сильва узнает себя в зеркале? И разве не интересно то, что она не обрадовалась, а, наоборот, испугалась? — Вот потому-то я и думаю, что она все-таки не узнала себя, — упорствовала Нэнни, старательно жуя свой бутерброд, наклонившись над чашкой, ибо у нее была скверная привычка макать в кофе хлеб, с которого потом текло. — Мы, конечно, когда-нибудь узнаем, что именно ее напугало, и сами удивимся, как все это банально и просто. Несмотря на раздражение, я не мог не признать, что осторожная Нэнни рассуждала более чем благоразумно. Вот почему днем я отправился искать утешения и поддержки у доктора Салливена. И тут я не разочаровался. Он пришел в полный восторг. — Ну что я вам говорил? Что я вам говорил? — твердил он, опершись на дубовую каминную доску в позе пророка, делавшей его похожим на епископа, выступающего с амвона. — Значит, вы тоже считаете, что она сделала решающий шаг? — Даже не сомневайтесь! Ваша Нэнни с ее отсталыми детьми — просто дура набитая. Сильва не имеет с ними ничего общего, она — доисторическое создание, да-да, именно так! Я, разумеется, не мог предположить, что первой реакцией подобной натуры на это открытие будет тревога и страх. Но по зрелом размышлении легко можно понять, что именно такое поведение неизбежно. — Как вы думаете, — спросил я, — что теперь произойдет? Каков следующий этап? Доктор воздел руки к небу, словно беря его в свидетели своего бессилия. — Ну, милый мой, я ведь не пророк! Напротив, именно от Сильвы я теперь надеюсь узнать, что творится в темном сознании первобытного человека. К несчастью, все, что в нем происходит, потребовало многих тысячелетий. Если и нам придется столько ждать… Конечно, у нас нет гарантий, что Сильва минует какие-то ступени развития. Но, однако, она уже сделала это, и есть надежда, что, живя в современной обстановке, при вашей помощи, она продолжит в том же духе. — Да, но как оказывать ей эту помощь, совершенно не зная самой программы? — О, это вы поймете сами по ходу дела, — успокоил меня доктор, — я полагаю, что теперь, открыв себя себе самой, Сильва начнет задавать вопросы. Тогда только держитесь! — А что, Дороти нет дома? — спросил я невпопад, настолько удивило меня ее затянувшееся отсутствие. Доктор мгновенно переменился в лице, словно этот нежданный вопрос причинил ему боль. Его щеки густо побагровели, а огромный жирный нос между ними побледнел и стал безумно похож на клюв перепуганного тукана. — Мне кажется, у нее мигрень, — пробормотал он. Я, конечно, не поверил ему. — Не могу ли я хотя бы поздороваться с ней? — Нет-нет, вы должны ее извинить, — быстро ответил доктор, — я полагаю, она лежит в постели. — Доктор, — с упреком сказал я, — вы не откровенны со мной. Может быть, я допустил какой-нибудь промах? Почему Дороти отказывается видеть меня? Еще несколько дней назад мне показалось… Доктор прервал меня довольно потешным способом: он начал сморкаться. Потрясая воздушной кудрявой бахромкой седых волос, он извлекал из собственного носа громовую симфонию. — Нет-нет, — трубил он в платок, — она вовсе не отказывается, успокойтесь. Вы тут абсолютно ни при чем, уверяю вас. Но только не расспрашивайте меня! — продолжал он, заботливо складывая огромный белый квадрат. — Мы сейчас переживаем некое испытание. Последствия жизни в Лондоне… Она сама вам расскажет, но позже. Да, позже, — повторил он, умоляюще протягивая ко мне сложенные ладони. — Не правда ли? — Он так настойчиво глядел на меня, так просительно и жалобно улыбался, что мне не оставалось ничего другого, как улыбнуться ему в ответ и пожать простертые ко мне руки. — Вы же знаете, как я к вам отношусь, доктор. Нет нужды говорить… — Я знаю, знаю, я могу рассчитывать на вас. Но сейчас вы ничем не можете помочь. О! — воскликнул он с торопливым испугом. — Не заставляйте меня говорить больше, чем я сказал. Ничего серьезного. Все пройдет. Нужно только выдержать это испытание. А потом все наладится. И все же, покидая доктора, я был далек от спокойствия. Что он имел в виду, дважды повторив слово «испытание»? Как ни суди, а я не был до конца уверен в своей полной непричастности к состоянию Дороти. Во все последующие дни я больше не осмеливался подводить Сильву к зеркалу. Я велел вставить новые зеркала в рамы, включая и псише, но Сильва сперва притворилась, что даже не замечает их, хотя, проходя по галерее между двумя высокими трюмо, не могла удержаться, чтобы не ускорить шаг, стараясь миновать их почти бегом. Но мало-помалу она, по нашим наблюдениям, переставала пугаться. Теперь она все чаще и чаще ловила свое отражение в оконном стекле, в дверце книжного шкафа, на лакированной поверхности мебели. И вот настал день, когда, вместо того чтобы бежать и притвориться ничего не видящей, Сильва остановилась и взглянула в зеркало. Через какое-то время подошла поближе. Присмотрелась — сперва робко, потом с любопытством, потом с глубоким вниманием. И наконец псише стало для нее центром притяжения, никогда не надоедавшим развлечением. Теперь она непрерывно смотрелась в него, но не так, как смотрятся женщины желая полюбоваться своей внешностью, рассмотреть себя или просто со скуки, — а так, словно непрерывно проверяла, там ли ее отражение, как будто никогда не бывала уверена в существовании этой незнакомки, чье появление, чей ответный взгляд каждый раз повергали ее в бесконечное недоумение. Отойдя от зеркала, она сворачивалась клубочком в ногах кровати и, обхватив руками лицо, глядела перед собой ничего не видящими, немигающими глазами, на манер затаившейся кошки. В эти мгновения я готов был отдать год жизни за возможность проникнуть в этот примитивный мозг и подглядеть, что там происходит. А впрочем, что могло в нем происходить такого, чего не мог бы себе представить наш человеческий, великолепно развитой мозг! Наконец она стряхивала с себя это слепое оцепенение либо для того, чтобы свернуться еще более плотным клубочком и заснуть, либо, вскочив одним прыжком на ноги, кинуться играть, как раньше. Я уже рассказывал, что ей нравилось бросаться на разные предметы, как на добычу, причем выбирала она для этого те вещи, которые можно было опрокинуть или покатать по полу: табурет, стул, коробку с рукоделием Нэнни (когда содержимое рассыпалось по полу, Сильва забивалась в угол и полунасмешливо, полусокрушенно выслушивала бурные причитания своей воспитательницы), кувшин, корзинку. Но теперь она, случалось, неожиданно прерывала игру и, вертя предмет в руках, внимательно изучала его. Иногда она несла его к зеркалу и созерцалатам себя вместе с ним, пристально и настороженно, с застывшим выражением лица, то ли растерянным, то ли отсутствующим, то ли задумчивым. Обычно после такого рассматривания она роняла игрушку на пол и опять забивалась в угол кровати, уткнув подбородок в ладони и глядя в пустоту. Кончалось обычно тем, что она засыпала. Однажды она, играя, накинулась на корзинку с яблоками, которые Нэнни собрала в саду. Яблоки, конечно, раскатились по комнате, и Сильва начала гоняться за ними с резвостью молодой газели. Наконец она подобрала одно из них и принялась грызть. И вдруг ее словно ударило что-то: она вскочила на ноги и, выбежав из комнаты, кубарем скатилась по лестнице. Заинтересовавшись, мы с Нэнни пошли за ней следом. Сильва стояла в столовой, созерцая большой натюрморт — копию мюнхенского мастера, висящий над сервантом. Она повернулась к нам и сказала «Яблоки». Я торжествующе взглянул на Нэнни, а та побледнела, покраснела и взволнованно прижала руки к груди. Потом взяла Сильву за кончики пальцев. — А это? — спросила она. — Виноград. — А это? И она указала на серебряную статуэтку Вакха, изображенного в углу картины, — Вакх стоял, подняв голову и прижимая к губам кисть винограда. Сильва не ответила. Она долго глядела на картину, но ничего не сказала. Нэнни промолвила: «Это человек». Сильва по-прежнему молчала. Потом отвела взгляд от натюрморта, выдернула руку, одним прыжком кинулась к стулу, опрокинула его и занялась игрой, не обращая на нас больше никакого внимания. — Вы задали ей слишком трудную задачу, — сказал я Нэнни. Скульптура, изображенная на картине, да еще и серебряная. Ей это ничего не говорит, — слишком далеко от реальности. Но Нэнни усердно трясла головой, и ее отвислые щеки на добром бульдожьем лице мотались туда-сюда, точно белье, которое полощут в реке. — Виноград и яблоки тоже не похожи на настоящие фрукты. Просто невероятно, как это она узнала их. Я где-то читала, что некоторые туземцы в Индонезии способны на такое. Но то, что она поняла, что яблоки можно изобразить, — просто фантастика! — Да ведь вовсе не известно, поняла ли она это, — возразил я осторожно (настал и мой черед проявить благоразумие). — Я наблюдаю за ней с той самой ночи, когда она била зеркала. Единственное, что можно утверждать наверняка, — это то, что она научилась «отделять» как себя от остального мира, так и одни вещи от других. Выделять их как самостоятельные предметы. Ну а выделив, она, конечно, может и узнавать их даже изображенными на полотне. Но это вовсе не значит, что она способна… Однако Нэнни явно не слушала. Я вдруг увидел, как она приоткрыла рот, словно желая прервать меня. И тотчас лицо ее так перекосилось от изумления и ужаса, что я круто обернулся. Дверь в сад была открыта. А Сильва стремительней ласточки летела к неуклюжему приземистому силуэту, одиноко торчащему там, в сумерках, словно призрак из каменного века. Впервые в жизни я пожалел, что я не охотник. Сейчас броситься бы к стойке с ружьями, вынуть винтовку, пальнуть в воздух и обратить в бегство эту злосчастную гориллу! Поэтому, за неимением оружия, я выхватил из-за сундука массивную трость с ручкой из слоновой кости, принадлежавшую моему отцу, и, яростно размахивая ею, с громкими проклятиями выбежал из дома. Комплекция у меня солидная: человек такого сложения, орущий и размахивающий палкой на бегу, не может не внушить страх. Во всяком случае, при виде меня бедняга питекантроп круто повернулся и удрал, не дожидаясь особого приглашения. Увидев, что ее поклонник спасается бегством, Сильва остановилась. Она глядела ему вслед скорее с любопытством, нежели с огорчением. Мне ужасно хотелось отлупить ее как следует своей палкой. Но могу похвалиться: я всегда — или почти всегда — при любых обстоятельствах владею собой. Остановившись, я опустил трость и употребил ее по прямому назначению — оперся на нее. Сильва обернулась и взглянула на меня. Я позвал ее — тоном приказа. Трудно описать, как она шла — буквально пресмыкаясь. Она вроде бы и продвигалась вперед, но как-то бочком, по-крабьи, настолько явно против своей воли, против жгучего желания убежать, что весь мой гнев мгновенно испарился, оставив вместо себя досадливую нежность. Она приближалась, ожидая побоев, но не понимая своей вины, — точь-в-точь щенок, который по голосу хозяина улавливает, что ему грозит хорошая взбучка. Когда Сильва подошла вплотную, я выпустил трость из руки; она с ликующим птичьим вскриком подхватила ее и, восторженно прыгая, буквально захлебываясь от радости, отнесла в дом, где водрузила на обычное место; потом вернулась назад и, застигнув меня на пороге, так бурно накинулась на меня, что я пошатнулся и вместе с ней рухнул на пол; лежа в обнимку со мной, она целовала, обнимала, лизала, покусывала меня, и ее тело, прижавшееся к моему, уже начинало так явно, так недвусмысленно страстно волноваться, что мне пришлось почти отшвырнуть ее прочь, дабы не лишиться перед лицом Нэнни, которая от души хохотала над этим зрелищем, уважения почтенной дамы и собственного своего достоинства. И я в недоумении спрашивал себя, возможно ли будет когда-нибудь внушить моей невинной лисице понятие если не греховности ее поведения, то хотя бы начатки стыдливости. Это было абсолютно необходимо, если я намеревался в будущем приглашать к себе друзей или наносить им визиты вместе с Сильвой. Не без смутного страха представлял я себе, на какие неожиданные и бесстыдные выходки способна Сильва, оказавшись в кругу моих знакомых. Обрати она свои бурные чувства ко мне, я при необходимости смогу быстро пресечь их проявление, но что, если она проникнется симпатией к кому-либо из гостей?! Это будет настоящий позор. Я поделился своими опасениями с Нэнни, и мы долго размышляли над этой проблемой. Не знаю, будет ли еще популярен Фрейд в 1960 году. Но тогда я сам, как и весь цивилизованный мир, только-только открыл для себя психоанализ. Цель этого метода состоит не в том, чтобы наделять комплексами людей, которые ими не страдают, а в том, чтобы избавлять от них тех, кто их в себе поощряет. Тем не менее мы подумали, что в данном случае Сильве возможно внушить сознательное отвращение к некоторым вещам, и это значительно упростит нам жизнь в будущем. Сильве явно недоставало тех темных уголков сознания, где прячутся все нечистые или отвратительные помыслы человека. И если мы намеревались превратить ее в мало-мальски приличную особу (разумеется, не питая ни малейшей надежды сделать из нее настоящую леди), нам следовало в первую очередь воспитать в ней, как противовес ее порывам самки, те благие запретительные механизмы, которые, хотя и становятся иногда причинами неврозов, тем не менее способны помешать Сильве проявлять невинное дикарское бесстыдство, столь препятствующее нашим усилиям цивилизовать ее. Итак, мы с Нэнни прочли все подряд главные труды гениального австрийца. Поскольку в них содержались методы выявления механизмов сексуального торможения, мы, несомненно, должны были отыскать и обратные средства, чтобы применить их в случае с Сильвой. Увы, к нашему величайшему огорчению, мы обнаружили лишь одно-единственное: с младенчества расти в цивилизованном обществе. Сами понимаете, годилось ли это средство для взрослой лисицы, превратившейся в женщину. Затем мы принялись за труды Юнга. Он объясняет наше подсознание наличием атавистических черт, доставшихся человеку от его доисторических предков. Новое невезение: у Сильвы таких предков не имелось — я хочу сказать, среди людей, а не лис. Так что и здесь почерпнуть было нечего. В общем, нам пришлось признать, что все эти объяснения истоков механизмов торможения только отодвинули решение проблемы и что пока на этом пути нас ждут одни неудачи. Мы имели дело с человеческим существом, обладающим таким же нетронутым сознанием, как первобытные люди — вчерашние обезьяны, существом без предков, вне социальной среды, возникшим среди нас, как говорил доктор, из небытия, из животного состояния. Бедная, убогая, пустая душа! Голова кружилась при взгляде в эту загадочную бездну.XXII
Я больше не осмеливался надоедать доктору Салливену, приезжая к нему или приглашая к себе в гости. После того, что он сказал мне во время последнего моего посещения, я мог только ждать, когда он сам сочтет нужным позвать меня. Но доктор не подавал никаких признаков жизни. Я начал волноваться всерьез, все больше убеждая себя в том, что провинился перед Салливенами. Вероятно, думал я, они сердятся на меня за совместную жизнь с Сильвой: Нэнни поняла необходимость этого и больше не осуждала меня, Дороти утверждала, что думает точно так же, но, может быть, отрицая свою ревность, она просто пыталась сохранить достоинство и выглядеть свободомыслящей женщиной? А сама втайне страдала от этой двусмысленной близости, оскорбляющей ее гордость и — кто знает? — тщательно скрываемую ею любовь ко мне. Перебирая все эти гипотезы, я терзался сердечными муками, разрываясь между двумя чувствами, которые с каждым днем казались мне все более непримиримыми. Меньше, чем когда-либо, я расположен был расстаться с Сильвой теперь, когда она дала мне первое доказательство своей способности обрести истинно человеческую натуру. Но отказаться от Дороти! Ее долгое отсутствие, все старания избежать встреч со мной подстегивали, как это обычно бывает, чувства, которые в противном случае оставались бы вполне прохладными и неопределенными. Я написал ей письмо, составленное нарочито сдержанно, и не получил ответа. Второе, гораздо более мылкое, также не дало результата. Я совсем уж было приготовился написать третье, в котором, окончательно позабыв об осторожности, хотел «сжечь корабли», когда в Ричвик-мэнор без всякого предупреждения ворвался доктор Салливен. Именно ворвался — другого слова не подберешь. Лил дождь поэтому доктор надел поверх черного редингота старомодную пелерину, украсившую старика, тонкого и длинного, как зонтик в чехле, широченными плечами грузчика. Я был один, Нэнни наверху помогала Сильве совершать вечерний туалет. Только что принесли газеты, и я рассеянно проглядывал их, но мысли мои были далеко. Внезапно дверь с треском распахнулась, и в проем возникла чья-то спина, которую я не сразу признал под необъятной накидкой; неизвестный встряхивался, как мокрый пес, стоя на плиточном полу в прихожей. Потом пришелец обернулся, скидывая пелерину, и я наконец увидел знакомый силуэт. Вскочив, я бросился к доктору. — Ну, слава богу! Где вы пропадали? Что у вас стряслось? Доктор тщательно сложил свою пелерину сухой подкладкой наружу, так же тщательно повесил ее на спинку стула. Он явно медлил, чтобы отдышаться и изобразить спокойствие. — Ну и погодка! — промолвил он наконец. — Прошу меня извинить. За то, что я явился к вам без предупреждения. — Не стоит извиняться, доктор, вам всегда здесь рады, лучше скажите мне без всяких церемоний… Доктор жестом прервал меня и уселся, а вернее сказать, опустил свое длинное тело в одно из глубоких кресел, обтянутых выцветшей от старости кожей. Он поглядел на меня, казалось не зная с чего начать. Его крупные губы под огромным носом неслышно шептали какие-то слова, как будто он никак не решался произнести их вслух. Глаза затуманились. И вдруг он пробормотал явно не то, что приготовился сказать заранее: — Да, надо ехать. Я за вами. Как — ехать? Прямо сейчас? — (На дворе была уже ночь). — Значит, дело серьезное? У вас что-то случилось? Я вскочил было, собираясь взять шляпу и плащ. Но доктор жестом остановил меня, велел опять сесть. — Нет-нет, ничего нового. Ничего такого срочного. Просто я уже беспомощен, я ничего не могу сделать. Не знаю, сможете ли вы… Надеюсь, что сможете. А вдруг, наоборот, выйдет еще хуже. Не знаю. Нужно попытаться. Господи, на кого же теперь уповать? День ото дня все хуже и хуже. Слова эти, похожие на бред, ничего не проясняли, и я, вне себя от беспокойства и нетерпения, закричал: — Да скажете ли вы мне, наконец, в чем дело, черт побери! Доктор совсем обмяк в своем кресле, его черный редингот сморщился, как спущенный воздушный шар, а острые колени в узких панталонах нелепо торчали чуть ли не выше головы. Он глядел на меня, словно через стекло, затуманенное дождем. Длинный подбородок дрогнул, и я услышал вместе с горестным вздохом: — Морфий, бедный мой друг.— Когда она была еще маленькой, за ней уже нужно было строго присматривать, — рассказывал доктор чуть позже, прихлебывая чай, который приготовила нам миссис Бамли, сразу вслед за тем тактично удалившаяся. — Да, она была умненькой, прилежной девочкой, но на редкость легко потакавшей собственным прихотям. Тайком объедалась марципанами и конфетами — вы ведь помните ее в двенадцатилетнем возрасте: толстушка, настоящий шарик. После сладостей начались более опасные увлечения: танцы, флирт, катанье на лодках, — и тут уж я не мог уследить за ней. Вы были слишком молоды (ах, как я жалел об этом!), и за ней стал ухаживать этот Годфри — взрослый человек, слишком уж блестящий, но его взгляд внушал мне почему-то тревогу. Увы! Тогда я не проявил должной твердости. И лишь несколько месяцев назад Дороти рассказала мне всю правду: однажды вечером они лежали, глядя в небо, на палубе плоскодонки, плывущей по течению, и Годфри вдруг протянул ей что-то на ладони: «Вдохните это». Она вдохнула — и испытала невероятное наслаждение. Дороти мне во всем призналась. Она не любила Годфри, он забавлял ее, интриговал, поражал, даже временами шокировал, но она его не любила по-настоящему. Вот только кто, кроме него, доставлял бы ей райское снадобье?! Она никогда не осмелилась бы, да и не сумела бы раздобыть его сама. Никто не понимал причин этого брака, да и кому могло прийти в голову, насколько жалки эти причины, — жалки, нечисты и гадки. Даже я, хотя мне постепенно открылись мерзкие нравы ее мужа, ни разу не заподозрил самого страшного — наркотиков. Его беспутная смерть нисколько не удивила меня. Признаюсь вам, я даже порадовался, тем более что Дороти так и не удалось скрыть от меня, как она была несчастна с ним. Я надеялся, что теперь-то она вернется ко мне. И никак не мог понять, почему она осталась жить в Лондоне. Она нашла себе хорошо оплачиваемую работу, но вряд ли это было ей интересно: секретарша директора на кирпичной фабрике. Я узнал правду лишь тогда, когда она впервые попала в больницу. Мне написал ее врач. Ведь лечение наркоманов всегда связано с большой опасностью — приступами ярости, попытками самоубийства. Я примчался в Лондон, но мне не разрешили ее видеть. К счастью, все прошло благополучно. По окончании курса лечения я хотел увезти ее домой. Но она осталась — под тем предлогом, что не может так внезапно бросить свою работу, своего патрона. Надо вам сказать, что, действительно, когда я пришел поговорить с ним, он рассыпался в похвалах Дороти. Он не догадывался о морфии, а я, естественно, умолчал обо всем. Может быть следовало, наоборот, предупредить его. Он бы последил за ней. Впрочем, злостные наркоманы отличаются поистине дьявольской хитростью и умеют обмануть самых бдительных надзирателей так что его наблюдения все равно ни к чему бы не привели. Словом, она опять взялась за старое. А рецидив всегда протекает тяжелее. На сей раз пострадала и ее работа: она отсутствовала по два-три дня подряд. В результате, когда четыре года спустя она снова вышла из больницы после вторичного лечения, ее место в фабрике оказалось занято. И вот тогда, в порыве запоздалого благоразумия и, может быть, в надежде на спасение, она известила меня о своем приезде. В течение всей своей долгой речи доктор Салливен, держа в руке пустую чашку, наклонившись вперед, упорно смотрел на таджикский ковер, словно хотел навсегда запечатлеть его орнамент у себя в памяти. Наконец он поставил чашку на столик и повернулся ко мне. — Я так рассчитывал на вас, — вздохнул он. Я почувствовал себя виноватым, мне показалось, что он упрекает меня, но нет, его горечь объяснялась другим. — Дороти очень любила вас, очень — по крайней мере насколько может любить наркоманка. Мне кажется, в четырнадцать или пятнадцать лет она увлеклась вами. Но вы были слишком робки, чтобы заметить это, к тому же ваша молодость подвела вас: юным девушкам нравятся зрелые мужчины, вот и Дороти — не успела оглянуться, как воспылала к Годфри этой невероятной страстью, в которой не было места для нормальной любви. Когда она написала мне, что хотела бы снова увидеть вас, я понадеялся на чудо. Быть может, и она тоже. Но чудо длилось недолго, всего несколько недель. А потом… Ах! Потом… И доктор вновь съежился в своем кресле так, словно под рединготом ничего не было. — Не знаю точно, когда это началось опять. Я не сразу заметил перемену. Да я к тому же не мог уразуметь, каким образом она ухитряется раздобывать морфий в такой замшелой дыре, как наш Уордли-Коурт. А потом я нашел в корзинке для бумаг конверт, пришедший из Лондона с надписью «До востребования», и тут все понял. Но не могу же я держать ее взаперти! — вскричал он и замолк. Я был уничтожен — иначе не назовешь то, что я испытал, слушая эту исповедь. До боли стиснув зубы, я молчал, не в силах ничего выговорить, и в комнате залегла мертвая тишина. Не знаю, сколько времени она продлилась. О чем думал старый доктор? Он бессильно осел в своем кресле, словно старый, сломанный паяц, к это зрелище еще усугубляло невыносимо тяжкое молчание. В конце концов доктор обратил ко мне вопрошающий отрешенный взгляд, и, казалось, был удивлен, встретившись со мной глазами. Нужно было наконец что-то сказать. Но я не нашел ничего лучшего, как пробормотать: «Я просто убит». В ответ он устало махнул рукой и скривил рот в гримасе, которую лишь с большой натяжкой можно было назвать улыбкой. «Конечно, конечно», откликнулся он — так подбадривают школьника, огорченного своей ошибкой в трудном переводе Лукреция: «Конечно, вы исправите, не торопитесь и не волнуйтесь». Затем я выдавил из себя еще пару изречений типа «Кто бы мог подумать…» или «Просто невероятно…», на которые он отреагировал репликами того же уровня: «Ну естественно» или «Еще бы». Теперь я и сам до того выдохся, что мы с доктором, наверное, очень походили на пару марионеток, брошенных на кресла после спектакля. Наконец мне удалось внятно выразить первую пришедшую мне отчетливую мысль: — Когда точно начался у нее последний рецидив? Задавая этот вопрос, я не мог отделаться от тайно терзавшего меня беспокойства: а что, если я и в самом деле виноват? Доктор забормотал: «Ну… в общем… примерно…», но никак не мог вспомнить. — Постепенно, путем сопоставления фактов, выяснилось, что это случилось гораздо раньше того, предпоследнего визита, когда у нас с Дороти произошел памятный разговор, сперва резкий, потом патетический: и самая эта резкость, и этот надрыв выглядели ненормальными для женщины, обычно такой сдержанной, иногда даже загадочной. И все же я никак не мог убедить себя в полной непричастности к этой беде. — Располагайте мною, как вам угодно, — сказал я доктору. — Я готов сделать все, что вы попросите. Я питаю к Дороти самые нежные чувства. И если вы считаете, что брак с ней… Говоря это, я думал: «Что ж, тем хуже для Сильвы. Она пока еще ничто. И худшее, что может случиться с ней, так и остаться ничем. В то время как Дороти — человек, которого нужно спасать, губящая себя женщина, быть может, частично и по твоей вине, потому что ты недостаточно любил ее. Твой долг — любить ее, ибо это единственный способ». — Еще полтора месяца назад я, не раздумывая, сказал бы вам «да», — ответил мне доктор Салливен. Теперь же я сомневаюсь: а что, если уже слишком поздно, зачем же тогда преступно губить вашу молодую жизнь. Ах, какую же я допустил глупость, когда стыдливо скрыл от вас правду! Я не осмеливался быть откровенным, а ведь, возможно, было еще не поздно исправить дело. Я один во всем виноват, — закончил доктор, словно угадав мои тайные терзания. Ему пришлось сделать две попытки, прежде чем он сумел встать с кресла. — Так я еду с вами? — быстро спросил я. — Нет-нет, даже и не думайте, на ночь-то глядя! Я ведь доберусь до Дунсинена не раньше часа ночи. Мне просто хотелось честно рассказать вам обо всем. Приезжайте, когда сможете. Если она увидит вас, если захочет увидеть… ах, не знаю, ничего я больше не знаю. Но попытаться нужно. Все же не оттягивайте слишком ваш приезд. — Я приеду завтра же, если смогу. Но скажите, доктор, разве вы не считаете возможным третий курс лечения? (Эта мысль только сейчас пришла мне в голову.) Доктор испустил тяжкий вздох и воздел к небу длинные худые руки. — Если бы знать, что это хоть чему-нибудь послужит, — промямлил он. — Недостаток подобного лечения заключается в том, что с каждым разом оно дает все меньший эффект. И потом нужно еще, чтобы Дороти согласилась подвергнуться ему. А она вряд ли пойдет на это. Вы даже не представляете, в каком она сейчас состоянии. Полное падение. Приезжайте, друг мой. Спасибо. Я жду вас.
XXIII
Я не слишком-то уверен, что мне помешали приехать на следующий день в Дунсинен, как я почти обещал, именно работы на ферме. Конечно, в тот день у меня случились кое-какие неприятности: заболела корова, в амбаре, стоящем посреди поля, занялся пожар. Но я хорошо понимал, что эти промедления, эти вполне извинительные причины необыкновенно утешали меня — очень уж пугала меня предстоящая встреча с Дороти в том состоянии, на которое намекнул мне ее отец. Каковы же были мои удивление, радость и в то же время некоторое разочарование, когда, приехав на третий день в Дунсинен, я увидел следующую картину: Дороти, сидя у окна рядом с отцом, спокойно читала. Она встретила меня в обычной для нее манере бесстрастно и чуть таинственно улыбаясь. Да и выглядела она как будто лучше, чем в прошлый раз. Но доктор Салливен из-за ее спины грустно покачал головой, словно предупреждая меня: «Не верьте». Все это было довольно странно. Дороти стала меня расспрашивать о моей лисице — ей уже было известно о важном этапе, преодоленном Сильвой в истории с зеркалами, и она почти с восторгом выслушала историю с яблоками, которые та узнала на натюрморте. Потом Дороти встала со словами: «Пойду приготовлю чай». Едва она вышла, как я радостно обратился к доктору: — Мне кажется… — Тссс! — прервал меня доктор. Его лицо было омрачено тоскливой озабоченностью, которую я заметил незадолго перед тем. — Не обольщайтесь, это все одна видимость. Подождите часок, и вы увидите, как начнет слабеть действие морфия. Я даже подскочил от изумления: — Вы хотите сказать, что она сейчас?.. Он кивнул и продолжал с безнадежной печалью в голосе: — Я бессилен ей помешать. Не могу же я обыскивать ее комнату. — Но у нее абсолютно нормальный вид, уверены ли вы, что?.. Я даже не мог закончить фразу: какая-то инстинктивная сдержанность мешала мне произнести слова, оскорбительные, казалось мне, для слуха отца; сам он, однако, выражался теперь без всякой ложной стыдливости: — Наркотик оказывает странное действие на людей, оно может быть самым различным в зависимости от дня, часа — как, впрочем, все, что влияет на человеческую психику. Во время войны я познакомился с одним полковником колониальных войск, который напивался, чтобы поддержать себя во время приступов лихорадки. И, знаете, никогда он не ходил так прямо и уверенно, как в этих случаях. Кроме того, он развивал перед нами всякие философские теории, в которых, будучи в нормальном состоянии, сам не понял бы ни единого слова. А в других случаях, наоборот, после нескольких несчастных рюмок спиртного он, шатаясь, с трудом выбирался из комнаты и, рухнув на постель, засыпал мертвецким сном на несколько часов кряду. Вот так же и с Дороти: случается, она проводит по два дня подряд в состоянии, близком к коме, а назавтра держит передо мной речь, достойную быть произнесенной в Королевском научном обществе. Это совершенно непредсказуемо. Или же она, как сегодня, ходит прямо и говорит спокойно, вроде того полковника. Но длится это недолго: через час она либо полностью лишится сил и ей придется лечь, либо начнет нести какой-нибудь несусветный вздор. — А вы полагаете, что она… гм… что она каждый день… ну, словом… что она ежедневно… я хочу сказать: никогда не лишает себя?.. — О, я не имею возможности наблюдать за ней ежеминутно, но, к величайшему несчастью, я знаю, что-она дошла уже до того предела, когда лишить себя наркотика для нее еще мучительнее, чем принять его. Это ведь дьявольский заколдованный круг. И окончиться это может только плохо. — Скажите, доктор, что требуется от меня? — спросил я. — Я сделаю все, что вы захотите. Может ли помочь Дороти эмоциональный шок? Я готов жениться на ней хоть завтра, если она согласится. — Друг мой, я ведь знаю, что вы уже предлагали ей это; она была глубоко тронута, но в ней еще осталось достаточно порядочности, чтобы отказать вам. Просто не знаю, что вам сказать. Я старый человек, жалкий старый лекарь, все это превосходит мои возможности. Может быть, втайне я и надеюсь на вашу молодость — вашу и Дороти, — молодость ведь способна на чудеса. — И доктор грустно улыбнулся: — Вы уже совершили одно чудо, так почему бы вам не совершить и второе? — Увы, ничего я не совершал, это произошло само собой. И все же дайте мне совет, доктор: должен ли я проявить инициативу? Выказать настойчивость, даже дерзость? Или вы думаете, что, напротив, медленное, упорное, ненавязчивое убеждение… Но я не успел ни закончить фразу, ни тем более получить ответ: за дверью послышались шаги Дороти, которая несла чай. Доктор, под предлогом осмотра какого-то больного, оставил нас наедине. Едва он вышел, как Дороти, не дав мне раскрыть рот, заговорила первой: — Я знаю, что отец вам все рассказал. Не могу даже понять, что я сильнее ощущаю при этом — стыд или облегчение. Теперь вам все известно, да и я вас давно предупреждала: надеюсь, мне больше нет нужды доказывать вам, что я не из тех женщин, на которых женятся. Нет! — крикнула она, заметив, что я собираюсь перебить ее. — Избавьте меня от вашей жалости, я еще не так низко пала, чтобы она не ранила меня, притом без всякой пользы. Мы не любим друг друга. Какая же совместная жизнь ожидает нас? — А вы, — крикнул я, — увольте меня от своих обобщений. Что значит мы не любим друг друга? Уж будьте уверены, что мои чувства известны мне лучше, чем вам! Дороти покачала головой. — Нет, вы любите другую, не меня. И вы правы! — воскликнула она громко, чтобы заглушить мой робкий протест. — Да, вы тысячу раз правы! Забудьте все плохое, что я говорила прежде о вашей лисице. Я многое передумала с тех пор. Всякая женщина Галатея, или она просто не женщина, и всякий мужчина — Пигмалион. В женщине мужчина любит свое творение, которое он ваял веками. И вот теперь она ожила, и он влюбился нее, а она в него. Вы тоже изваяли Сильву, сотворили собственными руками! И она превратится в женщину, в настоящее человеческое существо, а я… а я, наоборот… Дороти смолкла, словно у нее перехватило горло, и побледнела. Я вскочил, бросился перед ней на колени, протянул руки, чтобы обнять ее со словами: — Я не дам вам погибнуть, Дороти! Я спасу вас! Пропади пропадом, если не смогу… Но она легким движением выскользнула из кресла и, отбежав камину, оперлась на него. Я как дурак стоял на коленях перед пустым креслом, и Дороти смотрела на меня — без насмешки, да и без гнева, а с каким-то странным, неестественным высокомерием. — А кто вам сказал, что мне хочется быть спасенной? Что вы вообще об этом знаете, бедный мой мальчик?! Ничего вы не знаете, ровным счетом ничего. Да и никто не знает. А впрочем, кто нас слушает? О жалкие Пигмалионы! — вскричала она, простерев руку вперед, и внезапно стала похожей на своего отца с его пророческими жестами. Заметив мое изумление и страх, Дороти махнула рукой: — Не обращайте внимания… Лучше вам уехать… — Речь ее перешла в невнятное бормотание. — Если вы… если не уедете… вы… вы пожалеете. Не слушайте меня! — вдруг взмолилась она. — Ну пожалуйста! Прошу вас! И я увидел, как нервная дрожь сотрясла все ее тело, словно у лошади, которую удерживают на старте. — Я сейчас наговорю глупостей. Не дожидайтесь же этого, уходите! Оглохли вы, что ли?! Но я, словно зачарованный, не в силах был ни сдвинуться с мест а, ни ответить. Голос Дороти задрожал, начал прерываться. — Ах, так! Ну и ладно, мне все равно! Слушайте, если хотите! Какая разница?! Мне безразлично ваше мнение. Разве наше кого-нибудь интересует? Бедные, глупые ученики чародеев! Ведь мы ничего ни у кого не просили. Мы были просто счастливыми самками. Что нам было делать со своим разумом? Он ведь ни на что не годен. Только мешает получать наслаждение. И делает невыносимой расплату. В чем мы нуждались? В том, чтобы нас опекали, согревали, ублажали, холили и лелеяли? Нет, нет! Этого мало! Понадобилось еще, чтобы мы мыслили! Ну вот вам и результат. Когда сердце наделено разумом, оно мучится, оно страдает, оно защищается. Против чего? Да против самого разума! Вот от чего я спасаюсь от разума, а вы… вы заявляете, что не хотите, не дадите мне это сделать! Убирайтесь вон! Я — такая, и такой останусь. Больше вы меня не поймаете. Больше вы не заставите меня стоять на коленях и расшибать лоб об пол, борясь с этим абсурдным миром. Это ваше, мужское занятие — ведь у вас-то лбы крепкие, вам хватит силы и жестокости, чтобы взбунтоваться, а мы… что делать нам, слабым женщинам? Мы только набили себе шишки в этой борьбе, и ничего больше. И теперь нам больно. Прекрасный результат! Да, я тоже долго верила, что разум превыше всего остального. Но что он мне дал? К чему послужили мои знания? Ни к чему, пропали впустую. Как только что-нибудь действительно начинало иметь значение — прости-прощай! — ни одного человека рядом, ни одной мысли. Впрочем, именно так и можно узнать, что это важная вещь, не правда ли? Или вы не согласны? Попробуйте только сказать, что не согласны! Ну что прикажете делать с человеком, который не способен разделить со мной самое насущное, самое жизненно необходимое! Это же мельница вертящаяся впустую! Только перемалывает бесчисленные желания, бесполезные угрызения совести, придуманные трудности и воображаемые страхи. А что еще может она перемолоть? А я сыта этим по горло! У меня от этого несварение желудка. Я желаю только одного: дайте мне уснуть. Я нашла свой дом, свою нору, свою бочку. И не надейтесь выкурить меня отсюда. Вам что, больше понравилось бы, если бы я окончила свои дни среди церковного мрака, как это делают тысячи напуганных до смерти старых святош? Нирвана за нирвану… Да, я вас понимаю: любовь. Что ж, это тоже убежище. Ты вся принадлежишь одному мужчине — и конец дурным мыслям! Конец ужасу перед молчанием светил. Неудивительно, что все эти дурочки стремятся к браку! Но и в самой любви таится нечто, и это нечто — страдание. А следовательно, разум. И как следствие — хаос. О нет, любовь — скверное лекарство! Не хочу его больше. Хочу забвения, и все. Забвения, забвения, забвения! — кричала она громче и громче; все это она выпалила с такой скоростью, что я при всем желании не смог вставить ни слова. Пока она переводила дыхание, я попытался остановить этот поток безумия грубым «Послушайте!» — так швыряют палку в ноги бешеной собаки. Но она опять заткнула мне рот, крикнув еще громче: — Молчите! — И вдруг я с ужасом заметил, что на губах у Дороти пузырится пена. — Я говорю как сумасшедшая, не правда ли? — бросила она мне, словно прочла мои мысли. — Ну и что ж, ведь напиваются же по вечерам, в одиночестве, герцогини — так что без чувств валяются под столом. Хотите полюбоваться на других сумасшедших, вроде меня? Да я вам их покажу десятки тысяч по всей Англии! Знаю, знаю, я — совсем другое дело, я пошла еще дальше, я гублю себя, но если мне так нравится?! И по какому нраву вы собираетесь мне помешать? Молчите же! — завопила она изо всех сил и вдруг, словно голос у нее сорвался, словно на нее навалилась невыносимая усталость, хрипло прошептала: — Я всё говорю, говорю, конечно, говорю слишком много… не обращайте внимания… Да-да, я знаю, я, верно, наговорила массу глупостей, это из-за морфия, этим всегда кончается у меня, пока действие не пройдет совсем… не бойтесь, мне нужно выговориться, я не могу остановиться, у меня начинается настоящее словоизвержение, я задыхаюсь, я не могу больше, нет сил… — прошептала она. — Будьте добры, откройте тот ящик, нет, вон тот, в столике за ширмой. Да-да, этот. Там табакерка, старинная, фарфоровая. Да, вот эта. Неси те ее сюда. Побыстрее. Что вы сказали? Я ничего не сказал: открыв табакерку, я с омерзением глядел на белый порошок. Потом подбежал к окну и растворил его. — Что вы делаете? — взвизгнула она и кинулась ко мне. Но я уже зашвырнул табакерку в сад, и морфий белым облачком развеялся по ветру. Нападение было таким внезапным и жестоким, что я налетел на табурет, зашатался и под бешеные крики рухнул на пол. Дороги била меня кулаками, пинала ногами, рассекла каблуком щеку; защищая от нее лицо руками, я попытался подняться, но получил удар такой силы в грудь, что, потеряв равновесие, ударился о подлокотник дивана; наконец мне удалось встать на ноги и спастись бегством, а вслед мне летели какие-то предметы и грязные ругательства. Не знаю, как я добрался до экипажа. Дороти, к счастью, не стала меня преследовать. Я бежал не из трусости, а от невыразимого, какого-то священного ужаса и отвращения. Дорогой я дрожал всем телом, стирая кровь с разбитого лица.XXIV
Приехав домой, я слегка успокоился, хотя и испытывал легкий стыд за свое паническое бегство. Не на многое же я оказался способен. Стоило давать хвастливые обещания доктору Салливену! Я заперся у себя в кабинете, чтобы спокойно поразмыслить и разобраться во всем. Разобраться-то я разобрался, но результат был малоутешителен. Я увидел наконец свое истинное положение: попал, что называется, в «вилку» между Сильвой и Дороти, между животным, которое я хотел превратить в женщину, и женщиной, которая хотела стать животным. Самое неотложное, решил я, это, разумеется, удержать на краю пропасти Дороти. Ты удрал, как последний трус, сказал я себе, так вот, завтра же ты вернешься в Дунсинен. И не вздумай увиливать, находя удобные предлоги. Ты будешь бороться за Дороти столько времени, сколько требуется — до тех пор, пока не спасешь ее от нее самой. Сегодня ты, кажется, увидел самое худшее. Теперь ты знаешь, чего можно ждать. Так найди в себе каплю мужества, ее хватит, чтобы преодолеть твое отвращение. Я сказал: каплю мужества, ибо не хотел говорить: каплю любви. То были весьма благие намерения. Может быть, я даже и привел бы их в исполнение. Но назавтра доктор Салливен короткой и печальной запиской известил меня о том, что Дороти вернулась в Лондон.* * *
Я горько упрекал себя: не я ли был причиной этого отъезда? Какая безумная глупость — выбросить за окно весь ее запас морфия! Прекрасный поступок — доблестный, добродетельный, романтический! Как будто я не понимал: единственным следствием его будет то, что Дороти тут же ринется доставать себе наркотик любой ценой… А может быть, при этом она еще бежала or того кошмарного образа, в котором предстала передо мной. Я ни в коем случае не мог сейчас поехать за Дороти в Лондон: лето, хотя пока еще робко, давало знать о своем приближении, нужно было заготавливать сено, за ним подоспеют пшеница и ячмень, они потребуют больших забот, придется налаживать жнейки, договариваться с соседями насчет молотилки, да и каждодневные заботы отнимали у меня массу времени. И вообще, должен честно признаться: бегство это вызвало у меня чувство смутного облегчения. Теперь я невольно был избавлен, по крайней мере на все лето, от тягостного и неприятного долга. Найдется ли лучшее извинение бездействию? Зато я имел наконец возможность снова, уже не чувствуя себя виноватым, не терзаясь угрызениями совести и беспомощностью, посвятить себя моей лисичке… По правде говоря, я и так ни на один день не забывал о ней. Мы с Нэнни оба надеялись, что избавились от назойливого питекантропа: я приказал фермеру при его появлении спускать собак с цепи. Они были незлые, но их внушительный вид наводил страх. Джереми Холл пожаловал еще два-три раза, но псы живо обращали его в бегство. В течение последних недель я, должен признаться, частенько запирал Сильву в доме. Печальный опыт прогулки в лес удерживал меня от поиска новых приключений. Впрочем, теперь, находясь в комнате, Сильва уже не скучала той животной скукой, которая раньше заставляла ее зевать до одури. Ее игры стали разнообразнее. Предметы больше не изображали только добычу — отныне Сильва начала относиться к ним куда сознательнее. Например, она уже гораздо реже рассыпала содержимое шкатулки для шитья, а, наоборот, пыталась засунуть туда вещи, совершенно посторонние, но зато по форме напоминающие катушки ниток — тюбик с зубной пастой, мои сигары, хотя и это отнюдь не приводило Нэнни в восторг. Она также решила обследовать шкафы и буфеты, чем нанесла их содержимому немалый урон. Иногда какой-нибудь инструмент надолго занимал ее внимание, она пробовала употребить его то так, то эдак, и опыты эти, надо сказать, отнюдь не способствовали общему спокойствию. Тем не менее мы предоставляли ей полную свободу, настолько многообещающим казался нам этот возросший интерес Сильвы к «вещам», которые ее пробуждавшийся разум (а пробуждение это шло необыкновенно быстро!) обращал в «предметы». И вполне естественно, что при таком ходе событий Сильва однажды поразила нас новым достижением: она сама изготовила полезный предмет. Нам с Нэнни пришлось признать невероятный факт: Сильва открыла для себя понятие «инструмент». Конечно, не стоит преувеличивать: инструмент этот оказался очень грубым, очень несовершенным и весьма комического назначения. Но сама идея изготовления такого предмета, несомненно, имела место. Вначале мы наблюдали, как Сильва в течение некоторого времени устраивала что-то вроде тайника — привычка, свойственная многим детям и некоторым животным — хорькам, сорокам, белкам. В тайнике хранился всякого рода мусор — пробки, кусочки коры, ржавые гвозди, обрывки фольги и прочее… И вот в одно прекрасное утро мы застали Сильву перед зеркалом расчесывающей волосы каким-то странным гребнем. Рассмотрев его вблизи, мы увидели, что это спинной хребет лиманды, который Сильва, вероятно, вытащила из помойки и приспособила под расческу с помощью сложенной вдвое картонки, держа ее в руке. Каким бы нелепым и несовершенным ни был этот гребень, он все же свидетельствовал о наблюдательности и сообразительности куда более высокого уровня, чем у лисицы или даже у человекообразной обезьяны. Идея превращения рыбьего хребта в расческу — такой «изобретение» требовало определенного уровня сознания, и, можете не сомневаться, мы сумели оценить это достижение Сильвы очень высоко. Но на этом она не остановилась. Открыв для себя инструмент, она вслед за этим открыла «волшебную палочку». Конечно, и здесь не следует впадать в преувеличение. Послушать доктора Салливена (он теперь часто наведывался к нам, ища у меня утешения), это был потрясающий скачок, скачок, утверждал он, преодолевший десятки тысячелетий развития; притом понадобилось необыкновенное стечение обстоятельств для того, чтобы он произошел без всякой помощи с нашей стороны. Может быть, и так. Я лично думаю, что подобный случай рано или поздно мог произойти, в том или другом виде, и что в развивающемся сознании Сильвы это все равно дало бы свои результаты. Но судите сами. Обычно мы не пускали Сильву забираться в глубину сада — слишком обширного, чтобы надежно огородить его со всех сторон, — но ведь нельзя было лишать ее воздуха, движения и радостей прогулки, столь необходимых ее натуре. Двор фермы был достаточно велик, со всех сторон окружен строениями, и в хорошую погоду Сильва каждодневно проводила там долгие часы, разгуливая среди кур, уток, индюшек и кроликов. Сперва она страшно пугалась собак, хотя те сидели на цепи. Их рычание или лай неизменно обращали ее в бегство. Спрятавшись за бочками или за тележкой, она подолгу стояла там, дрожа всем телом. И вот однажды страху этому пришел конец, и случилось это при весьма необычных обстоятельствах. Я уже говорил о том, что псы мои — пара здоровенных мастифов, весь день сидящих на цепи и весьма свирепых с виду, — были на самом деле добрыми, безобидными существами. Я никогда не стал бы держать злых собак. Мои собаки представляли опасность только для ночных незваных гостей с мешком за плечами или с палкой в руках. Когда псы с устрашающим пылом рвались с цепи, им на самом деле просто не терпелось порезвиться на свободе, и тому, кто выпускал их на волю, грозило только одно — слишком назойливые проявления благодарности. При виде Сильвы, бегающей и прыгающей среди кур, псам не стоялось на месте. Тот переполох, который она устраивала во дворе — сумасшедшее кудахтанье, летящие во все стороны пух и перья, — возбуждал у них безмерный восторг. Не могу сказать того же о работниках фермы. Они созерцали это ежедневное безобразие с самым мрачным неодобрением. Если Сильва будет продолжать в том же духе, жаловались они, куры перестанут нестись, индюшки со страху передохнут и вообще все хозяйство придет в упадок. «Да она вам всю живность изведет вконец, эта бедняжка», — говорили они с упреком — не в адрес Сильвы (что уж тут винить «ненормальную»!), а в мой, за необъяснимую снисходительность к ее выходкам. Они не понимали, как можно спускать такое. И в самом деле, Сильве мало было гоняться за курами и кроликами, пугая их: иногда она хватала добычу. Набрасывалась вдруг на нее с таким неистовством, что любая другая на ее месте в кровь разбила бы себе локти и колени. Но ее удивительная гибкость спасала от подобных последствий. На несколько секунд двор оглашался истошным кудахтаньем и хлопаньем крыльев, а потом в белом буране перьев Сильва проворно поднималась с земли, прижимая к груди свою добычу, и исчезала с ней в каком-нибудь укрытии. Позже там находили мертвую птицу, не съеденную, а только искусанную — так убивает неголодный хищник. (В конце концов я нашел способ пресечь эти напрасные злодеяния, принуждая Сильву съедать убитых ею птиц. Дождавшись, пока она покончит с обедом, всегда достаточно обильным, я заставлял ее под угрозой палки и несмотря на тошноту и отвращение съесть вдобавок свою жертву, всю целиком, с головы до хвоста. Это возымело свое действие: очень скоро Сильва перестала убивать птиц и кроликов, довольствуясь лишь тем, что подолгу прижимала ихк груди. Результат этого по-матерински нежного жеста оказался весьма неожиданным: она и вправду прониклась любовью к животным и, вместо того чтобы приканчивать их, бережно укачивала в объятиях, точно ребенок — плюшевого мишку.) Итак, однажды, когда Сильва устроила во дворе фермы очередной птичий переполох, один из мастифов, уж не знаю каким образом, сорвался с цепи и бросился к ней. Увидав несущегося на нее пса, Сильва, перекрикивая всполошенных кур, кинулась бежать. Но тут ей под ноги попался кролик, перепуганный не меньше ее самой. Сильва споткнулась об него и, налетев на деревянную колоду, попыталась схватиться за какой-то выступающий предмет. Им оказался длинный бурав для сверления бочек с поперечиной на конце. Сильва поднялась на ноги, в ужасе судорожно схватившись за бурав, как утопающий за обломок корабля. И вдруг она увидела, что пес с испуганным визгом, поджав хвост, со всех ног улепетывает от нее прочь. Она не успела заметить, как работник забросал собаку камнями, чтобы отогнать ее, и потому в бедной Сильвиной голове произошло некое смещение. В ней установилась странная связь между этим поворотом ситуации, этим паническим бегством собаки и тем предметом, за который она схватилась как за соломинку и до сих пор сжимала в руках в надежде на спасение. Факт остается фактом: Сильва долго стояла неподвижно, все еще дрожа, но, увидев, что собака, сперва укрывшаяся за бочкой, опять направляется к ней, робко повиливая хвостом, вдруг перестала сжимать обеими руками спасительный бурав и угрожающе взмахнула им перед собой. Пес боязливо остановился. Потом снова двинулся вперед, но теперь уже опустив голову и вихляясь всем телом, с непередаваемой повадкой собак, не знающих, какой прием окажет им хозяин. Сильва, воздевшая свой бурав кверху, не двигалась. Пес буквально прополз на брюхе последние метры. И замер у ног Сильвы, сдавшись ей на милость и ожидая наказания или ласки. Сильва наклонилась, пес перевернулся на спину, болтая в воздухе лапами, и подставил под ожидаемые удары беззащитный живот. Сильва протянула к нему руку с буравом, уперла его острие в этот открытый, мягкий живот, и они надолго замерли в такой позе, словно Святой Георгий с драконом, посреди затихшего и успокоенного двора, где кролики и птица, уже забывшие о переполохе, вернулись к своей обычной жизни. Наконец Сильва отвела свое оружие; собака, вскочив на ноги, торопливо лизнула ей руку, словно выполняя некий долг, и с радостным лаем кинулась на индюшек и кур. На бегу она оглядывалась на Сильву, словно говоря: «Ну давай вместе!» Сильва действительно побежала следом, и через минуту двор опять превратился в сумасшедшую пернатую карусель. И вдруг сквозь шум и гам я расслышал, как Сильва смеется. Это случилось впервые, да и трудно было назвать настоящим смехом те звуки, которые больше походили на всхлипы, на вскрики. Рот Сильвы широко растянулся, но скорее в высоту, чем в ширину, и из него вылетало что-то, напоминающее испуганные возгласы. И все же сомневаться не приходилось: она смеялась, и смеялась от всей души. Так что я, и на сей раз не устояв перед легким соблазном замысловатых объяснений, пустился разрабатывать новые гипотезы природы смеха. Согласно теории ирландского философа по имени Бергсон (которого французы присвоили себе), смех есть способ социальной защиты против возможной деградации человека, превращения личности в автомат: «Воздействие механического на живой организм». Я всегда был убежден, что допущение это правдоподобно, но недостаточно, поскольку оно не принимает в расчет самую форму смеха — этого внезапного приступа спорадических всхлипов. Еще один из этих французов — великих любителей всяческих систем и концепций («рациональных», как они их называют) — некий Поль Валери, изысканный господин со старушечьим, сморщенным, точно печеное яблоко, личиком, который два-три года назад выступал в «Атенеуме» с лекцией о гибели цивилизаций, объясняет в одном из своих трудов, что смех — это отказ от мысли, что с его помощью душа избавляется от образа, кажущегося ей ниже ее достоинства, — так желудок извергает то, чего не в силах переварить, притом в той же грубо-конвульсивной форме. Что касается конвульсивной формы, объяснение это вполне приемлемо, вот только оно далеко не охватывает все те случаи, которые дают нам повод для смеха. Ибо, глядя на Сильву и слыша ее первый неумелый хохот, так похожий на испуганный вскрик, я понял, что хохот этот и родился как раз из испуга, внезапно превратившегося в радость: душа освобождалась от пережитого страха через эту рефлекторную, примитивную, отрывистую разрядку, которая, в этой бурной вспышке, в эйфории, успокаивала натянутые нервы — так собака, выскочившая из воды, согревается, встряхиваясь всем телом. Я написал по этому поводу Валери, который мне не ответил, и Бергсону, который соблаговолил откликнуться. Он писал, что страх в нашем цивилизованном обществе, как правило, не входит в число явлений, вызывающих смех. Это меня не убедило: человек, например, давно уже лишился сплошного волосяного покрова, но тем не менее покрывается «гусиной кожей»; и мы по-прежнему смеемся во всякой ситуации, напоминающей нам, пусть хоть в виде символа или смутной реминисценции, те первобытные страхи, которые внезапно исчезают. Бергсон написал мне также — на сей раз в более живых выражениях, — что, судя по моим доводам, животные должны смеяться по тем же причинам, что и люди. Это соображение тем больше поразило меня, что я был потрясен первым смехом Сильвы именно как проявлением в ней человеческого начала. Стало быть, испуг, радость и «грубо-конвульсивное сотрясение» (то есть смех) должны входить даже в самую примитивную систему мышления. Я решил как следует обдумать все это, но мое врожденное недоверие к идеям (особенно к чужим), а может, нежелание утруждать мозги почти всегда заставляют меня забывать о подобных благих намерениях — так случилось и на сей раз. Когда Сильва и Барон (так звали собаку) вдвоем устроили тот тарарам во дворе, я счел, что пора мне вмешаться. Подозвав мастифа, я посадил его на цепь и приказал успокоиться и молчать. Сильва пошла следом за нами. Она не выпускала из рук бурав. Она уселась наземь рядом с собакой, и до самого обеда они так и просидели бок о бок, неустанно наблюдая за хлопотливой жизнью фермы. Время от времени Барон, повернувшись к Сильве, щедро облизывал ей лицо — та позволяла ему делать это, и отныне они стали неразлучными друзьями. Во время обеда Сильва по-прежнему упорно сжимала в правой руке свой бурав-талисман. Нельзя сказать, чтобы это помогло ей достойно держаться за столом. Она расплескала суп, потом, видя невозможность разрезать жаркое одной рукой, попыталась схватить его другой — пришлось Нэнни нарезать ей мясо маленькими кусочками, как ребенку. Вечером мы обнаружили, что она спит, засунув свой драгоценный талисман под подушку. Миссис Бамли ревностная католичка — предложила заменить бурав распятием того же размера: коли уж Сильве предстоит уверовать в могущество предметов, утверждала она, пусть это будет по крайней мере достойный поклонения предмет, который позже сможет что-нибудь значить для нее. Но утром Сильва гневно отшвырнула распятие прочь, и пришлось возвратить ей ее дурацкое орудие, столь необходимое и милое ее сердцу, тем более что она сама наделила его магической властью.XXV
Даже если бы мне вздумалось утомить читателя, пересказывая ему нашу жизнь день за днем, я не смог бы этого сделать, так мало случалось у нас событий, действительно достойных упоминания: яблоки, узнанные Сильвой на натюрморте, волшебный бурав — редкие островки в однообразном океане повседневности, ничего особо примечательного, хотя я не ослаблял бдительности ни на минуту. Конечно, каждый день отмечался каким-нибудь незначительным успехом, сумма которых, по прошествии некоторого времени, могла показаться значительной, но застилать постель, чистить башмаки или перебирать картошку было скорее частью дрессировки, чем элементом воспитания. Мне представлялись куда более важными другие, незначительные успехи, формировавшие ее человеческую личность, вырывающие ее из животного состояния; такие успехи всегда принимали форму непредвиденного резкого скачка, со стороны кажущегося иногда просто молниеносным. Но больше всего удивляло меня то, что Сильва не прогрессировала именно там, где, казалось, можно было ожидать успехов скорее всего: в языке. Ее словарь значительно расширился, но только количественно. С вопросами и ответами у нас, как правило, дело обстояло хорошо, но лишь при условии, что они лежали в области повседневных практических поступков. Абстрактные идеи оставались для Сильвы недосягаемыми. Стоило ей столкнуться с таким запредельным понятием, как она безразлично замолкала, уставившись в пространство пристальным кошачьим взглядом своих странных миндалевидных глаз. И лишь в одной области ее рассудку была доступна определенная способность к абстрагированию: в визуальной. Сначала это было ее отражение в зеркале — оно вызвало у нее первый шок, первое и фатальное смятение, то самое, что отделяет нас от остального мира, делая каждое человеческое существо одиноким скитальцем во Вселенной. Затем она признала фрукты на картине, и с тех пор ее любимой забавой стало искать их повсюду, в любом круглом предмете — в мяче, мотке шерсти, кольце для салфетки, даже в яйце; она говорила: «Яблоко!» или «Вишня!» (в зависимости от размеров), с явным удовольствием указывая пальцем на вещь, а иногда даже просто на тень или пятно на стене. Нэнни проявляла неустанное терпение, показывая ей всякого рода картинки, хотя чаще всего ее ждала неудача: Сильва узнавала лишь отдельные предметы, самые привычные или простые по форме — стул, кастрюлю. И никогда не узнавала живых существ. Когда она впервые узнала нарисованное животное, ее реакция оказалась настолько неожиданной, что мы сперва даже не смогли понять ее истоки. Это было всего одно слово, одно высказывание Сильвы, которое я приведу чуть позже; оно мгновенно указало нам правильный путь и разъяснило, что мешало ей до сих пор идентифицировать изображенных человека или животное: их неподвижность. Для лисицы живое создание — это ведь не предмет, а движение, сопровождаемое запахом. А получилось так, что она узнала на картинке собаку, лишенную и того, и другого, узнала самым парадоксальным образом, именно по причине ее неподвижности, и это узнавание вызвало у нее потрясение такой силы, что она почти впала в истерику. Ибо собака на картинке была похожа на Барона — Барона, который к тому времени давно погиб.* * *
Погиб он нелепо: удавившись собственной цепью. Скорее всего, ночью он поймал прошмыгнувшую мимо крысу и, пытаясь удержать ее, вертелся на месте до тех пор, пока не намотал себе на горло всю цепь; он не смог освободиться и задохнулся. Бедняга даже не залаял — так никто ничего и не услышал. Второй пес в это время наверняка спал. И именно Сильва, придя, как обычно по утрам, поздороваться со своим другом, нашла его уже окоченевшим, с высунутым языком, давным-давно мертвым. Она не закричала, не позвала на помощь. Это Фанни увидела из окна, как Сильва старается поставить пса на ноги. Она-то и подняла тревогу, мы тотчас прибежали. Я размотал цепь, ощупал собаку, надеясь обнаружить какие-нибудь признаки жизни. Увы, пес уже окоченел и издавал тот прелый запах шерсти и остывшего тела, который предшествует разложению. Нэнни попыталась увести Сильву, но та яростно отбивалась: то было не волнение, не горе, а обыкновенное бессознательное упрямство, стойкая инерция. Казалось, она просто хотела остаться там, где была, вот и все. Я пошел за работником на ферму, и мы с ним, завернув Барона в брезент, отправились хоронить его. Как и следовало опасаться, Сильва молча пошла за нами, не отставая ни на шаг. Нужно ли было рыть яму при ней? Поскольку я не мог решиться ни на что определенное, я поступил так, как обычно и делают: отложил дело на потом. Мы просто положили Барона под деревом. Я надеялся, что Сильва, обычно легко отвлекающаяся, скоро забудет о нем. Но она еще целый час не оставляла своих трагических попыток поставить собаку на ноги. Наконец я решился. Мы с работником вернулись и выкопали яму. Барон был опущен в нее. Сильва молча наблюдала за происходящим. Глаза ее сузились, пристальный взгляд не отрывался от могилы. Я спрашивал себя, что она сделает, когда мы забросаем могилу землей. Она не протестовала. Молча смотрела на нашу работу и, когда мы закончили, покорно позволила увести себя. Дома она поела, как обычно, с аппетитом. Но днем, обманув бдительность Нэнни, Сильва исчезла; мы нашли ее именно там, где и ожидали: на могиле Барона. Она уже почти откопала его. Она не стала мешать мне вновь забросать тело землей, не противилась Нэнни, которая обнимала и целовала ее. Но глядела, как я орудую лопатой, с каким-то упорным, неотрывным интересом. Она снова покорно позволила увести себя в дом, где принялась играть, как обычно, потом с неизменным аппетитом пообедала, а вечером, улегшись в постель, мгновенно заснула. Но утром опять отправилась искать Барона во двор, туда, где он всегда сидел на цепи. Мы пошли за ней. Сперва она изумленно застыла при виде цепи, одиноко брошенной на землю. Потом направилась в лесок за фермой, где накануне был погребен ее друг. Нэнни кинулась было за ней, но я удержал ее. Мне казалось, что лучше дать Сильве возможность дойти в своих открытиях до конца. Когда позже мы подошли к ней, оказалось, что она опять разрыла могилу, но к телу не притронулась. По прошествии суток оно выглядело ужасно: до него уже добрались муравьи, кроты и черви, сделав труп похожим на старый, побитый молью, дырявый лоскут, весь в грязи и сукровице. Да и запах от него шел жуткий. Сильва глядела на эти гниющие останки, застыв в трагической неподвижности. Я подошел к ней, обнял за плечи и сказал: — Вот видишь, он умер. Поскольку я дал ей увидеть мертвого пса, я решил, что она должна узнать и само слово. Тогда я не понимал до конца, что это столкновение со смертью — главный опыт в формировании человеческого разума; скажем так: я более или менее смутно подозревал это. Сильва по-прежнему не спускала глаз со своего несчастного приятеля. И вдруг она начала дрожать — не очень сильно, но безостановочно. Нет, даже не дрожать, а скорее непрерывно содрогаться. Я еще крепче обнял ее. Наконец она спросила, с трудом выговаривая, словно язык не слушался ее: — Больше… не играть?.. Я ответил — насколько мог мягче: — Нет, Сильва, маленькая моя. Бедный Барон больше не играть. Сильва сотрясалась всем телом, все сильнее и сильнее. И вдруг, оторвав взгляд от печальных останков, посмотрела на меня. В глазах ее не было вопроса. То было скорее жадное, пристальное исследование моих черт, похожее на глубокое раздумье о значении человеческого лица. Я стоял неподвижно, давая ей рассматривать себя и не осмеливаясь ни улыбнуться, ни нахмуриться, ни изобразить чрезмерную скорбь. Я нежно глядел на нее, но Сильву интересовали не мои глаза: она изучала нос, губы, подбородок. Потом спросила — каким-то бесцветным, неестественно ровным голосом: — Бонни тоже… больше не играть? Я засмеялся тихонько — только для того, чтобы рассеять это странное детское опасение. — Нет-нет, Бонни еще будет играть. Бонни не мертвый! Он здоров, совсем здоров. Он будет играть с Сильвой каждый день! Как ни странно, ответ этот рассердил Сильву. Она вырвалась у меня из рук, словно желая установить дистанцию между собой и мной. И повторила, почти повелительно: — Бонни тоже больше не играть? Сперва я решил, что она, как это ни неожиданно, вознамерилась вменить мне в обязанность траур по поводу смерти ее друга. Да-да, я понял именно так: думать об игре, когда умер Барон, казалось ей ужасным. Конечно, это было явно глупо, принимая во внимание такую еще не развитую душу, животную сущность Сильвы. Я ответил: — Конечно, ты права, играть не сейчас, не сразу. Но тут же, еще больше изумившись, я увидел, как она топнула ногой с детским нетерпением — так раздражается ребенок, которого взрослые отказываются понять. Ее лицо судорожно искривилось от досады, но одновременно от такой тоски, такой муки, такого ужаса, что, когда она в третий раз крикнула срывающимся голосом: «Бонни тоже больше не играть?», я понял наконец, с душераздирающей уверенностью понял: она хотела знать, наступи ли такой день, когда, подобно Барону, ее «Бонни» тоже не будет больше играть, nevermore[41]. Мы зашли слишком далеко, отступать было некуда. Нэнни, вытаращив глаза, подавала мне отчаянные знаки, ее отвислые щеки тряслись от горестного волнения, она тоже все поняла. Но я отрицательно качнул головой. Вперед, подумал я, смелее вперед! И ответил как можно спокойнее, без трагических нот и вообще без всякого волнения в голосе: — Да, Бонни тоже не играть когда-нибудь… но не скоро, так не скоро, что не стоит даже об этом думать! — добавил я поспешно, видя расширенные ужасом Сильвины глаза. Я не строил иллюзий: вряд ли Сильва способна понять значение слов «не скоро». Да и нужно ли было при подобных откровениях смягчать мои слова? Пускай Сильва поймет и до конца примет эту истину во всей ее беспощадной жестокости. Сильва открыла рот. Она открывала его все шире и шире и внезапно истерически рассмеялась рассмеялась тем самым смехом, который больше походил на испуганный вскрик. Этот звук был так судорожно напряжен, что на миг она даже «зашлась», как захлебываются в плаче новорожденные. Когда она вновь обрела дыхание, я приготовился к тому, что сейчас она — как те же новорожденные — разразится новым криком. И Сильва действительно закричала, но закричала словами. «Не хочу! Не хочу!» — безостановочно повторяла она, и ее нежное заостренное личико свела такая судорога боли, что оно сморщилось, как у обезьянки, побагровело и стало почти безобразным. Она вопила, что есть сил, дрожа всем телом, потом внезапно умолкла и замерла. И провела всей ладонью, снизу вверх, но лицу, вдруг обмякшему и побелевшему — побелевшему настолько, что я испугался, как бы она не потеряла сознание. Она еще дважды или трижды повторила этот жест, словно стирая рукой черты со своего тонкого лисьего личика и отметая назад рыжие волосы, упавшие на глаза — эти безумные, расширенные глаза, уставившиеся на меня с таким ужасом, словно и я сейчас, как Барон, умру у ее ног. По крайней мере так я думал в тот миг — и думал, что именно это ее страшит. Но мысли эти, отныне их можно было так назвать, придя в движение, растревожили ее бедный лисий мозг с такой невероятной быстротой, что, когда, по моим предположениям, сознание ее еще только рождалось в хаосе смятения от боли и горя, мозг ее на самом деле уже делал выводы из случившегося. И кончилось тем, что, в последний раз отведя рукой со лба непокорную рыжую прядь, она взглянула на меня потухшими глазами и спросила непередаваемым тоном, разбитым, еле слышным голосом, похожим на вздох: «А Сильва?..»XXVI
Не могу без волнения продолжать свой рассказ. Даже если бы в ту секунду, когда Сильва произнесла свое имя, она окончательно узнала, поняла, что смертна; даже если бы в тот жестокий, завораживающий миг меня не захватило безошибочное, властное ощущение, что она пережила вторую метаморфозу, внешне, может быть, менее загадочную, чем физическое превращение, но зато настолько более чреватую последствиями, стигматами, которые прожгут ее душу до самого дна; даже если я не сказал бы себе, что в это мгновение она на моих глазах преобразилась вторично, навсегда отринув бессознательную, беззаботную счастливую свою лисью натуру, чтобы, дрожа, сделать первый шаг в потаенную область, в трагическую, смертельную, мрачную, беспредельную, проклятую и возвышенную область дерзких вопросов, которые человек задает своим богам; даже если бы озарение не посетило мой собственный мозг в ту самую секунду, когда свет, озаривший ее преходящее, непостижимое состояние, вспыхнул в ее мозгу; даже если бы в тот миг я не подумал обо всем этом, поведение Сильвы все равно принудило бы меня к этому, и без промедления. Ибо могу безошибочно утверждать, что именно в ту секунду, после той секунды все действительно изменилось, и изменилось бесповоротно. Она прошептала: «А Сильва?..», и я не осмелился ей ответить. Да и ждала ли она ответа? Разве не был он заключен уже в самом ее вопросе? Она выговорила: «А Сильва?..» — и взглянула на Нэнни. Она глядела на нее, а не на меня, ибо ясно ощущала, верно угадывала, что здесь оборона будет куда менее сильной. И действительно, под этим взглядом бедняжка Нэнни тут же дрогнула, не умея скрыть свое волнение и замешательство. Она простерла к Сильве руки, лицо ее осветилось острой жалостью и любовью. Но, вместо того, чтобы броситься к ней в объятия, молодая женщина отшатнулась и обвела нас обоих, меня и Нэнни, ненавидящим взглядом. Рот ее приоткрылся, но проклинать Сильва еще не умела. Поэтому она круто повернулась и бросилась бежать. Однако далеко она не убежала. Внезапно она встала как вкопанная, словно натолкнулась на край небосклона, на горизонт и расшибла об него лоб; потерев этот лоб тыльной стороной руки, она повернулась и бегом помчалась через сад; на сей раз она и в самом деле налетела на молодую яблоню и рухнула наземь, словно птица, ударившаяся о стекло, но тут же вскочила на ноги и понеслась в другом направлении, туда, где густые кусты кизила подступали к деревьям; она бежала прямо на них с низко опущенной головой и, пулей врезавшись в спутанные заросли, споткнулась и вновь тяжело грохнулась на землю. Не вставая, она медленно свернулась в клубочек и, видимо отказавшись наконец от бесцельных попыток убежать, так и осталась лежать в своем укрытии неподвижным комочком, похожая на больного зайчонка. Нэнни кинулась было к ней; на этот раз я ее остановил: испытание, выпавшее на долю Сильвы, было не из тех, в которых можно принимать участие. Напротив, я знаком попросил Нэнни следовать за мной, и мы удалились. Из окон второго этажа замка была видна живая изгородь, тот ее уголок, куда Сильва забилась, подобно больному зверьку. Стоя в бельевой, мы с тоскливым страхом наблюдали за ней через окно. Нэнни сморкалась — беспрерывно, но с такой старательной сдержанностью, что в другой ситуации я бы обязательно над ней посмеялся. Теперь же у меня не было ни малейшего желания веселиться. Ночь тем временем нехотя вступала в свои права. Я начал опасаться этой неподвижности Сильвы. Столько времени не двигаться — а вдруг у нее обморок? Но в этот момент мы увидели, как Сильва — уж не холод ли тому был причиной? — наконец зашевелилась. Она выползла из кустов, поднялась и долго стояла, словно колеблясь. Потом, к великому нашему облегчению (Нэнни до боли стиснула мою руку), Сильва направилась к дому в туманных вечерних сумерках. Мы бросились вниз, в гостиную, чтобы встретить ее. Но, вероятно, напрасно зажгли свет. Она не вошла. Ее силуэт промелькнул в окнах и удалился по направлению к ферме. Я махнул Нэнни рукой, чтобы она оставалась в доме, а сам поспешил в холл. Когда я выбежал на крыльцо, Сильва стояла у темной арки ворот, ведущих во внутренний двор, и словно ждала чего-то, как будто вместо прохода очутилась перед неодолимой преградой. Заметила ли она меня? Или же услышала иной шум — звон цепи второго, уцелевшего мастифа, гусиный гогот, кудахтанье курицы? Наверное, эти привычные звуки при ее теперешнем состоянии казались ей невыносимыми. Как бы то ни было, я увидел, что неподвижная фигурка вдруг встрепенулась, проворно скользнула во двор, бесшумным призраком пронеслась вдоль дома с покосившимися ставнями и сгинула, исчезла, словно под землю провалилась. Наверняка она проскочила в конюшню — я кинулся туда следом за ней. Обе лошади, мул и осел беспокойно топтались в густом полумраке. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы привыкнуть к темноте. Почудилось, что в углу, между стеной и полкой с инструментами, притаилась какая-то неясная фигура. Но при ближайшем рассмотрении она оказалась седлом, брошенным на деревянную колоду. Тщетно искал я Сильву — она, вероятно, успела выскользнуть отсюда прежде, чем я вбежал. Где же теперь ее отыщешь? Я вернулся в замок. Нэнни в гостиной не было. Я позвал ее и услышал наверху в коридоре шаги. Вдруг они ускорились, и я, тоже перейдя на бег, стремглав взлетел по лестнице. Извилистый коридор шел от ступеней в обе стороны. Я прислушался: шум стих. Инстинктивно я пошел налево, в сторону спален. Дверь в Сильвину комнату была отворена. Миссис Бамли стояла там в одиночестве перед кроватью с видом крайней озабоченности. Подушка на постели лежала криво, один ее угол был вздернут, словно там кто-то рылся. Услышав мои шаги, Нэнни повернула голову. — Сильва ушла и взяла с собой бурав, — сказала она. Оказывается, пока я обыскивал конюшню, Нэнни услышала, как отворилась, а потом захлопнулась входная дверь. Сперва она подумала, что это вернулся я, но стремительный топоток по лестнице, живость и легкость походки не оставляли сомнений. Нэнни тотчас кинулась наверх, но ее старые ноги, знаете ли, и больное сердце… В коридоре, на втором этаже, никого. В комнате Сильвы тоже. Подушка сдвинута. Тогда Нэнни побежала в конец коридора, к черной лестнице. Она как раз успела услышать внизу дробь поспешных шагов и хлопанье двери. Бросившись к слуховому окну, Нэнни разглядела в смешанном свете восходящей луны и меркнущего дня хрупкий силуэт, летящий к лесу. Что делать? Нэнни нечего было и думать о том, чтобы догнать Сильву. Она медленно вернулась в спальню. И внезапно, один Бог знает почему, подумала о злополучном бураве. Когда я вошел, она как раз обнаружила его исчезновение с обычного места под подушкой. Что делать? — подумал теперь и я. Мне казалось, я разгадал последнюю попытку, последнюю надежду этой только что народившейся души противостоять устрашающей судьбе, которую ей угрожало разделить со всеми нами. Как отчаявшийся старик ищет в воспоминаниях о детстве бесполезное лекарство своей дряхлости, так и моя лисичка, вооружившись буравом, бежала от смерти в свой полный вечной жизни лес, бежала в этот недостижимый приют утраченной душевной невинности. Что же делать? — твердил я. В любом случае для облавы в лесу сейчас поздно. Да и где ее там искать? В хижине Джереми? Эта мысль пришла ко мне внезапно, грубо, беспощадно, вместе с нахлынувшей яростной ненавистью. На какой-то миг я представил себе, как седлаю вместе с сыном фермера двух лошадей, скачу по лесу с пылающим факелом в руке, швыряю питекантропа наземь, под копыта жеребца, и в свирепом ликовании увожу свою милую, посадив ее в седло позади себя. Эта воображаемая скачка слегка успокоила меня и помогла преодолеть приступ отчаянной ревности; теперь, когда нервы мои расслабились, я опять подумал о Сильве с нежностью. Джереми? — спросил я себя, — ах, да пускай она в последний раз обретет подле него, если захочет — да и если еще сможет, — свои навсегда теперь отравленные радости молодого бесхитростного зверька. Подари ей эту последнюю утеху, последнее счастье ни о чем не ведающей юной лисицы, последнюю вспышку безгреховного наслаждения. Мы легли спать рано, и я провел весьма скверную ночь.* * *
Как это всегда бывает при бессоннице, на ранней заре я погрузился в такой глубокий сон, что никакими силами не мог пробудиться. И однако кто-то пытался разбудить меня. Я чувствовал, как несказанно нежны были эти попытки. Но как это случается при подобном запоздалом сне, я лишь с трудом приподнимал веки, которые тут же смыкались вновь, и чья-то огромная отвратительная рука погружала меня в темную пропасть забытья. Однако мало-помалу я все-таки выбрался оттуда и, окончательно придя в себя, увидел, что лежу в объятиях Сильвы. Она вернулась. Она вернулась! От нежности, от радости, от облегчения и благодарности я рванулся было с постели. Но тяжесть другого тела заставила меня откинуться обратно на подушку. Сильва обнимала меня, и голова ее покоилась на моей груди. Она не спала: одной рукой она с судорожной нежностью гладила мое плечо. Я слышал ее тихое всхлипывающее дыхание. Приподнявшись, насколько возможно, я взял в руки ее голову, повернул к себе остренькое личико. О Боже, какой взгляд! Он был неузнаваем; меня пронзило такое изумление, нет, такое глубочайшее потрясение и восторг, который я не побоюсь назвать словом «откровение». До сих пор узкие пристальные глаза Сильвы с их металлическим отблеском всегда оставались как бы плоскими, лишенными глубины; эти глаза останавливались на предметах с острым вниманием, но внимание это было каким-то отстраненным и неосознанным; взгляд отрывался от вещей без сожаления, не оценив, не осмыслив их по-настоящему. Не помню, где я прочел, что женские взгляды делятся на две категории: есть глаза, которые смотрят на вас, и есть глаза, что позволяют себе смотреть. Но бывает и третья разновидность: кошачий взгляд, который никогда не выдает себя, но сам все впитывает, не дотрагиваясь, не касаясь — не лаская. Это пара внимательных изумрудов, горящих ледяным огнем. Я чувствовал, что в самые волнующие, самые интимные мгновения, исполненные нежного и горячего интереса, Сильва все-таки никогда не переставала смотреть этим своим взглядом, за которым, может быть, и таилось, и творилось что-то важное, но, увы, на поверхность никогда не всплывало. Зато теперь, о, какой взгляд был теперь устремлен на меня! Это не были больше глаза, что просто смотрят, — теперь они глубоко проникали в душу, эти глаза, словно хотели понять тайну, найти ответ. Этот взгляд я, по правде говоря, уже заметил два месяца назад, когда Сильва узнала себя в зеркале, но тогда он лишь вспыхнул и быстро угас, забылся, забыл… Да, впрочем, он и не достиг тогда ни нынешней остроты, ни этой крайней сосредоточенности, поистине трагической напряженности, какая отличала сейчас этот взгляд, устремленный на меня, внимательный, пристальный, исполненный непередаваемого волнения. Я сжимал ее лицо в ладонях. Я твердил: «Ты вернулась!» Не знаю, способна ли была она понять, что таилось за этими словами, произнесенными полушепотом, способна ли была угадать или ощутить, сколько в них нежности, признательности, радости и сладкой печали. Сильва не отвечала. Она просто упорно смотрела на мои губы, повторяющие: «Ты вернулась!» Потом я начал тихонько целовать ей лоб, глаза, все лицо. Она покорно подчинялась. Я обнимал ее, как обнимают нежно любимую женщину, и она подчинялась, как женщина, слегка откинув в забытьи головку, и мне чудилось, что поцелуи мои вот-вот перейдут в тот сердечный порыв, разрешающийся слезами, свойственный матери, ласкающей свое выздоровевшее, но еще слабое дитя, или любовнику, ласкающему любимую накануне долгой разлуки; ни на минуту не пришла мне мысль о лисице, или разве что мгновенно мелькнул и тут же забылся вопрос, не осталось ли в том создании, лицо которого я покрывал поцелуями, еще что-то лисье, но нет, я не думал об этом, я только одно и повторял мысленно — с переполнявшей меня нежностью, с острой благодарностью: «Она вернулась» — и обнимал ее с безграничным пылом и сладкой счастливой грустью. Потом я спросил: «Ты не слишком замерзла сегодня ночью?», и она, все не отводя от меня взгляда, покачала головой. «Не замерзла», — промолвила она минуту спустя. Я долго колебался, прежде чем спросить: «Где ты была?», но она либо не поняла, либо не захотела ответить. Она просто продолжала глядеть на меня с той же задумчивой настойчивостью, которая, с минуты моего пробуждения, пронзила мне сердце, наполнив его сладкой мукой. А потом Сильва прошептала: «Бонни»; она произнесла лишь это смешное прозвище, больше ничего, но таким непривычным для меня голосом, таким доверчиво-испуганным гоном заблудившегося или нашедшегося ребенка, что я еще сильнее сжал ее лицо, кивая головой, словно желая сказать: да, да, малышка, я здесь, с тобой… но она прижалась лбом к моим ладоням, раздвинула их и положила голову мне на грудь — да, она прильнула ко мне этим движением — уж не знаю, усталым или доверчивым. И больше ничего не сказала. Да и я молчал. Долго мы лежали так, и наконец заснули оба, успокоенные, просветленные душой. Утром мы спустились завтракать в столовую. Нэнни, вероятно, еще раньше меня узнала о возвращении Сильвы, потому что встретила нас без всякого удивления. Она подала нам завтрак. Сильва не стала накидываться на свою копченую рыбу с обычной жадностью. Она ела и пила рассеянно, непрерывно переводя взгляд с меня на Нэнни и опять на меня, словно провела долгие годы в Америке и теперь, возвратясь, сравнивала наши любимые, но такие постаревшие лица с теми, что остались в ее памяти. На ее собственное лицо легла неуловимая тень усталости или печали, которая в сочетании с жадным любопытством выражала, как мне казалось, сильную, но омраченную тайной заботой любовь. Сердце мое сжималось от странного счастья, где смешались и жалость, и гордость, и надежда. Любовь, которую отныне испытывала к нам Сильва, не была больше, думал я, любовью домашнего зверька, жаждущего защиты, — теперь это была любовь создания, ставшего подобным нам, людям, открывшего для себя нашу общую горестную участь смертных и всем своим существом желавшего разделить ее с нами. Я думал также о том, что человеческая любовь отличается от звериной именно таящейся в ее глубине мыслью о смерти и что отныне Сильва сможет наконец полюбить меня именно такой любовью. И еще я знал, что сам давно люблю ее. Я не мог больше скрывать это от себя с той поры, как Дороти бросила мне: «Вы любите не меня!» Тогда я собрался возразить ей. Но ей ничего не стоило заткнуть мне рот, и уже по этой легкости я смог измерить силу собственных сомнений. Затем Дороти бежала в Лондон. И я помнил, с какой горькой радостью встретил я перспективу остаться наедине с Сильвой… Все это было ясно, но отнюдь не успокаивало. Дороти предалась своей страсти, но разве не предался и я своей? И не предаемся ли все мы на самом деле, каждый на свой манер, одному и тому же соблазну: уклониться от строгих канонов человеческого общества? «Пусть возвращается к своему морфию, а я — к моей Сильве» — разве не так думал я, охваченный мучительным наваждением, чем-то похожим на тягу к наркотикам. Ибо если даже Сильва и очеловечивалась с невиданной быстротой, прямо на глазах, то все же особенно сильно меня привлекало в ней, несмотря ни на что, именно то пленительное звериное начало, столь свойственное ее натуре. Разумеется, она сделала гигантский шаг в своем развитии, и шаг решающий, но разве воспользоваться этим как предлогом, чтобы любить ее отныне, не испытывая угрызений совести, не было, откровенно говоря, своего рода алиби? И, несмотря на морфий, какая пропасть между нею и Дороти! Та могла окончательно загубить, смертельно отравить себя наркотиками, чтобы избежать моральных мучений, но разве сами эти мучения не являлись трагическим свидетельством утонченности ее разума, терзающих ее сомнений? Она, конечно, падала в пропасть, но даже такое поражение было первым доказательством жестокости, а значит, и благородства этой борьбы. Драма Дороти… где же еще таились корни этой драмы, как не в благодатной почве долгой человеческой цивилизации? Она была ее отравленным плодом, но также и неопровержимым знаком. Тогда как бедняжка Сильва, все еще не избавившаяся от пут своего происхождения, — что могла она предложить, кроме младенчески-бессвязного человеческого лепета? Всякое сравнение ее с Дороти было кощунственно, а мой выбор, по правде сказать, унизителен. Таковы были мои размышления в то время, как истекали последние летние дни. И, коль скоро я пришел к таким выводам, у меня не оставалось иного выхода: если я обладал хоть каплей характера, то обязан был ехать в Лондон. Я не имел права позволить Дороти довершить свое добровольное самоуничтожение (а новости, которые сообщал мне ее отец, звучали поистине драматически), не испробовав все средства к ее спасению. Сено было уже убрано, зерно обмолочено, до осенней пахоты оставалось еще несколько недель. Ничто не удерживало меня в замке — ничто, кроме Сильвы. Но я решил вырваться из этих искусительных пут и уехать. Я предупредил Нэнни о своем скором отъезде, но странное дело не назвал истинных его причин, словно побаивался ее неодобрения, словно не хотел, чтобы она осудила предпочтение, отдаваемое мною Дороти. Таким образом, Нэнни осталась в неведении насчет решения, которое я принял не без внутренних терзаний. Я просто сообщил ей, что должен уладить кое-какие дела и вернусь, как только они будут приведены в порядок. Накануне отъезда я, естественно, нанес последний визит доктору Салливену. Он выглядел усталым и постаревшим. Сам он недавно вернулся из Лондона. Когда я сообщил ему о своем решении ехать туда, он беспомощно махнул рукой. — Ах, не знаю, скорее всего, уже поздно, — сказал он, обратив ко мне длинное худое лицо. Его толстые губы скривила гримаса горького недоумения. — Скажу вам откровенно: самое страшное, что она кажется счастливой.XXVII
Помнится, первое, что меня поразило в комнате Дороти, был турецкий рахат-лукум. Сперва я увидел дольку у нее во рту, она лениво жевала. Другие дольки лежали в фарфоровой чаше, облепленной сахарной пудрой, на маленьком столике возле дивана-кровати. Да и повсюду кругом валялись картонные коробки с рахат-лукумом. Одна долька упала на ковер, кто-то, верно, наступил на нее, и она расползлась розоватым ошметком — бесформенным подобием медузы или морской звезды. Впрочем, ковер был усеян и другими подозрительного вида пятнами. Так же как и покрывало из искусственного меха «под пантеру», которое Дороги, небрежно раскинувшаяся на диване, набросила на себя. Я довольно долго разыскивал это ее отдаленное жилище в самом сердце Галвестон-лейн. На узкой и темной лестнице, пропитанной прогорклым запахом жареной рыбы, я столкнулся с пастором в ветхой сутане, как мне показалось, пьяным в стельку; он прижался к стене, чтобы пропустить меня, потом, должно быть, поскользнулся на ступеньках, потому что я услышал, как он выругался. Не знаю, что это был за дом — то ли семейный пансион, то ли дешевая гостиница. Кирпичный фасад был побелен, и это, как и маленькая черная дверь, обитая медью и увенчанная треугольным фронтоном, придавало дому почти кокетливый вид. Зато внутри все казалось погруженным в вековую спячку и покрытым вековым же слоем пыли. Дороти лениво протянула мне руку, не поднимаясь с дивана и не переставая жевать свое вязкое лакомство. Мне показалось, что она не похудела, а, напротив, даже слегка пополнела; но сквозь косметику, которую она, верно, после моего телефонного звонка поспешно и небрежно наложила на лицо, просвечивала мертвенно-бледная кожа. Набрякшие веки окаймляла ярко-розовая, почти красная полоска. Все лицо Дороти напоминало те увядшие цветы кувшинки, которые вот-вот начнут гнить. Она равнодушно улыбалась мне застывшей улыбкой измученной продавщицы; на зубах виднелся налипший рахат-лукум. — Шадитесь, — сказала она шепеляво, набитым ртом, — и угощайтесь. Она пододвинула ко мне фарфоровую чашу. — Очень мило ш вашей штороны, что вы проштили меня. Что поделываете в Лондоне? — Ничего. Приехал поглядеть на вас. — И я оттолкнул от себя угощение. — Очень мило, — повторила Дороти. — Вы не любите рахат-лукум? — Терпеть не могу. — А я всегда любила, с самого детства. Мне запрещали его есть, ведь от этого толстеют. Так что я наверстываю упущенное. Ну-с, вот вы меня и увидели. Чем могу служить? Я сделал вид, что не понял двусмысленности. — Да вот приехал поволочиться за вами, — ответил я спокойно. — Как-как? — Приехал поволочиться за вами. Урожай у меня собран, и до осенней пахоты я вполне свободен. Я остановился в одном кабельтове отсюда, в «Бонингтон-хаус». Так что живу в двух шагах от вас, и мне ничего не стоит являться к вам запросто со своими любовными притязаниями. Что-то блеснуло в ее взгляде — впервые с тех пор, как я вошел сюда. Она как раз доставала из чаши очередную липкую дольку, но, услышав мои слова, положила ее обратно и вытерла запачканные пальцы о пятнистое одеяло. — Я надеюсь, вы не намереваетесь навязывать мне свое присутствие каждый день? — Я приехал поволочиться за вами, — возразил я, — это подразумевает вполне определенные вещи. Или, может, у вас есть другой претендент? — Я вас не впущу в дом. — Оставите меня страдать под дверью? — Да. Вы меня вовсе не любите. Просто навоображали себе бог знает что. Вы мне надоели. — Ну, люблю я вас или нет, об этом вы будете судить после нашей свадьбы. — Я прошу вас выйти отсюда сию же минуту. — Дороти, ответьте мне хоть один раз откровенно: так же ли вы говорили бы со мной, если бы Сильва не существовала? — Но она существует, и тут вы ничего не можете поделать. Впрочем, будьте уверены: я говорила бы с вами точно так же. — Вы меня совсем разлюбили? — Боже упаси! Я вас очень люблю. Так же, как любила всегда. Но есть некто, кого я люблю еще больше, — это я. — Но вы губите себя! — А разве нельзя губить себя именно из любви к себе? Я ведь, кажется, произнесла перед вами речь на эту тему в тот ужасный вечер. Речь, конечно, нелепую, и виной тому был морфий, но в ней все правда. — Просто вы боитесь жизни из-за того несчастного, неудачного брака. Со мной этот страх у вас пройдет. — Не говорите глупости! Ничего я не боюсь. Ни жить, ни умереть. Ни пасть во мнении разных дураков. — Кого это вы называете дураками? — Людей вашего типа, строящих свою жизнь так, словно в ней есть цель. Но в жизни нет ни цели, ни смысла. О господи, до чего все это пошло! Неужели я должна повторять вам прописные истины? Увольте меня от этого, Альберт, я устала. И, словно желая показать мне, что она и впрямь устала, Дороти уронила голову на подушку и закрыла глаза. — Когда возникает любовь, — сказал я, — самая несчастная жизнь наполняется смыслом. Попробуйте полюбить меня, и вы увидите. Не поднимая головы, Дороти открыла глаза. Ее взгляд струился из-под полуприкрытых век, словно сквозь щели жалюзи. — У меня больше нет ни малейшего желания любить. И, уж, конечно, я не собираюсь посвящать свою жизнь выдуманной цели. Ничего-то вы, Альберт, не понимаете! Может быть, я и вправду выгляжу так… будто медленно убиваю себя. Может быть. Но, как говорит одна моя знакомая, спешить некуда. Жизнь и вправду не имеет смысла, но это не мешает ей доставлять нам много радостей. И мне дороги эти радости, по крайней мере те из них, что не требуют особых усилий, потому что жизнь дает нам взамен множество идиотских страданий, а я против них. Я — заудовольствия и против страданий, даже самых ничтожных. Неужели это так трудно понять? Любить, говорите вы? Любить вас? Я принимаю радости любви, но отказываюсь от ее уз. Ведь узы причиняют боль, стоит лишь захотеть вырваться. А вы мне толкуете браке! Нет-нет, и не рассчитывайте! Никогда! Да и что вас к этому принуждает? Что за дурацкая выдумка, мой милый! Ты хочешь меня? — вдруг спросила она с неожиданной фамильярностью, приподнявшись под пятнистым покрывалом, и ее сощуренные глаза странным образом сделались похожими на глаза пантеры. — Ну, говори, хочешь? Ну так что ж, my goodness[42], докажи это, вместо того чтобы болтать попусту. Меня уже тошнит от слов. Слова, вечно одни слова! Все эти жалкие глупости! Ты мне тут поешь о любви, а сам отлично знаешь, что в конечном счете все сводится к постели. Так ради бога, давай назовем вещи своими именами! — сказала Дороти, и мне показалось, что голос у нее дрогнул. — Скажи, ведь ты именно этого хочешь? Мне ведь это ничего не стоит! Ну, бери, бери же меня! — воскликнула она со все возрастающим возбуждением и, откинув прочь одеяло, стала лихорадочными движениями расстегивать платье. — Дороти! — начал было я, вскочив со стула, но вид полуобнаженной груди, ее красота приковали меня к месту. Голова моя пошла кругом. Дороти одним рывком открыла всю грудь и торжествующе представила ее моему взору, голова ее откинулась назад, словно под тяжестью волос; стены завертелись вокруг меня. Дороти покачивалась, поддерживая грудь обеими руками. — Иди сюда! — звала она. — Иди же! — Она подняла голову, глаза ее слегка увлажнились. — Ах, ну чего же ты ждешь! — простонала она. — Ты думаешь, я сама не хочу? Я люблю наслаждение, говорю тебе, люблю! Скорей! Мужчина ты или нет? И, свесившись с дивана, она бесстыдно протянула ко мне руку. И тут я наконец смог оторвать ноги от земли и спасся бегством. Нет, решительно бегство — единственное, на что я был способен! Но этот приступ истерии, столь же бурный, что и ее безумная ярость в тот день, когда я выбросил за окно табакерку с морфием, этот неожиданный эротический всплеск бесстыдства убил во мне всякое вожделение, сменившееся священным ужасом, неодолимым отвращением. Я вернулся в «Бонингтон-хаус» настолько потрясенным и подавленным, что никак не мог прийти в себя; меня терзали воспоминания о соблазнительной прелести этой обнаженной груди, смятение, вызванное предложением Дороти, гадливость, порожденная ее циничной похотливостью. И в то же время другие будоражащие мысли бродили у меня в голове. Я вспоминал прекрасную полуобнаженную Дороти, щедро предлагающую себя в приступе звериного желания. Какой-нибудь развратный французишка наверняка взял бы ее. Я же, скованный извечной английской чопорностью, своего рода атавизмом, отверг эту женщину. Хотя в той же самой ситуации я не отверг Сильву. Да нет! — подумал я, — ведь долгое время ты отказывался и от Сильвы. Тобой руководил все тот же священный ужас. А потом ты придумал множество возвышенных причин, чтобы насладиться ее прелестями. Так разве не то же самое случилось с тобой сегодня? Морфий уничтожил Дороги, развратил ее, дал ей пасть до того состояния, в котором ты застал ее нынче, — состояния самки, что набивает рот рахат-лукумом и загорается мгновенным желанием любви, как сука по весне. Уподобившись той, прежней Сильве, она потакает своим желаниям и не старается подчинить их себе, а, напротив, с неистовым пылом удовлетворяет их. Единственное ее отличие от Сильвы состоит в том, что она пытается — пока еще — оправдать свое падение философскими выдумками, хватаясь за них как за последний признак своего человеческого состояния, — но надолго ли этого хватит? Да и единственное ли это отличие? Есть ведь еще и другое, и куда более мучительное! Сильва с болью и страданием избавляется от животного, бессознательного состояния, тогда как Дороти безвольно впадает в него, растворяясь до полного затмения разума. Эта последняя мысль потрясла меня сильнее всего прочего. Ибо она пролила новый беспощадный свет на ту ситуацию, в которой я оказался; я больше не мог закрывать глаза на очевидный факт, что свойства души измеряются не тем, какова она есть, а тем, какой она становится с течением времени. И в свете этого открытия мне приходилось теперь пересмотреть все обязательства, взятые мною на себя в отношении Дороти и Сильвы за последние недели. И все-таки я не мог уступить этим доводам, слишком счастливо сошедшимся с моими тайными пожеланиями… Да, конечно, Сильва и Дороти двигались в противоположных направлениях: первая возвышалась, даже облагораживалась, вторая же разрушала душу в грязном падении. Но вот вопрос: кому человек, стоящий на берегу, должен подать руку помощи — храброму пловцу, с трудом преодолевающему последнюю сотню метров, или бедолаге, безвольно погружающемуся на дно? Внутренний голос убеждал меня, что, вероятно, бросить сейчас Сильву, которая напрягает последние силы, чтобы выплыть, означает дать ей утонуть. Но и эта тайная мысль слишком откровенно отвечала моим скрытым помыслам. Самая страшная угроза нависла сейчас над Дороги. И мой долг был помочь ей. Преодолев свое отвращение. Бросившись, если понадобится, в ядовитую пучину, куда она погружалась, — хотя бы для того, чтобы удержать ее на поверхности, пока не удастся вытащить ее на берег. И я решил остаться в Лондоне.* * *
Вот в этом-то расположении духа я и отправился назавтра же на Галвестон-лейн. Берясь за ручку двери Дороги, я был не слишком уверен, что она отворится, не окажется, как мне угрожали накануне, закрытой. Особенно после моего позорного бегства какая женщина простит подобное оскорбление? Но ручка повернулась, дверь отворилась. Я прошел через прихожую. Дороти лежала на своем диване под одеялом из «пантеры» и, казалось, спала. Нет, она не спала, а глядела на меня потухшим взором из-под свинцово-тяжелых век. Я человек не развращенный и не испытываю противоестественной тяги к угасшим, бескровным лицам. Но какой же мужчина останется равнодушным к волнующим признакам томной чувственности? Я со своей стороны всегда испытывал смутное, но неодолимое влечение к боттичеллиевским лицам. А Дороти, с ее распущенными волосами, щекой, нежно прижатой к бархатной подушке, полуоткрытыми губами и бледным, полупрозрачным личиком, казалась живым подобием прелестной печальной «Пьеты» из галереи Уффици во Флоренции. Зрелище это глубоко тронуло меня. Я подошел нерешительно, отнюдь не уверенный, что она вдруг не стряхнет с себя сонливость и не вышвырнет меня вон. Но нет, она подпустила меня к себе, не пошевелясь, и лишь бессильно повернула руку ладонью кверху, чтобы я мог положить на нее свою. Я опустился на колени и шепнул: — Ты прощаешь меня? Дороти прикрыла глаза, на губах ее появился слабый проблеск улыбки, она чуть сжала мою руку. И больше ничего. Потом она приподняла веки и снова устремила на меня тяжелый неподвижный взгляд. Казалось, она ждала. Я обнял ее и сказал: — Если хочешь… Я теперь хочу. Она медленно покачала головой и процедила: — Нет, — прибавив еще несколько слов, которые я не смог разобрать; потом, притянув меня к себе, шепнула: — Ляг рядом. — И я исполнил ее просьбу. Снова я потянулся было обнять ее, но она тихонько оттолкнула меня. Я сказал: — Ладно, пусть будет по-твоему, скажи, что тебе доставит удовольствие? Дороти сжала мое лицо в ладонях и пристально всмотрелась в меня. Потом прошептала: — Что мне доставит удовольствие? — Да, чего тебе хочется? Я улыбался. Она опять долго молча смотрела на меня. Потом сказала: — Протяни руку назад. — Я протянул. — Там, на столике, пудреница, — Я ощупью нашел коробочку, протянул Дороти. Ее пальцы дрожали, поднимая крышку. — Попробуй вместе со мной, — выдохнула она шепотом, в котором слышались мольба, приказ и какая-то недоверчивая робость. Предвидел ли я это? Может быть. Во всяком случае, я почти не колебался. Разве не решил я погрузиться на дно вместе с ней? Ведь спасти ее возможно, лишь завоевав сперва ее доверие с помощью попустительства ее страсти, — не только соглашаясь с нею, но и идя навстречу. Крышка пудреницы все еще дребезжала у Дороти в руках. По моим глазам она поняла, что я согласен. Взгляд ее блеснул. Она поднесла к моим ноздрям трепещущую ладонь. Я вдохнул несколько раз подряд. Зрачки Дороти вдруг показались мне невероятно огромными. Вскоре голова моя восхитительно закружилась. Я уронил ее на бархатную подушку, прижавшись к ней щекой. Меня охватило безбрежное блаженство. Я ощутил на губах лихорадочное дыхание, едва различимый шепот: «Хорошо?», полный жадного любопытства. Но я уже погрузился в чудесное изнеможение, беззаботное и счастливое, подтверждая это лишь едва заметным движением век. Так мы целую вечность недвижимо лежали рядом, смешивая два наших угасающих дыхания.XXVIII
Существует нечто еще более колдовское, нежели одинокий порок: это порок, разделяемый двумя людьми. Особенно когда делаешь в нем первые шаги, когда и учителем и учеником, опьяненными своим тайным сообщничеством, завладевает некий род всепоглощающей страсти. И в эти минуты даже малейшее колебание в стремлении к наслаждению у партнера, желание хоть на миг прервать это опьянение может показаться другому непростительным отступничеством. Один человек еще способен совладать с собою, ограничить себя, но при наличии двух участников всякая попытка самоограничения обречена на провал. Едва мы выплывали из бездны наслаждения, как Дороти с яростным нетерпением вновь погружала в этот омут и себя и меня, и я безвольно подчинялся ей, весь во власти опьяняющей новизны столь неземных ощущений, столь чистого экстаза, что казалось безумием уклоняться от этого. А у Дороти зрелище того, как я бессильно подпадаю под ее извращенную власть, вероятно, вызывало неумеренное ликование — во всяком случае, мне помнится, как она стонала, словно в любовном экстазе. Мы лихорадочно отдавались и восторгу, и забытью, бессильной апатии и внезапным приступам эротического безумия, которое овладевало нами, как правило, обоими сразу, под действием одновременно принятых наркотиков. И однако эти бредовые дни оставили у меня в памяти весьма смутные воспоминания. Некоторые из них, вероятно, просто плод моего воображения. И они ни с чем не связаны: даже те редкие минуты одиночества и отрезвления, когда я вырывался из-под власти Дороти, чтобы удостовериться в том, что я еще владею собой, никак не укладываются во времени и с трудом — в пространстве. Например, я вспоминаю, как однажды принимал ванну у себя в отеле, но когда это было? Или вот я стою на Баттерси-бридж, подставляя лицо морскому бризу, словно стараюсь отрезветь. А вот я на рынке у Пэддингтонского вокзала, но уже не один, а с Дороти; и мы бредем в толпе как сомнамбулы: вероятно, вышли на Галвестон-лейн, еще не стряхнув с себя наркотический дурман. Но от всего остального память сохранила какие-то туманные видения, половина которых, без всякого сомнения, просто из области бреда. И все же я помню обои, разрисованные попугаями, летающими в бамбуковой роще, — до ужаса старомодные, выцветшие, они тем не менее вдруг оживают, вспыхивают яркими красками, и я даже слышу шелест птичьих крыльев. В комнате этой давно уже царит ночь: Дороти закрыла ставни и задернула занавеси, словно желая погрузить нас в еще более горячечную, еще более лихорадочную близость. Мне яснее помнится острый аромат, исходящий от лежащего рядом со мной тела, чем размытый силуэт, еле различимый в слабом свете лампы под абажуром. Но зато я с необыкновенной четкостью помню Дороти, сидящую в каких-то лохмотьях на борту лодки, похожей на гондолу, до краев наполненной клубникой, персиками, смородиной; помню, как она опрокидывается навзничь и хохочет в дурманящем аромате раздавленных фруктов. А что это за назойливая приторная сладость, насильно проникающая ко мне в рот сквозь стиснутые зубы? — я смакую вязкое наслаждение, смакую, несмотря на врожденное отвращение к рахат-лукуму, в то время как пылающие женские губы жадно впиваются в мои. Вот Дороти, нагая, с волосами, развевающимися по ветру, стоит по колено в пене морской и знаком манит меня к себе; я вновь вижу ее словно наяву; но чье же это грациозное, перламутровое тело, блестящее от пота, корчится на диване, требуя все новых и новых наслаждений? И откуда взялся на потолке этот блеклый не то дракон, не то крылатый конь, одновременно и недвижный и танцующий? — вот он неслышно скользит вниз по стене, вытягивает, почти касаясь меня, туманную, смеющуюся голову и… исчезает. Где мы? Попугаи на стенах пропали, теперь это обои в зеленую и голубую полоску, трепещущие, как струны арфы; смутное воспоминание о какой-то лестнице, с трудом преодолеваемой, ступенька за ступенькой; плотный смирнский ковер, покрытый небрежно разбросанными тканями, а на нем распростерто все то же перламутровое тело; но сверху, поперек него, теперь извивается другое тело, цвета раскаленного песка, и я вижу длинные черные волосы, водопад волос, ниспадающих на бледные содрогающиеся ноги. Сам же я не ощущаю ничего, ничего, кроме божественного изнеможения и беспредельного блаженства, наполнившего меня пониманием и счастливой, безгранично спокойной жалостью. Потом, позже, я свирепо тереблю те же черные волосы, окутавшие на сей раз мое тело; я наслаждаюсь бесстыдными ласками, а распущенные белокурые косы Дороти покрывают наши лица, и я слышу ее задыхающийся, нескончаемый шепот мне на ухо. Все это лишь редкие видения среди сотен других, они столь бесформенны и эфемерны, что испаряются, едва сформировавшись в памяти. Ах, но есть еще и другие — отвратительные. Можно ли упиваться сладострастием до тошноты? Или же это воспоминание странным образом трансформировалось у меня в мозгу в отталкивающий образ? Каждый из моих приступов отвращения переходит в чувственное забытье, и я дожидаюсь следующего с похотливым терпением. А еще я храню воспоминание об укусе, кажется, то был ответный, в обмен на мой: я впиваюсь зубами в сладкую плоть, и меня тут же кусают в плечо (шрам остался до сих пор); боли я не чувствую, или, вернее, боль эта вибрирует где-то в глубине моего существа, в сладостной истоме звуков виолончели. Но над всеми этими разрозненными, неверными образами черным плащом распростерлась ночь. Бескрайний беспокойный сумрак, иногда глухо звучащий музыкой, а чаще пронизанный неумолчным, тягучим стоном, на который моя плоть отзывается каждой своей клеточкой, вплоть до самых потаенных уголков. По правде говоря, если теперь мне и случается еще урывками почувствовать краткий приступ смутной ностальгии, то это ностальгия именно по тому сумраку, и ни по чему другому. Все остальное — лишь пена, воспоминание о которой вызывает легкое отвращение, эфемерная пена, взбитая приливами и отливами этого черного океана, непроницаемо черного, бескрайнего простора, где я долго плыву меж двумя течениями, в странно осознаваемом бессознательном оцепенении, бесконечном безразличии ко всему. И я знаю: для Дороти это, к несчастью, и ныне так, а все, что вне того океана, в котором она хочет затеряться, для нее не более чем грязная накипь, лопнувшие, едва они успели образоваться, пузырьки пены. И еще я знаю, что эта тяга — худшее из зол, ибо в пучине этого влекущего мрака подстерегает жертву спрут небытия.* * *
Но поскольку вот он я — сижу за своим бюро и пишу свое повествование, бесполезно уточнять, что я смог вовремя вырваться из щупалец грозного чудовища. Трагедия состоит в том, что вырвался я один, так и не сумев увлечь за собой Дороти. Я покинул ее, подобно альпинисту, который, чувствуя, что его вот-вот увлекут в пропасть, перерезает веревку, связывающую его с товарищем. Так он спасает свою жизнь, но теряет свою честь; можете поверить, как сильно я поначалу терзался угрызениями совести. Но теперь я уверен, что действовал правильно. Ибо Дороти отнюдь не была беспомощным телом, привязанным к канату, телом, бессильным помочь собственному спасению, но хотя бы послушно дающим спасти себя; нет, она, напротив, изо всех сил, одержимостью безумия стремилась заставить меня выпустить канат из рук, чтобы увлечь вслед за собой в бездну. И кто знает, не была ли ревность к Сильве отчасти примешана к этой горькой страсти, к этой лихорадочной жажде моего совращения? Я не осмеливаюсь утверждать это наверняка. Но и не сомневаюсь теперь, что Дороти на свой, конечно, манер побила меня, сперва чистой любовью, доказав это своим бегством в Лондон, а потом, когда я, против всякого ожидания, сам предался в ее руки, любовь эта перешла в жгучую, противоестественную страсть, которой она хотела заразить и меня. И едва не достигла своего. Сперва одурманив морфием: опьянение безбрежным забытьем, где только и есть что ликование потрясенных чувств, сражает точно молния, и требуется сверхъестественное усилие воли, чтобы сопротивляться этому наваждению. Кроме того, это головокружительное забытье изгнало у меня из памяти все, и прежде всего Сильву. Я ни разу не подумал, не вспомнил о ней среди этого долгого миража. Пустота, образовавшаяся в моей душе, требовала заполнения, — и вот я счел, что она заполнена единственной страстью — любовью к Дороти, ибо в окутавшем меня тумане смешались преходящая страсть к морфию, в которую она увлекала меня вслед за собой, и постоянная страсть к ней самой. Подобное заблуждение почти правило, по нему можно судить об опасности, которой я подвергался. К счастью, этот период лихорадочной жадности, когда мы беспрерывно, один прием за другим, одурманивали себя морфием и, теряя рассудок, безудержно спешили к самоуничтожению; этот период, который, в разоренной моей памяти, не имел ни начала, ни конца, на самом деле длился недолго. Самое большее несколько дней. Мы очнулись от безумия по вполне материальным, но весьма существенным причинам: нельзя было жить без еды и питья. Мне вспоминается — смутно, как в полусне, — Дороти, открывающая коробку сардин или банку ананасного компота, но надолго нам этих припасов не хватило. И хотя бы для того, чтобы сходить за покупками и приготовить еду, нужно было время от времени возвращаться из блаженного дурмана к обыденному существованию, обретать нормальное сознание. Для Дороти, загубленной длительным употреблением наркотиков, эти периоды воздержания, даже очень краткие, были тяжким испытанием, которое она переносила в каком-то слепом лихорадочном нетерпении, стремясь как можно скорее погрузиться в наркотическую бездну, в ее ядовитые испарения. Мне же, еще не отравленному вконец, эти пробуждения дарили жестокую картину реальной действительности: испачканный диван, пятна на ковре, зловоние и беспорядок, затронувшие не только комнату, но и саму Дороти, устало шаркающую разношенными шлепанцами, немытую, нечесаную, с набрякшими веками и безвольно отвисшими губами. И в то же время я мало-помалу узнавал кое-что о ее образе жизни. Во время проблесков сознания я раздумывал, на что же она существует, если не работает (маловероятно, чтобы доктор поощрял ее порок денежными субсидиями). Ответ нашелся несколькими этажами выше, в комнате с зелено-голубыми полосатыми обоями. Я понял, какую роль женщина с черными волосами играла — и играла уже давно в жизни Дороти, для которой она и отыскала эту квартиру под своей собственной и которой помогала все это время возможно, деньгами и уж наверняка наркотиками. Когда я впервые увидел эту женщину отчетливо — я хочу сказать, не будучи одурманенным морфием, — она показалась мне красивой страшной красотой. Она была не намного старше Дороти, и ее стройное тело, как я смог убедиться, было еще совсем молодым, но зато лицо напоминало древние руины. Ни разу мне не приходилось видеть подобное лицо, и меня пронизывала дрожь при мысли, что через несколько лет лицо Дороти уподобится этому. Не то чтобы его избороздили очень глубокие морщины, но они были извилисты и подвижны, словно под этой помертвевшей кожей уже поселились целые колонии кишащих червей. Звали ее Виола. Судя по ее южному выговору, она родилась на Мальте, на Кипре или в Египте, а может быть, вела свое происхождение от коптов. Работала она на киностудии и возвращалась домой к чаю, который Дороти приготовляла между двумя приемами морфия. Когда мы увиделись в более или менее нормальном состоянии, она с заговорщицким видом взглянула на меня поверх полной чашки и так непристойно подмигнула, что мне стало наконец ясно то, чего я не понимал раньше: меня считали всего лишь статистом, простым инструментом наслаждения и терпели возле Дороги по этой единственной причине, как, вероятно, терпели до этого многих других любовников. Дороти едва не выронила из рук слишком тяжелый чайник, я удержал его за длинный носик в форме банана. — Ай-яй-яй! — сказала Виола с игривым смешком. Вот так нравы! — И добавила, потрепав меня по щеке: — Если у вас такие вкусы, мы это дело уладим: чем больше психов, тем смешнее. На что Дороти ответила громким нервным хохотом, запихнула в рот три дольки рахат-лукума одну за другой и взъерошила мне волосы. Будь я в совершенно нормальном состоянии, подобная вульгарность и смех Дороти тут же и навсегда изгнали бы меня из этой комнаты. Но — увы — на столе, как обычно, красовалась пудреница с морфием, и каждый из нас то и дело почти машинально брал оттуда щепотку, словно соль из солонки, поддерживая в себе легкую эйфорию в ожидании настоящей оргии. Так что я просто малодушно посмеялся непристойностям Виолы, и эпизод этот стал лишь началом в серии многих подобных. Тем не менее такое грязное бесстыдство оставляло у меня в душе кровоточащие раны и усиливало дремлющее до поры до времени омерзение. К тому же рабское подчинение Дороти этой женщине, похожее, вероятно, на ее былую покорность своему мерзавцу мужу, вызванную теми же причинами, окончательно отнимало у меня всякую надежду на то, что я смогу вырвать ее из трясины порока, а также — подспудно убивало любовное влечение к ней. Впрочем, полагаю, что я очень скоро — если сначала и не вполне ясно — понял: ошибка моя заключалась в самом выборе. Альтернатива — и неотложная альтернатива! — была не в том, спасать ли Дороти или махнуть на нее рукой, а в том, бросить ли ее или погибнуть вместе с ней. И все же я до сих пор убежден, что она любила меня — жестокой, коварной любовью, но очень скоро поняла — поняла, как и я сам, — что я не покорюсь ей и не позволю опустошить свою душу. Во всяком случае, тот безумный пыл, который она выказала в первые дни, когда я не сопротивлялся, постепенно угас, стоило ей почувствовать мое внутреннее сопротивление, — по крайней мере мне теперь так кажется. Иначе зачем бы ей подвергать меня таким оскорблениям и насмешкам, если это слово уместно в данной ситуации? Я прекрасно помню самые последние: например, вернувшись с одной из коротких прогулок, которые я, подобно лягушке, выныривающей из пруда, совершал время от времени, чтобы освежить голову и легкие, я наткнулся на запертую дверь. Поднявшись выше по лестнице, я обнаружил обеих женщин вместе, почти бесчувственных, до одури нанюхавшихся морфия. Дороти лениво подняла руку, чтобы указать мне на пудреницу, это означало: «Бери, если хочешь», и жест ее яснее ясного давал мне понять, что меня здесь лишь терпели, и только. Я ушел и не показывался два дня. На второй вечер Дороти позвонила мне по телефону: «Что случилось? Приходи скорее!» Когда я пришел, она расплакалась. Я загорелся надеждой, мне показалось, что наступил мой час: я стал умолять ее бросить эту комнату, этот дом и переселиться ко мне в отель. Она не ответила, но слезы ее высохли. Перевернувшись на спину, она долго лежала неподвижно, уставясь в потолок. Я молчал, я ждал. Наконец она прошептала, не глядя на меня: «Приходи завтра». Не сказав ни слова, я вышел, и она не удерживала меня. Назавтра было воскресенье. Когда я вошел к Дороти, та, другая, была уже там. И именно она, увидев, как я повернул обратно, схватила меня за руку и заставила сесть. — Ну-ну, — приговаривала она, усаживаясь напротив, давайте-ка объяснимся! Дороти свернулась клубочком в кресле, жуя свой рахат-лукум; она избегала моего взгляда. Несколько секунд Виола, иронически щурясь, поочередно разглядывала нас. — Ну так что стряслось? — спросила наконец она. Ссора влюбленных? Увидев, как я сжался, она продолжала, уже менее насмешливо: — К чему все усложнять? Разве у меня меньше поводов для ревности? Все можно уладить по-хорошему, стоит вам только захотеть. Но не рассчитывайте, что я вам отдам совсем эту прелестную кошечку. Даже и не надейтесь. Она привязана ко мне и в самом деле предана, как кошка. Правда, котеночек? Виола протянула руку, и Дороти, скользнув с кресла, прижалась к ее коленям, положив на них голову, и в глазах ее, обращенных ко мне, действительно светилась такая покорность, что я вздрогнул, как от страшного оскорбления. Такою я запомнил Дороти. Этот бессмысленный взгляд прирученного животного подтвердил мне, что я проиграл партию, гораздо яснее, чем само ее медленное падение в позорную бездну наркотического безумия. Недаром же ее отец сказал: «Самое страшное, что она выглядит счастливой». Слово было выбрано, конечно, неверно: я бы сказал — не счастливой, а безмятежно погруженной в тихое, но решительное отрицание всего того, что еще недавно составляло ее человеческую свободную сущность. Часом позже я уже сидел в поезде, который мчал меня в Уордли-Коурт.XXIX
Я раскрыл книгу, но читать не стал: только смотрел на мелькающий в окне сельский, типично английский пейзаж. Как он прекрасен в сентябре! Луга вновь зазеленели после покоса и напоминали зеленый бархатный ковер. Старые дубы, одиноко стоящие каждый на своей лужайке, подобно усталым часовым, были едва тронуты желтизною, тогда как березы, окаймляющие мелкие речушки, пылали вовсю золотыми россыпями листьев, растрепанных ветром. Я опустил оконное стекло, чтобы и меня обдуло прохладным воздухом, и почувствовал, как возрождаюсь к жизни. Виола и Дороти, закупоренная душная комната, рахат-лукум, беспорядок и подозрительные запахи — как все это было теперь далеко! Точно мне приснился дурной сон. У всякого кошмара есть своя хорошая сторона — пробуждение и радость от того, что все это лишь привиделось, а жизнь прекрасна! Хорошей стороной моего злоключения было радостное нетерпеливое желание вновь увидеть Сильву. Ибо теперь я знал, знал наверняка, что у меня есть оправдание, что я имею право любить ее. И я повторял себе, с ликованием в душе, ту счастливую догадку, что уже однажды ослепила меня и которую потом я силился позабыть: достоинство души измеряется не тем, какова она есть, а тем, какою она становится. И я, забавы ради, стал примерять этот новый критерий к моим попутчикам, дабы проверить его справедливость. Вот сидит напротив меня ребенок: каковы истоки того острого, хотя и смутного интереса, который мы питаем к детству, если это не таящееся в нем неведомое будущее, сулящее нам скрытые до поры сокровища? А иначе зачем бы я стал проявлять такое благодушное любопытство к наивной, глупой болтовне мальчишки, который никак не может усидеть на месте, то и дело пинает меня в икры и шумно шмыгает носом под съехавшей каскеткой со слегка выцветшей эмблемой Кингс-Линн-колледж? Кто он сейчас: неоформившийся дурачок, вихрастое нечто. Но чем он может стать? Какие богатства сулит его пока еще не раскрывшаяся душа, какие внушает надежды! А вот его дед, погруженный в чтение «Таймс»: его голова, без сомнения, полна весьма достойных мыслей, бесчисленных знаний, но его «становление» прекратилось, он навсегда застыл в своем привычном времяпрепровождении до самой смерти. Да, вот истинное проклятие старости — быть иссякшим источником. Этого избегают лишь редкие гении, подобные Моисею, Леонардо. А сколько молодых еще людей, увы, достигли этого предела в самом расцвете жизненных сил, скованные, одурманенные (медленно низведенные до животного состояния, — не так явно, как Дороти, но близко к тому) сном повседневных привычек. Вот, например, этот тип в углу купе. Его портфель красноречиво свидетельствует об активной деятельности. Но тупой, безразличный взгляд, вялые губы, отвисшая челюсть выдают, что душа его отнюдь не парит в облаках. И абсолютно ясно, что так и не воспарит, конечно, если не стрясется что-то из ряда вон выходящее. Он вполне может быть хорошим отцом, хорошим супругом и хорошим гражданином — вот только человек ли он? Да, человек — но из воска, манекен. Тогда как моя Сильва! Тогда как ты, нежная, чудная моя Сильва, пусть ты пока еще больше лисица, чем женщина, но неоспоримо одно: со дня смерти твоего друга Барона и трагической скорби, которой ты почтила его, ты начала преображаться, иногда и в муках, почти каждодневно ступень за ступенью. В окно вагона я как раз заметил заячье семейство в жнивье, и это напомнило мне одну нашу прогулку после смерти собаки. Сильва против обыкновения не прыгала и не резвилась. Она степенно шла между мною и Нэнни, держа нас за руки и время от времени с какой-то печальной нежностью прижимаясь щекой к моему или ее плечу. Часто она останавливала нас (чего никогда не делала раньше), чтобы с каким-то новым вниманием разглядеть дерево, стог сена, полевые цветы. Она ни о чем не спрашивала, мы с Нэнни сами объясняли: «Это орешник, это сено, это синеголовник», но неизвестно, слышала ли это Сильва, она молча шагала дальше, тихонько увлекая нас за собой. Мы свернули на тропинку, небрежно выложенную по бокам камнями, вьющуюся между двумя недавно сжатыми полями. Вдруг из-под самых наших ног выскочил заяц и стрелой кинулся в жнивье. Я почувствовал, как судорожно подпрыгнула Сильва, и уже приготовился к тому, что вот сейчас она помчится за зайцем, как сделала бы это еще несколько дней тому назад, но ее порыв тут же погас или, вернее сказать, незаметно сошел на нет. Она только мечтательно глянула вслед исчезающему зайцу, потом отвернулась, и… прогулка продолжалась как ни в чем не бывало. Я заинтересовался и спросил: — Почему ты не побежала за ним? Такой хороший заяц… Сильва в последний раз обернулась к клеверному полю, где укрылся зверек, словно искала там ответа. — Не знаю, — сказала она наконец. — Зачем бежать? — Чтобы поймать его, — засмеялся я. — Разве тебе не доставило бы это удовольствия? Она ответила: «Да». Потом, чуть понизив голос, поправилась: «Нет». И наконец, пожав плечами, повторила: «Не знаю». А потом, беспокойно наморщив лоб, взглянула на меня, словно я мог объяснить ей охватившую ее странную нерешительность. Само собой разумеется, я был здесь бессилен, и мы молча пошли дальше. И вот теперь, сидя в поезде, я получил ответ на этот вопрос. Так часто бывает в жизни; разум вдруг на лету схватывает некое совершенно незначительное явление, которое раньше и не отметил бы, лишь потому, что ждал его. В коридоре, стоя к нам спиной, болтали три дамы. Навстречу нашему поезду промчался скорый. Стекла внезапно задребезжали, как от взрыва, и свисток встречного так пронзительно отозвался у меня в ушах, что я подскочил. При этом звуке три дамских крупа вздрогнули и подпрыгнули, как три мяча. Все остальное тело осталось неподвижным, дамы продолжали щебетать как ни в чем не бывало, даже не заметив, что их зады вздернулись на полфута вверх, словно под юбками у них скрывался футбольный мяч или какой-то испуганный зверек. Это было ужасно комичное зрелище, но благодаря ему я внезапно понял, что случившееся тогда с Сильвой при виде зайца было сродни данной реакции, если не считать того, что сама реакция оказалась как раз обратной. Ибо эти независимые от остального тела ягодицы, которые при внезапном грохоте встречного поезда вздрогнули, словно рванулись убежать, хотя сигнал тревоги еще не достиг мозга, показали, как близко к поверхности, под тонким наносным слоем цивилизации, лежат последние сохранившиеся в людях рефлексы дикой лани. Тогда как у Сильвы это внезапное торможение, пресекшее ее охотничьи инстинкты и рефлективный порыв к преследованию дичи, объяснялось весьма любопытной вещью: только-только появившимся в ней умением подчинить свои инстинкты еще неопределенной, но уже вполне очевидной разумной воле. То, что в случае с дамскими ягодицами можно было назвать остаточными тропизмами, у моей лисицы, напротив, являло собой начало их исчезновения. Чтобы окончательно убедиться в этом, требовалось, естественно, подождать, чтобы Сильва продемонстрировала ряд действий подобного рода. И вот в течение нескольких дней после своего возвращения я с радостью констатировал, что недостатка в них нет. Впечатление было такое, словно после гибели собаки весь комплекс ее звериных инстинктов полностью сломался, отступил на задний план. И это было трагическое зрелище, ибо такое отступление, как вообще всякие отступления, происходило в страшном беспорядке. Перед любой, даже самой элементарной задачей, которую прежде рефлексы лисицы разрешили бы без задержки и малейшего колебания, Сильва теперь совершенно терялась: сбитая с толку, она иногда подчинялась им, как раньше, а иногда отказывалась слушаться; вначале исход каждого такого случая был непредсказуем. Но с течением времени становилось все более очевидно, что скрытая работа, происходящая в этом таинственном неразвитом мозгу, пережившем однажды страшное потрясение — трагическое открытие человеческого состояния, — мало-помалу входила в ритм, совершенно явно ускорявшийся; это была в некотором роде передача полномочий; инстинкт, единолично управлявший Сильвой, уступил свою власть разуму. И по мере того, как текли дни, она — все более явно переставала действовать автоматически, по велению импульсов, а научилась делать выбор в соответствии со своими пристрастиями. Тогда же я впервые понял, что выбор и автоматизм принципиально разные вещи. Любая возможность выбора абсолютно исключает автоматизм (и тогда прощай, инстинкт!), точно так же, как всякий автоматизм непременно исключает возможность выбора (и тогда прощай, разум!). Неумолимая дилемма. Как я мог не понимать эту очевидность? Ведь именно здесь, думал я теперь, и пролегает граница, разделяющая инстинкт и разум. Прежде я, как и большинство людей, любящих животных, решительно отрицал, что здесь имеется четкий предел: все мы ровно ничего не понимали. А граница, напротив, была словно ножом прорезана. Так я открыл для себя, что отныне Сильва никогда больше не сможет слепо повиноваться всем своим импульсам: теперь ей придется научиться определять, оценивать свое поведение. И таким образом она, как и мы, утратит, один за другим, все свои возможности и точность безошибочно действующего автомата. Она станет нерешительной, неуклюжей, будет ошибаться в ста случаях из ста. С какой-то головокружительной тревогой я вдруг, во внезапном озарении, понял, что это фатально, неизбежно, что это составляет неотъемлемую часть человеческого существа. И что надежда на возможность обрести разум и сохранить инстинкт абсурдна и бесплодна. Ибо каждое завоевание разума или воли влечет за собой соответственное отступление врожденных, но неосознанных навыков. И отказ от них, подумал я, есть та цена, которую мы платим за нашу свободу.* * *
Поскольку это и в самом деле было фатально, нерешительность Сильвы с каждым днем принимала все большие размеры. Любое явление вызывало у нее острое, пристальное внимание. И в большинстве случаев повторялась ситуация с зайцем: первый инстинктивный порыв тотчас пресекался ею, словно она проверяла, действительно ли ей хотелось именно этого. Конечно, разрешить свои сомнения она не умела и все чаще погружалась в какую-то мечтательную апатию. Но если у меня это состояние вызывало некоторое беспокойство, то Нэнни, напротив, была на верху блаженства: наконец-то, говорила она, ей удалось попасть на знакомую территорию воспитание отсталых детей. Тот же внезапный интерес, который Сильва проявляла теперь к окружающим ее живым существам и предметам, она стала выказывать, пусть, как правило, неосознанно, и к объяснениям Нэнни. Она ничего не говорила, но какое-то время спустя мы констатировали, что главное она запомнила. Нэнни научила ее считать на пальцах: Сильва наблюдала, как та разгибает их ей по мере счета, и если на первых порах мы просили ее за десертом принести три яблока, а она приносила два или пять, как выйдет, то потом, в один прекрасный день, она принесла требуемое количество и больше ни разу не ошиблась, какой бы ни была названная цифра. Я рассказывал уже, как долго мы боролись с ее неприятием изображений, по крайней мере тех, что представляли живые существа; потом она как будто узнала на картинке неподвижную собаку — и соотнесла ее с мертвым Бароном. Это откровение потрясло ее со странной силой (вопли, всхлипывания и выкрикиваемое сквозь рыдания имя пса), но в то же время открыло в этом мозгу, полном еще запертых дверей, широкий путь в область, богатую многими дальнейшими перспективами: уже назавтра она действительно увидела и узнала изображения и, разглядывая их, вскрикивала от восторга. Нэнни вручила ей карандаш и бумагу и научила пользоваться ими. Сперва ее ученица, естественно, лишь марала бумагу, подобно совсем маленьким детям, — чиркая карандашом во все стороны и без разбора; но уже один тот факт, что она пыталась рисовать, был весьма примечателен; когда у нее из-под карандаша случайно выходила округлая линия, она восклицала: «Яблоко!» — и смеялась. Вообще Сильва смеялась все чаще и чаще, подтверждая этим мою скромную гипотезу: именно смерть, я был уверен, побудила ее к смеху. Ибо если из всех живых существ одни только люди знают, что смерть есть всеобщий удел, то одни лишь люди и умеют смеяться, и в этом их спасение. Атавистический страх смерти, неосознаваемый и глубоко запрятанный в душе, сидит в нас с самого детства, и когда что-нибудь, хоть на миг, освобождает нас от него, то внезапно нас охватывает такое ликование, что все тело содрогается в «грубых спазмах». Мы ищем в смехе, в комических ситуациях миг передышки, короткий миг органического забвения нашего человеческого состояния: в тот миг, когда нас сотрясает смех, мы бессмертны. Сильва всегда смеялась после испуга. И еще — но далеко не всегда — видя неожиданный результат каких-нибудь своих действий. Нарисовать, вовсе не стремясь к этому, яблоко явилось одним из таких результатов. И, чтобы продлить удовольствие, она начала рисовать уже целенаправленно. Потом она узнала от Нэнни, что в кружке можно изобразить глаза, нос, рот, и принялась с детским усердием рисовать «человечков». Всегда лежащих. — Почему они лежат? — спросила ее наконец заинтересованная Нэнни. — Бонни больше не играть, — ответила моя лисица и со смехом бросилась мне на шею, целуя, покусывая и демонстративно радуясь тому, что я еще жив. Я рассказываю об этом не для того, чтобы описать педагогические приемы миссис Бамли. Они оказались превосходны, быстры и эффективны. Вскоре Сильва научилась различать не только картинки, но и звуки: «Прослушайте, глядя на гласные, прослушайте, глядя на согласные, прослушайте звукосочетания». Когда она поняла, что крик, слово можно запечатлеть на бумаге, перед нею открылись двери в новую область область абстрактных идей. Ей становились доступны такие понятия, как «время», «пространство». И теперь слова «через много-много времени» (которые прежде способны были только смягчить ужасное открытие, что смерть Барона — это и моя, и ее смерть, и эта смерть делала нас в ее мозгу, еще пока лисьем, еще пока незнакомом с понятием длительности, одновременно и живыми, и мертвыми) стали ей доступны, и мрачная перспектива смерти отодвинулась настолько далеко, что она перестала о ней и думать. В формирующемся сознании Сильвы от нее теперь осталась неизгладимая мета, полуосознаваемый отпечаток, но отпечаток этот требовал, чтобы она непрерывно двигалась вперед так в самом сердце корабля, невидимая и неслышимая для всех, тайно работает машина.XXX
Есть ли необходимость продолжать? Открывая эту тетрадь, я хотел написать историю одной метаморфозы. Я сделал это. Хорошие писатели уверяют, что род людской это результат раскола: фрагмент взбунтовавшейся природы, тщетно борющейся с самого своего начала за то, чтобы сорвать маску с тайны, скрывающей смысл бытия. И моя маленькая лисица, сделав шаг, после которого путь назад ей был отрезан, полностью перешла в стан раскольников. Что в ней оставалось от прежнего состояния? Слабое воспоминание, и только. Теперь она очеловечилась до глубины души. Конечно, нам предстояло еще воспитывать и воспитывать ее, в обоих смыслах этого слова, но это уже было за пределами самого факта ее перерождения. Метаморфоза свершилась. Так о чем же еще рассказывать — разве только о тех успехах, которые делает ребенок, находясь в руках добрых наставников. Доктор Салливен давно предупредил меня об этом: «Она начнет задавать вопросы, и тогда только держитесь!» Сильва не сразу приступила к вопросам — для этою ей понадобился более мощный стимул, чем узнавание себя в зеркале. Но теперь — о боже! Каждый из нас имел дело с детьми, которые мучат вас вопросами обо всем и ни о чем. Но это просто ангелы скромности по сравнению с Сильвой в тот период, да еще с той отягчающей разницей, что у нее-то был мозг взрослого человека и ее не удавалось провести теми неопределенными ответами, которыми вроде бы довольствуются дети. Итак, ее вопросы были весьма щекотливы и более чем неразрешимы: «Почему живут? Почему умирают?» Смерть бедняги Барона не переставала смутно руководить направлением ее мышления, которое, в общем-то, и вылупилось из своей скорлупы под воздействием этого шока. Сильва желала узнать не больше и не меньше как начало и конец всех вещей. Ибо всякая вещь, которая, в бытность ее лисицей по развитию, не внушала ей ни интереса, ни беспокойства, нынче осознавалась ею с боязливой остротой: «Почему день, почему ночь? Что такое солнце? А луна? А звезды? Небо — это где кончается?» И наступил день, когда она спросила: «А почему существует все это?» Откровенно говоря, в тот момент такой определенный вопрос поразил меня скорее по форме, чем по сути: «существует» относилось, конечно, к самой Сильве, но и последовавшее за ним «все это» явно затрагивало также и ее. «Существует» и «все это», Сильва и вселенная, оказались, таким образом, неразличимо спутанными у нее в голове — раздел еще не произошел окончательно. Впрочем, и тон вопроса был слишком недоуменным — то начался экскурс в неизведанный край, полный опасных загадок, пугающих горизонтов; недоумение это еще не было волнением, первой дрожью нетерпения, предчувствием взрыва: Сильва даже и неподозревала (да и как она могла бы заподозрить?), что на свой вопрос она никогда, никогда не получит ответа. Для того чтобы последние связи с ее прежней природой были наконец грубо оборваны, а раскол безжалостно совершен, потребовалось, чтобы она услышала мое откровенное признание: «Бедная моя малышка, я бы очень хотел тебе объяснить, почему мы существуем, но, к, несчастью, никто этого не знает»; потребовалось повторить ей это не раз и не два, но десять раз подряд, ибо она упорно отказывалась поверить, невзирая на мои уточнения и разъяснения, что на такой простой и очевидный вопрос не существует ответа, и долго считала, что я по каким-то непонятным причинам скрываю от нее правду. И я помню, ах, как ясно помню ее остренькое изумленное личико, настоящую лисью мордочку, вспыхнувшую недоверчивым гневом, глаза, засверкавшие от за кипевшего раздражения; я помню, с какой яростью она, топнув наконец ногой, бросила мне как обвинение, со сдержанным рыданием в голосе: — Ну так что же, совсем ничего не знают? И я вынужден был признать, что люди и в самом деле не знают ничего, живут и умирают, так и не проникнув в главную, тайну бытия, и что как раз в том и состоит величие науки, которая стремится проникнуть… Тут Сильва прервала меня еще яростнее: — Как? Какое величие? Почему надо искать? Раз живут, должны знать! Почему не знают? Нарочно? Нам мешают? Я молчал, пораженный и слегка пристыженный. Ибо мало сказать, что проницательность этого последнего вопроса поразила меня — она открыла мне глаза. Я не принадлежу к тем людям, которые сверх меры увлекаются метафизикой; я всегда принимал вещи такими, какие они есть, подходя к ним вполне практически, как и подобает сельскому жителю. И теперь я говорил себе, что странное наблюдение, сделанное моей человекообразной лисичкой, никогда не приходило мне в голову, несмотря на полную его очевидность. И думал: много ли найдется людей, способных сформулировать эту мысль столь ясно, да и многие ли ученые обратят внимание на то, что содержалось в ней примитивного и одновременно фундаментального. В самом деле, «почему не знают?» и «почему нам мешают?» Тысяча чертей, это изумление, этот гнев Сильвы — не были ли они основой всего всего, что составляет благородство человеческого разума? Но человек заплутал среди деревьев бесчисленных вопросов, не видя из-за них леса главного вопроса, объединяющего их все: почему, с какой целью наш мозг был создан столь законченным, что он способен все понять, но столь искалеченным, что ничего не знает — ни того, что есть он сам, ни тела, которым он управляет, ни той вселенной, которая все порождает. И именно потому, что мозг моей лисицы был девственно чист и у нее не было возможности еще в детстве заблудиться среди деревьев, она и угодила сразу в лес этого «почему?», о котором люди никогда не думают, и это-то и есть самая поразительная и необъяснимая непоследовательность человеческого разума. …Этот вопрос, обладай люди хоть малейшим здравым смыслом, должен был бы руководить всеми их деяниями, всеми помыслами; и он же, начиная с этого дня, стал направлять все усилия Сильвы. Она вложила в свое стремление постичь смысл окружающего ее мира упорный и пламенный пыл. Нэнни учила ее читать по Библии, и Сильва погрузилась в это чтение со страстным увлечением и интересом, которые напоминали мне зияющий пустой бурдюк, жаждущий вопросов, часто еще неясно сформулированных, но срочно требующих ответа, и вдруг щедро, через край, наполненный водой. Я был даже несколько смущен: будучи добрым христианином, я все же испытывал смутное ощущение, что обманываю Сильву, злоупотребляю ее доверием. Перед таким голодом познания мне оставалось лишь констатировать, что она поглотила бы с одинаковой жадностью любую предложенную ей пищу для ума. Теперь я имел возможность убедиться воочию, в «чистом виде», в размерах этого всеобъемлющего голода и соответственно оценить заслуги священников, насыщающих страждущие души. Я говорил себе: уж они-то, они от века, во всех религиях, заранее «обречены» на успех. И я чувствовал, как пошатнулась теперь моя собственная вера. Правда, она никогда не была особенно крепкой. Я со своей стороны давал Сильве читать простенькие трактаты о природе вещей и постепенно убедился — признаюсь, с некоторым удовольствием, — что она если и не предпочитала их Евангелию миссис Бамли (единственный мой упрек к ней состоял в том, что она слишком уж пламенная папистка), то по крайней мере уделяла им куда больше времени. Также я констатировал у Сильвы явление, о котором уже упоминал, — она косвенным образом подтвердила его не только для себя, но и для большинства людей: по мере того как ее мозг обогащался, иначе говоря, все больше узнавал о собственном неведении, о неисчислимом множестве неизвестных ему вещей, она все дальше отходила от целого, забывала о том взрыве, который заставил ее взбунтоваться: забывала о самом этом неведении. Она не принимала его больше в расчет, но мало-помалу ее начали даже раздражать мои упоминания о нем. Словно и для нее отдельные деревья начали заслонять лес и она потеряла интерес к нему. По мере того как приобретенные знания открывали ей новые пробелы, она со страстным нетерпением стремилась заполнить их, но поскольку пробелы эти состояли из все более мелких частностей, то и интересы ее поневоле проявлялись во все более тесных границах. И это вполне естественно привело ее к тому, что она почти полностью отошла от главной онтологической [43] проблемы, чтобы заняться реальными и практическими материями: открывала для себя осязаемый мир, бурлящий уже полученными знаниями, определенными предметами, названными чувствами, оцененными ощущениями, объяснимыми связями, она избавлялась от беспокойства, а вместе с ним от ощущения этого общего Незнания, которое с самого начала так испугало ее. Одним словом, она мысленно — и почти молниеносно — переходила от страхов палеолита к убаюкивающей надежности современной британской цивилизации. Но это довольно неожиданное стремление мчаться во весь опор по дороге знаний было, впрочем, далеко не единственным поводом для моего удивления. Сколько же времени, вспоминал я, моя милая лисичка в человеческом облике затратила на переход от звериной ночи к первым, еще неясным проблескам зари? Месяцы, почти целый год. Тогда как ей понадобилось всего несколько недель, считая с того еще памятного дня, когда она открыла сама себя, одновременно существующую и смертную, чтобы ее разум жадно воспринял огромную сумму знаний, иногда весьма сложных для понимания. Так тоненькая струйка из источника еле-еле сочится под незыблемым, казалось бы, утесом. А потом какой-нибудь камешек сдвигается, буквально на несколько сантиметров, и вдруг все рушится под напором буйного, неостановимого водопада. — Ну что? — торжествовал доктор Салливен. — Не предупреждал ли я вас, что ваша лисичка, очеловечившись, познакомит нас с историей человечества? Пять тысяч веков полного мрака на то, чтобы, карабкаясь, выбраться из бездны дикого неразумия, и всего двадцать веков, но осиянных гением Платона, Ньютона, Эйнштейна! И в случае с Сильвой абсолютно те же пропорции! Что же вы теперь будете с ней делать? — осведомился он. — Она как будто проявляет большие способности к учению? Доктор, конечно, выказывал излишний оптимизм. И однако я уже начинал серьезно подумывать о том, чтобы приискать для Сильвы подходящее учебное заведение, когда Нэнни стыдливо сообщила мне нечто из ряда вон выходящее. Факты были настолько очевидны, что сомневаться в них не приходилось: мы с ужасом убедились, что Сильва беременна. Вот когда я был сброшен с облаков на землю! Если бы можно было считать Сильву лисицей, я, вероятно, придал бы этому событию куда меньше значения. Но она давно уже не была ею. И нравилось мне это или нет, но для меня, как и для всех окружающих, она теперь являла собой молодую девушку, чье существование в силу обстоятельств было ограничено рамками нашего социального круга. И ни я, ни она не могли избавиться от них. Каковы же были теперь, в этой ситуации, мои обязательства? Что я должен был решить ради ее будущего — и ради своего собственного? О, если бы я мог по крайней мере надеяться быть отцом этого ребенка! Это не исключалось, но на сей счет я не питал особых иллюзий: столько же шансов имел и злосчастный Джереми. Да и разве не мог какой-нибудь предприимчивый лесной бродяга опередить этого дурацкого орангутанга? Сильву расспрашивать бесполезно: она, конечно, ничего не знала, ни о чем не помнила ведь когда она зачала, она еще мыслила как лисица. Но когда она произведет на свет ребенка, она уже будет женщиной. Так что можно себе представить мое смятение. Да и не мог я пока ясно определить, было ли мое чувство к ней любовью любовника или отца. Конечно, мысль о том, чтобы уступить это юное существо Джереми, вызывала у меня яростную ревность, но ведь и отцы часто испытывают подобное чувство перед позорным мезальянсом дочери. «Ну хорошо, — думал я, силясь рассуждать бесстрастно, — а если это все же ребенок той гориллы? Имеешь ли ты право отнимать его у отца? Но тогда какое воспитание ждет несчастного малыша, чьи родители — питекантроп и безмозглая лисица? Должен ли ты оставить их в покое, как советовал этот дурак Уолбертон, и пусть делают из своего отпрыска третьего кретина? Ну хорошо, предположим, ты мог бы принять участие в его воспитании. Но ведь это лишь при условии, что родители согласятся доверить его тебе, а со стороны гориллы Джереми это бы меня очень удивило. И потом, не кажется ли тебе, мой милый, что ты сейчас распоряжаешься Сильвой, как вещью, точно шкафом или кобылой. Но она ведь больше не лисица. Напротив, она весьма убедительно доказала, что стала таким же человеком, как и ты! И значит, имеет полное право распоряжаться собой. Кто говорит, что теперь ей захочется жить с этим дикарем? Ага, ты еще не осмеливаешься признаться себе в том, что она тоже как будто любит тебя, и любит как женщина, и ты больше не можешь этого отрицать, и она тебе это доказала… Да, но ребенок? А что она знает о нем? Может ли женщина, которой она стала, отвечать за действия лисицы, которой она была? О Господи, сокрушался я, если бы она родила раньше, когда еще была неразумной, как все звери! Она произвела бы ребенка на свет в блаженном неведении животного, неспособного ни вопрошать себя, ни удивляться. Теперь же держись! — она засыплет нас всеми возможными и невозможными вопросами, вплоть до самых неприличных. Когда Сильва замучивала нас ими вконец, мы, как правило, отделывались классической формулой: „Это ты поймешь позже“, и она не настаивала, только бросала на нас разъяренный взгляд, дававший нам понять, что ее молодой мозг терзают великие пертурбации. И вот теперь она увидит, что толстеет. Что мы ей скажем? А уж когда родится ребенок!..» Мы выбрали золотую середину: Нэнни, дабы предупредить расспросы, посвятила Сильву в тайну рождения ребенка (но не в тайну зачатия). Так что, обладай Сильва чуть более развитым умом, ей пришлось бы заключить, что она понесла от Святого Духа. На какое-то время эти разъяснения разрешили ее внутренние проблемы: она и в самом деле стала с этого дня выказывать детское нетерпение к появлению будущего младенца. Но это никоим образом не устраняло проблемы общественной. Я решил посоветоваться с доктором Салливеном. — Я ведь вас давно предупреждал! — ответил он с тяжеловесной игривостью. В первый же день я предсказал вам, что вы уладите это дело, лишь женившись на ней. И верно, он говорил именно так; подумать только, что я воспринял тогда эти слова как безвкусную шутку! Нынче же все указывало на то, что доктор оказывался прав и что любое другое решение принесет Сильве, а потом и ее ребенку непоправимый вред. Отсюда следовал другой, довольно парадоксальный вывод, а именно: было бы гораздо лучше, если бы все думали, что ребенок этот именно мой и что я сблизился с моей лисицей именно для того, чтобы не провоцировать ее слишком долгим воздержанием на бегство в лес, как весной, когда она встретила там своего питекантропа. Так на чем же, черт побери, зиждутся законы нравственности и приличия? Неужели основы их столь зыбки, что я смог нарушить их в то время, как старался соблюдать? Все опять побуждало меня к размышлениям об основах добрых нравов и о том, как они двусмысленны и шатки. Я понял, насколько случайны их принципы, которые в любой момент мы, люди, можем подвергнуть сомнению под давлением различных обстоятельств. Как бы то ни было, а из создавшейся ситуации существовал лишь один выход: наш брак. В глубине души я, в общем-то, радовался этой необходимости, отвечавшей моим тайным пожеланиям. Да к тому же не было никаких сомнений в том, что в разумный срок и при разумном терпении Сильва станет вполне презентабельной, приличной особой. Она, конечно, пока еще изъяснялась, как малое дитя, но разве не говорят точно так же многие вполне взрослые англичанки? И разве их наивное сюсюканье не придает им дополнительный шарм? Так что здесь мне беспокоиться было не о чем. И все-таки я не мог окончательно решиться на этот шаг, я раздумывал, я колебался. Я помнил о единственном, но весьма щекотливом препятствии к этому браку, но ничего не предпринимал к его устранению: Сильва пока что не имела никакого законного гражданского статуса. Ее рождение, даже от неизвестных родителей, нигде не было зафиксировано, и я до сих пор не придумал никакой лазейки, чтобы как-нибудь объяснить это отсутствие метрики. Мне очень не хотелось прибегать к фальшивым документам. И вот я ждал, когда ко мне придет какая-нибудь спасительная идея, а пока успокаивал себя: время терпит. По правде сказать, я, к великому сожалению, просто-напросто не обладаю бойцовским характером. К тому же я втайне побаивался сплетен. Я опасался испытаний, конечно грозивших мне в нашем кругу, если я женюсь на туземке, как выразилась Дороти, да еще вдобавок на матери-одиночке. Моя новая блестящая теория о том, что составляет качество души человека, почему-то вспоминалась мне все реже и реже, ввиду усилий, необходимых для того, чтобы внушить эту теорию другим. Я думал о себе больше, чем о Сильве. А она тем временем уже начала полнеть. И строить предположения, каким будет ребенок, которого она произведет на свет. Никогда не видя детей, она воображала себе бог знает что. Нэнни показала ей мой семейный альбом, где по меньшей мере двадцать новорожденных возлежали на животе на подушках. Тогда Сильва пожелала увидеть собственную фотографию в этом же возрасте. Нам пришлось на ходу выдумывать какие-то фантастические объяснения, которые она сперва выслушала не моргнув глазом. Но потом мы увидели, как она день ото дня мрачнеет, грустнеет. Личико у нее вытянулось, черты обострились. И мы наконец уразумели с некоторым испугом, что ее мучила мысль о том, что Нэнни приходится ей матерью, я — отцом и что мы скрываем от нее этот факт. Если она до конца поверит в эту чушь, хороши мы будем с нашей свадьбой! И я принял решение срочно просить Нэнни объяснить Сильве, что я отнюдь не ее отец, но отец ее будущего ребенка. Нэнни выполнила эту просьбу со всем тактом, на какой только была способна. Мы не сразу оценили действие этого открытия. Сильва выслушала объяснение с тем видом рассеянного внимания, который принимала всякий раз, как событие превосходило ее понимание и ей требовалось поразмыслить над ним позже, не торопясь. До самого вечера она была очень спокойна, хотя и слегка задумчива, слегка отстранена; спать она легла как обычно. Но на следующее утро она исчезла. За последние несколько месяцев это было ее четвертое бегство, и я, надо сказать, уже свыкся с ними. Мы бы почти не беспокоились, если бы не обнаружили совершенно поразительный факт: Сильва убежала, захватив с собой чемодан. Она унесла в нем белье, одежду, туалетные принадлежности. Куда она отправилась? Уж конечно, не слишком далеко, ей еще не хватало уверенности, чтобы путешествовать одной или поехать в город. В хижину Джереми? Я с удовлетворением отметил про себя, что больше не боюсь их встречи. Это был пройденный этап. Не стану распространяться о моих предположениях и поисках, которые, впрочем, длились недолго: пришла записка от трактирщицы, извещавшая меня о том, что беглянка находится в «Единороге». Хозяин не решился отказать ей в комнате, но боялся неприятностей и предпочел дать мне знать. Он тактично умолчал о том, что у Сильвы нет при себе ни пенса. После коротких раздумий я решил не принуждать Сильву к немедленному возвращению и послал миссис Бамли на разведку. Они долго беседовали, и беседа эта оказалась весьма тягостной и путаной, однако главное Нэнни удалось понять. Я был для Сильвы «Бонни», то есть отец, брат, покровитель, и она, памятуя о церковных догмах, о главных добродетелях, о родственных связях, грехе, аде и прочем, не могла согласиться с тем, что я отец ее будущего ребенка. Она просто-напросто отрицала это, терпеливо, но категорически, и, поскольку разум ее был еще достаточно темен, она со свирепым простодушием верила, что все отрицаемое ею просто не существует. Потеряв терпение от подобного упрямства, Нэнни разом позабыла о том, что до сих пор удерживало ее от откровенности, и заговорила открытым текстом, объяснив Сильве все — и про любовь, и про наслаждение, и прочее. Сильва молча выслушала, не спуская с Нэнни глаз, и, когда та выдохлась и подбородок ее между отвислыми щеками задрожал от волнения, сказала только: «Я знаю». И больше от нее ничего не удалось добиться. Нэнни вернулась домой сильно обескураженная и очень недовольная собой. Во все последующие дни Сильва отказывалась видеться даже с Нэнни. Потом передумала и приняла ее. Но лишь при условии и это она специально оговорила, — что я не буду ее сопровождать. За эти дни, наполненные ожиданием, я смог наконец измерить всю силу моей любви к Сильве. Не много у меня в жизни бывало подобных дней, когда мое лихорадочное смятение, острая душевная боль, растерянность и изумление достигали такого накала. Сто раз в час я порывался вернуть ее силой, и каждый раз внутренний голос удерживал меня от поспешных решений. Я знал, какой опасности она подвергается, живя одна в «Единороге», среди местных парней, которые так легко могли соблазниться ее простодушием и красотой. Но в то же время я чувствовал, что если попытаюсь увести Сильву оттуда, то рискую восстановить ее против себя очень надолго. Впрочем, Нэнни успокаивала меня: «Во-первых, вы можете быть уверены, что она любит вас, ваша лисичка, даже если ее неопытное сердце еще не подсказало ей, как именно». Кроме того, моя бравая соратница завоевала расположение служанки «Единорога», которая и заботилась теперь о Сильве как о родной дочери. И, наконец, сама Нэнни ежедневно наведывалась туда, чтобы продолжать выполнять свои обязанности воспитательницы. Таким образом, она успевала еще и наблюдать за мужской клиентурой кабачка. Она видела, кто входит и выходит, но, как призналась мне потом, долго колебалась, прежде чем сообщить о посетителе, с недавних пор особенно усердно посещавшем кабачок, — младшем сыне моего друга Уолбертона. Я-то его знал слишком хорошо: красавчик, зубоскал. И Сильва — по словам Нэнни, вполне простодушно и ничего дурного не подозревая — принимала его ухаживания с улыбкой. Будь моя невинная Сильва опытной женщиной, она и то не могла бы действовать удачнее, чтобы развеять мои последние трусливые сомнения. Но, может быть, она и стала таковой? Может быть, ее бегство на сей раз и было одной из тех женских хитростей, когда женщина бежит любви мужчины, втайне, а иногда и неведомо для самой себя желая довести эту любовь до апогея? Как бы то ни было, я жил, лишенный поневоле присутствия Сильвы, тоскующий, ревнующий, узнавая все новости только через Нэнни (которую подозревал в молчаливом сговоре со своей воспитанницей); и если Сильва хотела открыть мне глаза на силу и род моей привязанности к ней, то это ей блестяще удалось: я потерял покой и думал только о свадьбе. Во время бессонных ночей у меня появилась возможность в полной мере оценить, что значила теперь Сильва в моей жизни. Отныне она была не только женщина (я бы сгорел от стыда, подумай я теперь о ней как о лисице, о самке), не только человеческое существо, но, наконец, и «личность» — да-да, теперь Сильва была на этой земле личностью, которую я любил, личностью, с которой хотел связать свою жизнь, которую никогда не уступил бы другому, на которой собирался жениться вопреки всем и вся, ибо не мог больше обходиться без нее. И я уверен, что за всю свою жизнь не принимал более мудрого решения. Кротость и жизнелюбие Сильвы, ее детская нежность, ее жажда к познанию всего на свете никогда не изменяли ей, она всегда давала мне основания гордиться ею, и ее грациозная красота во многих случаях делала мне честь. Вот почему сегодня я испытываю стыд, вспоминая о тех глупых временах, когда меня еще волновали сплетни и общественное мнение и я не мог вырваться из плена глупых предрассудков. До сих пор меня охватывает дрожь при мысли о том, что, не случись этого бегства, которое сняло последние шоры с глаз, я так ни на что и не решился бы. Но, раз решившись, теперь нетерпеливо рвался завершить дело. Последствия меня не волновали. Ребенок? Ну, пусть он будет похож на лесного дикаря или на кого угодно — ведь усыновляют же детей из любви к матери, не я первый, не я последний. А если «им» это не по вкусу, пусть катятся подальше! Но я несколько идеализирую себя. По правде сказать, я втайне надеялся на преждевременные роды и смерть младенца. Или, если он выживет, пусть будет похож на меня. Или пусть не на меня, но хотя бы не слишком явно на питекантропа. Ну а если все-таки на — него… что ж, нужно только заранее принять меры, организовать все так, чтобы роды произошли втайне от всех, а потом — последнее прибежище — сдать ребенка в какой-нибудь отдаленный приют… Но сперва следовало убедить Сильву. А для этого нужно было уговорить ее вернуться под наш кров. На Нэнни больше рассчитывать не приходилось: разрываясь между Сильвой и мной, она уже ни на что не была способна. Ну что ж… смелее, вперед! Ведь Сильва любила меня, я имел все основания верить в это. Я запрусь с ней в комнате и буду уговаривать до тех пор, пока она не сдастся. Она должна, должна понять мои доводы и последовать за мной. Я сел на лошадь и поскакал к «Единорогу». Там царил полный переполох. Люди как-то странно смотрели на меня. Где же Нэнни? Пока я спрашивал о ней, она как раз вышла в коридор, держа в руках таз с горячей водой. Бросив мне: и «А, вот и вы», она, не останавливаясь, прошла мимо. Я двинулся было следом, но она сказала: «Останьтесь здесь». — «Да что случилось?» — вскричал я. И Нэнни, обернувшись на ходу, сказала: «Она рожает». Роды начались гораздо раньше, чем мы предполагали. А я-то строил планы, собираясь все оставить в тайне! Вся деревня уже прознала о событии, люди сходились к стойке как бы невзначай, вроде для того, чтобы выпить. Я шагал взад-вперед по коридору, куря сигарету за сигаретой. Спустя полчаса Нэнни позвала меня — голосом, от которого я покрылся холодным потом. Я вбежал в комнату. Она держала на руках новорожденного. Сомневаться не приходилось: это был лисенок.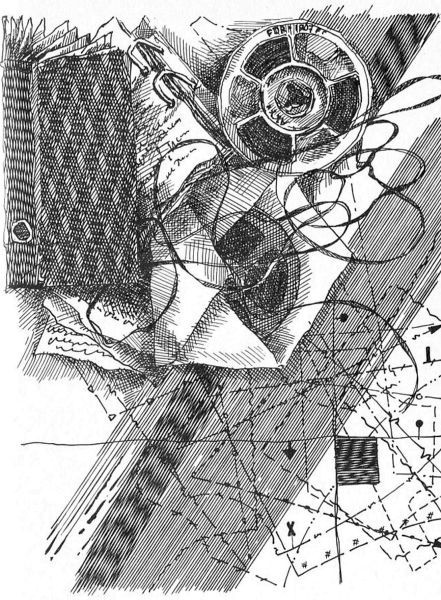
Плот «Медузы» (Перевод Ю. Яхниной)
Вступление
Гибель Эстер Обань на Южной автостраде в 1960 году потрясла нас всех, но не удивила. Лично я никогда не садился без дрожи в ее открытый «феррари». Само собой, я старался ничем не выдать своего страха, но невольно вцеплялся в сиденье, а она закатывалась смехом (она была по натуре жизнерадостна и смешлива), дружелюбно подтрунивая надо мной. Я был уверен, что в один прекрасный день она вот так и погибнет — смеясь. Люди, страстно любящие жизнь, слишком любят ею рисковать. И однажды ранним утром, после того как она всю ночь мчалась на бешеной скорости, она в тумане налетела на грузовик. Лицо ее и в смерти сохранило отпечаток жизнелюбия и в то же время иронии, неизменно прятавшейся в уголках ее губ. Открытый гроб стоял посреди кабинета, где Эстер принимала своих больных, и казалось, она по-прежнему царит в огромной фонотеке, среди дремлющих магнитофонных лент с записью исповедей ее пациентов. Я уже тогда подумал: как с ними быть? Эстер постоянно твердила, что, как только у нее выдастся свободное время, она напишет работу, в которой подытожит свои наблюдения и основные клинические выводы. Она умерла, так и не приступив к этой работе; во всяком случае, в ее бумагах я не нашел никакого намека на этот труд. Она сделала единственное распоряжение (как знать, может быть, предвидела катастрофу?), назначив меня своим душеприказчиком. Но завещания не оставила… Однако я не мог допустить, чтобы погибли собранные ею сокровища. Поэтому первым делом я предпринял трудоемкую работу по их классификации: на каждой папке с историей болезни значилось имя больного, а магнитофонные записи из соображений врачебной этики были безымянные, и порядковые номера тех и других не совпадали. Занятый своими собственными делами, я очень не скоро сумел установить, какой папке соответствует какая запись. Но зато, найдя наконец ключ к шифру Эстер, я в дальнейшем уже пользовался им без труда. Мое внимание тотчас привлекло одно имя — имя известного писателя, внезапная гибель которого совсем недавно потрясла литературный мир. Эта смерть еще слишком свежа в памяти, а писатель слишком известен, чтобы я позволил себе дать пищу любопытству читающей публики, обнародовав тайны его личной жизни и при этом раскрыв его подлинное имя. Но, с другой стороны, я не чувствую себя вправе утаить мою находку от Истории. Представьте себе на минуту, что магнитофонная лента сохранила записанные в тиши кабинета откровенные признания, на какие способен вызвать человека такой собеседник, как Эстер Обань, подробности интимной жизни Стендаля, Бальзака, а если говорить о времени более близком, Пруста или Малларме, сохранила их голос, неповторимую интонацию, все их колебания, попытки самозащиты и внезапные глубинные прозрения, когда человек постигает вдруг утаенную до сих пор от всех частицу правды о самом себе. Какой незаменимый источник ценнейшей информации для понимания произведений писателя, их генезиса! Какая невосполнимая утрата, если эти драгоценные записи погибнут и никто их не обнародует! Вот почему я подавил некоторые соображения щепетильности и, решив утаить до поры до времени подлинное имя писателя и опустить кое-какие факты, в которых слишком легко угадываются действующие лица (по истечении подобающего срока я внесу необходимые разъяснения, которые позволят восстановить все факты и подлинные имена), стал приводить свою находку в порядок. Да, именно в порядок, потому что в этой длинной, урывками записанной «исповеди» (многие ее места совершенно непонятны без заметок, которые Эстер, слушая, набрасывала на клочках бумаги) не было никакой последовательности[44]. Иными словами, мне в руки попала самая настоящая головоломка. Тем более что я забыл упомянуть главное: курс лечения у Эстер проходил не сам писатель, а его молодая жена. Загадка номер один: зачем так подробно расспрашивать мужа, когда лечишь жену? Второй загадкой можно, пожалуй, считать последовавшую вскоре после этого трагическую гибель писателя и его жены (еще одна автомобильная катастрофа — но случайная ли?). По-видимому, Эстер не поддерживала с супругами дружеских отношений (во всяком случае, мужа она прежде не встречала), однако с женой, несомненно, была связана какими-то общими занятиями. Я не мог установить, какими именно: ни заметки Эстер, ни магнитофонные записи не содержат на этот счет никаких намеков. Но по некоторым оброненным вскользь словам можно предположить, что они состояли в одном спортивном клубе — играли то ли в гольф, то ли в теннис (а может, занимались другим видом спорта). Однако все это только предположения. В данном случае больная интересует нас лишь постольку, поскольку она связана со своим мужем, знаменитым писателем. Их общая гибель заставляет задуматься над характером ее болезни (а также над причиной их смерти). Итак — головоломка. Должен ли я был опубликовать, не меняя в них ни слова, заметки и записи в том беспорядке, в каком я их нашел? Это было и проще, и соблазнительней. Тем более что в наши дни хаотичность и бессвязность считаются альфой и омегой таланта, пес plus ultra[45] искусства. Поскольку в начале века кое-кто из талантливых писателей писал заумно, заумь стала подменять собой талант. Кстати, выдумка и вправду талантливая: если ваш король гол, сделайте из него головоломку, — кто посмеет утверждать, что среди тысячи разрозненных фрагментов не спрятаны кружева и драгоценности? Подлинная глубина поверяется только ясностью смысла. Лично я страдаю тяжелой и неизлечимой болезнью — уважением к читателю. Уж если ты печатаешься, стало быть, хочешь, чтобы тебя читали, а значит — поняли, но тогда элементарное требование вежливости — стараться не затемнять смысл. Темнить без надобности? Оправдать это можно разве что неодолимой потребностью выдающегося таланта, иначе в лучшем случае это парадокс и при всех обстоятельствах — наглость. Что же мне было делать? Восстановить связность рассказа — сбивчивого, прерывистого, со всеми его повторами и неправильностями разговорного языка, — вкрапливая в соответствующих (на мой взгляд) местах торопливые наброски Эстер, в которых так много сокращений, шифрованных записей, не говоря уже о неразборчивых словах; сократить, дополнить, связать концы с концами? Не означало ли это сковать ускользающую истину искусственными рамками и тем самым задушить ее? Взвесив все «за» и «против», я все-таки на это решился. По опыту знаю, что доля живого вымысла иногда оказывается более правдивой, чем слепое следование букве. О результатах судить читателю; он — мой единственный судья. Да отпустит он мне мои грехи!I
Первая запись Эстер Обань в истории болезни № X… (Марилиза Легран). ВТОРНИК. 15 ч. 30 м. Мадам Легран. Вот тебе раз — это Марилиза. Легранов на свете много, я думала, придется иметь дело с одной из моих старых пациенток. Сначала я решила, что она пришла по поводу предстоящего матча. Но по выражению лица поняла: дело серьезное. Говорит, что уже несколько месяцев страдает нервной депрессией (она ее умело скрывала). К домашнему врачу обращаться не хочет. Ко мне питает глубокое доверие (спасибо). Пришла не только как к психоневрологу, но и как к другу. По сути дела, несмотря на приятельские отношения, я о ней почти ничего не знаю. Возраст: около тридцати. Происхождение: дочь Теодюля Кламара (Протестантский банк). Муж — Фредерик Легран, «проклятый» поэт, революционер. Из-за мужа более или менее разошлась с родней. Четверо детей. Ожидает пятого (пока еще не заметно). О муже знаю то, что знают все: его первая книга вызвала перед войной в буржуазных кругах скандал настолько шумный, что о ней помнят даже те, кто ее не читал. Тем более что с годами одиозность поблекла и выродилась в обыкновенный успех: книгу давно издают массовым тиражом, она принадлежит к числу наиболее ходких и приводит в восторг молодежь, жадную до бунтарской, протестующей поэзии. Я помню из этой книги одно-единственное двустишие — мой молокосос племянничек декламирует его кстати и некстати:Вы мертвы Молчанье Лишь вонь мертвечины
Из-под ваших личин источаете вы…[46]
II
Первая запись Эстер Обань в истории болезни №Y… (Фредерик Легран). На газетных фотографиях у него во рту неизменная трубка. Прекрасно. Добрый знак. (…) (Замечание не такое уж странное, как может показаться на первый взгляд. Эстер когда-то, смеясь, открыла мне секрет одного из «тестов», с помощью которыхопределяла, как себя держать с пациентом, впервые являющимся к ней на прием. Она предлагала ему сигару, толстую сигару. Если пациент был человек некурящий, заряд пропадал даром. Курящий возьмет без раздумий сигарету, но сигара — это уж слишком большая роскошь, в больном просыпается недоверие: наверное, врач хочет притупить его бдительность. Но если, несмотря ни на что, он сигару возьмет, значит, с ним можно действовать напрямик, он из экстравертов, легко расслабляется, при случае с ним можно не церемониться. Трубка Фредерика свидетельствует о том, что он курильщик, а стало быть, «тест» к нему применим.) (…) На телеэкране он показался мне выше ростом, чем я предполагала. Пожалуй, довольно красив. Нордический тип, резкие, нервные черты. Пресловутая непокорная прядь. Однако рядом с Дюмейе отнюдь не производит впечатления страстной, но ранимой натуры, какую рисует его жена. За словом в карман не лезет, соображает быстро, с блеском парирует, вынуждая собеседника защищаться. Лицо довольно суровое, несколько напряженное — и вдруг оно озаряется пленительной улыбкой. В общем, впечатление приятное. Но назвать его беззащитным? Во всяком случае, по виду этого никак не скажешь. (…) (Итак, судя по всему, Фредерика Леграна, которого ей предстояло принять вскоре после того, как она занялась лечением его жены, Эстер Обань в первый раз увидела — как это часто бывает — случайно, по телевидению. Когда именно это произошло? Никаких указаний нет. Между прочим, в дальнейших беседах с мадам Легран имя ее мужа вообще больше не упоминается.) (…) В жизни он тоже хорош собой, но вблизи заметен не вполне здоровый цвет лица. В будущем предвижу неполадки с желчным пузырем. С первых же мгновений — встревоженное выражение заботливого мужа. Хороший признак — искренне любит жену. Конфликт, если таковой имеется, следует искать в другой сфере. Предлагаю ему сесть — садится не на краешек кресла, но и не на все сиденье. Смотрит мне прямо в глаза, с некоторой настороженностью. Магнитофонная запись (избавим читателя от первых фраз — общепринятого обмена любезностями вроде «Рад с вами познакомиться», «Ваша прелестная жена…» и т. д. И так до первых слов, относящихся непосредственно к делу: «Вы, конечно, догадываетесь, почему я просила вас прийти?» Посетитель упавшим, нерешительным голосом): «— Что-нибудь серьезное? — Все зависит от того, как понимать это слово, мэтр. Жизни мадам Легран опасность не угрожает. — А… рассудку? — Рассудку тоже нет, успокойтесь! А вот насчет душевного равновесия я этого утверждать не могу. — Увы, я сам это знаю. — Тут многое в ваших руках. — Я повинен в ее состоянии? Я совершил какой-то промах? Ошибку? — Chi Io sa? [50] — Она жаловалась на меня? На что-нибудь конкретное? — Да нет же, нет! По ее словам, вы лучший из мужей. — Но в таком случае… — Это ничего не доказывает. В отношениях мужа и жены бывают загадочные обстоятельства. И та, и другая стороны могут о них даже не подозревать. И, однако, они иногда приводят к настоящим катастрофам. — В наших отношениях никогда не было ничего загадочного. — Вам это только кажется. — Значит, она вам что-то сказала. Признайтесь же! — Уверяю вас, ничего. — Тогда я не понимаю. — Тут и понимать нечего. Все очень просто. Я хотела вас увидеть, познакомиться с вами. И, сопоставив свои впечатления с тем, что мне расскажет ваша жена, прояснить обстоятельства, которые, может быть, необходимо прояснить. (Недолгое молчание. Потом.) — Скажите откровенно, доктор, к чему вы клоните? — Да ни к чему конкретному. Я просто хочу, чтобы мы поболтали, дружески, без церемоний. Как за чашкой чая. О том о сем. О ваших заботах, о ваших трудностях… — Простите, доктор, но я несколько удивлен. Разве ваши коллеги, как правило, лечат мужа, чтобы вылечить жену? — Как правило — нет! (Смеется.) Но, во-первых, у всякого свой метод, я могла бы сослаться на врачей, которые утверждают: „Если у жены расстроены нервы, в девяти случаях из десяти болезнь гнездится в муже“. Во-вторых, я слишком хорошо знаю Марилизу, чтобы заняться ее лечением, не познакомившись с вами. И наконец, я жду от вас вовсе не ее психологического портрета. — Тогда чьего же? — Но я же сказала вам, мэтр. Вашего». В течение нескольких секунд ему явно хочется вежливо, но решительно послать меня к черту; но тут же (как, впрочем, всегда) в нем берет верх опасение повредить жене и еще мысль, как бы не подумали, что он что-то скрывает. И почти тотчас — улыбается. А ведь правда — лицо суровое, временами настороженное, а улыбка очень мягкая. «— Ну что ж, раз вы полагаете… Хотя, право, я не совсем понимаю… Но все же, доктор, я надеюсь, это займет не много времени? — Час, не больше, раз в неделю. — Раз в неделю? Но, доктор, у меня очень мало свободного времени… — Вы занятой человек, мэтр, я тоже, все мы очень заняты. Но речь идет о здоровье Марилизы. — Но я не пойму, о чем я должен вам рассказать. Моя жизнь — это моя работа. В остальном в ней нет ничего необычного. — Еще бы. (Усмехается.) Это утверждают все. Итак, начнем?» Вздрогнул. Вытаращил глаза. «— Как? Сразу? С места в карьер? — А почему бы и нет? — Не знаю… Мне надо как-то подготовиться… — Да ведь готовиться не к чему! Я не Великий Инквизитор! Повторяю: мы просто будем болтать, без заранее обдуманного плана. Вы расскажете только то, что вам захочется. То, что вам придет в голову, просто так, не принуждая себя… — Но мне ничего не приходит в голову! Скажите по крайней мере, что вы хотите знать. Сама не знаю. Давайте для начала придерживаться хронологии. Так проще. Начнем с детства. У вас были братья, сестры? — Нет. Только двоюродный брат. Больше никого. — Он жил вместе в вами? — Мой отец взял его к нам двухлетним ребенком, когда умерла его мать. Его собственный отец, брат моей матери, был капитаном дальнего плавания и, конечно, не мог сам воспитывать мальчика. — Как его звали? — Двоюродного брата? Реми Провен. Внук… — Ах да! — Простите, что вы сказали? — Да нет, ничего. Я знаю — внук министра. И вы часто встречаетесь с ним? — Нет. Мы в натянутых отношениях. Но откуда вы знаете? — Это несущественно. А почему вы в натянутых отношениях?» Лицо его вдруг замкнулось. В голосе лед. «— Доктор, мы понапрасну теряем время. Здоровье моей жены не имеет никакого отношения к этой ссоре. — Этого мы с вами не знаем, мэтр. Вам неприятно затрагивать эту тему, не так ли? — Да. — Быть может, вы сожалеете о разрыве? — Я об этом не думаю. Но не сожалею. — Однако вы любили кузена? — Это было так давно… Право, доктор, неужели вы будете настаивать на этом вопросе? — Говорю вам, мэтр, я знаю не больше вашего. Я только потому заинтересовалась, что у вас к этому разговору не лежит душа. Как видно, ссора оставила в вашей душе чувствительный рубец. А рубец — это всегда очень интересно. Не сердитесь, мэтр, если мне иной раз придется задеть вас за живое, потом вы убедитесь — это для пользы дела. Вы улыбаетесь — отлично. Будем продолжать? Спасибо. К какому возрасту относятся ваши первые воспоминания? — О, к очень раннему. У меня сохранились совершенно отчетливые воспоминания об очень раннем детстве. — Что ж, мы этим воспользуемся. В ту пору вы еще дружили с вашим кузеном?» Ответил не сразу. Сначала его голубые глаза заволокла дымка воспоминаний — так бывает, когда взгляд обращается как бы внутрь себя. Я протянула ему ящичек — сигару? «— Сигары очень хорошие. Мне их присылают из Голландии. — Если позволите, я предпочитаю свою трубку». Интересно наблюдать, как он ее набивает, заталкивает табак мизинцем, а крошит пальцами другой руки — точно лапы паука расправляются с мушкой. Раскуривая трубку, начинает говорить. На лице задумчивая полуулыбка. «— Дружил ли я с Реми? (Пф-ф!..) Да, конечно, дружил. (Пф-ф…) Два сапога — пара. (Пф…) Шалуны — каких свет не видел… Мое самое раннее воспоминание? Пожалуй, история с китайской вазой. Это была громадная ваза, в ней росла пальма. Стояла она довольно неустойчиво на трехногом столике. Мы привязали один конец веревки к пальме, а другой к гвоздю в стене, я вскарабкался на стул, и мы пустили по веревке от гвоздя к вазе пряжку от ремня. Нам хотелось изобразить захватывающий аттракцион, который мы видели на ярмарке в Данфере. Там была натянута стальная проволока, и по ней можно было скользить с невероятной скоростью, держась за два кольца, укрепленных на роликах. Родители нам запрещали это развлечение — слишком опасно (кстати, позже его запретила и полиция). И вот мы воображали, что скользящая пряжка — это мы сами. Но замена была слишком жалка, чтобы долго питать детское воображение. И Реми пришло в голову подвесить к веревке своего Полишинеля. Полишинель был почти с меня ростом, и едва он повис на веревке, как ваза с пальмой зашаталась. Бедняга Реми! Я как сейчас вижу: расставив руки, он в отчаянии пытается удержать фарфоровую махину в три раза больше его самого. И вот ваза с оглушительным грохотом рухнула на пол, земля рассыпалась. Мы ревем, вопим от ужаса — я стоя на стуле, Реми среди осколков вазы, — а мои перепуганные родители кричат из-за двери: „Что? Что случилось“ — не решаясь войти из страха, что мы погребены под обломками упавшего шкафа. — Представляю, как они обрадовались потом. Вас не наказали? — В тот раз — не помню. Но если наказали, нахлобучку, как всегда, получил я один. — Почему „как всегда“? — Потому что Реми следовал в жизни золотому правилу: „Никаких неприятностей“. При первом признаке тревоги он забивался под кресло или под диван и оттуда наблюдал за развитием событий. — А вы?.. — А я — я встречал их лицом к лицу. Мне было всего три года, а Реми пять, и я был от горшка два вершка, но именно я шел навстречу опасности. Видно, я от рождения был бунтарем. (Усмехается.) — И подзатыльники доставались вам? — Само собой, кто бы ни провинился. А я думал об одном: как отомстить за несправедливость. — Кому? Реми? — О нет, взрослым. Но они были слишком большие, слишком сильные, чтобы я мог расправиться с ними, поэтому я обращал свой гнев на принадлежавшие им вещи: на мебель, на лампу. Мать часто описывала мне такую, например, сцену: разъяренный карапуз вцепился в турецкий ковер, который лежит на полу под громадным столом, и кричит, грозится: „Я созгу твой ковел! Лазобью твою лампу!“ Мать смеялась, а я неистовствовал от бессильной ярости, обзывал ее гадиной, бросался к окну, звал: „Спасите, здесь обизают лебенка“, на улице поднимался шум… Очаровательное дитя, как видите. — И чем кончались эти приступы ярости? — Вполне заслуженной поркой. Причем в этом случае я принимал ее безропотно и даже с некоторым, пожалуй, удовлетворением. — Вот тебе раз! Почему? — Потому что мне удавалось восстановить справедливость! Ведь эту-то норку я действительно заслужил. — По крайней мере так вам это представляется теперь… — Вовсе нет. Родители не так уж далеки от истины, когда, выпоров капризного мальчугана, приговаривают: „Теперь у тебя хотя бы будет причина для слез“. Он ведь для того и плакал, чтобы его наконец выдрали за дело. Только таким способом в нем и может изгладиться обида за какое-нибудь несправедливое наказание, которую он не вполне осознает, но горько чувствует. На эти вещи у меня очень хорошая память. Да что там, мои первые воспоминания такого рода восходят к еще более давним временам, к еще более раннему возрасту. — Когда вам не было и трех? — Ровно полтора года. Я опрокинул какую-то кастрюлю, обжег руку, истошно кричал — но ничего этого я не помню. Зато я вижу себя у открытого буфета, няня протягивает мне пирожное. Я был сластена, а чтобы съесть пирожное, нужно было перестать кричать. И вот это-то, это единственное, я помню — свое унижение. Само собой, я сдерживаю слезы, но, жуя пирожное, думаю не такими словами, конечно, но все-таки думаю с досадой, с обидой: „Она заткнула мне рот пирожным“. — Черт возьми! Полтора года — и уже такая гордыня! — Гордыня? Навряд ли. По-моему, тут было другое, я не мог перенести самовластия взрослых, того, что они по своей прихоти вертят слабым, беззащитным существом: захотят — заставят плакать, захотят — заткнут рот. Уже в том возрасте мне была невыносима несправедливость, навязанная силой. — Вы не такое уже редкое исключение. Всем детям в большей или меньшей степени присуще это чувство. — Не уверен, что именно оно. По сути дела, я ополчался против плохо устроенного мира, в котором взрослые знают все, а дети ничего, не знают даже, что можно, а что нельзя. Чувство страха, вернее, уверенности, что мне придется быть изгоем, окрасило все мое детство. Вы меня понимаете? — Не совсем. Изгоем — где? В дурно устроенном обществе? — В мире, где тот, кто знает все — будь это отец, мать или сам Господь Бог, — не желает уберечь ребенка от промахов, порожденных неведением, а потом его же награждает тумаками. Разве это справедливо? Разве допустимо? Вот каково было мое чувство. Чувство отторгнутости, одиночества. Ощущение, что ребенок одинок. Что ему не на кого рассчитывать. А вот вам еще одно воспоминание. Я вас не утомил? — Нет, нет, я слушаю. — Я был тогда чуть постарше — лет четырех или пяти. Меня учили читать Священную историю. Вначале кара, назначенная Адаму, вызвала у меня просто отвращение: „В поте лица твоего будешь есть хлеб“. „В поте лица“ — какая гадость! Но когда мне объяснили, что это значит, я и вовсе приуныл: хлеб надо было заработать. Долгое время я полагал, что нет ничего проще — пошел в банк и взял деньги. Но тогда почему же каждый раз, когда приближались последние дни месяца, отец ворчал: „Сколько веревку ни вить, а концу быть!“ Мать проливала слезы. Этот „конец“ не выходил у меня из головы. Значит, заработать себе на хлеб не такое простое дело? А вдруг я этому не научусь? Вдруг я стану таким, как нищие попрошайки в метро? В метро было много нищих, и это смущало мой покой. Мысль о них преследовала меня каждое утро, когда меня водили на прогулку мимо булочной против Бельфорского льва. Эта булочная с открытой витриной, выложенной свежими хлебцами, бриошами и рогаликами, и поныне существует на углу улицы Дагерр. Здесь всегда был народ — люди, которые умели зарабатывать себе на хлеб. А чуть поодаль на складном стуле сидел нищий и, подражая флейте, носом выводил какие-то невнятные гнусавые звуки, от которых мне становилось не по себе. Однажды я видел, как ему бросили какую-то мелочь, он вошел в булочную и купил маленький хлебец. Я тут же сделал подсчет. В ту пору такой хлебец стоил два су. Шоколадка тоже. Стало быть, на худой конец, если я стану нищим, главное — каждый день получать по две монетки в два су, тогда я смогу прожить. А если мне иной раз перепадет три монетки, я, может, даже скоплю деньги на старость. Этот подсчет избавил меня от тревоги за будущее. Во всяком случае — отчасти. — А теперь? — Простите, не понял?» Вопрос застиг его врасплох. Я уточнила: «Теперь вы избавились от тревоги за будущее?» Он засмеялся негромко, с каким-то даже вежливым удивлением. И, не вставая, отвесил мне почтительный поклон. «— Что ж, и вправду нет. Вы угадали. Я тревожусь о нем ненамного меньше прежнего. Несмотря на известность, несмотря на успех моих книг. В этом отношении я никогда не был спокоен. Меня не покидает мысль о том, что общество жестоко — более жестоко, чем я даже предполагал. Успех — дело неверное. Счастье переменчиво, человека могут забыть, завтра все может измениться, и я потеряю все, что имею. — А вы не думаете, что мадам Легран подозревает об этих ваших страхах? — Ей нечего подозревать — они ей хорошо известны. Я ведь ничего от нее не скрываю. Но если вы полагаете, что из-за этого у нее возник какой-то „комплекс неуверенности“, вы глубоко заблуждаетесь. Когда на меня находят эти дурацкие страхи, мы вместе их вышучиваем. Мы оба достаточно сильные люди, чтобы в случае необходимости противостоять несчастьям. — Во всяком случае, вы так полагаете. — Я в этом уверен. Причем на основании опыта: ведь я больше года жил впроголодь. — А я думала, вы росли в довольно состоятельной семье. — Так и есть. Но когда мне исполнилось восемнадцать лет, отец без лишних слов выгнал меня из дому. Притом без гроша в кармане».III
Эта подробность или, вернее, это обстоятельство было для меня новостью. «— Ого! Какое же преступление вы совершили? — О, это слишком длинная история! — А вы не можете сформулировать в двух словах, что к этому привело? — А вы можете сформулировать в двух словах, почему Бодлер написал „Цветы зла“? — Не понимаю, что здесь общего? — Меня выгнали из дому, потому что я написал некую книгу. А оттого, что меня выгнали, я ее опубликовал. Оттого, что… — Какую книгу? Ту, что вызвала скандал? — Именно. — Снова месть? „Я созгу твой ковел“? — И да, и нет. Это гораздо сложнее. Может, я ее для того и написал. — Чтобы вас выгнали из дому? — Чтобы высказать то, что накипело в душе. — Накипело — против кого? Против вашего отца? — Против всей семьи. Против целого света. — Это в восемнадцать-то лет? — Самая пора для отрицания и бунта. — Вы правы. К этому времени вы уже кончили лицей? — Я готовился к поступлению в Училище древних рукописей. — Вот уж никак не вяжется с вами! — Знаю. Все это не так-то просто объяснить. Понимаете, школьные годы были для меня непрерывным мученичеством. — Вы не любили школу? — Да нет, я бы не сказал. Не в этом дело. Я, кажется, все время себе противоречу. Но, понимаете, бывают дети… Вот хотя бы Реми: для него все в жизни было просто, все заранее расписано. В двенадцать лет он уже знал, кем будет, и так и вышло, он стал администратором, крупным чиновником. Правда, после войны он переменил профессию, но по причинам, которые никто… Впрочем, об этом после. Ему были совершенно неведомы мои детские страхи перед таинственным и грозным будущим. С самых юных лет он смотрел на мир с полным доверием, общество взрослых рисовалось ему благотворной, доброжелательной средой, где каждому уготовано подобающее место. Знаете, есть такая игра — наподобие игры „третий лишний“. В круг ставят стулья по числу участников — но одного стула не хватает. Реми никогда не задумывался над тем, что ему может выпасть в жизни доля — или, вернее, недоля — лишнего игрока, эта мысль казалась ему просто невероятной. Мне же наоборот — мне казалось невероятным, если вдруг по счастливой случайности я успею занять свободный стул. Поступая в десятый класс, я уже знал, что меня там встретят тридцать учеников, которые перешли в него из одиннадцатого класса [51], и каждый из них уверенно сидит на своем стуле. Как же я могу рассчитывать найти свободное место? Поэтому уже за несколько месяцев до поступления в школу я начал подготавливать отца: „В школе ведь обязательно — ну просто обязательно — кто-то должен быть самым плохим учеником…“ — Но вы ведь не были самым плохим? — Нет, я оказался самым лучшим. На свою беду. Я ждал всего чего угодно, только не слов: „Первый ученик Фредерик Легран“. Конечно, я был счастлив, но главное — ошеломлен. Первый — почему? Каким образом? Это казалось мне результатом какого-то таинственного ритуала, правила игры от меня ускользали. Но я по крайней мере успокоился: уф! я прочно сижу на стуле, счастье мне улыбнулось! Однако это длилось недолго. В девятом классе я учился еще хорошо, в восьмом — довольно прилично, а в седьмом начал сдавать. Я был годом моложе своих соучеников, может быть, меня следовало оставить на второй год. Занимался я не больше и не меньше, чем прежде, и, однако, с каждым месяцем, с каждой неделей терял один-два балла, съезжал на одно-два места; медленно, но верно удачливый игрок превращался в игрока-неудачника. Значит, в этом мире нет ничего незыблемого, приобретенного раз и навсегда? Жестокое открытие. Все рушилось. К тому же мне стало казаться — вероятно, без всяких оснований, — что дома меня любят меньше, чем прежде. Но кому, как не вам, доктор, знать, что от созданного ими мифа люди страдают больше, чем от реальной действительности? И вот вам пример…» На его лице заиграла насмешливая улыбка, в которой чувствовался, однако, налет грусти. «— Скажите, вам еще случается иногда гулять в Люксембургском саду? — В Люко? Еще бы. С ним связана вся моя юность. — Вот как, и ваша тоже? Тогда вы, наверное, помните ворота, которые выходят на улицу Вожирар? — Рядом с бывшим музеем? — Вот-вот. Вы входите. Что у вас по правую руку? — Киоск с газированной водой. — Верно! Теперь там торгуют кока-колой. А чуть подальше, посреди лужайки? — Постойте… Какой-то памятник? — Правильно. Какой? — Не помню. Какая-то скала, плющ. — Да, да. А под скалою? — Вспомнила! Сидящий титан! — Верно. Бронзовый гигант, который всем своим напруженным телом подпирает, пытается удержать огромный, придавливающий его камень. Вы сказали „титан“. А я звал его иначе. Может, кто-нибудь при мне случайно произнес это название. Так или иначе, для меня этот памятник назывался „Бремя жизни“. — Странно в устах ребенка. — Не правда ли? Мы жили тогда на улице Мезьер, в типичном буржуазном доме постройки прошлого века, большом и мрачном. Чтобы попасть в коллеж Вовенарга, мне надо было пройти через Люксембургский сад. И знаете, что я проделывал каждый раз? Каждое утро изо дня в день? Какой я совершал ежедневный обряд? С ранцем за спиной я останавливался посреди лужайки. Смотрел на скульптуру. Согбенный человек. Глыба, которая на него давит. И каждый раз, каждое утро эта глыба наваливалась мне на сердце, и я говорил про себя: „Вот и я, я тоже раздавлен бременем жизни“». Он посмотрел на меня таким взглядом, точно ждал, что в ответ на эти слова я ахну от изумления. Не скажу, чтобы я совсем не удивилась, но меньше, чем он рассчитывал. Многие счастливые дети страдают от тайных горестей. «— Сколько вам тогда было лет? — Девять. Обратите внимание: девять лет, а на душе такой груз, словно я уже изведал все муки человеческие. Но не подумайте, что я был хилым или угрюмым ребенком. Ничуть не бывало. Наоборот, я был шумным, озорным мальчишкой, зачинщиком самых отчаянных проказ. Причем повсюду — в классе, на улице, дома. Мы с Реми придумали, например, такую воинственную игру: один из нас с карабином и пистонами прятался в засаде в коридоре, а другие игроки — враждебная партия — должны были пробегать через коридор в комнату так быстро, чтобы их не успели подстрелить. Тактика игры состояла в том, чтобы пожертвовать первым игроком, зато второй успевал пробежать, пока стрелок перезаряжал карабин. Реми был любимцем старого полотера, который приходил к нам в дом по четвергам. Когда наступала очередь Реми стоять в засаде, старик тайком передавал ему второй заряженный карабин. Реми „убивал“ нас всех, одного за другим, а мы не догадывались о его уловке — нам и в голову не приходило, что его сообщником может быть взрослый! Так вот, однажды я решил, что попасть в комнату можно прямо из кухни, стоит только перепрыгнуть с одного подоконника на другой, — оба окна выходили во двор под прямым углом друг к другу. Мы жили на шестом этаже, но высоты я не боялся — попытка не пытка; я уже занес было ногу для прыжка, но меня чудом заметил полотер, в последнюю секунду сгреб в охапку и, по всей вероятности, спас меня от смерти… Вот какой я был сорвиголова. В школе перед уроком истории я однажды заложил взрывчатку в замочную скважину шкафа, где хранился скелет „Жозефина“; дверца распахнулась, и скелет с грохотом вылетел оттуда во время урока… Я сам струхнул — у несчастного учителя было больное сердце, и он едва не отправился на тот свет… Я мог бы порассказать вам о множестве других проделок, которым я предавался с упоением. Но, бывало, кончилась игра — и меня словно подменили. Страх и тревога тут как тут. Они снова берут меня в тиски. — И все из-за плохих отметок? — Нет, из-за моего вранья». Он сказал это, почти не замявшись, разве что раза два затянулся трубкой, прежде чем сделал свое признание. Но все-таки я почувствовала какую-то заминку, усилие. «— Дети вообще любят лгать. — Само собой. В случае необходимости. В порядке самозащиты. Ну а я (внезапная пауза, негромкое попыхиванье трубкой), я жил и дышал ложью, мучаясь и терзаясь от непрерывной лжи днем и ночью семь лет подряд. Представляете? Семь лет подряд». На этот раз я и в самом деле удивилась. Он прочел это на моем лице. Сам он улыбается, но смотрит мрачновато. Потом вздыхает, как бы иронически подтверждая: «Я не шучу». «— Семь лет — сами понимаете, для ребенка это целая вечность. Какие адские муки! Чувствуешь себя виноватым, притворяешься, панически боишься, что тебя разоблачат. И меня разоблачали всегда, почти всегда. Но я опять принимался за свое. Неукоснительно. Изо дня в день. Семь лет подряд. Чудовищно, правда? — Но что же вы все-таки творили? — Подделывал отметки. — И это все? — Все. Но я их подделывал каждый месяц, каждую неделю, в моем дневнике это было видно невооруженным глазом, я заранее знал, что меня выведут на чистую воду, и опять начинал сначала. Мучаясь и дрожа от страха. Подавленный чувством вины. И бременем жизни. — Что-то я не совсем понимаю. — Я и сам не понимаю. Думаю, это объяснялось тем, что, на свою беду, я почти три года был первым учеником. В дневнике у меня стояли только десятки и девятки. При первых восьмерках и семерках у меня почва стала уходить из-под ног. Я создал себе какую-то внутреннюю шкалу оценок, по которой семерка или восьмое место в классе уже были позором. О шестерке и говорить нечего. А человек становится рабом символов, которые сам же создает. — Неужели ваши родители были так строги? — С какой стати им было быть строгими? Такой хороший ученик. Может, в этом-то и крылась причина: я не в силах был их разочаровать. До сих пор помню, каким кошмаром стала для меня первая пятерка. А ведь это, в общем, была вполне приличная средняя отметка. Я как сейчас вижу эту жирную пятерку, синими чернилами вписанную в мой дневник. Принести эту постыдную отметку отцу было просто выше моих сил. Понимаете? Выше сил. Я ее стер и вместо нее поставил девятку. Потом, сдавая дневник учителю, я вынужден был снова стереть девятку и восстановить пятерку. Потом я снова восстановил девятку, но протер бумагу до дыр. Что было делать? Пришлось вырвать страницу. А потом не оставалось ничего другого, как подделать подписи отца и директора. В дальнейшем шестерок, пятерок и даже четверок и троек стало гораздо больше, я счищал и подделывал отметки, и это превратилось в пытку, которую вам нетрудно вообразить. — Представьте, трудно. Я не понимаю, почему вы не перестали этим заниматься. Особенно после того, как вас уличили. — Я пытался. Бывало, иду я по Люксембургскому саду, сгибаясь под тяжестью ранца, в котором лежит дневник, оскверненный какой-нибудь необъяснимой четверкой, пятеркой или четырнадцатым местом. Бреду к дому, приняв стоическое решение больше не лгать, показать родителям мой опозоренный дневник в его истинном виде, мужественно снести их разочарование, холодное, неласковое выражение их лиц. Но по мере приближения к дому ноги у меня становятся ватными, на сердце ложится огромная тяжесть, и я начинаю бесцельно слоняться по аллеям. Я вел сам с собой изнурительную борьбу и неизменно ее проигрывал. Спрятавшись за каким-нибудь высоким стволом в английском саду, я вынимал дневник и подчищал отметку. Только после этого я отваживался приблизиться к дому, подняться по лестнице и позвонить в дверь. — Ну а потом? — Видите ли, потом все происходило как бы помимо моей воли. Последствия обрушивались на меня, как античный рок. Я был уже не актером, а жертвой. Понимаю, объяснить это трудно… Я и сам только теперь, в разговоре с вами, пытаюсь как-то разобраться в том, что меня пугало, чем была вызвана эта мания. Может быть, я считал, что, если я вдруг сразу предъявлю родителям свои плохие отметки, я сам как бы публично и даже с каким-то цинизмом и равнодушием распишусь в своем падении. А скрывая их, я как бы отмежевываюсь от них. Оттого что отец обнаруживал обман постепенно, его разочарование обращалось в гнев, к тому же направленный совсем на другой объект. Этот гнев был, в общем, не так уж страшен. Но зато выдержать взгляд отца, открывшего дневник и увидевшего клеймо — плохую отметку, — нет, на это я решиться не мог, не мог даже подумать об этом без ужаса. Его глаза затуманятся упреком, огорчением. Нет, такое испытание, такая мука были выше моих сил».IV
Эти детские страхи, искаженное представление о шкале ценностей, когда стыд ребенку перенести легче, чем сознание своей бездарности, а гнев отца предпочтительней его разочарования, что-то мне упорно напоминали. «— Вы и в самом деле стали плохо учиться? — В том-то и дело, что нет. По некоторым предметам я, хоть и не блистал успехами, как раньше, все же достаточно успевал, чтобы в конце года оказаться в списке лучших. — Так чего же вам не хватало? — То-то и оно, что это меня не успокаивало. Вернее, нет, успокаивало — на время летних каникул. На три месяца я освобождался от бремени жизни. Но я не забывал: стоит вернуться в город, и все начнется сначала. Последние недели отдыха были отравлены муками приговоренных к смерти, которые все усугублялись. А впереди в погребальном мраке маячил Париж. Стоило мне подумать об этом, и меня начинало мутить. Невеселая история, не правда ли?» Я улыбнулась. Подошла к книжной полке. Открыла том воспоминаний Кафки и прочла отрывок, посвященный годам его учения в лицее [52]. Он выслушал меня с величайшим вниманием, потом покачал головой. «— Ну что ж, если угодно, какое-то сходство тут есть, но, пожалуй, в обратном смысле. Юный Кафка придумывал этот клубок кошмаров, чтобы найти оправдание своей несовместимости с бытием. Я же наоборот… (Усмехается.) Но я чувствую, что снова противоречу сам себе. Я собирался сказать, что я-то как раз бунтовал против приспособленцев, против лжеправедников, против самозванцев — да, да, — они удобно устроились на стульях, которые успели занять, хотя не превосходили меня ни умом, ни прилежанием, но они уже на школьном опыте уловили, как себя следует вести в жизни, овладели искусством втирать очки, разыгрывать ученость, когда ее нет, угодничать перед начальством, изучив его слабости, усвоили набор трюизмов, которые повышают твои акции, и научились губить конкурентов с помощью мнимо доброжелательных намеков… Но я имел в виду и другое — во мне говорило также чувство собственной неполноценности. Ведь я мог быть первым — и перестал им быть, а значит, я слишком ленив, рассеян, предпочитаю занятиям развлечения… — Это было справедливо? — Отчасти. Во всяком случае, при сравнении. — С кем? — С Реми. Мать вечно ставила его мне в пример. — Бедняга! Было отчего его невзлюбить… А он так хорошо учился? — Превосходно, и притом по всем предметам. Если я, кончив играть, вновь погружался в свои тревоги — удел строптивцев, — он преспокойно садился за стол, готовил уроки и без всяких усилий получал прекрасные отметки. Говорю вам, в двенадцать лет он уже установил очередность общественных ступеней, по которым ему надлежит подняться, и при этом разумность и незыблемость социального механизма не внушали ему ни малейших сомнений. Ему все было понятно, и все его устраивало. — А вам не удавалось почерпнуть в его взглядах хоть капельку оптимизма? — Наоборот. Его уверенность в будущем еще неумолимее подчеркивала мою собственную душевную неустойчивость. Мои вкусы, мысли, планы непрерывно менялись, вытесняя друг друга. Я собирался быть то хирургом, то парикмахером, то путешественником, то машинистом, то плантатором, то преподавателем химии… Но все эти стремления по очереди гибли, подорванные сомнениями и неверием в свои силы. Стать хирургом или парикмахером — но для этого нужна незаурядная ловкость. Машинистом… а вдруг случится крушение? На худой конец преподавателем химии — мне как-то удалось поставить два-три опыта… Ну а вдруг ученики меня освистают, как беднягу Фийу, которого мы прозвали Вонючкой? Стать плантатором, землепроходцем, а значит, оказаться одному в незнакомой стране — это мне-то, который и на родине чувствует себя чужим, неприкаянным, изгоем? Нет, никогда мне не найти своего места в мире взрослых, в социальной схватке, к которой на моих глазах безмятежно готовился Реми. — Все это очень интересно. Ваши страхи, негодование, ложь по крайней мере в одном совпадают с ощущениями Кафки — и то и другое крайности. Я уже давно подозреваю, что наша система оценок, отметок, экзаменов пагубно действует на чувствительные и наивные, неокрепшие умы. Не будь этой системы, и Кафка, и вы легко излечились бы от нравственных мук, которые отравляли ваше детство. Ребенка с натурой менее прямой они вообще могли завести бог знает куда. — Вы правы. Абсолютно правы. Тому свидетельство история с электрической железной дорогой. И с аттестатом. — Что за история? Расскажите. — Стоит ли? Не довольно ли разговоров о моем детстве? Не подумайте, что я уклоняюсь, но какое, черт возьми, это имеет отношение к здоровью моей жены? Я не вижу никакой связи. — Ни вы, ни я не можем судить об этом, дорогой мсье. Любое воспоминание, которое вас тяготит, может нам что-то прояснить. — Мне, однако, хотелось бы предстать наконец перед вами в более выгодном свете… — Ну-ну, не надо кокетничать, расскажите все как есть. — Хорошо. Теперь я сам над этим смеюсь, и вы тоже будете смеяться, потому что, как видите, я не так уж плохо кончил. В противном случае первый же мой промах мог бы послужить доказательством моих дурных наклонностей! Какое предосудительное прошлое! Как подумаешь — просто дрожь берег! Ну так вот. Мне было лет десять-одиннадцать, близилось Рождество, мой рыщущий взгляд обнаружил на шкафу краешек большой красной коробки, при виде которой сердце мое учащенно забилось: а что, если это предназначенный мне подарок? Я подставил скамеечку, проверил — о чудо, электрическая железная дорога! Целую неделю я был счастлив. И вот наступает последний день занятий. А в моем дневнике — „постыдные“ отметки. Ясно, что я их должен стереть… — Ради электрической железной дороги? — Я считал, что да, но, конечно, я все равно стер бы их. Страх, что меня лишат подарка, был вызван чистейшей мнительностью — по совету директора лицея меня никогда не наказывали. — Разумный человек. Продолжайте. Итак, вы решили стереть… — Но в Люксембургском саду я вдруг вижу свою мать, она сидит в кресле с приятельницей. Делать нечего — мы возвращаемся домой вместе. Я бегу прямехонько в уборную и прячу дневник за канализационную трубу, а потом заявляю, что забыл дневник в лицее. „Сходи за ним“. — „Завтра“. — „Нет, сейчас“. Четверть часа спустя возвращаюсь. „Классная комната заперта“. Но мать говорит: „Попроси консьержку открыть тебе дверь“. Что делать? Как быть? Старуха, владелица писчебумажной лавки на углу нашей улицы, моя старая знакомая, одалживает мне листок бумаги и конверт („Хочу разыграть приятеля“). Возвращаюсь с письмом от консьержки: директор увез ключи с собой. — Ну, знаете, дорогой мой! — А я о чем толкую! Мать просит: „А ну-ка напиши слово „сегодня““. Старательным почерком вывожу „Сиводня“ через „и“ и „в“. „Те же самые ошибки, — говорит мать. — Ты уличен. Пойдем вместе в школу“. И мы идем в школу. Может, за это время она, на счастье, сгорела? Приближаемся к школе, ноги у меня подкашиваются, в глазах темно, еще немного, и я потеряю сознание. Мать увидела, как я побледнел, ей стало меня жалко. „Пойдем домой“. Но ей пришлось поддерживать меня, вести под руку по ступенькам. Конечно, я во всем сознался. Но вы сами видите, до каких крайностей… — Меня удивляет одно. В Америке, один раз поймав вас на лжи, вас немедля повели бы к психоаналитику и травмировали бы, может быть, на долгие годы. Но почему никто не подумал о том, что вас еще в семилетнем возрасте следовало показать психоневрологу? — В ту пору это не было принято. По-моему, в двадцатые годы такая мысль просто никому не могла прийти в голову. Даже когда я перехватил табель за триместр, посланный моим родителям по почте, окунул его в хлорный раствор и, подделав подписи учителей, разными чернилами проставил в нем одни только хорошие отметки по всем предметам. Я проделал это так тщательно, что вначале вообще никто ничего не заподозрил. — Час от часу не легче! — И, однако, я, как всегда, понимал, что правда в конце концов обнаружится. — И кто ее обнаружил? — Мать. При первом же визите к директору лицея. Это случилось в моем присутствии. — И что же вы сделали? — Другой ребенок на моем месте и от меньшего пустяка попытался бы утопиться. Я же только бродил по улицам несколько часов подряд. Потом вернулся домой. Мать плакала, но не сказала мне ни слова. — По совету директора, конечно? — Конечно. Но директор высказал предположение, что я, мальчик от природы хороший, попал под влияние какой-нибудь „паршивой овцы“. Пусть, мол, мать последит за моим поведением и моими знакомыми — она окажет услугу всем. Бедняжка мама! Вообразите, каково было этой стыдливейшей в мире женщине пытаться выведать у сына, нет ли у него „дурных товарищей“. Я в своей невинности считал плохим товарищем того, кто ябедничает или не подсказывает на уроках. Конечно, у меня такие были. „Фреди, не дружи с ними больше! Поклянись, что не будешь с ними дружить!“ Представляете себе мое удивление! „Если ты будешь с ними дружить, ты весь пожелтеешь, уши у тебя оттопырятся, и все будут про это знать, и дядя запретит тебе играть с Реми!“ Я был слишком потрясен, чтобы возражать или задавать вопросы. Я пожелтею и уши оттопырятся только из-за того, что такой-то и такой-то — гадкий мальчишка? Еще одна загадка. Мне понадобились годы, чтобы наконец постичь непостижимое. — Это делает честь вам и вашим товарищам. Да и Реми, наверное, тоже? — О, в этом отношении он был натура совершенно здоровая. — Только в этом отношении? — Нет-нет, во всех отношениях. Я это прекрасно понимал. Он был образцом, который и подстегивал меня, и приводил в отчаяние, потому что постоянно напоминал о моем собственном ничтожестве. Так, однажды… Но вы знаете, который теперь час? Вот уже больше часа вы заставляете меня молоть языком! Не хватит ли на сегодня?» На первый раз было, пожалуй, даже слишком много. Тут нельзя перегибать палку: тише едешь — дальше будешь. Он подошел к окну полюбоваться Парижем, с моего этажа город виден от Монпарнаса до Монмартра. Мы еще потолковали о том о сем и договорились встретиться на будущей неделе. На прощанье он улыбнулся мне доверчивой улыбкой, обаяние которой для него отнюдь не секрет.V
Прослушала всю запись первого сеанса от начала до конца. Поражает искренность его слов и интонации, какая-то, я бы даже сказала, чрезмерная: у него не было никаких причин для такой внезапной откровенности. Может, это оборотная сторона его детской невропатии, реакция, вывернутая наизнанку? Почти маниакальная потребность говорить правду в противовес былой маниакальной потребности лгать? Надо проверить. Теперь о том, что нас волнует, — о здоровье его жены, — не сохранились ли у него остаточные явления его детской болезни, стремления любой ценой внушить окружающим, что он тот, кем ему хочется быть и кем он быть уже перестал, — то есть лучший ученик в классе? И ради этого в случае нужды он не остановится перед тем, чтобы подделать чужой почерк. Тоже проверить.* * *
Так-так. Что означает это переодевание? В прошлый раз на нем был синий шерстяной костюм, строгий и подчеркнуто деловой. Сегодня — вельветовые брюки и куртка сероваго-бежевого цвета, что придает ему более непринужденный, домашний вид. С какой целью он выбрал этот костюм? Может, просто так, без всякого умысла? Что-то не верится. Поздоровавшись со мной, подошел прямо к окну: «Невозможно налюбоваться этим видом. Не правда ли?» Я подтвердила, подошла к окну, мы стали смотреть вместе. Он подчеркнуто обращается со мной не как с врачом, а как с другом. Далеко не всегда хороший признак. Некоторое время следует подыгрывать, но при этом быть начеку. Предоставила ему изливать свои восторги по поводу Парижа. Наконец он сел, я спросила: «Начнем?» Движением руки ответил: «Пожалуйста». Закинул ногу на ногу. «— Поговорим еще немного о вашем двоюродном брате Реми. — A-а! Извольте! — Я вижу, вы в восторге. — Нет. Но если это на пользу… — Итак, подытожим: этакий невозмутимый увалень, главное — „никаких неприятностей“, приспособленный к жизни, неглупый, усидчивый, здравомыслящий — словом, примерный мальчик. Иначе говоря — зануда, верно? — Как когда. Я вам уже говорил, во время игр мы отлично ладили друг с другом. Отлично. Два сорванца. Проказливые, изобретательные. Но вдруг — стоп, пора делать уроки, и вот он уже засел за учебники и тетради, молчит — точно воды в рот набрал, сосредоточенный, прилежный, не голова, а шахматная доска, каждая фигура на своем квадрате… — Такое раннее честолюбие? — Я бы не сказал. Честолюбцам свойственна кипучая энергия, даже напористость. У Реми и в помине этого не было. Ему все было обещано заранее — оставалось просто ждать. — Ждать, пока преподнесут на блюде? — Не совсем. Скорее по принципу автомата: ты стараешься, учишься, сдаешь экзамены, потом нажимаешь кнопку — дзинь — и получаешь должность, которая тебе причитается. У меня же все было наоборот: дзинь — в автомате пусто, должностей не осталось, разобрали другие. Помню, однажды в Лугано… хм, забавно, почему вдруг это всплыло в памяти?.. Надо вам сказать, что семья Легран — весьма скромного происхождения. Мой отец родился в Сент-Антуанском предместье. Женившись на моей матери — а она, как вам известно, урожденная Провен, — он поднялся ступенькой выше по общественной лестнице. Он долго служил скромным счетоводом у старого торговца лаками, который привязался к нему и оставил в наследство свою лавку. Отец немедля ее продал и, пустив деньги в оборот, нажил капитал на сделках с недвижимостью. Я рассказываю вам эти подробности, чтобы вы поняли: среда, в которой я вырос, — состоятельные, но средней руки буржуа. Сам я родился на улице Мезьер. Пятикомнатная квартираокнами во двор, с допотопным лифтом (помните — на тросах?), с черным ходом — словом, вы понимаете, о чем я говорю. Напротив нас жила вдова прославленного генерала. Мать часто встречала ее на рынке — генеральша сама ходила за покупками. („Как просто она держится!“) Дамы раскланивались, осведомлялись о здоровье друг друга. Отец очень дорожил этим знакомством, я же был им просто ослеплен (шутка сказать — мировая война!), но этим отношения наших семей исчерпывались. Да иначе и быть не могло: в моих глазах между берегом безымянных мелких песчинок — рядовых людей — и гордыми мраморными утесами славы лежала такая пропасть, что через нее просто невозможно было перекинуть мост. Не знаю, внятно ли я выражаюсь. — По-видимому, в вас уже пробудилось классовое чувство? — Несомненно, но тут дело не в нем. Мать встречала генеральшу на Сен-Жерменском рынке, раскланивалась и разговаривала с ней. Она встречала там и жену сапожника, раскланивалась с ней, однако не разговаривала; я замечал разницу. И все же у меня было ощущение, что слава знаменитого генерала или президента Пуанкаре, которым восхищался отец, какого-нибудь модного художника, даже артиста воздвигала между ними и семьей Легран преграду куда более непреодолимую, чем та, которая отделяла Легранов от сапожника. Понимаете? Суть была не столько в классовой принадлежности, сколько в породе. Мне казалось, что человеку от рождения суждена слава или безвестность, все равно как одному суждено родиться леопардом, а другому жабой. Глазам ребенка мир рисуется таким, каким он его видит: неизменным и незыблемым. Я не представлял себе, как из серой массы заурядных людей можно перейти в блистательное меньшинство знаменитостей. Леопард ведь не меняет своей пятнистой окраски. Наверное, именно поэтому я так болезненно воспринимал шутки моих школьных товарищей, которые, переводя мою фамилию на немецкий язык, называли меня Friedrich der Große Фридрихом Великим, как короля прусского, словно для того, чтобы лишний раз подчеркнуть мое ничтожество. — Неуместная шутка родителей? — То, что они называли меня Фредериком? — Помню, на бульваре Инвалидов был булочник по фамилии Мань. Должно быть, шутники родители нарекли его Шарлем, потому что на вывеске он не решился обозначить свое полное имя, а написал только первую букву — Ш[53]. — Я его понимаю. Такое имя — нелегкий груз. — Но теперь-то вы не должны это чувствовать. Вы создали себе свое собственное имя. — Как вам сказать… пожалуй, мои чувства мало изменились. По отношению к славе, я имею в виду. До сих пор — не правда ли, странно? — я не могу, например, смотреть на групповой снимок, где Марсель Пруст, совсем еще юный, стоит на коленях, держа в руке ракетку, точно мандолину, у ног девушки, сидящей на стуле, не могу смотреть на этот снимок без удивления; я никак не освоюсь с мыслью, что человек, вознесенный, подобно Прусту, на вершину славы, вел когда-то самую банальную, нелепую светскую жизнь и при этом окружающие не глядели на него словно зачарованные, как глядят на гениального писателя, каким он стал двадцать лет спустя… Это чувство во мне настолько сильно, что даже теперь, когда я вам описываю эту довольно смешную фотографию, мне кажется, будто от нее исходит какой-то аромат тайны, скрытого смысла, особой интеллектуальности… Любые фотографии или документы, касающиеся молодости или частной жизни великих людей, неизменно производят на меня такое впечатление. Быть может, мои фотографии так же действуют на других… Но это дела не меняет… Так вот, мне вспоминается, как однажды во время каникул в Лугано мы с Реми ехали в маленьком трамвае — этот голубой кукольный трамвай курсировал вдоль озера как фуникулер, сейчас его заменили троллейбусом, — с нами была бабушка Реми по матери, в окно мы вдруг увидели цыганку… „Расскажи своему кузену“, — обратились бабушка к Реми. Перед этим Реми провел две недели у нее в Жерармере. И он рассказал мне, что какая-то цыганка гадала ему там на картах. А потом полушутя-полусерьезно добавил, что она напророчила ему, будто он станет президентом Республики. Сначала, видя его улыбку, я решил, что он посмеивается над столь грубой лестью. Так на его месте поступил бы я. Но вскоре я понял: нет, если он и не поверил в предсказание, он вовсе не считает его таким уж несбыточным. Бабушка тоже улыбалась — с гордостью. Значит, оба они всерьез допускали возможность подобного триумфального будущего! Но ведь Реми, такой рассудительный, такой уравновешенный, не способен предаваться беспочвенным фантазиям. Раз он готов поверить в столь многообещающее пророчество, значит, он так или иначе чувствует свое таинственное предназначение! В то время как я не уверен, что способен обеспечить себе более или менее пристойное существование в серой массе ничем не примечательных людей, он, товарищ моих детских игр, сознает, что призван быть членом священного и немногочисленного братства великих людей! Контраст наших судеб поверг меня в еще большую тоску и уныние. Не знаю, понятно ли вам то, что я пытаюсь объяснить. — В общем — да. Что же было дальше? — Да, собственно, тем дело и кончилось. С гадалкой. Этот анекдот, пожалуй, просто показывает, как мои опасения и страхи перед будущим увлекали меня все глубже в водоворот горьких сомнений. И, однако, это были цветочки. Да. Хоть я и был готов к самому худшему, хотя мои школьные неудачи и прегрешения подготовили меня к этому худшему и я считал, что уже изведал тягчайшие невзгоды, налагаемые бременем жизни, но когда вдобавок в один прекрасный день я обнаружил у себя (усмехается) чудовищные склонности, переполнившие меня стыдом и отвращением, вот тут я решил, что поистине проклят. — Я догадываюсь, о чем вы говорите. Сколько вам тогда было лет? — Лет двенадцать-тринадцать. Но в некоторых отношениях я был невинен, как младенец. Однажды я, уже здоровый верзила, вогнал в краску свою мать в присутствии одной приятельницы, с которой мы вместе пошли в Лувр. Глядя на пухлого мраморного отрока, наделенного весьма двусмысленной красотой, мать сказала: „Не правда ли, вылитая женщина?“ „А может, это и есть женщина?“ — возразил я, как мне тогда показалось, весьма кстати. Я, видите ли, еще не вполне разобрался в некоем небольшом отличии, которое, впрочем, изображалось весьма ненавязчиво, а порой и вовсе отсутствовало, я рассматривал это как художественную вольность и, кстати, вполне ее одобрял. Но вы представляете, как хохотала наша приятельница! — Да, сказать по правде, вы не отличались скороспелым развитием. — Отнюдь — и даже в большей мере, чем вы предполагаете. Представьте, однажды… ха-ха… однажды я расклеивал плакатики — в тринадцать лет я, видите ли, был ярым противником пьянства, сам нарисовал пропагандистский плакат и размножил его не то в пятнадцати, не то в двадцати экземплярах на своем детском гектографе. На плакате был изображен человек, которого засасывают зыбучие пески. Надписи я уже не помню, это не важно; и вот я подумал: „Где бы их расклеить, чтобы было получше видно?“ И не нашел более удобного места, чем уличные уборные: уж там-то, сами понимаете, есть досуг рассмотреть висящий на стене рисунок… В ту пору уличные уборные были на каждом шагу (теперь их почти отовсюду убрали): на одной только улице Гинмер и напротив лицея Монтеня их было четыре, напротив Горного института на бульваре Сен-Мишель три, на улице Медичи две… И вот как-то утром, в четверг, я вышел из дому с ранцем, набитым плакатами. Но поскольку я не был уверен, что это разрешено, я то и дело озирался, чтобы меня не застали, так сказать, на месте преступления. На улицах Гинмер и Огюста Конта все обошлось без приключений, но едва я юркнул в павильончик, который стоит, вернее, стоял на углу бульвара Сен-Мишель, как за мной следом вошел какой-то мужчина. Я решил: подожду, пока он выйдет, но, к моему испугу и изумлению, он откидывается назад и смотрит на меня… Осечка. Я проворно выскакиваю из уборной и быстро, незаметно — в соседнюю, метрах в двухстах от первой. Только вошел — мужчина тут как тут! Откидывается назад и глядит на меня. Уже пожилой, с седыми усами. Полагаю, вы догадываетесь, какие мысли и надежды пробудил в нем юный любитель уборных. Но я перепугался насмерть — сомнений нет, это сыщик, он следит за мной, он потребует, чтобы я открыл свой ранец, увидит нелегальные плакаты и меня арестует. Я опрометью на улицу, он за мной — к счастью, чуть-чуть отставая. Воспользовавшись уличной толчеей, я пересек бульвар и спрятался в какой-то подворотне. Уф! он меня не заметил, теперь я могу следить за ним через дверную щель. Он еще по крайней мере минут десять искал меня и прохаживался взад и вперед, так что я уже начал опасаться, что мне никогда отсюда не выйти. Наконец он потерял надежду и ушел; тогда я отправился следом за ним, чтобы издали убедиться, не пошел ли он в полицейский участок. Но что я вижу? Вместо того чтобы отправиться в полицию, он идет в Люксембургский сад, а потом за ограду, где устроили отхожее место мальчишки. Еще долгое время я не понимал, что это за странные сыщики, наблюдающие за уборными. — Ваше счастье, что вы нарвались на робкого. — Может быть, да… а может быть, дело в другом… За всю мою жизнь мужчины подъезжали ко мне дважды, оба раза когда мне еще не было двадцати. Надо полагать, я не отвечаю их вкусам… — Все тринадцатилетние подростки отвечают их вкусам… — …зато они, безусловно, не отвечают моим, а это, вероятно, чувствуется. Но чтобы покончить с наклонностями, о которых я упоминал, скажу, что у меня-то они были самые нормальные. Просто я был слишком глуп, чтобы понять, что со мной происходит. Но я зря докучаю вам этими россказнями, вы их знаете наизусть. К тому же эти новые волнения и страхи, хотя они долго терзали меня, не оставили во мне никакого следа. — Вот об этом, друг мой, вы судить не можете. С чего они начались? — Мои волнения? С почтовых открыток. Вот видите. — Вы правы. Самая банальная история. — Впрочем, погодите — не спешите с выводами. Не помню уже, с какого именно времени я заметил, что мне доставляет удовольствие рассматривать в витринах открытки с репродукциями картин из ежегодных Салонов. В наше время на почтовых открытках печатают произведения Пикассо, Брака и Ван Гога. А в те годы воспроизводили преимущественно самых красивых „ню“ официальных Салонов. Это были мясистые, тщательно выписанные красавицы с бархатистой кожей в соблазнительных и странных позах. Теперь нагота такого рода, непристойность во вкусе буржуа, перекочевала в рекламу: стены домов сплошь покрыты животами и ляжками, дети вырастают среди выставляющей себя напоказ плоти. Не представляю, что теперь остается подростку на долю воображения. В мое время все было иначе, я до сих пор помню свое впечатление от одной такой картинки — голая танцовщица, сидя на табурете, наклонилась и завязывает балетную туфельку, а бедро слегка придавливает ей грудь. Я думал: „Наверное, ей немножко больно“, и эта мысль причиняла мне какое-то сладкое волнение. Само собой, этим волнением, этим невинным садистическим удовольствием я не посмел поделиться ни с кем, даже со своими товарищами по классу, для которых всякая „голая баба“ была просто предметом насмешек. К тому же я заметил, что не только случайно испытал это не совсем позволительное волнение, по и не прочь намеренно вызвать его сам. И вот однажды я глядел на открытку, где была в красках изображена обнаженная красавица, раскинувшаяся на диване и бесстыдно выставившая напоказ свой прелестней розовый живот, и чувствовалось, какой он теплый, мягкий, упругий, — и вдруг меня охватило непостижимое ощущение: как, должно быть, приятно медленно погрузить в эту теплую упругость, в эту восхитительную шелковистость… что-нибудь — но что? — какое-нибудь острие, клинок, кинжал? Понимаете сами, в тринадцать лет я не читал Фрейда. А потаскушка природа — скрытница, она вовремя не предупредила меня, как, впрочем, не предупредила она, хотя и в обратном смысле, старика Гюго, который оставался фатом и в восемьдесят лет. Никто меня ни о чем не предупредил. Представляете, как я был напуган и потрясен, обнаружив в себе подобные склонности, наивный символизм которых от меня ускользал. Напуган, потрясен, и тем не менее каждый день я вновь и вновь рассматривал открытку, потому что при виде этой розовой плоти, обнаженного живота, при чудовищной мысли о погружающемся в нее клинке моя собственная плоть проникалась неуловимым, странным, ласкающим и упоительным чувством удовлетворения, которым я не мог насытиться. Наконец однажды, когда я, в который раз, зачарованным взглядом созерцал нагое тело, смутное наслаждение вдруг сделалось буйным, огромным, ошеломляющим — незнакомым и при этом настолько мощным и ослепительным, что мне показалось: я тут же, не сходя с места, рухну на землю и умру. Меня охватил такой страх, что я целую неделю не приближался ни к одной открытке. Вам смешно, но я говорю правду — я решил, что заболел… И вот однажды ночью, когда я уже засыпал, перед моим мысленным взором снова возникло сладкое и волнующее зрелище терзаемой наготы, и я вдруг почувствовал, как во мне снова рождается, меня охватывает, во мне разрешается огромное, неслыханное, фантастическое наслаждение, — но только я заметил, что сам способствовал ему. Мое изумление едва ли не пересилило восторг. А вдруг я по чистой случайности сделал выдающееся биологическое открытие? Вдруг я открыл невероятное свойство жалкого органа, в обыденной жизни предназначенного для выполнения самых низменных отправлений? Кто бы мог догадаться… Несколько недель подряд я совершенно искренне, с подлинно альтруистическим великодушием вопрошал себя: имею ли я право хранить в тайне открытие, чреватое столь неожиданными и восхитительными чувственными восторгами, и не должен ли я, как это ни мучительно для моей стыдливости, объявить о нем во всеуслышание, дабы им могло воспользоваться все человечество? Но интуиция подсказала мне, что лучше все-таки помалкивать; не исключено, что другие тоже предаются этому занятию, однако остерегаются о нем говорить. Этот период мук и радости тянулся довольно долго, и моя душа раздиралась между наслаждением и страхом перед образами, которые его вызывали. Но со временем страх стал притупляться: постоянство моих видений успокаивало меня — должно быть, это не так уж ненормально и опасно. К тому же я подозревал — сам не знаю почему, — что, несмотря на воображаемый мною нож, во всем этом действе нет ничего кровавого. Мне даже стало казаться, что прелестная жертва не окажет сопротивления и даже, сам не знаю как, тоже испытает какое-то удовольствие. Вот до чего я додумался, когда в один прекрасный день Реми, которому было почти пятнадцать лет и который, очевидно, не подозревал, какой я простофиля, проходя вместе со мной по бульвару, остановился у одной из витрин, без всякого смущения загляделся на громадную соблазнительную „ню“, насмешливо присвистнул и сказал: „Хороша, а? Какие груди, какой живот… — И вдруг добавил: — И чего только не лезет в голову…“ Я уставился на него со смешанным чувством ужаса и облегчения: как? значит, и он тоже? Выходит, я не просто гнусное исключение? Может быть, вообще так и должно быть: при виде бесстыдно обнаженного живота „чего только не лезет в голову“? Я не без трепета стал его расспрашивать, вначале он, само собой, ничего не понял, недоразумение длилось довольно долго. Но зато потом, сами понимаете, он чуть не задохся от смеха. Однако вместо того, чтобы меня просветить, он всласть надо мной потешился: „Ей-богу, да ты просто опасный преступник! Ножом! Нет, вы только подумайте! Я все расскажу твоей матери“. Угроза Реми ужаснула меня: во-первых, я снова почувствовал себя единственным в своем роде выродком, во-вторых, если Реми ее осуществит, моя мать отшатнется от меня с отвращением. Я защищался как мог: „Какой же я преступник! Во-первых, надо сначала увидеть голую женщину не на картине, а в жизни. А где я ее увижу? Я ведь не художник“. Представляете себе, как веселился Реми. „Ну а когда ты женишься и твоя жена, голая, ляжет в твою постель?“ Судите сами, насколько я был невинен: эти слова меня как громом поразили. Я уже говорил вам, у нас в семье нравы были пуританские. Меня воспитали в преувеличенной стыдливости, немыслимой в наши дни, когда каждый обнажается где угодно, когда угодно, и под любым предлогом, даже на сцене… Моя мать, например, никогда не входила в ванную комнату, когда я купался! Поэтому невероятное открытие, что женщина, моя жена, должна иметь чудовищное бесстыдство обнажаться в чьем-то присутствии, пусть даже в моем, не только потрясло, но едва ли не возмутило меня. Реми сообщил мне об этом таким будничным гоном, что не было никаких сомнений: это бесстыдство всеми принято и одобрено. Но тогда — тогда… значит, и моя мать при моем отце!.. Она тоже обнажается… Но зачем? Что она делает? Что делают они оба? — Все дети проходят через это открытие. — Безусловно. Но потрясение не у всех одинаковое. На меня словно налетел ураган. И в одно мгновение опустошил мою душу. — Вы не преувеличиваете? — Нет. Вы даже и представить себе не можете, какой переворот… — А вы только что утверждали, что он не оставил следа. — Он не оставил следа в том человеке, который сейчас перед вами, в том сорокалетием Легране, с которым вы сейчас разговариваете. Но в ту пору мне было четырнадцать лет, даже меньше, тринадцать с небольшим. Мир взрослых и без того таил для меня угрозу, а теперь он приобрел еще новую окраску, мрачную и гнусную: это был мир бесстыдства и порока. Наверное, у меня было презабавное выражение лица — Реми хохотал до слез. И это было самое худшее. Его зубоскальство невольно разоблачало цинизм, ханжество и разнузданность взрослых, с новой силой убеждая меня, что я не способен их понять, ужиться с ними, найти свое место в их обществе, — так много в нем зловещих тайн, так оно равнодушно к одинокому ребенку и так высокомерно насмехается над ним».VI
«— Скажите, вас не смущает некоторое… противоречие?..» Я задала вопрос очень осторожно. Тут наверняка кроется болевая точка, может быть, не до конца затянувшаяся рана. Он нахмурился. «— Какое противоречие? — Вот вы сказали, что стыдились собственных склонностей, в которых было все-таки что-то извращенное, кровожадное… Но ведь это должно было внушить вам известную снисходительность к окружающим — не так ли? — Что вы! Совсем наоборот! Я сразу же нашел объяснение своим склонностям. В священном ужасе я понял: я не выродок, я просто-напросто вместилище мерзостей, которые, как это ни чудовищно, присущи всему роду человеческому, только взрослые скрывают их от детей. Само собой, я еще больше ужаснулся. И спасение от этого ужаса мог найти лишь в одном в возмущении, в гневе, в бунте. А так как эти чувства меня никогда не покидали, понятно, они стали крепнуть и расцветать. И питаться всем, что попадалось под руку. — Понимаю. Вы стали наблюдать за окружающими, никого не щадя. Критикуя и осуждая. — Именно. Типичная картина в этом возрасте? — Не только типичная — неизбежная. Но, как правило, это быстро проходит. — А у меня так и не прошло. — Вот как! По сей день? — По сей день. Только сфера наблюдения — критического наблюдения — стала шире. В ту пору она ограничивалась моим ближайшим окружением — отец, дед, дядя, кое-кто из близких друзей. И это-то и было всего больнее. Обнаружить, какая посредственность, а подчас и низость кроется под их величавой внешностью. — Понимаю. Вы их развенчали. И, как всегда, с преувеличенным пылом. — Не уверен. — А я уверена. Обычно крушение иллюзий распространяется на всех вокруг. К тому же нет пророка в своем отечестве. — Разумеется. Но ведь иной раз презрение бывает заслуженным. Король и впрямь оказывается голым, и смотреть на него довольно противно. — А король действительно оказался голым?» Он беззвучно рассмеялся, проведя указательным пальцем над верхней губой. «— Нет, конечно, я несколько преувеличиваю, но все же… Возьмите, к примеру, моего дядю Поля, отца Реми. Капитана дальнего плавания. Мы видели его не чаще двух раз в год. В остальное время он бороздил океаны. Иначе говоря — легендарная личность. Вести от него доходили из дальних стран, расстояние окружало их ореолом сказочности и таинственности: Суматра, Перу, Огненная Земля… Представляете, с каким нетерпением мы, мальчишки, ждали каждый раз его возвращения. И он в самом деле рассказывал нам поразительные истории о бурях, пиратах, дикарях, крокодилах и землетрясениях, так что у нас дух захватывало. Он утверждал, будто впадинка на кончике его длинного носа — шрам от сабельного удара, полученного во время абордажа, а на самом деле это был след плохо залеченного карбункула. Я свято верил во все его бесчисленные приключения. Во всяком случае, пока в них верил сам Реми. Но в один прекрасный день Реми потихоньку признался мне, что все это вранье, его отец мирно перевозит на корабле бананы и зерно, а необычайные истории сочиняются, чтобы пустить нам пыль в глаза. Я не только не засмеялся — я был потрясен. А потом сурово осудил бахвала, который способен злоупотребить доверием детей, а то, что мне пришлось узнать о дяде позднее, только укрепило меня в моем гневном презрении. Дело в том, что с этой минуты, после первого разочарования, я навострил уши и узнал о нем бог знает что! Однажды, например, когда я делал вид, будто поглощен своим конструктором и ничего не замечаю вокруг, я подслушал, как в соседней комнате мать, смеясь, рассказывала приятельницам о своем брате, храбром моряке, старом морском волке, ныне генеральном директоре Компании морской колониальной торговли, о благомыслящем дяде Поле, об этой твердыне добродетели, рассказывала вполголоса — я это слышал своими ушами — о его „женщинах“, и приятельницы смеялись вместе с ней. Быть может, я расслышал не все, но упущенное было нетрудно восстановить. Я так и не уловил, трех или четырех женщин содержал дядя Поль еще до того, как овдовел. Но одна, безусловно, жила в Рио, другая в Бордо, третья в Касабланке и, кажется, еще одна в Гонконге, но, может быть, она его бросила, потому что дамы от души веселились, упоминая о Гонконге. Мать рассказывала, что он всех их называл одним ласкательным именем „Пупочка“ — и совершенно одинаково обставил их жилища, так что вся мебель: кровать, шкаф, комод, вешалка, — все стояло на одних и тех же местах, чтобы дяде Полю не приходилось менять привычки. — Мне рассказывали нечто подобное об одном известном немецком драматурге. — Может быть. Но мне это показалось чудовищным. И особенно то, что моя мать смеялась над этой позорной полигамией, вместо того чтобы ее скрыть, а уж если тайна вышла наружу, по крайней мере безжалостно ее осудить. Но не тут-то было: когда после очередного плавания дядя бросил якорь на улице Мезьер, мать приняла его как ни в чем не бывало. Я стыдился того, что она ему потворствует, и жаждал устроить скандал… — …но не устроили. — Конечно, нет. В четырнадцать лет мы еще слишком робки и трусливы, я лелеял свое негодование в тайниках души, но внешне не осмеливался проявить даже холодность, смеялся шуткам дяди Поля, возмущался собственной трусостью, и негодование бурлило в моей душе, как в котле. — Ну и когда же наконец оно перелилось через край?» Он взглянул на меня с усмешкой, но в то же время с досадой. «— Видите — я вас предупреждал. — О чем? — Что вам будет скучно. И вам уже надоело, правда ведь? — С чего вы взяли? — Да с того, что вы сию минуту дали мне понять, чтобы я закруглялся. — Ничего подобного. Еще раз повторяю, я просила вас рассказать мне историю вашей жизни вовсе не для развлечения, но при всем при том она меня очень забавляет. — Ах так, спасибо. Я вас забавляю! Вот как действуют на вас страдания ребенка! — Ну, знаете, друг мой, вы давно уже вышли из детского возраста! — Увы! — Какой вопль души! Значит, несмотря на то что оно было таким несчастливым, вы сожалеете об ушедшем детстве? — Я сожалею о своей детской чистоте. — Вот те раз! Хороша чистота! А ложь, а кинжал, а эротические видения? — И все-таки я утверждаю: я был чист. Есть пороки, которые представляют собой как бы оборотную сторону врожденной чистоты. Мои греховные наклонности, мои срывы не могли запятнать моего душевного — если бы речь шла не о ребенке, я сказал бы, нравственного, — целомудрия. Ангельскую чистоту я не ставлю ни в грош. Это унылая пошлость. Я ценю лишь чистоту святого Антония, и тем выше, чем сильнее искушения. Чистоту падшей женщины. Вийона. Антонена Арто. Маркиза де Сада. Жана Жене. — На этот счет я могла бы с вами поспорить, но мы обсудим это в другой раз. Вернемся к нашей теме. Итак, негодование бурлило в вашей душе, как в котле, но все же, если я вас правильно поняла, не в такой степени, чтобы перелиться через край. — Если бы оно перелилось через край в четырнадцать лет, я был бы чудом природы. — Вы правы. Когда же это произошло? — В восемнадцать. Мое негодование еще долго питалось всем тем, что я наблюдал вокруг себя. Хотите подробности или мне пора закругляться? Ведь это, пожалуй, неинтересно. — На первый взгляд, может, и так. А может быть, ключ кроется в каком-нибудь незначительном факте. — Ключ к чему? — Это не имеет значения, рассказывайте дальше. Итак, дядя Поль. С ним вы разделались. Кто на очереди? — Да… кто хотите. Отец, дед, многие другие — все, кого в моей книге… Да вот хотя бы моя кузина Элиза, дочь тети Мари, старшей сестры моей матери. Хотите, я расскажу вам историю моей кузины Элизы? — Раз она вам вспомнилась, почему бы нет. — „История“ не то слово… скорее, я опишу вам этот характер. Элизе было в ту пору лет тридцать, а может, немного меньше. Она была трогательно хороша. Тонкие черты с наивным выражением, затуманенные тихой грустью: Элиза была довольно одаренной музыкантшей, но начала глохнуть. Молодая, музыкальная и почти глухая — печаль усугубляла ее очарование. Я питал к ней нежность, влюбленную преданность, какую может питать к замужней женщине не созревший еще подросток, ничего не желающий, ничего не требующий. Чаще всего она меня не замечала, но иногда в благодарность за какую-нибудь мелкую услугу — за то, что я ее сфотографировал, например, — она мимолетно прижимала меня к груди, приговаривая ласковые слова, и воспоминания об этих минутах неделями переполняли меня сладкой истомой. Это не мешало мне питать восторженную привязанность к ее мужу Роберу, ветерану войны, лацкан которого был украшен веером орденских ленточек; это чувство казалось мне вполне естественным — ведь я так горячо любил его жену. И вот в один прекрасный день, уж не помню точно, при каких обстоятельствах, до меня дошли слухи (сидя с самым простодушным видом в своем уголке и делая уроки, я, как губка, впитывал всевозможные разговоры взрослых), — так вот, до меня дошли настойчивые слухи: Элиза обманывала мужа. И что было особенно гадко: обманывала с мужем своей собственной сестры Элен. Понятно теперь, почему у той всегда такое кислое выражение! Кстати, в этом я ошибся, потому что, само собой, ни она, ни Робер ни о чем не подозревали. Поговаривали даже, что оглохшая музыкантша Элиза, прелестная и трогательная, вела распутную жизнь, столь обильную любовными похождениями, что ее любовникам уже потеряли счет. За несколько лет до этого мы были с Реми в кино — это были последние годы немого кинематографа, — на экране появились тигры: „Она прячет любовника в чемодан“; потом какие-то слуги выносили чемодан, потом его увозили в фиакре, потом в поезде, уж не помню куда, я наклонился к Реми и шепнул: „А что такое любовник?“, и он ответил мне непререкаемым тоном: „Это тот, кто ссорит мужа с женой“. С тех пор мои познания в этой области не слишком обогатились, и все-таки я уже понимал, что иметь одного любовника и то весьма предосудительно, а уж о сотне и говорить не приходится! Так, значит, можно обладать прелестной внешностью, печальной и нежной красотой ангела Боттичелли и под этой маской прятать чудовищное двоедушие! Можно быть героем войны, увенчанным славой и наградами, и при этом быть дураком и ничего не замечать, а то еще, пожалуй, и трусом и делать вид, будто не замечаешь! А что со мной сталось, когда я узнал, что муж Элизы вдобавок извлекает из этого выгоду! Он даже разорил богатого любовника жены и ловко привел его к банкротству, сам при этом умножив свой капитал. А мои родители, возмущаясь беспутством жены и низостью мужа, принимали их с распростертыми объятьями, так же как они принимали дядю Поля! Вся эта ложь, ханжество, лицемерие проливали чудовищный свет на врожденную лживость людей, которые меня окружали, и в то же время обеляли мои жалкие, невинные хитрости — от них по крайней мере никому не было вреда, кроме меня самого. Но чем меньше я себя винил, тем больше ощущал себя жертвой. Теперь, когда меня уличали, я видел в этом чудовищную несправедливость: кара обрушивалась на несчастного мальчугана, который подделывал отметки, а наказывали его прожженные лжецы, которые были сильнее его. Я продолжал подделывать отметки, остановиться я уже не мог, но, поскольку весь мир представлял собой сплошную фальсификацию, я подделывал отметки уже не с раскаянием, а с остервенением. Вот вам пример — однажды я произвел обратную манипуляцию: восьмерку, полученную за латинский перевод, я исправил на двойку. Чтобы посмотреть, что будет. И в самом деле, со злорадным удовольствием я увидел, как мой отец растерянным взглядом уставился на подделанную двойку. Что он подумал? Не знаю. Он захлопнул дневник и молча вышел из комнаты, а я окончательно потерял к нему уважение».VII
Нельзя сказать, что я была совсем не подготовлена к такому заявлению. Но все-таки мне показалось, что оно было сделано несколько ex abrupto [54]. «— Почему же окончательно? — Я же вам объяснил: потому что я не мог ему простить. — Что именно? Двоедушие? То, что он рассыпался в любезностях перед теми, кого поносил за глаза? И это все? — Конечно, и это тоже, но не только это. — Ах вот как. Что же еще? — Господи, да, наверное, все то, чем сын может попрекнуть отца. — И о чем вам неприятно говорить? — Вовсе нет. Вы ошибаетесь. Я лишен комплекса сыновней почтительности. Тут, скорее… дело в том, что… среди причин, которые восстановили меня против отца… мне трудно отделить сознательные от подсознательных… — Оставим в покое подсознательные, это не по моей части, надеюсь, и не по вашей. — То есть в каком смысле — не по моей? — Полагаю, что вы не строите свои романы на эдиповом комплексе и прочих заезженных мотивах, за которые еще держатся американцы? — Ни в коем случае! Нет! — Тогда давайте разберемся в побуждениях осознанных. Ну, во-первых, то, что он по-разному держался с людьми в глаза и за глаза… — …но в первую очередь, пожалуй, то, что он всегда выпячивал свои несуществующие добродетели и пуританские взгляды, которые были обманом. — Кстати, это вовсе не обязательно. Вы сами сказали, иногда чистота помыслов идет об руку с нечистыми поступками… — Это я так рассуждаю теперь, когда мне сорок, а тогда, повторяю, мне было всего четырнадцать. И я видел, что отец прощает беспутную жизнь моему дяде, хотя, если бы малую толику подобных беспутств совершил кто-нибудь другой, он метал бы громы и молнии. С Элизой было еще хуже. Мало того, что, за глаза осуждая ее, он ей прощал на людях, вдобавок… Словом, в один прекрасный день, когда я проходил по темному коридору, где меня никто не ждал, мне почудилось, что отец отпрянул от моей кузины. Случись это несколькими неделями раньше, я не обратил бы на это никакого внимания: почему бы племяннице не поцеловать своего дядю? Но то, что я о ней узнал, пробудило во мне недоверие и подозрительность. Да и то, как она обнимала меня в благодарность за какую-нибудь услугу, стало казаться мне не таким уж невинным: слишком долго и нежно прижимала она меня к своей мягкой, упругой груди, обдавая ароматом своего дыхания. Я краснел, и в мыслях моих потом еще долго царило смятение. И вот я стал выслеживать отца. Шпионить за ним в его частной жизни и в делах… — …с надеждой обнаружить — что? Хорошее или дурное поведение? — Ах, вот вы как… (Смеется.) Не знаю. Теперь уже не знаю. Во всяком случае, насколько я помню, я и сам не могу сказать, чего я, собственно, хотел. Часто я без предупреждения являлся к нему в контору. Иногда его там не оказывалось, но я помалкивал — может, рассчитывал во время обеда поймать его с поличным? Раза два так и вышло, и я угрюмо наслаждался его враньем. Но мое торжество было смешано с отчаянием. — Ну а что вы чувствовали в тех случаях, когда он говорил правду? — Представляете, я их просто не запомнил… Неужели это означает, что я стремился застигнуть его врасплох? А ведь в тот день, когда я и в самом деле убедился в его бесчестном поведении, я был поистине сражен своим открытием, да и сделал его совершенно случайно. — Увидим. Расскажите, как это вышло. — Это случилось зимним вечером, незадолго до Нового года. На Рождество вдоль Больших бульваров вырастали, да, по-моему, вырастают и сейчас, ряды ярмарочных палаток. Накануне в одной такой палатке я купил за один франк маленький микроскоп, и старуха торговка показала мне под стеклом каплю воды, в которой кишели страшные микробы. Утром я вышел на Набережную Сены, чтобы зачерпнуть в реке воды — в ней я надеялся увидеть еще больше микробов. Но я не увидел ничего, никаких микробов. Странно. В смятении я вернулся к старухе торговке, и она снова показала мне под стеклом каплю своей воды. Она так и кишела всякой нечистью. И вдруг, посмотрев на эту воду без микроскопа, я увидел почти такое же кишение… Не знаю, что больше разъярило меня: моя собственная глупость или коварство старухи, которая, расточая улыбки, надувала наивного мальчишку. Как бы там ни было, я брел, весь клокоча от негодования, и вдруг увидел, что ко мне приближается хорошо знакомое бежевое пальто. Хотя отцу моему было под пятьдесят, он был очень моложав с виду и, верный моде кануна войны четырнадцатого года, больше двадцати лет носил короткие пальто одного и того же фасона и серый, сдвинутый набок котелок — уж не знаю, из снобизма или из приверженности к воспоминаниям молодости, впрочем, это не имеет значения. Он прошел мимо, не заметив меня, а я, сам толком не зная — почему, не остановил его, а двинулся за ним по бульвару Капуцинок, издали следя за его ладной фигурой. Продолжалось это недолго, мой отец вдруг исчез за дверью бара — вы, наверное, знаете, он существует и сейчас и называется, кажется, „Ниша“. Я сел на скамью, поджидая, пока он выйдет. Зачем? Не знаю сам. Мой отец — в этом районе, в этом баре, в этот час! Я что-то предчувствовал, подстерегал, а может, и впрямь хотел его разоблачить. Ждать пришлось долго, мне казалось — целую вечность. Наконец появился отец. За ним дама — вся в мехах. Я не разглядел ее лица. Но я еще не был уверен в своих подозрениях, настолько вежливо и светски холодно они держались друг с другом на улице. Но лишь до той минуты, пока на ближайшей остановке не сели в такси. Едва такси тронулось, я увидел через заднее стекло два склонившихся друг к другу профиля и слившиеся в поцелуе губы. — А ведь признайтесь, этот поцелуй вы и надеялись подстеречь? — Не знаю. Я рассказываю вам так, как мне это вспоминается. И поверьте, я сам удивлен, что все это так свежо в памяти, хотя на двадцать пять лет было предано забвению. Но если я действительно надеялся подстеречь этот поцелуй, почему я был так им потрясен? Почему мне врезалось в память, как у меня от негодования заколотилось сердце? И еще мне вспоминается поступок, внешне как будто не связанный с разоблачением отца, — растоптав несчастный микроскоп, я бросил его в канаву. Вечером за столом отец держался как ни в чем не бывало, а я сидел и повторял про себя: „Можно улыбаться, улыбаться и быть предателем“. Уверившись отныне в несчастье, постигшем мою мать, я стал питать к отцу то же злобное презрение, что и к дяде Полю, и со всей пылкостью бунтаря и юношеской нетерпимостью стал выискивать новые доказательства отцовских пороков, чтобы безвозвратно его осудить. Когда я бывал дома один — а это обычно случалось днем по четвергам, — я перерывал его письменный стол, его бумаги и письма. И набрел на совершенно неожиданную находку — свидетельство о браке. Его дата меня ошеломила: 6 декабря 1918 года… А я родился 4 апреля 1919-го — то есть меньше чем через четыре месяца! При некотором воображении я мог бы подсчитать, что в июле, когда моя мать забеременела, война была еще в разгаре. Меня могло бы тронуть, что невеста не устояла в последние часы во время последней побывки… Но я не стал делать никаких подсчетов и в дате своего рождения увидел одно: что и моя добродетельная мать тоже лицемерка, хотя она всячески афиширует свою добродетель, основательно подмоченную еще в ту пору, когда все верили в ее непорочность… И снова я упал с небес на землю: во что же мне верить, если я не могу положиться даже на мать? Но я слишком любил ее, чтобы отказаться от привязанности к ней, и, так как мне не удавалось примирить эти противоречивые чувства, я и в этом преступлении обвинил отца: это он совратил невинную девушку. Кто способен на супружескую измену, наверняка мог быть соблазнителем и вообще способен на все. И в самом деле, я ведь слышал, как он лжет по телефону своим знакомым, сочиняя несостоятельные извинения, будто его не было дома, прибегая с циничным коварство к лживым от начала до конца оправданиям. Бывало и так, что какой-нибудь приятель сообщит ему биржевые новости, а он в то же утро уверяет другого приятеля, что знать ни о чем не знал. Или хвалится перед гостями каким-нибудь своим блистательным поступком, не имеющим ничего общего с действительностью. Так вот что такое мой отец — двоедушие, уловки, хвастовство и тайные пороки! Так вот что такое респектабельный буржуа, „добропорядочный“, „преуспевающий“ господин! В довершение всего я узнал, что он занимается ростовщичеством. Часть своего капитала он пустил под залоговые ссуды, особенно прибыльные, когда должник в тяжелом положении и ему можно приставить нож к горлу. Однажды воскресным утром, когда я еще лежал в постели, в гостиной раздались какие-то крики. Подбежав к двери, я услышал, как какой-то человек в ярости кричит моему отцу: „Душегуб!“ Не помню, что ответил отец, но тот человек вдруг зарыдал. Громко зарыдал. Когда рыдает мужчина, это ужасно. Я бросился к себе в комнату, зарылся головой в подушку. Я упивался негодованием и горькой отрадой. Я угрюмо поздравлял себя с тем, что всегда чувствовал себя „чужим“. Да, да, к счастью, я чужой! Чуждый всей этой мерзости. К счастью, я игрок-неудачник! К счастью, на мою долю не осталось стула, потому что стулья все до одного смердят! В эту-то пору я и начал писать стихи. Мне было лет пятнадцать-шестнадцать, естественно, я зачитывался Рембо, сюрреалистами, Леоном Блуа и Бернаносом — все во мне отзывалось трепетом на звуки этих великих голосов, которые ниспровергали благомыслящих обывателей. Моей путеводной звездой стал прежде всего Рембо: ведь он тоже чужак, изгой, игрок-неудачник в прогнившем обществе, в лоне гнусной семьи. Я был в упоении от этого сходства. В упоении от пламенных стихов, которые я сочинял вечерами и которые населяли мои сны. Через год или два после экзамена на бакалавра мой бунт против нашей семьи, нашего круга и всего общества принял патетические формы. И я написал книгу поэм — „Плот „Медузы““, которую вы, наверное, знаете, потому что она пользуется успехом и по сей день. Попав в руки моего отца, она и стала причиной того, что меня выгнали из дому и я больше года жил впроголодь. Ну вот, по-моему, я рассказал вам все. — Да вы даже еще и не начали рассказывать».VIII
Сначала он вытаращил глаза: «Не начал?» Потом улыбнулся все той же улыбкой, от которой молодеет его лицо, и две продольные впадины на щеках превращаются в очаровательные ямочки. Он как бы посмеивался про себя и даже потер кончик носа, словно проказник мальчишка. Мы оба рассмеялись. Он встал. Я сказала: «Ладно. На сегодня хватит. О серьезных вещах поговорим на будущей неделе». Он мне: «Выходит, то, что я рассказывал до сих пор, было несерьезно?» Я ему: «Очень даже серьезно. Но до сути мы еще не добрались. И вы сами это знаете». Он дружески обхватил меня за плечи: «Занятный вы человечек!» И ушел. Явился в назначенный час. Я предложила ему сигары, он взял одну, понюхал, рассмотрел со всех сторон. Он не улыбался, но что-то в выражении губ, какая-то складочка говорила, что усмешка притаилась и вот-вот вспыхнет. Как и в прошлый раз, я с ходу пошла на приступ: «Расскажите мне про Реми». Он так и подскочил. «— Да это у вас просто мания какая-то. Дался вам этот Реми! Что вы еще хотите знать? — Как вы относились к нему в ту пору? В пору вашего отрочества. — Трудно сказать… С одной стороны, мы были в родстве, почти сверстники, вместе играли, вместе проказничали… Потом он, как старший, выводил меня „в свет“ — в театр, в кино, на выставки… словом, он мне импонировал. — А с другой? — Что — с другой? — Вы сказали: „С одной стороны…“ — Ах да, с другой — он всегда хорошо учился, был усидчив и прилежен, как трудолюбивый муравей, ладил с моими родителями, восхищался своим отцом, который втирал нам очки — и он это знал, — и вот это соглашательство, сделка с совестью, корыстная готовность принять небезвыгодные правила жизни, иными словами, конформизм, улыбчивая терпимость по отношению к гнусному, погрязшему в лицемерии миру, понимаете, все это вызывало во мне презрение и насмешку. Я и не скрывал этого от него. Я называл его „приспособленцем“, „домашним животным“. Но он выслушивал мои колкости с высоты своего старшинству как всегда, спокойно, с улыбкой, не отвечая. Временами я ненавидел его за это. Когда он блестяще прошел по конкурсу в Высшую коммерческую школу, я даже не почувствовал зависти — ведь иначе и быть не могло. — Но вы и сами не так уж плохо учились? — Не намного хуже его. Дело было не в том. Я сдал экзамен на бакалавра без блеска, но и без недоразумений. И стал готовиться в Училище древних рукописей. Я выбрал это училище, потому что поступить в Педагогический или в Политехнический институт, получить педагогический, инженерный диплом, а уж тем более диплом Высшей коммерческой школы — если допустить, что я вообще это осилю, — означало подготовиться к жизни в обществе, включиться в нее, с первых шагов содействовать процессу разложения, который обогащает богатых, а бедных ввергает взамаскированное рабство. Я же не хотел быть соучастником этого процесса, я хотел оставаться чужаком, игроком-неудачником, а Училище древних рукописей было как бы подготовкой к отречению от мира, к одиночеству. По крайней мере так я считал. Я надеялся, что, изучая средневековье, далекое, исчезнувшее общество, я найду в этих занятиях убежище и утешение. Вы меня понимаете? — Вполне. Но как же ваши стихи? У вас оставалось свободное время, чтобы их писать? — Нет, и все же я его находил. Как бы я ни был занят, я не ложился спать, не вписав в свою тетрадь по крайней мере дюжину строк. Конечно, меня немного угнетало, что я никому не могу их показать. — Даже Реми? — Еще бы — ему в последнюю очередь. Кстати, когда я однажды попытался было раскрыть ему глаза на скандальную жизнь, которую ведет его папаша, храбрый капитан-многоженец, я только привел его в бешенство, а это было совсем не легко: „Если ты еще раз заговоришь в таком тоне о моем отце, я набью тебе морду!“ Я умолк, исполненный презрения: „Ах ты, ханжа, ты ни о чем не хочешь знать — так оно спокойнее!“ — А как обстояло с бременем жизни? — Н-да, интересно, почему вы об этом спросили? Ведь и в самом деле, отныне, когда мне случалось проходить через Люксембургский сад и я останавливался перед пресловутой статуей, я уже не страдал, а издевался. Бремя жизни! Как же — держи карман шире! Эх вы, шайка лицемеров! Что вы о нем знаете! Вот я — я в самом деле испытал, что такое бремя жизни, оно будет тяготеть надо мной до конца моих дней. Я чужак и останусь чужаком навсегда, и чем дальше, тем больше. Без надежды оспорить у других, у проныр и богачей, стул — место, где я мог бы устроиться в этом жестоком, циничном и развращенном обществе. Да разве я не предчувствовал это чуть ли не с самого рождения? (Усмехается.) Еще в ту пору, когда четырехлетним карапузом, глядя на булочную против Бельфорского льва и на нищего „флейтиста“, я делал горестные подсчеты. И я еще воображал себя неспособным и „недостойным“! Недостойным! Черт побери — чего? Чтобы меня оттеснила свора наглецов и ловкачей, людей с крепкими локтями или „приспособленцев“, каким уже стал Реми? Слава богу, окончив свое училище, я останусь в безвестности, буду беден и, может быть, даже презираем, но зато сберегу чистоту души!» В тоне, в волнении, с каким он произнес эту тираду о своем юношеском бунтарстве, я почувствовала какую-то странную двойственность. Смесь торжественности, даже страсти, с иронией. Кажется, я ухватила краешек истины. Этому человеку нравятся его собственная юношеская непримиримость и бескомпромиссность — они предмет его гордости. Но в то же время, я чувствую, он не заблуждается на свой счет и отныне взирает на эти качества глазами взрослого, так как его бескомпромиссность подтаяла в водовороте жизненного опыта. Вероятно, он это сознает. Но в какой мере? Это и надо выяснить. И, может быть, открыть глаза ему самому. «— Но когда и как вам пришла в голову мысль опубликовать свои стихи? — Вы попали в точку — в этом-то все дело. Мысль пришла в голову вовсе не мне. Мне ее подсказали. Я писал для самого себя, для собственного утешения. Я отнюдь не равнял себя с Рембо. О, не подумайте, что из авторской скромности. По молодости лет я не сомневался, что мои стихи хороши, вернее, я много лет подряд просто не задавался таким вопросом. Может, они и хороши, но на пути к тому, чтобы их прочли и оценили другие, стояло непреодолимое препятствие: я родился в стане неудачников, среди серой массы „обыкновенных людей“, как я могу стяжать славу какого-нибудь Рембо, родившегося в стане великих избранников? Червем я родился — червем я умру, а кто же станет читать поэмы ничтожного червя? Ничего не поделаешь. Вдобавок в душе я был ребенок и еще не решался желать, чтобы мои стихи, полные гнева и вызова, попались на глаза тем, кого они разоблачают, боялся взрыва, который неизбежно последовал бы за этим. Я хотел вкушать свою месть в одиночестве, покамест в одиночестве. Это было противоядие, заклинание, талисман, какие придумывают себе дети, — да и чем еще могли быть вот хотя бы две таких строки — я сочинил их гораздо раньше, записал на клочке бумаги и носил в бумажнике, — две плохих строки, которые проливали бальзам на мои раны:Бессловесная мать и распутный папаша
Ненавистна мне жизнь лицемерная ваша.
IX
«— В наши дни секс вторгается в повседневную жизнь на каждом шагу, в любом возрасте. Едва ли не с детства. Хорошо ли это? Не знаю. Может быть, да. А может, и нет. В пору моего детства о нем не говорили. Это было табу. Я уже вам рассказывал, как осторожно выбирала выражения моя мать, пытаясь выяснить так, чтобы не произнести этого вслух и чтобы я не понял, нет ли среди моих друзей развращенных мальчиков. И насколько я был наивен в этих вопросах. У меня был соученик по фамилии Тулуз, мы учились в одном классе, но близкой дружбы между нами не было. Ему, как и мне, должно было исполниться пятнадцать; внешне он напоминал старинную миниатюру, портрет Людовика XV в детстве — тонкое, пожалуй, даже чересчур миловидное личико. Однажды после уроков — мы кончили третий класс и перешли во второй — я отправился в магазин „Old England“[55] примерить первые в моей жизни длинные брюки. Тулуз оказался там, он тоже примерял длинные брюки. Мы посмеялись над этим совпадением, а потом вместе вышли на бульвар, по-прежнему в коротких штанишках, и вдруг он шепнул мне на ухо: „Нынешней зимой возьму бабу“. Сначала мне показалось непонятным, куда он собирается взять женщину. И только когда он добавил, что они с Коппаром (тот был немного старше нас) решили сложиться, чтобы взять себе „подружку“, и не какую-нибудь первую попавшуюся, „а вроде вон той“, сказал он, увлекая меня к свету фонарей, где прогуливалась женщина в горностаевой шубке, которую вначале я принял было за светскую даму, — только тогда я понял, какой смысл он вкладывал в свои слова. После этого его признания я стал испытывать к нему смесь зависти, восхищения, но при этом брезгливости и неприязни из-за его бесстыдных планов — ведь мы были еще детьми. В наши дни трудно себе представить, что мальчик, достигший половой зрелости, мог стесняться того, чем нынешние дети обоего пола занимаются едва ли не с колыбели. Может, и четверть века назад я представлял собой исключение? Не думаю. Но если даже и так, я не считаю себя смешным. Любовь была в моих глазах благородным и возвышенным чувством, это и придавало ей неизмеримую ценность, я ждал от нее неземных восторгов, плотская пародия на нее казалась мне отвратительным святотатством. Чтобы покончить с вопросом о нынешних развращенных юнцах обоего пола, которые стараются перещеголять друг друга в распутстве, скажу одно: боюсь, что в легкодоступных радостях они загубят драгоценную возможность будущего счастья, потому что никогда не смогут оценить его чистоты, а значит, составить о нем хоть отдаленное представление. Печальный удел. Они обрекают себя на душевную пустоту, которую тщетно будут пытаться заполнить все новым блудом, а не то и наркотиками. Да, я их жалею, жалею даже больше, чем тогда им завидовал, потому что воздержание, от которого они с такой легкостью отказываются, если в какой-то степени и тягостно в юности, вознаграждает нас потом чистыми и несказанными наслаждениями. Но хватит об этом. Итак, я осуждал ранний разврат, которым похвалялся Тулуз. Тем не менее с этой минуты, когда я смотрел на девушек, в мыслях моих начиналось смятение. Впрочем, дальше этого дело не шло, потому что девушки, даже девочки, сестры моих соучеников, наводили на меня страх. Я влюблялся в каждую из них по очереди, но всегда издали. Два года спустя я все еще пребывал в роли молчаливого вздыхателя и ни разу не отважился заговорить с понравившейся мне девушкой или даже посмотреть в ее сторону, боясь, что меня отвергнут, осмеют, но, пожалуй, еще пуще боясь, что ко мне отнесутся благосклонно. В самом деле, я не знаю, чего я страшился больше: что мною пренебрегут, унизят мою гордость или что меня вынудят стать предприимчивым… Так вот, я молчаливо вздыхал по сестре Тулуза. Ей было семнадцать лет, на год меньше, чем мне, она притягивала меня, но я робел перед ней, отчасти, наверное, из-за ее разбитного братца, поскольку я, возможно, приписывал и ей дерзкое бесстыдство, которым тот когда-то щеголял. Вместе с небольшой группой моих соучеников я снимал крытый теннисный корт над каким-то гаражом — мы играли там днем по четвергам. Тулуз прекрасно играл в теннис, он все еще был по-девичьи миловиден и капризен и злопамятен, как девчонка. Он считал себя первой ракеткой нашей группы. Сестра его просто боготворила. Она наверняка замечала, что я неравнодушен к ней, но виду не подавала. Все ее внимание было отдано брату. И вот в этот злополучный четверг мы заканчивали нечто вроде турнира, финал которого, как правило, разыгрывался между Тулузом и тем самым Коппаром, вместе с которым он три года назад потерял невинность. Звали Коппара Тото. Это был рослый парень атлетического сложения, который славился в нашей компании сокрушительной подачей, но был слаб в ударе слева. В прошедший четверг, непрерывно подавая влево с такой быстротой, что Коппар не успевал отбивать мяч, я одержал победу, которой никто не ожидал. Тото показал себя хорошим спортсменом, в конце матча он широко улыбнулся и дружески тряхнул мне руку. Таким образом, соперником Тулуза в финале оказался я. Я был уверен, что он обыграет меня за три сета. Но то ли Тулуз устал, то ли победа над Тото удвоила мои силы, я выиграл первый сет. Он так разнервничался, что растерял все свое мастерство, стал играть все хуже и хуже, и победителем оказался я. Тулуз был не такой хороший спортсмен, как Тото, он, правда, тоже пожал мне руку под аплодисменты зрителей, но лицо его исказила злобная гримаса. А в глазах вспыхнул мстительный огонек. Но, к моему великому изумлению, его сестра не только не встретила меня хмурым взглядом, но, наоборот, шепнула мне на ухо проникновенным и взволнованным голосом: „Браво!“ Потом вдруг сказала: „Идемте“ и повлекла меня в раздевалку. А там она повела себя со мной с таким вызывающим бесстыдством, что я потерял голову. Она прижала мои губы к своим, а кончик ее языка стал жадно прокладывать путь к моему нёбу. Это был первый настоящий поцелуй в моей жизни — представляете себе мое волнение! При этом девушка схватила мою руку, сунула ее к себе за корсаж и прижала к своей груди. Я почувствовал, как под моей ладонью затвердел сосок девичьей груди. И в ту же секунду — куда девался страх, робость — меня подхватил волшебный вихрь, я уже не соображал, что делаю. Вдруг она вскрикнула, стала звать на помощь, и две секунды спустя два молодца, Тулуз и Тото, схватили меня, выволокли на корт и, ругая „сатиром“ и „сволочью“, при всех сорвали с меня штаны, высекли и спустили с лестницы; дверь захлопнулась за мной с грохотом пушечного выстрела. Девушка смеялась. Не помню уж, как я очутился на улице». Я тоже рассмеялась, он посмотрел на меня, забавно попыхивая трубкой, и губы его не то чтобы сложились в улыбку, но правый их уголок слегка приподнялся, точно Легран усмехнулся; зато родинка в складке возле рта, прозрачная, точно капля воска, была похожа на застывшую слезинку. Я пыталась представить себе его лицо, когда ему было восемнадцать, но мне это не удавалось — надо было бы снять слишком много наслоений, ничуть его, впрочем, не портивших: со временем его черты не только не расплылись, в них, наоборот, появилась какая-то мужественная значительность, точно на маске патриция из Неаполитанского музея. «— Ну вот. Как видите, история довольно бесславная. Одна из немногих, в которых я не признался Марилизе. — Спасибо за доверие. — Я должен был рассказать вам это, чтобы вы поняли, в каком душевном состоянии я вернулся домой. Теперь, когда я рассказываю вам об этом эпизоде, мы с вами воспринимаем его с комической, водевильной стороны. Но для юноши, каким я тогда был и тяжелое детство которого я вам описал, это была чудовищная, неслыханная гнусность, тот груз на чаше весов, который уже ничто не уравновесит, — vae victis[56]. Бессердечная девушка расставила мне ловушку, друзья, товарищи отомстили за то, что я победил в честном поединке, и, осрамив, выгнали меня из страха, чтобы я не отнял у них первенства. Пока я ехал в метро, я весь дрожал от гнева, ярости, разочарования, по всему телу пробегали мурашки. Очутившись у себя в комнате, я растоптал свою жалкую победоносную ракетку. Вошла Армандина. Вид у нее был странный. Родители ждут меня в кабинете, сказала она. Что еще такое? Я отправился в кабинет, сжимая кулаки. И вот я предстал перед судилищем, перед людьми, уставившими на меня суровые взгляды. Отец, мать, дядя Поль, Реми — он стоял, повернувшись лицом к окну и опустив руки, но его обращенные ко мне ладони казались устремленным на меня взглядом. А впереди всех, вздымая над пристежным кремовым воротничком голову, похожую на грейпфрут, сидел мой дед, страдавший, сколько я его помню, чем-то вроде хронической желтухи, — дед, о котором я вам еще не рассказывал». У меня едва не вырвалось «A-а!» не столько от удивления, сколько от того, что мои надежды оправдались, как это бывает в театре, когда на сцене появляется новое и важное действующее лицо, нежданное, но необходимое для сюжета. «— Я уже говорил вам, что мой отец происходил из скромной семьи его отец был столяр-краснодеревщик, зато моя мать, наоборот, была родом из именитой семьи Провен, чья фамилия встречается среди приближенных Луи-Филиппа. Однако я… — Как же они познакомились? — Мои родители? Во время войны. Отец был одним из „подопечных солдатиков“ моей матери, и во время побывки… — Понимаю. А как семья Провей отнеслась к этому браку? — Само собой, весьма неодобрительно. Поэтому мать редко встречалась со своей родней. А я и того реже. И только деда мы с Реми видели дважды в год: один раз — первого января, когда мы, робея, наносили ему визит, а второй раз — когда он председательствовал на семейном обеде: моя мать, приверженная к обрядам и традициям, давала этот обед ежегодно в день рождения моей покойной бабки. Вильям Провен был гордостью и кошмаром моею детства. Юпитер, о котором все говорят и который, существуя где-то там в загадочной дали, подавляет своим невидимым присутствием. В течение всего моего отрочества он представлялся мне человеком иного мира, мира знаменитых людей, понимаете: послов, академиков, президентов Республики, мира, который недосягаем для тебя даже в мечтах, если ты уверен, что рожден и останешься червем. Впрочем, в моих глазах дед и Вильям Провен довольно долго оставались двумя разными лицами, которых мне никак не удавалось слить воедино. Один был пращур, надменный и неприступный, но все-таки родня, потому что его называли дедушкой. Другой был незнакомец, личность почти мифическая, неподкупный государственный деятель, который к концу карьеры стал генеральным инспектором Пороховых Погребов, потом в течение нескольких недель был помощником министра вооружений в недолговечном кабинете Тардье, а позже министром торгового флота в правительстве Поля Рейно. Он пережил множество премьер-министров и сохранял свой портфель более трех лет. Мой отец и дядя Поль, оба были ему обязаны: один — прибыльной должностью у Ллойда, другой своим капитанством на кораблях дальнего плавания. Теперь, на склоне лет, дед восседал в председательских креслах нескольких акционерных обществ, в том числе одной из двух могущественных компаний морских перевозок. Он был членом Французской академии. Его фигура подавляла меня физически и морально, как, впрочем, подавляла бы фигура любого представителя „другого мира“. Я видел его слишком редко, чтобы любить. Да и можно ли любить легенду, недосягаемый образец? Его можно терпеть, им можно восхищаться, можно даже обожать (когда раз в году, рассеянно ущипнув тебя за ухо, тебе преподносят игрушку), но это не значит любить. А если при этих обстоятельствах ты в один прекрасный день обнаруживаешь, что восхищаться нечем, мир рушится. Именно это и случилось со мной примерно за полгода до описываемых событий, когда, сидя у парикмахера, я стал пробегать глазами старый номер „Оз экут“ и вдруг наткнулся на статью, в которой был дан весьма язвительный „портрет“ некоего великого человека, которого весь парламент сокращенно называл „В. П.“. Статья была, впрочем, скорее насмешливая, чем злая (автор с особенным удовольствием прохаживался насчет высокомерного вида В. П., который из-за хронической желтухи производил довольно комическое впечатление), но весьма ехидная в оценке пресловутой неподкупности, в которой, судя по всему, было довольно много мелких изъянов, чтобы не сказать — брешей. В частности, автор статьи припоминал довольно странные обстоятельства, при которых произошло внезапное изменение трена жизни В. П. (отнюдь не соответствовавшее скудному жалованью чиновника и совершившееся вскоре после того, как попечением В. П. было создано благотворительное общество „Для наших храбрецов“). В результате успешно проведенных благотворительных базаров, самоотверженно организованных супругой В. П., обществу оказалось по карману в течение трех лет снабжать раненых трубками и табаком, а В. П. преподнести имение в департаменте Дё-Севр, который стал колыбелью его политической карьеры. Конечно, в статье это было сказано не столь прямолинейно, речь в ней шла о „совпадении“ (иначе и нельзя было выражаться, не рискуя быть привлеченным к суду), однако, вы понимаете сами, я уже не мог удовлетвориться этими сведениями. Я стал разыскивать старые номера газет примерно тех времен, когда В. П. был министром. Из двусмысленных газетных материалов, которые надо было читать „между строк“, я узнал, что успехами дед был обязан не столько своим дарованиям и еще менее своей репутации неподкупного служаки, сколько махинациям при военных поставках для армии и флота — он проворачивал их вместе с высокопоставленными лицами, например с неким сенатором, который во время войны представлял область, богатую каштанами, а из этого дерева делают деревянные кресты… Примерно в это самое время дочь деда, Клеманс, потеряла одиннадцатилетнего ребенка, мою кузину Фанни, которая умерла от перитонита. Я редко встречался с Провенами и поэтому мало знал девочку — всего раза два или три играл с нею, — но это была моя первая утрата, и она произвела на меня глубокое впечатление. Взволнованный, чуть не плача, я бросился к Провенам. В холле дед принимал друзей. Как всегда, торжественный, значительный, важно склоняя бледное лицо, которое было разве что чуть желтее обычного, он встречал каждого гостя словами: „Она боролась всю ночь напролет, и под утро волк ее сожрал“. Даже в минуту такого несчастья мерзкий старикан продолжал играть свою роль. Наверное, он искал эту цитату тоже всю ночь напролет, пока бедная козочка боролась со смертью! С тех пор как я прочитал разоблачающие его материалы, мистическое обожание детских лет сменилось в моей душе презрением. Теперь оно уступило место ненависти. Всем сердцем я ненавидел этого бесчувственного и напыщенного шута. Прошло полгода. И вот он председательствует на семейном судилище, которому предстоит вынести мне приговор. В руках дяди Поля я увидел мои тетрадки — дядя яростно ими размахивал. Мать сморкалась, глаза у нее были заплаканные. Отец, смертельно бледный, скрипя зубами, стискивал челюсти, а на его туго обтянутых скулах ходили нервные желваки — так буря волнует гладь озера. Все это я отметил сразу и как-то бессознательно, потому что мое сознание было почти полностью поглощено жгучей обидой, ягодицы горели от публичного унижения, а нёбо пылало от коварного прикосновения языка юной предательницы. После такой подлости, такой несправедливости мне все было нипочем. Переступив порог, я еще сжимал кулаки. Теперь я остолбенел от изумления. Не успел я опомниться, как дядя театральным жестом швырнул тетради через всю комнату прямо мне в лицо. Я кое-как подобрал их, прижал к груди и стал ждать. „Ну!“ — крикнул мне дядя, точно хлестнув меня по лицу. Ноги у меня задрожали, но по-прежнему не столько от страха, сколько от ярости. „Что ты можешь сказать в свое оправдание? Для кого ты предназначаешь эти гнусности?“ Я уже собирался ответить: „Ни для кого“, но ярость ослепила меня, и я выкрикнул: „Для общественного мнения!“ Посмотрели бы вы на их лица! — Но ведь вы как будто утверждали… что у вас не было ни малейшего намерения… — А у меня его и правда не было. Но дух протеста сотрясал меня с головы до ног, и в нем я почерпнул наконец силы для вызова, который принес мне долгожданное утешение, опьянил свирепой радостью. Отец шагнул вперед, сведенной в судороге рукой ткнул в пылающий камин: „Сию минуту сожги эту пакость!“ Я молча отступил к двери. Он крикнул: „Реми, отбери у него тетрадки!“ Реми обернулся ко мне и, не двигаясь с места, негромко сказал: „Фред, послушай, это глупо. Это ребячество. Дай мне тетради. Обещаю, что возвращу тебе их, как только ты образумишься“. Сговор предателя Реми с родителями, со взрослыми, с лжецами и притворщиками, был последней каплей, переполнившей чашу гнусностей этого злосчастного дня. Отвращение, омерзение подступили мне к горлу я должен был дать им выход. В физическом смысле это было невозможно, значит, все должно было по необходимости принять словесную форму. Я отступил еще на шаг к двери. Кажется, откашлялся, чтобы прочистить горло. И, не повышая тона — странный у меня, наверное, был голос, — произнес: „Я ненавижу вас всех. Презираю. Дед — самый обыкновенный взяточник. Отец — ростовщик. Твой отец развратник, а ты лакей. Катитесь все к черту и оставьте меня в покое“. Как ни кипел я от желчи и злобы, я со смесью ужаса и восторга услышал этот хриплый, дрожащий голос, который исходил из моей собственной гортани: я ведь понимал, что теперь меня непременно вышвырнут из дому».X
Его трубка погасла. И пока он ее раскуривал, я закончила вместо него: «Так оно и случилось». Он задул спичку и ответил не сразу, сначала долго уминал в трубке табак, потом, как паровоз, стал выпускать клубы дыма. «— Так… и… случилось. Понимаете, я действовал в каком-то пароксизме. Гнев захлестнул меня. Да и не знаю, бывает ли по-другому в восемнадцать лет? — Способность хладнокровно принимать важные решения зависит не только от возраста. Одни достигают зрелости к шестнадцати годам, другие не успевают созреть и к сорока. Когда умер мой отец, моему брату исполнилось двенадцать. Матери было не под силу возглавить фирму по производству химикалиев; мой брат, продолжая учиться, взял дело в свои руки и стал его вести на свой страх и риск. Он взялся за это так умело, что фирма стала расширяться гораздо быстрее, чем при отце. Работа не мешала брагу самозабвенно бегать взапуски со сверстниками на школьном дворе. Внутренняя самостоятельность — это что-то врожденное. — Да, удивительная история. — Благодаря этому мальчугану я смогла получить образование и косвенно благодаря ему принимаю вас сегодня у себя… Но не будем отклоняться. Рассказывайте дальше. Я слушаю. Собственно, рассказывать больше не о чем. О жизни впроголодь не расскажешь. — Вы опять скрытничаете? А ну, давайте начистоту. Чем кончилась сцена? — Какая сцена? — Вашего изгнания из дому. — Видите ли… я помню ее не так отчетливо, как все остальное. Какие-то обрывки. Конечно, услышав мои слова, отец вскочил с места. Я повернулся было спиной и уже переступил порог вероятно, в смутной надежде укрыться у себя в комнате, — когда затрещина едва не сбила меня с ног. Я стукнулся виском о дверной косяк. Совершенно растерянный, я еще крепче стиснул в руках тетради. Не помню, пытался ли отец вырвать их у меня. Не помню, как я прошел через прихожую, помню только, что меня вытолкнули на лестницу. Это было как эхо — второй раз в один и тот же день. И снова с такой силой, что я едва не пересчитал ступеньки. И снова, как эхо, за мной захлопнулась дверь с шумом, от которого содрогнулся дом. Я медленно спустился вниз, стараясь овладеть собой. Стараясь ни о чем не думать. В кармане у меня оставалась только какая-то мелочь. Я был так взволнован, что ноги у меня подкашивались. Меня била холодная дрожь, Но на улице, на свежем воздухе, я очнулся. Кинотеатр на улице Ренн сверкал всеми своими огнями. Точно сквозь сон видел я проезжавшие мимо машины. Как автомат поднялся к Ротонде. Там, на площадке у подножия статуи Бальзака, я окончательно пришел в себя и проверил свою наличность. На эти деньги можно было кое-как перебиться недели две. Видите, я снова, как в четыре года, совершал горестный подсчет… Первым делом мне надо было позаботиться о ночлеге. Я нашел комнатушку (в ту пору это было еще сравнительно легко) на верхнем этаже дома с меблированными комнатами на маленькой, плохо вымощенной улочке, обрамленной двумя решетчатыми оградами, — улица Жюля Шаплена, вы, наверное, знаете, позади знаменитого русского ресторана. Решетчатые ограды исчезли, а маленький кинотеатрик остался. Остались и проститутки, которые подстерегают туристов, осматривающих Монпарнас. Когда оканчивался сеанс, на улице было шумно, в остальное время тихо, как в провинциальном городке. Деревья, маленькие палисадники — ну чем не деревня, особенно если сравнить с мрачным зданием на улице Мезьер! Очутившись в своей маленькой комнатушке, я почувствовал себя не просто свободным, а, что гораздо важнее, освобожденным и испытал минуту горького восторга. Понятное дело, всю заслугу своего освобождения я приписывал самому себе. Не отец хлопнул дверью, а я. Я долго цеплялся за эту легенду. Но мне было восемнадцать лет, мне было страшно, мне надо было как-то взбодрить себя. — А потом? — Потом… потом я отправился в кафе „Дом“ поесть луковой похлебки. Я уже бывал в этом кафе, и не раз. Но теперь мне все здесь показалось другим, не похожим на прежнее и каким-то родным. Я вдруг почувствовал себя здесь не гостем, а почти что завсегдатаем. В ту пору это было необычайно оживленное место. Как теперь Сен-Жермен-де-Пре. Кого тут только не было: художники, писатели, актеры, журналисты, как правило малоизвестные, но вращающиеся вокруг немногочисленных звезд из мира искусства, а также лица, не занимающиеся ни живописью, ни литературой, но мельтешащие около. И среди этого мельтешения изрядное количество одиночек вроде меня. Понимаете? Одиноких не столько в том смысле, что они одиноко живут, сколько замкнутых, подобно мне, в своем внутреннем одиночестве. Приходя сюда, они согревали друг друга. Я явился в „Дом“, движимый интуицией, надеясь, как видно, спастись от жестокой отверженности, в какой внезапно очутился. Сначала я встретил нескольких приятелей из Сорбонны. А они мало-помалу ввели меня в другие кружки. И вскоре я почувствовал себя здесь как рыба в воде — спокойно и одиноко. — А на что же вы существовали? — Сначала пробавлялся чем придется. Брался за любую работу. Был разносчиком в книжной лавке и у торговца красками. Однажды позировал художникам в мастерской „Гранд Шомьер“. — Обнаженным? — О нет, что вы! Я был слишком стыдлив, чтобы позировать обнаженным даже в ателье, где были одни мужчины. А здесь присутствовали и девушки. Куда уж тут! Нет, я был одет в костюм русского боярина — синий шелковый кафтан и сапоги. Кстати, этому костюму я обязан потерей невинности. Вам это интересно? — Не очень, но вообще — как знать. — О! История как нельзя более банальная. Дама была уже не первой молодости, но недурна собой, а малевала из рук вон плохо. Работая, она все время мне улыбалась. В конце недели она спросила меня, не соглашусь ли я прийти позировать к ней в мастерскую. За щедрую плату. Я согласился. Как вы догадываетесь, не без задней мысли — иначе для чего бы я за неимением ванной с ног до головы опрыскался духами. Я явился к ней возбужденный и немного напуганный. Она сама открыла мне. В халате. Как и я, сгорая от нетерпения. Конечно, ни живописи, ни даже мастерской тут не было и в помине. Она сразу же сбросила халат. У нее была огромная, но высокая и довольно упругая грудь, которая привела бы в восторг самого требовательного американца. Я хотел сбросить кафтан и сапоги, но она стиснула обеими руками мою голову, прижала мои пылающие щеки к горе душистой и мягкой плоти и шепнула мне сразу вдруг охрипшим голосом: „Не надо… лучше прямо так… в костюме…“ Вот и все. После этого я ее ни разу не видел. Ни у нее дома, ни в мастерской. Она туда больше не приходила. В глубине души это меня устраивало, хотя я иногда и вспоминал ее роскошную грудь. — Она заплатила вам за визит? — Нет. (Смеется.) Я не захотел — у меня были свои понятия о чести. А деньги мне были нужны позарез. Но в молодости всегда как-нибудь выкручиваешься. Целую неделю весь твой обед составляет кофе со сливками, а потом какой-нибудь приятель, продавший картину, задает пир, который помогает тебе продержаться следующую неделю. Между нищими денежные расчеты просты: тот из нас, у кого в кармане заводились деньги, по-братски делил их с теми, у кого не было ни гроша. Отдаст, не отдаст — об этом не задумывались. Скупость — порок богатых, а не бедных. Когда деньги тратит богач, он проделывает брешь в своем богатстве, а это большая неосторожность: кровопускание таит для богатства смертельную опасность… А бедняк, отдавая то немногое, что у него есть, отнюдь не рискует покуситься на свою бедность. Когда перебиваешься с хлеба на воду, взять деньги у приятеля или ссудить их ему — все равно что попросить прикурить. В этом прелесть жизни богемы». В его голосе прозвучала такая тоска, что я сочла нужным возразить. «— Вряд ли вы, однако, забыли ее отталкивающую сторону. — Еще бы, конечно, нет. Случались ужаснейшие ссоры. Однажды даже поножовщина. Правда, об этом я узнал гораздо позже. А я, сам того не ведая, едва не стал сутенером. Девушка, только недавно вышедшая на панель, увлеклась мною. Знаете ли вы, что влюбиться без памяти можно и в проститутку? Странное это чувство: смесь жалости, нежности и пронзительной муки не ревности, а яростного отвращения. Я был слишком беден, чтобы вытащить ее из грязи, я мог только охранять ее, стараться оберечь от слишком уж гнусных клиентов. Нелепые отношения по счастью, длившиеся недолго, — но удивительно чистые, хотя и парадоксальные, они вспоминаются мне как что-то нереальное. Словом, атмосфера в духе Бодлера. Малютка исчезла, как падучая звездочка, — надо полагать, ее товарки предупредили кого следует. Я горевал о ней несколько недель, а потом забыл. Мне неприятно думать, какой у нее теперь вид. А тогда у нее были зеленые глаза и маленькие груди прелестной формы с бледными прозрачными сосками. Я ни у кого не встречал таких — кроме как у мраморной Афродиты Праксителя в Неаполе. — Не стоит углубляться». Я рассмеялась: он забыл и обо мне. «— Простите. И в самом деле не стоит. К тому же такая жизнь не могла длиться вечно: я должен был покончить с нею, потому что главным для меня оставались мои занятия, мои архивы! Архивы! Архивы! Ах, господи, древние рукописи, далекие времена, забвение подлых нравов нынешнего века! В конце концов я нашел более или менее постоянную работу в маленькой галерее на бульваре Эдгара Кине, которая имела свой бар и закрывалась только в два часа ночи, — там я и работал в ночные часы. — И ничего не знали о семье? — Нет, я не хотел о ней знать. Вначале у меня, может, и было намерение сообщить свой адрес матери, но я побоялся, что она будет приходить и плакать. Два-три месяца мы ничего не знали друг о друге. И вдруг однажды вечером, выходя с лекций, у дверей училища я увидел Реми — он меня ждал. Руки в карманах, во рту трубка, невозмутимый, как всегда, точно поджидать меня здесь давно вошло у него в привычку. Заметь я его издали, я, конечно, постарался бы скрыться. Но я столкнулся с ним нос к носу. Я спросил: „Чего тебе здесь надо, черт тебя возьми?“ Он взял меня под руку: „Не кипятись!..“ Я пожал плечами, и мы вместе отправились к моему жилищу. Я заранее был уверен, что наш разговор ни к чему не приведет. Мы были точно волк и собака: я вырвался из конуры, удрал за ограду, а он остался взаперти с ошейником на шее. Между нами не осталось ничего общего — даже если считать, что когда-то было. Чтобы нарушить молчание, он стал расспрашивать меня о моих профессорах, о лекциях, которые у нас читали. И при этом все время улыбался благодушной улыбкой, которая свидетельствовала о полном душевном комфорте и спокойной совести, а меня приводила в ярость. Мы поднялись в мою каморку. Я начал с места в карьер: „Выкладывай, что тебе надо“. Он снял свой плащ, аккуратно сложил его на кровати и сел нога на ногу. „Если желаешь, я принес тебе весть о помиловании“. Я все-таки слегка удивился: „От моего папаши?“ — „Да, от твоего отца. Ему известно, что ты работаешь и продолжаешь учиться, не бьешь баклуши, как другие дураки мальчишки, которые таким образом якобы протестуют против конформизма — будто это не тот же самый конформизм. Если только ты согласишься отдать мне тетради…“ Я не дал ему договорить. „Так я и думал, — бросил я ему в лицо, стиснув зубы. — Ты просто гончий пес! Хватит. Убирайся!“ — „А ты не можешь стать благоразумным хотя бы на минуту?“ — „Мне известно заранее все, что ты скажешь“. Он улыбнулся: „Как знать“. Он покачивался на стуле, его улыбка меня раздражала, но, как ни странно, при этом он внушал мне невольное уважение. Перед ним я всегда чувствовал себя мальчишкой. Так было и теперь, я видел в его глазах свое отражение — образ капризного ребенка, который подчиняется неразумным и необузданным порывам. Это меня злило, но в то же время сбивало с толку. А он спокойно ждал, чтобы улеглось мое душевное смятение. О! Он хорошо меня изучил! Он знал: рано или поздно я уступлю и выслушаю все, что он хочет сказать. Лучше уж было покончить разом. „Ладно. Выкладывай!“ Он дружелюбно кивнул головой. „Я тоже прочел твою писанину. — Он в упор посмотрел на меня и заставил потомиться, прежде чем выговорил: — А знаешь,старик, ты не лишен таланта“. Я ждал всего чего угодно, только не этого. Пожалуй, в глубине души его похвала доставила мне удовольствие. Но главное и прежде всего она разбудила мои подозрения. Не лишен таланта? Плевать я на это хотел! Чего ему от меня надо? После истории с Тулузом и его сестрой я был весь сгусток недоверия и, чуть что, ощетинивался, как еж. Но я и бровью не повел, молчал, и больше ничего. А он продолжал: „Жаль, что свой справедливый гнев на устройство мира ты разбавил глупыми нападками на деда и на наших с тобой отцов. Нападками, вполне достойными юнца в переходном возрасте. Но теперь тебе ведь уже не двенадцать лет. Если ты выбросишь все эти личные выпады, я сам найду тебе издателя. У меня есть среди них кое-какие знакомства“. Вот это да! Я возликовал: „Так-так, здорово же они сдрейфили! — (Реми уставился на меня непонимающим взглядом.) — Ведь это предложение исходит от наших предков?“ — „Дурак, — ответил он. Без улыбки. Но и беззлобно. — Нет, старик, у них нет ни малейшего желания помогать тебе напечатать что бы то ни было, с изъятиями или без оных. Это мне нравятся твои стихи. Я считаю, что они должны увидеть свет. При условии — ради тебя, старина, только ради тебя самого, — что ты уберешь идиотские личные выпады, иначе над тобой же будут смеяться. Представляешь, я иногда с удивлением замечаю, что читаю наизусть твои строки. Словно ты Арго или Аполлинер. У тебя есть находки, старик, они бьют в точку и врезаются в память, словно их выгравировали на камне. Вот тебе доказательство: я прочел их раза два и запомнил:Ты меня с грязью смешала желтая старость
Но замарал тебя желчью страх
Жрет тебя ярость твоя ты почти уже прах
Мерзкая гнусная банда…
Ваша любовь ничего кроме блуда и срама
Память хранить о ней будет зловонная яма…
XI
Как ни поучительна в том или ином смысле история чьей-то жизни, мой долгий опыт учит меня, что никогда не надо поглощать ее слишком большими порциями зараз. Надо предоставить смутным впечатлениям возможность обжиться в подсознании, и тогда они позже всплывут оттуда уже прояснившимися. Д. рассказывал мне, как Анри Пуанкаре, которому никак не давалась новая проблема из области высшей математики, на неделю перестал о ней думать, и вдруг у вокзала Сен-Лазар, когда он поставил ногу на подножку омнибуса, к нему мгновенно пришло решение — словно ответ выдала вычислительная машина. В моей профессии работа подсознания важна не меньше, чем в науке Пуанкаре. Поэтому я прервала моего Фредерика Леграна в этом месте его исповеди и предложила продолжить ее в другой раз. Он не скрыл удивления и даже некоторого недовольства. Вот так всегда: сначала пациентов приходится уламывать, а уж когда они начнут, стоит прервать поток их излияний, они обижаются и чувствуют себя уязвленными. Он явился точно в назначенное время и, по установившейся традиции полюбовавшись из окна на панораму Парижа, с места в карьер вошел в роль исповедующегося — не успев даже сесть, спросил меня, исповедника, «на чем мы остановились». «— На том, что ваш кузен Реми явился к вам предложить помилование. Вы отказались. Он похвалил ваши стихи и… — Вот-вот, с этого-то все и началось. Дело в том, что, как я ни был против него настроен, едва он ушел, я начал проникаться верой в его похвалы. И думать о них все чаще и чаще. Правда, в первую минуту я заявил: „Талант? Плевать я на него хотел“. И, вероятно, это было искренне. Но теперь волей-неволей я должен был признаться, что мне на него совсем не плевать. Наоборот, мысль о том, что я талантлив, весьма меня радует. Я открыл тетради и стал перечитывать свои стихи свежими глазами. Как бы заново ощупывая, оценивая их. И они мне понравились. Очень понравились. Настолько, что мне захотелось прочесть отдельные строки еще кому-нибудь, например приятелям. Чтобы проверить на них впечатление Реми и мое собственное. Перечитывая их, я невольно стал вносить в них поправки, изменения. Опубликовать мои стихи? В самом деле — почему бы нет? Я начал привыкать к этой мысли. О, сначала только в мечтах — мечтают же люди об императорском троне. Но, как бы ни были невероятны и расплывчаты эти мечтания, мне все больше хотелось прочитать кому-нибудь мои стихи, а не таить их про себя. В эту пору я свел знакомство с бывшим учеником Педагогического института, который бросил это заведение, так как не мог смириться с атмосферой, царившей на улице Ульм. „Питомник педантов!“ — негодовал он. Обстановка в институте обрыдла ему настолько, что он пришел к отрицанию культуры во всех ее формах. Сочиняя, по его словам, многотомный сатирический роман „о выведении автоматизированных молодых умов в государственных инкубаторах“, он, чтобы добыть средства к существованию, писал для авангардистских журналов „Коммерс“, „Бифюр“, а иногда для „Нувель ревю франсез“ статьи о поэзии — кстати сказать, довольно толковые, но ниспровергавшие всех и вся. Теперь их мало кто помнит, а сам автор исчез во время войны, так и не закончив романа, если он вообще его начал. Звали его Пуанье. Марсель Пуанье. Вам что-нибудь говорит это имя? — Нет. А может, я что-то слышала… Впрочем, навряд ли. — Надо бы мне разыскать его статьи. Они на двадцать лет опередили свое время. Занятный тип. Старше меня на два-три года. У него был едва заметный горб с левой стороны. От этого казалось, что он все время подергивает плечом, насмехаясь над тобой. Впечатление усугублял длинный, острый нос с глубоко вырезанными ноздрями. Наверное, поэтому вначале он мне не понравился, вернее, я перед ним робел, даже побаивался его. Но постепенно общее чувство протеста сблизило нас. И на этой почве родилась одна из тех шатких дружб, которые столь свойственны монпарнасской фауне. Пуанье был охотник выпить. Иногда вечерами он взбирался ко мне на чердак и, пока я работал при свете лампы, методически накачивал себя спиртным. Потом он засыпал в кресле или сползал на коврик у кровати, а я прикрывал его пледом, и он отсыпался у меня до утра. Бывали дни, когда на меня нападала тоска и я пил вместе с ним. Но он хмелел быстрее меня. И вот однажды в полночь, в кратковременном порыве пылкого оптимизма, который обычно предшествует опьянению, я вынул из ящика стола одну из моих тетрадей и начал читать стихи вслух. Читать с чувством. Краешком глаза я поглядывал на Пуанье, чтобы уловить, как он будет реагировать. Сначала его прыщеватое лицо ипохондрика, напоминавшее молодого Барреса, изображало только внимание и вежливую скуку. Потом он поднял бровь. Потом повернул голову и стал похож на изображенного в профиль петуха, который рассматривает тебя своим единственным глазом. Потом, втиснув руки между сжатыми коленями, он так сильно подался вперед, что едва не склонился до пола. А когда я приступил к четвертой песне, которая начинается словами:Вонь в метро. По сильнее всего смердят
Души которые втиснуты в этот ад,
XII
Он поднес к виску трубку, словно показывая, как совершилось самоубийство. И хотя он говорил с иронией, в голосе его проскальзывало неподдельное волнение. В эту минуту он, безусловно, вновь мучительно пережил огромное насилие над собой, которое совершил в ту пору, когда произвел («Руби!») эту окончательную ампутацию. Как противилось этому все его существо и как могуч должен был быть в нем дух непокорства, чтобы одержать победу в борьбе, ареной которой стали его воля и совесть! Победа осталась за бунтарством. Я почувствовала невольное уважение. И вдруг довольно неожиданно для меня его лицо озарилось простодушной радостью и он потянулся всем телом, как бывает после сна. Может, он вспомнил, какая гора упала у него с плеч и какая разрядка наступила после того, как он принял трудное решение, а может, он просто почувствовал теперь облегчение оттого, что преодолел нелегкий момент в своей исповеди. «— После этого у вас сразу отлегло от сердца? — Отлегло… сказано слишком сильно. Я вышел от Мортье разбитый, обессиленный, еле держась на ногах. Но в каком-то отупении чувств — если вы это имеете в виду. — Приблизительно… — Понимаете, когда отступать поздно, в мозгу образуется пустота, напоминающая успокоение. Но, впрочем, вы правы: насколько я помню, в период, который за этим последовал, радость, безусловно, взяла во мне верх над страхом. Радость, счастливое ожидание, предвкушение реванша, этакий фейерверк. Мне ведь не было двадцати, как тут не ошалеть? Моя семья этого так не оставит? Ну и пусть! Мне-то что? Тьфу! Отныне я порвал с семьей, порвал с обществом. Но моя семья не стала ждать выхода книги из печати. Стихи должны были выйти в ноябре, но еще в октябре Мортье стал их рекламировать. Одно из первых сообщений появилось в „Вандреди“, другое в „Марианне“. Журналисты намекали, что молодой поэт, по материнской линии потомок многих поколений политических деятелей, готовит в этой книге поразительные разоблачения… В тот же самый вечер, когда я уже собирался на свою ночную работу в галерею на бульваре Эдгара Кине, в дверь постучали. Я подумал, что это Пуанье. Открываю. Передо мной моя мать. — Признайтесь, вы отчасти этого ждали? — Нет! Даже не предполагал! Правда, странно? — Это довольно распространенная реакция самозащиты — вы старались подавить в себе все источники страха. Она явилась в качестве парламентера? — Кто? Моя мать? В первую минуту, увидев ее, я именно это и заподозрил. И в каком-то смысле к счастью для меня: я сразу ожесточился, замкнулся в своей броне. Но теперь я думаю, даже почти уверен, что она пришла ко мне тайком, как она мне и клялась. Требуя, чтобы и я поклялся не выдавать ее: „Если твой отец узнает…“ Она сказала, что нарушила обещание, которое дала ему после моего ухода, — бросить меня на произвол судьбы до тех пор, пока я сам, по доброй воле, не образумлюсь. — Зачем же она пришла? — По ее словам, спасти меня. Меня одного. От опрометчивого шага. Ей все еще хотелось уверить себя, что желание напечатать книгу — отголоски ребячества, детского гнева и я просто не в состоянии измерить несчастья, какие оно повлечет за собой. Несчастья для меня, для ее любимого сыночка, и она пыталась втолковать мне это убитым голосом, утирая покрасневшие глаза. — Она сумела найти красноречивые доводы? Такие, которые убедили бы вас? — Как вам сказать. И да, и нет. На что я рассчитываю, спрашивала она меня, чем я могу повредить Провенам, моему деду или дяде? Люди почешут языки, позубоскалят — они любят посмеяться, поглазеть, как маленький Полишинель порет толстяка полицейского. А что будет дальше? Провены останутся Провенами, они всюду нужны, они богаты и могущественны, они не рискуют ничем — ни положением, ни репутацией. „Мои отношения с твоим отцом дело вообще чисто личное, кому они интересны? А вот ты, мой бедный малыш! Тебе будут аплодировать неделю, может быть, месяц, как молодому клоуну, как Гиньолю, поверь мне, а потом кончено — люди не любят детей, которые позорят своих родителей, и ты не замедлишь в этом убедиться. Все будут тебя избегать, обходить стороной, ты на веки вечные станешь неприкасаемым, парией!“ — Вы возражали ей? — Еще бы! Вернее, при ее последних словах я вскочил с места. Ах вот как! Неприкасаемый! Пария! А что от этого изменится? Разве я не был им всегда и не останусь им навеки, что бы там ни случилось? Как бы я себя ни вел. Разве я не был с четырехлетнего возраста отмечен клеймом? Уж если суждено быть чужаком и парией, то по крайней мере не даром, а за то, что я выжгу клеймо на этом жестоком, свирепом, порочном обществе, которое все равно, что бы я ни делал, оттолкнет меня и пошлет к чертям! Не даром, а за то, что я нанесу этому миру джунглей, где властвуют когти и зубы — сам я их лишен, — удары, от которых хоть на некоторое время у него все-таки останутся синяки! — И все это вы высказали ей напрямик? — Нет, нет, это я говорю вам, чтобы вы поняли: довольно было двух слов, чтобы с новой силой пробудить во мне навязчивую идею моего изгнанничества. А ей, моей матери, я попытался объяснить, если угодно, то же самое, но только спокойно, не вкладывая в это такой страсти. Но она, конечно, ничего не могла понять. „Что ты болтаешь, — рыдала она. — Кто тебя обидел? Общество… джунгли… послать к чертям… Господи, откуда у тебя такие мысли? Ведь в тебе не чаяли души, ведь ты хороню учился, несмотря на свои проделки с отметками. Реми уверяет, что ты и сейчас хорошо учишься, что ты наверняка окончишь Училище древних рукописей. Все пути тебе открыты, у дедушки большие связи, если ты захочешь, по окончании института он окажет тебе протекцию в Архивах или в Национальной библиотеке. Он хорошо знаком с Жюльеном Кэном,[58] ты можешь сделать блестящую карьеру. Реми в этом убежден. Так почему же, почему? Зачем ты хочешь все погубить этой злосчастной книгой! Что за безумие, что за безумие нашло на тебя, мой бедный мальчик?“ — А ведь она была отчасти права?» Во взгляде, который он бросил на меня, была такая оторопь, сменившаяся таким глубоким разочарованием и обидой, что я почувствовала себя виноватой. Мое замечание было, как видно, чудовищной бестактностью. «— И это все, что вы вынесли из моего рассказа? — Но… — Весело, нечего сказать! Стоило мне усердствовать! Мы с вами тратим время зря, милый друг. Черт возьми! Я тут пространно излагаю вам историю моего детства, рассказываю все, ничего не утаив от глаз — пожалуй, несколько слишком проницательных. И к какому же выводу вы приходите в результате моих долгих и, согласитесь, весьма похвальных усилий? К тому, что я должен был послушаться матери, отказаться от моих мстительных стихов, вернуться в лоно семьи и смиренно и добродетельно прозябать под крылышком деда? — Но я вовсе не то хотела сказать. — Что же тогда? Объясните! — С вашего разрешения, нет, я не буду объяснять. Пожалуй, я даже рада, что вывела вас из себя. Хотя вы просто неправильно истолковали мои слова. Но то, как вы их истолковали, само по себе интересно. Успокойтесь же. А кстати, не выпить ли нам чаю?» «— Ну как, теперь лучше? Будем продолжать? Что же вы ответили матери? — Понимаете, с тех пор прошло двадцать лет, я не могу воспроизвести разговор слово в слово, но, в общем, я сказал примерно так: „Милая мама, ты судишь со своей колокольни, а я со своей. Ничего не поделаешь. Деду, отцу, тебе всем вам нравится мир, в котором вы существуете, а я его не приемлю. И это к лучшему, потому что я знаю и знал всегда, что он так же отвергает меня, как я его. Мы несовместимы. Не без душевной борьбы я решился обнародовать свою книгу, но все-таки я решился, и она уже готовится к печати. Я никогда в жизни не увижу больше ни отца, ни деда. Но тебя я очень люблю, в каком-то смысле ты все еще невиновна. Мать не может связать себя обещанием, направленным против сына. Приходи ко мне. Почаще. Так часто, как только сможешь. Если захочешь, хоть каждый день“. Вот и все. Так это примерно звучало. — А она? — Мама? — Как она отнеслась к этому… приглашению? — Не слишком радостно. Она придет, сказала она, если моя книга не будет напечатана, в противном случае с ее стороны это было бы слишком вероломно. „По отношению к кому?“ — воскликнул я. „К твоему отцу, само собой… к отцу, с которым ты так дурно поступаешь!“ — „А он, как он поступает с тобой? Вероломно? Кто из нас вероломно поступает по отношению к другому? Ты и в самом деле слишком покладистая жертва!“ Последние слова хороню мне запомнились, потому что, к моему изумлению, она вдруг вскочила с места. Боюсь, что это была неуместная реплика. Как видно, я попал в больное место. „Жертва? Чья же это? Вовсе я не жертва! В моем присутствии ты оскорбляешь своего отца. Я этого не допущу!“ Я хотел ее поцеловать, но она отшатнулась. Я уронил руки и сказал: „Вот видишь, еще минута, и мы поссоримся. Тебе лучше уйти. Через две недели появится моя книга. Я знаю, ты долго будешь на меня сердиться. Но я буду ждать. Буду ждать тебя каждый день“. Она не ответила. Белая как полотно, с бескровными губами, она смотрела на меня. Потом выхватила носовой платок, уткнулась в него лицом и опрометью выбежала из комнаты. А я, вместо того чтобы идти на работу в галерею, как был, не раздеваясь, бросился на кровать и пролежал до утра не смыкая глаз».XIII
Он стал ощупывать карманы, точно вдруг спохватился, что что-то потерял. Но в конце концов извлек из кармана всего-навсего прочищалку для трубки. Однако трубка горела, прочищать ее было незачем. Это его носогрейка приходит ему на помощь в трудные минуты. С сигарой было бы иначе. Надо было запретить ему курить трубку. Теперь уже поздно — он решит, что я сознательно его притесняю. Досадно. «— Я полагаю, вам не спалось не потому, что вы думали о той мрачной картине вашего будущего, которую набросала ваша мать? — Нет. Спасибо, что на этот раз вы меня поняли. — Но и не потому, что причинили матери горе? — Тоже нет. То есть, вернее, конечно, была тут и мысль о материнском горе, и мое собственное горе от сознания, что я, может быть, никогда ее не увижу, но было тут и кое-что другое. Куда более тягостное. Ее горе, мое горе, в какой-то мере одно уравновешивало другое. Сами понимаете, ссора матери и сына… это не то, что разрыв между любовниками, тут не может быть настоящей трагедии. Узы все равно нерасторжимы, и в глубине души обе стороны сознают, что разлука не навек. — Конечно, но что же тогда? — Что тогда? Простите, не понял? — Вы сказали, было что-то другое… — Не помню… Ах да, более тягостное… В самом деле. Полное смятение. Вызванное мыслью о моих побуждениях. Понимаете? Об их истинной сущности. — О каких побуждениях? — Ну как же… о тех, из-за которых я хотел опубликовать книгу. Понимаете, мать тремя беспощадными словами очень точно определила мои намерения: „Опозорить свою семью“. В общем-то, не стоит себя обманывать — к этому и сводился мой бунт. Во всяком случае, его непосредственные цели. Но в таком случае был ли это и в самом деле акт такого уж большого мужества? Теперь я чувствовал, что не уверен в этом, далеко не уверен. В конце концов, кто, кроме меня, страдал от низости семьи Провен, от ее дутой репутации? Я терзался не страданиями других людей, а своими собственными, а стало быть, я и тешил только самого себя. Так, может быть, подлинное мужество состоит в том, чтобы затаить свое страдание в душе, преодолеть его, а позже дать ему вылиться в более широкое, более значительное, воистину революционное действие? Уступить сиюминутной детской жажде мести не значит ли это идти по пути наименьшего сопротивления, совершить еще один трусливый поступок? — Что ж, ведь и в самом деле в этих мыслях была доля справедливости. Но, как видно, вы в конце концов пришли к другому выводу. Ведь книга все-таки появилась. — Да, но… видите ли… все это не так просто. Начать с того, что мне пришлось бы проявить куда больше мужества, чтобы сказать, объяснить Пуанье и Мортье, что теперь я возражаю против появления моих поэм. Страх можно победить только другим, еще более сильным страхом. Это наглядно проявляется на войне. Я признаюсь вам в этом, просто чтобы быть искренним до конца, потому что, к моей чести, следует сказать, у меня были куда более благородные соображения. Ведь отменить публикацию книги во имя великого деяния в будущем означает просто отложить дело в долгий ящик. И отложить во имя чего-то неопределенного и расплывчатого. А мои поэмы уже написаны, они нечто реальное. И в них выражен протест. Опубликовать их означает действовать, бить стекла. А вот спрятать их в ящик под предлогом великого деяния в неопределенном будущем, что устроило бы всех, в том числе и меня, не в этом ли путь наименьшего сопротивления, подлинно трусливый поступок? Всю ночь я перебирал все „за“ и „против“, так и не придя наутро ни к какому решению. По счастью, когда пробило восемь, в мою дверь снова раздался стук. Я вскочил, я подумал, что вернулась мама. Но это пришел дед. Прямой, царственный, голова, напоминавшая грейпфрут, точно шарик от бильбоке, возвышалась над пристежным кремовым воротничком. Он не поздоровался со мной. Он даже не взглянул на меня, а опустился на стул и, повернувшись ко мне в профиль, стал постукивать по столу указательным пальцем, изуродованным подагрой. Я прислонился к двери и стал ждать. Поднявшись на шестой этаж, он запыхался — ему надо было отдышаться. Наконец он откашлялся, поднял свою круглую, пожелтелую голову, вытянув шею, точно собирался заглянуть через забор, причем увядшая кожа его двойного подбородка была похожа на омлет, а кожа на затылке, валиком лежавшая на воротничке, напоминала спелый банан. Понимаете, я отметил все это из чувства самозащиты, я все-таки оробел: передо мной был знаменитый Провен, потомок знаменитой семьи, сам бывший министр, тот, кого весь парламент звал В. П., — он был передо мной, в моей каморке на чердаке; как хотите, в это все-таки было чертовски трудно поверить. „Сколько ты хочешь, чтобы приостановить публикацию книги? — наконец заговорил он. — Я возмещу убытки твоего издателя. Заплачу столько, сколько он запросит“. Его голос, сдавленный сдерживаемой яростью, выдавал, каких усилий стоило ему снизойти до подобного предложения, и поэтому первое, что я ощутил, было чувство гордости, торжества. Так это я, я, Фредерик Легран, заставил старика-разбойника пойти в Каноссу. И в то же время я не мог избавиться от другого, уже сентиментального чувства жалости и вины перед великим старцем, которому пришлось унизиться. Странная смесь, не правда ли? В таком смятении чувств попробуйте найти слова для ответа! Подыскивая их, я поневоле молчал. Он метнул в меня быстрый взгляд из-под тяжелых век, колючий взгляд, в котором сквозили недоумение и досада, — должно быть, подумал, что я оказался более стойким и решительным, чем можно было ждать от такого молокососа. Он постучал по столу скрюченными пальцами и сказал срывающимся, клокочущим голосом: „Как хочешь. Тебе виднее. Мне семьдесят семь лет, одной ногой я стою в могиле, моя жизнь прожита, какое зло ты можешь мне причинить? Насколько мне известно, я тебе зла не делал, твои нападки на меня преступление немотивированное, воля твоя, желаю успеха. Теперь о твоем отце. Ты бесчестишь его в семейной и в деловой жизни, но в результате твоих наветов он в худшем случае лишится уважения нескольких лицемеров, которые не преминут воспользоваться удобным случаем. Невелика потеря. Остальные, настоящие друзья, ему цену знают — они осудят не его, а тебя. Твоя мать дело другое, по твоей милости она захворала от горя, но она поправится. Однако есть еще один человек, которому ты причинишь вред, который окажется твоей жертвой, и вот это уже всерьез. Ты знаешь, о ком я говорю? Хотя бы догадываешься?“ — „Да, понимаю. Это я. Но я не боюсь“. На одно мгновение его губы растянулись в презрительной усмешке: „Ты? Ах да, само собой, но о тебе я не подумал. Это дело твое, дружок, меня это не касается. Нет. Тот, кого я имею в виду, твоя истинная жертва, тот, о ком я беспокоюсь, чья судьба меня действительно волнует, — это Реми, твой двоюродный брат. Мой внук. Последний из Провенов, на которого я возлагаю все мои надежды. Если твоя книга выйдет, ты на корню погубишь его карьеру. Ты подумал об этом?“ Я об этом не подумал, но обвинение было настолько глупым, что я вышел из себя. „Какой вздор! Во-первых, я его не назвал, он никому не известен — кто может его узнать? Да хоть бы и узнали! Увидят в нем первого ученика, немножко подхалима — что тут особенного! Погублю его карьеру! Ерунда!“ Он выслушал меня, не спуская с меня своих раскосых глаз; я никогда прежде не замечал, какие они у него черные и пронзительные. „Ах, ты вот о чем, — сказал он. — Дело не в этом. Реми, дружок, выше твоей грязной клеветы. Нет, я говорю о другом, о той цели, которую ты преследуешь, — то есть о скандале. О скандале, который будет называться нашим именем именем Провенов. А на свете найдутся завистники, которые потехи ради захотят скандал раздуть. Тебе только это и нужно. Превосходно. Но через год Реми закончит Коммерческую школу и, судя по всему, будет одним из лучших учеников. Перед ним открыты все двери, для такого юноши, как он, трудность состоит лишь в том, что слишком велик выбор. Но есть такие должности, такие видные посты, от которых зависит дальнейшая карьера и на которые, естественно, больше всего охотников. Стоит разразиться скандалу, и, будь уверен конкуренты позаботятся о том, чтобы Реми был закрыт доступ к этим постам. Ты с первых шагов подставляешь ему подножку. Вот. Теперь ты не сможешь отговориться тем, что ты ни о чем не подозревал“. Он сделал движение, чтобы встать. Неужели я дам ему уйти, ничего не возразив? Я был в одно и то же время смущен и взбешен — я снова почувствовал, что меня изгнали, отринули, презрели. „Внук, на которого я возлагаю все мои надежды!“ А я, разве я не его внук? Разве он отрекся от своей дочери? Нет, но к чему себя обманывать, я всего только какой-то Легран, по отцу потомок скромного краснодеревщика, а не „последний Провен“! Последний из последних — вот кто я был, и грязный, дрянной старикан насмехался надо мной. Зато его любимчик… Я спросил: „Он что, пожаловался вам?“ Эти слова подействовали на него как пощечина. Дед встал и стукнул кулаком по столу, сморщив нос с видом величайшей брезгливости. „Подобная мысль, дружок, сразу выдает, кто ты такой: жалкий подлец. У тебя нет более горячего заступника, чем Реми. Он не винит тебя, не сердится, он говорит, что тебя понимает. И что самое печальное — ему нравятся твои стихи. Хватит. Я свое сказал. Решать тебе. До свиданья“».XIV
Я далеко не сразу обратила внимание на еле заметный, почти совсем незаметный тик, который при малейшем волнении подергивает его правую бровь. Стоит ему смутиться или даже замяться. Тик настолько мимолетен и едва уловим, что прошло много часов, прежде чем он бросился мне в глаза: мелко вздрагивая, правая бровь чуть-чуть оттягивается к виску. Но стоит заметить это подергивание, и ты уже ждешь и подстерегаешь его. Ведь известно: если хочешь обнаружить скрытые чувства сдержанного, хорошо владеющего своим лицом человека, посмотри на его руки. У Леграна — на правую бровь. Она почти всегда подергивается, когда речь заходит о Реми. Но еще никогда она не дергалась так сильно. «— И, однако, вы переступили через все. — Не я, а он. — Кто — он? — Реми. — Не понимаю. — Еще бы. Как вы думаете, что я сделал, оставшись один? — Написали ему. — Нет, не сразу. Я долго метался по своей комнатушке, как зверь в клетке. В ярости, но раздираемый сомнениями. Шантажировать меня именем Реми, его карьерой! А мне-то какое дело, черт побери, до его карьеры? Но, с другой стороны, неужели я и вправду решусь погубить ее из зависти? Само собой, через полчаса я отправил ему письмо по пневматической почте. Он получил его в то же утро. А в полдень уже был у меня. В глазах усмешка. У меня руки чесались его отколотить. Но я сказал: „Пойдем позавтракаем“. Мы спустились в кафе „Органе“, вы, наверное, его знаете. Сели в углу. В этом кафе ничего не заказывают, здесь подают то, что есть. Он налил мне вина. „Ну, что скажешь?“ Я без обиняков повторил ему все, что мне высказал дед, и стал ждать, что он на это ответит. Все с той же усмешечкой в глазах он долго намазывал на хлеб печеночный паштет. Потом положил бутерброд на тарелку. „Да, старина, в хорошенький ты попал переплет“. Начало мне не понравилось. Я возразил: „Не лезь не в свое дело. Речь не обо мне, а о тебе. Отвечай же, черт тебя возьми. Прав дед или нет — моя книга на самом деле тебе повредит?“ „Возможно, ну и что из того?“ И в тоне все то же невероятное, несносное благодушие. Но он почувствовал, что перегнул палку. Он прикрыл мою руку своей. „Послушай, старина, давай условимся: в чем, как говорится, суть? Отвлечемся на минуту от нас обоих. Вспомним типа, которого ты любишь — я знаю, что любишь, это сразу чувствуется, — вспомним, к примеру. Рембо. У него тоже была семья. Что ты о ней думаешь?“ Я сделал нетерпеливое движение, но он крепче стиснул мне руку и продолжал: „Я не шучу. Его семья сделала все от нее зависящее, чтобы его скандальные стихи не вышли. И конечно, опубликовав их, молодой Рембо нанес чувствительный урон репутации своих близких в жадном до сплетен родном Шарлевилле. Так должны ли мыосуждать Рембо и сокрушаться, что его семья не поставила на своем? — (Я не был уверен, что правильно понял смысл его слов. Он угадал это по моему выражению.) — Согласись, что все зависит от точки зрения. С точки зрения светской и семейной, несомненно, он заслуживает самого сурового осуждения. Ну а с высшей точки зрения — а? С точки зрения поэзии?“ — „Не хочешь же ты сказать…“ — „Хочу, старина, на мой взгляд, твои стихи не хуже стихов Рембо. Вот как обстоит дело, дружище. А посему, — закончил он в ту минуту, когда нам подали антрекоты, — не рассчитывай, что я присоединюсь к остальным членам семейства Провен, пытаясь заставить тебя отказаться от публикации“. „Даже если это тебе повредит?“ — „Даже если это может мне повредить“. Но я покачал головой, откинулся на спинку стула, отложил в сторону вилку и нож и сказал: „Я не стану печатать книгу“». При этих словах он посмотрел на меня, и в глазах у него вспыхнул странный огонек, и веки прищурились не то заговорщически, не то вопросительно — не поймешь. Бровь вдруг перестала дергаться — тик словно бы переместился к маленькому сгустку плоти в уголке губ, к родинке, и теперь стала подергиваться она, точно именно под нею затаилась усмешка. А в глазах запрыгали уже откровенно смешливые огоньки. «— Занятная штуковина, а? — человек и спокойствие его совести! Просто поразительно, как легко и радостно стало у меня на душе после этих слов! Все вопрос исчерпан. Злосчастная книга не увидит света! И я тут ни при чем, я ни от чего не отступился. И нечего мучить себя вопросом, на который я не знаю ответа: какое решение требует от меня большего мужества. Поскольку существует Реми, книгу опубликовать невозможно, и точка. Моя бунтарская душа должна запастись терпением до той минуты, когда она сможет проявить себя, выступив против загнивающего общества, олицетворяемого Провенами, в других областях — на поприще какой-нибудь активной деятельности, в политике. Мне стало так хорошо, что казалось, я готов хоть сейчас ввязаться в борьбу. Я чувствовал, что меня распирают силы. И в эту минуту я услышал: „Сдрейфил, старина!“ Реми указывал в мою сторону столовым ножом, почти дотрагиваясь до моей груди кончиком обвинительного лезвия. Он откровенно потешался надо мной. Надо полагать, мое лицо выдало мою живейшую радость. Но представляете, каким ушатом холодной воды он меня окатил!» Он помахал рукой жестом озорного мальчишки. А глаза искрились мягкой усмешкой и юмором, которые, несомненно, и составляют очарование его улыбки. «— Какой ушат холодной воды он на меня вылил! Конечно, я сдрейфил и пошел на попятную. Едва представился удобный предлог. Вдобавок позволивший мне сыграть благородную роль. Должно быть, у меня вытянулось лицо. В продолжение нескольких секунд Реми смотрел на меня, все так же беззвучно смеясь, потом убрал свой нож и начал резать мясо. „Давай обсудим, сказал он. — Самое главное — выяснить, ради кого и ради чего ты хочешь опубликовать свою книгу. Если только ради себя самого, ради собственной ничтожной душонки, во имя детской мстительности или из мелкого тщеславия и честолюбия, тогда и в самом деле стоп! Дед прав, потому что это маленькое свинство может обернуться большой гнусностью. Но ведь у тебя другие причины — так я по крайней мере надеюсь. Если ты чувствуешь, как я, в такой же мере, как я, если ты чувствуешь, что ты всего лишь рупор, не больше, рупор гнева и правды, которые выражаются через тебя, которые захлестывают твою душонку, как гнев юного Рембо захлестывал жалкого и, судя по всему, довольно нечистоплотного торгаша, каким он впоследствии стал и который уже сидел в нем, тогда, дорогой мой великий поэт, ты не имеешь права, ни-ка-ко-го права преграждать путь этому гневу и правде. Слишком поздно — они уже не твои, они принадлежат тебе не больше, чем деду или мне. Шапки долой! А теперь поговорим о нас обоих. Тут надо поставить точки над „і“. В наши годы уже непозволительно делать глупости и идти по ложному пути. Сначала о тебе. Со мной дело проще. Общество, в котором я существую и которому, поверь, знаю цену — ты этого не поймешь, но тем не менее это факт, — мне оно не мешает. Я свободен, его вонючие дерьмовые цени меня не стесняют, поэтому я не испытываю потребности их сокрушать. А вот ты, братец, дело другое, совсем другое. Если ты не разорвешь эти цепи, которые не без оснований оскорбили твое чувствительное обоняние, если ты их не разорвешь, что ж, я скажу тебе напрямик — тебе крышка. Он больше не смеялся, даже не улыбался, он серьезно смотрел мне прямо в глаза. — Если ты сейчас сдрейфишь и не опубликуешь книгу, говорю тебе: не успеет трижды пропеть петух, как ты вернешься с повинной в лоно семьи“. Это было уж слишком! „Но ведь ты сам, закричал я, — ты сам еще два месяца назад приходил уговаривать меня, чтобы я явился с повинной. Что, разве не так?“ — „Так, — ответил он. Несколько мгновений он разглядывал свою вилку, точно между ее зубцами надеялся найти объяснение этой перемене. Так. И я считал, что поступаю правильно. Очевидно, потому, что еще не разобрался тогда во всей твоей истории. Но зато с тех пор я много думал о тебе. И решил, что ты прав. Да, правда была на твоей стороне, хотя, наверное, ты сам не вполне понимал и теперь не понимаешь, в чем тут дело. Но в одном я отныне полностью убежден: в семью тебе возвращаться ни в коем случае нельзя. Объясню почему: в тебе есть один изъян — ты боишься жизни“. Мне хотелось ответить с иронией: „Скажи на милость, как ты до этого додумался!“ Но я был настолько потрясен, что не решался поднять на него глаза, чтобы он не прочел в них, насколько он оказался проницательным. „К счастью — сказал он, — да, к счастью, тебе стыдно, что ты боишься, и порой, когда ты уже готов отступить, этот стыд заставляет тебя держаться. Впрочем, это одна из форм мужества, и, может быть, вызывающая наибольшее уважение, а этого мужества тебе не занимать стать, ты это доказал, теперь на очереди — взрастить некоего Фредерика Леграна, который так и жаждет расцвести, но ему нужна для этого благоприятная почва, а для тебя эту почву составляют гнев, возмущение, нежелание примириться с существующим порядком вещей, а что порядок дрянной — это точно. Для меня, понимаешь ли, для меня наиболее благотворная почва — это, пожалуй, терпимость. Я извлекаю свои жизненные соки из чувства терпимости. Поэтому на меня семейная обстановка не оказывает губительного влияния. А на тебя оказывает и будет оказывать. Ты хочешь чего-то добиться в жизни? Тогда ты прав: надо перерубить якорные цепи, перерезать пуповину. Причем так, как ты начал: одним ударом сабли“. Он взмахнул рукой, а у меня слегка сжалось сердце, и я невольно вспомнил о том „Руби!“, которое мне уже так дорого обошлось, — неужели надо начинать все сначала? Мне стыдно, мне страшно, что я боюсь… да, он прав, во мне, как и во многих других, этот второй страх пересиливает первый. А он продолжал: „Со вчерашнего дня, с тех пор как объявлено о выходе твоей книги, я взвесил все, подумал о деде, о наших отцах, о тебе и обо мне. И о скандале. Разберемся. Старик В. П., твой отец и мой будут брызгать ядовитой слюной, пока скандал будет в центре внимания газет. Но дед сказал правильно: их будущее уже у них за плечами, стало быть, в их жизни ничего не изменится. Ну, переживут несколько неприятных минут, а потом шумиха кончится, начнется какая-нибудь другая — клин вышибают клином. Остаемся мы с тобой. Очень мило с твоей стороны, что ты беспокоишься о моей карьере, да и дед трогателен со своими заботами о „видных должностях“. Но одного он не знает — только это между нами, потому что старики захворают с горя, если пронюхают о моих планах: их „видные должности“ нужны мне как собаке пятая нога. По крайней мере в данное время. Прежде всего я хочу пошататься по свету. Послужить в колониальных конторах — в Маэ, Чандранагаре, в Ханое, на Мадагаскаре… Они мечтали бы, чтобы я завтра же стал управляющим Французского банка или, если без шуток, директором какого-нибудь банка поменьше. И навсегда окопался в Париже. А это совершенно не по мне. Пока я молод, хочу посмотреть мир. На первых порах поездить по колониям. Что будет, если меня опередят слухи о скандале? Но, во-первых, колонии далеко, а во-вторых, чем-чем, а скандалом в тропиках никого не удивишь… Об этом не стоит и говорить. К тому времени, когда я вернусь сюда, чтобы сделать, как говорят старики, достойную меня карьеру, утечет много воды, верно? Видишь, я говорю с тобой начистоту. С моей стороны тут нет и намека на жертву, нет даже намека на намек. Остаешься ты — только ты. А тебе, старина, я уже сказал: отступись ты, тебя простят, и ты вернешься в родительские объятья, тебя в них задушат в полном смысле этого слова, и ты станешь самым заурядным ничтожеством. Но если твоя книга выйдет, ты заживешь настоящей жизнью: с одной стороны, тебя будут восхвалять, с другой травить. Тебе придется отбиваться, воевать, нападать, кусаться, а гнев и ярость — это именно то, что тебе необходимо, чтобы преодолеть слабинку и сделаться настоящим человеком. Вот, старина, каковы дела. Набей этим свою трубку и выкури ее, как говорят англичане, или по-нашему: намотай себе на ус“».XV
Меня стал чертовски интересовать этот Реми! Сначала мне его представляют как зануду, педанта, конформиста, и вдруг бац! — нечто совершенно противоположное. Конечно, это человек весьма здравомыслящий, но при том с каким острым взглядом! Да, Марилиза права: если она признается мужу, что встречается с его двоюродным братом, он, вероятно, «почти обрадуется». Эта самая радость, потаенная, подавленная, отвергнутая, сочится из каждого его слова, каждое слово доказывает ее живучесть… У женщин зоркий глаз, в сердце любимого мужчины они способны разглядеть и загнанные внутрь привязанности, которых он стыдится, и уязвимые места — кроме тех, на которые слишком мучительно смотреть в упор, от них-то женщины и отворачиваются столь упрямо, что способны захворать. Вот тогда мне и приходится вместо них вскрывать эти изъяны… «— Мне бы хотелось знать, какого вы все-таки мнения, какого вы были мнения о Реми до того, как поссорились с ним? Что он такое: сынок благополучных буржуа, невозмутимый и самодовольный, уже катящий по рельсам блистательной и ничем не нарушаемой карьеры, кого ничуть не удивляет мысль, что он может стать президентом Республики, или тот умный, проницательный, скептический и прозорливый юноша, способный на язвительную иронию, но при этом славный малый, портрет которого вы мне только что, может быть неосознанно, нарисовали? — Гм, видите ли, в те годы Реми был и тем, и другим. Сам не знаю, как это могло уживаться, но факт остается фактом — он был и скептиком, и самодовольным юнцом. Я представлял собой как раз обратное: моя бунтарская натура все отвергала, но металась, натыкаясь на стены, как ночная бабочка. Я не отличался силой, и на финише он всегда брал надо мной верх. Так и на этот раз. Он не оставил мне ни единого предлога дрогнуть и отступить. Последним моим искушением было отказаться от книги во имя Реми и его будущего, но он сам разрушил аргументы в пользу такого решения. У меня не оставалось никакого выхода. Кроме как опубликовать „Плот „Медузы““. — Я забыла, в каком это было году? — В тридцать седьмом. Год Всемирной выставки. И Народного фронта. Вернее, того, что от него оставалось. Первый экземпляр книги мне однажды утром принес Пуанье. Да! Вряд ли нужно описывать вам состояние восемнадцатилетнего мальчишки (несколько недель спустя мне исполнилось девятнадцать), впервые в жизни увидевшего свое имя на обложке. „Фредерик Легран“. Было ужасно странно. Точно меня разыгрывали. В этом возрасте книги все еще кажутся реликвиями, а твое имя, напечатанное типографским способом, — чем-то вроде чуда. Потом все это быстро проходит, радость тускнеет, исчезает. Но в первый раз!.. Мортье свое дело знал: он организовал литературный коктейль у Липпа, как полагается, на втором этаже. Приглашенных было много, книгу они получили за два дня до коктейля, и статьи еще не успели появиться. Так что, поджидая такси, за которым отправился Марсель Пуанье, я совершенно не знал, к чему мне готовиться: к похвалам или к насмешкам и брани? Что ж, надо было держаться, Реми оказался прав: будь моя воля, я остался бы дома и зарылся головой в подушку, но, поскольку мы подъезжали к бульвару Сен-Жермен, страх обнаружить свой страх побуждал меня собрать все силы и приготовиться к схватке. И только когда я стал подниматься по узкой и крутой лесенке, которая вилась вдоль стены, выложенной керамическими плитками в характерном стиле начала века — это была работа отца Леона-Поля Фарга („Поэт будет здесь“, — восторженно предупредил меня Пуанье), — на меня снова напала робость, не страх, а на этот раз именно робость, при мысли, что мне предстоит оказаться среди стольких людей, которые гораздо умнее меня. Я уже не помню, как мы вошли. Как представил меня Пуанье. Помнится, кто-то зааплодировал, кто-то засмеялся, но в общем доброжелательно. Меня окружили, мне что-то говорили, я отвечал почти как автомат или, вернее, с каким-то чувством раздвоения, как бывает спьяну. Из этого хаоса память удержала только отдельные лица. Ну конечно, в первую очередь Фарг, пухлый, бледный, плохо выбритый, не рассеянный, а скорее высокомерный. Все расступаются. Мортье представляет меня, я собираюсь выразить ему свое восхищение, но он прерывает меня брюзгливым: „Знаю, знаю“. В его тоне было столько чванства и наглости, что я вдруг пришел в себя. „Что вы знаете?“ переспросил я. Мне удалось-таки его удивить. Он покатился со смеху и сказал Мортье: „А мальчишка не из робких!“ После чего он объявил мне, что, на его взгляд, мои стихи отвратительны, но это ничего не значит, я буду иметь огромный успех. Тут кто-то увлек его в сторону. Вспоминается мне также помятое лицо маленького, почти совсем плешивого человечка в железных очках, который молча, но ласково смотрит на меня, точно мы с ним давно знакомы. Это Рене-Луи Дуайон — помните? — издатель. Сам пописывающий стихи. Недурной эссеист. Позже написавший диссертацию о моем „Плоте „Медузы““, из которой я извлек много полезного. Но в тот день он ничего не сказал. В отличие от довольно уродливой, веснушчатой дамы с умными глазами и саркастической складкой губ. Она говорит без устали, и ее слушают, она восхищается моей молодостью, восторгается ее пылом, всеми этими „ненавижу семью“, „подохни, общество“, которые за последние полвека еще ни разу не звучали таким отчаянием в таких „юных устах“. Возможно, она была не прочь поцеловать эти уста, но уж очень безобразна она была… Несколько позже Мортье подвел ко мне довольно высокого господина с бледным, перечеркнутым усиками лицом, причем его глаза, рот — все черты, казалось, выражали неизменное сдержанное недоумение: „Вот как? А я и не предполагал…“ Он протянул мне руку, откинув назад верхнюю часть корпуса. Мягким, женским голосом с едва заметным провансальским акцептом он произнес, изящно поджимая губы: „Ярость, кощунство все это прекрасно, не бойтесь дать коленкой под священный зад, но, ради бога, будьте осторожны, не трогайте жемчужные короны!“ Я хотел было поинтересоваться, что он, собственно, имеет в виду, но он продолжал своим жеманным голосом: „Позвольте полюбопытствовать, кого вы предпочитаете: Сократа или Вагнера?“ В эту мину ту подошли еще какие-то люди, и я так и не успел задать свой вопрос. Потом мне вспоминается говорливое веселье у столов, безмолвная толкотня вокруг сандвичей и то, что я не заметил среди присутствующих ни одной по-настоящему хорошенькой женщины». Я подумала: «И ты будь осторожна! Но опасайся не жемчужных корон, а его таланта имитатора. Его портретные зарисовки (Фарга, Полана) живые и очень похожие. В своих воспоминаниях он, вероятно, искренен. Но впечатление может быть и обманчивым, и эта словоохотливость призвана скрыть самое главное. Он больше не спрашивает меня, не пора ли ему закругляться, но все ходит вокруг да около. В этой велеречивости кроется какая-то хитрость. По-моему, мы у цели. До сих пор он, по-видимому, не скрывал от меня ничего существенного. Но — внимание! — сейчас должны сработать защитные рефлексы. Может быть, даже подсознательно. Тем деликатней надо действовать». «— И долго вы там оставались? — Где? — На этом приеме в вашу честь. — Уже не помню. Так или иначе, я ушел оттуда измученный. И физически. И морально. — Но все-таки счастливый? — Как вам сказать, и да и нет. Понимаете, я не знал, что думать. Я чувствовал вокруг себя атмосферу подъема, довольства, радостного возбуждения, не без примеси яда, но при этом не совсем улавливал, против кого направлено ядовитое жало: против моих жертв или против меня самого? Скандалом наслаждались, но оценили ли мои стихи? Сочувствовали ли моему негодованию? Или, наоборот, осуждали мою дерзость, возмущались неблагодарным сыном, издевались над иконоборцем? Что имел в виду Полан, говоря о „жемчужных коронах“? На следующей неделе в газетах появились первые рецензии. Я был слишком молод — я ни черта не уразумел. — То есть в каком смысле? — А в таком, что большинство статей меня резко критиковали. А моя книга разошлась в три дня. У меня не было отбоя от приглашений на обеды и в литературные салоны. — Например? — Не понял, простите? — Что, например, говорилось в статьях? — Что жаль большого таланта, потраченного ради столь ничтожной цели. — И в левых газетах и журналах тоже? — Вот именно, это-то меня и удивляло: если бы меня поливали грязью только „Фигаро“ и „Эко де Пари“, это было бы вполне естественно. Но Жан-Ришар Блок в „Се суар“ назвал меня „жалким карапузом“. Я был совершенно сбит с толку. — А теперь вы понимаете, чем это было вызвано?» Он неопределенно махнул рукой и уклонился от ответа. «Но больше всего поразил меня Анри Беро в „Гренгуаре“. — Он вас, конечно, разнес? — Ничуть не бывало — он захлебывался от восторга! Доброжелательны были и „Канар“, и Гюс Бофа в „Крапуйо“. „Марианна“ была „за“, а „Вапдреди“ „против“ — поди пойми! Но, несмотря на всю эту неразбериху, Мортье и Пуанье были на седьмом небе. Пока свирепое перо Пуанье почти весело парировало нападки недоброжелателей, Мортье печатал уже десятую тысячу экземпляров и распродал их за педелю. — Я помню, вас тогда прозвали „гениальный постреленок“. — Ха, вы это помните? Это словечко пустил Кокто. Мне его припоминают до сих пор. И оно не доставляет мне большого удовольствия. — Почему? — „Гениальный постреленок“ не имеет ничего общего с гениальностью. Но не стоит углубляться. Нас познакомила баронесса Дессу. — С Кокто? — Да, и с Андре Жидом, На этот раз Марселю Пуанье пришлось тащить меня буквально на аркане, потому что я трепетал перед этими знаменитостями. Но вообще-то мне пришлось разочароваться, не столько в Кокто, сколько в Андре Жиде. Могу рассказать вам анекдот. Вам не надоело? — Говорите, говорите… — Жид приглашает меня в ресторан. Прихожу туда, расфрантившись, как только мог, он угощает меня устрицами, лангустами, себе заказывает гусиную печенку, уж не помню, что еще, дорогие вина, много говорит, вызывает меня на разговор, время идет, в ресторане уже никого не остается, гасят свет, а он все не просит, чтобы подали счет. Что делать? В конце концов я сам попросил, чтобы принесли счет. Я еще не был богат, по счастью, того, что я имел при себе, хватило, чтобы расплатиться. Он преспокойно предоставил мне расплачиваться. Не сказав ни слова. Но когда мы выходили из ресторана, он взял меня под руку и шепнул: „Вы не находите, что я скуп?“ (Оба смеются.) — Между нами говоря… тут можно было… — Совершенно верно строить разные предположения. Потом я много думал об этом. Может, это и в самом деле была, как он говорил, непреодолимая скупость. А может, он просто хотел меня эпатировать, и это была поза. А может, хотел отомстить злопыхателям, к которым причислял и меня. Не все ли равно! На этом наши отношения прервались. С Кокто дело другое. Он тоже был скуп, но при этом удивительно щедр. Эти качества могут уживаться в одном человеке. Он осыпал меня подарками. Мне пришлось положить этому конец, и не потому, что он требовал чего-то взамен, и не в том смысле, как вы предполагаете, а просто баронесса Дессу… — Я как раз хотела вас спросить: кто она такая? Расскажите о ней. — О баронессе Дессу? — Ну да. Вам это неприятно?» Он помотал головой, вытянув губы трубочкой и равнодушно пожав плечами, но ответил не сразу. Потом с силой потер губы указательным пальцем и сказал, вернее, пробормотал: «Я не прочь, но это заведет нас бог весть куда». Я тихо спросила: «Вы были в нее влюблены?» Он от души рассмеялся. «— Помилуйте! Бедняжка баронесса! Ей в ту пору уже стукнуло шестьдесят! — Тогда что же вас удерживает? — Да нет, абсолютно ничего… Только… Понимаете, от моей семьи у меня не было никаких вестей… Ни слова. Гробовое молчание. Даже Реми не заходил ко мне, но на то были уважительные причины: он стажировался в Бухаресте в крупной нефтяной компании. Он присылал мне открытки с Черного моря и с Дуная несколько дружеских, ни к чему не обязывающих слов. Моя книга, как говорят в театре, была гвоздем сезона — тиражи следовали один за другим и вскоре превысили пятьдесят тысяч экземпляров. Я никогда в жизни не зарабатывал столько денег. — На что же вы их употребили? — На первых порах просто раздавал. Понимаете, вокруг меня было столько нуждающихся, и потом, видите ли, заработанные такой ценой, они все-таки немножко жгли мне руки. Но зато в течение нескольких недель я был просто добрым ангелом Монпарнаса! И не столько из-за денег, сколько из-за самой книги. Понимаете, почти каждого из моих приятелей она вознаграждала за какую-нибудь скрытую рану, за тайное унижение. Она мстила за них тому социальному кругу, который они отвергли — а может, это он их отверг, никто этого в точности не знал, — но мы изо дня в день отрекались or него с глубоким омерзением. Моя книга давала им нравственную поддержку. — А как же Училище древних рукописей? — Училище древних рукописей?» Он посмотрел на меня с удивлением, которое само по себе было поистине удивительным: точно он никогда и не слышал о таком заведении. Потом, смущенно улыбаясь, повертел в руках свою трубку, рассыпая пепел. «— Her, об училище я больше не вспоминал. Вы ведь знаете, в жизни бывают крутые повороты. После успеха „Медузы“ будущее обрело для меня совершенно иной смысл. Древние рукописи были моей диогеновой бочкой, моим убежищем — а теперь я больше не нуждался в убежище. Реми оказался прав: я нуждался в борьбе. Мне теперь было не до училища».XVI
(Тут слово вновь приходится взять мне, потому что и в заметках Эстер Обань, и в магнитофонных лентах с записью рассказа Фредерика Леграна в этом месте довольно неожиданно началась такая путаница, что я вынужден был отказаться от мысли навести в них какой-либо порядок. В этом смысле, на мой взгляд, примечательна одна из заметок Эстер, состоящая из шести слов: «Опять он бродит вокруг да около…» Запись показывает, что Эстер стало трудно направлять своего пациента по пути более или менее связного повествования и не давать ему, как говорится, темнить с помощью бесчисленных вводных предложений. Тем не менее посреди этого нагромождения незаконченных фраз, внезапных отступлений, невнятных ответов, умолчаний и переливания из пустого в порожнее, по-моему, можно и даже должно выделить маленькую, с виду незначительную фразу, почти что восклицание: «Господи, ну конечно же, я был влюблен, да и как могло быть иначе в моем возрасте?» И в самом деле, в этом нет ничего удивительного, кроме разве того, что он признается в этом так неохотно, хотя до сих пор высказывался на эту тему с абсолютной легкостью и непринужденной искренностью, не испытывая ни малейшего смущения. Впрочем, он добавляет: «Неужели я должен рассказывать вам все свои любовные похождения? Право, я им счет потерял». — «Расскажите хотя бы об этом». Фредерик Легран все еще с колебанием отвечает: «Ну что ж, пожалуй…», и за этим следуют слова, вернее, даже фразы настолько неопределенные и невнятные, что просто трудно понять, к чему он клонит. Но вдруг, под конец, из них начинает вырисовываться нечто вроде портрета, и, естественно, предполагаешь, что это будет портрет некой юной Венеры. Но ничуть не бывало, лицо, которое проступает между строк, носит примеры розовощекой и седовласой старости — это добродушное лицо баронессы Дессу. Коротенькая заметка Эстер Обань (если только данная заметка относится именно к этой подтасовке) может служить объяснением, почему она его не перебила: «Терпение. Ничего не поделаешь. Я сама на это напросилась» — то есть, очевидно, на то, чтобы он описал баронессу. И он действительно описывает баронессу и маленький флигель на улице Варенн, где у баронессы был литературный салон и где она принимала писателей, художников и музыкантов. Из некоторых подробностей описания можно сделать вывод, что молодой Легран, побывав там однажды, чтобы познакомиться с Жидом и Кокто, зачастил гуда. Эстер высказала удивление по поводу такого постоянства — разве обстановка этого салона и его посетители не напоминали посетителей и обстановку улицы Мезьер? Разве Фредерик покинул свой дом ради того, чтобы обрести то же самое в другом месте? Разве для того, чтобы вернуться к этому, он напечатал свою «Медузу»?) Он выслушал меня, — (записывает Эстер), — полунасмешливо-полусмущенно, причем его бровь и родинка подергивались одновременно. В голосе его зазвучало раздумье. «— Вы правы, да, вы правы. Но все это не так просто. В жизни все не так просто. Во-первых, как вы уже убедились, в салоне баронессы Дессу можно было встретить самых неожиданных людей. Сегодня вы там видели Анри Бордо, а завтра Селина или Антонена Арго. Здесь бывали Деснос и Ропс, Беро и Леон Блюм. Я был самым молодым в этой компании, но, кроме меня, тут были и другие дебютанты, как и я закусившие удила. И потом, положа руку на сердце, доброта и материнская забота старой баронессы привязали меня к ней, потому что, сами понимаете, я все-таки очень тосковал по матери… А отношение баронессы в какой-то мере возмещало мне утраченную материнскую любовь. И потом, нет — сказать, что атмосфера улицы Варенн напоминала атмосферу улицы Мезьер, было бы преувеличением. Квартира моих родителей была темная, холодная и невыносимо чопорная. Квартира баронессы, куда вы попадали, минуя сквер, через монументальную арку, помещалась в элегантном особняке времен Людовика XIV, обсаженном по бокам пирамидальными тополями, и хотя деревья были довольно чахлые и жиденькие, осенью это придавало ему своеобразную поэтическую прелесть. Внутри великолепные деревянные панели. Правда, мебель нелепая, напоминающая времена Феликса Фора: кресла со стеганой обивкой, пуфы с оборками, кадки с пальмами, вьющиеся растения, ширмы, козетки с обивкой в мелкий рисунок. В одном из флигелей — зимний сад, в другом нечто вроде глубокого алькова, огороженного кованой железной решеткой, убранство в довоенном баварском вкусе: диван, покрытый шкурами, если не ошибаюсь, белых медведей, свет, приглушенный оранжевым абажуром. Баронесса покоила на этом диване свои довольно пышные, хотя и увядшие прелести, меня она усаживала рядом с тобой. Я до сих пор восхищаюсь тем, как искусно она умела заставить меня разговориться. В этом было, несомненно, и любопытство, и желание выведать чужие секреты, но в то же время искренняя отзывчивость, готовность прийти на помощь. Я понимал, что в глубине души она надеется примирить меня с родителями. Так как это было безнадежно, я слушал и улыбался. К пяти часам подавали шоколад, полчаса спустя являлись приглашенные. Приходили, как правило, послушать какого-нибудь поэта или молодого музыканта. В большой комнате, служившей салоном, которая могла бы быть мастерской художника, на возвышении вроде эстрады стоял концертный рояль. Но никто не обязан был тут сидеть или хотя бы слушать. Начатую в салоне беседу можно было продолжать в курительной, в холле, в баре, в зимнем саду. Старый барон переходил от группы к группе, предлагая гостям напитки и сандвичи, присутствие слуг нарушило бы духовную атмосферу салона. Барон с его лукавой детской улыбкой, розовой лысиной и моноклем мне очень нравился. На все происходящее в салоне ему было плевать. Если его спрашивали, как фамилия пианиста или какого-нибудь другого господина, вокруг которого теснились гости, он доверительно шептал: „Спросите у моей жены. Мое дело лошади“. — Хорошо, но где же все-таки любовная история? — Погодите, погодите, дойдем и до нее. Так вот представьте себе…» (Но с этой минуты запись снова становится не то что неразборчивой, но настолько сбивчивой, что ее трудно внятно передать; потом вдруг среди всех этих уклончивых фраз неожиданно, мимолетно то появляются, то вдруг исчезают чьи-то золотистые глаза. Неужели наконец удастся разглядеть лицо? Нет, не сразу. Boт снова Жид, и Кокто, и счастливый Фредерик, но потом тень в маленьких туфельках — девушка, а может быть, совсем молоденькая женщина, — она ходит взад и вперед с подносом в руках, помогая барону разносить шампанское, а иногда останавливается и прислушивается. Если говорят Жид или Кокто, она смотрит им в глаза, если Фредерик, она смотрит ему в рот. Она, что называется, впитывает каждое его слово, старается не пропустить ни малейшего оттенка интонации. И снова отступление на тему об отношениях двух великих писателей, настолько не имеющее касательства к предмету, что Эстер, не выдержав, восклицает): «— Ну довольно же, наконец. Как ее звали? — Это я вам скажу позже. Позвольте мне излагать события так, как они приходят мне на память. Память ведь это не поезд, ей маршрута не задашь. Это была для меня неожиданная поддержка — я говорю о девушке. Когда тебя слушают с таким вниманием, с такой откровенной жадностью, это поднимает дух. Заставляет тебя стараться оправдать ожидания. И тогда в процессе разговора ты обнаруживаешь в себе такие запасы красноречия, а иногда такую наблюдательность и глубину суждений, что сам диву даешься. И тем не менее… — Короче говоря — любовь с первого взгляда? — Ничего подобного. Я как раз собирался вам рассказать, что я откланялся, так и не попросив, чтобы меня ей представили, отчасти по рассеянности, отчасти из застенчивости. Я не узнал ни имени, ни адреса девушки и потом целую неделю не вспоминал о ней. — Но снова пришли туда? — И что же? — Ради баронессы или ради девушки?» Слегка поджав губы, он стал с преувеличенным вниманием разглядывать свои ногти. «— По правде говоря, не знаю. Понимаете, тут все перемешано. Помню, что в первый раз, уходя, я твердо решил больше не бывать в салоне у баронессы. Ладно, на этот раз баронесса заманила меня именем Жида. Да еще меня якобы хотел видеть Кокто — как тут было устоять, но одного раза хватит, на такого рода рауты я больше не ходок — вот какие у меня были мысли. И поверьте, я был искренен. И, однако, я пришел снова. Ради карих глаз? Не думаю. Ради баронессы? Это вернее: меня тронула ее доброта, ее материнская улыбка. Она так ласково спросила меня: „Мы увидим вас в следующий раз?“ Я подумал „нет“, а ответил „да“. И потом… ну да, я хотел увидеть ее, поговорить с ней, это правда. А впрочем, какое это имеет значение? Одно я могу вам сказать с уверенностью — впервые я ощутил, понял свои чувства к девушке, только когда заметил ее отражение в зеркале. Ну вот, вы сейчас снова скажете мне, что я брожу вокруг да около, но я должен рассказать все или ничего, потому что я пока еще не могу понять, чего вы добиваетесь. — Не тревожьтесь об этом. И не заставляйте меня без конца повторять вам одно и то же. — Хорошо. Дело ваше. Ну так вот. Представьте себе огромное зеркало. Во всю заднюю стену эстрады. В нем отражаются и салон, и зрители. И рояль. И за роялем молодой человек, не помню кто. И певица. Не профессионалка, а приятельница баронессы, довольно тучная, вся в жемчугах. Она поет бургундскую песенку, очаровательный гавот, игривый и весьма рискованный, считая своим долгом подчеркивать каждое слово лукавым выражением лица, подпрыгивает, покачивается, подрагивает студенистыми бедрами и трясет грудями; все это так смешно, так непристойно и так противоречит обычной степенной повадке дамы, что вопреки ее намерениям производит неописуемый комический эффект. Я смотрю на нее сверху, стоя на своеобразных антресолях или, вернее, галерее, куда отослали мужчин и старых, и молодых, и все они давятся от смеха. А внизу в партере — дамы, мы видим их со спины, но зато лица их отражаются в зеркале. Представляете? И в первом ряду золотистые глаза, лучи которых направлены вверх на меня. С этого все и началось. Потому что, само собой, мы сразу же узнали друг друга. Правда, не решились раскланяться, поскольку нас не представили друг другу. Но с этой минуты вопреки всем светским приличиям все мое внимание было отдано ей. Да, ибо от начала и до конца этого гротескного представления я смеялся ради нее. То есть вместо нее. Там, где сидела она, смеяться было бы непристойно — ведь она была в двух шагах от эстрады, ей приходилось сдерживаться. А я, наверху, мог хохотать без всякого стеснения. Ее молящий взгляд был призывом о помощи. В нем было столько комического ужаса, такое отчаянное желание прыснуть, что его одного было бы довольно, чтобы я расхохотался. И вот я хохочу и посылаю ей мой смех точно спасательный круг. Я вижу, как она стискивает маленькие кулачки, точно хватаясь за него, и потом время от времени ее глаза обращаются ко мне, словно черпая в моем веселье поддержку своим усилиям, направленным на то, чтобы подавить свое. В течение добрых десяти минут зеркало служило нам надежным посредником: девушка сидела ко мне спиной, и никто не мог заподозрить, что мы переглядываемся, да и каждый из нас двоих мог усомниться, ему ли предназначаются эти взгляды. Эта неуверенность рассеивала нашу обоюдную застенчивость, наша смелость оставалась тайной, и неуловимая, прелестная, трогательная близость устанавливалась между нашими молодыми сердцами. Даже когда я перестал смеяться, потому что смеяться было уже не над чем, это не разрушило нашего душевного контакта, хотя я по-прежнему обращался к нежному девичьему затылку и отражению в зеркале, а она — к молодому человеку, который издали улыбался ей, опираясь о перила балкона. Сладостная близость не нарушалась до конца концерта, но теперь ей сопутствовало торжественное, трепетное настроение, когда мы вместе слушали „Ларго“ Генделя и „Песню“ Шумана. При каждом такте, при каждом взгляде между нами протягивалась новая нить. Так что, когда музыка умолкла и все встали, с шумом отодвигая стулья, в моей груди что-то оборвалось». Уже в течение нескольких минут Фредерик Легран обращался не ко мне. Душой и сердцем он погрузился в незамутненную отраду воспоминания. Он сам почувствовал это. Вдруг замолчал. Вынул кисет, подбросил его на ладони. «Да-а, все это поросло быльем!» Я дала ему время овладеть собой, он справился с волнением и взглянул на меня, улыбаясь совершенно спокойно.XVII
Улыбаясь совершенно спокойно. Однако улыбка его, казалось, говорила: «Ну как, теперь вы довольны?» Будто он надеялся, что уж теперь-то я от него отвяжусь… «— И тут-то вы с ней все-таки познакомились? — Да, но не сразу. И не так, как было принято в этой среде. Во-первых, при таком стечении народа добиться, чтобы тебя представили… Потом, я был наверху, она внизу, я и сейчас вижу: она стоит в толпе, а я спускаюсь с галереи, на винтовой лестнице толчея, я еле переступаю со ступеньки на ступеньку, а она не хочет слишком явно показать, что поджидает меня, но не хочет и скрыть это, и поэтому лучи ее ускользающих глаз лишь изредка падают на меня, точно свет мигающей фары. А когда я оказался внизу, я не нашел ее в толпе, наверное, ее кто-нибудь увел. Между тем вечер близился к концу, и я уже начал терять надежду на удачу, на счастливый случай, который мог бы нас свести, но которому ни я, ни она не решались помочь. И вдруг я увидел, она разносит прохладительные напитки; я тотчас пустил в ход локти, пробился к ней, взял с подноса стакан: „Разрешите?“ — и мы оба рассмеялись, как два сообщника. Она сказала: „Я сейчас вернусь“. Я возразил: „Нет, не сюда, не в эту толчею“. Она: „Тогда в зимний сад“. Я пошел в зимний сад. Долго ждал. Наконец она пришла, уже без подноса. Мы сели рядом под рододендронами. „Меня зовут Бала“. — „А меня Фредерик“. — „О, я знаю, кто вы!“ Она была дочерью Корнинского, помните, знаменитые угольные копи. В те годы одно из богатейших семейств Франции после Ванделей. Ее настоящее имя было Бальбина, но все звали ее Бала. Бала Корнинская — мне показалось, что мне давным-давно знакомо это имя. Пока мы обсуждали с ней концерт, прыская при воспоминании о почтенной матроне, непристойно трясущей грудями, я ломал себе голову: кто мне о ней рассказывал? Или просто при первом звуке ее имени мне стало казаться, что оно мне давно знакомо? В тот раз нам не удалось поговорить подольше. Уже в течение нескольких минут в проеме двери, ведущей в салон, стоял седовласый, очень высокий, очень „породистый“ господин, одетый с изысканной простотой. Продолжая начатую с кем-то беседу, он то и дело поглядывал через плечо в нашу сторону. Наконец, покинув своих собеседников, он подошел к нам. Бала шепнула: „Мой отец“. Он еле заметно поклонился: „Корнинский. Извините, что я похищаю у вас мою дочь. Мы уезжаем“. Это было сказано вежливым, но не допускающим возражений тоном. Девушка встала, бросила на меня огорченный взгляд. Я тоже встал, немного обозлившись, но меня сковывала моя молодость, да и не мог же я затевать скандал в присутствии Балы — нет, это было невозможно. Я промолчал и холодно поклонился. Она протянула мне руку, я задержал ее в своей на две секунды дольше, чем это допускали приличия, и почувствовал, что рука слегка дрожит. Ее отец поклонился мне с ледяной улыбкой, она повернулась, и хрупкая шея, головка в кудрях греческого мальчика исчезли в толпе гостей. (Тут наступает молчание, потом сухой отрывистый смешок.) Ну, теперь вы не станете говорить, что я брожу вокруг да около? — Ах, вы об этом, мой друг… Все, что вы мне сейчас рассказываете, очень мило. Важно ли это? Как знать. Поживем — увидим. Итак, на сей раз вы влюбились не на шутку. — Не на шутку? Не торопитесь. Теперь и я скажу как знать. Само собой, прошла неделя, две, а я все мечтал о карих глазах, о нежном рте — мелкие трещинки на губах еще больше подчеркивали хрупкость ее облика, — вспоминал о нескромном зеркале, о маленькой ручке, которая задержалась в моей и выскользнула из нее робко, с сожалением. Я явился на ближайший прием к баронессе Дессу. Но Балы там не было. Я умирал от скуки, еле сдерживал свое нетерпение и на чем свет стоит клял Корнинского и его угольные копи. Все меня злило, все раздражало, вплоть до витиеватых комплиментов восторженных дам, которые обычно ободряли меня и в которых по-прежнему не было недостатка. Моя книга, ее бунтарский дух, нарисованные в ней портреты продолжали обсуждаться на страницах газет, моя особа все еще была в центре внимания. Только не подумайте, что я переоценивал значение светского успеха и своей собственной персоны. Если бы у меня и появилось такое искушение, Пуанье живо отрезвил бы меня. Но все-таки общее признание начало придавать мне смелости. Вот почему, уходя, я шепнул на ухо добрейшей баронессе: „Пригласите меня как-нибудь на чай вместе с Балой Корнинской“. Она вздернула брови, чуть заметно усмехнулась, я добавил: „Без ее отца“ и вышел, не дав ей времени ответить. Само собой, я не был уверен, что она исполнит мою просьбу, но нетерпение только подогревало мои чувства. Прошла неделя, две, три ничего. Я не решался позвонить и начал отчаиваться. И вдруг обычная карточка с приглашением на ближайший вечер, шесть гравированных и отпечатанных официальных строк. Но баронесса приписала от руки: „Приходите пораньше“. Явиться раньше четырех часов, не нарушая приличий, было невозможно… Выйдя из метро, я добрых полчаса прохаживался по улицам. Наконец осмелился позвонить — вошел, девушка была там. Когда она увидела меня, ее лицо озарилось лучезарной улыбкой. Я проявил неслыханную дерзость поцеловал ей запястье. Баронесса, как всегда, возлежала на своем покрытом шкурами диване, нас она усадила рядом с собой — каждого на пуф. Как опытная женщина, она стала ловко расспрашивать нас о нашей жизни, о детстве, так чтобы мы могли побольше узнать друг о друге, не проявляя нескромности. Подали шоколад. Бала облизывала губы розовым, остроконечным кошачьим языком, улыбаясь мне из-за своей чашки ампирного фарфора. Где-то в отдалении пробили часы — половина пятого. Вот-вот должны были появиться гости. Я встал и заявил: „У меня онемели ноги. Что, если мы прогуляемся?“ Бала радостно вскочила: „Я как раз хотела это предложить!“ Но баронессе это, как видно, не понравилось. „Нет, дети мои, нет! Вы достаточно взрослые, чтобы поступать как вам заблагорассудится, я не могу вам это запретить. Но не заставляйте меня играть слишком неблаговидную роль! Бала, я сказала вашему отцу…“ Но девушка закрыла ей рот поцелуем, засмеявшись ласковым смехом, который означал: не бойтесь. Я тоже сказал: „Даю вам слово“. Бала вырвалась от нее, сделав пируэт, схватила брошенное на стул клетчатое пальто, и мы вышли. Мы сбежали с лестницы, перепрыгивая через две ступеньки, точно школьники. Бала бежала впереди. Внизу темный вестибюль упирался в тяжелую застекленную дверь. Бала потянула ее к себе, поколебалась секунду, потом отпустила, и дверь захлопнулась. Девушка прислонилась к ней спиной. Она смотрела на меня с трепещущей улыбкой, ее зов был так бесхитростен и недвумыслен, меня охватило чувство такого простого и легкого счастья, что я подошел и так же просто обнял ее. Ее рот приоткрылся, она подставила мне губы. Я с упоением приник к ним. Она сжала мою голову ладонями. Потом ласково оттолкнула меня. Ее улыбающиеся губы задрожали еще сильнее, и мне почудилось, что в ее глазах стоят слезы. Ни слова не говоря, она открыла дверь, и мы очутились на улице, где с наступлением сумерек сгущался зимний туман». На сей раз он снова забыл о моем присутствии и обращался не ко мне. И вдруг его удивленные, полные недоумения глаза встретились с моими. Казалось, он хотел понять, кто я такая и что мне здесь понадобилось. Или будто я задала ему какой-то неуместный вопрос. Он прошептал: «Странно, с чего вдруг я стал вам рассказывать эту историю». Сначала я не ответила. Я выжидала, чтобы удостовериться, вернее, почувствовать, дошел ли он до нужного состояния, не пора ли ускорить события, или надо выждать еще. И тут произошло нечтостранное, его губы задрожали, их уголки опустились книзу, и все лицо вдруг пошло мелкими морщинками — как у собирающегося заплакать ребенка. Это длилось всего лишь мгновение, какую-нибудь секунду, но было так явственно, что ошибиться было нельзя. Я решила, что он «созрел», и сказала: «С чего? Да с того, дорогой мсье, что отныне вы испытываете неодолимую потребность рассказать мне эту историю. Воскресить тщательно погребенные воспоминания. Разве я не права? Как давно вы об этом не вспоминали?» Он потупил взгляд, медленно, неуверенно провел рукой у виска, по волосам, по непокорной пряди, потом рука сделала неопределенный, быстрый жест, точно собираясь встряхнуть кастаньеты. Наконец он поднял голову, и в глазах его был пугливый вопрос. «Вы правы, довольно давно». Я подалась вперед: «Так вот, дорогой мэтр, настало время взглянуть на эту историю в упор. Готова спорить, что именно то, что вы сейчас воскрешаете из забвения, отравляет воздух, которым вы дышите, а вместе с вами его вдыхает мадам Легран. Это и оказывает на нее губительное влияние, тем более сильное, что это нечто неощутимое и почти невыразимое. Если я вас правильно поняла, до сих пор рассказывать было легко. Трудности, испытания начнутся только теперь — не так ли?» «Может быть», — сказал, вернее, шепнул он. Он смотрел куда-то вдаль. Точно пытаясь разглядеть в туманной дали какие-то очертания. Его лицо было неподвижно. Даже бровь не двигалась. Он только близоруко прищурил глаза. Потом добавил: «Вероятно» — и встал. «Пожалуй, сказал он, повернувшись ко мне спиной, чтобы взять пальто, — пожалуй, мне не повредит, если я соберусь с мыслями». «Ой!» — про себя воскликнула я, но было уже поздно удерживать его я, конечно, не могла. Он откланялся, улыбнувшись самой что ни на есть светской улыбкой, сказал: «До вторника». Но я уже знала тогда, как знаю теперь, что он не придет: я нанесла ему удар слишком рано. Вот уже месяц, как он не является. Так же, как и его жена, Марилиза, — а это меня беспокоит. Неужели это он не пускает ее? 16 марта. Прошел еще месяц. Боюсь, что дело сорвалось. Решительно, мне еще многому надо учиться. Бедная девочка! Я беспокоюсь, чем все это кончится для нее? Прослушала записи их признаний — и мужа и жены. Что-то смутно вырисовывается. Почти убеждена, что она не имеет оснований упрекать его в каком-либо конкретном поступке. Жаль — было бы гораздо лучше, если бы он ее обманывал или если бы тут был еще какой-нибудь вздор. А тут что-то более глубокое. И неуловимое. Ах, черт возьми! 12 июня. После трех месяцев молчания — первый телефонный звонок. Звонит Марилиза. «Мы путешествовали. Когда мой муж может к вам прийти?» Я узнала ее голос, но в нем появился — как бы это сказать — какой-то надлом. Безмерная усталость. Я ответила: «Когда угодно. Хотя бы во вторник. А когда придете вы сами?» Помолчала, вздохнула. «Нет, спасибо, в этом нет нужды. Я в полном порядке». Я навела справки. Они действительно путешествовали около двух недель. Таким образом, со дня его последнего визита до их отъезда прошло два с половиной месяца за это время они не являлись ко мне, ни он, ни она.XVIII
Он прошел прямо к окну полюбоваться панорамой города. Сказал с улыбкой: «Я соскучился по этому виду». Я от души рассмеялась: «Очень любезно по отношению ко мне». Он тоже рассмеялся (но довольно сдержанно), подошел к креслу и вынул трубку. «— Вы ведь знаете, я не любитель лгать. Я так мало соскучился о вас, что рад бы — с какой стати сочинять небылицы? — рад бы сбежать от вас на край света. Доктор, я вас очень люблю. Очень уважаю. Восхищаюсь вами. Но вы чудовище. Нет, нет! Пожалуйста, не возражайте. Мне и так нелегко. Не понимаю, как это у вас получается. Вы почти все время молчите, изредка, когда начинаешь топтаться на месте, зададите вопрос-другой, и ты разматываешься, точно какой-то электровоз тянет за кончик нитки. — Как видите, я оборвала эту нить. — Да. А может, это я оборвал. Впрочем, не в этом дело. Марилиза сказала вам, что ей лучше, — не правда ли? — Да, но голос у нее был измученный. — Она пыталась отравиться. Таблетками веронала. К счастью, я слежу за ней. Я успел дать ей рвотное. — Она не хочет повидаться со мной? — Нет». Он долго колебался. Я услышала, как он дышит. На меня он не смотрел. «— Послушайте. Я в самом деле не понимаю, что происходит. Но в том, что причина во мне, у меня больше нет сомнения. — Жена сказала вам что-нибудь? Что-нибудь случилось? — Нет, ничего такого не было. Дело не в том. Вы, наверное, думаете, что это я не пускаю ее к вам после моего последнего визита. — Я этого не исключала. — Я не чинил ей никаких препятствий. И ничего ей не сказал. Не знаю, что она поняла. Что угадала. Но с этого дня она стала притворяться, будто она весела и счастлива. Словом, будто она здорова. Но я не слепой. — У вас чудесная жена. Она, вероятно, стремилась… — О! Мне не надо объяснять. Я ведь тоже не лишен чуткости. Она предпочитает болеть, выносить все что угодно, лишь бы не заставлять меня… быть вынужденным… подвергаться…» Ему не удалось закончить фразу, найти нужные слова. Я сделала вид, что ничего не замечаю. Впрочем, он не стал настаивать. Его голос обрел вдруг привычную уверенность и силу. «— Вы сказали мне, доктор: поглядите на себя в упор. Я так и поступал или думал, что поступаю, всю свою жизнь. Согласитесь, что ваш совет должен был меня удивить. — И встревожить. — И встревожить. Тем более что… ну да, у меня не было охоты смотреть в глаза воспоминаниям. По крайней мере тем, которые начал вытягивать из меня ваш электровоз. — Не мой, а ваш. — Простите, не понял? — Ваш электровоз. Мое дело — следить за стрелками и светофорами. — Тогда объясните мне, почему этот электровоз не способен ничего извлечь, когда я остаюсь один? Когда вас нет поблизости? — А вот это, друг мой, пока еще загадка даже и для нас, медиков. Тут, очевидно, замешан целый комплекс причин — тут и престиж врача, и доверие к нему, и даже — почему бы нет? — какие-то флюиды… Но только не гипноз, нет, нет, пожалуйста, не думайте — ни в коем случае… Скорее тут нечто напоминающее катализ, условный рефлекс… Для того, чтобы ожили погребенные воспоминания, вам, вероятно, нужны стены этой комнаты, это окно, Париж у ваших ног… И конечно, мой взгляд, мое присутствие… Ведь вы пытались, не правда ли? — Что пытался? — Наедине с собой оживить ваши омертвевшие воспоминания. Пытались целых три месяца. Но они не ожили. — Вовсе нет. Некоторые ожили. Даже многие. Но только… — Что — только? — Те, которые ожили, ничего для меня не прояснили. — И вы вернулись ко мне? — Вернулся». Это было сказано спокойным тоном, хотя и не без горечи. Он удобно расположился в кресле, выжидательно глядя на меня и как бы полностью отдаваясь в мои руки. В этом было даже что-то трогательное. Со вчерашнего дня я многое обдумала. «— Вот что мы сделаем. Вообще это не мой метод, я ведь не психоаналитик, но иногда это помогает. Вы ляжете на этот диван. Я приглушу свет. И вы будете говорить то, что вам захочется. Так. Хорошо. Лягте поудобнее, расслабьтесь. Хотите еще подушку? Не надо? — Так мне удобнее. — Хотите прослушать запись нашей последней беседы? — Незачем. Я все отлично помню. — Мы остановились с вами на очаровательном образе Балы Корнинской… — …которая, трепеща, выскользнула из моих объятий, да…» После этих слов мне снова пришлось ждать довольно долго — главное, не спугнуть его. На его губах было какое-то ускользающее выражение — что это: смущение? ирония? Пожалуй, и нежность. Мне почудилось, что именно нежность пронизывает его чуть сдавленный голос: «— …И мы очутились в сыром мраке улицы Варенн… Я хотел было повести ее к эспланаде Дворца Инвалидов, где нам было бы спокойнее, чем здесь, среди снующих взад и вперед прохожих. Но она…». И опять пауза. «— …она берет меня за руку, ласково, но решительно говорит: „Нет!“ — и тянет за собой в другом направлении, приказывает: „Сюда!“ И в ее облике вдруг появляется что-то — ну да, почти трагическое. Что это значит? Я не ждал, понимаете, никак не ждал того, что произошло потом. — И о чем вам не хотелось мне рассказывать? — Не знаю. Не знаю, в чем причина. Да и что мне мешало вам рассказать? Впрочем, если бы я знал, я бы не нуждался в вас. — Вы правы. Что ж. Продолжайте. Она бежала так быстро, что вначале я с трудом поспевал за ней. „Куда вы ведете меня?“ — „Увидите“. И все. По ее лицу я понял, что настаивать бесполезно, что она заранее все обдумала, все решила в течение этого бесконечного месяца. Мы молча шли вдоль старых, потемневших от времени каменных стен. Она не выпускала моей руки. Мы свернули на улицу Вано, потом на улицу Шаналей. Хотя я никогда не бывал в Британской библиотеке, я сразу ее узнал. Теперь ее там уже нет, она переехала на улицу Дез Эколь. Бала подтолкнула меня вперед, в холл, потом в какой-то кабинет, поцеловала молоденькую секретаршу, та смотрела на меня во все глаза, как видно, она была предупреждена — в самом деле, она вынула из ящика стола книгу и застенчиво протянула ее мне — это был „Плот „Медузы““. Я быстро надписал книгу, и нас провели в узкую, пустую, неуютную комнату, где стояло только маленькое клеенчатое кресло. Девушка принесла второе из соседнего кабинета и, дружелюбно улыбнувшись, оставила нас одних. Бала заставила меня сесть, придвинуть мое кресло к своему, взяла меня под руку и прижала мой локоть к себе. Я чувствовал округлость ее груди, меня охватило волнение. Она заговорила не сразу, ее взгляд упирался в стену, я понимал, что она старается собрать все свое мужество, что я должен молчать и ждать. Наконец ей удалось выговорить: „Мой отец плохо относится к вам“. Я подавил в себе искушение ответить, что меня это ничуть не удивляет, ведь в „Медузе“ я не пощадил людей его сорта. Но она с силой стиснула мой локоть, словно призывая меня к молчанию. „Он будет мешать мне встречаться с вами“. Она все еще смотрела на стену, но вдруг перевела напряженный взгляд на меня, спросила: „Вы меня любите? — И тотчас зажала мне рот ладонью, как кляпом, грустно покачав головой: — Вы меня совсем не знаете“. Я схватил свободной рукой ее запястье, пытаясь отстранить ее руку, но она все сильнее прижимала ее к моим губам, шепча (мне показалось, что она еле удерживается от рыданий): „Вы меня не знаете, а я… о! я… Наконец она отняла руку, приблизила свое лицо к моему так, словно хотела, чтобы мои губы считывали слова с ее губ, и шепнула на одном дыхании. — Я влюбилась в вас давным-давным-давно“. (Молчание, слышно только, как скрипит не то деревянный каркас, не то пружины дивана.) Я молчал. Что я мог сказать? Любое объяснение в любви казалось мне банальным, почти пошлым. Наверное, я бы обнял ее, но в это мгновение в ее глазах, в упор глядящих на меня, мелькнуло что-то вроде вызова. Она стиснула зубы: „Я ненавижу нашу среду, ненавижу богатство, роскошь, состояния, нажитые бесчестным путем, построенные на несчастьях бедняков.О усилья и муки Это река океан
Который вздымается валом кровавым
Кровью отсвечивают украшения ваших любовниц…
В подножия ваших дворцов ее волны плещут…
XIX
Он долго не произносил ни слова, и я предложила, посоветовала ему снова лечь на подушки. Но он встал, сухо отрезал: «Нет», подошел к окну и остановился возле него, любуясь Парижем. «Может быть, на сегодня хватит?» — спросила я. Он обернулся. На его лице вновь появилась очаровательная улыбка. «— О, хватит, и даже с лихвой! Но я остаюсь. Вы располагаете временем? — Что означает ваш вопрос? Вы же знаете, что нет. — Я имею в виду — сегодня, сейчас. Уже пора ужинать. Прием больных вы, наверное, на сегодня закончили? — Да, ну так что же? — Какие у вас были планы на сегодняшний вечер? — Собиралась кое-что дочитать. — Дочитаете в другой раз. Есть у вас в холодильнике яйца, ветчина, сыр? — Вы предлагаете мне соорудить изысканный ужин? — Я предлагаю вам продолжить, пока я не выговорюсь до конца. Даже если мне придется уйти от вас в три часа ночи». Я колебалась недолго. Этот человек понял, что для него пробил час взглянуть в глаза правде. Он не лишен отваги, он из тех, кто на вопрос: «Когда вы предпочитаете лечь на операцию?» — отвечает: «Сейчас». Однако, если он воображает, что мы закончим к трем часам, он ошибается. Тем не менее я приготовила, как он просил, яичницу с ветчиной. Когда я вернулась с подносом, мне показалось, что он задремал в кресле. При звуке моих шагов он выпрямился. Он был немного бледен. Поставил тарелку себе на колени. «Продолжим?» — спросила я. Он молча кивнул головой. Я заговорила первая. «— А вашу девушку, Балу… Вам удалось ввести ее в заблуждение? — Насчет чего? Насчет пылкости моих чувств? — Да. — Не знаю. Думаю… видите ли… должно быть, я слишком рьяно ее целовал. То есть вкладывал в это слишком много усердия. Под конец она вдруг как-то сжалась и осторожно высвободилась из моих объятий. „Пора возвращаться на улицу Варенн, а не то мы поставим в неловкое положение нашу добрую баронессу“. Она сказала это самым милым тоном, но в ее голосе — да, без сомнения, что-то в нем изменилось. Она встала. Я тоже. „Там будет ваш отец?“ Она надела пальто, натянула перчатки. „Надеюсь, что нет. Но как всегда, найдутся добрые души, которые заметят наше отсутствие, пойдут разговоры. А это нехорошо по отношению к милой старой даме“. Мы простились с молодой секретаршей, которая смотрела мне вслед таким взглядом, будто я ей пригрезился, мы снова вышли на улицу и пустились в обратный путь. Зимний сумрак стал почти совсем непроглядным. На углу улицы Варенн мы наткнулись на какого-то дежурного шпика, черного на черном фоне, невидимого в темноте. Бала громко рассмеялась. Я тоже, но довольно принужденно. Мы почти все время молчали, и вдруг она сказала: „Вы считаете меня ребенком, правда?“ У меня и в мыслях не было ничего подобного, я начал было: „Господи…“, но она не дала мне кончить: „Да, да, я все прекрасно вижу. — Она закрыла мне рот затянутой в перчатку рукой. Я знаю, что у вас в мыслях: вы говорите себе, что я слишком молода. Что вы не имеете права“. Я этого вовсе не говорил, но меня успокоило то, что она так думает. „Но я вам еще докажу!“ сказала она и по-приятельски ткнула меня кулачком в бок. В свете фонаря я увидел ее лицо, одновременно насмешливое и сердитое. Точно она сердито грозила сыграть со мной хорошую шутку. В мгновение ока я представил себе, как она приходит в мою каморку на чердаке с маленьким чемоданчиком. Что я буду делать? Меня прошиб холодный пот. Тем временем мы оказались у особняка баронессы. Я пропустил ее вперед, чтобы она вошла одна. Она не стала возражать, это меня утешило. Когда я в свою очередь появился в гостиной, я увидел, что баронесса уводит ее в холл, несомненно, чтобы все гости ее видели. Меня окружили, как и на прежних приемах. Преувеличенные похвалы, наигранная светская любезность и раздражали, и утомляли меня. Когда лесть становилась чересчур уж глупой, я отвечал какой-нибудь резкостью и, сам того не желая, укреплял свою бунтарскую репутацию. „Ах, какая изысканная грубость!“ — заявила мне какая-то женщина. У меня сорвалось в ответ: „Вам что, нравится, когда вас секут?“ Я тут же прикусил себе язык — в эту минуту кто-то ласково взял меня за локоть. Можно мне еще сыру?» Он смакует камамбер с таким чувственным наслаждением, что сердце хозяйки дома не может не порадоваться. Он осведомился, где я покупаю сыр. «В других магазинах камамбер слишком соленый. Хороший камамбер теперь такая же редкость, как хорошая театральная пьеса». Он намазал ломтик хлеба вязкой маслянистой массой. «— Кто-то взял меня за локоть. Это был ее отец. Господин Корнинский. Он улыбался. „Мне нужно сказать вам два слова… Не окажете ли вы мне честь?..“ Ей-богу, он улыбался мне по-настоящему любезно — от прежней ледяной сухости не осталось и следа. Он взял меня под руку, и так мы пошли сквозь толпу гостей. Нас провожали взгляды, полные ревнивого восхищения. Демонстративное дружелюбие угольного короля — это была удача, о которой мечтали многие. Она и смущала меня, и приводила в бешенство, но подсознательно я волей-неволей был польщен. Мысленно я весь подобрался и оделся в броню, ведь было совершенно очевидно, что мне предстоит выдержать бой. Он провел меня в курительную. Там никого не было. Пока он без церемоний открывал бар красного дерева, окованный медью, я, не дожидаясь его приглашения, уселся в обитое кожей кресло, широкое и глубокое, небрежно закинув ногу на ногу. Он, все так же улыбаясь, стал готовить два виски on the rocks[59]. Я спокойно ждал, чтобы он первым открыл огонь. Он сел в кресло рядом со мной. „Я полагаю, вы уже не в том положении, когда приходится вымаливать аплодисменты. А стало быть, вы обойдетесь без моих. Не подумайте, что я не ценю вашего таланта. Но если я признаюсь вам, что ваша „Медуза“ мне не нравится, вряд ли это вас удивит“. — „Если бы дело обстояло по-другому, я бы насторожился“, — съязвил я. „И напрасно, возразил он. Я мог бы не одобрять вашу книгу, но оценить ее свежесть и силу: в людях вашего возраста бунтарство всегда обаятельно. К тому же я не люблю слишком здравомыслящих молодых людей“. Я отхлебнул глоток виски: „Но вы пользуетесь их услугами“. Он не захотел поднять перчатку и продолжал прежним тоном: „Мои чувства к вам представляют странную смесь: вы внушаете мне тревогу и интерес. Когда я говорю „тревогу“ — я имею в виду себя лично. Вы сейчас в том состоянии духа, когда можно наделать глупостей. И толкнуть на них других. Например, молоденькую, несколько экзальтированную девушку“. Я пожал плечами: „Вы ее отец. Следите за ней“. Он с минуту глядел на меня, беззвучно смеясь моей наглости. „Зачем вы разыгрываете грубияна?“ — „А зачем вы разыгрываете смиренника?“ Он перестал смеяться, хотя на губах его еще держалась улыбка. „Потому что в данный момент сила не на моей стороне. Когда у вас будет дочь, вы поймете, как легко ей надувать отца. Я не могу ни сопровождать ее, ни установить за ней слежку, ни посадить ее под замок — так ведь? Да и вообще мне претит стеснять чью бы то ни было свободу“. Я звякнул льдинкой о край стакана. „Если не считать углекопов в ваших копях“. На этот раз он отставил свой стакан. Хотя он не рассердился, в его улыбке появилась холодная настороженность. „Это вопрос серьезный. Хотите, я организую вам поездку в Вотрэ? Вы побеседуете с моими шахтерами. И спросите у них, стесняю ли я их свободу“. — „Как будто они смогут отвечать то, что думают!“ — возразил я. В его взгляде мелькнуло удивление. „Вас проведет профсоюзный делегат. Они будут высказываться начистоту“. — „Возможно. А как насчет безработицы?“ — „То есть?“ „На шахтах нет безработных? Никто не боится оказаться в их числе?“ Он больше не улыбался. Выражение его лица стало серьезным, заинтересованным. „Какое-то количество безработных есть всегда. Но я…“ — „Значит, вы сами понимаете, что ни о какой свободе не может быть и речи“. Несколько мгновений он в задумчивости смотрел на меня. „Гм, — произнес он наконец. — Я не думал, что молодой поэт вроде вас…“ — „…может интересоваться социальными вопросами. Успокойтесь. Я не собираюсь встревать в эти дела. Но я ненавижу лицедейство“. Он пропустил дерзость мимо ушей. „А политикой интересуетесь?“ — „Еще того меньше“. Он медленно повертел в руках стакан, потом коснулся его донышком моего колена. „Но она интересуется вами, мой друг. И вы от нее никуда не денетесь“. Он прочел в моем взгляде: „Зачем он мне это говорит?“ На его губах снова появилась улыбка. „Война начнется в этому году, мой милый“. Шел тридцать девятый год. Война? Я не верил, что она может начаться. Он угадал это по моей гримасе. Он похлопал меня по коленке. „Не сомневайтесь, мой мальчик. Полагаю, вы все-таки кое-что слышали о некоем Гитлере? — Он, кажется, принимал меня за круглого идиота. — Ага, значит, все-таки слышали, — сказал он, обнажив в насмешливой улыбке клык. — Не подумайте, что я нахожу его таким уж опасным. Он способен навести порядок в европейском бараке. Но он слишком нетерпелив. — Он говорил о Гитлере так, как говорят о расшалившемся ребенке. — Никто не собирается вступать с ним врукопашную, но все же, если он будет слишком торопиться… Без драчки не обойтись, и на этом спектакле вы можете оказаться в первых рядах“. Протянув ему пустой стакан, я небрежно сказал: „Все это касается только вас“. Он взял у меня стакан, чтобы его наполнить. „Что именно?“ Я: „Драчка. Это война ваша, а не моя“. Он обернулся ко мне: „И не моя. Покачал головой. Отнюдь не моя. Но я не могу ей помешать, так же как и вы“. Мои приятели с Монпарнаса и я, как все вокруг, рассуждали о Сталине, Гитлере, Судетах, Австрии, Чемберлене и Муссолини, но наши анархистские или, вернее, даже нигилистические убеждения мешали нам вкладывать в свое отношение к этому, как мы его называли, грязному делячеству хоть крупицу страсти. Бенеш, полковник Бек, Риббентроп, Даладье — мы всех валили в одну кучу. И многие из нас готовились дезертировать, если придется взять в руки оружие. Я все еще пользовался отсрочкой, как студент Училища древних рукописей, так что в случае чего у меня было бы в запасе несколько недель на размышление. В эту минуту я услышал голос Корнинского: „Бедный буржуазный мир в полном смятении. Он перестал понимать, кто может его спасти“. Но мое терпение лопнуло. „Куда вы клоните?“ — дерзко выпалил я. „К моей дочери, — ответил он. — Я боюсь, что она похожа на вас. Если вы воспользуетесь этим, чтобы заставить ее наделать глупостей, а потом разразится война и вы исчезнете, что будет с ней?“ По правде говоря, его слова только подкрепили мои собственные сомнения, но в то же время он подстегивал мою наглость. „Она станет вдовой солдата. Вас утешит, если я на ней женюсь?“ Он начал со смехом: „О нет, у меня нет ни малейшего желания заполучить вас в зятья… — И вдруг добавил с неожиданным ударением — В настоящее время, — Я приподнял брови, но он сразу же переменил тему: Что вы намерены делать в жизни?“ Он напрямик давал мне понять, что не считает меня гением. Это пробудило мои старые опасения, однако во мне заговорила гордость: „Писать, с вашего разрешения!“ Он наморщил нос: „Опять стихи?“ Вот скотина! „Нет, роман. Но он придется вам не по вкусу так же, как „Медуза““. — Роман? Вы сказали ему правду? — Отчасти да. Но главное, отвечая ему так, я как бы и отступал, и одновременно атаковал — „гибкая оборона“, как говаривали во время войны. Его вопрос: „Опять стихи?“, оживив мои сомнения, ударил меня по больному месту. Мне было трудно продолжать играть роль фанфарона и выступать с позиции силы. А несуществующий роман позволил мне встать в позицию активной обороны. — Как это несуществующий? Вы же только что сказали… — …что я в самом деле начал его писать. По настоянию издателя, а также Пуанье. „Надо ковать железо, пока горячо“. На этот раз лучше писать прозу, чтобы расширить тему, советовали они. Перейти от яростного лирического пафоса к целенаправленным разоблачениям, к персонажам, в большей мере одетым плотью. Я засел за работу. Дошел до третьей главы и бросил. Что-то не клеилось. Перо утратило беглость, чернила не были прежним едким купоросом. Перенесенные в прозу, портреты моих героев становились более карикатурными, чем в жизни, я чувствовал, что „пересаливаю“. А может, все дело было в том, что я истощил свой порох в „Медузе“. Но, само собой, я не заикнулся об этом Корнинскому. — Однако роман ваш вышел?» Выражение укора, кисло-сладкой иронии собрало морщинки вокруг его глаз и губ. «— Вы же знаете, что нет». Я составила посуду на поднос и унесла в кухню, чтобы дать Фредерику Леграну возможность перевести дух, собраться с силами. В моем мозгу многое стало уже проясняться. Когда я возвратилась, он не шевельнулся. «— Скажите, это тот Корнинский, что недавно погиб в авиационной катастрофе? — Нет, вы его путаете с племянником, владельцем домен. Он много моложе дяди, ему было под пятьдесят. А тому сейчас лет семьдесят восемь. Не люблю с ним встречаться: при каждой встрече он липнет ко мне, с тех пор… с тех пор, как умерла его дочь». — На этот раз я была поражена: «Кто умер? — воскликнула я. — Бала?» Он в ответ: «Я тут ни при чем, совершенно ни при чем!» Как поспешно он это сказал! «— Больше того, пожалуй, если бы ее отец… если бы он не наговорил мне тогда… всех этих глупостей о своей дочери, я сам… — Но ведь, по-моему… — Дайте же мне сказать! Если бы он оставил нас в покое, мы в конце концов, наверное, поженились бы. И уж в этом случае, можете мне поверить, никогда в жизни… ни Реми, ни кто другой не смог бы… я никогда не позволил бы Бале… ну вот, мы перескакиваем с пятого на десятое, не перебивайте меня на каждом слове, если хотите, чтобы я рассказывал по порядку. — Прошу прощения. Продолжайте. — Я не помню, на чем я остановился. — Корнинский вас расспрашивал. — Ах да. О моих планах на будущее. Ни за что не угадаете…» Он никак не мог сладить с трубкой. Как видно, набил ее слишком плотно, ему никак не удавалось ее раскурить. «— …что у него было на уме. Он хотел… пф-ф… внушить мне… пф-ф… ни больше ни меньше… пф-ф… что я заблуждаюсь на свой собственный счет… Очевидно, он…» Из трубки пошел дымок. В конце концов он своего добился. — …разработал далеко идущий план: поскольку его дочь любит меня и он, как видно, угадывал ее намерения, а помешать им был не в силах — что ж, он ее поддержит, отдаст мне ее руку, но не раньше, чем вернет меня «на путь истинный». Понимаете? Таким образом, спасая меня, он спасет ее. «Вы талантливы, — заявил он мне. — Видите, я это признаю. И даже охотно. Перед вами может открыться блестящее будущее. Вопрос лишь в том — такое ли оно, каким вы его себе рисуете?» Рассуждая так, он задумчиво потягивал виски. «Ну что ж, возьмите меня к себе компаньоном», — съязвил я. Моя насмешка ничуть его не смутила. «Не разыгрывайте фата. Вы давно могли послать меня к черту, однако вы этого не сделали. Значит, поняли, что интересуете меня. Само собой, из-за моей дочери. И потому, что сила не на моей стороне. В противном случае вам бы не видать ее как своих ушей. Я сказал, что вы меня интересуете, я не сказал, что вызываете симпатию… Он снова подошел к бару, налил себе еще виски. — Во всяком случае, пока еще нет. — Он взгромоздился на один из высоких табуретов перед стойкой и, опершись локтями на медную перекладину, уставился на меня как коршун. Теперь-то чего вы боитесь? — вдруг неожиданно спросил он. Он заметил мое удивление. Я внимательно прочел вашу книгу. Куда более внимательно, чем большинство ваших поклонников. И я понял одну занятную штуку. Занятную настолько, что, если я скажу вам, в чем дело, вы рассердитесь». «Если я не рассердился до сих пор…» парировал я. «…Знаю, знаю, потому лишь, что я отец моей дочери. Да поглядите же на себя в зеркало, мой мальчик. Чем вы так гордитесь? Что хлопнули дверью? И сожгли за собой корабли, рискуя нищетой? Дурачок из сказки тоже бросился в воду, чтобы не промокнуть под дождем. Но теперь-то, — повторил он, — теперь-то, черт возьми, бояться нечего. Успокойтесь же наконец, черт подери!» Я ответил сухо — что еще мне оставалось: «Не понимаю, чего я должен перестать бояться? Объясните». — «Объяснять нечего. Но выслушайте меня внимательно. Ставки сделаны, молодой человек, и вы выиграли. Ваша „Медуза“ по меньшей мере отвратительна — это еще самое мягкое, что о ней можно сказать. Но я не слепой, стихи хороши, находок хоть отбавляй. Ваш талант очевиден, Париж его превозносит, вас называют „гениальным ребенком“. С первых шагов вы приняты в круг избранных. Приняты, признаны, обласканы. Даже я, старый крокодил, даже я, хоть и не люблю вас, вынужден снять перед вами шляпу. Чего же вам еще нужно и чего вы все-таки боитесь, черт возьми?»XX
«— И вы выслушали все это? Даже не пытались его прервать? — Поставьте себя на мое место. И не забудьте о двух вещах. Во-первых, это был отец Балы, во-вторых — Корнинский, угольный магнат. Трудно требовать, чтобы двадцатилетний мальчишка, и вообще-то лишенный самоуверенности, проявил ее по отношению к человеку, перед которым робел вдвойне. Быть дерзким легко, трудно быть стойким. К тому же припомните все, что я вам рассказывал, — то самое, что он угадал, уловил, читая „Медузу“. Конечно, в главном он ошибался, он недооценивал силу моего гнева, глубокую искренность моего бунтарства. Но насчет моего давнего страха он не ошибся. Страха не быть „принятым“, как он выражался. Страха, мании, которая преследовала меня с четырехлетнего возраста. Пусть даже он заблуждался насчет моей ненависти к разбойникам вроде него самого, ко всему обществу ему подобных, пусть все его рассуждения на эту тему были вздором, тем не менее помимо своей или моей воли он произнес магическое заклинание — своего рода „Сезам, откройся!“. Принят, принят, принят! Правда, я уже давно не стремился быть принятым, больше того, меня возмущала даже мысль о возможности подобного соглашательства. Но ведь до сих пор это зависело не от меня, а от общества, чудовищного, зловещего, которое на всех этапах моего детства и юности показывало мне, что презирает, отталкивает меня. И вдруг оно объявляло мне через своего посла — и какого посла! — что вручает мне ключи от побежденного города! Теперь от меня, от меня одного зависит войти туда на каких угодно условиях и когда захочу, да еще с воинскими почестями! Само собой, я не собирался этим воспользоваться. Но вы представляете, как у меня закружилась голова, каким победителем я себя чувствовал: наконец-то я взял реванш! — Я удивляюсь, почему вы не почувствовали себя победителем раньше? — А почему я должен был чувствовать себя победителем? Потому, что бывал у баронессы Дессу? И встречал там знаменитых людей? И меня засыпали назойливыми комплиментами? Дорогая моя, в моих глазах это ровным счетом ничего не стоило. — О, не скажите! — Почему? — Слава должна была иметь некоторую цену в ваших глазах. — А в ваших? — Друг мой, вы отвечаете мне как пресловутый отец иезуит. Его спрашивают: „Почему?“ Он отвечает: „А почему бы нет?“ — Но и вы тоже мне не ответили. — Потому что я не знаю, что такое слава. У меня есть некоторая известность. Только и всего. Какое тут может быть сравнение. — Я бы охотно променял свою на вашу. — И совершили бы невыгодную сделку. Вы считаете меня счастливой? — У вас есть все, чтобы ею быть. — Потому что я деятельна, смешлива, жизнерадостна? Но за внешней видимостью… Анатоль Франс признался как-то своему молодому секретарю, обратив к нему свое печальное, увенчанное лаврами чело: „Вот уже тридцать лет я не был счастлив ни единого часа, ни единой минуты“. Это потому, что он измерил всю глубину человеческих страданий, а никакая слава не может примирить с этим такое сердце, как у него. Люди несчастливы, но они боятся умереть. Поэтому единственное лекарство от их бед беды еще большие. Что может быть печальнее? Но если слишком много об этом думать, большую часть жизни надо проливать слезы. Вот как рассуждаю я. Но довольно философствовать. И так, комплименты отнюдь вас не успокаивали. А как они могли меня успокоить? Они входили в правила светской игры, которая маскирует жестокие нравы этого сборища скорпионов и пожирателей падали. Меня осыпают льстивыми похвалами, но стоит мне оплошать, и меня сожрут живьем — вот на чем выросли мои детские страхи. Согласен, на сегодняшний день мне удалось занять хороший стул, даже один из лучших, — но надолго ли? Зато совсем иное дело — слова, которые в качестве посла мне передал Корнинский! Это было приглашение, чтобы не сказать — призыв или даже мольба. Меня ждали, во мне нуждались! Он даже добавил, что, пожалуй, ему повезло, что выбор его дочери пал на меня. Вот уже год или два она была в таком настроении, что ее стоило только поманить… а этим мог воспользоваться кое-кто похуже. „Даже если вы у меня ее отнимете, — сказал он, — в один прекрасный день вы мне ее возвратите. Сейчас — это видно невооруженным глазом — вы готовы меня задушить. Но завтра вы остынете. Словом, запомните мои слова: когда придет время, отбросьте ложный стыд и, милости прошу, приходите, мы поговорим по душам. Нам нужны таланты вроде вашего. Стоит вам только захотеть — и вам обеспечено великолепное будущее. Не корчите же из себя дурака и не губите это будущее во имя невразумительных планов“». Он вдруг как-то неожиданно сник от усталости. Было еще не слишком поздно, и все-таки я предложила ему отложить разговор до завтра. Но он покачал головой, точно бегун, которому предлагают отдохнуть, а он во что бы то ни стало решил выиграть забег. «— Если я выйду из этой комнаты, больше вы меня не увидите. Неужели вы думаете, что мне доставляет удовольствие рассказывать вам о своей жизни? Что я предаюсь душевному стриптизу? Эксгибиционизму? — Конечно, нет. Я знаю, вам очень тяжело, и вы делаете это ради здоровья жены. Но зато вы прекрасно знаете другое: если вы не расскажете мне всего, если вы хоть что-нибудь утаите, все наши разговоры — потерянное даром время. — Вам кажется, что я что-то от вас скрыл? — Пока еще нет. — Но вы боитесь, что скрою. — Не от меня. От себя. — Послушайте. Вот уже десять лет я об этом не думал. Что я говорю! Я этозабыл. Похоронил. Вытравил из памяти. Прошла война. Я пять лет провел в плену в Германии. Мне было двадцать лет. Теперь мне сорок. И, однако, все восстановилось в памяти, вернулось, ожило, точно это случилось вчера. Невозможно поверить. И я вам мало-помалу все выкладываю. Со всеми подробностями. Так пространно, что навожу на вас скуку. Почему же вы предполагаете, что я не буду столь же искренен до конца? — Увидим. Что вы ему ответили? — Кому? — Корнинскому. — Он не дал мне времени для ответа. О! Вероятно, я приготовил колкую фразу, может быть, даже открыл рог, чтобы ее выпалить, но он не стал слушать, соскользнул с высокого табурета, на ходу ободряюще стиснул мое плечо и тут же исчез. — И что же вы сделали? — Когда? — Тут же. После его ухода. — Не помню, ничего не помню. — Вы не пошли к Бале? — Нет». Я выждала. Он не прибавил ни слова. Я начала терять терпение. «— Не может быть, чтобы вы совсем ничего не помнили! Что было на другой день или в последующие дни?» Он кивнул как бы в знак согласия. Откашлялся. «— Я сел в поезд на Марсель, а оттуда отплыл в Грецию». Итак, он сбежал. Но от кого? От Балы? От Корнинского? От самого себя? От других? От своего успеха? Или от всего, вместе взятого? В такие минуты я люблю свою профессию. В тебе должно быть что-то от ищейки или от золотоискателя — ты должна угадать приближение открытия. Уже в течение некоторого времени суть мне была ясна. Может, и ему самому тоже. Он знает, куда он идет, к какому разоблачению, но уже слишком поздно, слишком поздно уклониться, и так как он уклониться не может, он больше уже и не хочет, он рвется вперед очертя голову. В этом беге к признанию есть что-то головокружительное. Думает ли он в эту минуту о своей жене? Безусловно, эта мысль его поддерживает — но главное не в ней. «— Всю ночь я не мог уснуть, перебирая в уме, что я должен был ему сказать, как возразить. Странная ночь! потому что… Наутро вообразить мою встречу с Балой, вообще увидеться с кем бы то ни было: с приятелями из кафе „Селект“, с баронессой, с Пуанье — было для меня так же невозможно, как пройтись нагишом по Елисейским полям. Первым делом, первым делом я должен во всем разобраться! — Вам не пришло в голову посоветоваться с Реми? Вы уже давно не упоминали о нем». Решительно, это имя подействовало на него как электрический разряд. Рот слегка скривился, — не знаю, что он собирался сказать, но вдруг он овладел собой, и на губах даже появилось какое-то подобие спокойной улыбки. «— Нет, я не советовался с ним. По той простой причине, что он как вы, может быть, помните — заканчивал стажировку в Бухаресте. Но если бы он и был в Париже, я постарался бы сбежать от него, как и от всех остальных, сбежать на край света, ну хотя бы в Индию, если бы я мог. Но у меня было мало денег — я слишком щедро раздавал их друзьям. Впрочем, до войны и Греция находилась за тридевять земель. В ту пору ведь не было бесчисленных авиалиний. Путешествие, пароход, вынужденная праздность, морские дали — когда я сошел на берег, я уже немного успокоился. Я люблю порты, оживленные доки, корабли — я решил снять комнату в Пирее. Пирей тоже сильно изменился за эти годы. Для торговых судов из трех рейдов служит теперь только один, самый большой, там царит невообразимая кутерьма. Второй вообще не используется. А третий, меньший из всех, приспособили для курортников. Поэтому там вдоль всего берега протянулась цепочка кабачков для туристов, кабачки торгуют от ресторанов, расположенных по другую сторону улицы. Это очень мило, ты сам идешь в кухню, выбираешь по своему вкусу омара или барабульку, и тебе ее тут же поджарят — пальчики оближешь, а хочешь, приготовят подливку из густого и терпкого вина. Все это мило, но если ты вздумаешь не пообедать, а просто прогуляться, тебе ступить некуда. А в ту пору на берегу был один-единственный ресторанчик в самом конце пляжа, а вокруг все пусто, берег служил только для причала, да и приставали к нему одни рыбачьи лодки. Я снял маленький, но удобный номер с оштукатуренными стенами, из его окна видна была целая роща мачт, парусов, рыболовных сетей. Волшебное зрелище…» Я перебила: «Хорошо. Но как же Бала?» Бровь стала подергиваться. Губы сжались. «— Само собой, как только я распаковал свой чемодан, я тут же ей написал. — Понятно. Но что вы ей написали? — Выдумал, будто меня вызвали телеграммой, чтобы я прочел цикл лекций, который давно обещал прочесть. Мне, мол, не удалось ее предупредить, но я буду ежедневно ей писать. Пусть отвечает мне до востребования. — И она вам поверила? — Жизнь иногда подстраивает забавные совпадения: представьте себе, через три дня после моего приезда выдуманный предлог перестал быть выдумкой. — Вы в самом деле стали читать лекции? — Да, по приглашению „Альянс франсез“. Мне не пришло в голову путешествовать инкогнито. Как видно, какой-то старый журналист, которому позарез нужны были сенсационные новости, каждый день просматривал списки приезжих. На второй день он свалился как снег на голову: „Зачем вы приехали в Грецию? Может быть, намерены прочитать цикл лекций?“ Простота, забавность, логичность такого ответа — все подстрекало меня ответить утвердительно. Интервью было напечатано на другое же утро в афинской ежедневной газете. В тот же вечер меня вызвали к телефону — звонили из „Альянс франсез“. Не могу ли я во время своего турне провести несколько бесед в рамках их общества? Я, конечно, согласился: во-первых, это успокаивало мою совесть, и к тому же, заработав немного денег, я мог подольше оставаться в Греции. — То есть? — Что „то есть“? — Что значит „подольше“?» Он ответил не сразу. Тяжело вздохнул, потом: «Все это не так просто, как кажется». Я терпеливо ждала. «— Прежде всего мне ведь надо было подготовить лекцию. Я был молод, неопытен, мне показалось, что я нашел свежую тему: „Писатель и его персонажи“. Я думал, что за неделю ее одолею. И ухлопал на подготовку целых три. — Что же у вас не клеилось? — Персонажи. С писателем особых трудностей не возникало, а вот с персонажами — ну просто беда. Понимаете, происходило почти то же, что с моим неоконченным романом: когда я пытался очертить их точнее, они становились гротескными, карикатурными. Короче, при малейшей попытке приблизиться к ним они от меня ускользали. Это приводило меня в ярость, я швырял в корзину скомканные листки бумаги, садился в трамвай, идущий в Афины, и искал убежища в Акрополе. — И это вас успокаивало? — Понимаете, там, наверху, как бы вновь начинаешь ощущать истинную меру вещей: скала, отшлифованная миллионами ног, которые прошли по ней в течение веков, развалины древнего мрамора, величавые колонны на фоне синего неба, благородные очертания Эрехтейона [60] — все это на какое-то время успокаивало мою тревогу. (Усмехается.) Но не тревогу „Альянс франсез“. — Почему? — Они ведь сняли помещение, а лектор не дает о себе знать, секретарша поминутно звонила мне по телефону, я велел отвечать, что меня нет; наконец однажды вечером портье предупредил, что в „гостиной“ — маленьком закутке, где с трудом умещались узенькая конторка, низкий столик и два кресла, — меня ждет дама. Первым моим побуждением было удрать из отеля отступить, чтобы, как я себя уверял, разбежаться и так далее… а, впрочем, ладно, будь что будет! Я вошел. Дама сидела ко мне спиной. Она склонилась над каким-то журналом. Я сразу увидел хрупкую белую шею и приподнятую над ней копну локонов, отливающих медью. Когда дверь скрипнула, дама обернулась. Меня обуял страх — я узнал Балу. — Ха-ха! Представляю себе ваше лицо! — Она тоже рассмеялась, как вы: „Я вижу, вы вне себя от радости!“ — Что же вы сделали? — Что я мог сделать? Вначале я был не в силах выговорить ни слова, она указала мне на свободное кресло, и я рухнул в него, как тряпичная кукла. Ноги меня не держали. — Нечего сказать, любезно вы ее встретили. А она? — О, она держалась так спокойно, так непринужденно, точно мы находились в салоне баронессы Дессу. — Но в конце концов вы ей все-таки что-то сказали? — Да разве я помню, что именно…» «Ой ли?» — спросила я только. Он слегка покраснел, но возразил: «Столько воды утекло… прошло двадцать лет…» Понятно, голубчик, значит, тебя надо растормошить. «— Хорошо. Вы можете представить себе сейчас, как она сидит в кресле? — О да, это я вижу. Она отбросила журнал на столик и, скрестив руки на затылке, откинулась, почти легла на спинку глубокого кресла, вызывающе выпятив грудь и насмешливо поглядывая на меня из-под полуопущенных ресниц. Она как бы подначивала меня — другого слова не подберу. — Понимаю. Хотела вывести вас из себя. — Да, вы правы — а! вспомнил, я закричал: „Что вы здесь делаете? Как вы меня нашли? С кем вы приехали?“ Она невозмутимо ответила: „Одна. Я приехала к вам. Мне дали ваш адрес в „Альянсе““. Это было последней каплей. — Почему? — Как почему? Ведь это означало, что „Альянс“, а значит, все вокруг будут знать, что приехала Бала Корнинская! Совсем одна! При том, что ей восемнадцать лет! Она пустилась в плавание на пароходе и теперь явилась в Грецию! Для того, чтобы увидеть меня! Я воскликнул: „Вы соображаете, что делаете, или нет?“ Она безмятежно улыбалась: „Я вас предупреждала“. (Молчание.) Сначала я не понял. Предупреждала о чем? О своем приезде? „Но вы мне ничего не писали!“ Она пояснила: „Я предупреждала вас, что вы напрасно считаете меня ребенком“. Ее улыбка была полна самодовольной иронии, меня так и подмывало схватить ее за руки и трясти до тех пор, пока она не запросит пощады. Нет, вы только подумайте! Какая дерзкая выходка! — Так вы и сделали? — Что — встряхнул ее? Нет. Я даже вскочил — но стал расхаживать… (усмехается), вернее, попытался расхаживать взад и вперед, потому что закуток был так мал, что я на каждом шагу натыкался на мебель и в конце концов мне пришлось сесть. Вид у меня, наверное, был совершенно дурацкий. — Без сомнения. А дальше?» Иногда я почти восхищаюсь собой. Восхищаюсь своей терпеливостью — она нужна, и я ее проявляю, когда, несмотря на добрую волю пациента, его внутреннее сопротивление так велико, что приходится буквально клещами тянуть из него каждое слово, а в результате извлекать какие-то совершенно несущественные детали. Бедняга, он тут ни при чем: в такие минуты мой метод напоминает детскую игру, когда удочкой с магнитом на конце ребенок наудачу выуживает металлических рыбешек. Улов бывает самый разный (карп, омар, а то и старый башмак), но подсознание начеку — оно удерживает самое главное. Впрочем, в конце концов придет черед и этому главному. Казалось, он ищет в памяти. «— Дальше? Ага! Естественно, у меня вырвался вопрос: „Где вы остановились?“ Ее улыбка стала еще более вызывающей, если только это было возможно. „Здесь, само собой“. — „В этой гостинице?“ — „Мои чемоданы стоят в комнате по соседству с вашей“». Довольно неожиданно он рассмеялся. «— Вы помните „Пайзу“? — „Пайзу“? — Фильм Росселлини. О войне в Италии. О Сопротивлении. — Помню. Но при чем здесь этот старый фильм?» Он сделал странный жест — развел руки в стороны, потом быстро сблизил их, хлопнул одной ладонью о другую и стиснул пальцы, как бы безмолвно произнося: «О ужас! Сжальтесь надо мной!» «— Припоминаете? — Что именно? — Этот жест? Жест маленького монашка. Самое забавное место в фильме. Когда три союзнических офицера, — католический священник, пастор и раввин, — являются на постой в монастырь капуцинов, расположенный в самом сердце Абруцких гор. Они представляются монашку, и он вдруг понимает, что третий из них еврей… Как он задохнулся, с каким ужасом и негодованием посмотрел и как стиснул руки, а потом как поспешно зашагал, путаясь в рясе, чтобы оповестить обитателей монастыря о чудовищной новости… Когда я вспоминаю эти стиснутые руки и расширенный от ужаса взгляд, я покатываюсь от хохота. — Теперь и я вспомнила, но зачем вы мне все это рассказываете? — Потому что именно так расхохоталась Бала, когда я не удержался от такого взгляда и такого жеста. Я подумал о ее дерзкой выходке и о скандале, который это повлечет за собой. Здесь! В той же гостинице, что и я. В соседней комнате! — Что же вы сделали? — Больше ничего. Просто стиснул руки. Но она, очевидно, заметила, что я побелел как полотно, потому что она встала, взяла меня за руки и потянула к себе, принуждая подняться: „Пойдемте, прогуляемся в порту. Там мы поговорим и разберемся во всем, что произошло“. — А дальше? — Вот и все. — То есть как это все? — Я имею в виду, что дальше не произошло ничего существенного, и только когда ее отец… — Погодите, погодите. Существенное или нет, мы это увидим. Итак, она заставила вас встать. Прекрасно. Очевидно, вы вышли из гостиницы. Ну же, припомните. Час был уже поздний? — Было самое прекрасное время дня. Солнце только-только скрылось за горизонтом. Темный лес мачт вырисовывался на небе, окрашенном в тот цвет, какой бывает лишь на Востоке и больше нигде, разве что изредка в Венеции: полыхание золота, видимое как бы сквозь хрусталь… — Довольно описаний! — Вы сами просили меня… — Вы правы. Извините. Это от нетерпения. Продолжайте. — Вы сами затыкаете мне рот. — Прошу прощения. Было прохладно? — Нет, нет. Ветер с моря был еще теплый, он приносил с собой запах рыбы, йода и соли… (Молчание.) Бала взяла меня под руку… Она прижала мой локоть своим локтем… ее бедро касалось моего бедра… от нее тоже веяло терпким запахом соли, и мне до смерти хотелось вдохнуть этот аромат, и в то же время я этого не хотел, и сердце мое металось в счастье и муке… (Молчание.) — Куда вы пошли?» На этот раз молчание длилось долго. Он не двигался. Только нервно скривил губы, как это бывает, когда силишься вспомнить, но что-то мешает. Мне казалось, я вижу, как он старается разглядеть в гаснущем свете дня юную пару, ее видно со спины — пара застыла, но в то же время удаляется — куда? «— Куда мы пошли — кажется, да, верно, в сторону мола. Да, да, в конце мола маленький невысокий маяк… с зеленым и красным огнем, а подальше первая звезда… Бала прижимается щекой к моей щеке… и говорит: „Почему вы сбежали?“ Я хотел возразить… хотел опять сослаться на мнимое приглашение „Альянс франсез“… но она шутливо ткнула меня носком туфли в щиколотку: „Я только что из „Альянс франсез“, мой мальчик. Сочинять бесполезно. А ну, говорите правду. Чего вы боитесь?“ (Молчание.) Она повторила слова своего отца. Я вырвался от нее, и мы…» Долгий близорукий взгляд, маленькая морщинка между бровями — словно он пытается разглядеть время на далеких башенных часах. «— …мы оказались лицом к лицу… Она опиралась о поручни… а мне, как сейчас помню, в спину врезался край лебедки. „Уж не воображаете ли вы, что я боюсь за себя?“ — „Вот именно, не знаю, что и думать“. Она озабоченно смотрела на меня, как смотрят на больного ребенка… Я сказал с раздражением: „Я хочу, чтобы вы знали одно. Бала: я не соблазнитель. И тем более не охотник за приданым!“ (Молчание.) Поверьте, я говорил искренне. (Молчание.) По ее лицу… но ее лицу… я видел, что она не знает, смеяться ей или плакать. Желание смеяться взяло верх. „Приданое! Хорошенькое теперь у меня будет приданое! А насчет того, чтобы меня соблазнить… Скажите, дорогой мой донжуан, кто кого, по-вашему, пытается соблазнить в эту минуту?“ Я пожал плечами: „Я говорю о том, что подумают люди“. Что-то… жесткое появилось в ее взгляде, в выражении опущенных губ: „Значит, отныне вы стали с этим считаться?“ (Молчание.) Вы ей возразили? — Возразил. „Не переворачивайте все вверх ногами — еще раз повторяю, я думаю только о вас“. Она: „А по какому праву? — Она по-петушиному вытянула шею, вздернула голову. — Явившись сюда без провожатых, я, по-моему, доказала, что уже достаточно взрослая, чтобы поступать как мне заблагорассудится“. Я сделал над собой усилие. И ответил, не повышая голоса: „Вы никогда не слышали о совращении малолетних?“ Она медленно покачала головой: „И вы еще смеете утверждать, что беспокоитесь только обо мне!“ — „Смею! — Я говорил правду. — Я… я так или иначе выкручусь. Даже если ваш отец… Билеты, регистрационные листки в гостинице словом, доказательства у меня найдутся. Доказательства того, что я вас не похищал и вы приехали ко мне против моей воли. Но вы сами, Бала, вы сами! — Я сделал шаг к ней. Вы сами, Бала, ваша честь, ваша репутация…“ Она закричала: „Shut up!“[61]— так громко, так резко, что пригвоздила меня к месту и точно кляпом заткнула мне рот. Она закричала: „Вы что, нарочно? Хотите, чтобы я повторила все сначала? А может… может, вы просто… отказываетесь меня понять?“ (Молчание.) Я вовсе не отказывался: я не понимал, клянусь вам, я был в полнейшей растерянности. Вот как сегодня. — Теперь уже недолго. Ну же, наберитесь храбрости. Минутная боль, а потом… — Боль? Пожалуй, да… Но… Но это отрадно тоже. Мучительная отрада… Как она была хороша! Взволнованная, разгоряченная. Ее лицо розовело в последних лучах солнца — представляете, последние лучи уже закатившегося солнца, похожие на гаснущее воспоминание… Она сказала: „Как вы думаете, почему я вас люблю?“ Я пролепетал: „Но, Бала, я думаю, мне кажется, я считал…“ В два прыжка, с какой-то стремительной грацией она оказалась передо мной, схватила меня за уши и стала встряхивать мою голову, не причиняя мне боли и приговаривая сквозь зубы: „Разве вы еще не поняли, я люблю вас за то, что вы написали „Медузу“. И за то, что я похожа на вас. И, как вы, хочу громко крикнуть об этом всему этому прогнившему обществу, в котором мой отец принуждает меня жить. Именно потому, что я дочь Корнинского. Потому что я люблю отца и презираю себя за то, что его люблю. По всем этим причинам мне нужен скандал, от которого вы хотите меня избавить… Она наступала на меня грудью, край лебедки впивался мне в поясницу, мне было больно, и я старался вновь и вновь вызвать эту боль, чтобы отогнать другие мысли… — Фредерик, Фредо, умоляю вас, не защищайтесь больше! Вы сбежали, может быть, вы должны были так поступить, может, в этом был ваш долг, я верю, знаю, что вы думали только обо мне. Но теперь я здесь, нас двое лицом к лицу со всем миром, и мы не какие-нибудь первые встречные — „гениальный ребенок“ и дочь Корнинского, мы вдвоем со всей яростью и силой выступим против подлости этого мира. Больше вы не убежите от меня, Фредерик, я здесь, я приехала и останусь, я так горжусь, что у меня хватило мужества! Как и у вас, Фредерик, как и у вас!“» Он вдруг обхватил себя руками, точно зябкая старуха. И сидел так довольно долго, глядя в прошлое. Мне уже, собственно, незачем было добиваться от него правды во всей ее наготе, но ему было необходимо все высказать — высказать здесь и вслух. «— Я вырвался от нее, не выпуская из рук ее пальцев, и встал так, чтобы между нами оказалась лебедка. От металла веяло прохладой. Я прижался к нему лбом. „Бала, вы ведь верите мне? — сказал, вернее, пролепетал я. — Я вас люблю. Люблю всем сердцем. Так же, как вы меня любите. — Я поднял на нее глаза: — Скажите, ведь вы мне верите? — Она ласково кивнула, но больше не улыбалась. Я снова прижался лбом к лебедке. — Вы правы, я сбежал, признался я. Однако это были еще цветочки. Мне пришлось перевести дух, чтобы продолжать: — Но я сказал вам неправду: я сбежал не от вас. Я сбежал от себя. Понимаете? От самого себя“».XXI
Эти последние слова он и сейчас произнес с видимым усилием, поникнув головой. Возможно, он снова забыл о моем присутствии, снова видел перед собой Балу. А я воображала, я слышала то патетическое молчание, которое в наступивших сумерках воцарилось между молодыми людьми. Такое же молчание царило теперь в полутемной комнате, освещенной только приглушенным, ненавязчивым светом моей настольной лампы. Наконец он вдруг поднял глаза, уставился на меня долгим взглядом в упор, словно я только что высказала какое-то странное соображение и он пытается в него вникнуть. Когда он улыбается, в его лице по-прежнему появляется трогательное очарование, но на этот раз улыбка была такой натужной, такой вымученной, что походила на гримасу. Он произнес: «Я рассказал вам то, чего не рассказывал никому на свете». Я ответила тихо: «Все сказанное вами не выйдет за пределы этой комнаты». Он пожал плечами: «О! не в том дело… Разве… Не все ли мне равно… не все ли равно, когда я… после того что я…» Казалось, он не находит слов, я пришла ему на выручку: «Вы, конечно, никогда не рассказывали об этом вашей жене». Он отозвался сразу: «Нет, но не потому, что хотел скрыть! Я рассказал бы, если бы вспомнил. Но я сказал вам правду: я забыл эту сцену с Балой. Вычеркнул из памяти. Похоронил. Мне казалось, что я помню только…» Он осекся. Я не дала ему уклониться: «Что вы помните?» И услышала в ответ: «Другую сцену. С ее отцом. — И поспешно добавил: — Но теперь она приобретает совсем иной смысл. — Он почувствовал, что я не поняла. — Не тот, что прежде. Если бы я рассказал вам о ней, не признавшись… — И вдруг: — А ей надо рассказать?» «Кому?» — «Марилизе. О Бале и обо всем, что с этим связано? Я не очень ясно себе представляю, каким образом это… но если вы считаете нужным…» Я жестом прервала поток невнятных фраз: «Как вам сказать? Для вас это может стать новой попыткой уйти. Уйти от самого себя. Новой попыткой взвалить на ее плечи то, что вам пора наконец возложить на свои. Будьте искренни: вы и в самом деле думали сейчас о ней, о ее здоровье?» Он заерзал в кресле, признался: «Нет». Я улыбнулась и движением век одобрила его чистосердечие. «Вы думали о себе, не так ли? Только о себе. Потому что вы наконец-то увидели себя таким, какой вы есть. Без прикрас. — Он слушал молча. Я добавила: — Забыл, похоронил, вычеркнул из памяти — сказать легко. Но так ли это?» Он искренне удивился: «Клянусь вам…» — а я: «Верю, верю. Но каким образом? — Я неудачно выразилась, он смотрел на меня, не понимая. — Я хочу сказать: как вам удалось вычеркнуть это из памяти? При каких обстоятельствах это произошло? Какие события позволили вам „похоронить“ эти тяжелые воспоминания?» Он выдавил из себя что-то вроде усмешки горькую усмешку человека, у которого открылись глаза на печальную правду. «— Это случилось после того, как я в последний раз увидел Реми. — Вашего двоюродного брата? — Да. Когда я наконец узнал, когда он наконец мне сказал, каким образом погибла его жена. — Его жена? — Бала Корнинская». Конечно, я не ждала этого брака, не ждала, что узнаю о нем ex abrupto. И однако я не так уж удивилась. Точно подсознательно я уже построила сходную гипотезу. Может быть, и сам Фредерик Легран в какой-то мере заподозрил, что, сообщив мне это, он меня почти не удивил. Во всяком случае, он не добавил больше ни слова, и мы просто долго смотрели друг на друга как два сообщника. В глубине души мы ведь оба сознавали, что все уже сказано, и он знал, что я это знаю. Несколько фрагментов, которых еще не хватает для решения моей головоломки, ничего в ней не изменят. Мне любопытно их узнать, но я могла бы теперь его отпустить и отпустила бы, если бы он захотел. Но он не вставал со своего кресла, точно решил остаться в нем навсегда. Мне уже не в первый раз приходится видеть пациентов, которые не могут прервать свою исповедь: с той минуты, как самое трудное сказано, они испытывают неодолимую потребность избавиться от вытесненных воспоминаний, которые гниют где-то под спудом. Тайна в душе все равно что камень в почках — извергнуть его мучительно, но зато какое блаженство, какое облегчение наступает потом… Он сидел в своем кресле, а я думала о его жене: как воспримет она правду, которой так страшится? Поможет ли это ей справиться с болезнью или, наоборот, ухудшит ее состояние? А ведь в глазах многих вся эта правда не стоит выеденного яйца! Подумаешь, черточка характера… Но когда вся жизнь, все взаимопонимание и счастье зиждутся на иллюзии… В любом браке весь мой опыт это подтверждает — каждый из супругов ежедневно творит образ другого, в особенности жены живут своим воображением. Бедная, упорствующая Марилиза — она чует, она знает уже давно то, чего не может допустить. Ей легче чувствовать, признавать виноватой себя, скверную женщину, чем увидеть в истинном свете своего знаменитого мужа-«бунтаря». Ей кажется, что таким образом она защищает его (вернее, защищает тот обманчивый образ, которым она живет), но эта защита изобличает его, и этого-то он ей не прощает — вот он, заколдованный круг. Кому надлежит его разомкнуть? Ему самому или мне? Это требует серьезного размышления. Только бы не сделать ложного шага. Это чревато опасностью. Может быть, даже смертельной — недаром она уже пыталась отравиться. Не знаю, дожидался ли он поощрения с моей стороны. Мы долго смотрели друг на друга с вызовом, потом он спросил: «Ну как продолжать?» Я развела руками: «Смотря ради кого. Что касается вашей жены, Марилизы, ею займусь я. Прежде чем ею займетесь вы сами — если это окажется возможным. Само собой, мне интересно узнать то, чего я еще не знаю о вас, но это как если бы я читала роман и остановилась на самом интересном месте, а „продолжение следует“. Самое важное я уже знаю. И вы тоже. Остальное только послужит подтверждением. Значит, в нем нет необходимости». Он покачал головой, медленно водя пальцем по одной из довольно уже глубоких борозд, которые годы проложили на его щеках. Потом нерешительно сказал: «Но это нужно мне». Я улыбнулась: «Ну что ж, тогда рассказывайте». Он раскрыл ладони рук, лежавших на коленях, и его растерянный вид как бы говорил: «Помогите же мне немного…» «— Что вам ответила Бала? — На что? На мое признание? Что я сбежал от самого себя? Ничего. Насколько я помню, ничего не ответила. Да и что можно было ответить? И потом, мне кажется, она не сразу поняла истинный смысл моих слов. Она подошла ко мне, обойдя лебедку, материнским движением привлекла меня к себе, на короткое мгновение — ровно настолько, сколько нужно, чтобы нежно, мягко приласкать, — прижала мою голову к ямке у плеча… (Вдруг страстным, страдальческим голосом.) О, если бы я не оказался… если бы я не повел себя как круглый, безнадежный идиот… может быть, с нею… может быть, мы смогли бы… я мог бы еще и сейчас… (Голос сорвался. Молчание.) А потом, потом мы пошли обратно, прижавшись друг к другу, не разговаривая. Набережные начинали по-вечернему оживать. Пора была еще ранняя, зима, но теплый воздух, точно пар, продолжал струиться от разогретых солнцем камней. На каждом шагу импровизированные лотки из старых ящиков и корзин предлагали нам плоды моря, которыми торговали смуглые черноволосые женщины в черных бумажных платьях. Помню, мы купили огромные горьковатые мидии, которые водятся в Средиземном море. Сидя на краю набережной и свесив ноги почти до самой воды, мы лакомились нашими мидиями, изредка перебрасываясь двумя-тремя словами только о том, что было у нас перед глазами, — о неугомонной и неутомимой жизни порта. А рядом я вижу рыбачью лодку, которую покачивает ласковая волна… каждый раз она с приглушенным треском ударяется о гранит… И колеблются зеленые волосы подводных скал, точно кто-то машет платком, повторяя нам снова и снова: „Прощайте!“… а там дальше, мимо мола, сонно проплывает шлюпка, и ее треугольный парус светится на фоне уже почерневшего камня… Позади нас галдят и смеются дети, шаркают чьи-то босые ноги, перекрикиваются матросы, кто-то поет, кто-то бранится, и все это тонет в грохоте скрипящих колес и катящихся бочек… А над нами летают чайки, они с пронзительным воплем опускаются на воду, но я, я словно оглох и слышу только одно: как глухо бьется у моего плеча девичье сердце — сердце девушки, которая меня любит, которую я хочу и которую я предаю. Я слушал биение этого сердца до тех пор, пока не стало совсем темно, небо усеяли сверкающие звезды, и мы вернулись в гостиницу». Я терпеливо предоставила ему договорить до конца этот монолог, описать этот сон наяву. Потом стала ждать. «— Вы не спрашиваете меня, что произошло в гостинице? — Я больше ни о чем не спрашиваю. Теперь вы говорите для себя. Для того, чтобы внутренне освободиться. Я могу вас заверить лишь в одном: меня интересует все, что касается вашей жизни. Все, что касается симпатичного человека, сидящего передо мной в кресле, спутника Марилизы, и проклятого, но знаменитого поэта Фредерика Леграна». Несколько секунд он мрачно смотрел на меня, бровь его резко подергивалась. «— Вы надо мной смеетесь. — Смеюсь? С чего вы взяли? — Проклятый поэт, проклятый поэт… я сам, да, я сам так думал, сам верил, что я проклятый поэт… но во что, во что он превратился, проклятый поэт? — На этот вопрос мы оба ищем ответа. — Вы сказали, что больше не ищете. — Потому что мы оба его уже нашли. Успокойтесь же, друг мой. Если хотите, уходите, а хотите, продолжайте поиски, и тогда, — правда ведь? — тогда уже стоит доискаться до самых глубин. Мои вопросы вам больше не нужны, вы сами спокойно расскажете мне, что произошло этой ночью. — В том-то и дело: ничего не произошло». Мой осторожный выпад несколько встряхнул его. Он встал и начал расхаживать взад и вперед, и каждый раз, поравнявшись с окном, останавливался, чтобы полюбоваться городом, не прерывая рассказа. «— Ничего не произошло. Ровным счетом ничего. И, однако, пока мы поднимались по лестнице, устланной потертым ковром, как я желал ее, в каком был смятении! У дверей моей комнаты между нами произошла молчаливая борьба. Я в последний раз пылко поцеловал Балу, она стояла неподвижно, уронив руки. Когда я открыл дверь, она не шевельнулась, не ушла, она откровенно ждала, чтобы я снова взял ее за руку, обнял за талию и увел к себе. (Молчание.) Ее золотистые глаза смотрели на меня спокойно, прямо, настойчиво, безмятежно. Я понимал, что она даже не отстранится, и я страстно желал ее. Но я не мог, не мог шевельнуть рукой. Я дважды беззвучно произнес ее имя: „Бала… Бала…“, она прочла его по моим губам — одарила меня лучистой улыбкой, кончиками пальцев послала мне воздушный поцелуй, тенью скользнула в темный коридор к своей комнате. Я слышал, как открылась и потом захлопнулась дверь. Я раздевался в своей комнате, я был словно автомат — только не думать ни о чем, ни о чем не думать! Я забился в постель с таким чувством, какое, наверное, бывает у зайца, прячущегося в нору от своих преследователей: только бы исчезнуть, перестать существовать. Но как заяц не может не вслушиваться в каждый звук, в каждый шорох, так и я вслушивался, не раздастся ли за тонкой перегородкой вздох, рыдание. Но нет, я услышал совсем другое, я услышал приглушенный голос, напевающий песенку-считалочку, это был как бы привет, — считалочку, положенную на музыку Эриком Сати:Что делают утром ясным Кони и солнце красное?
На берег реки выбегают И гривы в воде омывают.
Что делают ночью ясной Дети луны прекрасной?
Всю ночь хороводы водят И гибнут, как утро приходит.
На звезды смотрят гиены,
И гаснут они постепенно.
Волк неслышно крадется.
И стук молотка раздается.
XXII
«— Что с вами?» Очевидно, я так и подпрыгнула. «— Вы умеете преподносить неожиданности… без всякой подготовки… Шутка сказать — Прага! Вы что же, совсем не интересовались международным положением? — Нет, не интересовался. Я ведь вам рассказывал, что монпарнасцы подчеркнуто держались в стороне от всякой политики. Но Бала побледнела, у нее вырвался какой-то судорожный вздох, она была растерянна, потрясена. Я сказал: „Пусть эти зловещие барышники перебьют друг друга. Это не касается ни Афин, ни нас“. Она посмотрела на меня каким-то странным взглядом, точно сомневаясь, правильно ли меня поняла, потом покачала головой, озабоченно покусывая нежные, в мелких трещинках губы, которые я так любил. Она медленно стала подниматься по лестнице, то и дело останавливаясь в секундном раздумье, точно каждая ступенька ставила перед ней новый вопрос, а у меня перед глазами был пленительный, трогательный сгиб ее коленей, и я ни о чем больше не думал. У дверей моей комнаты она рассеянно поцеловала меня, почти не касаясь моих губ. Готовясь ко сну, я чувствовал себя немного задетым, но главное успокоенным: после такого упоительного дня и вечера я немного побаивался ее настойчивости, искушения, собственной слабости. На этот раз я не услышал пения. Я уже засыпал, когда дверь отворилась. Я хотел зажечь свет, но Бала не дала мне шевельнуться. Она скользнула ко мне в постель. Ночью, раздетый, в ее объятьях, как я сумел сдержать свое обещание? К счастью, слишком страстное желание, слишком целомудренные объятия, пьянящее прикосновение пленительного тела исторгли у меня наслаждение до того, как я окончательно потерял голову. Впрочем, я почти уверен, что сумел скрыть от нее силу своего волнения. Она же не таила своего — оно было глубоким, страстным. Мы заснули в объятиях друг друга — в этой позе нас застиг рассвет. Рассвет неописуемой чистоты — свежий, розовый, прозрачный. Прелюдия теплого, солнечного, нежаркого дня. Силуэт Балы в рамке окна, ее хрупкая, беззащитная нагота, обведенная перламутром… Она радостно кружит в танце, посылая мне воздушные поцелуи, перед тем как убежать к себе, чтобы одеться… И моя собственная радость, огромная, забывчивая, беззаботная… В порту мы лакомились морскими ежами и гребешками. Потом, смеясь как дети, объедались пончиками на меду в какой-то турецкой кондитерской. Потом сели в трамвай, чтобы подняться на Акрополь и на этот раз увидеть его днем. Это было, может быть, менее волнующее, но не менее прекрасное зрелище: синее небо, светлый камень, безмятежные колонны, так гармонирующие с нашим счастьем… Американцы из Техаса, приехавшие на автобусе, одетые ковбоями, вооруженные фотоаппаратами, ребячливые и невыносимые, в конце концов добились того, что мы убрались из Акрополя, задыхаясь от смеха. Завтракали мы в Пирее; я нанял на вечер моторную лодку, чтобы поехать в храм на мысе Сунион, который лучше осматривать при заходе солнца. Пока же мы возвратились в гостиницу, усталые, счастливые, рука в руке. Дверь в маленький закуток была открыта, чья-то фигура поднялась нам навстречу с того самого кресла, где три дня назад меня дожидалась Бала, — это был Корнинский. Я почувствовал, как окаменела Бала: ее ногти вонзились в мое запястье. Ее отец с улыбкой подошел к нам. Протянул мне руку: „Спасибо за вашу телеграмму“. Была ли это в самом деле искренняя благодарность или он сказал это, чтобы погубить меня? Не знаю по сей день. Резким движением Бала отстранилась от меня. А взгляд, который она на меня бросила…» Молчание оборвало фразу так, словно какой-то призрак зажал ему рог рукой. Он стоял у окна, спиной ко мне, прямой как жердь. Потом, точно по команде, сделал поворот кругом, мне даже почудилось, что он приложил палец к козырьку, но нет, это он тщетно старался пригладить непокорную прядь, а губы тщились что-то выговорить, но слова можно было только угадать по выражению его опрокинутого лица: «…не забыть до смерти». Я не сразу связала этот обрывок фразы с предыдущей фразой о взгляде Балы. Он хлопнул себя ладонью по лбу, беззвучно смеясь и скривив лицо. «— Гм, странно: все это сидело здесь, запертое на ключ, под замком, но все — здесь. — Что именно? — Ее взгляд. Забытый. Незабываемый. Горестный взгляд. Полный бесконечного изумления. Взгляд животного, раненного хозяином. Взгляд, полный отчаяния, ненависти, отвращения. Она поднесла руку к губам, я услышал какой-то гортанный, мучительный, хриплый звук, мелкие зубы вонзились в нежную кожу… Потом… потом она повернулась и бросилась к лестнице. Мы с ее отцом видели, как она пошатнулась, с трудом ухватилась за перила, точно слепая, стала подниматься по ступенькам, еле удержалась на ногах на площадке, снова стала подниматься по ступенькам вверх и исчезла. Корнинский стиснул мое плечо: „Не беда, не обращайте внимания. Экзальтированная девочка. Это у нее пройдет. И обещаю вам…“ Но, не дав ему окончить, я вырвался от него и выбежал из отеля на улицу… Моя чудовищная глупость вдруг предстала передо мной во всей своей красе: я понял, что потерял все. Я бежал, пока не выбился из сил. Люди оглядывались на меня с любопытством, сам того не замечая, я заливался слезами. Но мне было все равно. Наконец я очутился у края мола, в самом его конце, между небом и морем. Раз уж я здесь у вас, не к чему говорить, что и на этот раз, как в детстве после вранья, я утопился бы, не будь я слишком труслив. Но я только обвил руками ржавую лебедку и рыдал, пока не задохнулся от рыданий. Кого, что оплакивал я в глубине души? Не знаю. Балу, себя самого, загубленную любовь? Не знаю. Наверное, в первую очередь чудовищную бессмыслицу. В самом деле, жизнь была слишком сложна. Никакие правила игры для нее не годились — ни те, что предлагали одни, ни те, что предлагали другие. Что бы ты ни делал — все равно тебя ждет проигрыш. А другой голос обвинял меня в том, что я хитрю, что я знал, что делаю. Но от этого мои слезы становились лишь горше. — Хитрите — с кем? — С самим собой. С Балой. С любовью. С ее бунтарством и с моим собственным. Я слишком мало любил Балу, слишком мало, чтобы преодолевать, преодолеть… Ну да, робость, страх перед новым скандалом. Да, это была правда, я боялся скандала. Первый скандал выдвинул, прославил меня, заставил общество меня „принять“, конец моим былым, детским страхам — но второй скандал? Да еще почище первого, потому что это скандал не на бумаге, а на деле. На этом моя удача кончится. Похищение, да еще несовершеннолетней, да еще дочери угольного магната… Нет, невозможно. Я не мог. И я плакал. Оплакивал Балу. Себя. Свою трусость. Разбитую любовь. Вот и все. — Когда вы возвратились, отец с дочерью все еще были в гостинице? — Нет, они уехали. Очевидно, перебрались в другую гостиницу. У меня хватило сил вернуться только с наступлением ночи. — Но потом вы еще увиделись с нею? — С Балой? Нет, никогда». Он сказал это печально, но на сей раз уже без волнения: он вновь обрел хладнокровие, контроль над своими нервами. Этотчеловек выкрутится. За его жену я далеко не так спокойна. «— Я узнал, что на другой же день они сели на пароход. Несомненно, по настоянию Балы. Думаю, что ее отец предпочел бы остаться. Хуже всего было то, что я не мог уехать за ними следом: меня связывали обязательства перед „Альянс франсез“. О, я, конечно, мог придумать какой-нибудь уважительный предлог, но я не посмел, вернее, не захотел: я не люблю нарушать данное мною слово. Чтобы дописать текст лекции, в том состоянии, в каком я находился, я не придумал ничего лучшего, как напиться. Это принесло своеобразные плоды: лекция получилась донельзя пылкой, страстной, полной противоречий, которые набегали, наскакивали друг на друга, точно морские валы на песчаный берег, и никто из моих слушателей не мог потом объяснить, что же я, собственно, хотел сказать. Но так как я и сам этого не знал, я произвел на редкость искреннее впечатление. Кстати, в связи с этим я оценил преимущество двусмысленности: спустя недели, месяцы в печати, в салонах еще спорили о том, что означает моя речь. „Нувель ревю франсез“, уведомленное молодым профессором из Французского института в Афинах, попросило меня передать им этот туманный текст и опубликовало его на почетном месте между туманными заметками Жуандо и туманной поэмой Фарга. Ну, а дальше — вы сами знаете, как часто случай устраивает все к лучшему, а порой к худшему. — Вернее, то, что вы называете случаем. — То есть? — На этот пресловутый „случай“ удобно сваливать что угодно. Слишком часто, когда не хочешь смотреть правде в глаза, ему приписываешь дела, к которым он не имеет ни малейшего отношения. Обвиняешь его в опозданиях, встречах, ошибках, а их подлинный источник в каком-нибудь страхе или желании, в которых себе не признаешься. — Тогда как вы объясните, почему я всеми силами старался сократить цикл моих лекций? Он должен был продолжаться три недели, я сел на пароход по истечении двух. Между Афинами и Парижем в те годы самолеты летали редко, а может, их и вообще не было, в противном случае я выгадал бы еще три дня, и как знать, быть может, все сложилось бы по-другому. Но когда по приезде в Париж я бросился к баронессе Дессу, чтобы исповедаться ей, как сейчас вам, и умолять ее устроить мне встречу с Балой, было уже поздно: Бала только что уехала со своим отцом, он увез ее в Питтсбург, в Соединенные Штаты. Корнинский должен был посетить тамошние угольные шахты, чтобы изучить стратегию борьбы предпринимателей против могущественного профсоюза шахтеров. Они собирались вернуться не раньше мая. Как я мог нагнать их там? К тому же я потратил слишком много денег и оказался почти на мели. — Вы могли попросить аванс. — Мортье уехал лечиться на воды. — Существуют телеграф, телефон. — Я ненавижу брать взаймы. И если уж говорить начистоту, меня охватило неистовое желание писать. Немедленно, да, сию минуту. Роман о трагической любви. Почему вы смеетесь? — Просто так. — В эти годы еще легко было найти квартиру, если ты располагал деньгами. Мне удалось снять благоустроенную однокомнатную квартиру с видом на лес Сен-Клу — плата была мне по карману. Там я мог спокойно работать. Само собой, я каждый день писал Бале, но то ли ей не пересылали моих писем, отправленных на парижский адрес, то ли она не хотела их читать или на них отвечать, я не получил в ответ ни строчки. Когда в июне она вернулась, я об этом тоже узнал с запозданием. Баронесса Дессу сообщила мне только, что она уехала на своем „бугатти“ в Тироль, на озера, в Альпы: разыскивать ее там бесполезно — она все время будет переезжать с места на место. К тому же она уехала вдвоем с подругой. Я несколько раз пытался дозвониться по телефону ее отцу, но он отправился в Швецию. Я ни с кем не встречался, даже с Пуанье и моими приятелями, я не бывал на Монпарнасе, только сидел и писал. Я вооружился терпением и два-три раза в неделю звонил Корнинскому, мне отвечали, что его нет, но когда-нибудь он должен же был вернуться. И в самом деле, однажды утром в начале августа я услышал наконец его голос. Когда я назвал себя, мне показалось, что он обрадовался. Он веселым тоном назначил мне встречу в тот же день вечером, у себя дома… Но, придя к нему, я застал его в совершенно ином настроении. Он расхаживал взад и вперед по своему кабинету и, увидев меня, даже как будто удивился. Было ясно, что он забыл о назначенной встрече. Он удивился, а может быть, даже был раздосадован, я понял это по нетерпеливому жесту, который мог означать в такой же мере „Чего ради вас сюда принесло“, как и „Садитесь“. Я замешкался, не зная, как поступить, он остановился, схватил валявшийся на кресле развернутый номер „Тан“ и сунул мне в лицо: „Ну вот, на этот раз мы влипли, мой мальчик!“ Я читал заголовки, но смысл их до меня не доходил. Он нервно и в то же время ловко щелкнул пальцами: „Вы что, не видите? Нас надули, мой друг. Сталин и Гитлер. Негодяи! Сговорились за нашей спиной!“ — „Ну и что же?“ — „Как что, милейший? Да это значит, что через неделю начнется война!“ Я сразу подумал, крикнул: „А Бала?“ Он махнул рукой: успокойтесь. „Она в Италии, в Вероне. Я дал ей телеграмму. Послезавтра утром она вернется“. И, очевидно, увидев, как просияло мое лицо, добавил: „Но я сразу же… отправлю ее к бабушке в Ардеш. Не к чему понапрасну рисковать“. Мы по-прежнему стояли. Он уже не предлагал мне сесть. Он явно хотел сократить беседу. „Вы разрешите мне повидаться с ней хоть на часок?“ — с мольбой сказал я. Он улыбнулся, покачал головой: „Нет, малыш. Она не захочет. В настоящее время ее невозможно урезонить. Но доверьтесь мне: со временем все уладится. Особенно если начнется война. Кстати, как ваши родители?“ — „Мои родители?“ „Есть от них какие-нибудь известия?“ — „Я с ними не встречаюсь“. Все мои мысли были о Бале. „Вы уверены, что войны не избежать?“ Он опять стал расхаживать по кабинету. „Это сплошное идиотство. У нас никто не хочет воевать. Все только будут делать вид, что воюют. В глубине души все ждут прихода Гитлера. В нем нуждаются, иначе… Так к чему все это притворство? Тысячи бедных парней сложат голову зазря. — Он обернулся ко мне: — У вас есть отсрочка?“ Я покачал головой — она у меня скоро истекала, я ведь бросил Училище древних рукописей. Он снова щелкнул пальцами, переспросил: „Но все-таки до каких пор она действительна?“ Я ответил наугад: „Кажется, до середины ноября“. Он отозвался: „Не густо. Остается три месяца. Ну ладно, попробую что-нибудь сделать. А насчет ваших родителей — с этим надо кончать. Это ребячество. Что вы сейчас делаете?“ Я улыбнулся: „Пишу роман о любви“. Он в свою очередь рассмеялся: „Браво. Отлично. Остальное после войны забудется. И вам и вашим родителям пора перестать упрямиться. Ваша мать — прелестная женщина. Я устрою вам встречу. — Он в последний раз стиснул мне плечо: — Ждите моего звонка“».XXIII
«— Вы увиделись с вашими родителями? — Только с матерью. У баронессы Дессу. Когда меня мобилизовали, сами понимаете… Уже шла „странная война“, но мои отец и дед были по-прежнему непреклонны, они требовали публичных извинений. Влияние Корнинского тоже имело свои пределы, он вынужден был признать, что поторопился, — ведь моей жизни еще не угрожала опасность. Тем более что весь этот период я проработал у Жироду. Мортье был с ним знаком, он однажды издал его книжицу, Корнинский когда-то финансировал его фильм (съемки были прерваны войной), прибавьте к этому мою юную литературную славу — им не составило труда представить Жироду мою особу в самом выгодном свете. Я был баловнем судьбы, был знаменит, и, хотя слава моя носила несколько скандальный характер, я пользовался покровительством влиятельных лиц — поэтому все то время, что я состоял при нем в „Континентале“, Жироду обращался со мной как с балованным ребенком. Я принимал это как должное, и удовлетворенное тщеславие уживалось в моей душе с мучительной болью от затаенной раны. Я вам уже сказал, что в моих отношениях с Балой не произошло никаких перемен к лучшему. Наоборот, за пять с половиной месяцев, проведенных мною на улице Риволи, мне так и не удалось ни разу ее увидеть, хотя бы на полчаса. А ведь я знал, что она не захотела остаться в Ардеше — пробыв там месяц, она вернулась в Париж. Я много раз умолял баронессу дать мне возможность ее увидеть, пусть даже застигнув ее врасплох. По-моему, баронесса пыталась или делала вид, что пытается исполнить мою просьбу, но, как видно, без особой убежденности, потому что у нее ничего не вышло. Я уже подумывал о какой-нибудь отчаянной выходке, например, дождаться Балы в такси у ее дверей и похитить ее — не об этом ли она меня когда-то молила? Но такого рода мечты обычно остаются мечтами. К тому же она отказалась бы уехать со мной, и я загубил бы свою последнюю надежду. — Вы в этом уверены?» Если бы его глаза могли в буквальном смысле слова метать молнии, он испепелил бы меня и я бы уже не писала сегодня этих заметок. Но чувство юмора погасило его вспышку. «— Вы чудовище. Вы самая жестокая женщина, какую я когда-либо встречал. — Благодарю вас, вы очень любезны. — Неужели вы искренне верите, что помогаете мне? — Это не входит в мою задачу. Вас никто уже не просит продолжать свой рассказ. То, что я вас выслушиваю, с моей стороны простая любезность. — Вы любезны, но жестоки. Как были жестоки события тех лет: вторжение немцев, разгром, паника, всеобщее бегство… — Вы ушли с Жироду? — Нет, с молодыми новобранцами. Я и сам был зеленый юнец, а мои покровители были теперь далеко, через неделю после вторжения меня отправили на военную учебу в Антибы. В июне Италия объявила войну, нас эвакуировали в Жиронду, по соседству с поселком, где разводили осетров. В армейской лавке нам по дешевке продавали икру, которую уже не могли вывозить в Париж. Мы намазывали ее на ломти хлеба величиной с тарелку. Но, как вы понимаете, счастливое время длилось недолго. У нас не было оружия, явились боши и захватили нас без всякого сопротивления — так я очутился в Германии. В Германии я провел пять лет. Даже для юного преступника пять лет — чудовищно долгий срок. Целая жизнь. Но преступник по крайней мере знает, что заключению придет конец… А военнопленный… Он знает только, когда все началось, а дальше… конца не видно. Вроде пожизненного заключения. Нет ничего страшнее… Чувствуешь себя мертвецом. И в какой-то мере ты и есть мертвец: то, чего ты не видишь, чего не знаешь, перестает существовать. Ты погружен в небытие. Время похоже на пустыню. Я думаю, этим объясняется все: и то, что я выздоровел, и то, что забыл. Воспоминание о Бале медленно выветривалось из моей памяти, — да что я, медленно — оно выветрилось очень быстро. А между тем после нескольких недель прострации, растерянности, пытки скукой и бездельем я вновь принялся за свой роман, причем начал его сначала, с первых строк, потому что, само собой, я потерял все свои бумаги. Я сказал „между тем“, потому что этот роман каждой своей строчкой должен был напоминать мне Балу. На деле же он помог мне вытеснить ее из памяти, она все больше и больше исчезала из моей книги. К тому же плен — нечто вроде затянувшихся каникул: ты в отпуске у самого себя и вообще у всего окружающего. В часы, свободные от бессмысленной работы, ты должен организовать свой досуг, и, даже изнывая от скуки, находишь в ней самой своеобразную прелесть. Но разрыв с привычной жизнью так велик, что она уходит в какую-то смутную даль. А ты как бы возвращаешься в детство. Жирный, как монах, сержант с клоунской физиономией — этакий розовый поросенок, подрядившийся на роль водевильного комика в мюзик-холле, — развлекал нас разными шуточками, но репертуар его вскоре истощился. Он без труда уговорил меня сочинять для него маленькие сценки и монологи, которые поднимали бы дух солдат. Позже на меня возложили также заботу о библиотеке. Моим помощником был молодой преподаватель литературы из Монтобана. Ему не слишком нравился мой „Плот „Медузы““, но зато моя проза пришлась ему по душе. Мы добились у начальства разрешения раз в неделю ходить к букинистам, чтобы пополнять нашу библиотеку, и откапывали в их лавках старые французские книги. Мы развлекались тем, что состязались в эрудиции: он — опираясь на свою диссертацию, я на мое Училище древних рукописей… — А вам не приходила в голову мысль о побеге? — Нет. Бежать было слишком далеко. В лучшем случае мы добрались бы до России. Но не стану пересказывать вам тысячу семьсот восемьдесят дней моего пребывания в плену. Я делал зарубки на своей койке — шесть месяцев ушло на то, чтобы заполнить один ряд, на два ряда ушла целая вечность, а таких рядов оказалось десять!.. Не знаю, представляете ли вы себе однообразие жизни пленного. Не замечаешь, как стареешь, как из юноши превращаешься во взрослого мужчину, — короче, когда война наконец окончилась и я вернулся, я думал, что совершенно излечился от чувств к Бале. Вернее сказать, я вспоминал о ней так редко, что можно считать — почти никогда. И без всякого волнения. О том, что происходило во Франции в мое отсутствие, я ничего не знал и теперь ничего не мог понять. Я потратил немало времени и усилий, прежде чем уловил суть происшедшего. Отношения между людьми совершенно сбивали меня с толку. Почему старые друзья избегали друг друга, а те, кто когда-то враждовал между собой, стали добрыми друзьями? Сразу по приезде я увидел мать — похудевшую, озабоченную. Отец был в Швейцарии. В годы войны, не оставляя своих прежних занятий, он основал предприятие по производству извести и цемента, которое очень быстро расширилось. Теперь ему удалось доказать, что если даже немцы и покупали у него материал для строительства Атлантического вала, то только через посредников и совершенно без его ведома. Впрочем, после десяти лет изгнания с него вообще были сняты обвинения, теперь он член департаментского совета Соммы, весьма влиятельный в своем департаменте, и вот-вот станет сенатором. — Вы встречаетесь с ним? — Конечно. Как может быть иначе — ведь прошло семнадцать лет! Мы видимся, и даже довольно часто: бедный пана, он уже не молод, что и говорить. — А дед Провен? — Скончался в сорок третьем, от рака. — Верно. Я забыла. — О нем ходили разные слухи. Будто бы он издал антисемитские указы для ведомства морского флота. А на самом деле, понижая евреев в должности, назначая их на должности, которые менее на виду, он ведь их оберегал. — А Реми?» Он не удивился, не смутился, впрочем, этот вопрос напрашивался сам собой, он, несомненно, его ждал, однако ответил не сразу. Он уже снова удобно устроился в глубоком кресле, непринужденно закинув ногу на ногу. Соединив растопыренные пальцы обеих рук, он разглядывал потолок. «— Надо вам прежде всего сказать, что я узнал две ошеломившие меня новости. От баронессы Дессу. Она первая сообщила мне печальное известие. На мой вопрос: „А как Бала?“ — она ответила коротко: „Умерла“. Таким отчужденным, странным, я бы даже сказал грубым тоном, что у меня в тот миг не хватило мужества обнаружить, как я потрясен. Умерла — и ни одной слезинки? Ни единого вздоха? А ведь эта старая женщина была для Балы не просто другом — матерью! Но еще больше меня поразили мои собственные чувства. С одной стороны, это известие сразило меня сильнее, чем можно было ждать после пяти лет забвения. И в то же время — да, оно утешило меня. Я вздохнул свободнее. На сердце легло бремя невыплаканных слез, но душа стряхнула с себя мучительное бремя воспоминания. Чем было вызвано это горе и это чувство облегчения, я не мог объяснить, правда, я редко над этим задумывался. Но ведь, если бы Бала была жива и находилась бы где-нибудь поблизости, я не стал бы искать с ней встречи. Выходит, живая ли, мертвая ли — не все ли мне равно? И однако… однако… Еще труднее объяснить, почему для меня был так чувствителен второй удар, нанесенный баронессой Дессу, почему жгучая ревность, досада, гнев охватили меня, когда престарелая дама добавила, что за два года до смерти Бала вышла замуж за Реми». И точно его только сию минуту ошеломили этой новостью, он и в самом деле побледнел, да, да, просто посерел. Бровь задергалась. На губах, в ямочках заиграла насмешливая улыбка — этой насмешкой над самим собой он пытался замаскировать бросающееся в глаза смятение. Казалось, его улыбка призывала меня посмеяться над этим нелепым гневом. Потом он вытащил трубку и стал ее набивать. Э, нет, шалишь! Я резко нарушила молчание: «— Оставьте трубку в покое. Когда вы встретились? — С моей трубкой? — Не валяйте дурака. — A-а!.. С Реми. Д-да. Гораздо позже. Спустя несколько лет. Вернувшись из Германии, я узнал о нем только то, что мне рассказала моя мать. Она была не более словоохотлива, чем баронесса, так же замкнута, суха, почти груба: „Мы с ним не встречаемся“. Я удивился. Поинтересовался почему. „Увидишь своего дядю, спроси у него. Я не знаю. Твой дядя не хочет говорить на эту тему. Знаю только, что он вел себя совершенно недопустимо“. — „По отношению к кому? Ведь не к тебе же?“ — „По отношению к твоему отцу. И к своему. Они выгнали его из дому“. — „Что у них за мания такая! Когда это случилось?“ — „В сорок втором. Когда он вернулся из Виши“. — „А что он там делал?“-„Твой дед устроил его после его побега в министерство морского флота“. — „После какого побега?“ — „Он спрыгнул с поезда, который увозил его в Германию, как раз накануне перемирия. Он мог поехать работать на Мадагаскар, но заявил, что хочет остаться во Франции. Не понимаю зачем. Ты немало выстрадал в Германии, мой мальчик, Но поверь, и во Франции было невесело. Холодно, голодно. Чего ради оставаться, когда была возможность уехать!“ Само собой, я пытался получить более подробные сведения, но в ответ на все мои вопросы („Кем он работал в Виши?“ — „Не знаю точно, кажется, по финансовой части“. — „Почему ушел оттуда?“ — „Не знаю, спроси у отца“.) она отсылала меня к другим. Легко сказать! Отец был в Швейцарии, дед в могиле, расспрашивать дядю Поля об опальном сыне было неудобно. Оставался один выход, не так ли? — повидать самого Реми. О, меня не слишком интересовала его судьба. Мы не виделись почти семь лет — для молодых людей срок огромный, связи ослабевают, ведь дружба питается общим жизненным опытом, наш житейский опыт развел нас в разные стороны. Но его брак с Балой стоял у меня поперек горла. Я должен был, должен был выяснить, как это произошло, по каким причинам и прочее. И услышать от него, как умерла Бала. — С Корнинским вы больше не встречались? Нет. (Легкое покашливание.) В ту пору он был в Испании. — Скажите на милость! Вы были окружены одними эмигрантами!» Он вынул изо рта трубку и потер подбородок тыльной стороной ладони. «— Мне всегда — и до войны, и после — претило вмешиваться в политику. И тем более заниматься сведением счетов. Взять чью-нибудь сторону — это неминуемо совершить несправедливость, ведь нам всегда не хватает слишком многих данных, чтобы верно судить о мотивах тех или иных человеческих поступков. Высказаться категорически всегда означает кого-то обидеть. А стать на позицию „око за око“… Тем не менее существуют некоторые бесспорные критерии. — Например? — Например, убийство миллиона еврейских детей. — Не обвиняете же вы в этом французов? — Смотря каких. Есть закон, который карает за неоказание помощи. — Мы отвлеклись. Очень мило с вашей стороны, что вы меня слушаете, но, если мы все время будем перескакивать с одного на другое, мы никогда не кончим. — Извините. Я слушаю. И больше не пророню ни слова. — Не помню, на чем я остановился. — На Реми. На том, что вы собирались с ним встретиться. — Вернее, хотел встретиться. Но я не знал, как это осуществить. Во-первых, где и как его найти? Порвав с семьей, он не поддерживал никаких связей, никаких отношений даже с нашими друзьями. Я ничего не знал о нем — ни что он делает, ни где живет. Люди, которых я о нем расспрашивал, тоже ничего не знали. Прошли недели, месяцы, потом год и два. Любопытство притупляется, не так ли? — Ах вот оно что… — Простите? — Нет, ничего. Продолжайте. К тому же я тем временем женился. Мою жену, Марилизу, вам представлять не надо. Она никогда не рассказывала вам, как мы с ней познакомились? — У какой-то поэтессы. Забыла фамилию. — Виктория Диаспарасас. Великолепная женщина. Жена атташе — не помню, по каким делам, — посольства Венесуэлы. В течение двух-трех лет после Освобождения о ней ходило много толков. Не помните? Жаль, а впрочем, не все ли равно. Я познакомился с нею на каком-то приеме в посольстве. Ее окружали офицеры-янки. Была там и Марлен Дитрих в военной форме. Она рассказывала какую-то забавную историю, делая такое движение, будто щекочет кого-то кончиками пальцев. Я ничего не понял. Потом мне объяснили, что Марлен рассказывала об оригинальном способе ловли форели — эта рыба обожает, когда ей щекочут живот. Высокая, ослепительная красавица брюнетка смеялась гортанным смехом. Она-то и заметила, что я плохо понимаю по-английски, и перевела мне анекдот. Она отвела меня в сторонку. Да, я забыл упомянуть, что за мой роман, написанный в плену, я получил премию „Фемина“, — это был второй приступ славы. Дама читала перед войной „Плот „Медузы““, оценила его поэтические красоты, хотя ей не нравилась его гневная запальчивость. Но зато героиня романа! „Что за женщина!“ — говорила она. Она в восхищении прижимала кулаки к своей пышной белоснежной груди. „Что за женщина!“ — повторяла она, и так как я наделил этот образ некоторыми чертами Балы, меня это не могло не тронуть. Когда двое испытывают общее умиление, им начинает казаться, что они любят друг друга. Она пригласила меня к себе, муж всегда был в отъезде. В красной с золотом спальне стояла огромная кровать, застланная козьими шкурами. Был у нее еще сиамский кот. Спокойный, молчаливый, с совершенно неподвижными глазами цвета морских водорослей. Он всегда находился в спальне. Вам случайно не приходилось заниматься любовью под пристальным взглядом кота?» Зачем он ни к селу ни к городу рассказал мне эту скабрезную историю? Без причин ничего не бывает. Хочет меня шокировать? Или пытается уравновесить в собственных глазах чашу весов, которая стала угрожающе клониться в сторону слишком уж благополучного образа? «— Вы представить себе не можете, как… как это расхолаживает. Не меньше, чем человеческий взгляд. Виктория смеялась, говорила: „Это твоя душа“ — или: „Это взгляд Вселенной“. Она была пантеисткой и утверждала, что телесная связь, контакт с вселенской вездесущностью не прерывается никогда, даже когда находишься в четырех стенах. Она потешалась над моим смущением, над моим гневом и прижималась своим нагим, роскошным и благоуханным телом к моему нагому телу и к кошке так, что все тормоза летели к черту, и я отдавался пароксизму неописуемого наслаждения. Целый сезон я терпел этого кота, а в один прекрасный день вместо кота в спальне оказалась девушка. Мари-Лаис Кламар. Марилиза. Моя жена. — Она должна была присутствовать при ваших…? — Что вы, что вы! С самой невинной целью. Она была приглашена на чашку чая. Раскрыв глаза, она слушала, как мы с Викторией спорим о поэзии и поэтах, наперебой цитируем стансы Жана Мореаса, оды Сен-Жон Перса и кантилены Рене Шара. Она была слишком скромна, чтобы вставить хоть словечко, но прехорошенькая, вы сами это знаете. Я отвез ее домой на своей машине. По дороге мне удалось заставить ее разговориться. Целый час мы сидели в темной машине, не прикасаясь друг к другу, и поверяли один другому свои симпатии и антипатии. Мы стали встречаться почти ежедневно, подогревая друг в друге бунтарские настроения против окружающего мира. Конечно, я знал, что она богата, я не мог не догадываться об этом по ее фамилии, но клянусь вам, это не имело для меня значения, скорее, напротив, это было единственное, что могло бы меня оттолкнуть. Но Виктория хорошо меня знала и сумела выбрать себе преемницу, я влюбился не на шутку. Накануне того дня, когда состоялось наше знакомство, Виктория без слез, но не без волнения сообщила мне, что через несколько дней уезжает в Ванкувер, куда ее муж назначен консулом. Больше я с ней не встречался. Такова история моей женитьбы. — Хорошо. А Реми?.. — Вот именно. Я как раз об этом и собирался вам рассказать. У вас не найдется немного виски?»XXIV
Пока я подавала напитки, он снова принялся расхаживать из угла в угол, сначала медленно, словно для того, чтобы размяться. Было два часа ночи. Он остановился у окна: «Смотрите, снег!» И в самом деле, в свете, падавшем из окна, на ветру в беспорядочном танце кружились снежинки. Как я люблю это ни с чем не сравнимое ощущение сознавать, что я дома, в тепле, когда на улице холодно, дождливо или ветрено. В сущности, мы недалеко ушли от наших пещерных предков. Я подала ему стакан виски. Он задумчиво смотрел с высоты моего двенадцатого этажа на белеющие крыши. «— Вы не находите, что это все-таки странная штука? — Что, снег? — Нет, нет — наша память. — Конечно. Но почему вы спросили? — Все или почти все, что я вам сейчас рассказываю, я предал забвению. Прошло пятнадцать лет. Но вот я у вас, и все вернулось. — Мы об этом уже говорили. — Да, но меня сейчас интересует другое. Из тысячи событий я без всяких видимых причин одни помню, другие забываю. Отчего, почему одни сохраняются в памяти, другие стираются? Я хочу сказать, какой тут биологический механизм? — Если бы мы это знали, мне и моим коллегам было бы намного легче работать. — А мы совсем ничего не знаем? — Нет, отчего же. Знаем, и даже довольно много. Как нейроны получают химические метки в соответствии с определенными кодами нуклеиновых кислот. И в коре головного мозга остаются неизгладимые следы, которые вбирает в себя память. Однако следы эти стираются или видоизменяются. Что же меняется химические метки, коды? Можно подумать, что именно они. Но вот наступает вечер вроде сегодняшнего, и следы обнаруживаются, оказывается, они никуда не делись, метки, коды — все на своем месте. В чем же дело? Мы ищем. Но до ответа еще далеко. Я признаюсь вам в одном своем свойстве. Когда я что-нибудь вижу или что-нибудь делаю, я часто знаю, знаю заранее, буду я это помнить или нет. Это зависит от моего отношения к факту. Есть вещи, которые я заранее выкорчевываю из своей памяти. Как я это делаю, не знаю сам. Впрочем, они могут вспомниться, если я открою задвижку. — Как сейчас. — Да, странно. Под самой страшной пыткой я бы не вспомнил эту сцену в Люксембургском саду. Выкорчевана — во всяком случае, в самом главном. Но вот вы здесь — и все ожило. — Так-так. Что же эта за сцена? — В Люксембургском саду. С Реми. — A-а! Наконец-то! Каким образом вы его нашли? — Через некоего Сюмера. Я встретил его в кругу знакомых Марилизы, когда мы стали женихом и невестой. „Домашний“ коммунист. Знаете, что это такое? — Нет… Что это значит? — В наше время любая патрицианская семья, если она не хочет прослыть совершенно отсталой, должна обеспечить себе хотя бы одного „домашнего“ коммуниста. Заметьте, что друзья Марилизы называли себя „прогрессистами“. О, весьма относительными. И „домашним“ коммунистом они выбрали далеко не первого встречного. Отец Сюмера был владельцем фирмы по производству зубной пасты — знаете, „Вобискум“. Кстати сказать, до войны сын сотрудничал в „Аксьон франсез“. Но поражение тяжело подействовало на него. А особенно поведение Морраса,[62] отплясывающего на развалинах танец дикарей. Увлеченный Сопротивлением, обращенный коммунистами в их веру, он стал ярым сталинистом и оставался им вплоть до венгерских событий. После них он вышел из партии и примкнул к тем, кто после процесса Сланского обзывал его подонком и лицемером, а он оплевывал их, именуя ренегатами; потом он в свою очередь обзывал подонками и лицемерами тех, кто после Будапешта не вышел, как он, из партии, а те оплевывали его, именуя ренегатом; а в один прекрасный день они тоже примкнут к нему и будут обзывать подонками и лицемерами тех, кто не выйдет из партии, как вышли они, и кто будет обзывать ренегатами их… Удивительные нравы, не правда ли? — Хорошо. Но что же Реми? — Минутку. Теперь вы понимаете, почему мне всегда претило ввязываться в политику. Так вот, в эту пору Сюмер был еще активистом партии, продавал „Юма-Диманш“ у Сен-Пер-дю-Кайу и, приезжая в гости к Марилизе на своем „порше“, предавал нас всех анафеме и забавлял крайностью своих суждений. Когда меня ему представили, он сделал вид, что не знает, кто я. И только к концу вечера, когда мы развалились рядом на диване, оба в подпитии, он заплетающимся языком спросил меня, не известный ли я путешественник. Мое тщеславие было уязвлено, но он, как видно, этого и добивался. Я объяснил, кто я, он посмотрел на меня не без насмешки: „Ах, так это вы автор „Медузы“! Занятно! Выходит вы двоюродный брат Реми Провена?“ Я опять был уязвлен, по в то же время решил, что мне повезло — я могу узнать у него адрес Реми. Однако первым делом я стал его расспрашивать о другом. Я был немного удивлен: что общего у Реми и этого коммуниста?.. Так я и узнал все неизвестные мне прежде подробности. Оказывается, Реми явился к Сюмеру, который возглавлял одно из партизанских соединений, действовавших в районе Гатинэ, и предоставил себя в его распоряжение. Они сразу подружились: „Мировой парень“. Они не раз толковали о том, что побудило Реми стать участником Сопротивления. Само собой, у Реми было немало причин, но главная из них — желание восстановить честь. При этих словах Сюмер покосился на меня. Он увидел, что я не понял. Чью честь? „Да честь семьи, мсье, к которой, я полагаю, вы имеете честь принадлежать“. Это что еще за гнусные намеки? „Ладно, — сказал он, — я заткнулся“. Э, нет! Сказанного было слишком много или слишком мало. Но он заявил: „Дорогой мэтр, я не генеральный прокурор. Если вам не приходилось слышать о небезызвестном Атлантическом вале…“ Я не мог смолчать: с моего отца снято обвинение. „Знаю, знаю. Но в сорок третьем году все это не было столь уж очевидным… Впрочем, что касается чести ваших родственников, вам, конечно, виднее. Не мне об этом спорить. И тем более с вами“. Его тон весьма мне не понравился, но как я мог показать, что обижен? И потом, мне хотелось разузнать подробнее о Реми, о Бале. Прежде всего о Реми. Сюмер похрустел костлявыми пальцами. Единственное, что он мог мне сказать, лучшего помощника ему бы не найти. Отличный парень. Всегда готовый идти на дело. И неизменно брал на себя самые трудные, самые рискованные поручения. Чудо, что он уцелел. (Молчание.) Правда, странно, доктор? Тихоня, рохля, чуть что готовый спрятаться под кровать… — Люди меняются… — Но все-таки согласитесь, очень уж неожиданная перемена. Тюфяк Реми в маки, с автоматом за спиной… Невероятно. Правда, не забудьте я не хочу быть злым, но ведь сорок третий год, это уже Сталинград, победа перешла в другой лагерь… Впрочем, неважно. Сюмер замолчал. Я тоже. И вдруг у меня мелькнула мысль: „Его жена была с вами?“ Вместо ответа он передернул плечами, не насмешливо, а скорее нервно: что, мол, за дурацкий вопрос! „Вы знали Балу?“ Я ответил равнодушным тоном: „Немного. — И тут же спросил: — Когда они поженились?“ Он помолчал. „Да примерно за год до этого или что-то в этом роде. Когда Реми в Виши хлопнул дверью и бросил министерство“. Я подумал: „Вот оно что!“ Подумал: „Удивительно, как она любила, когда хлопают дверьми. Может, и ему она говорила: „Уведите меня““. А его спросил: „Почему он хлопнул дверью?“ Он с минуту глядел на меня: „Вы что же, ни о чем не знали, сидя в своей Германии?“ Я ответил: „Нет“, а он: „Ну, а когда вернулись?“ Когда я вернулся, говорили разное, кто одно, кто совсем другое. Но он, конечно, хотел навести меня на разговор об истории с должностью начальника полевой жандармерии… — Кто „он“? Что за история? — Сюмер. История дяди Поля. Дядя Поль выхлопотал себе эту должность в Тулоне после затопления флота. Должность будто бы принадлежала какому-то еврею. Я возмутился. „Если вы это знаете, вы должны знать и то, что дядя Поль возвратил ему должность, когда тот вернулся из лагеря. Поль и занял эту должность, чтобы сохранить ее для того человека!“ Но Сюмер вкрадчиво спросил: „А если бы тот человек умер, кому бы он ее возвратил?“ Словом, вам знакомы рассуждения такого рода. Терпеть не могу недобросовестности. Кстати сказать, дядя Поль недавно получил орден. Я пресек все эти сплетни. Спросил Сюмера, где сейчас работает Реми. По-прежнему в государственном аппарате? „Нет, с ним он покончил в сорок пятом году. Считал, что там слишком плохо провели чистку. А захоти он, его назначили бы атташе по торговым делам в Лондоне или в Вашингтоне. Там настоятельно требовали этого назначения. Сулили большие деньги, продвижение — он от всего отказался и несколько месяцев шатался без дела — не мог найти работу. Не хотел служить вместе с бывшими коллаборационистами, которые вышли сухими из воды“. Шатался без работы? Не может быть. Мне что-то не приходилось слышать, чтобы участникам Сопротивления после Освобождения было трудно пристроиться. Он рассмеялся. „Вот как! Вы и вправду так думаете? Но его и в самом деле, как вы выражаетесь, „пристроили“. Да только… а впрочем, вам все равно не понять“. Я стал настаивать, он сказал: „В общем, представьте его в роли „серого кардинала“. Человека, который скромно держится в тени, но пользуется огромным влиянием. Даже в партии, членом которой он формально не состоит. Эта деятельность не имеет ничего общего с его побочной работой ради заработка. Ради того, чтобы существовать и ни от кого не зависеть“. — „А что это за работа?“ — „В настоящее время он эксперт по финансовой части в фирме по производству химикалиев. У молодого патрона, тоже бывшего участника Сопротивления. Я зову Реми столпом капитализма, но высоко ценю его бескорыстие. И вообще глубоко его уважаю“. Я спросил: „Вы можете дать мне его адрес?“ Он: „Конечно“ и, не дожидаясь повторной просьбы, записал адрес на клочке бумаги. Я сунул листок в карман и потом полгода не мог вспомнить, куда его девал. — Ах вот что… — Да, полгода, а то и год, и нашел его случайно, когда искал адрес доктора для моей жены. (Поспешно.) Это было задолго до того, как мне рассказали о вас. Много лет назад. — Вам незачем оправдываться. Вы ему написали? — Реми? Не сразу. Теперь мне не так уж хотелось его видеть. Все потускнело в памяти, ушло в прошлое… Но с этой минуты стоило мне начать искать чей-нибудь адрес, как я натыкался на адрес Реми. Просто какой-то рок. В конце концов я сказал себе: одно из двух — либо напиши ему, либо порви адрес. Но порвать я не решался: что-то мне мешало, может, воспоминания юности. Кончилось тем, что я ему написал, просто, что нам надо увидеться. В ответ пришла открытка — два слова: „К чему?“ И все. Конечно, я был задет. Но поскольку мы много лет ничего не знали друг о друге, тут могло иметь место какое угодно недоразумение. Я спрятал в карман свое самолюбие, написал снова, объяснил, что разыскиваю его вот уже более трех лет. Чтобы поговорить по душам, писал я. На этот раз ответ состоял из трех слов: „Если хочешь — изволь“… Встречу он назначил в Люксембургском саду, там, где мы когда-то бегали взапуски, у подножия памятника Анне Австрийской. Сознательно ли он выбрал это место? Чтобы обрушить на меня лавину воспоминаний…» Мне показалось, что он оступился, потому что, замолчав, он одновременно перестал расхаживать по комнате. Он вдруг замер, сжал рукой щеки и подбородок и совсем другим голосом неуверенным, удивленным — добавил: «Но этого воспоминания… и посмотрел на меня, точно ожидая, что я ему что-то объясню, — этого воспоминания он ведь не мог знать…» Он сказал это растерянным, задумчивым голосом, с какой-то тревогой. Потом погрузился в молчание. Я шепнула: «Так что же?» — чтобы дать ему толчок, и он в самом деле снова зашагал по комнате почти как заводная кукла. «— Помните, где помещался старый балаган? — В Люксембургском саду? — Да, позади памятника королеве. С тех пор его перенесли на другое место, для него построили настоящее театральное помещение, постоянный павильон. Но когда мне было лет шесть-семь, там стоял обыкновенный, выкрашенный зеленой краской сарай и скамьи: совсем низкие для малышей в передних рядах, а в задних высокие, для тех, кто постарше. Я был завсегдатаем представлений в балагане и неизменно восседал впереди на низенькой малышовой скамейке. Вплоть до того дня, когда на подмостках появился новый персонаж, точно вылезший из самой преисподней крокодил без хвоста, с огромной пастью, в которой торчали два ряда острых треугольных зубов. Появившись, чудовище издало за спиной Ньяфрона долгий, низкий рык: „А-а-а!“ Казалось, этот вопль исходил из бездны. От него кровь застывала в жилах. Она застыла и у меня, и, однако, как ни странно, сначала мне не пришло в голову удрать я остался на своем месте и досмотрел все до конца, пока Ньяфрон не исчез в пасти чудовища. Я даже смеялся и хлопал вместе со всеми. Но назавтра я вцепился в материнскую юбку и не захотел пойти в балаган. С тех пор я ни разу туда не вернулся. Мало того, долгие месяцы и даже годы спустя я делал огромный крюк, только бы держаться подальше от зеленого сарая, так я боялся услышать хотя бы издали этот зловещий вопль „А-а-а!“ из глубин преисподней…» И снова он замолчал, точно прислушиваясь к отдаленному отзвуку какого-то внутреннего голоса. «— И вот теперь, да, теперь, когда я ждал Реми, меня снова охватил прежний страх. Что за вздор! Ну конечно же, вздор. Мне хотелось высмеять самого себя, но тот же глухой, зловещий вопль рождался в недрах моей души и рвался наружу — не знаю, понятно ли я говорю. Сколько я ни обзывал себя психопатом, болваном, я ничего не мог с собой поделать, страх не исчезал. Мне уже хотелось, чтобы Реми не пришел, словно я страшился, что он явится в образе крокодила… Я начал подумывать, не уйти ли мне, не дождавшись его, как вдруг услышал за своей спиной: „Как живешь-можешь?“ — обычное приветствие Реми. Я не заметил, как он подошел ко мне с другой стороны памятника. Он уселся в железное кресло рядом с моим. Он улыбался. Улыбка его осталась прежней — спокойной, самоуверенной. Совершенно несносной. Конечно, я теперь уже начисто забыл, с чего начался разговор: какие-то общие слова — как себя чувствуешь, что поделываешь? Но я хорошо помню, как он держался. Предоставив мне запинаться, он не раскрыл рта, чтобы помочь мне заговорить на щекотливые темы. И продолжал улыбаться. Я разозлился. Я почти всегда злился, когда разговаривал с ним. А ведь я заранее приготовил вопросы, но вы же знаете, как это бывает — в нужную минуту они куда-то улетучиваются. И вот после того, как я с грацией бегемота долго топтался на месте, я вдруг выпалил с непринужденностью того же бегемота: „Отчего умерла Бала?“ С лица Реми сбежала улыбка. Он побледнел. Я почувствовал, что тоже бледнею. Какая же я скотина! Он ответил коротко, одним словом: „Равенсбрюк“. И замолчал. Теперь, пятнадцать лет спустя, это название уже не производит прежнего впечатления, но в те годы — понимаете сами… Тогда еще пытались спасти уцелевших узников. Но странная штука, при его словах передо мной возникло не лицо Балы, такое, каким оно должно было стать от голода, холода, страшных мучений, перенесенных в лагере, — нет, поверите ли, передо мной возникло кукольное личико баронессы Дессу, возлежащей среди мехов. Баронессы, ответившей мне сухим, холодным тоном: „Умерла“, тоном, который пресекал все дальнейшие расспросы. Нет сомнений, в ее глазах Бала была виновата, ее гибель в лагере была постыдной, неприличной смертью, такой, на какую набрасывают покров, обходят стыдливым молчанием. Замкнутое лицо Реми тоже не располагало к разговору, и все же я спросил: „Что она сделала?“ Он снова улыбнулся, спокойно, с гордостью: „Пускала под откос поезда“. Это было невероятно, я мог предположить все что угодно — но это!.. Такая изящная, хрупкая — пускала под откос поезда! И почти одновременно мне пришла другая мысль: „Но вы же были женаты!“ Он ответил: „Конечно“. Меня охватил гнев, возмущение: „И ты знал, чем она занимается?“ Он сказал: „Само собой“. Я крикнул вне себя от ярости: „И ты ей позволил?“ Он ответил, едва ли не смеясь: „Пришлось, мы работали вместе“. Будь мы в лесу, я, наверное, вцепился бы ему в глотку. Но мы находились в Люксембургском саду, у подножия памятника Анне Австрийской. Мы сидели в железных креслах. В этом было что-то неправдоподобное. У наших ног какой-то малыш тщетно пытался наполнить формочку песком и слепить пирожок. Я еще подумал: надо бы ему посоветовать сначала полить песок. Просто удивительно, какое множество мыслей одновременно копошится в голове, когда тебе кажется, что гнев вообще отбил у тебя способность соображать! Помню струйку фонтана, ветер отклонял ее к самому краю, она лилась прямо на паруса игрушечного кораблика, и я думал: „Она его потопит…“ И в то же время я слышал, как говорю сквозь зубы, голосом, осипшим от сдержанной ярости: „Значит, это ты ее убийца!“ Может, теперь он вцепится мне в глотку? Я этого хотел, я на это надеялся, мы подрались бы, как два дикаря, но он и пальцем не шевельнул, он просто сказал, не повышая тона: „Ты прекрасно знаешь, что ее убийца — ты“». «Вы в самом деле обо всем этом забыли?» Меня взяло сомнение — слишком точные подробности! Он обернулся: «Что именно? Наш разговор?» Я подтвердила, он ответил медленно, задумчиво: «Я в самом деле воображал, что забыл. Да, я так воображал». Это было слишком уклончиво, я заинтересовалась. «Такие вещи не „воображают“. Постарайтесь формулировать точнее: вы забыли или старались не думать?» Он долго водил ногтем большого пальца по губам, выражение которых от меня ускользало. Потом ответил: «Забыл. Не саму сцену в Люксембургском саду. Но то, что тогда говорилось». Я начала было: «Но вы рассказываете так, будто…» Он перебил: «Знаю, так, будто помню каждое слово. И это правда: я все забыл и помню каждое слово. Понимайте как хотите». И снова зашагал по комнате. «— Мало сказать — каждое слово. Я вижу Реми, как он обхватил руками колени, вижу его коротко остриженные ногти и как он раскачивается в кресле, пока спинка не уперлась в пьедестал памятника. На кончике моего ботинка засохло грязное пятно, мне все время хотелось его соскоблить, и в то же время я думал: „Почему я?“ Я взвешивал слова Реми о том, что Балу убил я, — вместо того чтобы возмутиться, взвешивал это „я“, точно монету, я говорил себе: „Постой, постой…“ — и был холоден, холод проникал мне под кожу, а откуда-то из недр души рвался подавленный крик, и Реми сказал: „Что ты еще хочешь знать? Как мыпоженились?“ Я не спросил его об этом, но, конечно, догадаться было нетрудно. „О, я знаю всю вашу историю, — продолжал он. — И что было у баронессы, и в Греции, она все мне рассказала, мы никогда ничего не скрывали друг от друга — можешь не краснеть, тут с самого начала вышла ошибка, она ошиблась на твой счет, и ты ошибся, как она, и я ошибся, как ты, мы все здорово ошиблись, нужна была война, оккупация, гигантская бойня и евреи, проданные Гитлеру, чтобы все мы наконец поменялись местами и каждый нашел свое. Теперь мы с тобой оба утвердились на своих местах, и, как видно, уже надолго. Только вот Бала погибла“. У меня больше не было никаких желаний. Не хотелось сердиться, не хотелось слушать, Но и уходить не хотелось. Я был, представьте себе, взволнован — не столько его словами, сколько тем, что мы сидим здесь вдвоем на железных креслах, как, бывало, мальчишками, когда мы спорили о мировых проблемах, начиная от пьес Расина и кончая ролями Берты Бови, и я кипятился, а потом сдавался. Помолчав немного, он сказал: „Ее отец негодяй, — И, заметив, что я обернулся к нему, добавил: — О, разумеется, это зависит от точки зрения. Вернее, от той социальной морали, которую исповедуешь. Если исходить из взглядов, которые в почете у семейства Провен и компании, твой Корнинский великий, благородный человек, вроде нашего деда, наших папаш и иже с ними. Да только теперь я смотрю на это по-другому. Знаю, знаю ты скажешь, куда девалась моя пресловутая терпимость? На твой взгляд, я сильно изменился. Не так ли? А вот ты… Но не о тебе речь… Когда Бала пришла ко мне, я как раз уехал из Виши. Она была совершенно сломлена. Во-первых, конечно, из-за вашей истории — хотя прошло три года, но это подтачивало ее изнутри. Но главное, из-за отца. Видишь, я великодушен — я снимаю с тебя часть ответственности. История с шахтами в Анзене ты, конечно, не знаешь, о чем речь, такие, как ты, никогда ни о чем не знают. Там была попытка забастовки, а потом расправа, казнь каждого десятого, как во времена Цезаря и легионеров. Каждого десятого расстреливали. И Корнинский от имени предпринимателей выразил благодарность оккупантам. Бала убежала из дому. Она явилась ко мне совершенно опустошенная. Я ее, можно сказать, приютил. Мы поженились, чтобы пресечь возможные пересуды. Напрасная предосторожность — через месяц мне пришлось бежать в маки. Кто-то донес. Я всегда подозревал Корнинского. Но он или не он, все равно дело кончилось бы этим — я хотел сохранить хоть каплю самоуважения, а при том, что творилось в стране, начиная с семьи Провенов, выбора у меня не было. Взять с собой Балу я не мог. Ей пришлось остаться в Париже. Но она вынудила меня дать клятву, что ей позволят участвовать в наиболее трудных делах. Как я мог ей отказать? В наших судьбах было много общего. Я не разрешал ей сопровождать меня каждый раз — только в самых ответственных операциях: электростанция в Бельфоре, виадук в Шомоне, теплообменник в Рамбуйе. Не знаю, каким образом боши нас выследили. Схватить человека, сражающегося в маки, они не могли. Они отомстили Бале. Пытки, Компьень, Равенсбрюк. Вмешался ее отец, он пустил в ход все связи. Абвер нуждался в его услугах, в один прекрасный день за Балой приехали в лагерь, чтобы увезти ее во Францию. Мне рассказала это одна из узниц концлагеря, которая чудом выжила. Она находилась в одном бараке с Балой — обе лежали в тифу. Между ними лежала еще третья женщина — еврейка. И вдобавок коммунистка. Она почти все время была без сознания — более чем достаточно, чтобы в сорок восемь часов оказаться в печи крематория. К тому же у нее оставалось четверо детей. Они поменялись местами — Бала легла на ее место. Просто — не правда ли? Элементарно и убийственно просто. Вот так. Кстати сказать, та, другая, тоже умерла, пока ее везли в машине. Страшно просто. Просто до глупости. Сам не знаю, зачем я тебе это рассказываю“. Я спросил: „Вы любили друг друга?“ — и сам оторопел — вот уж никак не ожидал, что задам ему этот вопрос! Судя по всему, он был ошарашен, как и я. Он выпрямился. Полозья кресла врезались в землю. Он встал. „Ах вот что ты хочешь знать, голубчик… — Я готов был откусить себе язык, но слово — не воробей. Не знаю, что он прочел на моем лице. Его лицо посуровело. — Можешь считать, что да, можешь считать, что нет, — по твоему усмотрению. Если Бала любила меня, ты виноват в ее смерти немного меньше. Если нет — немного больше. И даже гораздо больше. Выбирай, что тебе по вкусу“. Ну, как вам это нравится? — Что именно? — Это иезуитство. Какое он имел право? Я задохнулся от гнева. Я тоже встал. Мне хотелось отыграться. Я спросил: „Это правда, что ты отказался свидетельствовать в пользу моего отца?“ В его глазах вспыхнул иронический; вызывающий огонек, а меня, как всегда, так и подмывало вцепиться ему в глотку. „Твой отец добился прекращения дела, выкрутился — не так ли? Чего же тебе еще?“ Значит, правда, что он отказался свидетельствовать. Я сказал: „Отказать человеку, который воспитал тебя как сына! Ты мне отвратителен“. Но в ответ на оскорбление он даже не перестал улыбаться. „Помнишь, что я написал тебе, когда ты просил меня о встрече?“ Он мне написал: „К чему?“ Я сказал: „На сей раз ты оказался прав. Между нами никогда не было и не могло быть ничего общего“. Он как-то грустно покачал головой — вы сами понимаете, я на это не поддался — и, слегка приподняв руки, протянул мне правую. Но не мог же я подать ему свою. Он опустил руку и ушел. Он в одну сторону, я в другую. Я был спокоен, тверд и совершенно спокоен. Вопль „A-а!“, которого я по глупости боялся, так и не вырвался из недр моей души. Он там и остался. Иногда — правда, все реже и реже — мне кажется, я слышу, как он назревает где-то в глубине. Но это длится недолго. И потом, ведь ко всему привыкаешь». (На этих словах магнитофонная запись внезапно обрывается. Других заметок в истории болезни Фредерика Леграна нет. Как видно, после исповеди мужа Марилиза не стала продолжать курс своего лечения, так и не доведя его до конца. Странный поступок. Но поскольку даты нигде не указаны, быть может, он вызван трагической гибелью Эстер. А может, его причину надо искать на дне того оврага, где разбились Фредерик и его жена. Куски железа и искромсанные тела — все было так перемешано, что не удалось установить, кто вел машину. Может быть, Марилиза? Конечно, трудно забыть суровую запись Эстер Обань: «Этот человек выкрутится. За его жену я далеко не так спокойна». С тех пор я узнал о писателе некоторые любопытные подробности. Гневно разоблачая власть имущих и их прихвостней, он неизменно наносил визиты влиятельным критикам. Во всеуслышание отказываясь от наград, он благосклонно взирал, как друзья баронессы Дессу расчищают для него тернистый путь, ведущий к самым высоким почестям. Преждевременная гибель навеки запечатлела его для нас в том кристально чистом облике, в котором Марилиза черпала свои жизненные силы. Но насчет этой гибели мы должны воздержаться от чересчур смелых, хотя и заманчивых, гипотез, ибо мы ничем не можем их подтвердить. Эстер, может быть, и знала правду. Или подозревала ее. Но она уже не выскажет своего мнения. Конечно, очень не хочется заканчивать повествование вопросительным знаком. Но разве любая жизнь, как знаменитая, так и безвестная, не оканчивается знаком вопроса?)
Последние комментарии
9 часов 36 минут назад
1 день 1 час назад
1 день 10 часов назад
1 день 10 часов назад
3 дней 16 часов назад
3 дней 21 часов назад