

Предисловие
Майским утром тысяча девятьсот семьдесят пятого года рейсом Париж — Найроби я прилетел в столицу Кении и уже в машине, мчавшей меня из аэропорта в город, с тоской подумал, что здесь никогда не бывает снега и зимы и люди «обречены» всю жизнь нести бремя вечного лета, созерцать вечную зелень. Вспомнилось давнее-давнее детство, наша школа в Уэлене, на другом, дальнем краю земного шара, на берегу Ледовитого океана, занесенная по самую крышу снегом; многодневная снежная морозная пурга и радуга полярного сияния в тихую погоду. Вспомнился и острый детский интерес к географической карте мира, к тем местам, где располагались приэкваторные земли, объединенные для нас общим понятием — жаркие страны. Но в ту пору не только не думалось, по и в самых смелых грезах не мечталось о возможности будущего путешествия в эти сказочные места — с окрестностей Полярного круга в окрестности экватора. Я прибыл в Кению по командировке ЮНЕСКО и собирался провести здесь почти два месяца. За долгие и частые свои путешествия я убедился в том, что наше представление о той или иной незнакомой нам земле, основанное на рассказах других людей, в большинстве своем не оправдывается. Собственное впечатление о стране начинает складываться с того, что читанное, услышанное, ожидаемое — не совсем то, что увидел своими глазами. Наверное, именно в этом и прелесть собственных открытий: еще вчера казавшаяся совершенно чужой земля становится твоей и уже не отпускает тебя на протяжении всей жизни, даже если нет никаких надежд снова посетить ее. Прежде всего: мои опасения будущих климатических страданий оказались совершенно напрасными — во всяком случае, в Найроби, расположенном довольно высоко над уровнем моря, никогда не бывает изнурительной жары, погода здесь отличается умеренностью, благоприятной не только для европейца, по даже для уроженца студеных краев. Я поселился неподалеку от Национального музея, на холме, господствующем над городом. Пешком ходил в центр мимо университета, городского рынка, знакомился с городом, его жителями. Расположенная в Восточной Африке, разделенная экватором почти пополам, страна имеет богатейшую историю, уходящую в глубь веков, в то изначальное время, когда населяющие ныне территорию Кении народы закладывали основы собственной культуры. Кения, как и большинство африканских стран, пережила долгие сумерки колониального господства. Говоря о губительном воздействии колониализма, о его хищнической сути, разрушавшей традиционный уклад африканских народов, мы не всегда в полной мере сознаем, какой урон нанесло культурному наследию и духовным богатствам африканских народов насаждение чуждой им культуры и идеологии. И сегодня, поднимаясь на ноги, многие африканские страны, среди них и Кения, все еще испытывают на себе пережитки духовного гнета, освобождение от которого — процесс долгий и мучительный. Кения — страна прекрасной природы, привлекающая туристов со всех концов земного шара. Знаменитые заповедники в саванне, гора Кения с ее ледяной вершиной, сверкающей в лучах африканского солнца, поражают и навсегда остаются в памяти впечатлительного человека. Именно Кения, одна из первых стран в мире, всерьез взялась за охрану уникальнейшего животного мира и природной среды. Я никогда не забуду поразительную сцену, которую наблюдал по дороге из Найроби в Момбасу. Что-то случилось с нашей машиной, и мы остановились, чтобы устранить поломку. Не прошло и нескольких минут, как из окрестных зарослей вышли жирафы и, стоя чуть поодаль, стали наблюдать за нами — величественные, грациозные, уже начинающие понимать, что человек не всегда враг. Однако со временем за внешним глянцем экзотики, рассчитанной на мимолетный взгляд туриста, начинает проступать то, чего не скрыть за яркими витринами и высотными зданиями отелей — контраст в жизненном уровне населения. В Найроби такие окраины, что лучше туда не заглядывать в быстрые африканские сумерки, о том же, чтобы побывать там после захода солнца, не может быть и речи: нищета и преступность всегда идут рядом. А в двух шагах отсюда — фешенебельные казино и отели, загородные виллы и частные магазины. И при этом — заметное присутствие англичан; формально уйдя с политической арены, они удержали не только ключевые экономические позиции, но остались и в многочисленных государственных учреждениях. В знакомстве со страной огромную, неоценимую помощь мне оказали произведения кенийских писателей. Среди них я сразу же выделил книги Джеймса Нгуги (так подписывал свои первые произведения впоследствии ставший широко известным Нгуги ва Тхионго). Нгуги ва Тхионго родился в 1938 году. Окончив в 1964 году колледж Макерере в Кампале (Уганда), он работал журналистом, как бы накапливая силы и умение для серьезной литературной работы. Проведя несколько лет в Англии в качестве аспиранта Лидского университета, Нгуги изучает европейскую и мировую литературы. Возвратившись на родину, он некоторое время преподает в университете Найроби. Все эти годы были годами и напряженной творческой работы, настойчивого труда над словом, над образом, поисками своего пути в литературе. Давно замечено: подлинная биография настоящего писателя — в его собственных произведениях. Строго говоря, писательский путь кенийского автора начался во время учебы в колледже — в 1964 году: когда молодому писателю было всего двадцать шесть лет, он выпустил первый роман «Не плачь, дитя». Это повествование о трудных годах страны, о зарождении и возмужании освободительного движения. Уже в этом произведении Нгуги видны особенности его письма, глубокое проникновение в душу человека, тщательность психологического анализа. Роман во многом автобиографичен. История главного героя отражает жизненные перипетии автора — путь духовного взросления наивного молодого человека, воспитанного миссионерами на христианских идеях и оказавшегося на духовном перепутье. Такого рода переживания были свойственны кенийцам — ровесникам Нгуги; многие из них прошли извилистый и трудный путь от безоговорочного приятия христианских догм до сомнений и отрицания. Первый роман Нгуги, несмотря на явные следы ученичества и литературной неопытности, убедительно свидетельствовал о том, что в кенийскую и многонациональную африканскую литературу пришел яркий, самобытный писатель. Сегодня уже мало кто помнит карты Африканского континента, на которых этот огромный материк был окрашен в цвета европейских государств. Выражения «французская Африка», «британская Африка», «германская Африка» никого не удивляли, то были политические реальности, отражавшие действительную разделенность колониального мира. Этот мир находил воплощение и в художественном творчестве того времени, породив так называемую «колониальную литературу», создаваемую на европейских языках европейскими писателями. То было чтиво, рассчитанное большей частью на потребу невзыскательного буржуазного обывателя, который любил пускаться в дальние путешествия, сидя у камина. В них беззастенчиво проповедовался колониальный патернализм, а африканский абориген изображался существом низшего порядка, едва ли не частью африканской экзотики. Читателю втолковывалась мысль о неспособности африканских народов существовать без палки надсмотрщика, будь то на плантации, в руднике или же при разработке тропических лесных массивов. Зверская, безжалостная эксплуатация африканцев считалась сама собой разумеющейся. И, конечно, об их политической и экономической независимости и речи не могло быть. Но в сокровенных глубинах народов зрели идеи освобождения, избавления от цепей колониального рабства. Лучшие сыны Африки исподволь приступали к созданию организованного сопротивления. Мне кажется, что одной из причин успешного развития освободительных движений на Африканском континенте была известная недооценка колонизаторами серьезности положения, их высокомерная ограниченность, неумение разглядеть в однообразной для них черной толпе настоящих вождей, выдающихся личностей, которых сегодня по праву чтят народы Африки, все прогрессивное человечество. Населяющие этот удивительный континент народы сумели сохранить и поднять на высоту общечеловеческих ценностей собственную культуру, свое неповторимое видение мира. И все это талантливо отразилось в творчестве Нгуги ва Тхионго, по праву занимающего сегодня место одного из самых популярных писателей континента. Им уже написано довольно много, можно сказать, создана целая библиотека. И, как бывает с активно и плодотворно работающими литераторами, есть у него книги, которые, подобно вехам, отмечают наиболее значительные этапы творчества. Именно к таким произведениям относятся два романа, публикуемые в настоящем сборнике. Роман «Пшеничное зерно» вышел в свет два десятилетия назад, в 1967 году, но не потерял своей актуальности и по нынешний день. Это произведение уже зрелого автора, главный его герой, Муго, характер чрезвычайно сложный и противоречивый, написан поразительно живо. Хронологически действие романа «Пшеничное зерно» развертывается в первые дни после получения Кенией независимости, когда сеялось то «зерно», которое должно было дать всходы уже в условиях свободы. Это роман больших надежд и горьких разочарований… Роман «Пшеничное зерно» построен на контрастном противопоставлении судеб двух героев — пассивного, безвольного Муго, мечтающего о счастливом будущем, которое якобы наступит само собой, и Кихики — яростного, непримиримого борца за подлинную свободу, завоеванную собственными руками. Корни мировоззрения Муго — в христианском воспитании с его проповедью непротивления, покорности судьбе. Библейская символика как бы окутывает образ Муго, пронизывает его повседневную жизнь. Хотя автор и не говорит прямо о тлетворном влиянии миссионеров на мироощущение африканцев, но читателю ясно, где истоки духовного колониализма. Этого впечатления Нгуги достигает сильными изобразительными средствами, точными, убедительными мазками. Достоверность, обаяние подлинной жизни присутствуют в каждой строчке кенийского писателя, чье творчество, как уже говорилось, в немалой степени основано на личном жизненном опыте. Так, в романе «Пшеничное зерно» мы все время слышим голос автора, его напряженный внутренний монолог, яростный спор с самим собой, со многими, вошедшими в его кровь и плоть христианскими догмами, ибо это часть его собственного духовного воспитания. Многое, во что он изначально верил, рушится под натиском жизни, не выдерживает испытания суровой и жестокой действительностью. Роман «Пшеничное зерно» поднял творчество Нгуги ва Тхионго на новую ступень, широко раздвинул горизонты авторского видения. Нгуги не из тех, кто безоглядно и бездумно любит свою страну, свою землю, свой народ. Его любовь беспощадно требовательна, критически заострена. Он ищет новые пути, которые могут привести кенийский народ к настоящей свободе и национальному процветанию. Нгуги прекрасно понимает (и это свое понимание высказывает со всей убедительностью подлинного художника), что тесное и нерушимое единство кенийского народа является залогом истинной независимости. Он не может не видеть смертельной опасности, которую таит в себе национальная рознь, охотно раздуваемая ревнителями неоколониализма. Здесь мне хотелось бы сделать небольшое отступление. Дело в том, что именно в Кении неоколониализму удалось закрепиться и пустить цепкие, разветвленные корни буквально в первые же месяцы и годы после обретения страной формальной независимости от британской короны. Именно это обстоятельство объясняет обличительный пафос многих произведений Нгуги. И уже в романе «Пшеничное зерно» слышится предостережение: среди ликования, эйфории и радужных надежд, порожденных освобождением, пытливый взор художника разглядел грядущую опасность. Опасность была не только в остатках колониальных порядков, не в том лишь, что англичане сумели сохранить за собой контроль над ключевыми отраслями экономики, административным управлением страной, — Нгуги понял, что главная помеха на пути к подлинной независимости — это собственная, тесно спаянная с бывшими хозяевами доморощенная буржуазия, класс высокооплачиваемых чиновников, продажных политиков, готовых за деньги на любое предательство. Этой-то теме, в основном, и посвящен второй предлагаемый вниманию читателя роман «Распятый дьявол», который можно смело назвать новаторским произведением. Его отличает умелое смешение жанровых признаков, и этим своим качеством роман доказывает нерасторжимую связь с подлинной жизнью. Публикации этого романа в жизни Нгуги ва Тхионго предшествовали тяжелые испытания. Вторая половина семидесятых годов ясно показала, какими губительными последствиями чревата половинчатость действий правительства, скованного по рукам и ногам путами неоколониализма. Будучи человеком общественно активным, Нгуги борется средствами своего таланта: печатает разоблачительный роман «Кровавые лепестки» (1977) и пьесу «Я женюсь по собственному выбору», написанную на родном языке кикуйю и впервые показанную в его родной деревне, где он создал национальный театр. В своих публичных выступлениях Нгуги не скрывает симпатий к марксизму и доказывает, что только широкое народное движение может покончить с системой классовой эксплуатации и империалистического грабежа. В новогодний вечер 31 декабря 1977 года Нгуги был арестован и посажен в тюрьму. Немедленно началась кампания за его освобождение, которая перекинулась далеко за границы Кепии, охватив соседние государства, страны Европы, Азии и Америки. Только в конце следующего года Нгуги ва Тхионго выпустили на свободу, так и не предъявив писателю каких-либо обвинений. Из-за репрессий и преследований со стороны властей, направленных против прогрессивной интеллигенции, Нгуги в конце концов был вынужден покинуть родину; сейчас он живет в эмиграции. Эти события отразились на истории создания «Распятого дьявола», по мнению некоторых критиков, одного из лучших романов Нгуги. В течение долгих месяцев заключения писатель заново переписывал его, точнее не переписывал, а воссоздавал на языке кикуйю! Это был воистину смелый шаг: ведь Нгуги уже добился мировой известности как африканский писатель, пишущий на английском языке, невольно подтверждая тем самым расхожее мнение неоколонизаторских культуртрегеров о неспособности местных языков служить средством художественного мышления. Обращение к родному языку на только не повредило уже сложившейся литературной репутации Нгуги, но и придало его творчеству подлинную достоверность. Если до «Распятого дьявола» писатель в какой-то степени ориентировался на европейский литературный опыт, то в последующем творчестве Нгуги пытается освободиться от испытанных литературных канонов, часто делая это демонстративно, напоказ. И читатель улавливает присутствие иного художественного опыта, впервые запечатлеваемого на бумаге — многовекового опыта устного народного творчества. Фольклор — далеко не забава отдыхающих после удачной охоты туземцев или своего рода отдушина для дикого темперамента, а важнейшая часть общественной жизни. Это и философия познания, это и накопление положительного опыта, древнейшая педагогика и дидактика. В устном поэтическом творчестве сформировались принципы самого здорового, гуманистического, прогрессивного искусства, которому абсолютно чужды выдаваемые иногда за новые тенденции человеконенавистничества заумные, трудно воспринимаемые, якобы художественные поиски, напоминающие плоды больного воображения. Это не только традиции живого повествования, импровизации, но и приемы перевоплощения рассказчика в действующее лицо, приемы гротеска, подчеркнутого контраста в характерах персонажей. Здесь ярко и выпукло противостоят добро и зло, правда и ложь, любовь и ненависть. В роман «Распятый дьявол» Нгуги перенес находки и приемы, добытые в авторской и режиссерской работе над пьесами, достигая иногда поразительных результатов в воздействии на читателя. Фабула романа несложна, и тем, кому он адресован, легко следить за ходом сюжета. Здесь нет тонкой психологической мотивировки поступков героев, столь характерной для романа «Пшеничное зерно», нет эволюции образов, многоплановости и сложного переплетения сюжетных линий. «Распятый дьявол» — это сатирический роман, роман-памфлет. Его нарочитая наглядность, плакатная агитационность не случайны. Нгуги ва Тхионго ориентируется не на иностранного, пусть даже самого доброжелательного, читателя, не на кенийского интеллигента. Его цель — быть прочтенным и понятым самыми широкими народными массами, кенийскими рабочими и крестьянами. Поэтому было бы неправильно усматривать в декларативности этой книги и схематичности персонажей признаки ее художественной несостоятельности. Нгуги ва Тхионго — подлинный мастер, и в данном случае речь идет об умышленном, сознательном приеме, заимствованном из фольклора и народной театральной буффонады, в заражающей экспрессивности которой писатель убедился, наблюдая за реакцией многотысячной аудитории, собиравшейся под открытым небом перед грубо и наспех сколоченными подмостками, где разыгрывались его пьесы. «Распятый дьявол» вызвал горячие дискуссии и споры, полярные оценки критики — от хвалебных до уничтожающих, но уже само по себе подобное расхождение во мнениях свидетельствует о том, что этот роман — явление незаурядное. В январе 1988 года писателю исполнилось пятьдесят. Творчество Нгуги ва Тхионго, этого искреннего и правдивого выразителя чувств и чаяний кенийского народа, достигло полного расцвета, и не только африканские, но все читатели мира ожидают его новых произведений. Ю. РытхэуПшеничное зерно (роман)
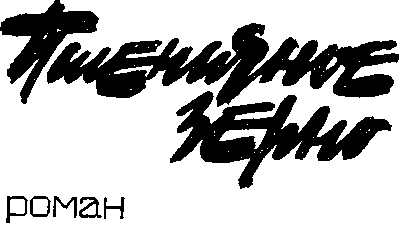 A GRAIN OF WHEAT
novel
A GRAIN OF WHEAT
novel
Посвящается Дороти
Хотя действие книги происходит в современной Кении, все ее персонажи вымышлены, за исключением тех, кто, подобно Джомо Кениате и Вайяки, неразрывно связан с прошлым или настоящим нашей страны. Но ситуации и конфликты реальны, увы, подчас слишком реальны, в них — горькая правда: крестьяне, которые сражались с англичанами, теперь видят, как все, за что они боролись, достается другим. Нгуги Лидс, ноябрь 1966 г.
Безрассудный! То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Первое послание к Коринфянам, 15; 36, 37
I
На душе у Муго было нехорошо. Он лежал на кровати навзничь, уставившись в потолок. С кровли свисали закопченные соломинки и папоротниковые листья, целясь ему в сердце. Прямо над головой дрожала прозрачная капля. Капля стала расти, чернеть от копоти и, удлиняясь, тянулась к нему. Он хотел зажмуриться, но веки не опускались. Попробовал пошевелить головой — ее словно приковали. Капля неумолимо росла — сейчас оборвется! Он попытался спрятать лицо в ладонях — руки не слушались. В отчаянии Муго собрал последние силы и проснулся. Но страх не исчез. Спросонья все чудилось, что ледяная капля вот-вот пронзит его насквозь. Он лежал под истрепанным жестким одеялом, ворсинки кололи лицо, шею, кожа зудела. Но вставать он не спешил. Солнце еще не всходило, а под одеялом было тепло. Отсвет зари проникал в хижину сквозь трещины в стене. Муго затеял сам с собой игру, как обычно, когда просыпался среди ночи или на рассвете. В темноте очертания предметов расплывались, соединяясь в причудливые тени, и игра заключалась в том, чтобы различить в сумраке каждую вещь. Но сегодня Муго никак не мог сосредоточиться. Он понимал, что это был лишь дурной сон, и все-таки покрылся мурашками при одной мысли о падающей ледяной капле. Раз, два, три! Он откинул одеяло, поплескал водой на лицо, развел огонь. Из кучи утвари в углу вытащил мешок с остатками кукурузной муки. Высыпал муку в котелок, налил воды и размешал деревянной ложкой. По утрам он всегда ел кашу. И каждый раз вспоминал ту недоваренную жижу, какой их кормили в лагере. Как тянется время, думал Муго, и все повторяется сызнова. Нынешний день будет точно таким, как вчерашний, как позавчерашний… Взвалив на плечо мотыгу и пангу[1], он отправился на поле, следуя неизменному ежедневному распорядку, которому подчинялась вся его жизнь с тех пор, как он вышел из лагеря Магуиты. Путь лежал через пыльные деревенские улочки на другой конец Табаи. Как и обычно, женщины в деревне проснулись еще раньше, чем он. Они уже возвращались с реки, хрупкие спины гнулись под тяжестью полных ведер. Нужно успеть приготовить кашу и чай мужьям и детям. Взошло солнце, на землю легли узкие, длинные тени от деревьев, хижин, людей. — Доброе утро! — окликнул его с порога Варуи. — Доброе, доброе! — И Муго зашагал было дальше, но Варуи, видно, настроился поболтать. — Спозаранку в поле? — Сам видишь. — Вот я и говорю: в такую рань и земля мягче. Солнышко взойдет — а ты уже в поле… Оно и смекнет, что ему с тобой не тягаться. А если оно раньше поспеет — тогда… Варуи, деревенский старейшина, кутался в новенькое одеяло, из которого выглядывало морщинистое лицо с пучками седых волос на макушке и остром подбородке. Это он дал Муго землю, с которой тот и кормился. Собственный участок Муго конфисковало правительство, когда его отправили в лагерь. Болтлив Варуи, любит поговорить, но молчаливая сдержанность Муго ему нравилась. А сегодня он разглядывал парня с каким-то новым интересом. — Слышал, что Кениата сказал? — продолжал старик. — Наступили дни «ухуру на кази» — свободы и труда. — Он умолк и сплюнул через плетень. Муго был явно смущен встречей. — А ты свою хижину приготовил к празднику? — снова заговорил Варуи. — У меня порядок, — буркнул Муго и торопливо распрощался. Шагая по деревне, он раздумывал над вопросом Варуи, не понимая, что имел в виду старик. Табаи и теперь деревня большая, а прежде она лежала на нескольких холмах: Табаи, Камандура, Кихинго и даже Вару. И в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году деревня мало изменилась по сравнению с пятьдесят пятым, когда глинобитные стены в спешке подвели под соломенные кровли и белый человек занес меч над головами жителей якобы для того, чтобы спасти крестьян от их же братьев в лесу. Несколько хижин разрушилось от времени, другие снесли. Но, как и прежде, деревенские крыши издали похожи на огромный жертвенный костер, от которого к небу поднимается дым. Муго брел ссутулившись, опустив глаза, словно стыд гнул ему спину. Он все еще размышлял над словами Варуи, когда его снова окликнули. Муго вздрогнул, остановился и увидел Гитхуа, ковылявшего к нему на костылях. На Гитхуа была рваная рубаха с лоснящимся от грязи воротником, левая штанина подвернута и заколота булавкой. Подошел, вытянулся как по команде «смирно», сорвал с головы дырявую шляпу и завопил: — Во имя свободы черного человека я приветствую тебя! — и дурашливо отвесил несколько низких поклонов. — А-а, как поживаешь? — промямлил Муго в растерянности. И тут же набежали ребятишки посмеяться над проделками Гитхуа. Гитхуа ответил не сразу. Внезапно он схватил Муго за руку. — А сам-то как, парень? Какой молодец — в такую рань на поле! Даже в воскресенье! Свобода и труд! Ха-ха-ха! А знаешь, до чрезвычайного положения и я был работник дай бог всякому, пока белый человек меня не изувечил. А теперь хоть за тебя сердце радуется. Свобода и труд! Вождь, я приветствую тебя! Муго попытался высвободить руку. Сердце щемила тоска. Не придумаешь, что сказать бедняге… Хохот детей поверг его в еще большее смятение. Но тут голос Гитхуа изменился: — Чрезвычайное положение погубило нас! — Голос его дрогнул, он резко повернулся и заковылял прочь. И Муго заторопился, все еще чувствуя на себе взгляд Гитхуа. Три женщины, возвращавшиеся с реки, завидя его, остановились. Одна из них что-то крикнула, по Муго не ответил, даже не взглянув на них, прибавил ходу. Пыль клубилась за ним. Он шагал все быстрее, недоумевая про себя: «Что с ними сегодня! Что они на меня уставились?..» Вскоре Муго был уже в конце главной улицы, у хижины Старухи. Никто не знал, сколько ей лет, — жила она в деревне испокон веку. Когда-то был у нее сын, глухонемой. Гитого — так его звали — объяснялся при помощи рук, иногда сопровождая жесты гортанными, похожими на звериные, звуками. Он был красивый и крепкий парень, и в городе Рунгее, где окрестная молодежь околачивалась все дни напролет, его любили. Ему чаще других перепадала мелкая работенка, сулившая несколько монет. «Хватит карман отогреть. А когда-нибудь монетки покличут свою родию в гости», — посмеиваясь, говорили парни. В харчевнях и в мясных лавках Гитого ворочал грузы, которые другим было не поднять. Он любил покрасоваться своей силой. В Рунгее и Табаи ходили слухи, что не одна девушка на себе познала силу его стройного, мускулистого тела. По вечерам Гитого покупал еду — фунт сахару или мяса — и относил матери. А та, завидев его, расцветала, и лицо ее, несмотря на морщины, делалось совсем молодым — так красила ее улыбка. «Ай да парень, ну и молодец!» — говорили люди, тронутые его сыновней заботой. Проснувшись как-то утром, люди Табаи и Рунгея обнаружили, что все окрест наводнено белыми и черными солдатами и даже танками. Танков здесь не видывали со времен войны Черчилля с Гитлером. В воздухе было смрадно от порохового дыма. Люди струхнули, попрятались кто куда: одни заперлись в отхожих местах, другие укрылись в лавках, забились за мешки с бобами и сахаром. Иные попробовали улизнуть в лес, но все тропинки охранялись солдатами. Народ сгоняли на базарную площадь, допрашивали, обшаривали карманы. Гитого кинулся в ближайшую лавку, перемахнул через прилавок и свалился прямо на хозяина, укрывшегося под ворохом пустых мешков. Тот совсем обезумел от страха, увидев немого, который размахивал руками и что-то мычал, испуганно показывая на солдат. Гитого вдруг вспомнил: старушка-мать совсем одна в хижине. Сцены кровавых жестокостей пронеслись в его голове. Он выскочил из лавки через заднюю дверь, перелез через забор и побежал полем. Скорее домой! Страшные картины вспыхивали в голове одна за другой. Только он может защитить ее! Понятно, он не слышал, как лежавший в кустах белый солдат в хаки крикнул: «Стой!», не остановился. Что-то ударило в спину. Гитого взмахнул руками и рухнул. Видно, пуля вошла в сердце. Англичанин вылез из укрытия: «Одним бандитом из мау-мау меньше!» Когда Старуха узнала, она проронила только: «Господи…» Не заплакала, говорят, не спросила даже, как это случилось. Вернувшись из лагеря, Муго несколько раз видел Старуху на пороге хижины. Она глядела на него так, словно силилась что-то вспомнить. Лицо у нее совсем иссохло, морщины стянули его в кулачок. В узких щелочках глаз лишь изредка загоралась жизнь. Она носила бусы, обертывая их вокруг костлявых локтей, несколько медных цепочек на шее и дутые оловянные браслеты на лодыжках. При ходьбе все это бренчало, звенело, как колокольчик на шее у козы. Сильнее всего бередил Муго ее взгляд, ему казалось, будто он стоит на людях в чем мать родила. Как-то он решился заговорить с нею, но Старуха лишь скользнула по нему взглядом и отвернулась. Муго стало обидно, но обида не убила сострадания: Старуха была такой жалкой и одинокой. Он решил помочь ей, и сразу на душе сделалось теплее. В одной из лавок в Кабуи он купил сахару, кукурузной муки, вязанку хвороста и вечером отправился к Старухе. В хижине было темно и пусто, холодный ветер свистел в щелях. Она спала на полу у очага. Ему самому приходилось спать вот так на земле в теткиной хижине, вместе с козами и овцами. По ночам он прижимался к козам, чтобы согреться. К утру его лицо и одежда покрывались сажей и пеплом, по рукам и ногам размазывались козьи орешки. Но он привык, даже к козлиному запаху притерпелся. Старуха проснулась. Она пристально смотрела на него, и по вспыхнувшим в ее глазах искрам он понял, что она узнала его. Ему сделалось страшно при мысли, вдруг она встанет, дотронется до него. В ужасе он ринулся прочь. Сегодня его вновь неудержимо потянуло войти и заговорить с нею. Это какой-то рок. Между ними протянулась невидимая нить — может быть, оттого, что и он совсем один. В дверях он замялся, решимость дрогнула и пропала, и он пустился наутек, боясь, что Старуха окликнет его или зайдется безумным смехом. Наконец он добрался до своего поля, по легче ему не стало. Урожай был собран, в лишь сухие сорняки мотались на горячем ветру. Поле глядело устало и тоскливо. Мотыга казалась неподъемной, невскопанный кусок — слишком большим. Поработав немного, он разогнул спину. «В чем же дело, почему Варуи, Гитхуа и женщины так странно вели себя?» Две принаряженные девушки прошли по тропинке, очевидно, направляясь в церковь. Завидя его, они захихикали. Муго смутился и вновь принялся за работу. Он поднял мотыгу и вонзил ее в землю, поднял и снова опустил. Земля была мягкой, податливой, точно крот изрыл ее своими норами. Он слышал, как сухие комки сыплются куда-то вниз. Взметалась пыль, обволакивая его, оседала на волосах и одежде. В левый глаз попала соринка. В сердцах он отбросил мотыгу, присел и стал тереть заслезившийся глаз. Где та радость, что давала земля ему раньше, до лагеря? Отец и мать Муго умерли в бедности, оставив единственного сына на руках у дальней родственницы. Вайтереро была вдовой, всех шестерых дочерей она повыдала замуж. Возвращаясь домой навеселе, она всегда бранила дочек. — У, замарашки! — кричала она, обнажая беззубые десны и свирепо поглядывая на Муго, точно подозревала его во всех смертных грехах. — Даже не навещают меня! А ты что хохочешь? — накидывалась она на мальчика. — Неблагодарный! Если бы не я, ты бы гнил рядом со своим папашей. Запомни это! Или вдруг объявляла, что у нее пропали деньги. — Я не брал, — испуганно пятясь, твердил Муго. — В доме нас двое. Не стану же я у себя красть! — Я не вор. — Так, значит, я лгу? Деньги лежали под этим столбом. Ты видел, как я их закапывала. Да у тебя на роже написано, что ты стянул. И не прячься за коз, не поможет… Этой тщедушной женщине казалось, что все, решительно все хотят ее уморить; она рассказывала, что ей подмешивают яд в пищу, подбрасывают в тарелку лягушек, сыплют толченое стекло. И тем не менее каждый вечер она исчезала из дому в надежде угоститься где-нибудь пивом. Она обходила родственников мужа, канючила и добивалась своего. Как-то она вернулась домой совсем пьяная. — Этот Варуи! Он ненавидит меня так же, как ты. Вечно хихикает и кашляет вот так: кхе-кхе. Она попробовала передразнить Варуи, но и в самом деле закашлялась, схватилась рукой за горло, пошатнулась и рухнула наземь. Ее тошнило. Муго притаился позади спящих коз и поглядывал исподтишка, боясь, что она умрет, и в то же время надеясь на это. Утром она его заставила посыпать пол в хижине свежей землей. Резкий запах ударил ему в ноздри. Его душило омерзение. Он не мог ни говорить, ни плакать. Судьба ополчилась на него, сначала лишив родителей, а потом отдав в руки этой старой карге… Она становилась дряхлее, а злобы у нее все прибавлялось. Что бы он ни делал, она находила, к чему, придраться. Из-за нее Муго всегда был не уверен в себе. Она знала, как ранить больнее, донимала его насмешками: и лицо у него дурацкое, и руки нескладные, и одежда мешком висит. Он притворялся, что ему наплевать, но бесконечно страдал из-за всех этих косых улыбок и ехидных взглядов. Он готов был убить ее. Эта безумная мысль, однажды придя, не уходила. В тот вечер Вайтереро была трезвой. Убить. Только не топором и не пангой — он задушит ее голыми руками. Господи, дай ему сил. Вот она бьется в судорогах, как муха в паутине. Он слышит ее сдавленный стон, мольбу о пощаде. Но только крепче сжимает горло. Пусть убедится, что он мужчина. Кулаки стали тяжелыми, он затаил дыхание, опьяненный собственной отвагой и дерзостью… — Что глазища пялишь? — донесся до него хриплый смешок Вайтереро. — Я всегда говорила, что ты с придурью. Такой и родную мать не пожалеет! Он вздрогнул: она видит его насквозь. Вайтереро в конце концов умерла от старости и пьянства. Впервые в доме собрались замужние дочери. Без лишних слов и слез похоронили мать и разъехались восвояси. До Муго им и дела не было. И вот тут-то он, как ни странно, стал тосковать по тетке. Ведь на всем свете у него не осталось ни души. Как ему хотелось, чтобы объявился хоть какой-нибудь родственник, добрый или злой — все равно! Только бы не оставаться одному, всем чужому. Лишь земля сулила ему утешение. Он будет трудиться, не жалея сил, разбогатеет, и тогда люди признают его. Все связанное с землей давало ему облегчение и радость. Укладывать в ямку семена, наблюдать за зелеными побегами, бешено рвущимися к свету, холить их, собирать урожай. В этом был для него весь смысл жизни, залог счастья. Но тут судьба свела его с Кихикой… Домой Муго отправился раньше обычного. Он устал. Он шел походкой человека, который знает: за ним следят, но стремится не показать, что ему это известно. Когда стемнело, он услыхал шаги у порога. Кто бы это мог быть? Все чувства, испытанные им за день, переплавились в страх и враждебность. Он открыл дверь и увидел старейшину Варуи. За его спиной стояла Вамбуи, одна из женщин, встретившихся ему у реки. Она широко улыбалась беззубым ртом. Третьим был Гиконьо, женатый на сестре Кихики. — Проходите! — справляясь с дрожью, пригласил он гостей и, извинившись перед ними, ринулся в отхожее место. Убежать… Теперь все равно… все равно… Он зашел за загородку и приспустил штаны. Голова шла кругом. Только возвращаясь обратно, он вспомнил, что толком и не поздоровался с гостями. — …Мы лишь голос партии, которая взывает к тебе, — произнес Гиконьо, после того как Муго пожал гостям руки. — Партии? — Да, всего лишь ее голос, — сверкая глазами, медленно повторил Гиконьо, зачарованный тайным смыслом произносимых им слов.II
В ней состояли почти все, но никто не знал точно, когда она была основана: большинству людей, и особенно молодежи, казалось, что партия, направляющая совместные действия народа, существовала всегда. Менялись ее названия, на место старых вождей приходили новые, но партия оставалась. Она открывала людям правду, накапливала силы, и в преддверии Свободы ее влияние простиралось от моря до Великого озера. Люди говорили, что истоки партии восходят к тому дню, когда в стране появился белый человек с книгой господней в руках. Библия служила чудодейственным доказательством того, что белый послан самим богом. Его речи были слаще, чем сахар, и держался он с трогательным смирением. На некоторое время люди позабыли вещие слова пророка племени кикуйю: «Придут одетые в пестрое, как мотыльки…» Они позволили белому человеку, чужестранцу с ошпаренной кожей, построить себе жилище на их земле. Поставив хижину, чужеземец принялся еще за одну постройку. Он называл ее храмом божьим. Здесь, по его словам, люди должны были молиться и совершать жертвоприношения. Белый рассказывал о далекой стране за морем, где на троне восседает женщина, а народ благоденствует под сенью ее могущества и щедрот. Она готова простереть свое покровительство над землей кикуйю. Они посмеивались над этим чудаком, у которого была так ошпарена кожа, что даже чернота облупилась. Кипяток ему и мозги повредил, не иначе! Тем не менее рассказы о могущественной женщине вызвали неясный отклик в сердцах, напоминая о седой древности. Давным-давно и страной кикуйю управляли женщины. У мужчин не было ни собственности, ни прав. Им разрешалось только прислуживать женщинам, исполнять их капризы. Это были трудные годы. И вот однажды, воспользовавшись тем, что женщины ушли на войну, мужчины составили заговор, дав тайную клятву сообща добиться свободы. Было решено, что, как только усталые и жадные до ласк героини вернутся, мужчины сразу улягутся с ними в постель. Так и сделали, в остальном положившись на провидение. А потом всем женщинам разом приспело рожать, где ж им было сопротивляться мятежу. Но этим дело не кончилось. Много-много лет спустя обширная часть Муранги снова оказалась под властью женщин. Королева была красавицей. Во время танцев она вихляла круглыми бедрами и каждая косичка на голове плясала в такт ее движениям. Молочная белизна ее зубов заставляла мужчин чмокать губами и щелкать языком. Молодые и старые, утратив стыд, в надежде слонялись у ее дворца. Королева Макери выбирала юных воинов, и они становились мишенью ревности и зависти отвергнутых. Все мужчины выказывали ей почтение; они никогда не пропускали танцев с ее участием, так им хотелось посмотреть на ее ноги. И однажды ночью, возбужденная их страстью и решив вознаградить их бесстыдное вожделение, королева Ма-кери превзошла самое себя. Сорвав одежды, она пустилась в пляс нагая при свете луны. Мужчины замерли, завороженные властью обнаженного тела. Лунные блики играли на ее коже, и лицо было изменчиво, как этот неверный свет, — оно то светилось счастьем, то туманилось в смертной истоме. Видно, и она понимала, что это конец: никогда еще женщина не показывалась обнаженной на людях. Королева Макери, последняя из великих дочерей кикуйю, была свергнута с трона… Насчет Христа поначалу им было непонятно. Как это можно, чтобы бог позволил приколотить себя гвоздями к дереву? Белый человек говорил о любви, «превосходящей разумение». «Нет больше той любви, — прочел он из маленькой черной книги, — как если кто положит душу свою за други своя». Новой вере, чуждой обычаям страны, стала следовать горстка обращенных. Они бесстыдно кощунствовали, оскверняли племенные святилища, желая доказать, что неуязвим тот, кого охраняет божья благодать. Вскоре люди заметили, что белый человек как бы невзначай прибирает к рукам все больше земли. На месте хижины с соломенной кровлей вырос просторный, крепкий дом. Старики пытались возражать. Обладая даром предвидения, они могли заглянуть в будущее, и за улыбчивым лицом белого им открылась несметная вереница розовощеких чужеземцев, несущих не Библию, но меч. Железная змея — и о ней пророчествовал Муго, сын Кибиро, — извиваясь, стремительно ползла к Найроби, подминая под себя плодородные равнины. Нужно раздавить гадину! Вайяки и другие воины взялись за оружие. Но змея точно приросла к земле, потешаясь над их бессилием. Белый человек с бамбуковой палкой, плюющейся огнем и дымом, заступился за змею; его грозный смех еще долго звучал в ушах людей после того, как схватили Вайяки и со связанными руками и ногами увезли на побережье, в Кибвези. Говорят, что его зарыли живьем, головой вниз — для острастки другим, чтобы никто и никогда не усомнился во всемогуществе христианской дамы, простершей благостную длань над морем и сушей. Тогда никто не заметил, а теперь, оглядываясь назад, мы понимаем: было в крови Вайяки семя, зерно. Из него-то и выросла партия, чья сила в неразрывной связи с землей. Миссионерские школы выводили новых птенцов. Да только питомцы не приумножали сонмы во дворе фараоновом, а оставались с теми, кто лепил свои жилища из глины с соломой. Таким был и Гарри Туку. В нем признали люди посланника свыше. «Пойди к фараону и скажи: отпусти народ мой, отпусти народ мой». И поклялись люди идти за Гарри через пустыню. Их не остановят ни слезы, ни кровь. Они потуже затянут пояса, вытерпят и жажду и голод, пока не достигнут земли обетованной. Народ валом валил на митинги, где выступал Гарри. Ждали, когда он подаст знак. Гарри поносил белого человека, клеймил «щедрость и покровительство», лишившие народ земли и свободы. Он послал весть белому человеку, в ясных словах выразив народное недовольство налогами, принудительным трудом на фермах поселенцев, отчаяние людей, согнанных с насиженных мест. Когда на митингах Гарри читал эти письма, народ дивился его уму и смелости. Гарри звал людей вступать в партию, убеждая их, что сила — в единстве. О нем говорили в хижинах, харчевнях и чайных, на рынках и по пути в церковь воскресным утром. Каждое слово из его уст становилось событием, опо перелетало с холма на холм, кочевало по всей стране. Люди ждали: вот-вот начнется. Крестьянский бунт становился неизбежным. Но и белый человек не дремал. Молодого Гарри заковали в цепи. Лишь чудом избежал он ямы, в которую некогда зарыли живьем Вайяки. Вот сигнал, которого ждали люди! Они пошли в Найроби и дали клятву у дворца губернатора: «С места не сойдем, пока не вернете нашего Гарри!» Из Табаи в Найроби ходил Варуи, тогда еще юнец. На всю жизнь запомнил он те дни. Когда в пятьдесят втором арестовали Джомо Кениату и других руководителей партии, старый Варуи рассказал молодежи о Шествии в том далеком двадцать третьем году. — Вы должны сделать для Джомо то, что мы тогда сделали для Гарри. Никогда не видел столько мужчин и женщин сразу, — вспоминал он, мягко теребя бороду. — Народ пришел и с тех и с этих холмов, отовсюду. У многих не было с собой еды. Мы делились последними крохами. Вот где была «любовь, превосходящая разумение». Они пробыли в Найроби три дня, кровью клялись вызволить Гарри из тюрьмы. На четвертый день они выступили, распевая гимны. Полицейские, уже поджидавшие их, открыли огонь. Три человека, взмахнув руками, повалились наземь. Говорят, что, упав, каждый сжал в кулаке горсть земли. После второго залпа толпа поредела. Еще двое упали: мужчина и женщина. Из ран хлестала кровь. Люди кинулись врассыпную. Мгновенье — и огромной толпы словно не было. Только несколько распластанных тел остались лежать напротив губернаторской резиденции. — В последний момент что-то пошло не так, — горячился Варуи, оставив в покое бороденку. — Будь у нас копья… Крестьянский бунт был подавлен. Потревоженная тень великой дамы — да святится имя ее, ведь она покончила с племенными войнами! — вновь могла почивать с миром. Гарри Туку сослали в пустынную глушь, на окраину страны. Но, потерпев поражение, партия не пала духом. Тогда и появился человек с горящими огнем глазами. Знала его лишь горстка людей. Но придет время, и его узнает весь мир. «Пылающее копье» — так окрестил народ этого человека. Кихика… Муго впервые увидел его на партийном митинге в Рунгее. Разнесся слух, что будет выступать Кениата, недавно вернувшийся из страны белого человека. Митинг должен был начаться после полудня, но уже к десяти часам утра люди забили всюбазарную площадь: забрались на крыши лавок, как саранча облепили деревья. С того места, где устроился Муго, было видно все. Вон сидит Гиконьо, самый известный плотник в Табаи. Рядом с ним — Мумби. О ней говорят, что красивее не сыщешь на всех восьми холмах. За красоту она получила прозвище — Королева Макери. Митинг открылся с часовым опозданием. Стало известно, что Кениата не приедет. Но ораторов собралось много: и из Муранги, и из Найроби. Был даже один луо из Ньянзы — ведь для партии не существует племенных различий. Толпа особенно долго аплодировала табайскому парню Кихике. Его речь была не похожа, на те, что звучали на митингах во времена Гарри Туку. Теперь все было ясно: петициями ничего не добьешься. — …Сейчас не двадцатый год. Пора перейти от слов к делу, — чеканил Кихика, и женщины из Табаи дергали друг дружку за платье, за волосы и повизгивали от восторга. Кихика, сын их земли, на глазах превращался в героя, в легенду. Никому и в голову не приходило, что этот парень так отважен и смел, столько знает. Кихика обратился к истории племени, потом заговорил о приходе белого человека и рождении партии. Муго следил за Гиконьо и Мумби — те глаз не отрывали от Кихики, будто от его слов зависела вся их жизнь. — …Мы стали ходить в его церковь. Мубия [2] в белой рясе раскрыл нам Библию: «Встанем на колени и помолимся». Мы опустились на колени. «Закройте глаза!» Мы повиновались. Он-то глаз не закрыл, ему надо по книге читать. Открыли и мы глаза, да поздно — отняли нашу землю, и огненный меч сторожил ее. А Мубия все сеял слово божье: «Собирайте себе сокровища на небе, где их тля не истлит и ржа не источит…» Себе-то он сокровища на земле копил, на нашей земле! Слушатели засмеялись, но Кихика даже не улыбнулся. Ростом он был невысок, зато голос чистый и громкий. Говорил он не спеша, веско, с расстановкой, изредка коротким жестом указывая на землю и небо, точно призывая их в свидетели своей правоты. Под конец он сказал о великой жертве: — Придет день, когда мы услышим зов нашей несчастной родины, и брат не пощадит брата, мать — сына! Муго поперхнулся от возбуждения. Не станет он хлопать этому выскочке. Лет ему, наверное, не меньше, чем Муго. Ну и наглец! Говорит о крови с такой легкостью, словно это колодезная вода! Муго тошнило при одном виде или запахе крови. «Ненавижу его!» — неожиданно сказал он вслух и испугался. Посмотрел на Мумби. Ведь Кихика ее родной брат. Интересно, о чем она сейчас думает? Все взоры были прикованы к помосту. Муго ощутил прилив ревности, но и сам невольно перевел взгляд на Кихику. В этот момент их глаза встретились, и Муго прочел во взгляде оратора упрек. На какой-то миг толпа и весь мир канули в безмолвие. Остались только Кихика, упрекающий, и Муго — весь ненависть и страх. — Бдите и молитесь! — воскликнул Кихика и напомнил людям известную поговорку суахили: «И лучший друг может оказаться заклятым врагом». Сам Кихика, не колеблясь, принес жертву, о которой говорил на митинге. Когда в октябре пятьдесят второго Джомо и его соратники были арестованы, он ушел в лес. За ним последовала горстка молодых мужчин из Табаи и Рунгея. О них заговорили после налета на полицейский участок в Махи, один из самых крупных во всей долине Рифт-Вэлли, долгие годы звавшейся Белым Нагорьем. В Махи находилась также пересыльная тюрьма, где держали мужчин и женщин перед отправкой в концлагеря. Отсюда доставлялось оружие и припасы полицейским и воинским постам, разбросанным по Рифт-Вэлли для поднятия духа белых поселенцев. И днем и ночью были видны крепостные стены, окружавшие городок. Махи считался неприступной преградой на пути к одной из прекраснейших долин на свете. Крепостные стены уступами поднимались к нагорью. Но надежнее стен охраняла долину гряда словно обрубленных горных вершин, испещренных впадинами и кратерами. Ее край терялся в далекой, таинственной дымке. Этой ночью долина погрузилась во мрак, и лишь у въезда в Махи горели фонари. Было тихо-тихо. Город-крепость. Одно название казалось достаточной защитой против любого нападения, и офицеры гарнизона привыкли к праздности. Черные солдаты, следуя их примеру, не утруждали себя службой. В эту ночь остались на постах несколько человек, так, для виду. И вдруг трубы, свистки и рожки разорвали тишину. «Ухуру!» Из тюрьмы донесся ответный крик: «Свобода!» Дежурный офицер, едва пришедший в себя после вечерней попойки, потянулся к телефону, каким-то чудом умудряясь одновременно натягивать штаны. Но рука, державшая трубку, вдруг разжалась, брюки упали на пол. Телефонный провод перерезан. Значит, соседние посты не придут на помощь… Застигнутая врасплох полиция и не пыталась дать отпор отряду Кихики. Большинство полицейских побросали оружие и, вскарабкавшись на стены, пустились наутек. Люди Кихики ворвались в тюрьму, освободили заключенных, казармы сожгли. Пополнив отряд, захватив богатые трофеи, Кихика вернулся в лес. Теперь можно было развернуть борьбу в таких масштабах, какие никому не снились во времена Вайяки и Гарри Туку. Люди стали называть Кихику грозой белых. «Он способен передвигать горы и высекать молнии!» — утверждала молва. За его голову назначена была награда. Тот, кто доставит Кихику живым или мертвым, получит кучу денег. Кихику схватили через год на опушке леса Киненье. Он был один. Кто в это поверит? Ведь по его слову сдвигаются деревья и горы, он может десять миль проползти на животе через песок и колючий кустарник!.. Разве белые с таким справятся? Он уйдет у них из-под носа… Его пытали. Говорят, англичане загнали ему бутылку в прямую кишку. Они ждали, что он предаст «лесных братьев». Говорят еще, что ему посулили много денег и бесплатную поездку в Англию, где он сможет пожать руку женщине, недавно севшей на трон. Только зря все… Его повесили в воскресное утро на базарной площади Рунгея, неподалеку от того места, где когда-то он призывал оросить кровью дерево свободы. Полиция и воинские подкрепления сгоняли людей из Табаи и с окрестных холмов поглядеть на раскачивающегося на дереве бунтаря — чтоб другим неповадно было! Но партия жила и боролась, как говорили люди, скрепленная кровью тех, кто остался в лесу после гибели Кихики.III
— …Мы ненадолго, — продолжал Гиконьо, выдержав паузу. — Пришли поговорить насчет празднования Дня независимости в четверг. Глядя на Гиконьо, просто нельзя было поверить, что это тот самый голоштанник, чья женитьба на Мумби без малого тринадцать лет назад так поразила ее поклонников. И что только Мумби в нем нашла? Такая красавица! Где у нее глаза были? Теперь, спустя четыре года после возвращения из лагеря, Гиконьо стал первым в деревне богатеем. У него пять акров земли, лавка в Рунгее — «Универмаг Гиконьо». А на днях он даже купил старенький грузовик. И вдобавок его избрали секретарем местной партийной ячейки — как говорят люди, воздали должное герою, которого не сломили концлагеря. Гиконьо уважали и любили, он был воплощением всего, к чему каждый стремился, — самостоятельный, настойчивый, любое дело у него спорится. — Что… что я должен делать? — спросил Муго, подняв глаза на Варуи. Жизнь Варуи в некотором смысле — жизнь самой партии. Еще в двадцатые годы ходил он на митинги, где выступал Гарри Туку, вместе с другими строил народные школы и жадно слушал речи Джомо. Варуи был одним из немногих, кто угадал в скромном чиновнике столичного муниципалитета будущего народного вожака. — Он далеко пойдет, — бывало, говорил Варуи о Джомо. — По глазам видно. Посреди хижины на камне стояла керосиновая лампа с закоптелым стеклом. Варуи смотрел на огонь в очаге. — Наша деревня не должна отставать от других. — Хижина наполнилась его негромким, но густым голосом. — Нельзя, чтобы в танцах нас кто-нибудь превзошел. Не опозорим, братья, сыновей своих, жизнь отдавших ради победы. Будем веселиться так, чтобы мертвых из могилы поднять. Нет на свете краше песни свободы!.. Разве не ждали мы ее несчетными бессонными ночами? Это общая радость — и тех, кого с нами нет, и тех, кто дожил до этого дня, и тех, кто придет нам на смену. Долгожданная свобода наконец в наших руках, и все мы выпьем из одного калабаша — пустим его по кругу! В хижине стало тихо. Каждый словно углубился в себя, размышляя над словами Варуи. Женщина откашлялась, давая понять, что хочет говорить. Муго обернулся к ней. Вамбуи была еще не старой, хоть у нее почти и не осталось зубов. В дни чрезвычайного положения она была связной у «лесных братьев» и хорошо знала подполье не только в Накуру, Ньери, Элбургоне, но и в других местах, далеко за пределами Рифт-Вэлли. Рассказывают, как однажды ей удалось пронести пистолет. Она несла его в Найвашу. На ее беду, случилась облава — ими тогда измучили всю страну. Людей согнали на пустырь позади лавок и принялись обыскивать. Дошла очередь и до нее. Вамбуи скривила рот и застонала, будто зуб разболелся. Обыскивавший ее полицейский, из местных, сочувственно буркнул на суахили: «Ну-ну, мамаша», но дела своего не бросил. Начал с груди, похлопал под мышками, пробежал руками по телу — сейчас нащупает… И тогда она завопила — полицейский даже отпрянул. — Нынешняя молодежь!.. Совсем стыд потеряли. Что ж, если тебе белый прикажет, ты и к родной матери полезешь под юбку! Коли так, я задеру подол, любуйся, если только твои бесстыжие глаза не лопнут! И она с таким решительным видом схватилась за край одежды, что полицейский невольно отвел глаза в сторону. — Пошла вон, — зарычал он. — Следующий… Сама Вамбуи никогда эту историю не рассказывала, но и отрицать не отрицала, а когда ее спрашивали, только загадочно улыбалась в ответ… — Видел, как старики, до того как самим выпить, выплескивают немного пива на землю? — начала Вамбуи. — Зачем, не знаешь? Чтобы помянуть умерших, тех, кто там, внизу… И нам негоже забывать сыновей своих. Кихика был большой, великий человек. Муго так и обмер. Варуи на него не глядит — уставился на лампу, лившую тусклый, призрачный свет. Вамбуи мирно сидела, упершись локтями в колени, уткнув подбородок в ладони. Мысли Гиконьо витали далеко. — Чего же вы хотите? — в голосе Муго прорвался панический страх. Но тут в дверь громко постучали. Все обернулись на стук. Раздираемый страхом и любопытством, Муго пошел открывать. — Генерал! — завопил Варуи, едва разглядев вошедших. На пороге стояли двое. Один высокий, чисто выбрит, пострижен коротко, по-солдатски. У второго, что пониже, волосы заплетены в косу. Сразу видно — воины, борцы за свободу, из тех, кто недавно вышел из лесу, после объявления амнистии в ознаменование Свободы. — Садитесь, вот хоть на кровать, — предложил им Муго и сам удивился: голос был скрипучий, слабый, как у старика… «Что за день сегодня! Все на меня глазеют, размахивают руками… Я не за себя боюсь. Моя жизнь ничего не стоит. Бог свидетель, мне уже все равно… все равно…» С приходом этих двоих все оживились, заговорили разом. Хижина наполнилась взволнованным гулом. Вамбуи рассказывала о подготовке к празднествам Свободы человеку с косичкой. В лесу ему дали прозвище Лейтенант Коинанду. Высокий же был известен под именем Генерал Р. — Жертву, жертву богам! — весело кричал Коинанду. — Целого барана! Вот уж поедим мяса! В лесу, кроме бамбука, мы ничего не видели, разве когда кабана подстрелишь. — Что ты понимаешь в обрядах! — под общий смех осадила его Вамбуи. — А как же, мы в лесу тоже приносили жертвы — кабанов жарили. Богам — дым, нам — мясо. И молились по два раза на дню. А если шли на задание, то и третий раз. Встанем лицом к горе Кения и просим Нгаи, Всевидящего:Укрой наши пещеры от злого глаза,
В лунную ночь пошли нам облачко,
Огради нас от врагов,
Укрепи наши сердца отвагой.
А потом пели:
Будем сражаться,
Освободим пашу землю,
Кения — страна черных людей!
Выйдя от Муго, «лесные братья» распрощались с Гиконьо, Вамбуи и Варуи. Оба жили на другом краю деревни в хижине, купленной для них партийной ячейкой. — Думаешь, он поможет нам? — заговорил Коинанду. — Кто? — Ну этот человек. — Ах, Муго! Не знаю. Кихика редко говорил о нем. Вряд ли они были хорошо знакомы. Дальше до самого дома шли молча. Порывшись в кармане, Коинапду достал спички, засветил керосиновую лампу и застыл, глядя на желтое пламя, — узкогрудый, с более светлой, чем у приятеля, кожей; на лбу и на руках у него набухли вены. Генерал Р. в раздумье опустился на кровать. — …Все равно надо найти предателя! — негромко воскликнул он, словно думая вслух. В его голосе звучала мрачная решимость. Коинанду ответил не сразу. Он вспомнил тот день, когда Кихика ушел и не вернулся. В отряде было триста партизан, разбитых на группы по пятьдесят и двадцать пять человек. Группы размещались каждая порознь, укрываясь в лесу Кипенье в пещерах, и собирались вместе лишь в случае таких крупных операций, как штурм Махи. Но сам Кихика — Коинанду это всегда поражало — относился к опасности с полным пренебрежением. Дерзкое убийство Робсона уже тогда стало легендой. О нем говорили в Лонгоноте и даже Ньягдарве. Коинанду благоговел перед Кихикой. Он не раз давал себе клятву: «Никогда не оставлю его. Клянусь богом! У меня не было веры — он дал мне ее». Да, Кихика сделал из него человека, заставил поверить в собственные силы. В день, когда был взят Махи, Коинанду словно родился заново… Они ждали, когда вернется Кихика. В сердцах жила радость: скоро страна будет в руках ее исконных хозяев. Кихика все не шел, и тогда во все концы разослали лазутчиков. Они узнали, что готовится карательная экспедиция. Генерал Р. решил отвести отряд к Лонгоноту, на запасную базу. Когда стало ясно, что Кихика схвачен, Нжери зарыдала, да и Коинанду не мог сдержать слез… — А что, если это была женщина? — внезапно спросил Коинанду. — Вряд ли. Если то, что ты говорил о Карандже, правда, значит, предатель он! — Любой человек в Гитхиме подтвердит мои слова. Подкрадись к нему сзади, дотронься — он задрожит как лист. Вечером его из хижины не выманишь. После семи часов двери не откроет. Так может вести себя лишь тот, у кого совесть нечиста… — Господи! Неужели эта вошь погубила Кихику! — закричал Генерал Р. Он вскочил с кровати и заметался по хижине. — Мы вместе принимали присягу… Коинанду присел на кровать, пораженный яростью в голосе Генерала. Коинанду вообще побаивался Генерала и тушевался в его присутствии. Обоим пришлось побывать на войне. Генерал сражался в Бирме, а Коинанду и в армии-то был всего-навсего поваром. После демобилизации Генерал работал портным, а Коинанду никак не мог определиться к хорошему месту. Последним испытанием была должность боя у мисс Линд, нудной уродины со всеми повадками старой девы, которую Коинанду возненавидел с первого взгляда. Они встретились в отряде. Генерал быстро выдвинулся благодаря самообладанию и отваге. Даже когда Кихику схватили, он сохранил присутствие духа и не позволил скорби одолеть себя. Коинанду же плакал, как женщина. С годами боль утраты и жажда мести притупились. А вот теперь Генерал весь трясся от гнева. Чтобы не видеть этой мечущейся из угла в угол фигуры, Коинанду водил глазами по голым стенам. На полке котелок и две миски. Пустые бутылки и ведро сиротливо валяются на полу. Он осторожно кашлянул: — А может, ни к чему все это… Пора и забыть… Генерал Р. от неожиданности застыл на месте и смерил его долгим враждебным взглядом. Коинанду поежился. — Забыть? — Голос Генерала звучал обманчиво спокойно. — Нет, друг. Мы найдем предателя, иначе грош нам цена! Завтра ты пойдешь в Гитхиму и обсудишь с Мваурой новый план. Три делегата, покинув хижину Муго, некоторое время шли молча. — Удивительный человек, — ни к кому не обращаясь, проронила Вамбуи. — Кто? — откликнулся Варуи. — Муго… — Это невзгоды сделали его таким, — заступился Гиконьо. — Вам и представить себе трудно, что такое жизнь в лагере. Особенно для тех, кто попал в «отпетые». Муго хлебнул горя. А клятве, как его ни мучили, не изменил. Тюрьма по сравнению с лагерем — рай, — продолжал Гиконьо, изумляясь собственной словоохотливости. — В тюрьме хоть знаешь, за что сидишь. Знаешь свой срок. Год, десять лет, тридцать — но тебя выпустят… Гиконьо умолк так же внезапно, как и заговорил. В темноте он не мог разглядеть лица собеседников, и ему почудилось, что он роняет слова на ветер. — Спокойной ночи, — крикнул он попутчикам уже с порога своего новенького дома. Варуи и Вамбуи зашагали дальше, даже не откликнулись. Гулкая тишина подступила к Гиконьо. Он не спешил заходить в дом. Из застекленных окон гостиной сквозь занавески сочился свет. Мумби не легла, ждет его… Внезапно он шарахнулся прочь от дома, от света гостиной, побрел, не разбирая дороги. Он был зол на себя за то, что разоткровенничался с Вамбуи и Варуи. Да и в хижине Муго тоже дал волю чувствам. Раскис, как женщина. Гиконьо не хотел вспоминать прошлое, и лучшим средством от тягостных воспоминаний была тяжелая, без отдыха работа. Он построил дом — краше и просторнее нет во всей деревне. И деньги у него есть и авторитет. Не узнать голоштанного плотника, каким он был когда-то. Но богатство не сделало его счастливым. Не хлебом единым жив человек! Огни деревни остались позади. Новое, доселе неведомое чувство одиночества пронзило Гиконьо. Он прислушался — в тишине звучали гулкие шаги. Он прибавил ходу, но чем быстрее он шел, тем громче становились шаги за его спиной. Ему не хватало воздуха. Несмотря на вечернюю прохладу, рубашка взмокла от пота. Сердце громко колотилось в груди. Гиконьо побежал, а шаги настигали его, они грохотали уже рядом, в такт биению его сердца. Боже, ни живой души кругом, хоть бы услышать человеческий голос! Вернуться к Муго! поймет ли он его? Гиконьо резко остановился. Шаги затихли, притаились. Но он знал: они не оставят его в покое, они вернутся… Гиконьо никогда не забудет того, что сказал Муго на митинге два года назад. Надо пойти к нему. Бог свидетель, только Муго способен понять… Но когда он добрался до хижины Муго, жар его решимости остыл. Он топтался у двери, раздумывая, постучать или нет. Что, собственно, он ему скажет? Глупо стоять вот так, еще увидит кто… Приду в другой раз… Завтра… Ох и трудно же открыть другому душу… Когда он вернулся домой, Мумби все еще не ложилась. Его ждал ужин, и только теперь он вспомнил, что с утра ничего не ел. Мумби уселась напротив и глядела на него. Он поковырял в тарелке и отодвинул еду. Кусок не лез в горло. — Налей мне чаю, — процедил он сквозь зубы. — Сначала поешь. — Мольба, сквозившая в голосе Мумби, как-то не сочеталась с ее горделивым лицом и благородной осанкой. Тонкий нос, блестящая гладкая кожа. Гиконьо опустил глаза на полированную поверхность стола. Красное дерево. Эх, жаль, что струсил. Поговорил бы с Муго по-мужски. — Не хочется, — буркнул он. — А я-то старалась, стряпала… Гиконьо промолчал. Как он тосковал по ней в лагере! По ней? Взглянул на нее. Она отвернулась к двери, плачет, наверное… — Не могу же я есть через силу, — сказал он чуть-чуть мягче. — Ну, как хочешь. — Она пошла в другую комнату, принесла чайник, чашки, молоко, сахар. Подложила угля в жаровню, вынесла ее на двор — раздуть. Оставшись один, Гиконьо извлек из внутреннего кармана пиджака измятую тетрадь. Порылся в другом кармане, достал карандаш, заточил его. Занялся подсчетами и так увлекся, что на время позабыл обо всем, кроме дневной выручки и предстоящих завтра дел. Вернулась Мумби с жаровней. Поставила на нее чайник и вновь присела напротив мужа, как птичка, готовая вспорхнуть в любую секунду. Мумби научилась смирению и покорности судьбе. Наконец она осмелилась. — Виделся с Муго? — Угу. — Он согласился? — Обещал подумать. — Гиконьо не поднимал головы от тетради. — Слова из тебя не вытянешь. Я уж к Вамбуи бегала. Не забывай: Кихика и я — дети одной матери. — Когда это я посвящал тебя в свои дела? — Он тут же пожалел, что говорит с ней таким тоном. Сколько раз давал себе слово не срываться, не показывать ей, как ему тяжело и больно. — Прости, — смиренно сказала она, — я забыла. Ведь я для тебя никто! Вскипел чай. Она налила ему и себе. Потом, движимая неведомой силой, вдруг встала, подошла к мужу и обняла его за шею. Ее глаза блестели, губы дрожали. — Нам надо поговорить, — шепнула она. — О чем? — вскинулся Гиконьо. — О ребенке. — Нечего говорить! — отрубил он. — Тогда ложись сегодня со мной. Я ведь ждала тебя, тебя одного все эти годы… — Да что это на тебя нашло! — Гиконьо снял ее руки с шеи, отстранил жену. — Сядь-ка на место. А еще лучше — отправляйся спать. Поздно. Мумби не проронила ни слова. Только высоко вздымалась грудь и рот искривился в беззвучной муке. Рывком подобрав с пола упавшее вязанье, она метнулась в свою комнату. Гиконьо, подперев голову левой рукой, правой водил по бумаге. Только теперь он почувствовал, как утомился за день. Рука тряслась, карандаш выскользнул из пальцев. «Старею», — с горечью подумал Гиконьо. С усилием встал, вышел, прихватив лампу. В коридоре на миг задержался у двери Мумби, но только на миг, и прошел к себе в спальню.
И сказал господь Моисею: «Пойди к фараону и скажи, так говорит господь: отпусти народ мой…» Исход,8;1 (Подчеркнуто красным в Библии Кихики.)
IV
В начале века, когда переселенцы из Европы и Индии прибирали Кению к рукам, в самом необузданном воображении не мелькнула бы мысль, что черные смогут вернуться к власти в стране. В те благословенные времена чиновник сельскохозяйственного ведомства мистер Роджерс, следуя однажды по делам из Найроби в Какуру, увидел из окна вагона густой лес близ Гитхимы, привлекший его предприимчивый ум. Страстью Роджерса была отнюдь не политика — да и кто тогда ею интересовался, — а земледелие. «Вот прекрасное место для исследовательской станции!» — твердил он под стук колес. Поезд спускался в широкую живописную долину. Мистер Роджерс не преминул при первой же возможности съездить в Гитхиму и обследовать лес. После этого он энергично взялся за претворение своей мечты. Он разослал письма всем сколько-нибудь влиятельным лицам, добивался, впрочем, безуспешно, приема у губернатора. Его считали сумасшедшим: наука в Африке — какая блажь! Но гитхимский лес, как злой демон, преследовал его, и бедняга Роджерс не знал покоя. Каждому встречному он принимался с жаром излагать достоинства своего проекта, а за неимением слушателей беседовал вслух сам с собой. Он и умер в Гитхиме: на железнодорожном переезде его сбил поезд. Прошло некоторое время, и научная станция лесного и сельского хозяйства была открыта — увы, отнюдь не в память о его подвижничестве, а во исполнение нового плана «колониального развития». В Гитхиму понаехало множество европейцев, и дело пошло полным ходом. Говорят, призрак Роджерса по сей день блуждает у переезда, и каждый год грохочущий поезд уносит хоть одну человеческую жизнь. Последней жертвой стал синоптик, доктор Генри Ван Дайк, толстяк и пьяница. Африканцы, работающие на станции, помнят, как он божился, что наложит на себя руки, если Кениату выпустят на свободу. И вскоре после возвращения Джомо из Маралала автомобиль Генри Ван Дайка врезался на переезде в проходящий поезд. Даже недоброжелателям доктора стало не по себе. «Несчастный случай или самоубийство?» — гадали в Гитхиме. Каранджа служил в гитхимской библиотеке. В его обязанности входило смахивать с полок пыль, выравнивать книги в стройные ряды и заполнять этикетки на корешках заново переплетенных томов. У Каранджи были свои причины помнить Ван Дайка. Этот белый играл с африканцами в непонятную игру: подойдет к рабочему, положит руну на плечо и вдруг шлепнет по заду. Или дышит своей жертве перегаром в лицо и гладит по спине. А потом загогочет. И неизвестно, смеяться или нет. Боясь не угодить доктору и втайне люто его ненавидя, Каранджа на всякий случай глупо скалил зубы… Но и Каранджа не злорадствовал, услышав про страшную смерть Ван Дайка. Человек и машина превратились в одно чудовищное месиво. Взяв из лежащей на столе стопки чистую карточку, Каранджа принялся за работу. Книги, присланные в переплет, принадлежали министерству сельского хозяйства. Каранджа увлекся. Все прочее: и Ухуру-Свобода и д-р Ван Дайк — потускнело и отодвинулось на второй план. «Агрономические исследования, том…» — старательно выводил он, не поднимая головы, как вдруг почувствовал, что в комнате кто-то есть. Рука задрожала и смазала написанное. Каранджа резко обернулся. Лицо его налилось кровью. — Что за привычка врываться без стука! — зашипел он. В дверях стоял рабочий. — Я стучал, даже три раза. — Врешь! Всегда влетаешь, как к себе домой. — Я стучал… — Силы нет постучать погромче? Ослабел, баба… Стучи громко, как настоящий мужчина! — Каранджа перешел на крик, громыхая кулаком по столу для пущей важности. — Спроси у своей матери, какой я мужчина… — У моей матери?! — И у сестры заодно. Они тебе скажут, какой Мваура мужчина… Каранджа вскочил со стула. Оба готовы были пустить в ход кулаки. — Как ты смеешь! Думай, что говоришь! Мваура злобно выпятил нижнюю губу, дышал тяжело и часто. Опомнившись, выдавил через силу: — Ладно уж, извини, — но в голосе сквозила угроза. — То-то. Чего тебе здесь надо? — Томпсон за тобой прислал — вот чего! Мваура вышел. Настороженность схлынула, уступив место чуть ли не радостному волнению. Может быть, Томпсон вызывает его насчет прибавки. Каранджа отряхнул пыль с комбинезона цвета хаки, провел расческой по волосам и поспешил в кабинет Томпсона. Смело постучав, вошел, не дожидаясь разрешения. Джон Томпсон, административный секретарь, под-пял утомленное лицо от вороха бумаг на столе. — Что стряслось? Что за привычка барабанить в дверь? — Я думал… я… вы хотели меня видеть, сэр, — ответил Каранджа неестественно тоненьким голоском, став в позу, какую обычно принимал в разговоре с белыми: ноги слегка расставлены, руки за спиной, весь — подобострастное внимание. — Ах да. Знаешь, где я живу? — Конечно, сэр. — Сбегай и передай миссис Томпсон, чтобы она не ждала меня к обеду. Гм… минутку. Отнесешь записку. У Джона Томпсона за долгие годы службы развилась буквально маниакальная страсть к переписке. По любому пустяку он сочинял обширные послания. Не было случая, чтобы, посылая боя к директору, или на склад за бумагой, или в мастерскую за парой гвоздей, он не снабдил его документом с подробным изложением сути дела. Даже с сотрудником в соседней комнате Томпсон предпочитал общаться письменно. Каранджа взял записку, но медлил и топтался в дверях в надежде, что Томпсон вспомнит про его просьбу и сам заговорит о прибавке. Однако босс снова уткнулся в бумаги. Для Джона Томпсона и миссис Дикинсон, заведующей библиотекой, Каранджа — мальчик на побегушках… Он выполнял их поручения с притворным рвением, но в душе таил обиду. Разве на станции нет рассыльных? Миссис Дикинсон, молодая женщина, развелась с мужем и открыто живет с любовником. На службе она бывает редко, но стоит ей появиться, как в ее кабинет валом валит народ и целый день оттуда доносятся звонкие голоса и громкий смех. Миссис Дикинсон — спортсменка. Каждый год вместе со своим любовником она участвует в восточноафриканских автогонках, но пока что они ни разу не сумели даже закончить дистанцию. Ее поручения Карандже особенно ненавистны: чаще всего она посылает его в африканские лавки за мясом для своих собак. Он с мрачным видом катил на дребезжащем велосипеде. «Обязательно скажу Томпсону, что не намерен больше служить у него на посылках…» По правде говоря, Каранджу не столько огорчала пустячность поручений, сколько опасение лишиться авторитета в глазах служащих-африканцев. Но, впрочем, он готов был смириться с чем угодно, лишь бы сохранить расположение белых, которого он добивался годами. Оно служило источником его власти над другими. Африканцы, работавшие в Гитхиме, верили, что достаточно одной его жалобы, чтобы человека уволили. Каранджа знал, что его боятся. Когда африканцы заходили в библиотеку, он метал в них ледяные взоры, отпускал колкие замечания, рычал, вечно держал их в страхе и неуверенности. А в душе боялся, предчувствуя, что самому, может, придется заискивать перед ними. Аккуратно подстриженная живая изгородь опоясывала бунгало Томпсонов. Арка ворот заросла плющом. В большом саду за домом пламенели гвоздики и бугенвиллии, желтели золотые шары. Но даже среди этого буйства красок в первую очередь в глаза бросались розы — предмет особых забот миссис Марджери, красные, белые, сиреневые — всех цветов и оттенков. Вот и сейчас хозяйка в саду. Увидела Каранджу и подошла к воротам. На ней светлые брюки и блузка, обтягивающая острые груди. — Зайди-ка, — сказала она лениво, прочтя записку от мужа. Марджери одурела от скуки. Слова сказать не с кем. Раньше у нее были слуга и садовник. Иногда она бранила их, и ее крик разносился на всю улицу. Но недавно оба взяли расчет, и тут только Марджери почувствовала, как они ей были необходимы. Каранджа изумился: никогда раньше его не звали в дом. Он присел на краешек стула, положив подрагивающие руки на колени, и принялся шарить глазами по стенам и потолку — лишь бы не глядеть на хозяйкин бюст. Марджери наслаждалась своей чувственной властью над ним. Она часто видела его раньше, но ей никогда и в голову не приходило, что он мужчина. Теперь он внушал ей острое любопытство. Что за мысли у него в голове? Что он думает об этом доме? О Свободе? О ней?.. Марджери дала волю воображению. Ей стало жарко, и она поднялась с кресла, слегка сердясь и удивляясь охватившему ее непонятному волнению и дрожи. — Кофе, чай? — Я… должен идти! — выпалил Каранджа. Действительно, ему пора. — Выпей кофе. Миссис Дикинсон не будет сердиться. — Она улыбнулась, чувствуя себя словно бы его сообщницей и радуясь новому ощущению. — Ну спасибо, — пролепетал он, ерзая на стуле, явно томясь и поглядывая на дверь. Даже теперь он йе осмеливался сесть поудобнее, прислониться к спинке. И в то же время ему безумно хотелось, чтобы кто-нибудь из африканцев увидел его сейчас: белая женщина, жена административного секретаря, угощает его кофе! Марджери позвякивала посудой на кухне. Ее смущало и радовало непроходящее волнение. Лишь однажды довелось ей ощутить нечто подобное. Она танцевала с доктором Ван Дайком в гитхимской гостинице. Это было вскоре после инцидента в Рире. Он дышал на нее перегаром, но ей и это в нем нравилось. Когда после танцев он повез ее кататься, она уступила ему, впервые ощутив жуткую прелесть бунта… Посидев один в пустой гостиной, Каранджа мало-помалу пришел в себя, нужен мне ее кофе!.. Пусть лучше скажет, правда ли, что они с мужем собираются домой, в Англию… Каранджа несколько раз порывался задать этот вопрос самому Томпсону, но в последний момент неизменно трусил. Сердце его начинало бешено стучать, и он, прикусив язык, норовил прошмыгнуть мимо, делая вид, что торопится по важному делу. Он боялся даже представить, что будет, если слухи окажутся верными. Пока сам Томпсон не скажет, еще есть надежда. Неужто и впрямь пришел конец власти белых? Томпсон всегда был для Каранджи воплощением силы и мужества. Как же это можно, чтобы Томпсон уехал? Вернулась Марджери с двумя чашками кофе. — Тебе с сахаром? «Да разве можно пить эту отраву иначе?» — Нет, спасибо, — оробев, пролепетал он, чувствуя, что так и не осмелится задать мучивший его вопрос. Марджери уселась в кресло напротив Каранджи, скрестив ноги. Чашку она поставила на подлокотник. Свою Каранджа крепко сжимал обеими руками, боясь пролить кофе на ковер. Каждый раз, поднося ее к губам, он внутренне содрогался. — Сколько у тебя жен? — Это был ее излюбленный вопрос в разговоре с африканцами. Подумать только, у последнего повара их было три! Каранджа вздрогнул, словно Марджери задела едва зажившую рану, Мумби… — Я не женат. — Вот как? Я-то думала… Когда же ты купишь себе жену? — Не знаю. — Ну, а хотя бы подруга — ты понимаешь, о чем я говорю, — у тебя есть? — Ее разбирало любопытство. Голос звучал так проникновенно, и Каранджа не выдержал. Может, она поймет, посочувствует ему… — Была у меня девушка… Я… я любил ее, — набравшись смелости, выпалил он и сгоряча глотнул слишком много кофе. «Ну и горечь!..» — Почему же вы не поженились? Она умерла или… — Она мне отказала. — Ах, прости! — Марджери и впрямь ему сочувствовала. Каранджа очнулся, вспомнил, где он. — Можно, я пойду, мэмсахиб? Что-нибудь передать господину? Марджери успела позабыть, зачем, собственно, пришел Каранджа. Она еще раз прочла записку. — Ничего не надо, спасибо, — сказала она, провожая его до двери. Каранджа вышел из дома Томпсонов ровно в полдень Рана, потревоженная Марджери, надсадно ныла в груди. Но постепенно боль улеглась, и он пришел в неплохое расположение духа. Шаль, что Мваура не видел. И слуг у Томпсонов нет, рассказать некому. А самому Карандже могут и не поверить. Приближалось Еремя обеденного перерыва, поэтому, не заходя на службу, Каранджа отправился в африканскую харчевню, вновь и вновь перебирая в памяти мельчайшие подробности беседы с миссис Томпсон, смакуя даже горький привкус кофе во рту. Харчевню «Друг до гроба» называли просто «Друг». Неоштукатуренные кирпичные стены были покрыты жирным налетом грязи, мухи роились на них, на потолке, жужжали над ухом, садились на миски и чашки, занимались любовью. На колченогих столиках стояли искусственные розы в пустых консервных банках. Через всю стену было начертано: «Придите ко мне, страждущие, и аз успокою вы». На клетушке кассира в рамке под стеклом висели стихи:С первых дней творенья миром правит ложь.
Где под этим солнцем честного найдешь?
Я словам не верю, не даю в кредит.
Денежки на бочку — будешь пьян и сыт![3]
Джон Томпсон в тот день в Найроби так и не выбрался. Даже в обеденный перерыв он не выходил из своего кабинета — делал вид, что работает. Время от времени он вставал, долговязый, типичный англичанин, подходил к шкафу, вытаскивал одну из папок и возвращался к столу. Его худое обветренное лицо с выцветшими глазами при этом хранило отсутствующее выражение, мысли витали далеко, хотя тонкие пальцы привычно ощупывали каждый листок в папке, прежде чем поставить ее на место. Изредка он задумчиво водил ладонью по щекам, собирая кожу в складки у рта; блуждал взглядом по чистой промокашке, авторучке, вазочке для карандашей, чернильному прибору — все на своих местах, потом переводил глаза на потолок, беленные известкой стены, словно доискиваясь до сокровенной причинной связи окружающих его вещей. В голове был полный сумбур. Откинувшись на спинку кресла, он развернул свежий номер «Ист африкэн стандард», старейшей ежедневной газеты в Кении. Пробежав сообщения о назначенных на четверг торжествах, он вздрогнул от смутного ощущения измены, предательства. Он не мог бы сказать, что именно вызывало это чувство. Пожалуй, та готовность смириться с происходящим, которая сквозила в тоне статей, появлявшихся в газете в последнее время. Вот недавно на первой полосе поместили портрет новоиспеченного премьер-министра… Увидев его, Томпсон зажмурился и поскорее перевернул страницу. Потом он устыдился своегопоступка, но все же не мог заставить себя вновь взглянуть на фотографию. Томпсон уже знал, что на празднике Независимости королеву будет представлять герцог Эдинбургский. Любое напоминание об этом отзывалось в душе тоскливой болью. Герцог вынужден будет глядеть на то, как опустился британский флаг, чтобы никогда уже не реять впредь над этим берегом Альбиона. Еще горше делалось Томпсону, когда он вспоминал, как королева — в то время принцесса — приезжала в Кению в пятьдесят втором году. Томпсон, он был тогда районным комиссаром, удостоился чести пожать ей руку. Сердце рвалось из груди. Он готов был для нее на все, с радостью встретил бы смерть, лишь бы доказать свою преданность всему тому, что воплощала принцесса, ее улыбка. Томпсон отбросил газету и встал. В повлажневших глазах горел отблеск пережитого восторга. Он подошел к окну, бормоча про себя: «Ах, глупец, смешной, наивный глупец!» Мимолетное волнение исчезло, осталась только тяжесть под ложечкой. Он глядел из окна на давно знакомый вид: рифленое железо на крышах лабораторий, левее — стеклянные домики теплиц. От шоссе к теплицам шла мисс Линд. Когда она скрылась за углом, из-за химической лаборатории выскочил коричневый с черными подпалинами дог и стремглав помчался догонять хозяйку. Справа, в тени библиотеки, расположилась на траве группа африканцев. По ту сторону лужайки за большими окнами химической лаборатории виднелись сложные переплетения стеклянных трубок. Как тихо и мирно здесь! А что будет после четверга? Месяц, от силы два — и теплицы и парники зарастут сорняками, от мензурок и колб останутся одни осколки на грязном цементном полу, а газон превратится в джунгли… На поляну снова выскочил дог, обнюхивая траву. Вот он замер, повел мордой в сторону библиотеки. Томпсон насторожился. Пес залаял и стрелой понесся через двор, прямо к сидевшим на траве африканцам. Те с криками бросились врассыпную. Один замешкался — и собака прыгнула на него. Человек пытался удрать, но пес прижал его к стене. Африканец нагнулся, рукой нашарил камень и поднял его над головой. Томпсон похолодел, ожидая самого худшего. Но тут появилась мисс Линд и позвала собаку. Томпсон перевел дух. Он испытывал легкое разочарование оттого, что так ничего и не случилось. Выйдя из своего кабинета, он пошел по траве к библиотеке. Африканцы собрались на прежнем месте. Мисс Линд левой рукой держала пса за ошейник, а указательным пальцем правой укоризненно размахивала перед носом Каранджи. — Мне за тебя стыдно! — говорила она, вкладывая в слова максимум презрения. Каранджа исподлобья смотрел на нее со страхом и злостью. На лбу еще блестели капельки пота. — Пес… пес сам бросился, мэмсахиб, — заикаясь произнес он. — Не ожидала от тебя — швырять камни в мою собаку! — Я… я не швырял… — Какие же вы все лгуны! — перебила она его, обводя глазами собравшихся. Потом снова повернулась к Карандже. — Да ведь я сама видела камень у тебя в руке! Зря я вмешалась — он бы тебе задал перцу. Вот спущу его сейчас… Подошел Джон Томпсон, африканцы расступились, пропуская его вперед. Мисс Линд перестала отчитывать Каранджу и улыбнулась Томпсону. Каранджа с надеждой поднял голову. Африканцы притихли, уставились на белого начальника… Внезапная тишина и обращенные к нему взоры действовали Томпсону на нервы. В памяти всплыл лагерь Рира и день, когда заключенные объявили голодовку. Сейчас он почувствовал ту же враждебность в воздухе. Главное — не терять достоинства. Ни на кого не глядя, он произнес первые пришедшие в голову слова на суахили: — Я разберусь, — и тут же понял, что совершил ошибку. Фраза прозвучала как извинение, как уступка… Все заговорили разом, кричали и указывали на пса. Каранджа глядел благодарными глазами. Томпсон положил руку на плечо мисс Линд и увел ее. Они шли по узкой галерее, соединявшей библиотеку с административным корпусом. Мисс Линд трещала без умолку. Томпсон точно не слышал; тени минувшего, события в лагере Рира, всплыв со дна памяти, прочно завладели им. «Свобода, Свобода, она вскружила им голову, даже лучшие из них отбились от рук». Следовало бы рассказать ей, как было дело. Ведь собака могла искусать Каранджу. Секретарь местного отделения профсоюза африканских служащих не раз приносил жалобы на дога. Административный секретарь в ответе за все, в том числе и за отношения между сотрудниками и рабочими… Очутившись на обнесенной проволочной изгородью делянке, усаженной молодыми деревьями, они сели на траву. Томпсон все тянул с началом разговора — ведь тогда придется объяснить свое бездействие, а его точно паралич разбил в предвкушении кровавого зрелища. — Вообще-то черномазый не виноват, — начал он наконец. — Я видел, пес действительно сам на него бросился. Как и большинство живших в Кении европейцев, Томпсон любил домашних животных. Особенно собак… В прошлом году они с Марджери ехали в Найроби в театр. По дороге из Гитхимы в столицу почти нет селений. Быстро темнело. Внезапно в свете фар на шоссе метнулась собака. Томпсон вполне мог затормозить или погудеть — времени было предостаточно. Но только крепче сжал руль. Боже упаси, он не хотел убивать пса, он внушил себе, что это неизбежно. Тоже оцепенение нашло на него, тот же столбняк. Раздался визг — и тут он очнулся, резко нажал на тормоз и, прихватив фонарик, вышел из машины. Вернулся назад, обшарил обочины, но собаки не нашел. Не было видно и крови. А ведь он четко ощутил глухой удар, услышал визг. Когда он вернулся, Марджери тихо всхлипывала, уткнувшись лицом в сиденье. Томпсон никак не мог совладать с охватившей его дрожью — ничего подобного с ним раньше не было. — Надо посмотреть под машиной, — все еще плача, сказала Марджери. Он снова вылез из автомобиля и заглянул под колеса — ничего. Они поехали дальше, и он все не мог прийти в себя, точно человека убил. Когда дог накинулся на Каранджу, в голове Томпсона молнией пронеслось воспоминание об этом случае. И теперь, рассказывая мисс Линд о происшедшем, он путался, не мог отграничить то, что было на самом деле, от пережитой им бури чувств. Тут он с неудовольствием и чувством неловкости отметил, что мисс Линд почему-то плачет, и отвернулся. Дог, рыскавший вокруг них, остановился и поднял ногу у молодого камфарного деревца. — Простите, — всхлипывая, выдавила мисс Линд, вытирая белым платочком слезы. Она была седая и старая, сухая кожа на лице шелушилась. Каждый день она одиноко блуждала по территории станции среди парников, лабораторий и теплиц, похожая на привидение. — Не стоит расстраиваться из-за пустяков, — сказал он, не поворачиваясь, невольно глазами следя за псом. — Я стараюсь сдерживаться, но я… я… ненавижу их. И ничего не могу с собой поделать. При одном их виде я тут же вспоминаю… вспоминаю… Томпсон заерзал на траве, чувствуя страшную неловкость. Если бы можно было уйти! Но мисс Линд прониклась к нему внезапным доверием: в такие минуты люди делятся с посторонним всеми своими бедами и страхами. И она рассказала ему про то, что искалечило, осквернило ее жизнь. Это случилось в дни чрезвычайного положения. Она жила тогда в Мугуге, в старом бунгало, утонувшем в густом кустарнике по самую крышу. Она любила этот дом, приют спокойствия и уединения. Несколько раз районный комиссар предлагал ей ради ее же безопасности переехать в Гитхиму или в Найроби, но она и слышать об этом не хотела: россказни о женщинах, убитых на пустынных фермах, не пугали ее. Совесть ее была чиста. Она приехала в Кению работать, а не заниматься политиканством. Она полюбила эту страну, ее чудесные ландшафты и климат и решила навсегда остаться здесь. И она никому не причиняла вреда. Ну верно, она частенько бранила своего боя, но зато она же делала ему подарки, покупала одежду, выстроила для него кирпичный домик позади бунгало и никогда не перегружала работой. Бой, хлипкий кикуйю родом из Рунгея, в армии, кажется, был поваром, но после войны долгое время слонялся без работы, пока не попал к ней. У нее был пес, который очень привязался к бою. Мисс Линд прямо-таки трогала их дружба. И вот однажды темной ночью бой постучал в дверь в попросил скорее отворить. Она открыла, и на нее накинулись двое. Они поволокли ее в гостиную. И он шел за ними. Ее взгляд молил о помощи, но он только скалил зубы. Она думала, что они убьют ее, и, оправившись от первого испуга, примирилась со смертью. Но все было гораздо хуже… Говорят, что в таких случаях женщины либо отчаянно сопротивляются, либо теряют сознание. Но ей было отказано в этом благе. Она оцепенела от ужаса, но не лишилась чувств и запомнила все, что произошло, до мельчайших подробностей… Спустя некоторое время тех двоих арестовали и повесили, но боя так и не нашли. Ей пришлось купить и натаскивать новую собаку, взамен прежней, которую слуга отравил в ту ночь. До сих пор ей чудится тяжелый запах распаленного мужского тела, безумные, дикие глаза. Нет, никогда она не забудет этого, до самой смерти. Томпсон с трудом скрывал отвращение, которое внушал ему звук ее голоса, ее вид, самое ее присутствие. Они разошлись в разные стороны, точно стыдясь этого приступа откровенности. Внезапно им овладел страх, он злился на себя, наваждение какое-то! В памяти всплыли глаза собаки, выхваченные из тьмы автомобильными фарами. Куда она все-таки делась? Ну а если бы дог мисс Линд разорвал Каранджу в клочья, что тогда? Какую свирепую злость прочел он в глазах африканцев… И эта зловещая тишина… Как тогда в Рире… Заключенные молча сидели на земле, отказавшись от воды и пищи… Твердые как сталь. И глаза, повсюду глаза… Бессонные ночи, неотвязная мысль — как сломить их упрямство? В ночной тьме он видел их глаза… Такие же глаза были у африканцев, столпившихся у библиотеки. В должности районного комиссара Джон Томпсон служил во многих провинциях Кении. Он был трудолюбив, его ценили за умение обращаться с африканцами. Перед ним открывалась блистательная карьера колониального чиновника. В первый же год чрезвычайного положения он получил назначение в концлагерь. Ему предстояло превращать бандитов мау-мау в лояльных подданных британской короны. И вот Рира стал его трагедией, его злым роком. Заключенные объявили голодовку в ответ их избили — так, вполсилы, но одиннадцать человек отдали богу душу. Каким-то образом этот факт попал в газеты. Томпсон был старшим офицером лагерной охраны, и его имя замелькало в мировой печати, его склоняли на все лады в палате общин. В один день он стал знаменит. Для расследования инцидента была создана комиссия, а его поспешно уволили с колониальной службы, которую он так любил, и пристроили на гитхимской станции. Томпсон до сих пор не оправился от удара. Вспоминая о Рире, он всякий раз заново испытывал тяжкое унижение. И сегодня в глазах африканцев он точно читал свой приговор. Случись что-нибудь с Каранджей — и снова комиссия, с той только разницей, что теперь в стране черное правительство. Нет, сегодня нечего и думать о делах. Завтра он все закончит. Закрывая окно, он вновь вспомнил давешнее и содрогнулся. В конце коридора его ждал Каранджа. Что ему надо? Что ему надо? — В чем дело? — Я отнес письмо. — Ну и что? — Хочу сказать вам спасибо. Томпсон вспомнил, как Каранджа изворачивался перед мисс Линд. Холодно взглянув на него, Томпсон пошел к выходу. Потом передумал, окликнул Каранджу. — Что касается собаки… — Да, сэр. — Не беспокойся. Я этим займусь. — Спасибо, сэр. И Томпсон зашагал дальше, кипя от бешенства. Дожили! Приходится лебезить перед Каранджей! На глаза навернулись злые слезы. Ничего не видя вокруг, он кинулся к машине, прошлым, к разным пустякам, вроде сегодняшнего эпизода с собакой. — Хорошо провел время в Найроби? — Как ни была Марджери занята собой, она уловила беспокойство мужа. — Так и не удалось выбраться. — Почему? — Работы много накопилось, — буркнул он, укрывшись за старым номером «Панча». — Но теперь-то уж, надеюсь, конец? — Я просмотрел архив. Осталось ответить на несколько срочных писем. И тогда все, можно сдавать дела. — Нашли кого-нибудь на твое место? — Пока нет… — А вдруг это будет африканец? Я слышала, они прямо помешались на африканизации. Он дернулся, словно его булавкой укололи, журнал свалился на колени. Видение, представившееся ему днем, возникло вновь и стало еще ярче. Разбитые мензурки и колбы на полу, горы писем, оставшихся без ответа, пыль, клочки бумаги, запустение… Для кого он старался, приводил дела в идеальный порядок? Чужой человек придет в его кабинет, сядет в его кресло. Он заранее ненавидел своего преемника. Подобную мучительную боль испытывают люди, уверовавшие в свою незаменимость, когда оказывается, что их школа, университет или клуб готовы расстаться с ними без сожаления ради легкомысленных и беспечных новичков. Даже вещи, к которым ты привык, отказываются от тебя. Он злобно глянул на супругу. Пожалуй, и она способна предать его. Если бы он погиб в Рире, или в лесу Киненье, или просто вдруг окочурился, разве бы она не вышла снова замуж? Он сбросил «Панч» с колея и зашагал к двери, так ничего ей и не ответив. Через некоторое время он вернулся со стопкой старых записных книжек и бумаг и принялся разбирать их.
Марджери встала и пошла на кухню мыть посуду. Убирая чашку мужа, она умышленно замешкалась. Ей вспомнилось время, когда он еще не поступил на колониальную службу. Тот Джон делился с ней решительно всем, заражая ее своим оптимизмом и радужными надеждами. Он только что вернулся в Оксфорд из армии, с африканского фронта. Растроганная воспоминаниями, она готова была приласкать его, разгладить морщинки, отвлечь от тягостных мыслей. Но порыв длился лишь какую-то долю секунды. Торопливо собрав на поднос чашки, она ушла на кухню. Когда же, собственно, началось отчуждение? Быть может, виною всему его работа? Ведь, вступив на службу, он только и помышлял что о карьере. Его душа закрылась для нее, лицо сделалось непроницаемым. В конце концов в ней не осталось и крупицы чувства к нему. Когда стряслось это несчастье в Рире, она старалась как-то поддержать, приободрить его, но ловила себя на том, что не испытывает к мужу искреннего сочувствия. Ей были безразличны его заботы. Наблюдая за его усилиями выдвинуться, она ощущала стыдливую неловкость, словно ребенок, увидевший вдруг, как взрослый дядя с сачком неуклюже гоняется за бабочкой. Марджери обладала счастливой способностью ни над чем не задумываться надолго. Вот и теперь она еще не кончила мыть посуду, как ее мысли перескочили на то, что было утром, и она вновь ощутила ту же горячую дрожь. «Как странно… — размышляла она, припоминая во всех подробностях встречу с Каранджей. — Быть может, это оттого, что я навсегда уезжаю из Африки? Или это признак старости? Африканская жара так пагубно влияет на женщин…» Она грустно улыбнулась. Неужто и в этой кухоньке она в последний раз и никогда уже больше не увидит Гитхимы? Никогда… А что станет с садом при новом хозяине? Каждый уголок в доме, мебель, стены так много значили для нее. За годы их многочисленных переездов из одной провинции в другую ни к одному дому не привязывалась она так, нигде не чувствовала себя такой легкой, раскованной, окрыленной. В Гитхиме она встретила доктора Дайка, и в ней шумно пробудилось нечто такое, чего она в себе даже не подозревала. При виде его она забывала обо всем, ее охватывало веселящее, живительное изнеможение. Она прощала ему даже это омерзительное пьянство, этот грубый, мужицкий хохот. Он был полной противоположностью Джону, который всегда безукоризненно одевался, безукоризненно держался и ни разу в жизни не выпил лишнего. Словно подменили Марджери… Таинственность, риск, бунтарская радость бросить вызов приличиям и условностям только усиливали привлекательность их связи. Восторг первой ночи, восторг секунд, сотканных из страха, любопытства, изумления… Джона вызвали по делу. Забыв о ней, он уехал с вечеринки, и она поняла, что это неизбежно… Ван предложил отвезти ее домой, и она едва удержалась, чтобы не сжать ему руку в знак признательности. Он остановил машину в молодом перелеске, она смежила веки, прильнув к его губам. — Пойдем на заднее сиденье, — шепнул он ей на ухо. — Ах, только не сегодня… — Сегодня, сейчас, — перебил он, сдирая с нее платье. Она боязливо покорилась, теснее прижалась к нему, выдохнув только: — Не делай мне больно! Судорожные движения его тела заглушили крик, ей показалось, что весь мир летит в бездну. В лесу было темно и тихо, только непрерывно трешали цикады. Потом она плакала, со страхом думая о том, как посмотрит в глаза мужу. — Чего ты плачешь? — Муж!.. — Да ну его к черту! Их роман не был ни счастливым, ни безмятежным. Она все время ревновала. На вечеринках он вечно болтал и смеялся с другими женщинами, но не устраивать же ему сцены при всех! И она выкрикивала ему обиду с глазу на глаз, в дорогие краденые секунды, отпущенные для счастья. Однажды Джон уехал в Уганду на какую-то конференцию. Доктор Ван пришел к ней. В тот вечер он вдруг заговорил о метеорологии. Он был трезв, обходился без ругани. В его голосе был даже оттенок гордости за свое дело. — Многие не отдают себе отчета в том, что значит быть синоптиком в Кении. В других странах, в Англии скажем, где рельеф относительно ровный, легче установить, куда сместятся зоны с низким давлением. А в Кении из-за пересеченной местности смена давления происходит резко и неожиданно, и предсказывать здесь погоду чрезвычайно трудно. — Но есть же тут и свои преимущества?. — Безусловно. Работать в Кении или в Южной Африке удивительно интересно, приходится учитывать столько особенностей! Разговор увлек ее. Перед нею открылся новый мир, куда многообразнее и шире ее школьных познаний о дождемерах, изобарах, флюгерах, зонах низкого давления и воздушных потоках. Оказалось, что он родился и вырос в Южной Африке, работал в Родезии, но повсюду чувствовал себя не в своей тарелке. И он как неприкаянный кочевал по всему континенту, пока не очутился в Гитхиме. По глубокому убеждению Марджери, только пьянство примиряло его с действительностью и самим собой. Это был единственный серьезный разговор. Уже в следующий раз она начала выпытывать у него подробности его прежних романов. — К черту! Что я, твой муж, что ли? — раскричался он и ушел. Было уже очень поздно, она чувствовала себя одинокой и несчастной. «Видеть его больше не хочу!» — внушала она себе. А утром отослала ему записку, умоляя прийти. На нее часто находили приступы безжалостного самоанализа. Она пыталась взглянуть на свои отношения с мужем беспристрастно, со стороны. Без сомнения, Джон значил для нее очень много и она принадлежит ему до конца. Но разве весь смысл замужества лишь в этом? Утопая в трясине ненависти к себе, раздираемая чувством вины, она проникалась нежностью к мужу. Ее охватывало желание сознаться ему, исповедоваться, облегчить душу раскаянием. В такие минуты она презирала Дайка. Но чем сильнее разгоралась ее ненависть, тем яснее она сознавала его власть над собой. Она нуждалась в нем, ее влекла эта бездна диких и необузданных, неведомых дотоле страстей. Ревнивый страх не давал ей покоя — вдруг он изменяет ей? А потом его сшиб поезд. К удивлению своему, она не испытала даже грусти. Напротив, ее первым чувством было блаженство вновь обретенного покоя. И только спустя некоторое время ее обуяла неясная тревога — так бывает с человеком, который чувствует, что обронил, потерял какую-то вещь, но не знает, что именно. Она вновь занялась цветами, а то совсем было забросила это увлечение. Обрывки мыслей и воспоминаний роились в голове у Марджери, пока она мыла посуду. Печаль и горечь уступили место усталой, привычной досаде на мужа. Свобода вторглась в их судьбу, приходится начинать жизнь заново, а он молчит, как сыч, и ведет себя так, словно ничего не случилось. Супруги должны делиться друг с другом своими мыслями, заботами… Нет, сегодня она заставит его заговорить! Вытерев посуду, Марджери направилась в гостиную. Джон просматривал записные книжки, делал какие-то пометки на листе бумаги. Пальцы у него подрагивали. Наклонившись, она обвила его шею, прикоснулась губами к мочке уха. Она изумлялась собственной отваге, ничего подобного не случалось вот уже несколько лет. Но тут ее решимость внести наконец ясность в их отношения исчезла так же внезапно, как и появилась. — Спокойной ночи. — Спокойной ночи. — Не засиживайся, — сказала она, отправляясь в спальню.
Впервые Томпсон попал в Восточную Африку в составе полка королевских стрелков во время войны. В 1942 году он участвовал в мадагаскарской кампании. Потом, вплоть до сорок пятого, служил в Кении. Вернувшись в Англию, он возобновил прерванные войной занятия в Оксфорде. И тогда-то, роясь в старинных книгах, он ощутил, как в нем пробуждается интерес к истории становления Британской империи. Поначалу этот интерес был сугубо познавательный, без тени какого бы то ни было личного отношения. Но как-то, раскрыв Киплинга, Томпсон вдруг понял, что создан для великих свершений. Это было, как вспышка молнии, как чудесное озарение. Да, судьба его предначертана свыше. Он с жадностью перечитывал биографию лорда Лугарда[4], снова и снова листал его труды. И наконец случайная встреча с двумя студентами-африканцами превратила его смутные искания в конкретную программу действий. Они беседовали о литературе, об истории, о войне, и африканцы из британской колонии расточали похвалы исторической миссии Англии. Эти сыновья вождей с тогдашнего Золотого Берега проявили тонкое понимание искусства, разбирались в истории и литературе не хуже, чем он сам. Томпсон пришел в восхищение. Его ум лихорадочно заработал. Вот два африканца, которые ни одеждой, ни речью не отличаются от англичан. В их суждениях нет и намека на пресловутую иррациональность ума и предрассудки, приписываемые африканским и восточным народам. Все это вытеснили три основных принципа западного мышления: здравый смысл, логика, чувство меры. Поразительно, африканцы гордились английской историей и британскими традициями, как своими собственными! Томпсона охватило волнение, точно он стоял на пороге великого открытия. Что же значат эти традиции? Он бился над этим вопросом дни, недели, месяцы… Как-то ночью, не в силах заснуть, в чрезвычайном возбуждении, он наконец облек свои неясные намерения в форму четкой идеи. «Сердце переполнилось счастьем, — писал он позднее. — В какой-то миг меня осенило, что создание Британской империи суть воплощение великой нравственной идеи. В конечном итоге возникнет единая британская нация, которая сплотит людей разного цвета кожи и разного вероисповедания на основе справедливейшего представления об изначальном равенстве всех. Яркий свет растопил окружавший меня мрак…» Превратить народы Британской империи в одну нацию! Вот в чем ответ сразу на множество вопросов. Не ради ли этой цели гибли тысячи африканцев на войне с Гитлером? Он решил изложить свои мысли на бумаге, и ему сразу пришло в голову название будущей книги: «Просперо[5] в Африке». Он попытался доказать, что англичанам свойствен некий особый взгляд на мир, отличные от других воззрения на устройство общества и отношения между людьми. Но эти идеалы можно привить другим народам — достаточно изменить социальные и культурные условия их существования. «Просперо в Африке» явится обобщением опыта британского колониализма, всей истории колониализма, от Древнего Рима до наших дней. Томпсон стал поклонником французской политики ассимиляции, хотя к самим французам относился весьма критически. Он решительно отверг идею косвенного управления, предложенную «этим ретроградом» Лугардом. «Мы должны избежать ошибок французов, подвергших ассимиляции лишь горстку избранных. Объектом предлагаемой грандиозной программы перевоспитания станут африканские и азиатские крестьяне. Ведь и в Англии были низшие классы — фабричные рабочие и крестьяне. Однако они уже давно превратились в равноправных членов общества!» Томпсон с жаром излагал свои идеи Марджери. Ее покоряло грустное, аскетическое выражение его лица. Она восхищалась его умом, нравственной силой и целеустремленностью. Однажды во время прогулки по Лондону они остановились у входа в Сент-Джеймс-парк и замерли, глядя на Вестминстерское аббатство и палату общин. Марджери склонила голову ему на плечо, и он теперь знал: она пойдет за ним хоть на край света. Через несколько лет чета Томпсонов отправилась в Восточную Африку, не подозревая, что окажется в самом центре драмы, которую судьба уготовила английскому колониализму. «Я в восторге, — писал он в дневнике по прибытии в Момбасу. — Какое счастье снова очутиться на красной земле Кении! Я был здесь в годы войны, и мне понравился климат. Тогда я и мечтать не мог, что приеду сюда вновь со столь почетной миссией…» И вот эта запись снова перед ним, накануне отъезда из Африки. Прикосновение Марджери всколыхнуло воспоминания об огне, который бушевал в нем в ту пору. Безграничная вера в британский империализм побудила его однажды заявить, что управлять людьми означает владеть их душами. Он сказал это в обществе офицера, за ужином в гостинице «Нью-Стенли». Вернувшись домой, он поспешил занести свое изречение в дневник. Не то чтобы он вел дневник в общепринятом смысле. Нет, скорее, это были просто записи, которые он делал время от времени, надеясь использовать их в дальнейшем в своем философском трактате. Сейчас он листал эти заметки, останавливаясь на некоторых строках, особенно созвучных его настроению. «…Окрестности Нъери — это горы, холмы и глубокие ущелья, сплошь поросшие непроходимыми лесами. Величественные деревья, естественно, приводили в трепет первобытные умы. Мрак и таинственность леса побуждали дикарей обращаться к магии и ритуалам…»
«Что же такое мау-мау?..»
«Д-р Альберт Швейцер говорит: „Негр — это дитя, а с детьми нужна строгость“. Я служил в Нъери, Гитхиме, Кисуму, Нгонге. Я с ним согласен…»
«Я снова в Нъери. Переводим крестьян в укрепленные деревни, чтобы изолировать население от террористов. Сегодня, когда мы жгли хижины в опустевшей деревне, я подумал, что моя жизнь зашла в тупик…»
«Полковник Робсон, возглавлявший колониальную администрацию в Рунгее и Киамбу, зверски убит. Меня посылают вместо него в Рунгей. Пора прибегнуть к палке. Ни одно правительство не может мириться с анархией, допускать разгула страстей и дикости. Мау-(чау — это зло. Если его не подавить в зародыше, погибнут все ценности, на которых зиждется здесь наша цивилизация…»
«Каждый белый человек в единоборстве с африканцем подвергается ежедневной и ежечасной угрозе постепенного морального опустошения. Д-р Альберт Швейцер».
«Африканцы поистине непостижимы. Вчера ко мне в кабинет пришел один из них и выдал лидера террористов, которого мы давно разыскиваем. Я был уверен, что он лжет, пытаясь либо нас завлечь в ловушку, либо выгородить себя. Уж не насмехается ли он надо мной? Он держался естественно, но ведь любой африканец — прирожденный актер, и поэтому они лгут с чрезвычайной легкостью. И вдруг — сам не знаю, что со мной стряслось, — я плюнул ему в лицо…»
Томпсон очнулся, глядя на исписанный лист невидящими глазами. До инцидента в Рире перед ним открывался широкий и светлый путь наверх, И только теперь, в Гитхиме, он ощутил всю иронию судьбы. Какая язвительная насмешка заключена в том, что супруг королевы будет почетным гостем на церемонии провозглашения Свободы. Прикосновение жены всколыхнуло воспоминания о прошлом, но и они отравлены иронией. Ну, предположим, он достиг бы вершины, стал комиссаром провинции или даже губернатором. Все равно теперь он лишился бы всего этого, как лишается уютного дома и своего кабинета в Гитхиме. Страна уплывает из рук. Так пускай дуры вроде мисс Линд остаются здесь. Рано или поздно им дадут пинка под зад. С него довольно! Он подал в отставку, чтобы уехать до Свободы. Он не станет дожидаться, пока черномазые слуги будут вытаскивать белых за ноги из спален… Тут он вспомнил сегодняшний рассказ мисс Линд и то, как заискивал перед Каранджей. Надо поговорить с Марджери. Она как будто снова поверила в него… Он читал это в ее глазах. Она поможет ему забыть все, выстоять… Душа выжжена дотла. Нужно перебороть себя. Сердце трепетало в страхе и надежде перед великой исповедью. Он тихонько приоткрыл дверь в спальню и вошел, не включая свет. В темноте будет легче. Человек живет, чтобы все время умирать и рождаться вновь. Он нащупывал путь в плотной, обволакивающей тьме, вытянутые вперед руки дрожали. Добравшись до постели, он понял, что Марджери уже спит, и вдруг ощутил огромное облегчение, теплую признательность к ней. Он лёг, но еще долго-долго не мог уснуть.
VI
— На бога надейся, а сам не плошай, — самодовольно поучают других баловни судьбы, которым жизнь дарит одни улыбки. Тысячи людей, не жалея сил, стараются следовать этому совету, да без толку: их крепко держит нужда. Но Гиконьо был действительно всем обязан самому себе. Лагеря его многому научили, говорили жители Табаи. Когда, пройдя все круги ада — длинную цепочку лагерей, которую англичане окрестили «трубопроводом», — он вернулся домой, у него и имущества-то было — старая пила да молоток. К счастью, в ту пору, убирали урожай и на плотников был спрос. Многие строили себе амбары, склады для кукурузы, бобов и картофеля. Люди не забыли, что за плотник Гиконьо, и посыпались заказы. Работал он на совесть, никого не подводил, но и от заказчиков требовал аккуратности. Богатый, бедный — плати в срок. Правда, беднякам он устанавливал сроки подлиннее. Но в назначенный день — вынь да положь! До лагеря он не был таким, вздыхали люди, но шли к нему, уважая за честность и исполнительность. Вместо того чтобы ухлопать денежки на одежду для себя, на наряды жене и матери, Гиконьо взял пример с индийских торговцев. Во время уборки скупал кукурузу и бобы, их чуть не даром отдавали. Он рассуждал так: женщины голодали и бедствовали целых шесть лет, стало быть, и еще несколько месяцев потерпят. Урожай собрали, и Гиконьо перебивался случайными заработками, дожидаясь своего часа. В Табаи и в соседних с Рунгеем деревнях осенних припасов хватает до января. Потом, как правило, месяц, а то и два лютует засуха, и лишь в марте наступает сезон длинных дождей. Но еще проходит время, пока хлеба созреют. И вот тут-то Гиконьо забросил плотницкое ремесло и пустился в коммерцию. Каждый день чуть свет отправлялся на базар и покупал один-два мешка кукурузы у крестьян из Рифт-Вэлли по оптовым ценам. Дальше дело было за женщинами: Мумби с матерью сбывали кукурузу в розницу, орудуя вместо весов мерой — маленькими калабашами. На вырученные деньги Гиконьо снова покупал один-два мешка, отчаянно при этом торгуясь, и опять за дело принимались женщины. Вся выручка пускалась в оборот. Если подвертывался случай, Гиконьо перепродавал кукурузу оптом, мешками и, конечно, не оставаясь внакладе. С покупателями Гиконьо был чрезвычайно вежлив и обходителен. Говорил вкрадчиво, умел убедить любого, всегда готов был извиниться, никого не заставлял ждать. Ведь покупатель — это деньги. Особенно он расположил к себе женщин. «И язык хорошо подвешен, и совести не занимать», — расхваливали они его по всему базару. Терпеливо выждав, покуда кукурузы почти ни у кого не останется, Гиконьо в подходящий момент выбрасывал на рынок свои запасы, до предела взвинчивая цены. Это был не легкий кусок хлеба. Мужчины поднимали его на смех: «Трется между юбками! Торговля — женское занятие». Но когда дела его пошли на лад, насмешники призадумались. Кое-кто даже последовал его примеру. Но не всем везло. Мало-помалу Гиконьо сколотил не бог весть какой, а все-таки капитал, и матери в Табаи ставили его в пример своим детям: «Теперь его жена и старуха мать дома посиживают. Им не приходится, как другим, целыми днями торчать на рынке. А все потому, что Гиконьо не какой-нибудь лодырь, — не подражал англичанам, не валялся в постели до полудня». Что верно, то верно — Гиконьо вставал рано. Ни в радости, ни в горе не забывал он о главном. Так было и наутро после посещения Муго. Проснувшись раньше птиц, Гиконьо отправился на другой конец нагорья, в Кирииту, за овощами на продажу. В Найроби у него была постоянная клиентура. Овощи приносят недурной доход — надо только уметь подмазать полицейских. И по дороге в город и на рынке гляди не зевай: полисмены норовят придраться к африканцу из-за любой ерунды. Европейцев и азиатов не трогают… В стране провозгласили самоуправление, а порядки в полиции прежние. Водить машину Гиконьо не умел, ему приходилось нанимать шофера и грузчика тоже. Но Гиконьо не спускал с них глаз и даром денег не платил. В полдень он уже заседал в комитете, который ведал украшением площади, где в День свободы состоятся торжества. На вторую половину дня у него была назначена встреча с депутатом парламента от их округа. С месяц назад Гиконьо и еще пятеро крестьян надумали купить в складчину ферму мистера Бэртона. Мистер Бэртон одним из первых приехал в Кению. Тогда закончили постройку железной дороги до Уганды и правительство привлекло в колонию белых поселенцев, бесплатно раздавая им землю. Здесь родились дети мистера Бэртона, здесь они ходили в школу. Потом он отправил их в Англию, в университеты и колледжи. Назад вернулись лишь один сын и дочка, остальные осели в Европе. Сын служил теперь в управлении крупной нефтяной компании в Найроби. Для старика Бэртона Кения давно стала родным домом. Он ни разу не съездил в Англию навестить родных или подлечиться, как это делали другие. И никогда бы он с места не двинулся, если б не правительство, всерьез вознамерившееся передать власть черным. Подобно многим английским поселенцам, мистер Бэртон до последней минуты не мог поверить, что такое в самом деле произойдет. А теперь ему ничего не оставалось, как продать землю, которую он так любил и в которую вложил столько труда, и отправиться в Англию. Гиконьо уже успел повидаться со старым Бэртоном и обо всем с ним потолковать. Компаньонам удалось наскрести лишь половину назначенной суммы (старик требовал наличные), и Гиконьо решил обратиться к депутату, чтобы с его помощью получить правительственную ссуду. Депутат выслушал его с важной миной на лице, делая пометки в блокноте. «Молодцы, подлинный дух взаимопомощи, харамбе![6]» — воскликнул он и, прощаясь, крепко пожал Гиконьо руку. Кончилось заседание комитета, и Гиконьо, полный надежд, заторопился на автобус в Найроби. Над ветровым стеклом машины было выведено: «Усердное дитя». Хозяин автобуса, местный, рунгейский, изрядно поднажился во время войны за независимость. Один из тех, кто сотрудничал с колониальной администрацией, а в награду получал торговые лицензии и ссуды «на открытие собственного дела». По радостному поводу ехал Гиконьо в Найроби, а все-таки жаль было терять время. Но что поделаешь — редкий депутат задерживался в своем округе. Только их выберут, глядь — они уже в Найроби, а к своим избирателям и носа не кажут. А если когда и нагрянут, то для того лишь, чтобы собирать митинги и горлопанить… При въезде в Найроби автобус остановили двое черных полисменов. Один потребовал у шофера права, а другой стал пересчитывать пассажиров. Их оказалось на два человека больше, чем положено. Тогда кондуктор, подмигнув полисменам, вышел с ними из автобуса, а водителю махнул рукой. Тот быстро отъехал на несколько ярдов и остановился. Вскоре запыхавшийся кондуктор вскочил на подножку, и «Усердное дитя» покатило в город. «Им не хватало двух шиллингов на чай», — под дружный хохот пассажиров объяснил кондуктор. По обеим сторонам улицы Принцессы Елизаветы, только что переименованной в проспект Свободы, развевались черно-красно-зеленые кенийские знамена и флаги других африканских государств. От счастья и гордости сердце Гиконьо затрепетало, как эти флаги на ветру. На миг он даже забыл, зачем приехал в город. Сойдя с автобуса, он шагал по авеню Кениаты, и у него было такое чувство, словно весь город принадлежит ему. Раньше улица называлась авеню Дела-мера и над нею высилась статуя гордого лорда. Теперь статую Деламера убрали, а на ее месте построили фонтан. Вокруг него собралась толпа, такая большая, что даже выплеснулась на лужайку у входа в гостиницу «Нью-Стенли». Люди восхищенно показывали пальцами на падающие крутыми дугами струи. «Словно мальчишки соревнуются, кто выше», — сказала женщина рядом с Гиконьо. Вокруг засмеялись. Что и говорить, Найроби готов к торжествам! И Гиконьо решил, что, когда вернется домой, расскажет об этом землякам. Надо и Рунгей украсить так, чтобы перед соседями не осрамиться. Он пересек Гавернмент-роуд, свернул на улицу Королевы Виктории, и снова заработал его практический ум. Когда он попадал на эти улицы, его всегда неприятно поражало, что в центре Найроби нет ни одного магазина, принадлежащего африканцу. Вот в Кампале, рассказывал ему Кариуки, не так. А Найроби никогда и не был африканским городом. Всей деловой и общественной жизнью здесь заправляют белые и индийцы. Африканцы годны лишь на то, чтобы мести улицы, водить автобусы, оставлять последние пенсы в индийских лавках, а к вечеру убираться восвояси, на далекие окраины… У здания, где помещалась приемная депутата, гудела целая толпа посетителей, но его самого не было. Так уж повелось — важные персоны редко держат слово и являются на встречу в назначенный час. Бывает, что избиратели неделями караулят своего депутата, да так и не могут попасть к нему. — С богом свидеться легче, — жаловались женщины в очереди. — Ты, сестра, по какому делу?. — За сына хлопочу. Хочет в Америку поехать, учиться. — А ты? — Дома неприятности. В прошлую субботу мужа арестовали — налоги не уплатил. А чем платить? Работы нет. Детишек из школы забрали. Школа ведь тоже денег требует… Некоторые пришли к депутату по делам, связанным с землей, другие — спросить совета, жениться им или повременить. Целая делегация приехала добиваться, чтобы депутат помог открыть среднюю школу в их долине. — А то после начальных классов нашим детям и податься некуда, — объяснял словоохотливый старичок. Депутат появился примерно через час. На нем был темный костюм, кожаный портфель в руке, во рту — трубка. Он благосклонно, с отеческим видом кивнул посетителям и, не извинившись за опоздание, прошел в свой кабинет. Прием начался. Сердце Гиконьо согревала надежда. Только бы раздобыть ссуду! Картины одна другой краше рисовались ему. Они организуют на ферме кооператив, заведут породистых коров, станут выращивать пиретрум, чай, кукурузу. Со временем кооператив разрастется, они примут в него новых членов… Наконец подошла его очередь. Депутат был страшно рад его видеть. — Садитесь, садитесь, мистер Гиконьо, — приветливо сказал он, указывая левой рукой на кресло. Правой он придерживал трубку, которую ни на секунду не выпускал изо рта. Вынув из ящика стола папку с бумагами, он несколько минут внимательно изучал их. Гиконьо с трепетом ждал. Наконец депутат поднял глаза от бумаг и откинулся в кресле. Вынул изо рта трубку. — Итак, насчет ссуды. Очень трудно. Но я сделаю все, что в моих силах. Возможно, через пару деньков у меня будут для вас добрые вести. — Когда мне прийти? — спросил Гиконьо, не скрывая разочарования. — Сейчас взглянем. Сегодня у нас… — Он листал календарь, посматривая на Гиконьо. — Давайте так условимся, я напишу вам или же сам приеду. У вас ведь лавка в Рунгее, верно? — Верно. — Вот и прекрасно. Это облегчит дело. Договорились? — Ладно, — буркнул Гиконьо, вставая. У дверей он обернулся. — Скажите, можно все-таки рассчитывать на ссуду или лучше попробовать достать деньги в другом месте? Показалось ему или нет: лицо депутата омрачила тревога. — Ах, да что вы! — Он встал из-за стола и размеренным шагом приблизился к Гиконьо. — Не так уж это, в общем, и сложно. Ссуды существуют. Надо только знать пути… Положитесь на меня. Идет? — Идет, — промямлил Гиконьо, но про себя решил, что завтра же повидается с мистером Бэртоном. Может, удастся уговорить его согласиться пока на половину. А потом подоспеет ссуда или еще где перехватить удастся… Занятый этими мыслями, Гиконьо вышел на улицу, как вдруг услышал за спиной свист. Он оглянулся и увидел, что все машут ему руками. Оказывается, он вновь понадобился депутату. Поднявшись по лестнице, он вошел в кабинет. — Я насчет празднования Дня свободы в Рунгее. Пожалуйста, поблагодарите ячейку и старейшин за приглашение. Но быть я не смогу. Депутаты приглашены участвовать в столичных торжествах. Вы уж извинитесь за меня. Ухуру!.. — Свобода!Уже два дня на всех восьми холмах, окружавших Табаи, только и говорили что о Муго. Не скупясь на невероятные подробности, рассказывали, как он возглавил голодовку в Рире, ту самую, в связи с которой был сделан запрос в английской палате общин. Нелюдимость и странное поведение Муго на митингах приписывали незаурядности его натуры. Разве не факт, что годы мук и лишений, годы, проведенные за колючей проволокой, не только не сломили этого человека, а, наоборот, закалили его дух и тело? Высокий, стройный, с огромными карими глазами. Строгие, четкие, точно в камне высеченные черты — такие люди одним своим видом внушают доверие и вселяют надежду!.. Сам Муго и подозревать не мог, что стал объектом всеобщего поклонения. Просьба выступить на митинге ошеломила его. Проснувшись на следующее утро, он был уверен, что все это ему приснилось. Но, взглянув на скамью, где вчера сидели нежданные гости, он вернулся к действительности. Все, что они наговорили ему, мучило, как неотступный кошмар. Почему они выбрали именно его? Почему не Гиконьо, не Варуи, не «лесных братьев»? Неужели Муго достойнее их? Пора было отправляться в поле. Нет, сегодня ему не до работы. Кроме того, пришлось бы идти по деревне. Варуи, Вамбуи, Гитхуа, Старуха — он не мог их видеть! Нет, лучше сходить в Рунгей… День снова выдался знойный, песок жег голые пятки. От жары в голове звенело. «…Они хотят… чтобы я… выступил… восхвалял Кихику… ну и в этом роде… Господи!.. Я же никогда не выступал… Впрочем, нет… однажды… Да, да… и они сказали, хорошая, мол, была речь… Ха-ха-ха! Чего я тогда только не наговорил, а они развесили уши… И все-таки, почему они пришли ко мне?… Ко мне… Ловушка!.. Гиконьо — зять Кихики… Генерал Р… Лейтенант Коинанду… Все ясно… речь… сказать… слова…» Действительно, однажды Муго произнес настоящую речь. Это было в местечке Кабуи, неподалеку от Табаи. Партия устраивала митинг в честь вернувшихся из лагеря. Муго решил сходить на него. Он жаждал спокойной нормальной жизни. Не пойти — значит привлечь к себе внимание. Народу собралось множество — соскучились, ведь с собраний лишь недавно сняли запрет. Каждому хотелось послушать рассказы об отчаянных побегах и других подвигах. К тому времени чрезвычайное положение уже почти год как было отменено, но Джомо Кениата и пятеро его соратников по Капенгурийскому процессу все еще томились в тюрьме. И раны на теле народа еще не успели зарубцеваться. Стоило не то что дотронуться — взглянуть, и они начинали кровоточить. Первыми выступили руководители районного отделения партии. Объясняли, что надо добиваться освобождения Джомо — только он сможет повести Кению к свободе. Народ отвергает любого другого кандидата на пост главы правительства. Ораторы призывали на предстоящих выборах отдать голоса партии Джомо. А потом приступили к главному, ради чего собрались. Слава самоотверженным героям, слава отважным патриотам Кении! Ведь и то, что назначены выборы, — тоже их заслуга! Ораторский запал передался и бывшим узникам лагерей. Когда им давали слово, они вспоминали, на какие страдания обрек их белый человек, говорили о своей глубокой любви к матери-Кении. В перерывах между речами толпа распевала «Кения — страна черных людей». Митинг уже подходил к концу, и один из ораторов как бы подвел итог всему сказанному: «Что на свете сильнее любви к родине? Она помогла мне выжить и вытерпеть все… Кения — страна черных!» И вот тут кто-то из бывших заключенных, знавших про то, что было с Муго в лагере Рира, вытолкнул его вперед. Кажется, это был Ньяму, которого потом избрали секретарем партийной ячейки. Он сидел в Рире как раз в то время, когда одиннадцать человек скончались от побоев. Муго впервые выступал публично, и звук собственного голоса — бесцветный, скрипучий — поразил его. Говорил он сухо, устало, монотонно, точно не желая ворошить прошлое. «Нас гоняли на строительство дорог и в карьеры. Они называли нас преступниками, даже тех, кто ни в чем не был виноват. Мы ничего не крали, никого не убивали. Мы только осмелились заикнуться: отдайте нам то, что было нашим со времен агу и агу[7]. День и ночь нас заставляли копать. Спать мы ложились на пустой желудок, нас косили болезни, одежда превратилась в тряпье, дыра на дыре, нагота наша была открыта ветру, дождю и солнцу. И если мы выжили, то не только из-за веры в правоту своего дела и не только потому, что любили родину. Сила наша еще и в другом — мы думали о доме! Думали: наступит день, и мы увидим улыбки наших жен, увидим ребятишек, как они дерутся, как плачут… От мысли, что придет день, когда мы вернемся домой, увидим наших матерей, жен и детей, услышим их голоса, мы становились сильнее… Да, эта мысль укрепляла нас даже в те дни, когда дело, за которое мы проливали кровь…» Сначала Муго нравилось говорить, представлять себе, как его речь звучит со стороны. Но вскоре он уже казался себе отвратительным. Он еле сдерживался, чтобы не закричать: все это вранье, я не хотел возвращаться, не стремился я к матери, жене, детям нет у меня никого. Скажите на милость, разве можно любить то, чего нет?.. Он запнулся на середине фразы, спрыгнул с помоста и чуть не бегом бросился прочь, к своей хижине. После митинга Муго снова надел непроницаемую маску молчаливой сдержанности. Люди работали не покладая рук, восстанавливали пришедшее в упадок хозяйство. Подоспели выборы, народ проголосовал за свою партию, которая пришла к власти, и вновь принялся за работу. Муго надеялся, что жители Табаи позабыли о нем. Но легенды расцветают и на менее тучной ниве. Тогда, на митинге, все решили, что Муго не смог продолжать из-за волнения. И Варуи, когда об этом заходил разговор, не уставал повторять: «То были слова от сердца, большого сердца…» Муго шагал размашисто, точно боялся опоздать куда-то. В голове, сменяя друг друга, с удивительной яркостью возникали картины прошлого. Словно молния рассекала ночное небо и вырывала из мрака то один, то другой уголок его памяти. В этих мгновенных вспышках умещалась вся его жизнь. Он пытался задержаться на том, что не вызывало боли и горечи. Вспомнил митинг. Потом мысли перескочили на вчерашних гостей. «Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя». Слова эти заворожили его. Снова замерцал в душе прежний огонек. Он остановился как вкопанный. Но внезапно другие мысли, стремительные, как порыв ветра, задули огонек. Они явно его подозревают — иначе не стал бы Генерал Р. устраивать ему этот допрос. С кем Кихика должен был встретиться через неделю?.. С Каранджей?.. Не могут, не могут же они в самом деле венчать лаврами того, кто так подло предал Кихику…
Тяжкий груз страхов, надежд и сомнений лежал на сердце Муго, когда вечером в его хижину вошел Гиконьо. Какое-то время оба молчали, явно смущенные обществом друг друга. — Садись. — Муго показал на скамейку у очага. — Не ждал меня? — усевшись, виновато произнес Гиконьо. — Да нет, почему… Ты пришел узнать мое решение? — Нет, не за этим. — И он заговорил о поездке в Найроби, о беседе с депутатом. Сидя напротив Гиконьо на кровати, Муго ждал, что же он скажет дальше. Их разделял очаг, сложенный из трех камней. В нем бушевало пламя. — Но и не это привело меня сюда. На душе у меня скверно. — Гиконьо вымученно улыбнулся. — Хочу задать один вопрос, за тем и пришел. — И вновь наступила томительная пауза. От страха и любопытства сердце Муго екнуло. — Может быть, ты и не помнишь, но однажды мы попали в один лагерь… — осторожно начал Гиконьо, точно нащупывал дорогу в темноте. — Правда? — У Муго отлегло от сердца, но настороженность не исчезла. — Столько пароду через них прошло, разве всех упомнишь, — поспешил добавить он. — Это был лагерь Мухия. Мы услышали, что тебя должны привезти. К тому времени мы знали и о голодовке, и о Рире. Конечно, не от англичан. Они из этого делали тайну, только мы все равно пронюхали. Муго вдруг ясно увидел Риру и то, как Томпсон избивает его. А от лагеря Мухия в памяти осталась лишь колючая проволока и плоское, выжженное солнцем нагорье. Впрочем, большинство лагерей было на выжженных солнцем нагорьях. — Зачем об этом вспоминать? Охота тебе ворошить прошлое!.. — А ты можешь хоть на минуту забыть? — Стараюсь. Да и правительство нас к этому призывает. — А я немогу… И не смогу никогда! — закричал Гиконьо. — Тебе здорово досталось? — участливо спросил Муго. — Разве в этом дело?.. Знаешь, меня ни разу не избили. Даже удивительно… — Я знаю, были такие, кого и не трогали. — А тебя били? — Счет потерял. — И ты выдержал, не сознался. Мы восхищались твоей стойкостью, а сами не знали, куда деваться от стыда. — Так ведь не в чем было сознаваться… — А я… я сознался… Да что там, я на все готов был, лишь бы вернуться. — Что ж, у тебя семья: жена, мать… — Хорошо, хоть ты понимаешь… — Ни черта я как раз не понимаю! — внезапно вскинулся Муго. — Вспомни, что ты говорил тогда. — Когда? — На том митинге. Помнишь? Многие из нас выступали, только почти все кривили душой — стыдились людям правду сказать, разглагольствовали о верности общему делу, о любви к родине. А ведь знаешь, был момент, когда мне стало безразлично, получит страна свободу или нет. Я хотел одного — домой вернуться. Любой ценой! Пусть Кения достанется белым — все равно!.. Я преклоняюсь перед такими, как Кихика. У них хватило мужества умереть за правду. А я трус. Вот почему мы в лагере гордились тобой и в то же время злились, даже ненавидели тебя. Нам бы брать пример с таких людей, да кишка тонка. Мы просто-напросто трусили. — Нет, это не трусость. На вашем месте я бы вел себя точно так же. — Но на деле было по-другому… — Хочешь знать, почему? — запальчиво перебил его Муго. Но искушение исповедаться тотчас исчезло. — Меня никто не ждал дома, — сказал он тихо, бесстрастно. — Пожалуй, мне даже не хотелось возвращаться. — Нет, не в этом дело. — Гиконьо захлебывался от восхищения. — В твоей груди сердце мужчины. Такие, как ты, заслужили, чтобы первыми вкусить от плодов независимости. А что мы видим? Кто разъезжает в длиннющих машинах и меняет их каждый день, словно сорочки? Они пальцем не пошевелили во время войны за свободу, отсиживались в школах, университетах, в разных конторах. А теперь на митингах они громче всех кричат: «Ухуру, славная свобода, за которую мы сражались!» Это они-то сражались? Щенки! Молокососы! Для них страдание — пустой звук. Им бы послушать твою речь тогда… Ты говорил так, будете в сердце моем читал… — Извелся, вспоминая о доме? — Муго спросил об этом вскользь, равнодушно, давая понять, что не прочь переменить тему. Но Гиконьо только того и ждал, подхватил горячо: — Верно! Думал, никогда не вернусь. А так хотелось на волю! Казалось, что после всего, что вынес, уж так заживем мы с Мумби, так… «Гиконьо, стало быть, считает, что в мире возможны и любовь и радость. И у него есть все, что нужно человеку для счастья: богатство, почет, семья. Чем же он так расстроен?» — недоумевал Муго. — Это хорошо, что ты так любишь жену. — Любил когда-то! — с горечью воскликнул Ги-коньо и приумолк. В хижине наступила тишина. Только гудел огонь в очаге и моргала керосиновая лампа. — В ней была для меня вся жизнь, больше, чем жизнь! — выкрикнул Гиконьо, неотрывно глядя на огонь. Потом, совладав с собой, продолжал задумчиво: — Но знаешь… когда я наконец вернулся, все переменилось, все показалось мне иным — поля, деревни, люди… — И Мумби? — И она тоже, — чуть слышно отозвался Гиконьо. — Господи, где же та Мумби, которую я любил?
VII
К западу от Табаи — нагорье, а восточнее в уютную долину плавно спускаются холмы. Там лежит торговое местечко Рунгей — два ряда крытых тонкой жестью лавок. Когда с холмов спускаются женщины, чтобы продать или купить провизию и обменяться новостями, проулок между лавками превращается в базар. В Рунгей проторили дорожку и индийские торговцы из Найроби. Приедут, навезут товаров, азартно торгуются, сыплют такими шуточками, что женщины только за животы хватаются. А распродав товары, закупают овощи и другие продукты, везут их в Найроби и сбывают горожанам втридорога. Некоторые даже переселились в Рунгей. В нескольких минутах ходьбы от африканских лавок возник индийский поселок, тоже в одну улицу, с домиками, сколоченными из листов рифленого железа. Во время уборки урожая индийцы скупают картофель, горох, бобы и кукурузу на рунгейском базаре. Но в отличие от столичных купцов не везут все это в город, а припрятывают здесь же, выжидая, когда для крестьян наступят трудные времена. Лавки африканцев, хоть и покрытые ненадежной жесткой кровлей, сложены все из кирпича и камня. Говорят, что на всей земле кикуйю Рунгей — первый поселок с такими домами. У Рунгея и другие достоинства: прежде чем взобраться на гору, к Кисуму и Кампале, стальная змея проползла по этой долине. Жители дальних холмов, обойденных железной дорогой, крепко завидовали табайцам. Издалека, с границ земли масаев, приходили в Табаи люди, чтобы поглазеть на грохочущее чудовище, свистящее и изрыгающее дым. Табайцы гордились Рунгеем и предъявляли на него все права собственности. Железная дорога и поезда, как им казалось, обязаны своим появлением табайцам. Ведь это они с таким радушием встретили стальную змею, когда та подползла к самому сердцу страны. При этом табайцы — очевидно, из скромности — умалчивали о том, что вам и сейчас расскажут жители соседних холмов: когда стальная змея, чье появление предсказал пророк племени, показалась на их земле, деревня Табаи точно вымерла. Мужчины, женщины, дети разбежались по соседним холмам и целую неделю хоронились в лесах. И лишь когда посланные на разведку воины, вооруженные мечами и копьями, вернулись с известием, что железная змея не ядовита — ведь розовощекие чужеземцы до нее дотрагиваются, — только тогда, да и то не сразу, поодиночке табайцы стали возвращаться домой. Со временем железнодорожный перрон стал излюбленным местом сборищ молодежи. Они и на неделе виделись каждый день, ходили в дом друг к другу, вместе гуляли по лесу, вместе отправлялись в церковь. Но это так — будни, а в воскресный полдень у рунгейского полустанка встречались два пассажирских поезда — момбасский и кампальский. Может, кому придет в голову, что молодежь шла встречать родственников, ездивших в Момбасу, Кисуму или, скажем, в Кампалу? Боже упаси! Просто им хотелось собраться всей гурьбой, поболтать, посплетничать, посмеяться. А сколько любовных историй началось на этом перроне, сколько свадеб, счастливых и неудачных, состоялось благодаря этому полустанку! — Идешь сегодня к поезду? — А как же! — Только чтоб мне не ждать. А то я тебя знаю, пока соберешься да оденешься — весь день пройдет. Девушки начинали готовиться еще с субботы. Шли на реку стирать свои наряды. Воскресное утро уходило на утюжку и заплетание косичек. К полудню приготовления заканчивались, и табайские кокетки чуть не бегом устремлялись к полустанку. Парням беспокойства было меньше. Большинство из них и без того целыми днями околачивались в рунгейских лавках, в двух шагах от перрона. Этот перрон как магнитом притягивал. Если кто не поспевал к поезду, тому всю следующую неделю до самого воскресенья чего-то не хватало. Наконец оно приходило. На этот раз он спешил на станцию загодя, и, когда вдали появлялся паровозный дымок, грусть и тоску как рукой снимало. Проводив поезд, как правило, шли танцевать в лес Киненье, оттуда вся долина Рифт-Вэлли видна как на ладони. На танцах главной фигурой был гитарист. Местные красотки вились вокруг него, одаривали лукавыми взглядами. Мужчины расплачивались звонкой монетой. Когда кто-либо «покупал танец», музыкант играл и пел только для него, воздавая должное щедрости славного сына досточтимой матери. А «заказчик» либо исполнял танец в одиночку, либо приглашал участвовать в нем ближайших друзей. Остальным разрешалось только смотреть. Эти неписаные правила соблюдались свято. Бывало, танцы заканчивались потасовками. Это было в порядке вещей, и все к этому привыкли. Парни задирали друг друга обидными и оскорбительными песенками. Дрались группами, холм на холм. Табайцы в этих стычках неизменно одерживали верх, и все девушки доставались им. Девушкам нравились табайские парни, и они сдавались на милость победителей. На перроне же все обстояло иначе. Там никому бы и в голову не пришло затеять драку. И даже парень, поколотивший соперника в прошлое воскресенье и отбивший у него девушку, держался с противником как закадычный друг. Болтали, смеялись, откладывая объяснение до леса Киненье. «Не было случая, чтобы я пропустил поезд, — вспоминал теперь Гиконьо. — Прошло столько лет, кажется, ничего этого и не было. Любил потолкаться на людях. И все же самым счастливым днем в моей жизни был именно тот, когда я опоздал к поезду…» Гиконьо тогда плотничал в Табаи. Они с матерью были родом не из этих мест, но прижились прочно. И никто из табайцев не корил их, что они чужаки. В Табаи Гиконьо попал еще младенцем, привязанным к материнской спине. Мать пришла сюда из окрестностей Элбургона, городка в Рифт-Вэлли. Его отец Варухиу работал исполу на фермах европейцев, был трудолюбив, жил в достатке и потому отбоя не знал от женщин. Жен менял часто — они ему быстро приедались. Чтобы спровадить опостылевшую, Варухиу донимал ее колотушками. Но Вангари была упряма. В конце концов Варухиу просто выгнал ее из дому, обрек с младенцем на бродяжничество. Вангари не пала духом. «Не перевелись еще добрые люди на земле кикуйю, — сказала она себе. — Варухиу надеется, что я умру с голоду. Но в любой хижине, где есть ребенок, мне не откажут в чашке молока». И, кинув гневный взор в сторону дома Варухиу, она села в Элбургоне на поезд и уехала в Табаи. Когда пришло время, Вангари отдала сына в школу. Но окончить ее Гиконьо не удалось — вскоре матери нечем стало платить за ученье. По счастью, он освоил в школе навыки плотницкого ремесла, и это определило его судьбу. Работа пришлась ему по душе. Юноша самозабвенно водил рубанком по доске и при этом испытывал трепетный страх и изумление. Его пьянил аромат свежих стружек. Вскоре он научился по запаху безошибочно различать сорта древесины. Но он не хотел, чтобы люди думали, раз ему все дается легко, значит, и ремесло у него легкое. И всякий раз он разыгрывал перед заказчиком целое представление. Женщина принесет доску и первым делом спрашивает, что, мол, за дерево. Гиконьо повертит доску в руках, небрежно на нее взглянет и, отбросив в угол, на кучу обрезков, примется за прерванную работу. Женщина стоит в сторонке, любуется, как играют его мускулы. Некоторое время спустя он поднимает доску и упирает ее одним концом в верстак. Зажмурив левый глаз, смотрит прищуренным правым. Затем зажмурит правый и прищурит левый. Потом примется барабанить костяшкой указательного пальца по доске, словно изгоняя из дерева злых духов. Потом возьмет молоток, стукнет им — прислушается, стукнет — прислушается… Потом тщательно, по всем правилам ремесла, обнюхает доску и возвратит ее женщине, а сам — опять за работу. — Ну, что за дерево? Может, подо? — осмеливается спросить женщина, совершенно ошалев от всех этих постукиваний и обнюхиваний. — Подо? Гм. Ну-ка дай! — И снова нюхает доску, вертит ее в руках, многозначительно качает головой. Потом пустится в пространные объяснения, доказывая, что это никак не может быть подо. — Это камфорное дерево. Слышала про такое? Растет оно в горах Абердера и на склонах горы Кения. Отличная древесина. Недаром белые прибрали те земли к рукам, — негромко, но вразумительно говорит Гиконьо. Вся его мастерская — небольшой верстак, прилаженный к стене хижины. На закате дня сюда обычно приходила Вангари и принималась рыться в ворохе стружек, отыскивая щепки на растопку. — Эта палка тебе нужна? — спрашивала она с улыбкой. — Оставь, мама. Ты как увидишь доску — так сама не своя, сразу сжечь ее норовишь. А ведь она денег стоит. Никак вам, женщинам, не вдолбишь этого. — Эка невидаль! — подзадоривала его Вангари. Ей нравилось вот так, в шутку, препираться с сыном. — Ну ладно, бери. Но помни, это в последний раз. На следующий день все повторялось сначала. Иногда Вангари брала в руки пилу или рубанок и внимательно их разглядывала, точно это были волшебные предметы. Гиконьо не мог сдержать улыбки. — Из тебя, мама, вышел бы отличный плотник, ей-богу! — Что ни говори, а у НИХ головы не пустые. Видишь, как ловко придумали, чем дерево резать. — «ОНИ» — так Вангари всегда называла белых. — Лучше позаботься об ужине. А нашего ремесла женщине все равно не постичь. — Тебе нужна эта деревяшка? — Ох, мама, опять! Гиконьо лелеял заветную мечту и ни с кем ею не делился — приобрести для матери участок земли. Но нужна была куча денег. Ох, как он хотел разбогатеть! А еще Мумби. Желание стать богачом разгоралось в нем сильнее всякий раз, когда он видел эту девушку или думал о ней. Ее лицо, голос вызывали в нем мучительный трепет. Он хорошо знал, что сердце его вопиет в пустыне. Разве не ясно, что Мумби, первая на всю долину красавица, не снизойдет до нищего плотника, не поднесет ему калабаш со студеной водой, не скажет: «Пей, мой избранник!» Но Гиконьо терпения было не занимать, и работы он не боялся. Он шел к своей цели. Он исподтишка наблюдал за Мумби, когда она гуляла в поле среди цветущего гороха, кудрявых бобов и высокой кукурузы. Сколько раз Гиконьо собирался признаться ей в своем чувстве. Но при встрече отвага покидала его, и, лишь кивнув ей, он проходил мимо. Мбугуа, отец Мумби, был одним из самых почтенных старцев в долине. Его усадьба состояла из трех жилых хижин и двух кладовых, где никогда не переводилось зерно. Густые заросли ежевики, крапивы и колючего шиповника живой изгородью окружали его владения. В старом Табаи хижины стояли как придется на склоне зеленого холма. Их соломенные кровли утопали в буйной поросли кустарника. Кустарник никогда не расчищали, и бывали случаи, что дикие звери устраивали в нем логово. Мбугуа уважали все. Он был отважным воином и рачительным хозяином. Говорили, его имя повергало в трепет враждебные племена. Так было в старину, еще до того, как белый человек положил конец племенным войнам. Но и в мирные дни Мбугуа сохранил свое влияние. Когда на совете старейшин слушались тяжбы, его слово всегда было решающим. Ванджику, его единственная жена, до седых волос называла мужа «молодой воин». Эта крошечная женщина была полной противоположностью своему мужу-великану. Голос у нее был мягкий и добрый. В юности она часто пела на деревенских праздниках и именно голосом пленила сердце Мбугуа. Она родила ему двух сыновей — Кихику и Кариуки. Кариуки, последыш, был любимцем матери. А Мбугуа втайне отдавал предпочтение Кихике. Кихика рос храбрым и умел постоять за себя. Он пошел в отца. Кариуки боготворил старшего брата и не мог дождаться дня, когда вырастет, как Кихика, и получит право заигрывать с девушками, которые собирались по вечерам в их хижине. Кариуки отдали в школу Мангуа, одну из первых, построенных на крестьянские деньги. Он полюбил книги и сидел над ними допоздна при свете очага. Но подчас его усердие подвергалось серьезному испытанию. Юноши и девушки, ровесники старшего брата, отвлекали его шумными играми и веселыми побасенками, Кариуки был младший, и, если парии замечали, что он смеется какой-нибудь двусмысленной шутке, они грозились выставить его за дверь, Гиконьо, приходя в их дом, приносил Кариуки сласти и игрушки. И мальчик в нем души не чаял. Истории, которые рассказывал Гиконьо, Кариуки казались самыми смешными. Но Гиконьо день ото дня менялся. Он сделался мрачным, редко открывал рот, особенно в присутствии Мумби. Душой общества стал Каранджа. Теперь девушки хихикали над его шутками, порою не очень пристойными. Каранджа обладал способностью в любой истории и в любом происшествии выставить себя героем. И Кариуки невольно проникся к нему уважением, дивился его отваге, находчивости и уму. В дом, где есть хорошенькая девушка, гостей зазывать не приходится. Ванджику едва успевала припасать угощение. «Хижина, в которой растут дети, всегда полна людьми», — часто повторяла она. Когда являлись парни, Ванджику под тем или иным предлогом уходила из дому, но перед уходом напоминала Мумби: «Не забудь их покормить!» Мумби, как и все, по воскресеньям ходила на полустанок. Ее завораживал грохочущий поезд, она не могла оторвать от него глаз. Однако на танцах в лесу Киненье Мумби не бывала. Проводив поезд, она возвращалась домой. Порой в темных очах Мумби появлялось мечтательное выражение. Ей хотелось чего-то необычного, такого, чего в их деревне не сыщешь. Она грезила о жизни, полной любви, героизма, самоотвержения. Она впитывала легенды об отважных женщинах кикуйю, жертвовавших собой ради снасения других, о прекрасных девушках, отданных богам, чтобы вымолить у них дождь. Сидя над Ветхим заветом, она представляла себя Эсфирью — спасительницей обреченных. Волнение ее достигало предела, когда Эсфирь изобличала Амана перед царем Артаксерксом: «Враг и неприятель — этот злобный Аман!» Ей было приятно ловить на себе восхищенные взгляды мужчин. Смеясь, Мумби запрокидывала голову, и блики от костра играли на ее шее. У Гиконьо мутился разум. Говорили, что сын преподобного Джексона, Ричард, сватался к ней. Джексон был самым важным духовным лицом во всем Кихинго. Ходили слухи, что он собирается послать сына, кончившего тогда среднюю школу в Сириане, в университет в Уганду или, может быть, даже в Англию. Но самое удивительное, что Мумби сумела отказать Ричарду, не оскорбив при этом его достоинства. Они остались добрыми друзьями. Ричард украдкой удирал из дому в Табаи, чтобы повидать Мумби. А Гиконьо еще пуще робел: «Если уж такой парень ей нехорош, то мне и надеяться не на что». Он набрасывался на работу, чтобы отвлечься от мрачных дум. Мастерил скамейки для всей деревни, чинил посудные полки, вставлял оконные рамы, навешивал двери. Не гнушался и мелочами. Ему несли колченогие стулья с просьбой приделать недостающую ножку, платили за ремонт когда и сколько придется, и Гиконьо жаловался матери, что придется помирать ему бедняком. — Да будет тебе, — любовно журила его Вангари. — Ведь у них самих ни гроша за душой. Как-то вечером, управившись с заказом — весь день мастерил мебель для соседей-молодоженов, обещали заплатить в конце месяца, — Гиконьо взялся за гитару. У него была хорошая гитара, хоть и не новая. Индийский торговец взял за нее кучу денег… Он мягко перебирал струны и напевал вполголоса, подбирая недавно услышанную мелодию. Усталость исчезла. Садилось солнце, и длинные тени от домов и деревьев росли вширь и сливались. За спиной у него зашелестела стружка. Гиконьо вздрогнул. Обернувшись, он увидел Мумби. — Что же ты перестал играть? — улыбнулась она. — Какая тебе радость слушать, как я уродую песню? — Уж не поэтому ли ты вечно молчишь? — Глаза ее плутовато блестели. — А разве я молчу? — Тебе лучше знать. Пой, я заслушалась, так у тебя хорошо получается. — Ты бы других послушала. Жаль, ты не бываешь по воскресеньям на танцах… — Не бываю, а хорошего певца от плохого могу отличить. Не все такие гордецы, как ты. Каранджа ходит к нам, играет и поет для меня одной. Он играет, а я вяжу. Каранджа — замечательный гитарист! — Верно, гитарист он хороший, — буркнул Гиконьо. Мумби заметила, как он при этом тяжело вздохнул. Она посерьезнела. — Нет, правда. И ты прекрасно играешь. А главное — от души, для себя! — воскликнула она с неподдельной искренностью, и у Гиконьо отлегло от сердца. — Хочешь, и я как-нибудь зайду? — Ты сейчас сыграй, — попросила она ласково и настойчиво. Гиконьо растерялся. — Что ж, подпевай. Мне нравится твой голос, — сказал он, снова берясь за гитару. Он боялся, что она увидит, как у него дрожат руки. Взял несколько аккордов, стараясь успокоиться. Мумби терпеливо ждала. И тут к нему вернулась уверенность, все на свете стало нипочем. Мумби запела, и озноб пробежал у него по спине. Он вкладывал в игру всю душу. Ему казалось, что он бредет к ней в потемках, судорожно нащупывая дорогу. Пальцы бегали по струнам, и струны трепетали, как его сердце… Ему стало легко и радостно. И голос Мумби дрожал от страсти, вторя трепету струн. Она по-новому видела небо, землю, мастерскую, Табаи. Ведь они созданы друг для друга. Внезапно какая-то волна подняла ее ввысь, и Мумби увидела, как она бросает вызов стихиям, изнывает от жажды и голода в пустыне, противоборствует злым духам и, наконец, приносит своему народу долгожданное избавление. Песня кончилась. Плотная, теплая тишина опустилась на них. — Как прекрасно и спокойно вокруг! — нарушила молчание Мумби. — Так всегда бывает в сумерки. — Знаешь, я вдруг вспомнила, как Руфь подбирала колосья в поле… — Ты попадешь в рай. Всю Библию знаешь наизусть… — Не смейся, — продолжала она, нахмурив лоб. — Как ты думаешь, останется все таким же? Я говорю о земле… — Не знаю, Мумби. — Ему передалось ее восторженное настроение. — Есть одна песня… — Какая? Спой. — Наверное, ты ее слышала. Кажется, ее принес Кихика. Я запомнил только припев:.Гикуйю и Мумби,
Гикуйю и Мумби,
Гикуйю и Мумби,
Я сгорел от любви!
Наутро, едва рассвело, Гиконьо принялся за рукоятку для панги. Он выбирал подходящий кусок дерева, а на сердце было легко и спокойно. Работа всегда прогоняла мрачные думы. Стоило ему дотронуться до доски, и его охватывал жар созидания. Ну а от этого заказа зависит, быть может, вся его жизнь. Взяв в крепкие руки недавно купленный рубанок, он стал обстругивать шероховатый брусок. Он мерно водил рубанком по дереву и думал о Мумби, о ее легкой походке, о прикосновении ее рук. Завитки стружек падали на пол. Ему чудился ее голос, дыхание, и ее незримое присутствие учетверяло его силы. Он сделал рукоятку из дерева подо. Нужно выточить две половинки совершенно одинаковой формы. Потом просверлить отверстия — осторожно, чтобы не получилось трещин. Из-под сверла на верстак сыпались опилки. Вот и готово! Из толстой проволоки Гиконьо нарезал заклепки. Сложил половинки рукоятки вместе, молотком расплющил торчащие концы заклепок. Молоток так и мелькал в воздухе. В душе Гиконьо воцарился мир и уверенность в себе. Он ощущал прилив сил, легкость, свободу и радость бытия. Он сам отнесет заказ в воскресное утро. Но когда пришло воскресенье, сомнение охватило его. Он нашел изъяны в работе: ручка плохо отполирована и укреплена плохо. Старался, старался, а вышла самая обычная рукоятка. Такую любой сделает. И древесина никудышная. Сразу натрет руку. Ну и пусть. Что ему за дело до того, понравится ли его работа Мумби! Не угодит — не его вина. Сделал как мог, не нравится — пусть сама попробует или Каранджу попросит. А лучше всего, чтобы ее не оказалось дома. Но, уже ступив на узкую тропу, бегущую сквозь кустарник к усадьбе Мбугуа, он испугался — а вдруг и в самом деле не застанет ее? Работа потеряет всякий смысл, если он не услышит похвалы из уст Мумби. Мумби сидела на скамье у порога материнской хижины. Гиконьо приблизился к ней с напускной беспечностью. — Матушка дома? — небрежно спросил он, не замечая, что нетерпеливо переминается с ноги на ногу — так ему хотелось показать Мумби свою работу. — А зачем тебе мама? Или ты забыл, что она замужем? — В ее глазах прыгали озорные искорки. Гиконьо пропустил насмешку мимо ушей и постарался принять еще более серьезный и независимый вид. — Садись, — предложила Мумби и встала, уступая ему место. И вдруг заметила пангу. Подбежав, она выхватила нож у него из рук и застыла, залюбовавшись работой. Потом, пританцовывая, юркнула в хижину: — Мама! Мама! Посмотри! Теплая, сладкая волна затопила сердце Гиконьо. Он даже прослезился от радости. Не зря, значит, старался. Да за одну ее улыбку, за один взгляд он готов всему Табаи мастерить стулья, столы, полки, чипить прохудившиеся крыши! Бесплатно! Пусть он не разбогатеет, пусть умрет бедняком, лишь бы у него была Мумби… Он стоял в сладостном забытьи, упиваясь волшебными грезами. Но некстати явились Кихика с Каранджей. Гиконьо зло насупился. Теперь Мумби будет не до него. Пришлось вступить в общую беседу, которая скоро перешла на политику, на собирающуюся над страной бурю.
Что такое политика, Кихика узнал еще мальчишкой. Сидя у ног Варуи, он жадно внимал рассказам про то, как у черного человека отняли землю, как потом разразилась война, та самая вторая мировая война, и африканцев стали брать в армию сражаться против Гитлера на стороне англичан. Эта война была для них чужой. Варуи достаточно было и одного слушателя. Он охотно пускался в воспоминания. Рассказывал о Вайяки и других героях, которых еще в прошлом веке убили белые, потому что они хотели прогнать захватчиков с родной земли. Вспоминал Гарри Туку и расстрел демонстрации в двадцать третьем году. Говорил о миссионерских школах, которые подтачивали древние устои племени. И еще задолго до того, как впервые увидеть белого, сердце Кихики ожесточилось против этих людей. Возвращавшиеся с войны солдаты рассказывали о Бирме, Египте и Палестине, об Индии, о Махатме Ганди, под чьим руководством индийцы боролись против британского владычества. Кихика жадно ловил каждое слово. Его воображение и жизненный опыт сделали остальное. Еще юношей мечтал он о том, как поведет народ кикуйю к свободе и счастью. Сначала Кихику определили в Махигскую миссионерскую школу, неподалеку от Табаи. Сделали это по совету преподобного Джексона Кигонду. Джексон — его все называли просто по имени — был другом Мбугуа. Он частенько наведывался в Табаи и за неторопливой вечерпей беседой неизменно ухитрялся ввернуть словечко-другое о Христе, не теряя надежды склонить Мбугуа к христианской вере. «Нгаи, бог кикуйю, — тот же всевышний, послал нам Христа, сына своего, чтобы вывести нас из мрака к свету», — увещевал он друга, доказывая, что христианство имеет те же корни, что и вера отцов Мбугуа. Мбугуа внимательно выслушивал гостя, потом угощал его пивом и проповедовал свое: — После славной беседы не грех и горло промочить — вот что нам завещали отцы. Но Джексон лишь посмеивался и уходил, чтобы вернуться и продолжать нескончаемую игру слов и жестов. Он был низенький, худой, скулы туго обтянуты кожей, а глубокие глаза — словно кладези многовековой премудрости. Неизменный накрахмаленный пасторский воротничок. Сверкающую лысину прикрывала шляпа. На всех холмах вокруг Рунгея не сыскать было более авторитетного человека. Даже киама, деревенский совет старейшин, став в тупик перед какой-нибудь особенно путаной тяжбой, прибегал к его помощи. — Пусть преподобный отец скажет нам, что по этому поводу говорится в Священном писании и что он сам думает, — просили старейшины. Репутация Джексона долгие годы стояла недосягаемо высоко до тех самых пор, пока кто-то не занес в эти края учение «возрожденцев», призывающих народ публично каяться в грехах ради спасения души. Ересь потрясла холмы, как гроза. Говорили, что основал секту один белый миссионер в Руанде, и учение его в мгновение ока завоевало Уганду и Кению. Прошло всего несколько месяцев после введения чрезвычайного положения, как неожиданно для всех к секте примкнул Джексон. Он возглавил сектантов в Махиге. Во время молебствий он дрожал, как одержимый колотил себя в грудь и приговаривал: «Я нарекся христианином, нацепил белый воротничок и верил, что это спасет меня от геенны огненной. Суета сует и всяческая суета… Сердце мое открыто было гневу, гордыне, зависти, бесчестным и греховным вожделениям. Я водил дружбу с пьяницами и прелюбодеями. Я плутал во мраке, увязал в трясине порока. Я не знал бога, не видел света. Но в ночь на второе января 1953 года меня точно гром небесный поразил. „Боже! — завопил я. — Что мне делать, как спасти душу?“ И господь взял руки мои, и ощутил я следы гвоздей на ладонях его. И вновь я взмолился: „Омой меня кровью своей, господи!“ „Иди за мной, Джексон“, — услышал я в ответ…» Джексон покаянно вспоминал о том, как, поддавшись дьявольскому наущению, ел, пил и смеялся с грешниками, был слишком мягок с деревенскими старейшинами, упорствующими в язычестве, не дозволяя крови Христовой оросить иссохшую почву. Теперь он солдат армии Христа. В этом истина. А политика, стяжательство, богатство суть греховная скверна. «Мой дом на небесах! — восклицал Джексон. — На бренной земле я лишь странник!» Братья и сестры во Христе вскакивали с мест и с пением псалмов носились вокруг Джексона, по очереди запечатлевая поцелуи на его священном челе. В знак уничижения и сердечной скорби Джексон срывал с себя воротничок и шляпу. Неизвестно почему, но секта «возрожденцев» не была запрещена указом о чрезвычайном положении и даже пользовалась покровительством англичан. Скоро Джексону было поручено ее рунгейское отделение. И одним из первых, кого убили в Рунгее, тоже был Джексон. Его нашли на рассвете, изрубленным пангой. На месте дома чернело пепелище. К счастью, жена пастора и младшие дети были в отъезде, а Ричард к тому времени уже учился в Англии. Весть о гибели Джексона повергла в ужас жителей Табаи и окрестных холмов. Несколько дней назад подобным же образом был убит директор школы Муниу, тоже входивший в секту и известный своими связями с полицией. «Кто же станет следующей жертвой мау-мау?» — гадали люди. А сектанты возносили хвалу господу и твердили, что смерть Джексона и Муниу угодна Христу и такой участи можно только позавидовать… Но в те дни, когда Кихика еще бегал в школу, никто и представить не мог грядущей смуты. Мальчику открывалось великое таинство печатного слова. Непременной частью обучения были уроки закона божьего. Их вел сам директор школы. Там Кихика услышал притчу о Моисее. Как только Кихика выучился читать, он раздобыл Библию и чуть ли не на зубок затвердил историю пророка. Он с жаром пересказывал ее Мумби, друзьям, взрослым. Однако вскоре двери школы закрылись для него. Однажды на уроке Муниу заговорил об обрезании девочек и сказал, что это языческий обычай. — Христианам это делать строго-настрого запрещается! — Простите, сэр! — В чем дело, Кихика? Мальчик поднялся, дрожа от волнения. Перебить учителя уже само по себе было дерзостью, на которую не отважился бы ни один озорник. Но остро развитое чувство справедливости оказалось сильнее страха, и Кихика выпалил: — Это неправда, сэр! — Что?! Наступила такая тишина, что даже самому Муниу стало не по себе. Многие ребятишки закрыли лицо руками, опасаясь, что гнев учителя обрушится и на них. — Это выдумали белые, в Библии такого запрета нет. — Садись, Кихика. Кихика сел, до боли в пальцах вцепился в скамью. Он уже раскаивался в своем порыве. Директор тем временем взял в руки Библию и, предложив ученикам отыскать стих из Послания св. Павла Коринфянам, с Торжествующим видом начал было читать, но вдруг сообразил, что допустил ошибку. В Послании не только не было осуждения обряда, но и вообще не говорилось о женщинах. Муниу захлопнул Библию, но было поздно — Кихика понял, что одержал верх. Одноклассники исподтишка бросали на нее восхищенные взгляды, тайно радуясь посрамлению учителя. Муниу принялся путано толковать процитированное место, а потом внезапно объявил, что урок окончен. Кихика пожинал лавры. Мальчишки горячо обсуждали происшествие, гадая, как поступит директор. В понедельник все шло, как обычно. Но утром во вторник Муниу собрал всех школьников и учителей в церкви. Дрожащим от возмущения голосом он заговорил о святотатстве и надругательстве над Священным писанием. — Кто дал нам право оспаривать слово божие? Его густой бас грозно гудел под высокими сводами. Он сообщил, что обсуждал воскресное происшествие с членами приходского совета и решено дать маленькому богохульнику последнюю возможность спасти свою грешную душу. Ради его же блага и в назидание другим мальчишкам он будет подвергнут публичной порке. Он получит десять розог. Затем Кихика должен будет попросить прощения, а также при всех отречься от своих слов. В церкви наступила мертвая тишина. Муниу подозвал одного из учителей и велел взять с алтаря лежавшие на виду у всех розги. — Встань, Кихика! Впервые Муниу назвал его по имени. До сих пор он избегал этого, говоря о «некоем ученике». Однокашники, еще недавно гордившиеся Кихикой, теперь взирали на него с осуждением, словно желая отмежеваться от преступника. — Подойди сюда! Он еще не двинулся с места, а другие торопливо расступились, освобождая ему проход. Ноги к земле приросли. Мир перевернулся. — Тебе говорят, подойди сюда! Он чуть шелохнулся, поднял глаза к потолку, перевел их на учителя, разом охватил взглядом алтарь и розги. И неожиданно для всех вскочил на скамью, перепрыгнул на другую и с нее в окно. Он бежал до самого дома не переводя дыхания, а добежав, повадился на пол, заплакал и забился в судорогах. — Лучше я буду помогать тебе в поле, — сказал он отцу, когда тот предложил подыскать другую школу. Воспоминание о Махиге, о Муниу еще долго жгло его стыдом и болью. Кихика по-прежнему много читал, сам выучился писать на английском и суахили. Когда кончилась война, он ушел на заработки в Найроби, стал посещать митинги, узнал о существовании партии. Жизнь Кихики приобрела смысл… — Вы спрашиваете, что делать, — горячо наседал на друзей Кихика. — Я отвечу: действовать! Слишком долго языком мололи. — А что нам остается? — возразил Каранджа, поглядывая то на Кихику, то на Мумби. — У них пушки и бомбы. Даже Гитлер с ними не совладал. Есть лишь одна страна, которую англичане боятся, — Россия. — Главное — единство! — взволнованно произнес Кихика. — Вспомните про Индию. Англичане владычествовали в ней сотни лет. Грабили, пили кровь народа. И плевать им было на трескотню бунтарей-одиночек. Но вот появился Ганди. Прежде всего он изучил повадки белых Потом пошел к людям, сплотил народ, и никаким оружием его нельзябыло одолеть. «Мы требуем свободы!» — в один голос сказал народ. Сначала англичане посмеивались, а потом чуть не подавились этим смехом — дело оборачивалось серьезно. Тираны заточили Ганди в тюрьму. Но оковы не сломили его дух. Англичане тысячами расстреливали людей, тысячами бросали за решетку… Но мужчины, женщины и дети ложились на рельсы… Кровь, как река в половодье, затопила всю Индию. Но не заглушить голоса крови народной, взывающей к свободе! Так до каких же пор будут лить слезы вдовы и сироты на нашей земле? Эти слова и срывающийся от волнения голос Кихики заворожили молодежь. В воображении Мумби вставали героические картины прошлого. Романтика великомученического самопожертвования влекла и волновала ее. Но упоминание о бросавшихся под поезд людей заставило девушку содрогнуться. Ее представлению о самоотречении и подвижничестве больше отвечали страдания Христа в Гефсиманском саду. — Представить трудно! Мама, папа, братья бросаются под поезд!.. — невольно вскрикнула она. — Женщины трусливы, — улыбнулся Каранджа. — Да ты бы первый струсил, — огрызнулась Мумби. Каранджа только насупился, ничего не ответил. — «Несите крест свой», — сказал Христос народу, — продолжал Кихика, немного поостыв. — «Если кто хочет идти за мною, отрекись от себя и возьми крест свой и следуй за мной; ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее: а кто потеряет душу свою ради меня, сбережет ее…» Знаете, почему Ганди добился успеха? Он научил народ служить матери-родине. Послужим же и мы нашей матери-Кении. Гиконьо с трудом поспевал за ходом его мыслей, но голос Кихики и блеск в его глазах тронули плотника до глубины души. — Да я бы от одного вида крови обмерла! — не успокаивалась Мумби. Кихика повернулся к ней: — Мы должны воспитывать в себе твердость и мужество! — Но как объединить народ? — Гиконьо теперь тоже хотелось принять участие в разговоре. Но Ванджику подала чай. Подошли две подруги Мумби. — Совсем как англичане: чаепитие на свежем воздухе! — съязвила Бамбуку. — А чем мы не англичане — разве что кожа черная, — ответил Каранджа, подражая английскому выговору. Все рассмеялись. — Похоже, — снисходительно похвалила его Нжери. Они с Вамбуку недолюбливали Каранджу и часто поддразнивали Мумби его ухаживаниями. Девушкам тоже налили чаю. Нжери сразу заметила, как Кихика подсел к Вамбуку, заулыбался и стал рассказывать ей что-то смешное. Он всегда выбирал Бамбуку на танцах, и их часто видели вдвоем. Каранджа глаз не спускал с Мумби. Гиконьо исподтишка следил, улыбается ли она Карандже так, как улыбалась ему. О Нжери все забыли. Но она умела развлечь себя и с упоением наблюдала за соперничеством между Каранджей и Гиконьо. Гиконьо попробовал было заговорить с нею, она даже отмахнулась… Доплетя последнюю косичку, Мумби отправилась переодеваться. Нжери поднялась первой и не спеша побрела вверх по склону холма. Скоро они услышали ее крик: — Поезд! Поезд! А она уже стрелой мчалась вниз, крича на ходу: — Эй, к поезду опоздали! Теперь и они услышали нарастающий шум поезда, Вамбуку, вскочив с места, ухватила Кихику за руку и потащила за собой. Кихика, невысокий, хрупкий, с печальным лицом, еле поспевал за нею. Каранджа и Гиконьо замешкались — каждый надеялся, что соперник уйдет первым. Вид у них был комичный. При первом крике Нжери оба вскочили с места и, точно по команде, принялись вертеть головами то в сторону хижины, то вслед бегущим. Наконец на пороге появилась Мумби, на ходу затягивая поясок на тонкой талии. «Эй, косынку забыла!» — позвала из хижины Ванджику, и Мумби пришлось вернуться. Каранджа и Гиконьо только делали вид, что страшно торопятся, а сами не двигались с места. — Бежим! — Мумби юркнула мимо них. Гиконьо ринулся за ней. Каранджа бежал последним. Стук колес кисумского поезда подстегивал их: скорее, скорее, скорее! От дома Мумби к полустанку вела тропинка, нырявшая посредине пути в большой перелесок. Кихика и Бамбуку уже скрылись за деревьями. Вскоре Каранджа обогнал плотника. Гиконьо бежал из последних сил. Между тем Каранджа обошел Мумби и понесся дальше, заранее торжествуя победу над соперником. У Гиконьо заныло сердце при мысли о грозящем унижении, и, сделав рывок, он опередил Мумби. Он тяжело дышал. Ясно, теперь ему нипочем не догнать Каранджу. Внезапно Мумби остановилась. Гиконьо услышал, что его зовут. Он замедлил бег, поджидая, пока она поравняется с ним. — Я устала. — Бежим, бежим, к поезду опоздаем. — Ну и что, умрешь что ли, если разок на него не посмотришь? Гиконьо недоумевал, что это она вдруг? — Не хочется мне туда, — прибавила Мумби уже не так сердито. Они пошли рядом. Гиконьо все еще досадовал, что так позорно отстал. Но за первыми деревьями перелеска досада исчезла. Только тут он понял, что остался с Мумби наедине, а ведь она-то и была главным призом в этой гонке. У него отнялся язык. Он молил бога, чтобы девушка не услышала, как стучит его сердце. Мумби прислонилась к дереву. Гиконьо снова увидел смешинки в ее глазах. В густой сени леса было прохладно, в высокой траве горели цветы, гибкие Ветви деревьев свисали до самой земли. — Мама очень довольна твоей работой, — сказала Мумби. — Пустяки. — Совсем не пустяки! — Работа нетрудная, одно удовольствие! — И это тоже не пустяк! — рассмеялась она, и на щеках у нее появились ямочки. Ее переливчатый смех отозвался в нем сладкой дрожью. — Завидую я тебе. Хорошо быть плотником, делать нужные и красивые вещи. — Ты умеешь вязать. — Тоже сравнил! Я видела тебя за работой, и мне казалось, что ты говоришь со своими инструментами, как с живыми. — Давай побродим по лесу, — предложил Гиконьо. Голос едва не подвел его. Тропинка привела их на лужайку. Зеленая трава доходила до пояса. Гиконьо остановился и, подчиняясь неведомой силе, влекущей их друг к другу, повернулся к Мумби, взял ее за руки. — Мумби, Мумби!.. Она прильнула к его груди. Лес притих, слушая, как стучат их сердца. Трепетная дрожь охватила Мумби, и кровь Гиконьо закипела радостью и страхом. Медленно опустились они на землю, и высокая трава кигомбе сомкнулась над ними. Мумби прерывисто дышала, молча и покорно подчиняясь его рукам. Ничего не сознавая, словно следуя таинственному велению леса, Гиконьо сорвал с нее одежду, и ее тело засверкало в солнечных бликах. В глазах ее были нежность и необузданность, кротость и вызов. Гиконьо тронул ее волосы, провел рукой по груди. Она не сопротивлялась, отдаваясь его ласкам. Она прижалась к нему, их дыхание слилось, и земля закружилась и замерла под ними. Ни толпа на платформе, ни поезд не радовали Каранджу. Он вдруг почувствовал усталость и голод. Мечты, охватывавшие его, когда рядом была Мумби, исчезли. Тщетно его глаза искали ее в бурлящей толпе. Как и обычно, девушки оделись наряднее парней. По платьям можно было определить, кто с какого холма. В Ндейе и на дальних холмах считались модными ярко-голубые, зеленые и желтые ситцевые платья, открывавшие левое плечо, а на правом схваченные сложным узлом в виде цветка. Узенькие пояски едва не лопались на широких талиях, а концы их болтались из стороны в сторону, когда девушки прогуливались по платформе. Девушки из Табаи, Кихинго и Нгеки носили полотняные платья — года два-три назад такие были в моде в Найроби. А юноши были все больше в старье, которым торговали в рунгейских лавчонках. Штаны мешком, на коленях дыры, потертые пиджаки с чужого плеча. Но все это нисколько не смущало парней, важно расхаживающих по перрону. Каранджа стоял в стороне от этой колышущейся массы. Он не мог прийти в себя от горького изумления. Вот уж кого он никогда не принимал всерьез, Гиконьо, болван, туповатый, к девушкам и подступиться не умеет. А поди ж ты, эта скотина, а не он, Каранджа, сейчас с Мумби в лесу. Его душила ревность и бессильная злоба. А Мумби тоже хороша, обвела его вокруг пальца! Он весь взмок, пока бежал, — для нее старался. А она осталась в лесу с Гиконьо. Может, сбегать отыскать их, опозорить Мумби при всем народе, пусть у него в ногах поваляется?.. Он направился к выходу, просто так, без всякого плана, не зная, как именно поступит, но остановился, размышляя, бежать ему или идти шагом, словно от этого все зависело. А что, если он найдет ее в объятиях Гиконьо? Нет, этого и в мыслях допустить невозможно! Каранджа зло выругался, но жуткая картина не шла из головы. «Кто угодно, только не этот плотник!» — вздрогнув, взмолился Каранджа. Нет, в самом деле, надо же вообразить такое!.. Скорее небо упадет на землю, разверзнется бездна и начнется светопреставление. Он старался сдержать дрожь, уговаривал себя, что между Мумби и Гиконьо ничего и быть не может. Он уцепился за эту мысль, как утопающий за соломинку. И сам хорош — до сих пор не объяснился с Мумби!.. На губах Каранджи появилась обычная самоуверенная улыбка, но беспокойство не покидало его. Он направился к группе парней, сгрудившихся вокруг Кихики. Мимо прохаживались пары, и вид беззаботно веселящихся людей снова напомнил Карандже о Мумби. Резкий гудок, поезд тронулся. У Каранджи все поплыло перед глазами. Гудок точно вспорол ему кожу, а колеса с лязгом переехали его. Поезд уже скрылся из виду, а наваждение не проходило. Каранджа стоял на краю перрона, бессмысленно глядя вслед поезду. Потом он готов был поклясться, что ему все это не показалось, а было на самом деле; рельсы, толпа на платформе, рунгейские лавчонки, долина — все пошло кругом, быстрее, быстрее, а потом вдруг резко остановилось. Люди смолкли. Никто не шелохнулся, не издал ни звука. И вот все снова пришло в движение. Люди в страхе кинулись врассыпную. Казалось, земля вот-вот разверзнется у них под ногами. Мужчины сбивали с ног женщин, матери побросали детей. На платформе остались только беспомощные калеки. Никому не было дела до других, каждый спасал свою душу. Видение было столь явственным, что Карандже даже в голову не пришло усомниться в его реальности. «Надо уносить отсюда ноги!» — повторял он себе, но не двигался с места. Чего он ждет? Другие же не постеснялись удрать, побросав детей, стариков и увечных… Кто-то успел подхватить Каранджу, прежде чем он рухнул на каменистую насыпь. — Что с тобой, парень? Хватил лишнего? — Не… не знаю, — ответил Каранджа, словно очнувшись от бредового сна и протирая кулаком глава. — Голова закружилась. — Солнце напекло. Это бывает. Пойди-ка сядь в тень, и все пройдет. — Да мне уже лучше, — натянуто улыбнулся Каранджа и поплелся к приятелям, толпившимся вокруг Кихики. Никто из них не заметил, что с ним произошло. Когда он подошел, Кихика горячо говорил о Христе. — …Борьба за свободу не увенчается успехом, пока не явится такой, как он. Как было в Индии? Махатма Ганди добился освобождения народа ценою собственной жизни. Каранджа, еще не совсем пришедший в себя, внезапно рассвирепел. — Сейчас ты говоришь одно, через час — другое. Утром ты толковал, что Христос ничего не добился, а теперь утверждаешь, что нам нужен такой человек. Может, ты записался в секту «возрожденцев»? Недоверие, да еще высказанное столь пренебрежительно, задело Кихику. Он даже растерялся, не понимая, чем вызван этот внезапный наскок, Слушатели навострили уши: виданное ли дело, чтобы Кихика смутился! Но тот уже справился с собой. — Да, я действительно так сказал, потому что с его смертью ничего не изменилось, народ не сплотился вокруг креста, на котором его распяли. У каждого угнетенного народа свой крест. Древние иудеи не захотели нести его, и их раскидало по миру, как пыль по ветру. Смерть Христа не облегчила участи детей израилевых… Кения нуждается в переменах, это потребует жертв. Прежде всего нужно объединить народ. Один за всех, все за одного! Нужно дать клятву верности друг другу, и тогда нам удастся изменить судьбы Кении… Разговор о политике прекратился сам собою, когда к молодым людям подошли Нжери, Бамбуку и еще несколько девушек. С лиц юношей исчезла сосредоточенность, уступив место улыбкам. Но слова Кихики многим запали в душу. Только Каранджа и Кихика сохраняли серьезность, хотя и по разным причинам. Весь путь до леса оба прошли молча и старались не глядеть друг на друга. В лесу Кинеиье было тихо и прохладно. Веселая гурьба хлынула на поляну. Лес ожил, наполнился смехом и звонкими голосами. Кто-то сунул Карандже гитару. «Играй!» — хором потребовали девушки. Каранджа признавал только свой инструмент, но тут и чужая гитара зазвучала в его руках. Остальные сразу же пустились в пляс. Первые несколько мелодий музыканту полагалось исполнять бесплатно. Кихика кружился в паре с Бамбуку. Разгоряченная звучными аккордами, она прижалась к нему, откинув назад голову, и глаза у нее блестели. Кихика чувствовал, как вздымается ее высокая грудь, и стычка с Каранджей потускнела в памяти, показалась смешной и незначительной. А Каранджа глядел на них и думал о Мумби. Он вспоминал, как играл для нее одной. И сегодня он так хотел, чтобы она услышала его игру! Сердце колотилось, пальцы трепетно бегали по струнам. Пусть его зов полетит над лесом, достигнет деревни, пусть услышит его Мумби. Каранджа играл в другой манере, нежели Гиконьо. Тот накидывался на инструмент с мрачной свирепостью, точно одержимый, и в игре его была какая-то грубая сила. У Каранджи гитара звучала мягче, напевнее, она слушалась его, как рубанок — плотника. Кто-то из парней позвал Нжери танцевать, но она отказалась, рассеянно покачав головою. Взгляд ее неотступно следовал за Кихикой и Бамбуку, кружившимися между стволов. Под ногами танцующих шелестели опавшие листья. Казалось, что и могучие деревья раскачиваются в такт музыке. В песне Каранджи звенела страстная тоска, и люди и деревья были околдованы ею. А он мечтал лишь об одном, чтобы Мумби услыхала обращенный к ней призыв. Она не сможет устоять, она пойдет за ним на край света. Что у нее общего с этим простаком плотником? И еще сильнее защемило сердце. Каранджа резко оборвал игру, и на поляну упала тишина. Но лишь на мгновение. Затем раздались хлопки и одобрительные возгласы. Кихика и Бамбуку укрылись от буйной ватаги танцующих, от острых глаз Нжери на освещенной солнцем прогалине. Склон горы порос акацией. Внизу раскинулась долина, уходившая далеко-далеко, до самой гряды невысоких гор. Справа вставал силуэт крепости в Махи. «Вот меч, занесенный над каждой хижиной и над всей страной, — думал Кихика. — Власть белого держится на штыках. Но ей придет конец, придет!» Когда он думал об этом, в глазах у него загорелось пламя и боль подступала к сердцу. Он словно позабыл о девушке. Потом, опомнившись, взял ее за руку, прислушался к ее дыханию. Пусть и она посмотрит на Махи, на Рифт-Вэлли. Как прекрасна и несчастна их родина! — Железная дорога! По ней белый проник в самое сердце Кении, — задумчиво произнес он, указывая на извивающуюся по склону ленту дороги. — Вечно у тебя политика на уме! — нетерпеливо воскликнула Бамбуку, в голосе ее звучали досада и страсть. Бамбуку была некрасивая. Но стоило ей улыбнуться, как она преображалась, точно внутренний огонь озарял ее лицо. Зрачки расширялись, полураскрытые губы и смуглые щеки манили к себе. Девушка умела радоваться каждому дню, с жадностью предавалась удовольствиям, которые дарила ей жизнь. Ей нравился Кихика, но он всегда был так поглощен своими мыслями… Когда они оставались вдвоем, она ждала, что он наконец выскажет ей то, в чем никак не решался признаться. Этот юноша был одержим какой-то идеей. Бамбуку полагала, что злой дух отнимает у нее Кихику. Она смело бросала ему вызов, но ей было бы легче, если б злой дух принял обличье соперницы. Трудно воевать с таинственной и бесплотной идеей! — Это не политика, Вамбуку. Это сама жизнь. Мужчина не может позволить, чтобы его лишили земли и свободы. Жить рабом… — Голос Кихики исказился от боли. Он говорил так, словно пытался убедить себя в чем-то. Девушка со злостью высвободила руку из его руки. — Но ведь у тебя есть земля! И земля Мбугуа тоже достанется тебе. А Рифт-Вэлли и раньше не принадлежала нашему племени. Разве нет? — Отцовские десять акров! Да разве о них речь! Вся страна должна принадлежать нам. Неправ был Каин. Да, я сторож брату своему! Неважно, украли землю у кикуйю, у укаби или же у нанди. Главное, что украли! Хороша справедливость! У каждого белого поселенца сотни и сотни акров. А черные батрачат на них, поливают потом кофе, чай, сизаль, пшеницу — да и пот-то весь высох, — а получают жалкие десять шиллингов в месяц! Кихика размахивал руками, точно ораторствовал перед большой толпой. Вамбуку решила, что настал момент разделаться со злым духом. Она нежно пожала руку Кихики. Тот удивленно поглядел на нее. Но она промолчала, не найдя слов, чтобы открыть ему, что у нее на сердце. — Не надо больше об этом, — попросила она, поняв, что вновь потерпела поражение. А Кихика с восторженным пылом ответил на ее пожатие. Он был уверен, что обрел родственную душу, способную поддержать и ободрить его. Ему хотелось сказать девушке слова признательности. В ее пожатии заключалась вера в него, в его идеи, готовность следовать за ним. — Не бросай меня. Скажи, что ты меня не покинешь, — шептала она в отчаянии. — Никогда! — взволнованно воскликнул Кихика. Он представил себе, как они заживут с Вамбуку в мире и согласии. А когда настанет время, его любящая жена встанет рядом с ним… Вамбуку пришла в восторг, услыхав ответ Кихики. Теперь злой дух оставит его, и он будет таким, как все. Рука об руку они вернулись на поляну к танцующим. Их лица были озарены счастьем, только каждый понимал его по-своему… Этот день не изгладился из памяти Гиконьо. Почти разуверившись, что когда-нибудь вернется из лагеря домой, он ежечасно воскрешал в памяти подробности той сцены в лесу, ставшей для него священной легендой о давным-давно минувшем. — Я точно родился заново, — рассказывал он Муго негромким голосом, медленно подбирая слова. Огонь в очаге погас, и лишь тускло посвечивали угли. Керосиновая лампа коптила неровным, мерцающим светом, не позволяющим разглядеть лица собеседника. Стены хижины тонули во мраке. — Я знал женщин и до нее, но не таких. — Он замолчал, не найдя больше слов, медленно поднял руку, пошарил в воздухе судорожно растопыренной пятерней и снова опустил ее на колени. — Я был пустое место, ничтожество. А тогда почувствовал себя мужчиной. Мы поженились. Нас скоро разлучили. Но пока мы были вместе, Мумби научила меня во всем видеть смысл. Внезапно я понял, что такое счастье. Каждый день я открывал в Мумби что-то новое. Знаешь, ну как бы это сказать, вот ствол банановой пальмы… один слой коры снимаешь, а под ним другой… Вангари, мать Гиконьо, радовалась счастью сына. Мумби для нее стала дочерью, они понимали друг друга с полуслова, делились горем и радостью. Вместе работали в поле, вместе ходили на реку за водой, стряпали на одном очаге. Старая женщина привязалась к невестке. Обе поглядывали в сторону мастерской, прислушивались к песне плотника, к вторившему ей свисту рубанка, и радость переполняла их. Но вскоре они стали замечать, что Гиконьо переменился. Об этом же говорили и соседи. Лицо его стало жестче, в песнях звучал какой-то вызов, открытая жажда мести. Белый человек, прогнавший племя кикуйю с родной земли, берегись! Каранджа, Кихика и другие мужчины стали часто собираться в мастерской. Они пели песни, печальные и веселые, рассказывали забавные истории, но даже смеялись они теперь как-то иначе. Они реже ходили к поезду, а вместо танцев устраивали в лесу сходки. Мужчины что-то замышляли. По ночам они собирались в укромных местах, подолгу шептались, а расходясь по домам, задиристо смеялись и распевали воинственные песни. В сердца женщин закралась тревога. Не правились им эти песни, они боялись за своих детей. Над деревней нависло томительное ожидание. И вот настала ночь, когда грянул гром. Джомо Кениата и другие вожаки были арестованы, и губернатор Баринг объявил в стране чрезвычайное положение.
Мумби стояла в дверях хижины, задумчиво глядя на долину. Кустарник на склоне холма разросся, только по вьющемуся над хижинами кудрявому дымку можно было догадаться, что это обжитая земля, а не дикие заросли. Садилось солнце. Легкий ветерок шелестел сухими листьями в плетеной изгороди. Тогда она и увидела брата. Кариуки шел по полю к их хижине. В груди у Мумби потеплело от нежности к мальчику. Кариуки был ее любимцем. До замужества она просыпалась раньше всех, чтобы приготовить ему чай и проводить в школу; сама стирала и гладила ему одежду. Старший брат, Кихика, был для нее воплощением ума и силы. Она восхищалась им, но и побаивалась его. А всю свою нежность отдавала Кариуки. Они часто отправлялись гулять вдвоем, и Мумби внимательно слушала рассказы мальчика о школе, о приятелях. А когда Кариуки строил рожицы, передразнивая знакомых, Мумби, словно его ровесница, заливалась смехом. Кариуки подошел ближе, и Мумби встревожилась — таким озабоченным было у него лицо. Свет в глазах погас, и она вся замерла в ожидании дурных вестей. — Что, Кариуки? Что? Дома несчастье? — Где Гиконьо? — Он пропустил ее вопрос мимо ушей и упорно отводил глаза. — Его нет дома. Что случилось? Почему у тебя такой вид? — Ничего особенного. Отец просит, чтобы вы с Гиконьо пришли. Он все прятал от нее глаза и старался говорить спокойно и неторопливо, но голос его упал до еле слышного шепота. Мумби увидела, что он плачет. — О Мумби! Кихика… Кихика ушел в лес к партизанам, — глотая слезы, выпалил Кариуки и бросился сестре на шею. Мумби крепко прижала мальчика к себе. Земля поплыла под ногами. Но это длилось мгновение. Она подняла голову. Внизу все так же мирно дремала долина. — Что же теперь будет? — вздохнула Мумби. Выло уже совсем темно, когда Вамбуку и Нжери вышли из хижины Мбугуа. Сначала обе молчали, занятые каждая своими мыслями. Бамбуку не могла забыть, как онемело слушал ее старик. Лишь когда она кончила, он поднял глаза. — Значит, он сказал, что его место в лесу? — Да. — Втемяшилось ему в голову! Словно у меня земли мало. Хватило б и ему, и детям его, и детям его детей… Мумби, как могла, утешала отца. — После ареста Джомо все переменилось. Народные вожаки схвачены. Неизвестно даже, куда их увезли. Ты же знаешь, Кихика возглавлял партийную ячейку. Рано или поздно белые пронюхали бы об этом. Он должен был выбрать между тюрьмой и лесом. — Да поможет ему господь! — воскликнул Мбугуа. Ванджику кивнула, одобряя слова мужа. В хижине Вамбуку сдерживалась, но теперь дала волю слезам. Вспыхнув, она сказала с горечью: — Это все злой дух! — Ты пойдешь к Кихике? — спросила Нжери. — Ни за что! — Ее отчаянный крик вспорол темноту. — Я плакала, умоляла его остаться, но он вырвался из моих рук и ушел. Он и зашел-то, только чтобы проститься. Ведь клялся, что никогда не бросит… И все же ушел! Он просил ждать… — Ты любишь его? — спросила Нжери, и в ее голосе послышались осуждение и оттенок превосходства. — Люблю… Вернее, любила… Никого к себе не подпускала… Ночи напролет о нем думала. Я хотела спасти его. Это он с виду уверенный и сильный, но я-то знаю, что он слабый и беззащитный, как дитя. — Никогда ты его не любила! Просто спала с ним! — вдруг со злостью закричала Нжери. Бамбуку опешила. — Ты что, в душу мне заглянуть можешь? — Ты и сама-то не знаешь, что у тебя на душе! — Ревнуешь! — К тебе? И они расстались, не сказав больше друг другу ни слова. В стройной и тоненькой Нжери таился железный характер и чувствовалась внутренняя сила. Она презирала женщин за их ветреность и слезливость. Когда на танцах в Киненье возникали драки, Нжери отстаивала честь своего холма наравне с мужчинами. Парни побаивались ее, зная, что Нжери сумеет за себя постоять. У порога своей хижины девушка остановилась, вглядываясь в темноту, туда, где лежал лес Киненье. — Он там, — сказала она шепотом, и с ее губ слетели проникновенные слова, обращенные к Кихике. — Мой воин! Она не любит тебя. Не любит… — Нжери шагнула навстречу ночи, вверяя ей признание в вечной преданности любимому. — Я приду к тебе, мой славный воин, приду! — крикнула она и бросилась в дом. Ее била дрожь. Она дала Кихике клятву, которую нельзя взять обратно. У Гиконьо появилась тайна, и он делился ею только с Мумби. Со стороны казалось, что все идет по-прежнему. Днем он возился в мастерской, по вечерам приходили старые приятели, сотрясали воздух ругательствами и проклятьями, с гордостью говорили о смельчаках, которые уходили в лес, к Кихике, — чуть не каждый день из деревни исчезал то один, то другой. Вангари и Мумби стали замечать, что руки у плотника дрожат, когда он водит по доске рубанком. Вангари догадывалась о причине и тряслась от страха за сына. Но чем тогда объяснить блеск в его глазах и веселый голос? Неужели даже выстрелы пушки и рожок в шесть вечера, загоняющий людей по домам, не задевают его гордости, его мужского достоинства? Только Мумби знала. Потому что от нее Гиконьо ничего не скрывал, в ее объятиях он черпал силы. Ее нежность и сочувствие спасали его от отчаяния и возвращали к жизни. Она не хотела отпускать его из деревни и в то же время презирала себя за малодушие. Англичане хватали мужчин подряд, без разбору и отправляли в концлагеря. Для внешнего мира это были «места превентивного заключения». Опустел перрон и полустанок. Девушки чахли в разлуке, моля бога, чтобы женихи скорее вернулись из леса или из лагеря. Настал день, когда белый постучал в двери Мумби. Она знала, что этот день придет неизбежно, как смерть, что она перед ним бессильна, и когда уводили мужа, из груди ее вырвался крик, заставивший людей содрогнуться: «Гиконьо, возвращайся!» Это был даже не крик, вопль ужаса. Люди оцепенели от страха и отчаяния. Вечером пронесся слух, что белые «миротворцы» убили сына Старухи, глухонемого Гитого. Пролилась кровь. Но тогда еще жителям Табаи было невдомек, что не зря, что в этом заложен великий смысл и начало великих дел. Гиконьо не боялся лагерей. Он был уверен, что все это не надолго, что все вернется — родной дом, любовь Мумби… Джомо выиграет процесс. Ведь защищать его приехали адвокаты даже из страны белого человека и из Индии, страны Ганди. День избавления не за горами. Гиконьо придет домой, свяжет оборванную нить жизни, привычной и безмятежной, и на земле настанет мир и изобилие. Гиконьо хотелось сказать это матери и Мумби, когда солдаты вели его к грузовику. Что бы ни предпринимал белый человек, неотвратимо наступит день, когда вернутся в Табаи мужчины из леса и лагерей и звонкая песня вновь обретенной свободы понесется над землей.
Нить жизни! Прошло шесть лет, прежде чем он вырвался из неволи, но, шагая по пыльной дороге к Табаи, Гиконьо по-прежнему верил, что ему удастся связать ее обрывки. Он надвигал поглубже подобранную на обочине шляпу, чтобы люди не видели, как обкорнали его в лагере. И зря — шляпа была дырявая. С сутулых плеч свисал латаный пиджак. Когда-то он был светлый, но давно вытерся и порыжел. И лицо, шесть лет назад сверкавшее молодостью, потускнело под тонкой сетью морщинок, отчего казалось хмурым и раздраженным. Неровная, вся в кочках, земля убегала по склону холма. По сторонам едва зазеленели хилые побеги, с трудом оправляясь после засухи, недавно поразившей страну и оставившей след на сумрачных лицах матерей. Но Гиконьо не замечал угрюмой скудости земли и все прибавлял шагу, подстегиваемый думой о Мумби, которая дожидается его дома. В груди его вновь проснулись чувства, казалось, давно вытравленные страданиями и тупой болью разлуки. Опустошенный, разуверившийся в том, что доживет до свободы, он думал лишь о жене и матери — непреходящей, неизменной реальности. Близок миг, когда он их увидит! Сил прибавилось, он зашагал быстрее, только пыль клубилась позади. Шесть лет он ждал этого дня. Ждал с возраставшим отчаянием. Первые месяцы сердце еще не изныло в разлуке. Тогда заключенные распевали по вечерам воинственные песни, а днем вызывающе смеялись при встрече с белыми, хотя и нарывались на зуботычины. Заключенных с пристрастием допрашивали правительственные агенты из внушающего страх одним названием «специального отдела». Но все держались стойко, оберегая тайны мау-мау. Да и как могло быть иначе! Ведь они поклялись в святилищах племени кикуйю добыть себе свободу! Белый не запугает их пытками. Нужно все вынести, все стерпеть — и лавры победителей увенчают их. И Гиконьо мечтал, как он получит зеленый венок из трепетных рук Мумби. Он вернется, и они счастливо заживут в новой, свободной Кении. Несмотря на это благодушие, а может именно из-за него, первое же испытание вышибло Гиконьо из седла. Забившись в угол камеры, он пытался представить себе все последствия того, что стряслось. И не мог. Он спрашивал других: что они думают? Никто не ждал такого дьявольского коварства. Джомо проиграл Капенгурийский процесс[8] и был осужден. Белый человек решил прикончить отца, оставить детей сиротами. Сначала они просто отказывались верить. Белый толстый человек, у которого на солнце сквозь кожу просвечивала кровь, велел им собраться во дворе и включить радио. Это была первая весть из внешнего мира. Начальник лагеря, заложив руки в карманы шорт цвета хаки, стоял в сторонке и довольно улыбался, видя, как они поражены. — Вот что я вам скажу: врут белые! Хотят сломить нас, прибегая ко лжи! — заявил заключенный родом из Ньери. Этот парень, Гату, умел любого подбодрить в трудную минуту. Он всегда шутил, был неистощим на забавные истории, не хочешь — заслушаешься, В уголках его рта вечно дрожала задорная ухмылка, от которой у человека делалось легче на душе. Ему достаточно было просто пройтись по бараку, чтобы вызвать общий смех, так уморительно он копировал походку белых охранников. В побасенках и прибаутках его всегда таился поучительный смысл. Но на этот раз, видно, и он растерялся: голос прозвучал хрипло и не так убежденно. Однако узники Ялы с готовностью поверили в его слова и на насмешливые взгляды белых отвечали взглядами, полными откровенного недоверия, которое они едва маскировали неискренними улыбками и подобострастным смехом. По ночам, лежа вповалку на тонких подстилках, они шептались, шептались. Днем заключенные избегали разговоров о Джомо, о процессе в Капенгурии. Они не смотрели в глаза друг другу, точно страшась прочесть в них подтверждение своим мыслям. Многие вспоминали суд над Гарри Туку. Его приговорили к ссылке на пустынный остров в Индийском океане. Когда после семи лет изгнания он вернулся, его точно подменили. Он отрекся от партии, которую сам создавал, и стал открыто сотрудничать с поработителями. То, что было вчера, может повториться и сегодня. История знает множество таких примеров… И внезапно они поверили, поверили все до единого. Они не признались в этом друг другу, но, столпившись во дворе, затянули песню:
Гикуйю и Мумби,
Гикуйю и Мумби,
Гикуйю и Мумби,
Я истлел от грусти.
VIII
О том, что было с ним в первые несколько дней после лагеря, Гиконьо вспоминал как сквозь сон. И как он ни старался, ему не удавалось связно рассказать Муго, что все-таки тогда произошло. Ему не хватало слов, он в отчаянии воздевал к нему руки. — Скорее всего, я тогда рассудка лишился. Наверное, ничего нет горше, чем измена друга, близкого человека, которому всегда верил. Когда я очнулся, то увидел, что лежу на кровати, под несколькими одеялами. Вот такая же керосиновая лампа светила еле-еле. И запах в хижине был какой-то больничный. Чуть поодаль стояла Мумби. Мне не видно было ее лица, но я почему-то понял, что она плачет, и сердце защемило от жалости к ней. Нет, нет, не могло этого быть! Та Мумби, которую я помнил, не подпустила бы к себе Каранджу. Она та же, какой я ее оставил, та же! Но тут я увидел ребенка… Значит, то, что казалось мне невероятным, все-таки было, было… У меня застучали зубы, я трясся в ознобе, как при малярии или в горячке. Знаешь, я уже не думал о том, чтобы ее убить. Я принял другое решение: никогда и словом не обмолвлюсь о ребенке. Буду делать вид, что ничего не произошло. И никогда не лягу с Мумби. Мне оставалось одно — работа. Думать только о ней, об остальном забыть. — Гиконьо умолк и поднял глаза на Муго. Но у того лицо оставалось непроницаемым. Ему стало не по себе. Почудилось, что все это уже было с ним, только он не мог припомнить когда. — И вот я забыл обо всем, кроме работы, — повторил Гиконьо. И снова Муго промолчал. В душе Гиконьо шевельнулось неясное разочарование. Тяжелый груз, давивший на сердце, стал легче, но ощущение новой вины закралось в него. Он открыл душу, весь обнажился перед Муго. Каков же будет приговор? Как грешнику, оробевшему на суровой исповеди у священника-пуританина, ему захотелось поскорей убежать, выплакать свой позор в ночи. — Мне пора, — буркнул он, вставая, и вышел в темноту. Сердце его билось так громко, что Гиконьо стало страшно. Страшно взглянуть в глаза Муго, страшно услышать шаги по цементу. Мрак навалился на него со всех сторон. Он шел к дому, давно уже ставшему для него чужим. Праведность Муго и греховная неверность Мумби равно уязвляли его мужское достоинство, подтачивали его веру в себя, увеличивали позор — ведь он первым из узников Ялы явился к белым с повинной… Лишь только Гиконьо ушел, Муго бросился к двери, распахнул ее, закричал: «Вернись!» Постоял, прислушался, не дождавшись ответа, уселся на прежнее место. Мысли перескакивали с одного на другое. Каких слов ждал от него Гиконьо? Зачем он пришел — за утешением? Дважды Муго облизывал губы и откашливался, собираясь заговорить, но так и не нашел что сказать. Гнев, с каким Гиконьо говорил о предательстве Каранджи, его презрение к Мумби заставляли Муго внутренне содрогнуться, точно желудок его разъедала злая отрава. Даже сейчас, вспоминая, он снова непроизвольно вздрогнул. От волнения он не мог усидеть на месте, встал, принялся шагать от очага к двери, от двери к очагу. «Ну, а что, если б я не выдержал и сказал… Все сразу бы кончилось, исчезло, как дым… груз на совести… страх… надежда… Рассказать бы ему все… и кто знает… может быть… А вдруг это уловка, чтобы и меня вызвать на откровенность? — При этой мысли Муго резко остановился и, оглушенный, сел на кровать. — Стал бы он иначе выворачивать душу наизнанку!.. Теперь мне все ясно, все!.. Делал вид, что не смотрит, а сам так и ел меня глазами… Хотел проверить, не страшно ли мне…» Но тут Муго запнулся — вспомнил, какая мука была на лице Гиконьо, как взволнованно и правдиво звучал его голос. Он вышел из хижины. Может, ночная свежесть успокоит его. Лучше всего, пожалуй, пройтись до Кабуи, заодно можно чаю выпить где-нибудь в лавке. Мрак лежал вокруг него, но тем ярче вспыхивали в голове обрывки воспоминаний, страшных, волнующих, тягостных. Вчерашняя ночь и строки из Библии: «Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя». Эти слова бередили ему душу, жгли память… Стоял май пятьдесят пятого — третьего года чрезвычайного положения. Муго жил, как прежде. Строгости чрезвычайного положения не коснулись его. По утрам трудился на своем поле. Его земля узкой полоской тянулась вдоль дороги у рунгейского полустанка. За полустанком лежало шоссе, связывающее фермы белых с Найроби, с Момбасой, с морем. Но Муго нигде дальше Рунгея не бывал и не видел не только большого города, но даже фермы белого человека. Да и белых-то он видел раз или два, давно, когда еще был мальчишкой. Они курили, болтали, посмеивались, пока черные перегружали мешки с кукурузой и пиретрумом с грузовиков в железнодорожные вагоны. А потом товарный состав с грохотом отвалил от полустанка. Муго смотрел на все это с безопасного расстояния. И с той поры всегда, думая о белых, даже о Джоне Томпсоне, он представлял себе попыхивающих сигаретами людей вокруг изрыгающего дым паровоза. В тот майский день он скинул рубаху, концы завязал узлом на поясе. Свисавшие хвостами рукава щекотали икры. Солнце ласкало черный торс, зажигало на плотной коже коричневатые блики. И зеленая поросль кукурузы, картофеля, бобов, гороха тоже тянулась к солнцу. Муго мотыжил землю, руками окучивал каждый росток, вырывал сорняки. Если он задевал стебель, капли росы на листьях вздрагивали и, разбившись на множество осколков, скатывались вниз. Воздух был свежий и ясный. В тени сочных листьев влажно чернела земля, и все вокруг зеленело. Красота. Но солнце припекало, и к полудню зелень потускнела и земля точно подернулась пеплом. Поля глядели утомленно. Муго улегся в тени дерева мварики, испытывая то блаженство, какое появляется, когда разгибаешь спину в полдень, успев на славу потрудиться с утра. Когда он отдыхал в поле, ему почти всегда чудились голоса. И в тот раз изрек: что-то с тобой сегодня случится. Он закрыл глаза и вправду увидел смутные очертания странного и очень красивого предмета, протянул руки — и почти коснулся его. Сладкий голос увлек его в дальние дали прошлых времен. Когда Моисей стерег стада тестя своего Иофора, он тоже был совсем один. Он погнал овец далеко в пустыню и пришел к горе божьей Хориву. И явился ему из зарослей терновника ангел господень в пламени огненном, и воззвал к нему всевышний: «Моисей, Моисей!» И Муго отозвался: «Вот я, господи!» Всякий раз, вспоминая тот день, он считал его поворотным в своей судьбе. Неделю спустя был застрелен районный комиссар Робсон, а в его жизнь вторгся Кихика… Быстрая ходьба не помогла. Муго стоял перед дверью чайной в Кабуи, взбудораженный больше прежнего. Раньше чайная называлась «Мамбо Лео»[9], а теперь хозяин решил ее переименовать — «Ухуру» — Свобода. На вывеске значилось: «Отель, бар и ресторан». У стойки подвыпившая компания нестройно голосила песни. Галдели люди, рассевшиеся за шаткими столиками. Муго нашел свободное место в углу. У него кружилась голова, он стоял, а все происходило как во сне: земля, по которой он шел, и люди вокруг — все было отгорожено от него призрачной завесой. Какой-то миг — и все исчезнет. Внезапно, перекрывая пьяный галдеж, зазвенел чей-то голос. И сразу наступила тишина. Отделившись от толпы у стойки, к Муго ковы-лял на своих костылях Гитхуа. Остановившись перед ним, он застыл по команде «смирно», по-военному отдал честь, сорвал с головы шляпу и завопил: — Вождь! Приветствую тебя! — Сквозь пожелтевшие от табака зубы он дышал на Муго винным перегаром и раболепно кланялся. — Не забудь про нас, вождь! Не обойди милостью своей. Видишь эти лохмотья? Видишь — блохи грызут тело? Не всегда я был таким, клянусь здоровьем старушки матери. Спроси любого! Он воздел кверху палец в клятвенном жесте и огляделся, призывая всех присутствующих в свидетели. Посетители повскакали с мест и окружили Гитхуа и Муго. Муго съежился от смущения и в то же время находил какое-то странное удовольствие в этой дурацкой сцене. — Я водил грузовики. Не было человека от Кисуму до Момбасы, который бы меня не знал, — заносчиво продолжал Гитхуа, горделиво и воинственно стуча кулаком в грудь. — Деньги для меня ничего не значили — тьфу! Я приторговал себе ферму в Керарапоне, рядом с Нгонгой. Дома у меня было полно кур, а какие они несли яйца!.. Эй, официант! Налей-ка нам с вождем. — Муго сказал, что не станет пить. — Эх, чего там! До чрезвычайного положения я мог бы купить весь бар! — В голосе Гитхуа сквозили слезы. Все уже привыкли к его похвальбе, никто не смеялся. Люди слушали его, сочувственно качали головами. Кто-то вздохнул: несчастная Кения! Когда же мы обретем покой? — Всем нам досталось от чрезвычайного положения! — поддакивали вокруг. — Бог свидетель! Когда началась война за независимость, я не струсил — пошел сражаться. Эй, Генерал! Генерал! Куда Генерал запропастился? Все вертели головами, ища Генерала Р. А тот стоял себе у стойки со стаканом в руке, втихомолку забавляясь даровым представлением. Гитхуа все говорил, говорил. О своих подвигах во время войны, о том, как он снабжал патронами Кихику и «лесных братьев». У нас любят послушать хорошего рассказчика. Даже выпивохи забыли о пиве, увлекшись героическими воспоминаниями Гитхуа. — Но однажды нуля белого человека подала мне рот сюда. Ух-х! Он выставил вперед искалеченную ногу, и Муго невольно отшатнулся от болтающейся культи. И тут же осудил себя. Подобно остальным, он был сейчас расположен к Гитхуа. Уж этот-то, во всяком случае, гораздо больше, чем сам Муго, заслуживает похвал. — Правительство забыло про тех, кто сражался за свободу. Кому мы теперь нужны! — Голос Гитхуа слезливо дрогнул, и в нем снова послышались просительные потки. — Хоть ты, вождь, обо мне не забудь! Помни про обездоленных, про Гитхуа. Эй, официант! Тащи нам по бутылке «Таскера». Вождь заплатит, вождь не откажет несчастному Гитхуа в кружке пива. Муго порылся в карманах, достал два шиллинга. Он чувствовал, что Генерал Р. не спускает с него глаз, Муго поднялся, протиснулся к двери и вышел на улицу. Но и здесь настиг его голос Гитхуа: — Спасибо, вождь! Спаси… Муго пересекал шоссе, направляясь в деревню, когда услышал за спиной торопливые шаги. Человек поравнялся с Муго и зашагал рядом. Это был Генерал Р, Муго мелко задрожал, в голове стало тесно от страшных мыслей. — Смешной он, верно? — Кто? — Гитхуа… Жаль, нам не по пути. Но я зайду к тебе завтра. — И Генерал исчез так же неожиданно, как появился. Муго вновь остался один в темноте. У него словно выросли крылья. Ему казалось, что он может обнять ночь и удержать в ладонях всю землю. Он был у порога откровения, Гиконьо и Гитхуа подвели его к этой грани. «Да… спасет… сынов… убогого…». Это о нем, о Муго. Он уцелел, выжил, чтобы спасать таких, как Гитхуа, как Старуха, всех страждущих. Так предначертано свыше. Решено! Он выступит на празднике Свободы. Он поведет народ за собою, и людская признательность сотрет в его памяти былой позор, страшную правду о гибели Кихики. Немногим это дозволено. Только избранникам божьим отпускались прошлые грехи в предвидении великого служения людям. Так было во времена Иакова и Исава, так было во времена Моисея. Ночью ему приснилась Рира. Он увидел обнаженных по пояс узников, выстроенных вдоль стены. Среди них были и Гитхуа и Гиконьо. Напротив них стоял Джон Томпсон с пулеметом. Если они не скажут всего, что им известно о Кихике, он расстреляет их. И Гитхуа закричал: «Муго, спаси нас!» Крик подхватили остальные: «Спаси нас, Муго!» Умоляющие голоса взметнулись и прозвучали, как удар грома: «Помоги нам, Муго!» И самое странное, Джон Томпсон присоединился к многоголосию своих жертв и кричал громче всех: «Спаси же нас, Муго!» В том вопле была такая боль, что Муго больше не сомневался. Разве можно их оттолкнуть? «Вот я, господи! Я гряду, гряду в пламени огненном». И плачущие люди вздохнули с облегчением: «Аминь!»И сказал господь: я увидел страдание народа моего и услышал вопль его от приставников его; я знаю скорби его. Исход,3;7 (Подчеркнуто красным в Библии Кихики.)
IX
Надо думать, ученые люди еще вернутся к испытаниям, выпавшим на долю Кении, и, анализируя уроки прошлого, объяснят, что же такое случилось в Рире и почему этот лагерь приковал к себе внимание людей во многих странах? Ведь были лагеря и побольше. Вся Кения, от Мандийских островов в Индийском океане до островов Магита на озере Виктория, была усеяна ими. После ареста его перевели из полицейского участка в Тигони в концлагерь Тхика, куда свозили пленных партизан из Эмбу, Меру и Мвариги. Здесь его продержали шесть месяцев, и он думал уже, что сидеть ему в этом лагере до самого конца, но однажды холодным, пасмурным утром их затолкали в грузовики и отвезли на станцию. А потом поездом до Маньяни. Окна вагонов были затянуты колючей проволокой — выпрыгнуть и не помышляй. В Маньяни их встречали солдаты. На платформе заставили опуститься на корточки и сложить руки на затылке. Солдаты колотили их дубинками, подзадоривая друг друга: бей не жалей, мы не виноваты, что белый привез их сюда. Лагерь Маньяни был поделен на три сектора: «А», «В» и «С». Муго попал в сектор «С», для самых опасных преступников. Сектора в свою очередь делились на зоны, по десять бараков в каждой, по шестьсот заключенных в бараке. Сначала Муго без передышки допрашивали, а потом вместе с несколькими другими заковали в цепи и перевели в лагерь Рира, в пустынной и необжитой глуши, почти у самого океана. Здесь никогда не шли дожди, ничего не росло — песок да скалы. Сюда попадали те, кто наотрез отказывался сотрудничать с властями до освобождения Кениаты, те, кто не отвечал на вопросы, кого невозможно было заставить работать. Рира, как вскоре убедился Муго, был пострашнее Маньяни. Заключенных держали на голодном пайке: семь унций муки в день, восемь унций мяса в неделю. В Рире Муго суждено было встретиться с Джоном Томпсоном. Успехи Томпсона в лагере Яла были столь блистательны, что его перевели в Риру. Он и здесь навел порядок. В первую голову Томпсон занялся санитарным состоянием лагеря. Раньше, если заключенный подхватывал тиф, никто не мешал ему околевать, теперь больных отправляли в госпиталь… При прежнем начальнике охрана развлекалась, как умела: закапывали человека нагишом в горячий песок и оставляли на сутки. Томпсон все это запретил. Он собирал заключенных, увещевал их, напоминал о доме, о долге перед родными. Они могут вернуться к женам и детям — стоит лишь признаться, что они давали присягу. Томпсон ожидал от своего метода магических результатов, он оправдал себя в других лагерях: самые закоренелые упрямцы сдавались. И когда, по его мнению, заключенные «созрели», Томпсон стал вызывать их поодиночке в свой кабинет. Годы колониальной службы укрепили его в убеждении, что, имея дело с африканцами, следует взять себе за правило поступать неожиданно. Но здесь он столкнулся совсем с другими людьми. Они глядели на него и молчали. Через две недели терпение Томпсона готово было истощиться: рассказывая Марджери о своих делах, он доходил чуть не до истерики — это просто истуканы! Муго попал к нему на третью неделю. — Имя? — Муго. — Откуда родом? — Из Табаи. Томпсон вздохнул с облегчением: этот хоть не молчит. Что ж, хорошее начало. Стоит сознаться одному — другие последуют его примеру. Томпсон знал деревню Табаи, он дважды был в Рунгее районным комиссаром. В последний раз вместо убитого Робсона. Он завел с Муго непринужденную беседу. Какое оно красивое, Табаи, все утопает в зелени, какие там милые и приветливые люди. Потом спросил неожиданно: — Сколько раз ты присягал своим? — Ни разу. Томпсон вскочил на ноги и забегал по комнате. Остановился против Муго, вгляделся в него, лицо показалось ему знакомым. Но все они похожи друг на друга, поди различи — маски какие-то, а не лица. — Сколько раз ты давал присягу? — Ни разу. — Врешь! — заорал Томпсон, покрываясь испариной. Муго было безразлично, что его ждет. Он находился на той грани отчаяния, когда человек уже не дорожит жизнью. Смерть так смерть. И чем скорее, тем лучше. В кабинете было еще двое офицеров. Один из них что-то шепнул Томпсону на ухо. Он снова стал разглядывать черное лицо. И тут его осенило. Отослав Муго в барак, он погрузился в чтение его личного дела. Надежды Томпсона не оправдались. Большинство заключенных по-прежнему молчало. Один лишь Муго хоть кое-как отвечал на вопросы. Впрочем, и он сказал немного. Но Томсон впился в Муго, как клещ. Вызывал ежедневно. У него было предчувствие, что Муго все-таки «расколется» раньше других. Он вымещал на нем досаду за все. Муго пороли на глазах у других заключенных. Иногда в приступе слепой ярости Томпсон выхватывал кнут из рук охранника и остервенело стегал его сам. Если бы Муго закричал, взмолился о пощаде, Томпсон, может быть, и сжалился. Но тот молчал, и Томпсону стало казаться, что весь лагерь смеется над ним, презирает за то, что он не может исторгнуть из Муго даже стона. Престиж Муго рос среди заключенных. Отчаяние его было столь глубоким, что он не смел стонать. Убеждение в том, что его постигла заслуженная кара, заставляло его безмолвно сносить боль. А им со стороны казалось, что все дело в его неукротимом духе. Товарищи, окрыленные его стойкостью, составили коллективную жалобу на тюремщиков. Они потребовали, чтобы с ними обращались как с политическими заключенными, а не как с уголовниками. Потребовали увеличить паек. Пригрозили голодовкой. И в один прекрасный день все как один отказались от пищи. Томпсон был на грани исступления. «Раздавить гадину», — скрежетал он по ночам зубами. Он приставил к ослушникам белую охрану. Раздавить гадину! На третий день голодовки произошла вспышка, смахивающая на настоящий бунт и явившаяся непосредственной причиной нашумевшей гибели одиннадцати. Когда надзиратели несли в барак еду, кто-то швырнул камень и угодил одному из них в голову. Надзиратели побросали бачки и с криком «Убивают!» кинулись врассыпную. Бунт! А узники хохотали, камни сыпались градом. То, что произошло затем, стало известно всему миру. Бунтовщиков заперли в бараках. Избиения не прекращались ни днем ни ночью. Одиннадцать человек забили насмерть.Вот о чем вспоминал Муго, когда на следующий день после осенившего его прозрения шагал к дому Гиконьо. В своем чудесном спасении от верной смерти он видел направляющую десницу божью. Нет сомнения, он выжил, чтобы избавить несчастных, таких, как Гитхуа, от нищеты и лишений. Он, единственный сын у матери, рожден на свет во спасение другим. Его будоражили и влекли волнующие перспективы, открывшиеся ему. Он скажет Гиконьо, что согласен представлять жителей Табаи на празднике Свободы. И он возглавит народ свой и поведет его через пустыню к новому Иерусалиму… Просторный дом со сверкающей на солнце железной крышей был сложен из толстых кедровых бревен. Двор обнесен ровной оградой. За оградой пело радио. Но женский голос, глубокий, густой, почти заглушал певца. Песня была медленная и грустная и казалась неуместной в это яркое утро. Мумби… Муго остановился в смущении. Неужели и в этом доме нет благополучия и мира? На крыльцо вышла Вангари и побрела к недавно выстроенной хижине в дальнем углу двора. Мальчуган — Муго сразу сообразил: это он и был причиной разлада, — скакал по дорожке впереди Вангари. Непонятно отчего при виде этой сцены у Муго больно сжалось сердце. Мумби приветствовала гостя светлой улыбкой, точно ждала его прихода. Он вспомнил молоденькую девушку, которая однажды посочувствовала его горю, когда у него умерла тетка. Теперь перед ним была красивая женщина с усталым, посуровевшим лицом. «Ее гложет печаль», — подумал Муго. Карие бездонные глаза обволакивали его. Ему стало неловко, даже немного страшно под этим взглядом. — Мне надо повидаться с Гиконьо, — сказал он, отказываясь от приглашения сесть. — Его нет? — Он всегда уходит очень рано. — Голос у нее был прозрачный и ровный, как водная гладь, но Муго все-таки уловил едва заметную жалостливую рябь на его поверхности. — Присядь, — продолжала она. — Ну пожалуйста. Сейчас чай поспеет. — Голос зазвенел взволнованно, и он опустился на стул, невольно подчинившись ее просьбе. Разглядывая ее лицо, он удивился тому, что редко думал о Мумби и Кихике как о сестре и брате. А ведь у нее такой же разлет бровей и нос, хоть и поменьше, точь-в-точь как у Кихики. — Как брат? Твой Младший брат, — повторил он. — Ведь у тебя есть младший брат, верно? — Он стал мешать чай в стакане, чтобы скрыть смущение. — Кариуки? — Она села на стул напротив него. — Да-да, теперь я вспомнил, Кариуки. — Два года, как кончил школу. Работал в банке в Найроби, теперь учится в колледже Макерере. — Это ведь в Уганде, в стране Оботе? — Да, туда надо ехать поездом. Целые сутки. Завидую я ему — целые сутки в поезде!.. Я никогда в такую даль не забиралась. — Она рассмеялась негромко, ее глаза засверкали при одной мысли о путешествии, все тело задышало неукротимой жаждой жизни вопреки страданиям. — В этом году он не приехал домой на каникулы, очень жаль; он не увидит праздника в четверг. Муго не поддержал разговора о празднике, и беседа оборвалась. Он старался придумать, что бы еще сказать, но в голову ничего не приходило, и он поднялся, сказав, что ему пора. Но Мумби сидела с тем же выражением лица, точно не слышала его. — Я хотела с тобой повидаться, я сама собиралась к тебе, — произнесла она. Она говорила очень тихо, но ее слова, как приказ, пригвоздили его к месту. Он снова сел и стал ждать. — Ты… Бывает, что ты видишь сны? — неожиданно спросила Мумби, и грустная улыбка заиграла на ее губах. Вопрос застал Муго врасплох, и его мгновенно сковал леденящий страх. — Конечно, каждому снятся сны. — Я не говорю о тех снах, что снятся по ночам. Я о другом — знаешь, когда молод, и день солнечный, и ты заглядываешь в будущее, и тебе грезятся всякие великие дела. И сердце колотится, и ты хочешь, чтобы дни эти скорее настали, и тогда все тяготы жизни останутся позади. Муго затрепетал. Она говорила о том, что бывало с ним, облекая это в точные слова. — Такие сны у тебя бывали? — Иногда, — начал он нерешительно, но она не дала ему докончить. — И они сбылись! Я знаю: у других сны сбываются. У меня их было так много, и такие ясные, словно наяву, — говорила она, и ее голос, глаза, лицо снова стали прежними. — Это бывает, бывает с людьми в юности, — осмелился он сказать. — Со мной это бывало всякий раз, когда я слушала Кихику, — продолжала Мумби. — Мое сердце устремлялось за его словами. Я мечтала о жертве во спасение людей. И хотя порою мне делалось страшно, я жаждала, чтобы эти дни наступили. Даже когда я вышла замуж, сны не исчезли. Я стремилась сделать своего мужа счастливым, готовилась встать рядом с ним, если это потребуется. Я бы носила его щит и подавала ему стрелы. Если б случилась беда и враг сразил бы его, я не дала бы ему упасть, я бы спасла его. В глубине ее глаз загорелся свет. А он, глядя в эти ясные глаза, чувствовал, что им овладевает желание. — Но вот за ним пришли, и я ничего не сделала. А когда, измученный, он наконец вернулся домой, уже не в моих силах было дать ему счастье. Господи, как она молода, как чиста душою!.. Отчаянно сопротивляясь, он все глубже погружался в мрачный, бездонный омут. Он не хотел утонуть!.. — Иногда я гадаю: а Бамбуку видела такие сны? — продолжала она, помолчав. — Ты ее помнишь? — Бамбуку? — Да. — Нет. — Ну как же! Та женщина, которую избивали во рву, а ты бросился к ней на помощь! — Да… да… да… — Он не запомнил лица. В памяти осталось только выражение муки в ее глазах и разорванное хлыстом платье. — Она умерла. — Умерла? — Да. Она была возлюбленной Кихики. Когда брат ушел в лес, она не могла ему этого простить, и все же надеялась, что он возвратится, и хранила ему верность. Но когда Кихику схватили и повесили, она будто свихнулась. Несколько дней не выходила из дому, а потом вдруг стала путаться с солдатами, с полицейскими, со всеми подряд. Но одного полицейского она почему-то отвергла, и он решил ей отомстить. Тогда, во рву, ему представился случай… Она так и не оправилась после этого и через три месяца умерла. Она ждала ребенка… Мумби поднесла к глазам платок. В комнату вбежал мальчик. Покосившись на Муго, он бросился к матери и уткнулся ей в колени. — Мама, почему ты плачешь? — Теперь он глядел на Муго с явной враждой. Мумби прижала к себе ребенка, словно желая оградить его от всего дурного, от горькой правды жизни. Улыбнувшись, она зашептала мальчику на ухо: — Беги к бабушке. Быстрее. Нельзя оставлять ее одну. Вдруг ее украдут воины из племени ириму — что ты тогда будешь делать? Мальчик еще раз искоса глянул на Муго, снова перевел глаза на мать и побежал к дверям. — Ведь она умерла за моего брата, — продолжала Мумби. Но теперь ее голос звучал уже не так напряженно и дрожи в нем не было. — Принесла себя в жертву. Или вот Нжери. — Кто это? — Моя подруга. Бамбуку, Нжери и я вместе ходили к поезду. Ну кто мог догадаться, что сердце Нжери отдано Кихике? Она была такая задиристая. Но никто не знал, что у нее на душе, до тех пор пока она не ушла в лес, чтобы сражаться рядом с Кихикой. Вскоре после того, как его казнили, она погибла в перестрелке. Лицо Муго помрачнело, нижняя губа отвисла. Не желает, не хочет он всего этого слышать! Он был уже в дверях, когда удивленный возглас Мумби настиг его и вернул к действительности. Стоя на пороге, он медленно приходил в себя, со стыдом осознавая, как странно, должно быть, выглядит в ее глазах. Мумби вскочила, с трудом скрывая удивление и неловкость. — Я ни с кем не говорила об этом, — сказала она, снова опустившись на стул. — Только с тобой. Знаешь, что однажды сказал Кихика, нет, не однажды, он часто повторял это, когда сердился на приятелей. Как же я не вспомнила раньше! Он говорил, что по-настоящему серьезное дело можно доверить лишь такому человеку, как ты… Муго глядел на Мумби невидящими глазами. «Избавь меня от воспоминаний!» — вертелось у него на языке. Но он только выдавил едва слышно: — Все это так ужасно… Он тоже сел, покорившись ее воле. Он ослаб от этого голоса, от ее взгляда. И безвольно ждал, что будет дальше. — Я хотела поговорить с тобой о муже, — выпалила она, глядя на него в упор. Постепенно выражение решимости в ее глазах растаяло, уступив место тихой, едва ли не покорной мольбе. Ее полураскрытые губы вздрагивали. — Он мне нужен, нужен больше всех на свете, — прибавила она, помолчав и немного успокоившись. Потом спросила. — Ты знаешь о ребенке? Внезапно терпению Муго пришел конец. Ему хотелось оскорбить ее, причинить ей боль. Безумное желание разгоралось в нем все сильнее. Какого черта она тащит его в свою жизнь, лишает покоя!.. — Твой муж мне рассказывал. — Он сам сказал? — Да. — Когда? — Вчера вечером. — Все-все? — Все. О ребенке, о Карандже. — Он говорил отрывисто, внутренне ликуя, видя, как она раз или два поморщилась, словно от боли. В комнате повисла тишина. В глазах Муго застыла враждебность. Даже если она расплачется, он не дрогнет, не шевельнется, не скажет ни слова в утешение. Но уже в следующий миг Мумби, вспомнив что-то очень для себя важное, нарушила гнетущее молчание взволнованными словами: — А про дом он тебе не рассказал? Про наши две хижины? Не рассказал? — Дом? Какой дом? — переспросил он, искренне недоумевая. — В котором мы жили до того, как он попал в лагерь. Ага, я вижу, он тебе про это не говорил, — продолжала она с мрачным торжеством в голосе. — Да он и сам ничего не знает. Кто ему скажет, кроме меня… А со мною он говорить не хочет… Муго вспомнил, что тех, кто в срок не переселился в новую деревню, выгоняли из старых хижин насильно, а хижины поджигали. — Еще и теперь я вижу во сне, как они горели. У нас были две хижины. В одной жила Вангари, а в другой я. ОНИ едва дали нам вынести вещи, облили соломенную крышу на хижине Вангари бензином. Я еще подумала, зачем это, солома и так сухая, вспыхнет как порох. Но они облили ее бензином. День был знойный. Мать — так Мумби называла Вангари — опустилась на стул подле наших пожитков, кое-как сваленных в кучу, а я стояла рядом с ней, накрыв косынкой голову. Полицейский начальник чиркнул спичкой, бросил ее на крышу. Но спичка погасла, и другие полицейские захохотали. Они подбадривали его криками. Один даже хотел взять у него спички, чтобы показать, как это делается. Для них это была забава. Крыша загорелась о четвертой или пятой спички. Повалил темно-голубой дым, взметнулось пламя. Потом ОНИ пошли к моей хижине. Я не могла больше смотреть и зажмурилась. Мне хотелось закричать, но голос пропал. Тут я вспомнила, что рядом мать. Я хотела увести ее, чтобы она не видела этого ужаса. Ведь она сама строила хижины, после того как муж прогнал ее. Но она отвела мои руки и покачала головой. Она не отрываясь смотрела на пламя. Помню, какой болью отозвался в моем сердце страшный треск, когда на обеих хижинах одна за другой рухнули крыши. Мать задыхалась, она хватала ртом воздух и все-таки не сводила глаз с пламени… Что-то оборвалось в сердце, что-то надломилось во мне, когда упали стены… Старое Табаи сожгли вскоре после налета отряда Кихики на полицейский участок в Махи. Власти пришли в ярость. Говорят, некий Мванги Матемо из Ньери, услыхав по радио о захвате Махи, забыл об осторожности и побежал делиться радостью с соседями. Его тут же отправили в Маньяни, самый большей, самый страшный концлагерь. Но радио лишь подтвердило то, что уже и так было известно жителям страны кикуйю. Власти решили мстить. Вышел указ снести все африканские торговые местечки, вроде Рунгея, «в интересах спокойствия и безопасности». Жителей стали переселять в «укрепленные» деревни. Сперва, когда об этом пронесся слух, люди только недоверчиво пожимали плечами. Но Томас Робсон, бывший в ту пору районным комиссаром, объезжал холмы и объявлял: два месяца на все — сломать старые дома и возвести новые. Мумби пришлось тяжело, семья осталась без мужчины. Делать нечего — она сама взялась за мужскую работу. Вместе с Вангари они расчистили площадку. Пришел Каранджа, и с его помощью они разметили на земле, где возводить стены. Каранджа был угрюм и молчал, но Мумби, слишком занятая своими делами, по замечала, какие чувства бурлят в нем под внешней сдержанностью. Через несколько дней площадка была готова. Тогда она отправилась в рощицу, принадлежащую ее отцу, и нарубила акации для столбов и подпорок. В те дни в Табаи погасли очаги в хижинах, не видно было дымка над кровлями, потому что люди возвращались домой только спать. Наутро они вновь уходили. За одну ночь взрослели и становились мужчинами мальчики. Женщины облачались в брюки. Кариуки после школы спешил домой помогать сестре. Мужчины, завидя женщин, которые, подобно Мумби, сами вбивали гвозди и стлали крыши, задирали головы и зубоскалили: а все потому, что в Англии короновали новую вангу[10]. Ничего хорошего от бабьего царства не жди! Где ваши мужья? Пропадают в концлагерях, отбила их у вас Елизавета. «Не забывай про тех, кто в лесу», — гневно отвечали женщины. И мужчины, осекшись, уходили, и снова отовсюду несся только стук молотков. Им изредка помогал Каранджа, и все-таки они не управились вовремя. Два месяца пролетели, а новая хижина, еще не была обмазана глиной. Мумби и Ван-гари по-прежнему ночевали в старых, рассчитывали вот-вот закончить постройку. Но подошел срок, и на другой же день в деревню нагрянули полицейские. Открыв дверь, Мумби увидела их решительные лица и кинулась к Вангари, чтобы подготовить ее к самому худшему. — Я знала, что они не заставят себя ждать, дитя мое, — только и сказала Вангари и принялась выносить пожитки. Полицейские, спалив хижины, удалились с торжественными минами, будто исполнили религиозный обряд. Глаза их искали одобрительной улыбки Робсона. Но Робсон уже катил жечь дальше: времени до темноты оставалось в обрез. К вечеру последние хижины старого Табаи исчезли в пламени. На их месте зияли пепелища. — Ту ночь мы с Вангари провели в нашей новой хижине. Отец, нарушив комендантский час, пробрался в потемках к нам. Он звал нас к себе. Но Вангари отказалась наотрез, а я не могла оставить ее одну. Мы уже настелили крышу нашего дома, но стены не обмазали, и всю ночь нас хлестал холодный ветер. Я завернулась в старое одеяло, в мешок и все-таки дрожала и никак не могла согреться. Мне кажется, я так и не заснула ни на секунду. Я знала, что мать не спит, но мы молчали. Эта ночь казалась бесконечной. С того дня Каранджа зачастил к нам. Справлялся о здоровье, иногда приносил еду. Он был тихий, пришибленный какой-то. Его что-то угнетало. Сначала я не обращала на это внимания, я даже не заметила, что он стал приходить все чаще и чаще. У матери, после того как сожгли деревню появились боли в животе, в голове, в суставах — мне было не до Каранджи. Однажды он застал меня за колкой дров. Стоял и молча глядел. Ненавижу, когда работаешь, а на тебя смотрят. Я смущаюсь, руки перестают слушаться. Вот я и сказала: «Чем так стоять, лучше бы помог женщине». Он молча взял у меня топор, молча наколол дров. «Зайди, выпей чаю, ты его заработал», — сказала я и нагнулась, чтобы собрать поленья, а он протянул руку, коснулся моих волос и шепнул: «Мумби!» Я вскинула голову. Он хотел еще что-то сказать. Я испугалась. Ведь Каранджа уже сватался ко мне, это было спустя неделю или две после того, как я дала слово Гиконьо. Тогда я постаралась обратить все в шутку и напомнила, что Гиконьо — его близкий друг. Он больше никогда не заговаривал об этом… Ну вот. Он, должно быть, увидел, как я испугалась, потому что не сказал ни слова и ушел. Даже ни разу не оглянулся. Если б он оглянулся, я бы его, наверное, Остановила, потому что мне стало совестно, я же видела, что на сердце у него неспокойно. А он был добр к нам и вел себя, как подобает другу… Вскоре англичане схватили Кихику на опушке леса Киненье и повесили его. Знаешь, мой отец, отважный воин, чья слава разнеслась от Ньери до Кабеге, плакал, как ребенок, всю ночь. Мать, моя родная мать Ванджику, тщетно пыталась утешить его. С того дня родители постарели, надломились. Думаю, только Кариуки помог им выжить. Я тоже валилась с ног. А потом, ты знаешь, деревню наказали в отместку за брата. Ты знаешь про этот ров. Во всяком случае ты застал начало. А после того как тебя арестовали, когда ты заступился за Бамбуку, до меня дошел слух, что Каранджа записался в полицейские. Я не могла поверить. Ведь он был другом Кихики и Гиконьо, они вместе давали присягу. Как он мог предать их? Но на раздумья не было времени. Ров должен был опоясать всю деревню. Мы работали от зари до зари. После этой истории с Бамбуку солдаты и полицейские точно с цепи сорвались. Они избивали любого, кто разгибал спину, кто, по их мнению, работал недостаточно проворно. Нас все время сторожили. Лишь за два часа до заката женщинам разрешалось уйти, позаботиться о еде для мужчин. Мужчин из деревни не выпускали совсем, детям запретили ходить в школу. Потом вместо двух часов отдыха нам оставили один. А скоро лишили и его. Деревня стала нашей тюрьмой, на околице солдаты разбили лагерь, и бежать было невозможно. Мы остались без еды. Слышал бы ты, как плакали голодные дети! Но новому районному комиссару плевать было на наших детей. Зато он позволял солдатам хватать приглянувшихся им женщин. Господи! Не знаю, как я избежала этой участи. Каждую ночь я молила небо: что угодно, только не это! Бамбуку умерла, и ее зарыли тут же, рядом со рвом. Знаешь, нам всем казалось, что настал конец света. Но однажды кто-то запел песню, и все подхватили. Сбежались солдаты и полицейские, они били нас хлыстами и палками, но мы продолжали петь. Так и пошло. Кто-нибудь запевал, а мы все подхватывали, на ходу придумывая слова.
Вспоминаю
Красавицу нашу Бамбуку —
Шоколадную кожу,
Газельи глаза, —
И в глазах ее
Вижу предсмертную муку…
Как мне вынести вечную с нею разлуку?
X
Решение уговорить Каранджу пойти на праздник в Рунгей, а если не удастся, то привести его силой, было принято накануне, после встречи Лейтенанта Коинанду с Мваурой. Все, что рассказал Мваура, лишний раз подтвердило давние подозрения Генерала Р: Кихику предал Каранджа. И будет справедливо, если Каранджа умрет в день Свободы. Когда в свидетели будет призван весь народ, он или сознается, или выдаст себя невольным жестом. Казнь совести должна предшествовать казни тела. Генерал Р не отличался многословием, он больше помалкивал, за исключением тех случаев, когда бывал чем-нибудь взволнован. «Язык меня плохо слушается, — говорил он, явно не без гордости, — зато руки что надо». Кихика был склонен к мучительным раздумьям, а Генерал Р слыл человеком действия. Кихика рассуждал о самой природе угнетения, о несправедливости и свободе; Генерал без лишних слов делил всех людей на угнетателей и угнетенных, плохих и хороших. До войны за независимость он портняжничал в Рунгее. Никто не знал, откуда он родом: одни говорили — из Ньери, а другие — что его родина Эмбу. И хотя он прожил в Рунгее много лет, жители Табаи никак не могли к нему привыкнуть и считали его пришлым чужаком. «Этих парней из Ньери и Эмбу, — говорили они, — следует остерегаться. Никогда не знаешь, что у них в кулаке или под мышкой». Никто не знал даже его настоящего имени. До войны его называли Ка[11]-40, потому что в редкие минуты благодушия он напевал: «Я парень сороковых годов. Мне родиться помог господь в сороковом. Мне обрезали крайнюю плоть в сороковом. И с Гитлером я воевал в сороковом. И женился я в сороковом. Я парень сороковых годов».Но все знали, что жены у него нет, хотя на войне он был, что верно, то верно. Он редко говорил о себе, совсем не любил разговоров о политике и никогда не ввязывался в пьяные скандалы и драки, чуть не каждый день вспыхивавшие в харчевнях и пивных. Ка-40 был превосходным портным, шил женское и детское платье, и дела его шли так хорошо, что многие были убеждены, что здесь не обошлось без колдовства. И именно этот человек, ненавидевший ссоры и драки, стал одним из самых отважных бойцов Кихики. Его побаивались даже товарищи по отряду. Генерал Р никогда не оставлял друга в беде и не знал пощады к врагу. «Р» в его кличке означало: «Россия». Генерал горячо излагал план постановки маленького спектакля, который, по его мнению, поможет разоблачить предателя, а главный герой — Каранджа тем временем ломал голову над опросом, от которого так легкомысленно отмахивался всего три месяца назад и который теперь, за два дня до провозглашения Независимости, заслонил все остальное: неужто и в самом деле мистер Томпсон уедет? Сегодня, решил Каранджа, он добьется ясности. Тревога закралась в его душу, когда еще в бытность начальником полиции он узнал, что Гиконьо и других узников отпускают домой. Сегодня он пойдет к Томпсону и скажет: «Сэр, так вы бросаете Кению на произвол судьбы?» Нельзя сказать, чтобы между Каранджей и Джоном Томпсоном существовали добрые отношения. Сознание их неразрывной связи являлось плодом воображения Каранджи, для которого Джон Томпсон был символом белого могущества, вечного, как скала, живым олицетворением той силы, которая создала бомбу и превратила дикие, поросшие кустарником равнины в современные города с асфальтированными улицами, мотоциклами и автомобилями, поездами и аэропланами и достающими до неба домами, — и все это за какие-то шестьдесят лет. И разве сам Каранджа не испытал всесилья этой власти над душами людей? Как трепетали перед ним взрослые мужчины, когда он был начальником полиции, как рыдали женщины, стоило лишь ему пальцем пошевельнуть… И вот теперь предстояло услышать роковое известие. Дважды Каранджа подходил к кабинету Томпсона, чутко прислушиваясь, что там, за дверью. И, только вернувшись в свою комнату, он вспомнил, что может узнать, здесь ли Томпсон, взглянув на автомобильную стоянку. Он так и взвился со стула. Тому, кто вздумал бы за ним подсматривать, могло показаться, что он сел на кнопку. Он высунулся в окно и увидел, что место, где Томпсон обычно оставлял свой «моррис», пустует. Неужели он вообще не придет сегодня? Каранджа с отвращением поглядел на лежащие перед ним книги — не может он сегодня заниматься никакими книгами. Хорошо, хоть миссис Дикинсон нет. Он отправился в переплетную поболтать с рабочими, развеяться, убить время. Каранджа всегда шел в переплетную, когда его одолевала лень или усталость. Переплетчики — все народ издалека, из Центральной Ньянзы, и с ними Каранджа чувствовал себя легко и непринужденно. Не то что с кикуйю, когда он каждую минуту был настороже — того и гляди, собеседник копнет его прошлое. Это не мешало ему презирать переплетчиков, о чем он не раз упоминал в разговоре с Мваурой и другими соплеменниками. «Ох уж эти луо! Вот кто умеет друг за друга держаться! Стоит одного сделать начальником, как он тянет за собой целую кучу родственников». Впрочем, переплетчики платили ему тем же. «Этим кикуйю верить нельзя. Сегодня он лезет обниматься, клянется в дружбе, а завтра пырнет ножом в спину». Но это за глаза, при встрече обе стороны держались приветливо. Когда Каранджа вошел в мастерскую, там судачили о покойном докторе Дайке. В самом деле несчастный случай? И еще: «Что нашла в этом толстопузом буре маленькая жена Томпсона? Господи, такая красотка, а зад какой — сам бы не прочь с ней позабавиться! Интересно, знает Томпсон об их шашнях? Наверное! С чего бы иначе ему быть таким угрюмым. А сам он не ходит к другим женщинам, ну, скажем, к мисс Линд? Ха-ха-ха!» Тут разговор перешел на случай с собакой. Заговорили зло, ругались, сочувствовали Карандже. Только Томпсон и спас тебя, парень! А ведь ей ничего не будет!.. Запах кипящего клея, разговоры, смешки действовали Карандже на нервы. Он вышел из мастерской и зашагал по дорожке между геофизической лабораторией и административным корпусом с видом занятого, спешащего по делу человека. Он надеялся углядеть Джона Томпсона в окне его кабинета. Уже уехал? Надо было с ним заговорить вчера, сразу после происшествия с собакой. Каранджа вспомнил, как перетрусил, когда пес метнулся к нему. Томпсон спас его от позора!.. Томпсон!.. А теперь он уезжает. Каранджа поплелся назад в библиотеку, удрученный предчувствием надвигавшихся перемен. Однажды он уже пережил подобное, когда вскоре после отмены чрезвычайного положения ему пришлось распрощаться со службой в полиции. Как раз в это время новые руководители партии, и в их числе Огин-га Одинга, потребовали: Предоставить независимость! Немедленно! Освободить Джомо Кениату! А Каранджа арестовал человека, задолжавшего за два года подушный налог. Это верно, тот вернулся из лагеря и не мог найти работу. Он был так обозлен арестом, что не стал отвечать на вопросы и плюнул Карандже под ноги. Каранджа поступил, как и обычно: наглеца избили и заперли в участке до утра. Обо всем этом пронюхали соратники Одинги и подали в суд. Карандже пришлось заплатить штраф и публично извиниться. Большего унижения и не придумаешь. А главное, еще месяц пазад его бы за это похвалили… Правда, районный комиссар дал ему рекомендательное письмо, перечислив в нем достоинства Каранджи: лояльность, смышленость, отвагу. «На него можно целиком положиться». А сам уволил. И Каранджа подался в Гитхиму, где снова столкнулся с Джоном Томпсоном. Впервые они встретились, когда Каранджа, изменив присяге, записался в полицию, а Томпсон как раз сменил убитого Робсона на посту районного комиссара. И хотя Томпсон, кажется, забыл про эту встречу, Каранджа смекнул, что официальное письмо произведет на него должное впечатление. Действительно, он получил место в Гитхиме и вскоре проявил все свои достоинства, о которых говорилось в письме, — сделался надежным прислужником белых. «Этот случай с собакой предвещает несчастье», — терзался Каранджа. Он до того взвинтил себя мыслями о близкой катастрофе, что, пожалуй, даже обрадовался, когда к нему вошел Мваура. — Друг, это правда? — заговорил Мваура угодливым, заговорщическим шепотком, в котором Каранджа слышал: «Ты знаешь все секреты властей предержащих. Поделись и со мной крохами своего всезнания». — Что правда? — спросил Каранджа, размякнув. — Ну, что наш босс, Томпсонишка, драпанул. — В разговорах Мваура никогда не грешил избытком почтения к начальству. — С чего ты взял? — Каранджа изо всех сил старался скрыть растерянность. — Прошел такой слух. Я и решил: единственный, кто знает наверняка, — это Каранджа. У них секретов от него нет. Особенно у босса. Этот человек тебя любил, чувствовалось даже, что он тебя побаивается. Ведь верно? Каранджа понимал, что все это лесть, не больше, но как сладко было слушать! — Вечно ты собираешь слухи! Разве ты не видел, что он еще вчера был здесь? — Да, но, может быть, это был последний день? И он посылал за тобой, чтобы попрощаться. Денег не дал? И еще люди говорят… Я молчу, потому что нельзя верить слухам. — Что говорят? — Каранджу разбирали страх и любопытство. — Что на его место пришлют африканца, чернокожего, как мы с тобой. — Нет! — в отчаянии закричал Каранджа, выдавая желаемое за действительное и почти веря себе. — Вы, может, только этого и ждете, но Томпсон не уедет! Вчера я беседовал с его женой — она угощала меня кофе… — Да ну? М-м… — промычал Мваура, кивнув несколько раз головой. — Теперь понятно, теперь ясно. Ну что ж, я не удивлюсь, если узнаю, что не только кофе… Знаешь, у меня самого всякий раз слюнки текут… Ведь она вся кричит: потрогай меня, потрогай! И голос ее как песня… Везет тебе! — Что за чушь ты городишь? — Каранджа натянуто улыбался, не решаясь подтвердить, но и не желая опровергать намеки Мвауры. — Да брось! Скажи лучше, как она, послаще наших будет? — И что это вам втемяшилось в голову, будто европейцы какие-то особенные. Такие же, как все — как ты, как я. — Ну вот и сознался! Да мне и так все было ясно. Что ты делаешь в четверг, в день празднования Свободы? — Не знаю… Ничего, — сказал Каранджа и сразу весь подобрался. — И на эту штуку не пойдешь? — Какую штуку? — На праздник в Рунгей. Разве ты не знаешь, там будут игры и танцы в честь Свободы. — Первый раз слышу, — безразлично ответил Каранджа. — Все идут слушать Муго. — Муго? — переспросил Каранджа, похоже поддаваясь на уговоры. Мваура только этого и ждал. — Люди рассказывают, что он общается с богом и духами умерших. Как иначе объяснить, что он вышел из Риры цел и невредим. А говорят ведь, что он там был всему заводилой! — Чепуха. Мало ли что народ болтает!.. — не очень уверенно начал Каранджа. Он и сам не задумывался над тем, что будет делать в четверг. Но разве можно показываться в Табаи — в лучшем случае его засмеют! И все же надо поговорить с Мумби. Может, удастся всё-таки оторвать ее от Гиконьо. — Чепуха! Нет, надо пойти и посмотреть своими глазами. Этот Муго настоящий отшельник. Как вышел из лагеря, от людей бегает, ни с кем слова не скажет. Каранджа, там будет столько женщин! — А сам ты идешь? — спросил Каранджа, не в силах устоять перед искушением увидеть Мумби. — Чтобы я упустил такой случай! — Зайди за мной, — буркнул Каранджа, глядя в окно: Джон Томпсон ставил свой «моррис» на обычное место. — Вот и твой Томпсон, — сказал он Мвауре, едва скрывая торжество. Каранджа вскочил со стула, оправил комбинезон, провел ладонью по волосам и выбежал из комнаты, надеясь перехватить Томпсона в коридоре. Он задаст ему этот страшный вопрос. Но когда увидел отсутствующее бесстрастное выражение лица белого, комок подступил к горлу. Спросить или не спросить? — Извините, сэр! — пробормотал он, едва сдерживая слезы. Джон Томпсон прошел мимо, словно и не видел Каранджу. — Извините, сэр! — Каранджа с отчаянием обреченного перешел на крик. Теперь Томпсон услышал. — Да? — Голос его был ясным, ледяным, отчужденным. — Вы… — Каранджа проглотил вязкий комок, забивший глотку, — вы уезжаете! — Это было горькое утверждение, а не вежливый вопрос, который он намеревался задать как бы между прочим. — Что? — Вы… вы… — Он снова проглотил мешающий говорить ком, шумно передохнул и выдавил через силу: — Вы возвращаетесь домой? — Да, да, — отрывисто буркнул белый, несколько озадаченный бесцеремонным вопросом. Каранджа обезумел от ужаса. Он ломал пальцы заведенных за спину рук. Хоть бы сквозь землю провалиться! Кругом мрак, и ничего впереди! Томпсон двинулся было дальше, но вдруг остановился. — Тебе что-нибудь нужно? — резко спросил он. — Ничего, сэр. Ничего. Вы были так добры. Томпсон стремительно зашагал дальше. Каранджа вынул грязный платок, отер пот с лица. И поплелся на свое место, как собачонка, которую ни с того ни с сего побил любимый хозяин. Мваура все еще торчал в комнате — Каранджа его не заметил. Сел, руки безвольно упали на стол. Бессмысленным взглядом уставился на мир за окном. — Значит, все-таки уезжает? — заговорил Мваура с напускной робостью. — Не знаю, — ответил Каранджа сникшим голосом и вздрогнул, только теперь поняв, что он не один. — Что ты делаешь в моем кабинете? — заорал он. Мваура попятился к двери. Но зубы у Каранджи были обломаны. Больно кусать он уже не мог. Обессиленный криком, Каранджа повалился на стол. Мваура торжествовал, он даже позабыл на время, что ему поручено задобрить Каранджу и привести его на праздник Свободы. — Злишься, что твой хозяин тебя бросил, а? — не преминул он поддеть Каранджу с безопасного расстояния, распахнув дверь. — Такой невежливый хозяин, даже не попрощался. Я тоже работал у одного белого в Найроби. Когда он удирал из Кении, то перестрелял всех своих любимцев — кошечек и собачек. Не мог бросить их без присмотра. Но Карандже было не до Мвауры. Он не шелохнулся.
XI
Прощальный ужин в ресторане гитхимской гостиницы был назначен на восемь часов вечера. Томпсоны, хозяева вечеринки, приехали загодя, но обнаружили, что некоторые приглашенные опередили их, а некоторых не будет. Не будет д-ра Врайяна О’Доно-гью, директора Гитхимской научной станции лесного и сельского хозяйства, — высокого тощего господина в очках с толстой оправой, вечно разгуливающего по территории станции с книгой под мышкой; он отбыл в Солсбери на заседание Международной комиссии по лесоводству. Но вечеринку почтила своим присутствием его жена. Вскоре контингент официальных гостей получил подкрепление в лице директорского заместителя с супругой и начальников различных отделов. Через час зал наполнился пестрой толпой мужчин и женщин, звоном бокалов, анекдотами, смехом. Четой Томпсонов прочно завладели начальственные дамы к неудовольствию остальной публики, метавшей в них злобные взгляды. «Везде-то они властвуют, оттирают других. Разве нам не хочется перекинуться с Томпсоном словечком? (Бедняга Джон, такая душка, так мне нравится, какие манеры, какая беззаветная преданность делу, и до чего же несправедливо обошлось с ним правительство!)» Покопавшись в своем сердце, каждая гостья внезапно обнаруживала, что давно не чает в Джоне души, а уж ближе Марджери у нее и подруги не было, и что она готова на все, лишь бы Томпсоны наконец обрели столь заслуженный ими покой. Томпсон, ни с того ни с сего угодивший в самый центр скандала в Рире, — истинный мученик. Так его встретили в Гитхиме, так думают о нем сейчас, накануне его отъезда из страны, которой он служил верой и правдой. Едва начальство удалилось, сразу стало шумно и суматошно. Дамы атаковали Томпсона: что он думает делать; подыскал ли себе место; какой позор, что Британия бросает на произвол судьбы людей, которые на своих плечах вынесли тяжкое бремя работы в колониях; что правительство капитулировало перед африканским террором и международным коммунизмом. Поглядите, что делается в Уганде и Танганьике. Китайцы и русские пооткрывали свои посольства! Миссис Дикинсон, библиотекарь, большой знаток политики, предсказывала, что за Независимостью последуют хаос и разрушение. Она и ее друг Роджер Мэйсон уже заказали билеты на самолет — они летят в Уганду, чтобы пересидеть там резню и погромы в домах белых, которые в Кении не заставят себя ждать. «Помяните мое слово, — ораторствовала она, — через десять лет эти страны будут русскими сателлитами или того хуже — частью китайской империи». Одна из собеседниц перебила ее: «Вы уже подали в отставку? Пожалуй, надо и мне…» Некоторые допытывались у Томпсона, почему он решил распрощаться с Африкой. Другие держались в стороне, не желая смущать его и ставить в неловкое положение. («Бедняга Джон! — вздыхали они, с осуждением поглядывая на Марджери, которую обступили мужчины. — После истории с этим алкоголиком немудрено, что Джон горит желанием уехать подальше от места своего позора».) Мисс Линд беседовала с Роджером Мэйсоном о своей работе, но то и дело бросала тревожные взгляды в сторону Джона Томпсона. Она трещала без умолку, и Роджер Мэйсон, рыжеусый верзила, явно томился от тоски, не пытаясь даже сбежать. — Район Гитхимы? О да! Вполне благоприятен. Правда, картофель здесь часто поражает фитофтора, но от этого можно избавиться, обрабатывая посевы бордоской жидкостью. Однако посадки, зараженные бактериозом, опрыскиванием уже не спасешь. А в Кении, особенно на полях африканцев, чаще всего встречается именно эта напасть. О да, мы проводим множество экспериментов. Например, я теперь ставлю опыт, в котором при помощи меченых атомов прослеживаю путь бактерий внутри растения, но… извините, пожалуйста… Она метнулась к Томпсону, и ей удалось-таки заполучить его. Она постепенно загнала его в угол, заставила сесть. У нее был взволнованный вид, и он ждал, что она опять вернется к происшествию с собакой. — Вы помните, мыговорили вчера?.. — Да, ваш пёс… — Нет, нет. М-моя история. — Ах, да. — Я рассказывала вам о слуге. — Да-да. — Его так и не поймали. — Да, вы говорили мне. — Мне страшно. Я не знаю, как быть. — А в чем дело? — Я… я видела его. — Когда? — Вчера. К одиннадцати многие были уже навеселе. Несколько пар танцевало. Лакеи-африканцы в белых канзу[12], перехваченных красным поясом, и алых фесках стояли у стен, как изваяния. Мужчины толпились возле Марджери, оглаживая взглядами ее пышные формы. Но то одного, то другого жена уводила танцевать, и наконец рядом с ней остался лишь толстяк с длинной неопрятной бородой и кустистыми бровями, нудно о чем-то толковавший. Она бросала на мужа отчаянные взгляды, призывая его на помощь, но он не замечал ничего, увлеченный дебатами о политике, независимости и участи белых в стране с черным правительством. — Ведь это логично, не правда ли?.. — говорил бородач, в конце концов потащивший ее танцевать. — Не вижу никакой логики, — зевнула она, не в состоянии скрыть одолевавшую ее скуку. Человек этот напоминал ее любовника — как шарж, как карикатура. — …что мы все напились… Не знаю, что это со мной сегодня, — он икнул, — что вы… Внезапно раздался звон разбитого стекла. Танцующие остановились, спорщики примолкли, Марджери взглянула в сторону группы, где был ее муж. Рука его, поднесенная ко рту, была пуста. Все взоры впились в него. Марджери быстро шагнула к нему, взяла под руку и храбро улыбнулась в пространство. Подбежал официант с совком и щеткой, собрал осколки. Снова стало шумно. Веселье возобновилось. Джон и Марджери ехали домой. Машина медленно ползла в потемках. От сознания, что видит Гитхиму в последний раз, Марджери размякла: — До этой вечеринки я еще не осознала как следует, что мы действительно уезжаем. Теперь все это — наше прошлое. Он проехал мимо дома. На опушке леса остановил машину и зажег две сигареты. Внезапно Марджери осенило — это как раз то место, где она отдалась Вану. Она сделала несколько нервных затяжек, ожидая, что на нее обрушится поток упреков. — Возможно, что это еще не конец пути, — заговорил Джон. — Что? — Это еще не поражение! — хрипло воскликнул он. — Африка не сможет, не сумеет обойтись без Европы. Марджери сбоку взглянула на него, но ничего не сказала.XII
Когда Гиконьо вернулся домой, Мумби сразу увидела, что настроение у него отвратительное. Он не обмолвился ни словом. Впрочем, это было в порядке вещей. Она подала ему ужин — он лишь мельком взглянул на тарелку и снова невидящим взглядом уставился в стену. Но и к этому Мумби было не привыкать. Дышал он с трудом, будто сдерживая стон, и это убедило ее: что-то произошло. Она боялась его, боялась яростных вспышек гнева и все-таки не Удержалась, спросила: — У тебя неприятности? — В ее голосе звучала покорность и тревога. — С каких это пор ты стала лезть в мои дела? — огрызнулся Гиконьо. Она оскорбленно умолкла. Что на него нашло в последние дни? Даже не знаешь, что хуже — прежняя подчеркнуто вежливая сухость или то, как он теперь набрасывается на нее по любому поводу. — К нам заходил Муго, — холодно сказала она некоторое время спустя. — Просил тебе передать, что не будет выступать на празднике. — Что?! — заорал он так, будто она повинна в решении Муго. Она промолчала. — Ты что, оглохла? Я тебя спрашиваю: что он сказал? — Ты словно ищешь ссоры. Ты же слышал: Муго отказался произносить речь на празднике Свободы. — Открой рот пошире, а не бормочи сквозь зубы. Зубы твои я уже видел" мне на них смотреть неинтересно, — добавил он ворчливо, но без прежней злобы. Казалось, все обойдется, все возвратится в привычное русло сухой, вежливой отчужденности, но тут в комнату вбежал мальчик. Обычно Гиконьо и с ним держался ровно, не выказывая ни приязни, ни ненависти. Ибо, как он убеждал себя, дитя есть дитя и оно неповинно в том, что родилось на свет. Мальчик чувствовал холодность Гиконьо и инстинктивно чурался его. Однако сегодня он взобрался к нему на колени и принялся что-то дружелюбно болтать. — Бабушка рассказала мне такую замечательную историю… Знаешь историю про племя приму? Гиконьо грубо столкнул ребенка с колен с выражением гадливости на лице. Мальчик не устоял на ногах, упал навзничь и разрыдался. И столько горького недоумения было в его глазах, что Мумби не сдержалась. Она вскочила, гнев сжимал ей голос. — Меня тронуть у тебя смелости не хватает? Ты срываешь злость на ребенке… — Она бурлила, как река, прорвавшая плотину. Слова рвались из груди, лились неудержимым потоком, затопляя всю комнату, налетая одно на другое. — Женщина, молчи! — закричал Гиконьо, тоже подымаясь. — Ты что думаешь, я сирота? Думаешь, двери родительской хижины будут для меня закрыты, если я уйду из этой могилы? — Я заставлю тебя замолчать, потаскуха! — зарычал он, ударив ее наотмашь по щекам раз и другой. И лавина слов внезапно иссякла. Она не отрываясь глядела на него, сдерживая слезы. Мальчик с плачем побежал к бабушке. — Давно бы так, — тихо произнесла она, по-прежнему подавляя рыдания. Запыхавшись, в комнату ворвалась разгневанная Вангари, мальчик прятался за ее спиной. Вангари бросилась между Гиконьо и Мумби. — Что происходит, дети? — спросила она, обернувшись к сыну. — Он назвал меня потаскухой. Значит, мама, он держит в доме потаскуху, — ответила Мумби. Голос ее прервался, и теперь она дала волю слезам. — Гиконьо, что все это значит? — строго спросила Вангари. — Не вмешивайся, мама! — буркнул тот. — Не вмешиваться? — Она повысила голос, хлопнула себя обеими руками по бедрам. — Нет, вы послушайте, как мне отвечает сын! Матери, которая родила его! Не думала, что доживу до такого позора! Только тронь ее хоть раз, ты, называющий себя мужчиной! — Вангари пришла в неукротимую ярость. Гиконьо раскрыл было рот, но вдруг резко повернулся и выскочил. — А ты утри слезы и расскажи мне все по порядку, — мягко сказала Вангари. Мумби, тяжело дыша и всхлипывая, опустилась на стул.Река ищет русло. Гиконьо искал, на кого излить обиду. Это просто случай, что он обрушился на оказавшуюся рядом Мумби. Ее лицо и голос застигли его врасплох, когда завеса, тщательно скрывавшая от мира его исковерканную душу, была приподнята.
После беседы с депутатом будущие компаньоны обсудили положение и решили, что единственный выход — выпустить акции и пригласить в кооператив других крестьян. Тогда они наберут достаточно денег, чтобы расплатиться с Бэртоном. Во второй половине дня они отправились к нему, надеясь уладить дело. Пусть он возьмет задаток, в конце месяца они внесут остальное. А ссуду, которую обещал депутат, можно будет использовать на расширение и благоустройство фермы. Первое, что бросилось им в глаза у въезда в "Грин Хилл" (так называлась ферма мистера Нортона), была новая табличка на столбике. Гиконьо не поверил своим глазам. Они повернули обратно, не проронив ни слова: мистер Бэртон уехал в Англию; новым хозяином фермы стал их депутат. Гиконьо старался не думать о свалившихся на него напастях, о ссоре с Мумби. Главное — его обязанности перед партией. Он очень хотел, чтобы празднества в День свободы прошли успешно, помимо всего прочего, это увеличит его влияние, поднимет авторитет. Варуи был в хижине один. Он сидел у очага и нюхал табак. "Чем жив и счастлив этот дряхлый, одинокий старец, похоронивший жену? — размышлял Гиконьо, усаживаясь и выслушивая радостные приветствия хозяина. — Тем, что он всегда поступал как подобает воину, мужу и отцу, или тем, что жизнь его отдана людям? А я? Все заветные желания юности исполнились: я выстроил для матери дом, у меня есть земля, водятся деньги. Но и деньги не доставляют мне радости. Богатство — как соленая вода во рту: чем больше пьешь — тем сильнее жажда!" Однако Варуи был далеко не так доволен жизнью, как могло показаться. Он жил не мудрствуя, умел радоваться любому пустяку и не давал разочарованиям и бедам одолеть себя. В прошлом году умерла его жена. Муками до седых волос восхищалась мужем и расточала ему хвалы перед другими женщинами. И Варуи любил ее, баловал как мог. Она умела слушать, и каждый вечер он рассказывал ей все, что случилось с ним за день. Если не происходило ничего особенного, он припоминал старые истории о рождении партии, о том, как кикуйю рассорились с миссионерами, о походе в защиту Гарри. Муками часто бранила его за тщеславие, а сама таяла от каждого рассказа, подтверждавшего силу и отвагу мужа. Она родила ему трех сыновей, но дети не принесли радости. Их взяли в армию англичан. Старший погиб на войне, двое вернулись домой, со временем забыв обо всех военных тяготах, о творящемся в мире насилии, зато взахлеб рассказывали о странных землях и множестве женщин, которых они повидали. Чрезвычайное положение не коснулось их: они не ушли в лес и не попали в лагерь, они умели приспосабливаться к обстоятельствам и раболепствовали перед каждым, кто в тот или иной момент олицетворял власть. Когда чрезвычайное положение было отменено, они ушли в Рифт-Вэлли и нанялись издольщиками к белым землевладельцам. Камау, старший из двух оставшихся, безоговорочно верил во всесилье англичан. "Я так скажу: как завидишь англичанина — трепещи! — поучал он всех таким тоном, будто ему было известно про белых больше того, чем он готов поделиться со слушателями. — Я своими глазами видел, как они разделывали Гитлера. А немцы, скажу вам, тоже не дети. Ну, а что такое белому Кихика и его люди с их самодельными ружьями, стреляющими, когда не надо, ржавыми панга и тупыми копьями?" Варуи, однако, уповал на бога, народ и на то, что он про себя называл духом черного человека. Он верил, что такие люди, как Гарри и Джомо, обладают мистической силой, их речи всегда трогали его до слез; пускаясь в воспоминания о походе 1923 года, он заканчивал речь неизменными словами: "Эх, будь у нас копья!.." Теперь он так же горячо верил в Муго — вот с кого бы брать пример его сыновьям — и к Муго относил свою излюбленную формулу, к которой прибегал в течение многих лет, когда с точностью прорицателя, самого его удивлявшей, предсказывал будущих национальных героев: "По глазам вижу". Эти слова он часто повторял жене. Но Муками больше не было с ним, а сыновья не оправдали отцовских надежд… После нескольких ничего не значащих фраз Ги-коньо перешел к цели своего посещения. — Муго отказался возглавить празднество. — Но я его видел сегодня после полудня — он об этом ни словом не обмолвился. — Отказался. Странный человек, поди разберись в нем. — Теперь и я припоминаю: он был чем-то расстроен. — Я зашел за тобой, идем попытаемся уговорить его. Иначе придется искать кого-то еще, а на это времени нет. По пути Гиконьо рассказал Варуи о постигшей его неудаче с фермой "Грин Хилл". — А когда ты у него был в субботу, он даже не заикнулся, что купил ее? — изумился Варуи. — Еще чего! Правда, я заметил, что он все отводит глаза… — О боги, направляющие нас! — воскликнул Варуи. Он хотел было рассказать Гиконьо в утешение легенду о том, как народ поднялся против женщин-правительниц, которые жадно обогащались, забыв о своих обязанностях перед подданными, но буркнул только: — Ничего! Увидишь, они навлекут на себя гнев своих приверженцев. Гиконьо не ответил, и больше уже они об этом не говорили. Только на пороге хижины Варуи вздохнул: — Старая пословица, оказывается, верна: "Если твое поле у дороги, береги его от прохожих". Еще мальчишкой Муго отправился как-то на рунгейский полустанок поглазеть на поезда. Он бродил по платформе, зачарованный видом бесконечных товарных составов, и в одном из вагонов увидел холеных, гладких лошадей. Одна уставилась на него немигающим оком, зевнула, обнажив мощные зубы. Муго обмер от ужаса: а вдруг она выпрыгнет и затопчет его копытами. Выйдя из дома Гиконьо, где остались Мумби и Генерал Р, Муго испытывал тот же безотчетный страх. Страх гнался за ним по пятам, настигая его. Он хотел было вернуться в свою хижину, даже ускорил шаг, но повернул в деревню — его неудержимо тянуло к людям. Он старался думать о себе, ему с детства несладко приходилось, вспомнить хотя бы тетку, но не мог забыть ни на секунду о Гиконьо, о Мумби, об их загубленных жизнях. Солнце палило нещадно. Дети играли в пыли проулков между хижинами. Еще вчера, в воскресенье, хижины нового Табаи были для него чужими. Еще сегодня утром, до того, как услышал рассказ Мумби, вид новой деревни не будил в его памяти никаких воспоминаний. Теперь все переменилось. Хижины, пыль, ров, Бамбуку, Кихика, Каранджа, концлагерь, белое лицо, колючая проволока, смерть. И эти могилы подле рва. Холодная испарина выступила на лбу, и стук сердца, разбуженного нечаянным открытием, звучал как эхо того давнего ужаса перед лошадиными копытами. Два года назад, в лагерях, ему было бы безразлично, как умерла Бамбуку и где ее похоронили. Теперь, после рассказа Мумби, треснула броня его притупившегося сострадания и в душу хлынул бурный поток мыслей и чувств. Ее тяжкая исповедь и лицо Генерала Р растворились в воспоминаниях прошлых лет. Раньше он считал, что между событиями, происходящими в его жизни, не существует связи. Все предопределено свыше. И у человека нет выбора, так же как он не волен решать, рождаться ли ему на свет. Поэтому он не утруждал свой ум, не старался связать предыдущее с последующим. Теперь, ошеломленный, он бежал и бежал, не разбирая дороги. Посреди главной улицы Муго вдруг остановился, удивляясь, как это его занесло в деревню. Все время одни неожиданности. Он тряхнул головой и пошел напрямик через пустырь. Его тянуло ко рву, и он не мог противиться этому захлестнувшему его потоку воспоминаний. Страшный ров стал теперь неглубокой канавой. Стенки осыпались, целые груды земли лежали на дне. Картофельная кожура, гниющие кукурузные початки, обрывки бумаги, обглоданные кости усеивали края и скаты. Три женщины, согнувшись под связками хвороста, пересекли ров и направились к деревне. Муго побрел вдоль рва, чуть стыдясь своего любопытства. Он разыскивал тот участок, что вырыт его руками. Страх и нетерпение бурлили в нем. Он вопьется глазами в то место, и пусть сердце его не дрогнет. И снова та давняя сцена встала перед ним осязаемо и ярко. Третий день в нескольких шагах от него работала женщина. Полицейский прыгнул в ров и принялся хлестать женщину плетью. Муго чувствовал каждый удар на своей спине, и вопли несчастной казались ему стенанием собственного сердца. Он не знал ее, за эти три дня не заговорил ни разу — он отказывался видеть в окружающих товарищей по несчастью. И теперь перед ним была только женщина, плеть и полицейский. А люди продолжали копать, притворяясь, что не слышат криков — опасались, что и их постигнет та же участь. Лишь немногие, занося над головой мотыгу, тайком поглядывали на страдалицу. Не помня себя, Муго рванулся вперед и остановил руку с плетью, прежде чем полицейский успел пятый раз ударить свою жертву. К ним уже бежали другие полицейские, солдаты. Люди во рву перестали копать, наблюдая, как они навалились на Муго и полосуют хлыстами его тело. "Он с ума сошел", — говорили в деревне потом, когда Муго увезли в полицейском фургоне. В его памяти происшествие осталось каким-то кошмаром, пятном с неровными и расплывшимися краями. На многочисленных допросах он никак не мог припомнить и восстановить последовательность событий и видел только непроницаемое лицо сидящего за столом белого, чьи ледяные глаза ощупывали Муго с головы до ног. В голосе, когда белый наконец открыл рот — будто покойник заговорил, — звучала злоба: — Ты принимал присягу! — Нет, нет, эфенди. — Уведите его. Двое полицейских вытолкнули его из кабинета и, окатив холодной водой, заперли в камере. Странно, Муго лишь изредка вспоминал подкованные каблуки, погружавшиеся в его тело, а вот воду на цементном полу он не мог забыть. Муго поднял глаза. За рвом уходили вдаль узкие полоски земли, отгороженные одна от другой живой стеной буйно разросшегося кустарника. На своих наделах копались мужчины и женщины. Он смотрел и смотрел — так, словно все вокруг видел впервые. А ведь изо дня в день люди кланяются суровой земле, вымаливая у нее для себя пропитание. Любопытство, властно потянувшее Муго ко рву, уже умерло; ему захотелось убежать отсюда прочь, укрыться от барабанной дроби воспоминаний. Он повернул к деревне. Только в своей хижине он почувствует себя в безопасности. А ему сейчас так необходим покой, призрачное забытье, в котором он пребывал до того, как услышал рассказ Мумби и заглянул ей в глаза… Пыль облаком плыла над землей за его спиною. Тут-то он и встретился с Варуи, который, завидя его, отошел от группы односельчан, толпившихся у хижины Старухи. Как раз болтливого Варуи ему сейчас меньше всего хотелось видеть. Он, сам не зная почему, презирал старика. Лицо Варуи было омрачено какой-то думой. — В старину такие вещи бывали, но сейчас!.. — заговорил он так, точно Муго было известно, что его тревожит. — Какие вещи? — Они медленно пошли по улице рядом. — Ты ничего не слышал? — Нет. — Уму непостижимо! По правде говоря, и раньше такое случалось нечасто — может, раз или два. Когда я был юношей, я сам, вот этими глазами, видел человека, воскресшего из мертвых. — Да что случилось? — нетерпеливо перебил его Муго. — Ты знаешь Старуху? Знаешь, что у нее был сын, глухонемой? Муго насторожился. Неприязнь к Варуи исчезла. Теперь он сгорал от нетерпения, а Варуи еле ворочал языком. Муго вспомнил, что в воскресенье едва не зашел к Старухе в хижину. Умерла она, что ли? — Что с сыном? Ты же знаешь: его убили во время чрезвычайного положения. Пуля догнала его на бегу, угодила в самое сердце. Можешь себе представить, какое это было для нее горе. Все эти годы она не выходила из хижины, ни с кем словом не обмолвилась. И вот теперь вдруг она заговорила. Ни с того ни с сего. Говорит, что сын вернулся. Говорит, что видела его два раза. — Странно, странно, — пробормотал Муго. — Говорит, он зашел к ней в хижину, постоял и вышел. Она перестала запирать дверь, чтобы Гитого мог в любое время вернуться домой. И недавно он был у нее снова, опять постоял у двери и ушел. И вот Старуха говорит, говорит без умолку. — Странно, — повторил Муго испуганно. — Я и говорю, что странно. Где это видано, чтобы мертвые возвращались и лишали старых матерей покоя! Что было, то было, и о прошлом надо забыть. Когда наконец Муго избавился от Варуи, его охватило необъяснимое беспокойство. Он брел по улице, думая о Старухе и той таинственной нити, которая связывала их. Остановился, потряс головой, отгоняя прочь назойливые мысли. Пошел дальше и опять остановился, вздрогнул всем телом, представив себе встречу с призраком. Вся жизнь казалась бесцельным блужданием. Нет никакой связи между восходом и закатом солнца, между сегодняшним днем и завтрашним. Тогда почему его тревожит то, что умерло? И тут в его ушах зазвучал голос Мумби, и лицо Генерала Р возникло перед ним. Муго стоял один на деревенском пустыре. Нижняя губа отвисла, силы покидали его. Ослабев, он прислонился к стволу тонкого деревца и медленно сполз на траву. Обхватил голову руками. "Это не моя вина! — шептал он, убеждая самого себя. — Не моя! Все равно случилось бы то, что должно было случиться… все равно убивали бы мужчин и женщин во рву… Даже если… даже если…" Он бессильно застонал. Голос как нож рассек ему грудь, обнажив сердце. Дорога от его хижины вела ко рву. Но разве он всему виною? Христос все равно бы умер на кресте. Почему во всем винят Иуду, ничтожную песчинку в руках господних? "И Кихика распят!" — пронеслось у него в голове, и тут случилось совсем уж непонятное: он увидел явственно, как густая кровь сочится из глиняных стен его хижины. "Как это я раньше не заметил?" — недоумевал он почти без страха. И, дрожа от нетерпения, кинулся домой — убедиться в том, что это действительно кровь. Но стена была как стена. Он опустился на кровать, сжал голову руками. Уж не сходит ли он с ума? Он ужаснулся этой мысли и все глядел на стены.
К вечеру, когда стемнело, пришли Гиконьо и Варуи. — С головой у меня неладно, — пожаловался им Муго. — Я не выдержу, не выдержу — столько взглядов, глаз, столько лиц… — Прими аспирин, — сказал Варуи. Его угнетал полумрак и уныние, царившие в хижине. Он попытался шутить: — Как это написано на автобусе? "От мигреней и ангин помогает аспирин!" — Он тихонько засмеялся, но его никто не поддержал, и он виновато оборвал смех, вспомнив, что сам же расстроил Муго этими россказнями о Старухе. — Пожалуйста, подумай еще раз, — настойчиво попросил Гиконьо перед уходом. Он был удивлен, заметив страх на лице Муго. Варуи вспомнил, что еще не рассказал Гиконьо о Старухе. — Все это ей мнится, — недоверчиво буркнул Гиконьо, думая теперь уже о Мумби. Внезапно его обуяло страстное желание избить ее, избить безжалостно, поставить на место. И матери он не позволит больше вмешиваться. Он повернул к хижине Вамбуи: нужно сообщить ей об отказе Муго возглавить праздничную церемонию. Потом они вместе пошли по другим хижинам, передавая эту весть людям. Она вскоре распространилась по всей деревне. В неслыханной скромности человека, столько выстрадавшего, столько перенесшего, сказалось все величие его души. Легенда о Муго обрастала новыми героическими подробностями.
"Ну к кому обратиться в тяжелую минуту?" — размышлял Гиконьо, спеша излить свой гнев на Мумби. Он был зол на весь мир: на депутата (эти типы пекутся только о своем кармане!), на Муго (больно много о себе мнит), на Мумби (а я-то думал: в женитьбе счастье!). И по мере приближения к дому злоба росла. Теперь его никто не удержит. Он будет колотить ее до тех пор, пока она не взмолится о пощаде. Он рывком распахнул дверь и встретился взглядом с Вангари. — Она ушла к родителям. Во что ты превратил свой дом, свою семью? Измывался над женщиной ни за что ни про что. Посмотрим, какой тебе с этого будет прок! Отравляй и дальше себе жизнь, вместо того чтобы радоваться ей. Ты как ребенок — даже не пытался узнать, что же все-таки произошло. И что за золото твоя Мумби! Гиконьо знал, что, когда Вангари говорила таким холодным и ровным тоном, это означало, что она кровно обижена. Но сейчас его гнев был так велик, что он не мог ни о чем думать — только одна мысль сверлила мозг. — И хорошо! И чтобы не смела возвращаться! — заорал он, свирепо сверкнув глазами, словно это мать была повинна в том, что ему так не повезло в жизни. Вангари встала и погрозила ему пальцем. — Ты, ты! Если бы ты был младенцем, ползающим на четвереньках и сующим в рот глину и песок, я бы дала тебе такую взбучку, что ты б ее надолго запомнил. Но ты уже взрослый мужчина. Загляни себе в сердце и пойми сам, что тебе надо. И она хлопнула дверью, оставив Гиконьо одного в его новом, пустом доме.
XIII
Многие из нас, юных табайцев, впервые увидели его на базаре в Новом Рунгее под проливным дождем. Помните среду, накануне провозглашения Независимости? Дул ветер, и косой дождь хлестал по земле. Торговки, побросав товары, прятались в лавках, тесно сгрудившись на узких верандах. С мешков, которыми они накрыли головы, на цементный пол натекли целые лужи. Люди говорили, что этот ливень — благословение нашей так трудно добытой свободе. Му-рунгу на небе вечно бодрствует, и с незапамятных времен его благостные слезы орошают нашу землю. Мы, дети, в дождь всегда распевали: Нгаи дал кикуйю прекрасную страну с зелеными пастбищами, наша земля нас кормит и поит, и за эти блага кикуйю должны всегда прославлять Нгаи, ибо он так щедр к ним. Дождь хлестал, когда Кениата вернулся из Англии; и когда из Гатунду его переводили в Маралал, тоже шел дождь. И вот мы увидели человека, бредущего под проливным дождем. За плечами у него висела старая дырявая корзина с овощами. Он был высокий, широкоплечий и шел слегка сутулясь, как все люди недюжинной силы. То, что он единственный не испугался дождя, немедленно привлекло к нему внимание людей, жмущихся к домам, запрудивших веранды лавок. Некоторые даже протиснулись вперед, забыв про дождь, чтобы поглазеть на него. — Что этот болван делает под таким дождем? — По-моему, это глухонемой. — Наверное, хочет покрасоваться. — А может, его дом далеко и он боится, что ночь застигнет его в пути. — Пусть так, все равно мог бы переждать, пока ливень утихнет. Какой прок прийти домой с воспалением легких? — А может, он и не замечает ничего, может, у него тяжесть на сердце? Человек прошел вдоль ряда рунгейских лавчонок, повернул за угол и скрылся из виду. — Муго не как все. — Это сказала Вамбуи. Муго выбрался на базар за покупками. Когда он прокладывал себе путь в толпе между рядами сидящих на земле торговок, провожавших его любопытными взглядами, он уже жалел, что пришел сюда. И вдруг точно вечер настал раньше времени. Земля и небо стали угрюмо-серыми. Налетел порыв ледяного ветра, закружил обрывки бумаги, лоскутья, солому, перья. Вспыхнула молния, негромко зарокотал гром. И сразу хлынул дождь. Муго охватило странное чувство, будто на его глазах повторяется что-то, что с ним уже было. Он вспомнил о привидениях, которые много лет назад появлялись здесь меж индийских лавчонок, и пустился наутек. Кто-то из женщин затянул песню, родившуюся в ту пору, когда рыли ров, и ставшую чем-то вроде деревенского гимна. Другие подхватили:Муго прыгнул в ров
И сказал солдату
Слово, которое пламенем жжет:
"Не смей бить женщину,—
Она ребенка ждет!"
И когда уводили его солдаты,
Люди застыли И все примолкло,
А земля
От крови и слез промокла.
Вот что сказала Вамбуи: "День свободы без него померкнет. Муго — это воскресший Кихика". И она вышла на середину базарной площади, твердо решив добиться своего. Женщины должны что-то сделать. Только женщинам это под силу. "В конце концов, это же наш сын", — сказала она торговкам, сгрудившимся вокруг нее на площади, когда дождь утих. Боевой дух Вамбуи никогда не умирал. Она верила, что женщины способны повлиять на ход событий даже тогда, когда мужчины отчаиваются или топчутся в нерешительности. Многие в Табаи могли порассказать о знаменитой рабочей забастовке пятидесятого года. Забастовка должна была охватить всю страну, парализовать ее, поставить белых в трудное положение. Но часть рабочих с большой обувной фабрики невдалеке от Табаи и кое-кто из батраков с ферм белых заартачились: они не станут участвовать в забастовке. Партия собрала общее собрание в Рунгее. В самый разгар споров Вамбуи протиснулась сквозь толпу, во главе группы женщин взобралась на платформу и выхватила микрофон из рук оратора: "Неужто есть мужчины, у которых при виде белого поджилки трясутся? Пусть-ка они выйдут сюда, наденут наши юбки и фартуки, а штаны отдадут женщинам". Толпа разразилась хохотом. И нерешительным осталось только смеяться вместе со всеми. На следующий день ни один не вышел на работу. Теперь женщины решили послать за Муго Мумби. Она — сестра Кихики. Она победит Муго своей женственностью. Вамбуи немедленно отправилась в деревню, чтобы передать Мумби решение женщин. И тут она узнала, что Мумби ушла от мужа. Но Вамбуи все-таки отыскала ее. — Дело касается всего Табаи, — наседала она на молодую женщину. — Забудь о своих бедах, о домашних дрязгах и сердечных невзгодах. Отправляйся к Муго. Скажи ему: женщины и дети нуждаются в нем.
Мумби нелегко было объяснить родителям, почему она ушла от мужа. Она никогда не жаловалась раньше отцу и матери на отчужденность Гиконьо: как сознаться, что муж не ложится с тобой?.. Люди могут пустить слух, что он не мужчина или что-нибудь похуже. И родители приняли ее сухо. Ее встретили не с распростертыми объятиями, нет. Отец заявил, что не будет потакать дочери, ослушавшейся мужа. Да и Ванджику высмеяла ее несвязное объяснение. — Поражают меня нынешние жены! Муж не смей их пальцем тронуть, слова не смей сказать. В наше время и в голову не приходило бегать из мужней хижины. — Неужели вам совсем меня не жалко? Не могу я оставаться в его доме. После того, что он сказал, — не могу! — Не болтай глупостей! — Что ж, если я вам в тягость, скажите сразу — я уеду с ребенком в Найроби, куда угодно. Но к нему не вернусь. Даже паршивая собачонка огрызается, когда ей наступают на хвост. Ванджику в душе сочувствовала Мумби. Но ей предстояла нелегкая задача склеить то, что разбито. — Ладно, потом поговорим, дочка, — сказала она. И еще одно терзало Мумби. Даже несмотря на своё горе, она не могла забыть, что сказал Генерал Р: Каранджа будет убит за то, что выдал Кихику англичанам. И это новое убийство свершится во имя ее брата! Словно и без того недостаточно пролито крови! К чему отягощать землю новыми грехами? Утром, проснувшись, она еще не знала, как поступить. Но, к счастью, была среда, базарный день, когда в Рунгей сходились жители всех восьми холмов. Она встретила человека из Гитхимы, и ее осенило. Она достала бумаги — братья научили ее читать и писать — и нацарапала: "Не приходи завтра на праздник". Надписав на записке имя Каранджи, она отправила ее с человеком из Гитхимы, и ей стало легче… И вот теперь женщины обратились к ней за помощью. Первым побуждением Мумби было не вмешиваться в дела, которые касаются ее мужа. Но когда Вамбуи растолковала ей, что и как, в Мумби проснулось самолюбие. Гиконьо думает, что она одинока и несчастна, никому не нужна… А вдруг ей удастся то, что ему не удалось? Вечером она отправилась к хижине отшельника. После пасмурного дня стояла непроглядная темень. Волнуясь, шла она сквозь тьму и непогоду, словно в юности на свидание с любимым. "А что, если Муго…" Она не осмелилась довести эту мысль до конца. Страшно подумать, что будет, если Гиконьо застапет ее в хижине чужого мужчины… Но ведь она свободна, убеждала Мумби себя, отгоняя страх. Пусть застанет, повторяла она решительно. И все же ноги у нее заплетались, в висках бешено стучало. Когда она увидела Муго, стоявшего у двери, к сердцу хлынуло тепло и растворило страх. Но Муго неуклюже загородил ей дорогу, словно ждал, чтобы она объяснила свой приход. Она слегка смутилась и заговорила с напускной беспечностью: — Ты даже не приглашаешь меня войти? — Извини. Входи. — В темноте она не видела его лица, но безошибочно уловила дрожь в голосе. В хижине, при свете керосиновой лампы, она заметила, как неспокоен Муго. Его горделивая отрешенность исчезла, темные глаза глядели тоскливо, как у горьких пьяниц. Он забился в дальний угол, точно боялся ее. Он был красив и неприступен, и она закусила губу, собираясь с мыслями. Оглядела пустую хижину, голые стены, тускло освещенные керосиновой лампой. — Пусто у меня в хижине, — отрывисто сказал он, словно угадав ее мысли. — Как у всех холостяков. Много ли неженатому надо? — Она натянуто улыбнулась, озадаченная его недружелюбием и замкнутостью, составлявшими такой контраст вчерашней взволнованной восторженности. И к тому же примешивалась тайная мысль: "А если он захочет меня, если он?.." — Ты знаешь, зачем я пришла?.. — заговорила она неуверенно, надеясь сокрушить его настороженность, которая сковывала ее. — Нет. Может, это то, что ты рассказала мне вчера… Потому что я так и не понял, чего ты от меня ждешь. — О, я хотела, чтобы ты поговорил с мужем. Он бы тебя послушал. С тех пор как он вернулся, он ни разу не лёг со мной, избегает говорить о ребенке. До вчерашнего дня я не знала, что у него на уме. Как тяжело, тяжело, тяжело!.. — Она начала бесстрастно, но не выдержала, разволновалась. Сразу вспомнился день, когда Гиконьо вернулся из лагеря. Хотелось, чтобы он понял, как трудно ей пришлось, хотелось, объяснить ему все словами, взглядом, но нужные слова не шли на ум. Увидев его, она словно поглупела, лишилась языка. Но как ее тянуло к нему! Она стояла, уставясь глазами в стену, гадая, как поступит муж. Прошло некоторое время, прежде чем она очнулась. — Теперь это неважно. Я повздорила с ним вчера вечером и вернулась к своим родителям. — Нет, не может быть, — закричал Муго, теряя выдержку. — Это правда. Но не поэтому я пришла к тебе. Меня прислали женщины Табаи и всей округи. Они хотят, чтобы ты был завтра на митинге. — Я не могу, — решительно ответил он. — Ты должен! — настаивала она, раззадоренная отказом. — Нет, нет! — Ты должен — все люди ждут тебя. Народ требует. — Я не могу. — Они умоляют тебя! — Мумби! Мумби! — перебил он ее со страданием в голосе. — Ты должен, Муго, должен! — Нет. — Я умоляю тебя, — сказала она твердо, с какой-то новой силой и властностью. Она подалась вперед, заглянула ему в глаза, словно желая проникнуть в его сердце хоть на миг, чтобы разгадать секрет его власти над людьми. Долгую минуту они мерились взглядами, и внезапно она поняла, что теперь он в ее власти и она не выпустит его. — Ты понимаешь, о чем просишь?! — Все дело в лагерях? — спросила она мягко. — Да и нет — все сразу. — Что же? — Прежде всего я сам. — Тебе было тяжело. Мы знаем об этом. — Знаете? — Да. Так что же, Муго? — Ничего, если не считать, что я видел ползущих по земле людей — понимаешь, они ползли, как калеки, потому что руки и ноги у них были закованы в цепи. — Он говорил глухим шепотом, задыхаясь: — Горлышки бутылок загоняли в прямую кишку, и люди выли, как звери в клетке. Вот что такое Рира! — Он умолк, словно прошлое вплотную подступило к нему, и он напряженно глядел, проверяя, не упустил ли чего. Потом он нагнулся к Мумби и заговорщически зашептал: — Я был молод, когда впервые увидел белого человека. Я не знал, кто это и откуда. Теперь я знаю: Мзуигу[13] — не человек, и всегда помню об этом. Он дьявол, дьявол! — Муго замолчал, перевел дыхание и продолжал тем же страшным шепотом: — Я видел мужчину, которому щипцами вырвали плоть. Его вынесли из камеры, он упал и разрыдался… Я тогда заглянул в бездну, и на дне ее была тьма. Слезы градом катились по лицу Мумби. Ее сердце разрывалось от сострадания, ей хотелось прийти на помощь искалеченным, побеждать зло добром. — Но, Муго, — молила она сквозь слезы, — тем более ты должен завтра выступить. Не обязательно говорить о моем брате — он мертв. Его путь по бренной земле завершен. Говори для живых. Расскажи им о тех, кого изувечила война, кого она оставила нагим и босым, о тех, чьи раны не зарубцевались до сих пор, — о вдовах и сиротах. Расскажи народу о том, что ты видел. — Ничего я не видел! — Хотя бы то, что рассказываешь мне! — воскликнула она в отчаянии, чувствуя, что он ускользает из ее рук. Муго задрожал. — И о себе самом? — И о себе самом! — Ты хочешь, чтобы я это сделал? — простонал он, и этот стон, похожий на жалобу обреченного на заклание животного, поразил ее в самое сердце. — Да, — подтвердила она, борясь с безотчетным страхом. — Я одного желал — чтобы меня не трогали, оставили в покое. Но он вторгся в мою жизнь, здесь, в такую же ночь, и увлек меня за собой в пучину. За это я убил его. — Кого? О чем ты говоришь? — Ха-ха-ха! — дико захохотал он. — А кто убил твоего брата? — Кихику? — Да. — Белый человек. — Нет! Это я! Я!.. — Это неправда!.. Очнись, Муго! Кихику повесили. Послушай меня и успокойся. Да не трясись ты так! Я сама видела: он висел на дереве. — Это моих рук дело, моих! Ха-ха-ха! Вот что тебе хотелось узнать! И сегодня я снова убью — на этот раз тебя! Закричать, позвать на помощь!.. Но голос пропал. А Муго приближался к ней, заливаясь безумным смехом. Она метнулась к дверям, но он опередил ее. — Ты не сможешь бежать! Сядь… Ха! На этот раз — ты! — Он трясся, как в ознобе, слова с трудом вылетали из глотки. — Представь, что всю жизнь тебя мучает бессонница, чьи-то пальцы шарят по твоему телу, чьи-то глаза вечно преследуют тебя — из темноты, из углов, на улице, в поле, когда спишь, когда бодрствуешь, и этому нет конца. Эти глаза ни на минуту, ни на одну минуту не оставляют тебя одного: ты не можешь ни есть, ни пить, ни работать. Все вы — Кихика, Гиконьо, Старуха, этот Генерал — кто тебя послал ко мне? Кто? Ага! Снова эти глаза!.. Но мы еще посмотрим, кто кого! Она силилась закричать, но по-прежнему не могла издать ни звука. А он был уже рядом, одна рука зажала ей рот, другая ползла к горлу. Мумби тяжело, со стоном дыша, забилась в этих чужих руках. И тут она увидела глаза. Никогда никому не смогла бы она передать, какой ужас жил в них. И внезапно она перестала сопротивляться, бессильно обмякла. — Муго, что с тобой? Что? — спросила она, глотая слезы. Те, кто бывал в Табаи или на любом из восьми рунгейских холмов, от Керарапона до Кихинго, наверняка слышали о Томасе Робсоне — о Страшном Томе, как его звали. Он был символом мрачных и жестоких дней нашей истории — периода чрезвычайного положения. Люди говорили, что он бешеный, говорили с благоговейным страхом, называя его "Том" или же просто "Он", словно при упоминании его полного имени он мог материализоваться как дух, вызванный заклинаниями. Он разъезжал в джипе, с одним или двумя охранниками на заднем сиденье, с автоматом на коленях и револьвером в кармане брюк под охотничьей курткой, и всегда появлялся там, где его совсем не ждали. Его жертвой мог оказаться любой. Он хватал человека, называл его мау-мау и заталкивал в свой джип, довозил до опушки леса и приказывал ему рыть могилу. Потом ставил на колени и заставлял молиться. Молитву прерывала автоматная очередь, а чаще — револьверный выстрел. Иногда он отпускал свою жертву, возвращая ей жизнь буквально на краю могилы — несчастный до последней минуты не знал, бежать ли, рискуя получить пулю в спину, или покорно ждать в надежде, что Том сменит гнев на милость. И еще о нем говорили, что он вездесущий. Многие этому верили. Один видел Тома здесь, другой — там, в то же самое время. Черным людям часто снился его джип, и они кричали и метались во сне. Это был людоед, блуждающий день и ночь, он наводил ужас на всю округу. Это была смерть. Особенно яростно преследовал он издольщиков, которых переселяли из Рифт-Вэлли на землю кикуйю. Так прошел весь пятьдесят четвертый год. В мае пятьдесят пятого зверствам Тома пришел конец. Однажды вечером, мчась из Рунгея в районный комиссариат, он увидел на шоссе одинокого путника. Человек кинулся к обочине, прижался к кустам. Том заорал, подзывая его. Человек — это был старик — робко поплелся к джипу, колени у него выбивали дробь. Когда он подошел ближе, стало слышно, как он стучит зубами. Том от души расхохотался. "Не робей, отец! — крикнул он на суахили, точно сжалившись в кои веки над смертельно испуганным человеком. — Том тебя не съест". Внезапно согбенный старик выпрямился, выхватил из кармана пистолет — и две молнии ослепили Тома, две пули пронзили его тело. Прежде чем струхнувшие полицейские пришли в себя, человек перемахнул через придорожные кусты и побежал к индийским лавчонкам. Полицейские палили в воздух. Том умер не сразу. Деревенская легенда гласит, что он сам довел машину до госпиталя и только через три часа отдал богу душу, бормоча все время лишь одно слово: "Скоты!" Через несколько часов все деревни окрест кишели солдатами. Официальная версия, подхваченная газетами, обвиняла в бессмысленном убийстве головорезов из мау-мау. В тот день — о нем до сих пор вспоминают в деревне — Муго, как обычно, с утра отправился на свое поле у рунгейского полустанка и работал там в одиночестве, грезя о будущем. Он давно утвердился в мысли, что эти грезы — откровение свыше, что он отмечен перстом божьим. Небо уберегло его от всех жестокостей чрезвычайного положения. А ведь вся Кения стоном стонет с самого тысяча девятьсот пятьдесят второго года. Одни попали в концлагеря, другие бежали в лес. Но его ничто не трогало в окружающем мире. Он сторонился людей, жил в предвкушении дня, когда зазвучат трубы и глас небесный призовет его. Он слышал сетования людей, строящих хижины в Новом Табаи. Их заботы казались ему ничтожными. Женщины выполняют мужскую работу? Дети слишком рано становятся взрослыми? А разве сам он не принужден был сызмальства заботиться о себе? Муго одним из первых в срок закончил постройку. Поставил каркас, настелил кровлю, обмазал стены — и все сам, без посторонней помощи. Он перебрался на новое место, и жизнь пошла обычным путем — работа в поле, мечты о будущем. В тот день, в пятницу вечером, он вернулся с поля усталый и все-таки, прежде чем отпереть дверь, аккуратно прислонил мотыгу и пангу к стене. Любовно погладил рукою замок, помедлил, нащупывая скважину. Это было истинное наслаждение — прийти домой. Хижина была словно продолжением его самого — его дом, его любимое детище… Наконец он вошел, сел на кровать и залюбовался свежевымазанными стенами и крышей, куполом устремившейся вверх: с нее свешивались соломинки и папоротниковые листья. Вскоре в хижину вползла темнота. Насвистывая, он зажег керосиновую лампу, развел огонь в очаге, сложенном из трех камней, и поставил разогревать кашу из кукурузных зерен и бобов. Он всегда варил такую кашу впрок, так что вечером оставалось только разогреть ее. После еды он подошел к двери — проверить, надежно ли она заперта. И снова с наслаждением потрогал замок. Ему двадцать пять лет. У него нет ничего, кроме будущего да пары сильных рук. Потом он растянулся на кровати — что может быть приятнее после целого дня работы в поле. Он погладил живот и умиротворенно рыгнул. Снаружи, за стенами хижины, уже наступил комендантский час. Но это нисколько не касалось Муго, потому что и до пятьдесят второго года он редко выходил вечерами из дому. Он постепенно погружался в сладостное забытье, сумеречный полусон. В такие минуты в поле, дома душа его вступала в беседу с какими-то чудесными голосами. Потом голоса сливались в один глас божий, взывающий к нему, и Муго не медлил с ответом: "Вот я, господи!" Свистки, крики, топот грубо ворвались в ночную тишину. Грезы отлетели прочь. Такое бывало обычно, когда "лесные братья" совершали налет на деревню или покушение на важную персону. Но в Табаи давно уже было тихо, с тех самых пор, как люди из леса прикончили преподобного Джексона Кигонду, директора школы Муниу. Свист и крики то становились громче, то отодвигались, затихали, словно ветер относил их в сторону. Вот всесмолкло. Деревня погрузилась в тишину. И снова ружейные выстрелы, крики и далекий женский плач. Выстрелы раздались совсем рядом, и свистки стали настойчивыми и пронзительными. Кто-то крикнул "Робсон!" Муго приподнялся на постели, опершись на локоть, и, напуганный близостью выстрелов и криков, почувствовал, как сердце его неровно забилось. И снова шум утих. Муго услышал чей-то жалобный, испуганный голос: "Я просто шел домой, правда, домой шел!.." Потом воцарилось безмолвие. Муго улегся и задремал. Он был одним из тех немногих счастливчиков, к кому в хижину еще не разу не врывалась ночью полиция. Муго не мог бы сказать точно, сколько времени проспал; его разбудил стук в дверь. Он удивленно открыл глаза и сел. Кто бы это мог быть? Стук повторился. Муго нехотя поплелся открывать, но на полпути остановился, потому что нечаянно задел лампу — и она потухла. Внезапная темнота напугала его еще больше, чем стук в дверь. Он принялся искать спички. Когда постучали третий раз — настойчивее и продолжительнее, он подскочил к двери. Открыл и отступил назад, давая дорогу полицейским. А сам снова принялся на ощупь искать спички. — Сейчас я засвечу лампу, — пробормотал он, украдкой разглядывая застывший на пороге силуэт. — Не нужно, — отозвался тихий голос. — Хватит и угольков в очаге. — Кто ты? — Тс-с! Не кричи. И не бойся. — Кто ты? — повторил Муго, стараясь припомнить, чей же это голос. Человек коротко и нервно засмеялся, и Муго почувствовал вдруг, что замерз. Он наступил на спичечный коробок, поднял его и хотел было чиркнуть спичкой, но человек властно зашептал: — Не надо. Кругом солдаты и полицейские. Он убит! — Кто? — Районный комиссар. — Робсон? — Да. Я пристрелил его. Я давно задумал… Почему-то в этом шепоте Муго почудились слезы. Спички выпали из рук. Он нагнулся за ними машинально, думая совсем о другом. В животе похолодело, по телу пробежали мурашки. — Я все-таки зажгу лампу, — произнес он глухим голосом. — Как хочешь! Я-то привык к темноте… Как думаешь, станут они ночью обыскивать хижины? Наконец Муго справился с лампой и перевел взгляд на гостя. — Кихика! — невольно вскрикнул он. На Кихике была старая, рваная шинель — из тех, что привезли солдаты с последней войны, теперь их донашивают старики, — и грязные теннисные тапочки. Из-за густых коротких волос черты лица казались крупными, резкими. Муго отшатнулся назад, прислонился спиной к потолочной подпорке. — Я не думал увидеть тебя. — Ты извини, — сказал Кихика, обводя глазами хижину. — Я не хотел, чтобы они выследили меня в лесу. И еще мне нужно было с тобой повидаться, давно хотелось поговорить. — Вот стул. — О, я привык стоять. Дни и ночи на ногах… — Почему? — В лесу дремать не приходится. — Зачем я тебе? Я ничего не сделал, — взмолился Муго. Но прежде чем Кихика успел ответить, снова донесся свист и крики. Кихика, выхватив револьвер, нырнул под кровать. Муго бессильно рухнул на стул, чувствуя, что готов зарыдать в голос. Его поймают с поличным, найдут преступника в его доме… Лампа горит… Он быстро задул ее. Хижина снова погрузилась во тьму. Свист и голоса затихли. Кихика вылез из укрытия и шагнул к очагу. В красном отсвете углей его силуэт казался огромным. — Мы не убиваем без разбору, — продолжал Кихика, точно и не прерывал разговора. — Мы не убийцы и не палачи, вроде Робсона, чтобы лишать людей жизни ни за что ни про что. — Он говорил быстро, нервно расхаживая взад и вперед. И этот человек сжег Махи! Это им так восторгались женщины на митинге! — Мы лишь защищаем себя. Если тебя ударят по левой щеке, подставляй правую. Год, два, три — и вот уже шестьдесят лет. И вдруг — такое всегда происходит внезапно — ты говоришь: "Хватит!" Ты становишься спиной к стене и отбиваешься. Наконец вспоминаешь, что ты мужчина. Думаешь, нам доставляет удовольствие драться за пищу с гиенами и обезьянами в лесу? Мне тоже дорог уют домашнего очага и женская ласка. Но мы вынуждены убивать, чтобы враги черного человека заснули вечным сном. Они говорят, что у нас силенок мало. Говорят, что против бомб нам не выстоять. Если мы поддадимся малодушию, то никогда не победим. Я презираю слабых. Их затопчут до смерти. Я презираю трусость наших отцов, не могу гордиться их памятью. Не сегодня-завтра хилые и трусливые исчезнут, их сотрут с лица земли. Сильные люди будут править страной. У наших отцов не было причин не верить в себя. И слабые обретут силу. Почему? Потому что люди, объединенные верой, сильнее бомб. Они не содрогнутся и не побегут при виде вражеского меча. Напротив, они обратят противника в бегство. Это не лепет безумца. Ни убеждения, ни мольбы не заставили бы фараона отпустить детей Израилевых. Но в полночь господь поразил всех перворожденных на земле Египта, от первенца фараона, восседавшего на троне, до первенца пленника, томящегося в темнице. И весь первый приплод скота. И на следующий день фараон их отпустил. Наша цель — посеять панику в стане врагов. Сражать белых отравленными стрелами днем и ночью. Чтобы кровь леденела в их венах, чтобы они не знали, где ждет их новый удар. Вселить страх в сердца угнетателей. Он говорил и говорил ровным голосом, забыв, казалось, о Муго, о грозившей ему опасности, словно одержимый изливая горечь и боль в безудержном потоке слов. И каждое из них подтверждало подозрения Муго: перед ним сумасшедший. — Думаешь, мы не боимся смерти? Боимся. Ноги сделались ватными, когда Робсон окликнул меня. Каждую секунду я ждал, что получу пулю в сердце. Я видел, как перед боем люди мочились в штаны и сходили с ума от страха. А животный страх умирающего — что может быть страшнее? Кто-то погибнет, но ради жизни других. Во имя этого стоит идти на Голгофу. Иначе нам суждена рабская доля — навечно остаться водоносами и дровосеками у белого человека. Выбирая между свободой и рабством, настоящий мужчина предпочтет свободу, даже если бы ему пришлось заплатить за нее жизнью. Он вдруг замолчал, словно только сейчас заметил Муго. Муго сидел напрягшись, опустив голову. Он не сомневался, что сегодня же ночью его уведут полицейские. "Кихика — безумец, безумец", — думал он, и страх все рос. — Чего же ты хочешь от меня? ("Пусть говорит! Сумасшедший не так опасен, когда говорит".) — Нам нужна сплоченность. Белый человек знает это и пытается нам помешать. Поэтому и переселили вас сюда из родных деревень. Белый человек хочет оградить "лесных братьев" от народа, единственного источника нашей силы. Этого допустить нельзя. Мы должны быть едины. Я приметил тебя еще в старом Табаи. Ты человек самостоятельный, много видел лиха. Именно такой нам и нужен, чтобы организовать в новой деревне подполье. Муго содрогался от каждого слова Кихики. — Я… я никогда не принимал присягу… — заикнулся было он. — Знаю, — ответил Кихика. — Но что такое присяга? В иных случаях, верно, она необходима. Есть люди, которые не могут сохранить тайну. Знаю таких. Достаточно взглянуть человеку в лицо… И другие бывают: принял присягу, а теперь лижет белым пятки. Нет, присяга только укрепляет ранее принятое решение. А решение сложить голову за свой народ принимается сердцем. Присяга — водичка, ею кропят голову при крещении. Муго вспомнил, что дверь не заперта. Поднялся, прошел мимо Кихики и припал к замочной скважине. Можно выбежать наружу и позвать полицейских. Но у Кихики револьвер, тот самый, из которого он только что прикончил Робсона. Муго запер дверь и вернулся на прежнее место. Неужто это не сон, не кошмар? Человек, сжегший Махи, убивший Робсона, — здесь, в его хижине! Он чувствовал, что должен как-то ответить Кихике, но ему ничего не шло в голову. В деревне мертвая тишина. Кажется, что не было ни свиста, ни выстрелов. Но Кихика по-прежнему здесь, и он уже дышит ровно, уже не мечется по хижине. Внешне он совсем спокоен. И это не призрак, это он сам! — Мы встретимся через неделю, — торжественно произнес Кихика. Муго лишь кивнул в ответ. Кихика подробно объяснил, где будет ждать его в лесу Киненье. И только Кихика кончил говорить, как в третий раз отдаленные крики взорвали тишину. Шум то нарастал, то слабел, но больше не прекращался до самого утра. На следующий день Муго узнал, что арестовано много мужчин, подозреваемых в связях с мау-мау и в пособничестве убийце Робсона. Двое были застрелены наповал; позднее в газетах написали, что они являлись членами шайки, совершившей нападение на безоружного районного комиссара, чьи заслуги всем хорошо известны. Кихика подошел к двери и прислушался. И снова Муго подумал, что можно его схватить и позвать на помощь. — Мне надо идти. Чего доброго, они начнут рыскать по хижинам, — шепотом сказал Кихика. К нему вернулось беспокойство беглеца, скрывавшегося от погони. Он приоткрыл дверь и выскользнул из хижины. — Так помни же о нашей встрече, — шепнул он, прежде чем раствориться во тьме, исчезнуть так же стремительно и беззвучно, как появился. Муго застыл посреди своей новой хижины. Все рухнуло, все пропало!.. Он сорвался с места, подбежал к двери, распахнул ее настежь, надеясь, что решится наконец позвать на помощь; постоял, глядя в ночь, и в третий раз защелкнул замок. Но зачем запираться, зачем? На что годится дверь, если она впускает в дом лютый холод и смертельную опасность? Он отпер замок и, пошатываясь, побрел к постели, сел, спрятал лицо в ладони. Вынул грязный платок, чтобы вытереть холодный пот с лица и шеи, но тут же забыл про него. Платок упал на колени. Ветер приносил отдаленный шум, и казалось, все это длится целую вечность. А может быть, шумело у него в голове. Несколько часов назад, покойно лежа на кровати, он был полон надежд и светлых грез о будущем. Вот его кровать, в хижине ничего не изменилось, но будущее — сплошная тьма. С минуты на минуту надо ждать полицейских и солдат. Они придут за ним. А там — тюрьма, смерть. После налета на Махи власти объявили розыск Кихики. Если бы его застали здесь, в доме Муго, — конец! "По какому праву Кихика втягивает меня в свои дела? Зачем? Разве мало того, что они повинны в смерти мужчин, женщин и детей? Он хочет, чтобы и я обагрил руки в крови. Я ему не брат, не родственник. Я никому не причинял зла. Я люблю землю, люблю работать в поле. Почему же по сумасбродной прихоти другого человека я должен всю жизнь томиться в тюрьме?!" Проснувшись на следующее утро, Муго изумился, что он все еще дома, а не за решеткой. Он старался позабыть о ночном госте. Это был всего лишь сон. У него и раньше случались кошмары. Ночью обостряются все наши страхи, беды. И отчаяние кажется безграничным. Кусты и деревья — и те ночью похожи на людей. Ха-ха-ха! Но эти жалкие попытки убежать от действительности не помогали. Лицо Кихики неизгладимо врезалось ему в память: короткие густые волосы, бегающие глаза, это воспоминание не оставляло лазейки для душевного успокоения. Муго дрожал от озноба, несмотря на то что солнце припекало. Представьте себе человека, спокойно идущего по вечерней дороге, не опасающегося ничего — он один. Вдруг опускается ночной мрак, и он уже дрожит и думает, что сейчас непременно сломает ногу, потому что на дороге обязательно окажется глубокая яма. Следующие несколько дней Муго ходил в поле просто по привычке. Он брел по тропинке, каждую секунду ожидая, что на плечо ему опустится властная рука, Когда он встречал полицейского или солдата, на лбу выступал пот, ноги подкашивались. Он ни на миг не забывал о преследующей его тени Кихики, ждущей ответа. "Что же мне делать? — спрашивал он себя. — Если я откажусь, Кихика меня убьет. Он убил преподобного Джексона и учителя Муниу. Если же свяжусь с ними, угожу в тюрьму. У белого человека длинные руки. Меня повесят. Я не хочу умирать! Я не готов к смерти, я еще не жил…" Всю свою жизнь Муго избегал конфликтов. В детстве он держался подальше от мальчишек, боясь быть втянутым в драку. Он рассуждал так: коли ты не взываешь к дьяволу, дьявол пренебрежет тобой; если ты избегаешь людей, то и люди должны оставить тебя в покое. Вот почему теперь, мучаясь бессонными ночами, он только озадаченно вздыхал. Я ведь ничего не украл. Нет. И не делал соседу пакостей. Нет! Может, я убил кого? Нет. Почему же Кихика, которому я не причинил ничего дурного, желает мне зла? "Завидует!" — решил он, не найдя другого ответа. Воскресла его давнишняя ненависть к Кихике, он буквально задыхался от нее. Кихика, у которого есть и мать, и отец, и брат, и сестра, может позволить себе играть со смертью. Будет кому его оплакивать, будет кому назвать детей в его честь, чтобы имя Кихики никогда не исчезло с людских уст. У Кихики есть все, у Муго ничего нет! Мысль эта не оставляла его ни днем ни ночью, наполняла тихой яростью, сушила гневом, который заслонял все остальное. И все же он никак не мог принять решение. Так настала пятница, роковой день. По привычке он взял мотыгу и пангу и побрел на свое поле. Чтобы избежать встреч с односельчанами, свернул на заброшенную тропку, ведущую к Рунгею. Было еще очень рано, на полях — ни души. Там, где всего неделю назад стояли хижины, теперь чернели пепелища. Но Муго не видел ничего. Мягкий утренний свет обжигал воспаленные бессонницей глаза. После ночных бодрствований, горячечных, бесконечных, неотвязных мыслей он достиг той степени изнуренности, когда человек становится раздражительным, готовым взорваться по малейшему поводу, забыв обо всем на свете. Он брел, задевая мокрый от росы кустарник, и веселые струйки воды стекали по его ногам. Нижняя губа отвисла, как всегда, когда он был чем-либо расстроен. Он трясся всем телом, точно старик. Дрожь и смятение усиливались с каждым шагом. Дойдя до индийских лавчонок, он почувствовал себя таким обессиленным, что не мог двигаться дальше, бросил мотыгу на кучу мусора позади какой-то лавки и сам опустился рядом передохнуть. Пригреет солнце, и черные дети придут сюда копаться в кучах гниющих отбросов в надежде найти что-нибудь съедобное, а если повезет, то и мелкую монетку. Дети лавочников и взрослые присаживались на этих кучах по нужде. Натыкаясь на испражнения, черные малыши зло ругались и, завидя своих индийских сверстников, кидали в них камни. Был случай: африканских мальчишек поймали в тот момент, когда они повалили здесь индийскую девочку. Они были несовершеннолетние, поэтому судья отправил их в исправительную школу Вамуму. Но сейчас Муго было не до этой истории. Он качался, обхватив голову руками, и причитал: "Что, что ему от меня нужно?" Налетевший ветерок подбросил в воздух пыль и мелкий мусор. Муго закрыл лицо ладонями, чтобы уберечь глаза. Пыль, клочки бумаги, описывая спирали, взмывали все выше и выше. Люди говорили, что такой ветер насылают фурии. Обычно он продолжался несколько секунд и исчезал так же неожиданно, как поднимался. Но сейчас он все крепчал, и уже целые тучи мусора носились в воздухе. Наконец ветер утих. Муго наблюдал, как медленно оседает пыль. Это зрелище почему-то подействовало на него благотворно. Исчезла дрожь, прошла подавленность. Он подобрал мотыгу и бодро двинулся дальше. Он был почти спокоен. Но недолго. Он прошел всего несколько шагов, и сердце екнуло: со стены из рифленого железа на него смотрело лицо Кихики. Он глядел не отрываясь на это черное лицо, четко выделявшееся на белом фоне, а оно становилось крупнее и крупнее, и уже все вокруг было заполнено только им. Волнение и пьянящий ужас, которые он уже испытал однажды в детстве, в ту ночь, когда собирался задушить тетку, захлестнули Муго. За голову Кихики назначено вознаграждение!.. За голову… Кихики. В радостном изумлении Муго зашагал к канцелярии районного комиссара. Бог приказал Аврааму принести в жертву своего единственного сына Исаака, сжечь его на горе в стране Мориа. Авраам построил алтарь, и сложил дрова, и связал сына своего Исаака, и простер длань, и занес над ним нож. Исаак покорно ждал, когда нож обезглавит его. Он знал, что занесенный меч должен опуститься, он уже чувствовал на своей шее его холодное лезвие. Но тут Исаак услыхал глас божий. Он зарыдал. "Спасен, спасен!" — ликующе повторял Муго. Он плыл над землей в этом видении. В его затуманенной голове, как смерч, проносились мысли и оседали, укладываясь в конкретную логику внезапно озарившего его решения. Довод был столь ясен, столь радостен, он объяснял все, что раньше не поддавалось разумению. Я избран свыше. Я не должен погибнуть. Я должен быть здоровым и крепким — в чаянии дела всей моей жизни… Это мой долг перед самим собой, перед грядущим. Господь не допустил, чтобы Моисей пропал в тростниковых зарослях, ибо у него было великое предназначение. К этим возвышенным думам примешивались мысли о вознаграждении, о деньгах и связанных с ними многообразных возможностях. Он прикупит земли. Построит большой дом. Подыщет жену и наплодит детей. Новизна и доступность всего этого кружила голову. Никогда раньше Муго и помышлять не смел о женщине. Теперь он перебирал одну за другой всех деревенских девушек. Он похвастает своим триумфом перед тенью тетки, добьется положения в обществе, приблизится к людям, властным над другими людьми. Ибо чего стоит богатство без власти? Что такое власть? Судья властен. Он волен отнять у человека жизнь, и никто не усомнится в его правоте. Да, положение в обществе — это право невозбранно причинять боль другим, чтобы тебе покорялись безропотно. Как директору школы, судье и губернатору. Когда, запыхавшись, он прибежал к районному комиссару, было еще слишком рано. Дом для канцелярии выстроили недавно в месте, одинаково удаленном от всех окружающих деревень. Двое полицейских в глухих черных свитерах охраняли вход. С нетерпеливой досадой взирал Муго на это препятствие, выросшее на его пути. — Мне надо повидать районного комиссара, — еще не очнувшись от своих грез, буркнул он, норовя прошмыгнуть мимо часовых. — По какому делу? — Один из полицейских ухватил его за плечо и отшвырнул назад. — Я пришел поговорить с ним с глазу на глаз, — изумившись, ответил Муго. — С мотыгой и пангой? Ха-ха-ха! — Скажи нам, зачем он тебе понадобился? — Не могу. Вам — не могу. Полицейские глумливо заржали, выхватили у него из рук мотыгу и пангу и отбросили в сторону. — Не может… Нет, ты слышал? Чего тебе, деревенщина? — Я должен… это… это очень важно. — В душу заползал страх. Полицейские тщательно обыскали его, грубо толкая из стороны в сторону. — Надо бы его раздеть. — Ишь, долговязый… Если все у него такое… — Достается от тебя женщинам, а? — Женщинам? Ты шутишь, что ли! От такого любая шлюха сбежит. — Некоторые с коровами любятся. Ха-ха! — Ха-ха! Или со старухами. — Ха-ха-ха! На крыльце показался районный комиссар Джон Томпсон и прикрикнул на часовых. Они доложили ему о Муго и получили приказ впустить его. Муго едва дышал, когда влетел в кабинет Томпсона. Он испытывал признательность белому, избавившему его от стыда и унижения, но теперь, очутившись в кабинете, растерял все мысли и не знал, с чего начать. Впервые он так близко видел белого. Он перевел взор на противоположную стену, решив по возможности не глядеть белому в лицо. — Чего ты хочешь? — Холодный, ровный голос вывел Муго из оцепенения. — Кихика… Я пришел сюда насчет него. Томпсон выпрямился на стуле. Потом встал, оперся руками о край стола, пристально разглядывая Муго. Оба они были примерно одного роста. Муго решительно избегал встречаться с белым взглядом. Белый снова сел. — Ну и что? — Я знаю, — повторил он тихо, — я знаю, где найти Кихику сегодня вечером. И снова ненависть к Кихике переполнила сердце. Он дрожал от торжествующей ярости, выкладывая все, что терзало его вот уже неделю. Все его существо обуяла чистая, упоительная радость. Он был вне добра и зла: он наслаждался властью и силой того, что знал. Разве не держал он в своих руках судьбу другого человека? Его сердце было как наполненная до краев чаша. Слезы облегчения оросили глаза. Целую неделю он сражался со злыми духами, один на один. Это признание было его первым общением с живым человеком после долгих семи дней одиночества. Он проникся глубокой благодарностью к белому, внимательному слушателю, который снял тяжесть с его сердца, избавил от кошмара. Он даже осмелел до того, что взглянул на белого, нежданно-негаданно обретенного друга. Улыбка расплылась по лицу и замерла, превратившись в оскал, когда глаза его встретились с непроницаемым, холодным и жестким взглядом белого. Районный комиссар обогнул стол, приблизился к Муго. Взял его за подбородок, закинул голову назад. И неожиданно плюнул в черную физиономию. Муго отшатнулся, поднял левую руку, чтобы отереть лицо. Но белый опередил его и закатил Муго увесистую пощечину. — Многие уже пытались дурачить нас ложными показаниями. Ты слышишь? Они тоже зарились на вознаграждение. Мы не выпустим тебя отсюда, пока не проверим твоих слов, и если окажется, что ты солгал, вздернем тут же. Ты понял? С этим кошмаром ничто не могло сравниться. Стол, белое лицо, потолок, белые стены завертелись волчком. Потом вдруг все замерло на месте. Он пытался успокоиться. Но земля вздыбилась под ним, и он стал падать. Он воздел руки кверху, в глазах было темно. Он знал, что падает на острые камни. Это неотвратимо, слезы ему не помогут. Со сдавленным криком он рухнул на выпирающие острыми краями камни, к ногам белого. Потрясение было столь велико, что все в нем онемело — он не ощущал боли, его не пугала кровь. — Ты слышишь? — Да. — Ты должен говорить мне "эфенди". — Да… Слово застряло, заперло глотку. Из отверстых губ вылетали несвязные звуки. В уголках рта собиралась пена. Он уставился на белого с влажным блеском в глазах, не видя его. Потом стол, стул, районный комиссар, беленые стены, земля снова закружились все быстрее и быстрее. Он ухватился за стол, чтобы сохранить равновесие. Ему уже не надо было денег. Лишь бы не думать о том, что он натворил!..
Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Евангелие от Иоанна, 12;24 (Подчеркнуто черным в Библии Кихики.) И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали… Откровение, 21; 1
Кения обрела независимость 12 декабря 1963 года. За минуту до полуночи на стадионе в Найроби были погашены огни, и трибуны с людьми, собравшимися на торжественную церемонию со всех концов страны и мира, погрузились во мрак. В темноте был торопливо спущен "Юнион Джек". И когда вновь вспыхнули прожекторы, новый кенийский флаг трепетал на ветру, полицейский оркестр исполнял новый национальный гимн, и толпа, увидевшая этот черно-красно-зеленый флаг, протяжно и восторженно зарокотала. Стадион гудел, как лес в бурю, когда ветер с корнем вырывает вековые деревья и они рушатся в жирную глину. С неба моросил дождь, но в нашей деревне все от мала до велика высыпали на улицу, пели и плясали, меся ногами жидкую глину. Ночь была темная, поэтому люди вынесли на порог керосиновые лампы. Как водится, подростки и юноши бродили кучками с факелами в руках, шныряли по темным углам, таинственно шептались о чем-то, поджидая своих возлюбленных. И матери зорко следили за дочками, твердили им, какие опасности подстерегают девушку в темноте. Девушки танцевали на площади в центре круга, вызывающе вертя бедрами, зная, что за ними наблюдают мужчины. Люди томились в ожидании, словно роженица, обуреваемая сразу и страхом и радостью, и это томление искало выхода в криках, веселых возгласах, смехе. Люди переходили с места на место, запевали песни во славу Джомо, и Каггиа, и Огинги. Не забыли и Вайяки, который еще в прошлом веке осмелился бросить вызов белым, явившимся вслед за Лугардом в Дагоретти. Вспомнили и своих деревенских героев. Складывали на ходу песни, прославляя подвиги Кихики в лесу, с которыми могло сравниться лишь подвижничество Муго во рву, его стойкость в концлагере. Рождественские гимны сменялись песнями и танцами, которые исполняют лишь при обряде инициации, когда мальчики и девочки наделяются правами и обязанностями мужчин и женщин. Всем праздникам праздник. Но людям хотелось придумать что-то еще, особенное. Не помню точно, кто из женщин предложил пойти к этому отшельнику, Муго, и спеть для него. Идея была встречена восторженно, и толпа повернула к его келье. Более часа хижина Муго находилась в осаде. Имя его было у всех на устах. Ему плели венок новых легенд и придумывали новые подвиги. Все надеялись, что вот распахнется дверь и герой присоединится к людям, но он даже не открыл на их стук. Когда приблизилась полночь, толпа ликующе загудела, Женщины пятикратным кличем "Нгеми!" приветствовали новорожденную свободу — так люди кикуйю встречают появившегося на свет младенца — и запели хвалу в честь Кихики и Муго, двух героев войны за освобождение. Ведь они были свои, деревенские. И разошлись по домам в ожидании утра, когда должно было начаться всенародное празднество. Среди ночи моросящий дождь сменился тяжелым ливнем. Небо громыхало, то и дело озарялось молниями, и их ослепительный свет проникал в хижины через каждую щель в стене. Всю ночь стонали, гнулись под ветром деревья и кусты, дождь хлестал их не жалея. Ветхие крыши потекли, заставив обитателей кочевать с постелями с места на место. Деревья в лесу выворачивало с корнем, буря ломала ветви, молния расщепляла стволы. Опустошение — вот что предстало нашим глазам на следующее утро, когда мы отправились на большой луг близ Рунгея, где должны были состояться соревнования и танцы в честь Свободы. Посевы на склонах холмов пострадали. Бурлящие потоки размыли поля извилистыми промоинами. Выкорчеванные из земли кусты картофеля, плети бобов, в клочья растрепанная зелень кукурузы устилали землю. Унылое утро, да родит ли такое день? Но дождь перестал. Воздух был мягкий и свежий, и знакомое тепло поднималось из пор отяжелевшей земли, согревая сердца.
Широкая поляна, на которой решили проводить торжества, лежала примерно на равном расстоянии от всех холмов, сползая под острым углом к рунгейским лавкам. Обозначенные известью беговые дорожки то взмывали круто вверх, то обрушивались в ямы и мелкие канавы. Школьники соревновались в гимнастике и беге. В красных, зеленых, голубых, коричневых костюмах дети рассыпались по полю. У каждой школы были свои болельщики, и над полем стоял сплошной гул, когда маленькие спортсмены бежали, падали и вновь вскакивали, чтобы продолжить бег. В перерывах между забегами два юношеских оркестра с трубами и барабанами развлекали публику победными песнями и военными маршами. Оркестры принадлежали молодежной организации партии. После соревнований начались танцы. И снова первыми на поле вышли малыши, очаровав зрителей стремительным мутхуо; их лица были раскрашены мелом и красной охрой, к коленям привязаны погремушки. Юноши и девушки исполнили мукунгву; женщины постарше в унизанных бусами нарядах плясали ндумо. Все утро Гиконьо перебегал с места на место, от группы к группе, следя за тем, чтобы все шло как следует. Это был его день. Он упивался ролью распорядителя и мечтал, чтобы праздник увенчался ошеломляющим успехом. Толпа зрителей оказалась не такой многолюдной, как хотелось бы Гиконьо. Более того, вопреки ожиданиям, возлагаемым на этот день, все утро на поляне царило уныние. Но к полудню оно развеялось как дым. Объявили забег на три мили — двенадцать кругов, В забеге приглашались участвовать все — стар и млад, женщины и дети. Эта неожиданная затея, не предусмотренная программой, оживила толпу и подогрела страсти. Люди кричали и шумели, подбивая друг друга принять участие в соревновании. Каждую женщину, вышедшую в круг, встречали одобрительным смехом и рукоплесканиями. Под бурные овации вперед выступил Варуи, тоже готовясь к бегу. Мумби, сидевшая рядом с Вамбуи, смеялась до слез, глядя, как старик, кутаясь в свое неизменное одеяло, мелко засеменил к месту старта. Детишки роем кружили вокруг престарелых спортсменов. — Давай и мы побежим! — предложил Карандже Мваура. — Ноги стали не те, — отнекивался Каранджа, переводя взор с Мумби на пеструю ораву бегунов. — Пойдем, пойдем. Ты же лучше всех бегал на длинные дистанции. Помнишь, в Мангуо? — И ты побежишь? — Конечно. И вызываю тебя. Ну, кто кого! — крикнул Мваура и потащил Каранджу за руку. Неожиданное появление Каранджи в рядах бегунов повергло Гиконьо в изумление. Боясь выдать себя взглядом, он протиснулся к Варуи и принялся толковать ему что-то с напускным оживлением. И Каранджа тоже ощутил неловкость, он никак не думал увидеть среди бегунов Гиконьо. Былое презрение к плотнику всколыхнуло сердце. Вспомнив ту давнишнюю гонку, когда они мчались к поезду, он решил ни за что не уступать ему. Пусть их давний спор закончится теперь на глазах у Мумби, и всего в каких-то нескольких десятках ярдов от того же полустанка. Быть может, на сей раз он выиграет не только гонку, но и Мумби! Иначе зачем ей понадобилось посылать ему записку? — рассуждал он, наклонившись, чтобы развязать шнурки на ботинках. Мваура тем временем беседовал с Генералом Р и Лейтенантом Коинанду, тыча куда-то вдаль указательным пальцем правой руки. Соперники — небольшая кучка мужчин, женщин и школьников — вышли на старт. Все разом смолкло, и тут же раздался свисток. Зрители взревели, заглушая топот бегунов, натыкавшихся друг на друга. Какой-то малыш упал, и его чудом не растоптали. Варуи почти тотчас же сошел с дистанции, поплелся к зрителям и уселся возле Вамбуи и Мумби. — Эх ты! А я так в тебя верила! — шутливо накинулась на него Мумби. — Опозорил всех любящих тебя женщин. — Пусть дети забавляются, — ответил старик, медленно покачав головой. — В наше время мы пробегали без передышки многие мили, когда масаи угоняли наш скот. И скажу я вам, это были не игрушки! Еще до конца первого круга многие последовали примеру Варуи. После третьего круга среди соревнующихся осталась лишь одна женщина. Но только к концу четвертого круга, когда толпа бегунов растянулась в цепочку, Мумби внезапно увидела Каранджу. Она сразу перестала бить в ладоши. При виде Каранджи и Гиконьо на одной дорожке вспомнилось все. Уж лучше бы ей остаться дома, с родителями. Почему же он все-таки пришел, несмотря на предупреждение? Или, может, он не получил записку? Увидев среди бегущих еще и Генерала Р, она вспомнила, что тот говорил два дня назад. Насмешка судьбы поразила ее — ведь теперь она знала, кто повинен в смерти Кихики. Многое изменилось с тех пор, как она писала записку. Ей тогда еще не было известно, что Кихику предал человек, в котором вся деревня видит героя. Открыть людям правду? Но может ли она решиться отдать Муго им на расправу? В его глазах такая боль! Она вспомнила ладонь, зажимавшую ей рот, руку, неловко нащупывающую горло, ужасающую пустоту в глазах. Внезапно он отпустил ее, встал перед ней на колени, разбитый, безвольный, жалкий… … "Мумби!" — всхлипнул он. Простертые к ней руки нескладно повисли в воздухе, заслонив лицо. И эти руки, то также жесткие, то теперь умоляющие, обезоружили ее. Преодолевая страх, она опустила подрагивающую ладонь ему на плечо. "Послушай, Муго! Я видела, как умирал мой брат. Там был районный комиссар и полицейские". "У тебя есть глаза и уши? Я же сказал тебе, кто предал Кихику!" "Каранджа! Ты слышал, что говорил Генерал Р…" "Нет!" Она отшатнулась. В его крике и пустом взгляде она угадала правду. "Ты?!" "Я… да… я". Он не глядел на нее. Его голос молил о снисхождении. Но ей было не совладать с гадливостью. Вся дрожа, она двинулась к двери, прочь от этого презренного существа, застывшего истуканом, их деревенского героя. У нее не нашлось слов. Она не помнила, как оказалась на улице. Ночная темь. Она шла быстро, почти бежала. Мрак. Даже не видно силуэтов хижин и деревьев. Моросящий дождь. Голоса мужчин и женщин, распевавших песни Свободы, казалось, доносились к ней издалека, из другой деревни. Утром она сказала Вамбуи: "Муго наотрез отказывается принять участие в празднике, нельзя ли оставить его в покое?" То, что она хоронила в себе, то, что теперь знала, требовало решить: Каранджа или Муго? Но она совсем не хотела, чтобы кто-нибудь умирал или страдал из-за ее брата. Поговорить бы с Гиконьо, тот нашел бы выход. Почему Каранджа не придал значения записке? — недоумевала она. И внезапно рассердилась на себя: какое ей до него дело, ведь он погубил ее жизнь! — Что с тобой? — Вамбуи заметила ее состояние. — Ничего, — поспешно ответила Мумби и снова принялась бешено бить в ладоши. Гиконьо бежал изо всех сил, заставляя себя думать о посторонних вещах. Полузнакомые лица в толпе; новые рунгейские лавки; фермы белых за железнодорожным полотном. Вернет ли Свобода землю африканцам? Внесет ли Независимость перемены в жизнь маленького человека, простого крестьянина? Он услышал торопливое дыхание поезда, прибежавшего издалека на рунгейский полустанок. Его отец, оставшийся в Рифт-Вэлли, жив ли он? Что он за человек? Он мысленно пересек все широкое поле своей жизни: детство, отрочество, юность, любовь к Мумби, Кихика, чрезвычайное положение, концлагеря, шаги по цементу, возвращение домой, измена… Мумби подчинила себе всю его жизнь! Ее отсутствие в доме едва не свело его с ума. Он сердито потряс головой — бежать так бежать. Они с Каранджей снова соперничают. Но чего ради? Ради кого? Каранджа просто издевается над ним. Гиконьо тяжело дышал, то и дело вытирал потный лоб. В нем кипела ненависть. Он не сбавлял скорости, желание победить разгоралось все сильнее. Он бежал следом за Каранд-жей, не отставая ни на пядь. Приберечь силы до последнего круга, а там вырваться вперед, только бы ноги не подвели, давно он так не бегал. На седьмом круге лидировал Мваура. В нескольких ярдах позади него бежали Каранджа, Гиконьо, Генерал Р, Лейтенант Коинанду и еще трое. Остальные уже выбыли из соревнования. Стоявшие по краям поля зрители подбадривали бегущих: "Давай, давай!" Бег на длинные дистанции всегда был излюбленным развлечением в Табаи. К коротким дистанциям люди относились с пренебрежением, считая их детской забавой. Даже те, кто имел веские основания недолюбливать Каранджу как бывшего правительственного чиновника и начальника полиции, забыли о своей неприязни к нему, захваченные перипетиями борьбы. Они и его подбадривали криком. А в висках Каранджи стучало одно и то же, случившееся давным-давно, когда он, примчавшись на полустанок, не мог поверить горькой правде: Гиконьо и Мумби нарочно отстали, чтобы побыть вдвоем. Как он желал эту женщину! Господи, как рыдала в его руках гитара по прятавшейся в лесу Мумби. Если бы он не был таким нерешительным, не откладывал все время объяснение, она могла бы принадлежать ему. Опоздал, опоздал! Когда он наконец осмелился к ней посвататься, она отказала ему с улыбкой. И это еще крепче приковало его к ней. Он стал ждать случая, Гиконьо увезли в концлагерь, Каранджа вдруг понял, что не может допустить, чтобы и его разлучили с нею. Он выдал все секреты партии, он изменил присяге, лишь бы остаться подле Мумби. Постепенно цепь событий подтягивала его все ближе и ближе к белым. Эта близость давала ему власть — право миловать, или сажать в тюрьму, или убивать. Люди трепетали перед ним, он ненавидел и боялся их. Женщины предлагали ему себя, даже самые почтенные и уважаемые из них пробирались к нему по ночам. Но Мумби, его Мумби не сдавалась, и он не мог решиться подчинить ее себе силой. Как капризна судьба! Мумби досталась ему, когда он находился на краю пропасти. Он ощутил мгновенную терпкую сладость торжества, которая уже через несколько секунд растаяла, сменившись горечью унижения. Он воспользовался ее беззащитностью. И она — он это видел — безгранично презирала его. Он не мог взглянуть ей в глаза. Слезы отчаяния заволокли взор, когда она ударила его ботинком по лицу. Он всегда мечтал о том, что Мумби сама придет к нему, без принуждения, свободно, потому что он необходим ей, потому что она не сможет обойтись без него. А вышло иначе. Но в этом состязании призом для него снова была Мумби. Разве она сама не дала ему права надеяться? Ее записка вырвала его из бездны отчаяния. Томпсоны уехали, белый человек уходит. Пока Томпсоны еще были здесь, Каранджа убеждал себя, что власть белых будет длиться вечно. Возможно, оттого, что районный комиссар Томпсон был первым белым, с которым непосредственно столкнулся Каранджа еще до чрезвычайного положения, он стал для него, как и для всех жителей Табаи, живым воплощением власти и превосходства белого человека. Власть белых внушала Карандже чувство безопасности, но чувство это было тревожным. Теперь и эта ненадежная защита исчезла. Он блуждал во мраке отчаяния. И вот пришла записка. Мумби предупреждала его, чтобы он не приходил на сегодняшние празднества. Почему? Он уже обещал Мвауре пойти. Записка таила в себе загадку, он размышлял над ней всю ночь, и с каждой секундой обострялось его любопытство, его желание увидеть Мумби. В конце концов Табаи — его родная деревня. Кто запретит ему навестить свой дом? Где-то в уголке сознания теплилась мысль: Мумби тоже тянет к нему. Ведь стала же она матерью его ребенка! Он не принял ее предупреждения всерьез. Женщины всегда так, их не поймешь. И он еще более утвердился в своей правоте, когда узнал в Рунгее, что Мумби ушла от мужа. Ее записка занозой сидела у него в уме. "Всю жизнь я добивался ее", — с горечью подумал он. Но горечь была мимолетной. Он не должен позволить подобным мыслям омрачать его торжество. Это последний шанс на победу. Если ему достанется Мумби, чего же еще желать! Никакая Независимость, ничто на свете не страшно ему! И он еще быстрее помчался вперед. Надо настичь Мвауру на десятом круге, оторваться от Гиконьо, повисшего у него на пятках. А Гиконьо тем временем обошел Генерала Р и передвинулся на третье место. Он решительно сжимал зубы. Он знал, что Мумби смотрит на него, и не мог позволить ее любовнику взять над собой верх. Пришла посмеяться над ним, пришла показать, какая она теперь независимая. Дважды он подходил к ним, но разговаривал только с Вамбуи, а ее словно не замечал. У него был весьма глупый вид, и он, понимая это, надувался еще пуще. Между тем Каранджа прибавил скорости, и Гиконьо тоже. Пока никому не удавалось нарушить порядка, в каком бежала группа, начиная с восьмого круга. Толпе передалось напряжение бегунов. Даже Мумби, захваченная поединком, на время позабыла о тяжести на сердце. Она желала Гиконьо победы и в то же время молила бога, чтобы он проиграл. Ей казалось, что он бежит некрасиво, и все-таки она с замиранием сердца следила за ним. Из знакомых ей в семерке были еще Генерал Р и Лейтенант Коинанду, они бежали вслед за Гиконьо, она и их подбадривала. "Давай, давай!" — колотилось ее сердце, и она размахивала белым платком. Всякий раз, когда Каранджа проносился мимо нее, она в смятении опускала глаза. Генерал Р бежал легко. В армии он часто бегал на длинные дистанции. У него даже была своя спортивная тактика: "Тебя испытывают на прочность, — говорил он. — Нужно сказать самому себе: я не сдамся, выдержу до конца!" Он бежал, твердя про себя роль, отведенную ему в той драме, которая разыграется после обеда. Его попросили выступить вместо Муго. Он был полон решимости не ударить в грязь лицом, не подвести Кихику, чья душа будет победно реять над митингом. Мысли разбегались. Он вспомнил Ньери, свою родину. Учебу в школе, детские мечты и надежды. Вспомнил, как хватался за любую работу, батрачил у чужих людей. Отец его "прикладывался к рогу" и, возвращаясь домой навеселе, молотил кулачищами мать. Она кричала, как раненый зверь. Маленький Мухойя — такое имя дали Генералу при рождении — в страхе убегал из дому. Он ненавидел себя за то, что он такой маленький и трусливый. Но он не плакал, как другие дети, даже когда ему самому доставалось от отца. "Настанет день, я с ним посчитаюсь!" — клялся он себе. Он ни с кем не делился своими планами, даже с матерью. Настанет день, и он убьет мучителя — мама зальется слезами благодарности, хотя она никогда не жаловалась на свои муки, на побои, которые сыпались на нее градом. Он рос, и жажда мщения притуплялась. Он откладывал день расплаты на неопределенное время. А день не заставил себя ждать. Подросток Мухойя, лишь недавно прошедший обряд инициации, придя домой, застал отца за излюбленным занятием и внезапно понял: сейчас или никогда. "Если ты дорожишь жизнью, — закричал он, — не смей больше трогать мать". Сначала отец настолько опешил, что рука, поднятая для удара, застыла в воздухе. Может, ему послышалось? Немая овца заговорила! Отец рассвирепел, точно раненый лев. Мухойя было струхнул. Но в глазах льва он различил страх. Он схватил отца за руку и ударил его. Годы ненависти и страха взорвались пьянящей запретной радостью. Отец и сын схватились не на жизнь, а на смерть. Но Мухойя не мог предвидеть измены: женщина подняла полено и вступилась за мужа. Теперь настала очередь Мухойи в изумлении хлопать глазами. "Он твой отец и мой муж!" — вскричала она, с размаху вытянув его поленом по спине. Мухойя бросился вон из дому. Первый раз в жизни он заплакал. Он не понимал, не мог понять! В тот же вечер о происшествии узнала вся деревня. Сын поднял руку на отца! Мухойя был вынужден покинуть родные места. Он даже обрадовался, когда англичане призвали его в армию. Но все, что случилось, никогда не изгладится из его памяти, никогда… Он услышал, как Мумби подбадривает его. Ее крики вернули его к действительности. Словно в ответ на ее призыв, он рванулся и оставил позади Лейтенанта Ко-инанду. Он стремглав летел вперед, убегая от воспоминаний, от прошлого. Да, такого детства и врагу не пожелаешь… Итак, драма стремительно шла к развязке. Коинанду отчаянно пытался сократить разрыв между собой и Генералом Р, но ему не удавалось собрать свою волю в кулак, отдать бегу все силы. Вот уже два дня, как он лишился покоя. Он не понимал, в чем дело. Ведь ему еще не такое пришлось вынести на войне белого человека и там, в лесу. В армии он служил поваром и уверовал было, что он везучий. Жизнь надавала ему тумаков, и он прозрел. Коинанду был из тех людей, которые на одном месте долго не задерживаются, потому что вечно чем-нибудь недовольны. Перед каждым хозяином он распространялся о своих военных заслугах и настаивал на своем праве претендовать на лучшее. Устроившись на обувную фабрику неподалеку от дома, он прямо сказал мастеру, сказал на людях: "Мне не хватает денег. Я хочу такую же машину, как ваша". Его немедленно уволили. Это его немного отрезвило. В конце концов он стал боем в доме той женщины… Теперь он не мог понять, как же так: в лесу он бесстрашно сражался и, когда надо было, безжалостно убивал, и ни одна из кровавых сцен, свидетелем и участником которых он был, не тревожила его покой и сон, наоборот, жестокая войнапротив белых придала смысл его жизни, сделала его человеком. Почему же теперь воспоминание об этой женщине мучает его совесть? Столько лет прошло с тех пор… Он любовно ухаживал за ее псом, и ей это было приятно; она делала ему подарки на рождество. Но потом снова явились тревожные мысли, у нее нет мужа, а ей принадлежит огромный дом. Почему? Почему он, мужчина, должен ютиться в тесной хибарке? У него был неплохо подвешен язык, и он любил поделиться своими мыслями с другими. Она одинока. Нехорошо, когда женщина одна. Парень, я ею займусь! Поплаваю в этой луже! Приятели от души смеялись шуткам Коинанду. Но началось с шутки, а кончилось… Случай подвернулся во время чрезвычайного положения. Он и еще двое растянули ее на полу. Его обуревали страх и лютая ненависть. Он ненавидел белых — всех и каждого. Он мстил теперь им всем! Унижая эту женщину, он унижал всех белых. Белый — ничтожество, белый — жалкая тварь! "Вот тебе, вот тебе за то, что ты выделывал с нами, черными!" — твердил он, набросившись на нее с ожесточением. Он и те двое бежали в лес. Прошли годы, и он позабыл тот случай. Не вспоминал вплоть до того дня, когда пошел в Гитхиму повидаться с Мваурой. Там он наткнулся на мисс Линд… Даже теперь, когда он бежал, при мысли о той неожиданной встрече его бросало в дрожь. Призрак прошлого лишил его покоя, освежающий напиток Свободы стал пресным и безвкусным. Генерал Р теперь намного опередил Коинанду. Коинанду напрягся, поднажал. Из толпы донесся крик, он воодушевил его. Откуда-то взялись новые силы. "Бороться, бороться до конца!" — тяжело дыша, уговаривал он себя. В начале одиннадцатого круга Гиконьо обошел Каранджу. Новым всплеском возгласов и криков встретила его успех толпа. Но этот гул точно подхлестнул Каранджу, и он тоже наддал, чтобы не отстать от соперника. А Гиконьо уже поравнялся с Мваурой, и тщетно тот пытался удержать первое место. И Каранджа настиг и обошел его. Мваура выбился из сил и вскоре оказался позади всех. Теперь все взоры были устремлены на Гиконьо и Каранджу. Мало кто знал о скрытых мотивах и страстях, кроющихся за этим соперничеством, но толпа почувствовала что-то необычное. Последний круг они бежали бок о бок. В какой-то момент казалось, что Каранджа опережает Гиконьо. Но Гиконьо рванулся вперед, словно одержимый. В самом деле, что-то безрассудное было в их самозабвенном беге. Люди вставали на цыпочки, чтобы получше разглядеть соперников. И тут случилось непредвиденное: спускаясь под уклон, Гиконьо задел ногой за кочку, споткнулся и упал, увлекая за собой Каранджу. Толпа замерла. Генерал Р и остальные участники забега промчались мимо растянувшихся на земле лидеров к финишу. Люди со всех сторон кинулись к месту происшествия. Когда Гиконьо упал, Мумби выронила из рук платок. "Нгаи, Всевышний!" — в отчаянии воскликнула она и бросилась к нему через поле. Она опустилась на колени, ощупала голову Гиконьо. А он лежал, совсем обессилев, и был до того зол, что ничего вокруг не видел. Первым оправился Каранджа, приподнялся на локтях, но, увидев, как нежно гладят голову Гиконьо маленькие ручки Мумби, снова повалился на землю. Вокруг толпились люди. Убедившись, что Гиконьо цел и невредим, Мумби вспомнила о размолвке. В смущении она отступила в толпу и ушла домой, прежде чем кто-либо успел сказать ей хоть слово. Впрочем, толпа скоро распалась на отдельные группки, где шел горячий спор о том, кто из этих двух выиграл бы состязание. Одни стояли за Каранджу, другие держали сторону Гиконьо. И немногие обратили внимание на то, что Гиконьо не встает. Его лоб покрылся испариной, лицо было искажено болезненной гримасой. Вот он попытался было приподняться, застонал и снова опустился на землю. Его отвезли в госпиталь: при падении он сломал левую руку. Так закончилось утро праздника.
После полудня выглянуло солнце и растворило висевшую в воздухе дымку. От земли шел сероватый пар, как от свежего навоза, он курился тоненькими струйками, устремляясь вверх, к чистому небу. Главная церемония в память погибших и в благословение начала новой жизни была назначена на вторую половину дня. Здесь уж равнодушных не было. Вся деревня, кроме дряхлых старух да горстки больных и калек, повалила на митинг. Это был день Кихики, день Муго, это был наш день. Отовсюду: из Ндейи, Лари, Лимуру, Нгеки, Кабета, Керарапона — на грузовиках, на автобусах, пешком стекались люди на базарную площадь Рунгея. Школьники в форменных костюмах из цветного полотна — зеленых, красных, желтых — всех цветов радуги; деревенские оборвыши с болячками вокруг глаз и ртов, мухи вились над ними роем; женщины в нарядных накидках с ожерельями на шее; женщины в платьях из цветастого ситца, обнажавших левое плечо; женщины в европейских костюмах; группа женщин, распевающих рождественские гимны вперемежку с народными песнями и песнями Свободы. Группа мужчин, беседующих о новой жизни, которую несет Свобода. Много безработных в потрепанной одежде, не знающих, что такое вода и мыло. Будет ли теперешнее правительство терпимее к тем, кому нечем платить налоги? Найдется ли для всех работа? Станет ли больше земли у крестьян? Благоденствующие лавочники, торговцы и землевладельцы обсуждали перспективы, открывавшиеся перед ними теперь, когда политическая власть перешла в наши руки; а как поступят с индийцами? Мы сели на землю. Толпа представляла собой живописное зрелище, что-то прекрасное и трогательное было в этой огромной массе народа, запрудившей площадь и разместившейся в узаконенном обычаем беспорядке. Гитхуа, которого в шутку величали "наш одноногий защитник", прослезился от радости. На том месте, где умер Кихика, посадили деревце. Рядом к огромному камню были привязаны два жертвенных барана — черных, без единого пятнышка, предназначенных для заклания. Варуи и еще два таких же высохших старца из деревни Кихинго принесут их в жертву богам после того, как ораторы воздадут должное героям, погибшим в борьбе. Стулья для всех ораторов и районных руководителей были расставлены на высоком помосте вокруг микрофона. Мбугуа и Ванджику, родителей Кихики, усадили на почетном месте, рядом с помостом; Мумби с ними не было — узнав, что случилось с Гиконьо, она пошла к нему в госпиталь. Мы ждали, затаив дыхание, еще надеялись, что Муго все-таки выступит. Всем хотелось поглядеть на героя, послушать, что он скажет. Многие только из-за него и пришли. Из уст в уста передавались рассказы о нем, превратившиеся в течение этой ночи в волнующие легенды. И хотя одна легенда противоречила другой, никто, не говоря уже о табайцах, и не думал усомниться в их правдивости. Одни говорили, что Муго был приговорен к расстрелу, но никакая пуля его не брала. С помощью своей тайной силы Муго помог множеству людей бежать из лагеря и примкнуть к "лесным братьям". А кто, кроме Муго, мог вынести письма из лагерей за колючую проволоку и переслать их членам английского парламента? Другие намекали, что он участвовал в налете на Махи и сражался бок о бок с Кихикой. Вот какие истории ходили в толпе, собравшейся на митинг. Мы пели песни, прославлявшие Кихику и Муго. Тихая благость осеняла наши сердца. Многие приехали издалека, чтобы поглядеть на чудо, на то, как он говорит с богом. Мы, табайцы, тоже ждали, что увидим нечто необыкновенное. Нельзя сказать, что это было радостное ощущение, — мы словно вслушивались в неотвратимую поступь рока. Место Гиконьо занял партийный секретарь Ньяму, приземистый, широкоплечий человек. Его схватили еще парнишкой во время чрезвычайного положения с карманами, полными патронов. Говорят, его выручили богатые дядья, оставшиеся верными англичанам; они подкупили полицию; это, да и возраст — ему было всего семнадцать — спасло Ньяму от смертной казни, которой подлежал каждый, уличенный в хранении оружия и боеприпасов. Казнь заменили семью годами лагерей. Ньяму предложил преподобному Кингори начать митинг с молитвы. До 1952 года Кингори был известным деятелем церкви кикуйю — одной из многих независимых сект, порвавших с миссионерской иерархией. Когда независимые церкви были запрещены, Кингори долгое время оставался не у дел, а потом во время предпринятого англичанами размежевания земель в Центральной провинции устроился на службу в министерство сельского хозяйства, да так и застрял там. Кингори не читал молитвы, а напевал их беспокойным речитативом. Он возвышал голос, поднимал глаза к небу и опускал долу. Бил себя кулаком в грудь, рвал на себе волосы и одежду. Исступление сменялось кротким смирением, уничижение — бичующим гневом, страшное пророчество — благим обещанием. Он поднялся на помост с Библией в руках. КИНГОРИ. Помолимся, братья. Господи, обнажаем перед тобой души наши. ТОЛПА. И уста наши вознесут тебе хвалу. КИНГОРИ. Бог Исаака, и Иакова, и Авраама, сотворивший также Гикуйю и Мумби и давший нам, своим детям, Кению, в этот великий день, который запомнят все народы на земле, как и день, когда ты вывел детей своих из Египта, мы просим тебя: ороси нас слезами своими, ибо слезы твои, господи, — вечная благодать. Чтобы этот день наступил, была пролита кровь. Каждая хижина обагрена кровью, но это не кровь баранов, а кровь наших сыновей и дочерей, почивших ради того, чтобы жили мы. И по всей нашей земле — в деревпях, на базарах, в поле — стоит плач вдов и сирот, а мы проходим мимо и говорим громко, чтобы заглушить их стенания, ибо ничего не можем поделать, господи! Но плач Рахили нельзя заглушить ничем и никогда. О господь Исаака и Авраама, путь через пустыню долог. Мы жаждем и страждем, и враги преследуют нас по пятам на колесницах и верхом, чтобы возвратить нас к фараону, ибо они не хотят отпустить твой народ и гневятся сердцем при виде уходящего народа. Но если ты не оставишь нас, господи, мы достигнем земли обетованной. Мы все тебя молим в один голос: ты, который сказал, что там, где двое либо трое соберутся вместе, ты дашь им все, чего бы они ни пожелали, благослови пахаря и воина, благослови дело рук наших, возделывающих землю и защищающих свободу. Ибо сказано: "Просите и дастся вам, ищите и обрящете, стучите и отверзется вам". И мы молим тебя во имя Иисуса Христа, господа нашего. Аминь. ТОЛПА. Аминь. Все запели под аккомпанемент школьного оркестра, состоявшего из барабанов, гитар, флейт и жестянок. И в песне этой ожила вся история народа кикуйю: нашествие чужеземцев, Вайяки, Гарри Туку, налоги, трудовая повинность на фермах белых, бойкот миссий и неутолимая, всепоглощающая жажда образования. Мы пели о Джомо (он явился среди нас как пылающее копье), о его пребывании в Англии (Моисей на земле египетской) и его возвращении (в пламени огненном) ради спасения детей своих. Его арестовали, сослали в Лодвар, но на третий день он вернулся домой из Маралала. Он вернулся домой на победной колеснице. Врата ада не могли удержать его. И ангелы осеняли его своими крылами. Ньяму зачитал письма от депутатов парламента и членов провинциальной ассамблеи; они приносили извинения, что их нет на нашем празднике, — что поделаешь, они обязаны представлять Рунгей на национальных торжествах в Найроби. Но никто не объяснил нам, почему на помосте нет Муго. Затем начались речи. Ораторы говорили об испытаниях, выпавших на нашу долю в годы чрезвычайного положения, о партии. Добрым словом поминали Табаи, родину Кихики — героя, чьи заслуги в борьбе за свободу никогда не будут забыты. Он был мужественный, скромный, беззаветно любил родную землю. Самая смерть его была жертвой на алтарь победы. Каждого оратора толпа провожала восторженным гулом и песней, даже если тот повторял уже сказанное до него. Голос Гитхуа, то плачущего навзрыд, то разражающегося победными криками, был слышен по всей площади. Все ждали Муго. Когда очередной оратор, закончив речь, опускался на стул, все надеялись: уж следующий-то непременно будет Муго. Мы были терпеливы, ибо знали, что самое лакомое блюдо всегда оставляют на закуску. Наконец Ньяму предоставил слово Генералу Р, объявив, что этот человек — соратник Кихики и он будет выступать вместо Муго; по не зависящим от кого-либо обстоятельствам Муго не смог прийти на митинг. Оратора встретили гробовым молчанием. Потом из дальнего угла кто-то потребовал Муго. Его немедленно поддержали. Мощный хор гремел над площадью, выкликая имя Муго. Потом хор распался на хаотическое разноголосье, все пришло в движение; люди повскакали с мест, спорили о чем-то, размахивали руками, бранились, будто их обманом заманили на митинг. Ньяму держал совет со старейшинами. Решено было в последний раз попытаться уговорить Муго. Потребовалось время, пока Ньяму и старейшины восстановили относительный порядок, пообещав, что за Муго будет немедленно отряжена делегация в составе двух человек — двух старейшин. Они без него не вернутся. А пока пусть все усядутся и послушают Генерала Р. Народ утихомирился, люди сели и затянули песню, сочиненную во времена рва;
Муго прыгнул в ров
И крикнул солдату
Слово, которое пламенем жжет:
"Не смей бить женщину, — крикнул Муго,—
Не смей бить женщину —
Она ребенка ждет!"
КАРАНДЖА Дождь не заставил себя ждать. Он зарядил надолго, моросил и моросил, мелкий, упрямый, нудный. Казалось, вся страна утонула в серой водяной пыли и не будет этому конца. В такие дни солнце не говорит людям ни "доброе утро", ни "спокойной ночи". Если у тебя нет часов, невозможно понять, день сейчас или уже вечер. Каранджа метался по материнской хижине, запихивая в мешок вещи. — Неужто даже чаю не выпьешь? — в который раз спрашивала мать. Ваириму сидела на скамье возле очага — совсем дряхлая, высохшая старуха, с пустыми, точно стеклянными, глазами и провалившимся ртом, правая нога, согнутая в колене, покоилась на камне, взор следовал за каждым движением сына. — Нет, — не сразу отозвался Каранджа, ему не хотелось говорить. — На улице дождь. Обогрелся бы чаем перед дорогой, раз не хочешь остаться. — Я же тебе сказал: мне не хочется чаю! — В его голосе слышалось раздражение. Оно было вызвано не столько словами Ваириму, сколько упрямым мешком, с которым Каранджа никак не мог справиться, едким дымом в хижине, моросящим дождем и вообще всем на свете. — Ну-ну, я ведь только спросила, — произнесла Ваириму примирительно. Каранджа и раньше не баловал мать вниманием. Она была третьей из четырех жен его отца. Он приобретал их, уплачивая положенное количество коров и коз, но потом предоставлял им самим заботиться о себе. Хижины для них он поставил на расстоянии доброй мили от своей и каждой уделял поровну от щедрот своих, каждую навещал в положенное время, награждал ребенком, а затем удалялся восвояси. Дети Ваириму обычно умирали, едва появившись на свет, только Каранджа выжил, став единственным живым доказательством регулярных визитов, которыми ее удостаивал супруг. Ванриму в сыне души не чаяла, надеялась, что он будет ей опорой на старости лет. Но у Каранджи очень рано появились наклонности, не свидетельствующие о чрезмерном трудолюбии. Он пел, играл на гитаре, его видели с женщинами. — Пора тебе за ум браться! Каждый должен трудиться, — ворчала Ванриму и грозилась, что сломает или сожжет гитару. Раздоры случались у них часто, но потом они мирились, и мать уже с нежностью пеняла ему и рассказывала в назидание старую притчу о лентяе. Теперь, став взрослым и порой, в тяжелые минуты, тоскуя о матери, он прежде всего вспоминал ее любимую притчу. "Давным-давно жила одна бедная женщина, и был у нее единственный сын. Ньоки — так звали женщину — старалась внушить сыну, что они нищие и что надо работать в поте лица, чтобы не умереть с голоду. Но сын не слушал ее. Каждое утро он, встав с постели, начищал башмаки, наглаживал рубаху и отправлялся шататься по пивным и чайным со своими дружками. А каждый вечер приводил домой развеселую компанию парней и девушек и требовал, чтобы мать угощала их. Ньоки была добрая женщина, и ей нравилось, когда в доме собиралась молодежь. Она приветливо встречала гостей, кормила их и поила. С каждым днем ей приходилось все труднее, потому что сын так и не желал взять мотыгу и работать в поле, но она любила его и потому старалась прятать свою печаль от людей. Да, доброе у нее было сердце… Люди в один голос хвалили ее за щедрость и трудолюбие, и парня иначе, как сын Ньоки, никто не называл. Лентяю это не нравилось — он тоже любил свою мать. Как-то раз сын привел домой трех своих дружков из соседней деревни. Сам он часто бывал у них, и его принимали на славу. Ему давно хотелось отплатить им за гостеприимство. Вот он и сказал матери, чтобы она накрывала на стол так, как в праздник. Ньоки развела большой огонь в очаге, постелила чистую скатерть, принесла тарелки, ложки и все тщательно перетерла. Потом вышла за дверь. Сын был на верху блаженства и все нахваливал свою мать и то, как вкусно она стряпает. Тем временем Ньоки вернулась, неся на подносе пару начищенных башмаков! "Я сегодня не работала в поле, — сказала она сыну. — Я весь день чистила эти башмаки и ничего, кроме них, гостям предложить не могу". Сын онемел от стыда. На следующее утро он взял мотыгу и пангу и не уходил с поля, пока не стемнело…" — А-а, понял, понял, — говорил Каранджа. — Ну ладно, завтра пойдем в поле вместе. Во время чрезвычайного положения Ваириму изболелась душой: сын стал полицейским! "Против людей пошел! Человек, который предает свой народ, добром не кончит". Но хоть и стыдно ей было за сына, она все же тревожилась о нем, ибо, говорила она, дитя, что в чреве носила, из сердца не выкинешь. Наконец Каранджа уложил мешок. Потом, словно спохватившись, обернулся к матери: — А гитара моя где? — Посмотри вон там, в углу. Каранджа только сейчас вспомнил о гитаре. Во время чрезвычайного положения было не до музыки! Теперь ему пришлось разгрести целую гору битых глиняных горшков, калабашей. Гитара лежала в самом низу. Лак на ней потрескался, она покрылась толстым слоем копоти и пыли и пропахла дымом. Две струны лопнули, остальные ослабли. Он попробовал оттереть пыль и сажу, но вскоре махнул рукой. Настроил целые струны, для пробы побренчал. Гитара откликнулась дребезжащим звуком. В нее набилась земля. Забросив ее на плечо. Каранджа направился к двери. На улице все моросил дождь. — Ну куда ты пойдешь в такую непогоду? — не выдержала Ваириму. Каранджа замер на пороге, словно ошарашенный этим вопросом. Медленно повернулся, потухшие глаза неярко сверкнули. Грудь высоко вздымалась. Он уже собрался ответить, но тут сквозняк бросил ему в лицо дымом, он зажмурился и пошатнулся. На глаза набежали слезы. — Не знаю, — произнес он и добавил уже решительнее: — Пойду в Гитхиму. Он шагнул через порог. Ваириму не шелохнулась. Дождь глухо стучал по мешку, барабанил по гитаре. Вскоре пыль и сажа размокли, потекли по спине. Сквозь серую пелену он шел к автобусной остановке в торговом центре Табаи, шел не глядя по сторонам. К остановке подкатил автобус, высадил пассажиров и тронулся дальше. Каранджа не прибавил шагу — спешить ему было некуда. И тут он увидел, что дорогу переходит Мумби. Она, паверное, приехала с этим автобусом. На голове у нее была накидка, укрывавшая волосы от влаги. У него затрепетало и учащенно забилось сердце. В мглистом ореоле дождя Мумби казалась еще прекрасней. Но как забыть выражение ее лица — тревогу и любовь, когда она склонилась над упавшим Гиконьо? Каранджа застонал от отчаяния. Если бы она хоть вскользь глянула на него тогда, можно было бы еще надеяться. Но он ей был безразличен. Однако сердце не унималось. Мумби подходила все ближе, пока едва не столкнулась с ним. Она удивленно вскрикнула. — Как Гиконьо? — спросил он. Конечно же, она возвращается из госпиталя — ведь ее не было на митинге. — Слава богу, ничего страшного. Сестры сказали, что его скоро выпишут. — Я искал тебя. Хотел поблагодарить за записку. — Не стоит благодарности. Написать несколько слов нетрудно. Впрочем, ты все равно не послушался. — Понять не мог, чем вызвано твое предупреждение. Я подумал, может, ты хочешь встретиться со мной. — Ничего подобного! — Никогда? — Никогда. — Оба говорили торопливо. Дождь не располагал к долгой беседе. — Во всяком случае, спасибо тебе! — произнес он после короткой паузы. — Они хотели меня убить? — Не знаю. — Зато я знаю. Мваура сам мне потом сказал. — Кто такой Мваура? — Он работает вместе со мной. Когда Муго появился на митинге… — Муго пришел? — Да. И признался… — Признался?! — Разве ты ничего не знаешь? Он пришел на митинг и покаялся перед всем народом. Похоже, он смелый человек. — Похоже! — пробормотала она, все еще не оправившись от потрясения и беспокойно переминаясь с ноги на ногу. — Ну я пошла. — Нельзя ли… Можно мне повидать ребенка?.. Последний раз… — Ах, Каранджа, будь мужчиной, оставь меня наконец в покое! — сердито выпалила Мумби и зашагала прочь. Каранджа провожал ее взглядом, пока она не исчезла в пелене дождя у деревенских хижин. — Да, Муго отважный человек, — повторил он, глядя ей вслед. — Он спас мне жизнь… Ради чего? И Каранджа побрел дальше, медленно, еле волоча ноги, все равно весь промок… К остановке одновременно подкатили два автобуса. Первый назывался "Чудом уцелел", на втором красовалась надпись: "Счастливчик". — Найроби? — спросил кондуктор, подхватив его багаж. — Гитхима, — буркнул Каранджа, подтаскивая мешок к себе. — Залезай, живо! — Прежде чем Каранджа отыскал свободное место, кондуктор дал свисток и "Чудом уцелел" помчался дальше. Но "Счастливчик" тоже с ходу дал газ и обогнал конкурента, чтобы перехватить пассажиров на следующей остановке. — Эй, парень, не жалей бензина, — торопил кондуктор водителя. Автобусы спешили в столицу, чтобы развезти по домам народ, собравшийся в Найроби на торжества в честь Свободы. Скоро они прибыли в Гитхиму. Каранджа сошел, а автобус пустился нагонять "Счастливчика", вырвавшегося вперед на добрых полмили. Каранджа заглянул в придорожную харчевню — полным-полно, люди прятались от дождя. Он пристроил мешок в уголке, прислонил к стене гитару и сел за свободный стодик. Подошел официант, Каранджа заказал чай, тушеное мясо и чапати — тонкие лепешки. Облокотившись о стол, он подпер голову руками и так сидел, не двигаясь, устремив неподвижный взгляд в пространство. Мухи сновали по столу, замирая у трещин, забитых крупинками просыпанного сахара, капельками масла, остатками мяса и кислой картошки. Ему принесли еду, и его чуть не стошнило от густого мясного запаха. Он отодвинул тарелку. Пригубил чай. Снова уставился на неровную поверхность стола, не замечая ни мух, ни липкой грязи в трещинах. У дверей толпились люди, поглядывали на небо, бубнили что-то о Свободе, о Джомо, о дожде. Каранджа перебирал в памяти головокружительную сумятицу дня, выуживая то один, то другой эпизод и стараясь уловить их связь и последовательность. Он лишь смутно помнил все, что было до того, как Генерал Р предложил предателю выйти на помост. Рядом с Каранджей сидел Мваура, позади них — Лейтенант Коинанду. Они обменялись быстрым заговорщическим взглядом и оба уставились на Каранджу, Тут он сообразил, что слова Генерала были адресованы ему, и немедленно связал их с предупреждением, полученным от Мумби. Он подумал, что ему следует встать и категорически опровергнуть подозрение. Но страх пригвоздил его к земле. Едва он поднимется, толпа разнесет его в клочья. Ему представлялось, как тысячи рук разрывают его тело. Вот чего он опасался, когда узнал об отъезде Томпсона, — власти черных. Люди, изгнавшие томпсонов, были опасны и для него, внушали ему страх. А потом появился этот человек, Муго, и избавил Каранджу от опасности. Мваура нагнулся к Карандже, сверля его сузившимися от злобы глазами, и буркнул: "Он спас тебя", — и тут же исчез в толпе. Вспоминая теперь об этом, Каранджа похолодел. Однажды, еще в детстве, ему случилось видеть, как собаки задрали кролика. Они разорвали его на части и разбежались, унося в зубах окровавленные куски. Да, быть бы ему кроликом, не подоспей Муго!.. Но почему я страшусь смерти? — спрашивал он себя, вспоминая, скольких людей он и другие полицейские лишили жизни по приказу белых офицеров. Он палил в людей, не раздумывая, как, не раздумывая, охотник бьет зверя. Поначалу расстрелы возбуждали его, он чувствовал себя заново рожденным, будто приобщался к высшему могуществу, символом которого был белый человек. Со временем сознание своей власти над людьми, своего права лишать их жизни — так легко, стоит лишь нажать на спусковой крючок — превратилось в привычку, в необходимую потребность. Теперь он лишен этой власти. И Мумби окончательно его отвергла. Чего же ради Муго спас ему жизнь? Он снова отхлебнул из стакана. Чай уже остыл, Каранджа отодвинул его. Жизнь была пуста и беспросветна, как мрак и туман, окутавшие землю. Он заплатил за еду, к которой не притронулся, поднял мешок и гитару и пошел к двери. — Эй! — окликнул его официант. — Вы забыли сдачу. Каранджа вернулся, не считая, взял деньги и вышел на улицу. "Она даже не позволила мне поглядеть на сына, — с грустью думал он, шагая в сторону Гитхимы. — А с чего это вдруг мне захотелось его увидеть?" Раньше он никогда не испытывал такого желания. Мимо, едва не задев его, пронесся автомобиль. Каранджа отшатнулся к обочине, пошел дальше, цепляясь за растущие вдоль дороги кусты. "Томпсон уехал, я потерял Мумби…" Мысли беспорядочно перескакивали с одного на другое. События его жизни возникали в воображении и тут же исчезали. А что, если Кихика воскреснет и встанет сейчас перед ним на дороге? Каранджа вздрогнул, испуганно покосившись на темный кустарник. Дождь утих, перейдя в едва заметную неровную изморось. Одежда тяжело набухла и прилипала к телу. Он ходил смотреть на повешенного Кихику… Тщетно искал он в сердце хоть какое-то подобие жалости или сочувствия к погибшему другу — ничего, только отвращение. Труп был омерзителен. Рои мух на страшных, тронутых тленом губах… Но цикто уже не был властен над этим телом… Это и есть свобода? — спрашивал себя Каранджа. Смерть похожа на свободу? А отсидка в лагере — тоже свобода? А разлука с Мумби — свобода? Вскоре он сознался в том, что принимал присягу и, спасая свою шкуру, вступил в полицию. Свое первое задание он выполнял в капюшоне. Белый мешок с двумя щелками для глаз закрывал его целиком. Во время допросов заключенные шли чередой мимо людей в капюшонах. Кивком головы предатели указывали на тех, кто связан с мау-мау. И сейчас в темноте Каранджа отчетливо увидел перед собой самого себя в капюшоне. Он даже мог протянуть руку и дотронуться до прорези у глаз. "Мне все это только грезится!" — подбадривал он себя. Он был уже рядом с железнодорожным переездом. Вдали послышался шум поезда. Как они с Гиконьо бежали тогда на станцию! Шум приближался, усиливался. Однажды людей согнали из окрестных деревень на рунгейский полустанок для дознания и обыска. Один за другим они проходили мимо него, скрытого от них капюшоном, и он выдал многих, наслаждаясь сознанием того, что его никто не видит. Мысли вновь перескочили на сегодняшний митинг. "Похоже, он смелый человек", — сказал он о Муго. И она, Мумби, с ним согласилась. Призрак Муго на помосте предстал перед ним, сливаясь с силуэтом в капюшоне. Каранджа остановился у переезда, думая о том, сколько пар глаз впилось в Муго на митинге. Поезд был уже близко, визжали колеса на стыках рельсов. Скрежет этот заставил его пошатнуться, как и тогда, много лет назад, на рунгейском полустанке. И он ощутил на себе множество злых глаз, уставившихся на него из темноты. Поезд был всего в нескольких ярдах от переезда. Каранджа сделал шаг вперед. И тут поезд со свистом пронесся мимо него — огни, локомотив, вагоны — так близко, что воздушной волной его отбросило назад. Земля мерно дрожала под ногами. Когда поезд исчез вдали, тишина вокруг стала еще бездоннее, ночь — еще темнее.
МУГО Если бы можно было сбросить с плеч эту тяжесть, побежать, подставить тело дождевым струям!.. Мумби медленно шла, задыхаясь под бременем невеселых дум. Известие о признании Муго доконало ее — слишком много для одного дня! В госпитале Гиконьо не произнес ни слова, сделал вид, что не замечает ее присутствия. "Думает, я заискиваю, чтобы он позволил мне вернуться в его дом, — горько подумала Мумби, увидев, как он зажмурился и отвернулся к стене, притворяясь, что спит, едва она подошла к его койке. — А я не вернусь, не вернусь, даже если он будет ползать передо мной на коленях!" Домой она пришла мокрая до нитки. Мбугуа и Ванджику дремали у очага, ребенок спал на полу. Что может быть отраднее домашнего уюта после грязи, тумана и дождя! Мумби молча сбросила мокрую одежду, не задумываясь над тем, что делает. — Как он? — робко спросила Ванджику, когда Мумби подсела к огню. — Не пойду к нему больше! — выпалила Мумби таким тоном, будто родители виноваты в ее непрекращающихся бедах. — Даже если узнаю, что он при смерти. — Оглядись, ступая на тропу, — возразила Ванджику, и голос ее звучал неодобрительно. — Чтобы я таких слов не слышала в моей хижине! Помни: он останется твоим мужем до тех пор, пока не потребует назад выкупа. — Мужем? Никогда! — Замолчи! Постепенно Ванджику удалось утихомирить дочку, и Мумби согласилась навещать Гиконьо, пока он не выпишется из госпиталя. — Хорошо ли оставлять больного без ухода? Даже с врагом так не поступают. Кроме того, ты можешь ходить в Тиморо не одна, а с Вангари. У этой женщины сердце, какого не сыщешь. Чувствовать, что ты нужна кому-то, было приятно. Мумби умиротворенно внимала словам Ванджику, которая теперь принялась подробно пересказывать, что случилось на митинге, что сказал Муго. Мбугуа по-прежнему клевал носом — отец совсем одряхлел и оживлялся, только когда Кариуки приезжал на каникулы. Выслушав рассказ матери, Мумби поняла: она должна что-то предпринять. "Но что я могу сделать?" — урезонивала она себя. Она разомлела от тепла, ее клонило ко сну — она утомилась за день. Все ее существо, все тело, каждый сустав налились усталой истомой. Ей хотелось прикорнуть на коленях у матери, хотелось, чтоб ее приласкали. "Что же я могу поделать?" — снова спросила она себя, зная, что никто не ответит на этот вопрос. И под мерный шум дождя, шелестевшего по соломенной крыше, она блаженно отдалась сладкой дреме, ленивому забытью, избавляясь от необходимости думать, решать, действовать. "Я повидаюсь с Муго завтра. Да он и сам был при том разговоре — знает, что его ждет, — сонно размышляла она, стеля себе на полу, рядом с ребенком. — Ночь такая темная, и дождь все не унимается". Поднялась она рано и вместе с Вангари отправилась в госпиталь. Гиконьо сидел на койке. Рука была в гипсе. Они рассказали ему о митинге, о страшном признании Муго. Он слушал, слегка наклонив голову набок. И вдруг Вангари и Мумби увидели, что Гиконьо весь дрожит — даже одеяло шевелится. — Что с тобой? — забеспокоилась мать. Может, рука у него разболелась? Гиконьо словно не слышал вопроса. Он глядел не отрываясь куда-то вдаль. После долгого — им показалось, бесконечного — молчания он перевел взгляд на женщин. Он несколько успокоился, жесткое лицо смягчилось. На нем уже не было привычной для них постоянной угрюмости. И голос был тихий, робкий, словно ему стало стыдно. — Все-таки смелый человек! — произнес он. — Ему готовились почести, его осыпали хвалой. Он мог стать первым человеком в округе. Назовите мне другого, кто решился бы вот так распахнуть перед всеми душу. — Он замолчал, и взгляд его остановился на Мумби. Потом он отвернулся и сказал: — Запомните, мало кто вправе бросить в этого человека камень. Сначала я… мы тоже должны обнажить душу перед людьми. Его слова вознесли Мумби к облакам и сразу вслед за тем ввергли в пучину ужаса. "Мне следовало пойти к Муго, прежде чем отправляться сюда", — лихорадочно думала она. Вернувшись в Табаи, она побежала к хижине Муго и распахнула дверь. Все было на тех же местах, что и в прошлый раз. Но очаг уже день или два не зажигали. Постель была не убрана. Рваное одеяло свисало на пол. Мумби медленно закрыла дверь и отправилась разыскивать Генерала. Его тоже не было дома. "Ну что ж, зайду вечером". Но и вечером в хижине Муго было пусто. Она отыскала дверь на ощупь в темноте, вошла, неуверенно ступая, и, испугавшись, закричала: "Му-го!" Ответа не последовало. Куда же он запропастился? Куда все подевались? Она попятилась к двери. Она искала до-казательств, чтобы опровергнуть уже известный ей страшный ответ, заглушить слова, звучавшие у нее в ушах подобно многократному эху. Она в ужасе выскочила за дверь и всю дорогу бежала под моросящим дождем по скользким тропинкам — под родной кров… Так, хоть Мумби этого и не заметила, вновь повторилось все, что было несколько дней назад, когда она приходила к Муго, — ночь, непогода, бегство под дождем. Только тогда в хижине горел свет, и Муго мог увидеть на ее лице отвращение и страх. Он долго стоял, глядя на стул, где она только что сидела. Потом затворил двери, задул лампу и лёг. Его терзало чувство большой утраты. Гневное лицо Мумби сияло перед ним в темноте, и он никак не мог удержать дрожи. Почему для него теперь стало важно, именно теперь, что о нем думала Мумби? Она была так близко. Он видел ее лицо, чувствовал теплое дыхание. Она сидела вот здесь, говорила с ним, звала взглянуть одним глазом на обновленную землю. Она доверилась ему, открыла свои тайны. Это побудило и его сказать ей всю правду. И она от него отшатнулась. Он навеки лишился ее доверия. Он понимал, видел и чувствовал теперь, что для нее он — смрад и нечисть. И потом вдруг он услыхал голоса односельчан, окруживших его хижину и распевавших песни Свободы. Каждое хвалебное слово жалило его едкой насмешкой. Что он для своей деревни? Кому на свете он сделал добро? Теперь он взирал на эти незаслуженные лавры по-новому. Мумби им все расскажет, думал он. И видел, как презрение и страх появляются на лице каждого, — видел столь явственно, что содрогался от горя. В ту ночь он почти не сомкнул глаз. Образ Мумби мешался с мыслями и воспоминаниями о концлагере. Он глядел на Мумби, и у него на глазах она неожиданно превращалась в его тетку, потом в Старуху, мать глухонемого. Он поднялся очень рано и, как ни странно, почувствовал, что совсем спокоен. Все утро он оставался невозмутимым. От мучительных ночных видений не осталось и следа. Это удивляло его: откуда такое спокойствие, если он знает, что ему предстоит? Но когда время настало и он увидел перед собой огромную толпу, дух сомнения отравил его безмятежность. Он услышал речь Генерала Р и в тот же миг вспомнил о Карандже. Почему не свалить вину на него? Но он пересилил искушение и поднялся. Как он сможет потом смотреть Мумби в глаза? Сердце едва не выскакивало из груди, и ладони вспотели, когда он шел сквозь толпу. Ноги еле повиновались ему, но голова была ясная и решение — окончательное. Он поднимается на помост и при всем народе сознается в своем преступлении. Он не думал ни о чем другом. Ни крики, ни песни, ни славословия не отвлекут его от цели. Сознание необходимости предстоящего прогнало страх, когда он застыл подле микрофона во внезапно наступившей тишине. Едва он начал говорить, как почувствовал облегчение. Бремя, тяготевшее над ним долгие годы, свалилось с плеч. Он был свободен, спокоен, уверен в себе. Но лишь на мгновение. Едва он умолк, умолкла и ликующая песнь в его груди — радость свободы. Тишина тяжело пригнула его к земле. Все вокруг заволокло туманом. Он спустился с помоста и опять шел сквозь толпу, которая теперь безмолвствовала. Только сейчас осознал он с ужасающей ясностью, что натворил, и смутные мысли, кружившиеся в голове, внезапно пришли в порядок. Итак, он ответствен за все, что делал в прошлом, за все, что будет с ним в будущем. Нужно обдумыватькаждый свой шаг. Ничто теперь не заставило бы его подняться на помост. Он представил себе, как толпа разрывает его тело на части, представил реально, осязаемо. Он не вошел в хижину. В ушах его звучал сумасшедший смех Гитхуа, ему казалось, что за ним гонятся. Он не хотел умирать, он хотел жить. Ради того чтобы вернуть доверие Мумби, он потерял все. Он задержался на миг у дверей своей хижины и огляделся, окинул взглядом деревню, торговое местечко Кабуи и дорогу, ведущую вдаль. Люди очнутся, придут за ним сюда. В небе собирались тучи. Может, он успеет убежать еще до того, как польет дождь? Он двинулся в сторону шоссе. Прошел несколько ярдов и вспомнил, что может наткнуться на людей, возвращающихся из Рун-гея. Но он же знает другую тропинку, напрямик до шоссе, ведущего в Найроби. Там его ждет новая жизнь. Да, так будет вернее. Он чуть не бегом пустился вдоль главной улицы, по которой каждый день ходил в поле. Но возвращавшиеся с митинга уже стекались в деревню. Улицы вскоре наполнятся людьми, ему не удастся скрыться. Он еще прибавил шагу. Скоро он поравнялся с хижиной Старухи и, несмотря на подгонявший его ужас, ощутил непреодолимое желание увидеть Старуху еще раз, напоследок. Но отбросил эту безумную мысль и заспешил дальше, чтобы выйти на шоссе до дождя, до сумерек. Первые редкие капли упали в дорожную пыль, едва он сделал несколько шагов. Пожалуй, лучше переждать дождь, подумал он, спрятаться у Старухи, а там наступит вечер — кто его увидит в темноте? Он вернулся, пересек улицу и, подавив в себе звонкий голос, кричавший ему, чтобы он бежал прочь без оглядки, вошел в хижину. Старуха сидела у потухшего очага, зарыв ноги в остывшую золу. Она медленно подняла голову. Ее глаза в полутемной хижине мерцали странным, пугающим блеском. — Ты… ты вернулся! — вскрикнула она, и лицо ее исказила мертвенная, не от мира сего, улыбка. — Да, — сказал он, и его тело заныло желанием бежать, которое он вновь подавил. — Я знала, что ты придешь, знала, что ты вернешься за мной, — она обезумела от непонятной ему радости, попробовала подняться, но зашаталась и сползла на прежнее место. — Все эти годы я ждала тебя — знала, что тебя не убили. А люди, когда я им говорила, — знаешь, они не верили. Не верили, что ты уже приходил ко мне. Она все-таки поднялась и двинулась к нему неверными шагами. Но Муго не слушал ее безумного бормотания. Мгновение — и лицо ее изменилось. Он глядел в глаза своей тетки! Новая волна ярости всколыхнула его. Пережить то, что уже было вчера и позавчера… Нет, на этот раз она от него не уйдет! Он заставит исчезнуть эту ехидную ухмылку, этот презрительный блеск в глазах. Но тут женщина, шатаясь, снова опустилась на свое место у очага. Улыбка все еще витала у нее на лице. Она не шевельнулась, не издала ни звука. И внезапно он понял: единственный человек, с которым его что-то связывало, мертв. Он закрыл лицо руками и стоял недвижно несколько секунд. Потом он осторожно притворил за собой дверь и медленно побрел под моросящим дождем. О бегстве он уже не помышлял. Вернулся к себе в хижину, зажег лампу и, как был во всем мокром, сел на кровать, уставился взглядом в стену. Все было тихо, спокойно: ни пятен крови на стене, ни топота бегущих за ним ног, ни призрака концлагеря; и Мумби казалась каким-то неясным силуэтом далекого прошлого. Изредка он раздраженно постукивал по раме кровати. С одежды к его йогам набежала лужа. Вода капала с волос, стекала извилистыми струйками по лицу и шее. Одна капелька попала на ресницы, и свет лампы разбился на множество тонких лучиков. Потом капля затекла в глаз, растаяла в нем и, превратившись в слезу, скатилась вниз по щеке. Он не вытер мокрую щеку, не шелохнулся. Раздался стук в дверь. Муго молчал. Дверь распахнулась, и вошел Генерал Р, а вслед за ним Коинанду. — Я готов, — произнес Муго и поднялся, глядя мимо пришедших. — Мы будем судить тебя сегодня, сейчас, — торжественно объявил Генерал Р. — Судья — Вамбуи. Коинанду и я представляем совет старейшин. Муго ничего не сказал. — Твои дела сами вынесут тебе приговор, — продолжал Генерал Р, и голос его звучал ровно, в нем не было ни гнева, ни горечи. — Никто не может избежать возмездия. Генерал и Коинанду вывели его из хижины.
ВАРУИ, ВАМБУИ Варуи все выглядывал наружу, лишь бы не видеть стеклянной пустоты в глазах Вамбуи. — Два дня льет не переставая, — произнес он, чтобы как-то развеять тягостную напряженность, которую почувствовал, едва переступив порог ее хижины. Он сидел у самой двери, весь закутавшись в одеяло, только седая голова на изрезанной морщинами шее торчала из бесформенного куля. Вамбуи зябко ежилась напротив него. Изредка она посматривала на Варуи, а потом снова переводила взгляд на пелену дождя за порогом. — Такой дождь может длиться много дней, — отозвалась она бесстрастно. Оба погрузились в молчание и со стороны казались осиротевшими детьми, для которых жизнь нежданно-негаданно утратила и тепло, и краски, и всю волнующую прелесть. Очаг едва теплился. Картофельная кожура, вылущенные кукурузные початки, солома валялись на полу, словно хижина была покинута людьми. В другое время грязь и запустение удивили бы Варуи, да и кого угодно, ибо Вам-буи славилась опрятностью. Она по меньшей мере дважды на день подметала пол, а посуду мыла сразу после еды. Каждая тарелка, каждый горшок знали свое место на прибитых к стене полках. А стены она красила светлой охрой, которую специально покупала в Веру. Стоило ей обнаружить хоть малейший намек на трещину, она немедленно замазывала ненадежные места. Все в деревне знали ее любимую поговорку: "У человека ничего нет дороже крыши над головой". Варуи не виделся со своей старой приятельницей с самого дня великого жертвоприношения. Последние двое суток жители Табаи отсиживались по домам, избегая, будто сговорились, обсуждать события торжественного дня. Многое из случившегося озадачивало Варуи, тревожило его сердце, и тщетно он искал ответ. Отчаявшись, он отправился к Вамбуи. Однако разговора не получилось, они словно не понимали друг друга, словно стыдились затрагивать некоторые темы. — Может, ее доконал холод? — предпринял он еще одну попытку. — Кого? — Старуху. — Наверно, — рассеянно отозвалась Вамбуи и вздохнула. — Мы совсем забыли о ней в тот день. Не следовало оставлять ее одну. Она была такая старая, и одиночество убило ее. — Но почему именно в тот день, не перестаю я спрашивать себя? Ведь она уже давно жила одна и, наверное, привыкла. — Все-таки у нее перед глазами была жизнь. Дым от очагов, играющие дети. Но в тот день вся деревня ушла на митинг. Все до единого. Нигде не курился дым, не слышно было детского смеха на улицах. Деревня опустела. — Вамбуи говорила запальчиво, словно отстаивала свою точку зрения в споре. — И все же почему именно в тот день? — не унимался Варуи. — Ей стало одиноко — разве ты не слышал, что я говорила? И сын пришел за ней. Гитого взял ее к себе, — выпалила Вамбуи раздраженной скороговоркой и смолкла. — Да. Все начало меняться в нашей деревне с того дня, когда Старухе впервые привиделся ее мертвый сын. Она взглянула на Варуи, но на сей раз ничего не сказала. — И надо же, в тот день, — не унимался он, — именно в тот день! Сначала Гиконьо сломал себе руку… — Он неожиданно замолчал и повернулся к Вамбуи. Та смотрела на косой мелкий дождь за порогом, безразличная к его словам, к смущавшим его душу вопросам. Проследив за ее взглядом, он внезапно различил за сеткой дождя Мумби — до двери ей оставалось несколько шагов. Вот она переступила порог, зашла в хижину. Ноги были забрызганы глиной, по мешку, укрывавшему голову и спину, стекала вода. Она сбросила мешок, встряхнула его, прежде чем повесить на жердь. Вамбуи подвинула для нее скамью поближе к очагу. — Бр-р, холодно, — произнесла Мумби, зябко поводя плечами и часто, с присвистом дыша сквозь стиснутые зубы. — Не повезло мне — мама еще только разжигает огонь. Я к вам погреться. Знаю, что у Вамбуи всегда горит очаг. — Ты была в госпитале? — спросила Вамбуи. — Да, мы ходили вместе с Вангари. Я бываю там каждый день. — Как его рука? — Только трещина, не перелом даже. Его скоро выпишут. — Все пошло не так… — снова заговорил Варуи, медленно распутывая клубок своих мыслей. — Все мигом куда-то подевались, а ведь за минуту до того площадь была полным-полна народу, я даже вспомнил то шествие, во времена Гарри. И вдруг в мгновение ока все опустело. Кроме нас, никого не осталось — ну, может, еще человек пять. Мы закололи баранов и помолились за нашу деревню. Но и молитва была точно соленая вода во рту умирающего от жажды. Совсем не такого праздника я ждал все эти годы. — И я недовольна, и другие тоже. Но кто бы мог подумать… Мне и в голову не могло прийти, что он… что Муго предал, — Вамбуи с трудом выговорила это имя, которое они с Варуи пока что обходили молчанием. Мумби не произнесла ни слова. — Его не нашли, — сказала она наконец изменившимся голосом. — С того самого дня его никто не видел, — подтвердил Варуи, как будто слова Мумби заключали в себе вопрос. — Может, он заперся в своей хижине? — подсказала Вамбуи. — Я ходила к пему вчера вечером. Дверь не заперта, но в хижине никого нет. — Он, наверное, решил уйти из деревни, — заметил Варуи. — А может, он по нужде отлучился. — Утром по дороге в госпиталь я снова зашла туда. В дверь подул ветерок, бросил им в лицо пригоршню мелких брызг. Вамбуи отерла воду тыльной стороной ладони. Варуи нагнулся и провел мокрой щекой по одеялу. Мумби подалась назад, словно собиралась отодвинуть скамью, но так и осталась на прежнем месте. — Я, наверное, могла его спасти, — с горечью сказала она. — Если бы я сразу пошла к нему… — О ком это ты? — быстро спросила Вамбуи и отвела от нее глаза. — О Муго. — Некого спасать, — медленно произнесла Вамбуи. — Ты слышишь? Никто бы его не спас… потому что… спасать некого. — Но ты не видела его лица, Вамбуи, ты не видела! — горячо возразила ей Мумби. Потом, понизив голос, продолжала: — В тот день, накануне митинга, когда ты послала меня к нему… Он стал мне рассказывать, и у него был такой вид… — Что рассказывать? — одновременно вскрикнули оба с живым интересом. — О брате, о Кихике. — Так ты все знала? — Да, он мне сказал. — Тебе бы следовало сообщить нам об этом еще до митинга, — с укоризной сказала Вамбуи и тут же отвернулась, будто утратила к новости всякий интерес. — Я не хотела, чтобы с ним что-нибудь случилось. И подумать не могла, что он пойдет на митинг. — Это правда, — согласился Варуи и снова принялся озадаченно размышлять вслух. В голосе его слышалось разочарование: — Меня обманули его глаза! Но я себя спрашиваю: почему же тогда, во рву, он отважился заступиться за женщину? И вспомните: он геройски держался в лагере! Мумби первая очнулась, нарушив сковавшее всех молчание: — Мне пора идти. Наверное, и у нас уже развели огонь. Не надо расстраиваться из-за этого митинга… и из-за Муго. Нужно думать, как жить дальше. — Да, надо отстраивать деревню, — поддержал ее Варуи. — И о завтрашнем базаре нельзя забывать, и о полях, которые пора готовить к севу, — добавила Вам-буи, старательно разглядывая что-то за пеленой дождя. — И о детях, — заключила Мумби, вставая и снова накрываясь мешком. Потом неожиданно она обернулась к ним, посмотрела на этих умудренных жизнью стариков, способных открыть молодежи секрет счастья. — А в тот вечер, после митинга, кто-нибудь из вас видел Генерала Р? Вамбуи подняла на нее глаза, и в них вздрогнул страх. Варуи, не поворачиваясь, ответил первым: — Я не видел его после того. — И я тоже, — отрезала Вамбуи, тоном, который не допускал дальнейших расспросов. Мумби ушла. Вскоре поднялся и Варуи, все еще бормоча себе под нос: "Все пошло неладно. Глаза его меня провели, ох уж эти глаза. Стар я становлюсь, видеть стал хуже". Вамбуи сидела в прежней позе, глядя на дождь и серую мглу еще несколько минут. В хижину заползали сумерки. "Пожалуй, не нам было его судить", — пробормотала она. Потом она встряхнулась, прогоняя одурь, стараясь сосредоточить мысли на простых, насущных заботах. Надо зажечь лампу, надо подмести пол, грязь какая — стоит только запустить… Но так и не встала с места.
ХАРАМБЕ Цоследний лагерь, в котором сидел Гиконьо, назывался Вамуму. Его там продержали год. Заключенные работали на строительстве ирригационной системы в долине Мвейя, неподалеку от Эмбу, — превращали безжизненные равнины в рисовые поля. Орудуя заступом, Гиконьо часто поглядывал туда, где за кромкой плоскогорья поднимались горные кряжи, отделявшие Эмбу от Укамбани. Он знал, что земля за горами — это Вакамба. И все же ему чудилось, что там, за горой, его дом и Мумби. В одно ясное утро он различил на горизонте Кириньягу — снеговой пик, вонзившийся в небо, и растрогался до слез. Не то чтобы он был так уж чувствителен к красотам природы. Но вид легендарной горы, ее гордой вершины, парящей над землей в дымчатом ореоле, разбередил ему душу. Теперь, в госпитале Тиморо, поправляясь после своего дурацкого падения, Гиконьо заново ощутил пережитое тогда чувство. В больничных палатах стоял тот же терпкий резкий запах, что и на разогретых солнцем заболоченных берегах реки Таны. В Мвейе в тот самый день он вновь задумался над узором для скамьи. Идея наконец обретала конкретные формы. Он рыл яму в болотистой, глинистой почве под палящим солнцем. И думал: он вырежет скамью из твердого ствола дерева муири, растущего у Кириньяги, на отрогах Ньяндарвы. Скамья будет на трех ножках в виде угрюмых фигурок с вытянутыми лицами, согбенных непосильным бременем. На сиденье он изобразит реку и оросительный канал. Подле канала будет лежать мотыга или заступ. И много, много дней потом Гиконьо все думал, как лучше украсить скамью. Позы фигурок постоянно менялись, он прикидывал так и этак, пробуя различное положение их плеч, рук, голов. А как изобразить реку, какое взять для этого дерево? Может, вместо мотыги вырезать пангу? Он заставлял себя подолгу думать над мельчайшими деталями — это отвлекало от смертельной усталости. Он мечтал скорее выйти на волю и сразу взяться за скамью. Теперь, в госпитале, его снова обуяло желание осуществить свой давний замысел. Он провел в Тиморо уже четыре дня. И не считая того, первого, все время думал о Муго, о сделанном им признании. А он, Гиконьо, смог бы набраться храбрости и рассказать людям о шагах по цементу? По ночам он припоминал всю свою жизнь, все, что выпало на его долю в семи концлагерях. Что же все-таки эти годы дали ему? Совесть беспокойно шевелилась в груди. Он смалодушничал, изменил клятве. Какая же разница между ним и Каранджей, и Муго, и теми, кто открыто изменил народу, служил у белых ради спасения своей шкуры? У Муго хватило смелости признать свою вину и принять заслуженную кару. Но при одной мысли о том, что он может потерять, Гиконьо содрогался. Каждое утро Мумби и Вангари приносили ему еду. Сначала он старался не говорить с Мумби. Даже смотреть в ее сторону было мучительно. Но когда он услышал о поступке Муго, ему захотелось представить себе ход ее мыслей и рассуждений. Что скрывается за внешней невозмутимостью ее лица? Что думает она о Муго, о его признании? Теперь он томился желанием поговорить с ней — поговорить о Муго, о своей собственной жизни. Что бы она сказала о гулких шагах по цементу, которые до сих пор преследуют его? И еще одна мысль закралась в голову: он никогда не задумывался над тем, что может стать отцом детей Мумби. Теперь вдруг ему стало любопытно, на кого бы больше походил ребенок? На пятый день ему вспомнилась Мвейя, и он беспокойно заерзал на койке, рискуя потревожить больную руку. Сначала воспоминание едва тлело слабым огоньком, но чем дольше он думал, тем сильнее загорался желанием взяться за резец. Как только он выйдет из госпиталя, сразу начнет скамью, другие дела подождут. И снова он до мельчайших подробностей пытался представить себе узор, и снова искал положение для фигурок. Теперь он выточит худенького человечка со скорбным лицом, согбенными плечами и ношей на голове. Его правая рука протянется к женской руке. У женщины будет тоже печальное лицо. А третья фигурка — ребенок, на головке которого соединятся мужская и женская рука. А сиденье? Может, вырезать на нем заросшее сорняками нераспаханное поле? Мотыгу? Цветущий горох? Ну, да это он решит позднее. На шестой день Мумби не пришла в госпиталь. Гиконьо был уязвлен и сам удивился тому, с каким нетерпением ожидал ее прихода. Весь день он места себе не находил, терзаясь в догадках, что же с ней могло приключиться. А вдруг она вообще решила больше не навещать его? Разозлилась на его тупое молчание? Он с волнением ждал следующего утра. Если она… Но она пришла, на этот раз одна, без Вангари. — А вчера? — укоризненно буркнул он. Мумби усаживалась на краешке кровати. — Ребенок заболел, — просто сказала она. — Что с ним? Что-нибудь серьезное? — Наверное, простуда… — Ты водила его к врачу? — Да, — отрывисто сказала она. Гиконьо снова старался не глядеть в ее сторону: кажется, Мумби не терпится поскорее уйти. — Когда тебя выписывают? — Через два дня. — Теперь он повернулся и на мгновение встретился с ней взглядом. Она тут же отвела глаза. Он удивился, заметив, что она утомлена. Раньше он не замечал, чтобы она выглядела усталой. Что это с ней? — Ну вот, — сказала она. — Пожалуй, я завтра не приду и послезавтра тоже. — И она стала складывать пустую посуду. Ему хотелось крикнуть: "Не уходи", и внезапно, неожиданно для себя, он выпалил: — Давай поговорим о ребенке. Мумби, уже поднявшаяся, изумленно повернулась и села снова, испытующе глядя на него. — Здесь, сейчас? — спросила она, ничем не выдавая волнения. — Да, сейчас. — Нет, нет, только не сегодня, — ответ звучал непреложно, точно она уже привыкла к своей независимости. Гиконьо поразила твердость в ее голосе — раньше такого не было. — Ну хорошо. Подождем, пока я выйду из госпиталя, — сказал он и после неловкой паузы добавил: — Ты бы вернулась домой, развела огонь в очаге, не то все придет в запустение. Некоторое время она раздумывала над его словами, отвернувшись в сторону. Потом снова взглянула ему в глаза: — Нет, Гиконьо. Я не верю, будто можно одним махом все исправить. Мне пора: ребенок нездоров. — Ты придешь завтра? — спросил он, не в силах скрыть свое волнение и страх. Он сразу понял, что отныне ему придется считаться с ее мнением, с желаниями и чувствами новой Мумби. И опять она ответила на его вопрос не сразу. — Может, приду. — И пошла к выходу решительной, упругой походкой, немного грустная, но независимая и уверенная в себе. Он смотрел ей вслед, пока она не скрылась за дверью. Потом опустил голову на подушку и снова стал думать о свадебном подарке — о скамье, которую он вырежет из дерева муири. Женскую фигуру он сделает большой, с ребенком под сердцем…
Распятый дьявол (роман)
 DEVIL ON THE CROSS
novel
DEVIL ON THE CROSS
novel
Всем кенийцам, борющимся против неоколониализма и империализма
Глава первая
1
Некоторые люди в нашем Илмороге говорили мне, что история эта слишком безобразна, чересчур постыдна и ее надлежит похоронить в бездонной пучине. Кто-то вспоминал, что им тогда хотелось не смеяться, а горько плакать, и лучше уж не ворошить прошлое, дабы не лить слез во второй раз. Я спрашивал и тех, и других: что толку накрывать ямы во дворе листьями и травой? Их послушать, так, коли глаз не видит, можно с легким сердцем пускать детей резвиться в таком дворе! Блажен тот, кто способен разглядеть ямы на своем пути — он не упадет в них. Хвала путнику, издали видящему пни на дороге: он выкорчует или обойдет, не споткнувшись. Так распнем же дьявола, убаюкивающего душу и затмевающего ум! Не позволим прислужникам лукавого снять его с креста, чтобы он и впредь обрекал смертных еще при жизни на муки ада…2
Впрочем, и сам я, Пророк Справедливости, испытал вначале тягость сомнений: заросли в сердице никогда до конца не расчистить, домашние тайны не для чужих ушей, а Илморог — наш дом. Но на ранней заре пришла ко мне мать Вариинги вся в слезах и взмолилась: "О сказитель, играющий на гикаанди, поведай о судьбе горячо любимого чада! Пролей свет на то, что приключилось с дочерью, — пусть всякий, прежде чем судить, узнает правду. О сказитель, играющий на гикаанди, открой все, что сокрыто!" Однако я по-прежнему колебался, задаваясь таким вопросом: кто я — уста, пожирающие сами себя? Не зря говорится: уж лучше антилопу кончить самому, чем криками других охотников сзывать. Но тут я услышал жалобные просьбы множества людей; сказитель, играющий на гикаанди, Пророк Справедливости, обнажи то, что сокрыто мраком! Семь дней я соблюдал пост, не ел и не пил, ибо сердце мое разбередили эти причитания. И все же я спрашивал себя: "Может быть, мне мнятся бесплотные призраки, чудятся отзвуки безмолвия? Кто я — уста, проглотившие себя? Верно сказано: уж лучше антилопу кончить самому…" Прошло семь дней, и земля задрожала, яркая молния раскроила небо, меня подхватило и забросило на островерхую крышу, многие вещи открылись моему взору, я услышал голос, подобный гулким раскатам грома. "С чего ты взял, — негодовал он, — будто истина принадлежит одному тебе? Кто ты такой, чтобы присваивать ее? Не тешься пустыми отговорками, иначе тебя вечно будут преследовать слезы и жалобные вопли". Голос умолк. В тот же миг меня снова подхватило, подбросило и швырнуло вниз, в золу очага. Взял я пригоршню пепла, вымазал лицо и стопы и возопил:Подчиняюсь!
Повинуюсь!
Умолкни, сердце,
Слез не лей…
Повинуюсь!
Подчиняюсь!
Голос народа — глас божий.
Ему и покорился,
Противиться не мог.
Но что же медлю я, топчусь на берегу?
Скорее скинь одежды
И в реку смело ныряй.
В ней будет тебе хорошо…
Иди же,
Я жду, добрый друг.
Нам есть что с тобой обсудить.
Давай потолкуем,
Жасинту Вариингу вспомним.
Пусть судят потомки о ней,
Лишь правду узнав до конца.
Глава вторая
1
Дьявол явился Жасинте Вариинге в воскресенье на площадке для игры в гольф в городке Илморог, округ Ичичири, и сказал… Погодите, я забегаю вперед. Невзгоды Жасинты начались еще до Илморога. Так что давайте вернемся назад… Горести и печали обрушились на Вариингу в Найроби, где она служила секретаршей, машинисткой и стенографисткой в конторе строительной компании "Чемпион" на улице Тома Мбойи рядом со зданием Национального архива. Несчастье налетает стремительно, как злой дух, беда не приходит одна. В пятницу утром Вариингу уволили с работы за то, что она отвергла домогательства босса Кихары, управляющего фирмой. Вечером того же дня ее жених Джон Кимвана оставил Вариингу, обвинив ее в любовной связи с боссом Кихарой. В субботу утром Вариингу посетил владелец дома в Офафа-Иерихоне, где она снимала комнату. (Дом или птичье гнездо? Пол весь в щелях, в стенах трещины, потолок течет.) Хозяин объявил Вариинге, что повышает квартирную плату. Она отказалась платить новую цену, и он велел ей немедленно освободить помещение. Она воспротивилась, сказала, что подаст в суд. Хозяин залез в свой "мерседес" и уехал. Не успела Вариинга и глазом моргнуть, как он вернулся — с тремя головорезами в темных очках — и, подбоченясь, с издевкой заявил: "Вот, я привез тебе суд". Вещи Вариинги вышвырнули из комнаты, на дверь повесили замок. Один из громил сунул ей в руку клочок бумаги, на котором было написано: Мы — Ангелы ада, частные предприниматели. Обратишься к властям — и мы вручим тебе билет в один конец, на одно лицо, — в Царство Бога или Сатаны, на небо или в преисподнюю. Затем все они сели в "мерседес" и укатили. Вариинга, перечитав записку, спрятала ее в сумочку, присела на какой-то ящик и обхватила голову руками: "Почему мне так не везет? Какого бога я прогневила?" Достав из сумочки зеркальце, она рассеянно погляделась в него. "Сама во всем виновата, — вздохнула она, проклиная тот день, когда появилась на свет, — бедная Вариинга, куда теперь податься?" В конце концов она решила вернуться к родителям. Поднялась с ящика, сложила вещи, отнесла их к соседке — женщине из племени мкамба, и стала готовиться к отъезду, просеивая в уме ворох забот. Вариинга была уверена: всему виной ее внешность. Каждый раз, видя себя в зеркале, она поражалась своему уродству. Горше всего сетовала она на свою черноту, поэтому без устали пользовалась отбеливающими кремами, такими, как "Амби" или "Снежинка", забыв мудрую поговорку: "Тот, кто родился черным, белым не станет". Ее кожа стала пятнистой, как оперенье цесарки, а волосы от раскаленного железного гребня, которым она их распрямляла, — ломкими, порыжевшими, точно кротовый мех. Еще Вариинга ненавидела свои зубы, ей хотелось, чтобы они были белые-белые. Поэтому она редко улыбалась. Если же, забывшись, вдруг начинала смеяться, тут же резко обрывала смех или же прикрывала рот ладошкой. Мужчины дразнили ее Злюкой-Вариингой, потому что губы ее всегда были поджаты. Но когда ей бывало хорошо, когда отпускали тягостные думы о желтоватых зубах и слишком черной коже, она смеялась от души, и ее смех совершенно обезоруживал окружающих. Голос у нее был мягкий, как душистое притирание, глаза сверкали, словно звезды в ночном небе. Она уверенно шагала по улице, грудь ее напоминала спелые плоды, и мужчины застывали на месте, провожая ее восхищенными взглядами. Однако Вариинга не знала себе цены, завидовала чужой красоте, хотела походить на подругу. Она не умела одеться со вкусом и, подражая другим женщинам, гналась за модой, не задумываясь, к лицу ли ей цвет платья, по фигуре ли сшито. Вариинга буквально уродовала себя, копируя походку какой-нибудь девицы. Ей бы вспомнить поговорку; "Дразнила лягушка лисиц и осталась без лапок". Вечная неуверенность в себе тяжелым бременем давила Вариингу. Вот и в ту субботу, ссутулившись, она брела по улицам Найроби к автобусной остановке, чтобы сесть в матату[14] и доехать до родительского дома в Илмороге. Даже много дней спустя, когда ее жизнь совершенно переменилась, она не могла понять, как ей тогда удалось пройти по Ривер-роуд, пересечь улицу Рональда Нгалы и оказаться на кромке тротуара улицы Скачек, между собором святого Петра и магазином швейных машинок. Здесь была автобусная остановка "Отель "Кока". Прямо на нее мчался автобус. Вариинга зажмурилась, сглотнула слюну. Сердце стучало в такт словам: "О господи, не оставь меня в час испытаний, не прячь свой лик… Прими меня…" Внезапно Вариинга явственно услышала голос: "Опять ты хочешь убить себя! С чего ты взяла, что твой земной путь окончен? Кто сказал, что твое время вышло?" Вариинга открыла глаза, огляделась. Чей это голос? При мысли о том, что чуть было не произошло, по телу пробежала дрожь, все поплыло перед глазами: люди, здания, деревья, машины. Уши точно ватой заложило. Городской шум исчез, будто все вокруг погрузилось в вечное безмолвие. Ноги подкосились. Вариинга поняла, что теряет сознание. И в это мгновение кто-то подхватил ее под руку, не дав упасть. — Вам дурно? — услышала она мужской голос. — Посидите в тени, не следует оставаться на солнце. Вариинга даже не могла разглядеть того, кто обращался к ней. Не в силах возразить, она позволила отвести себя на ступени салона "Божественный массаж и неземная красота" при отеле "Кока". Дверь в салон была заперта. Вариинга села на ступеньку и опустила лицо в сложенные чашечкой ладони, так что пальцы касались мочек ушей; прислонилась к стене. И тут силы совсем оставили ее, она скользнула в бездонный мрак. Тишина. Потом раздался свист, еще какие-то звуки, напоминавшие голоса, далекое пение, будто принесенное волнами или ветром:Господи всемогущий!
За что караешь меня?
Когда я сойду в могилу,
Где успокоится мой прах?
Кто мошенник, тот и прав,
Дои доверчивых глупцов.
А за добро злом воздавай,
Плати презреньем за любовь.
Вот что распевают горожане, подо что танцуют.
Дрозд и тот долбит для себя,
И комар вас кусает впрок.
Путнику дела нет до других.
Всяк о себе лишь печется.
И мудрых еще можно просветить,
Создатель нас учил: любовь в словах.
Пожнем мы завтра, что сегодня сеем.
Так спросим же себя:
Кому стенания нажили капитал?
Смешаем семена различных злаков!
Ускорим шаг в такт ритмам разных песен!
2
— Взять хоть меня, — Вариинга опустила голову, уставясь в землю, словно говорила сама с собой, — или любую другую девушку в Найроби. Назовем ее, к примеру, Махуа Каринди. Предположим, что родилась она в деревне. Образование у нее куцее. Но ей повезло, она сдала экзамены, перешла в среднюю школу, и школа эта хорошая, не из тех, где бедняки платят большие деньги за своих детей, а в классе зачастую нет даже учителя. Не успела доучиться до второго класса, как готово дело — она беременна! А кто виноват! Скорее всего ее одноклассник, у которого ни гроша за душой. Их дружба началась с того, что они обменивались романами Джеймса Хэдли Чейза, Чарльза Мангуа и Дэвида Мейллу, подпевали вместе пластинкам Джима Ривза, Д. К. или Лоренса Ндуру. Что же теперь делать, Каринди? Впрочем, не исключено, что девушку соблазнил какой-нибудь деревенский сердцеед. Конечно же, безработный, нет даже крыши над головой. Их любовь вспыхнула на деревенских танцах под гитару, после которых он уводил ее в поля. Что же тебе делать теперь, глупышка Каринди? Ребенка же надо кормить и одевать! Но, может, дело обстоит иначе? У ее дружка есть работа в городе, но получает он не больше пяти шиллингов в месяц. Они ходили вместе на фильмы с Брюсом Ли и Джеймсом Бондом, потом пять минут в дешевых номерах и разъезжались по домам на матату. Так кто же утрет Каринди слезы, кто ее утешит? Или может статься, отец ребенка — богатый. Ведь такие связи нынче в моде. У него жена, и вскружил он голову девушке воскресными прогулками в "мерседесе". Давал ей горстку монет на карманные расходы, поил допьяна в дальних кабаках. Школьник, бездельник, толстосум — все отвечают ей одно и то же, когда она обращается за помощью: "Что?! Кто, по-твоему, сделал тебя брюхатой? Я? Да с чего ты взяла? Рассказывай сказки кому-нибудь еще! Каринди, с кем ты только не была! Да тебе цена — десять центов! Реви сколько хочешь — не поможет… Каринди, если я разок с тобой поразвлекался, это не дает тебе права перекладывать свои грехи на меня!" Но Каринди тоже за словом в карман не лезет. Подбоченясь, она отделывает своего вчерашнего дружка: "А ты разве сахар?! Уж лучше я буду пить пустой чай. Возомнил о себе, что ты автобус! Да я скорее пешком пойду! А может, ты крыша над головой? Буду спать под открытым небом. Или кровать? Лягу лучше на дол. Сладкоречивым бабникам веры больше нет!" Но Каринди только с вицу такая храбрая, внутри у нее все трясется от страха и обиды. Она отказывается пить таблетки — какой ужас, когда дети рождаются мертвыми. Каринди сохраняет ребенка, не топит в отхожей яме, не оставляет на обочине или в автобусе, в лесу или на свалке. Она перелагает свое бремя на плечи матери и бабки, и растет дитя, пришедшее в этот мир незваным, вопреки воле родителей, застав их врасплох. Мать или бабка предупреждают Каринди, чтобы подобное не вошло у нее в привычку: "Впредь остерегайся, Каринди. Не забывай, мужчины как ядовитые змеи, их укус оставляет клеймо на всю жизнь". Каринди и сама теперь знает, что никто в чужих грехах не кается, не жалеет о том, что сходил кое-куда, — жалеют, что вернулись. Если тебе улыбнулись — это еще не значит, что тебя любят. Решительно стиснув зубы, Каринди возвращается в школу, прилежно учится, добирается до четвертого класса, сдает экзамены, и ей вручают аттестат. Казалось бы, все хорошо. Но заботы бескрылы — сами не улетают. Снова родителям Каринди надо доставать припрятанные центы — так прячут палку на случай, если вдруг крыса выскочит. И вот как раз такой случай! Каринди определяют в колледж секретарш в Найроби, где ее учат печатать на машинке и стенографии. Через девять месяцев она отстукивает тридцать пять и стенографирует восемьдесят слов в минуту. "Машинопись и стенография" — свидетельство об окончании курсов у нее в кармане! И вот Каринди бродит по Найроби в поисках работы, из конторы в контору. В одной фирме, небрежно развалясь в кресле, с ней беседует мистер Босс. Он озирает Каринди с головы до пят. "Что вам угодно? Работы? Понятно. Сейчас я очень занят. Давайте встретимся в пять". Каринди с нетерпением ждет назначенного времени, запыхавшись вбегает в контору. Мистер Босс улыбается, предлагает ей стул, спрашивает, как ее нарекли при рождении и каким английским именем окрестили. Он вникает в ее проблемы, слушает внимательно и терпеливо. Потом мистер Босс постукивает пальцем или ручкой по столу и говорит: "Ах, Каринди, работу в наше время очень трудно сыскать. Но только не такой девушке, как вы… Хотя подобные вопросы в конторе не решают. Перейдемте через дорогу в "Современную любовь". Однако Каринди помнит ошибки молодости, ядовитый укус оставил неизгладимый след. Кто один раз видел, тот уже не забудет; кто испил из калебаса, знает, что тот в себе таит. И Каринди отказывается от встреч в отелях, приспособленных для занятий любовью, — старомодных или современных. На следующий день она снова прочесывает город. Заходит еще в одну контору, там свой мистер Босс. Те же улыбки, те же расспросы, те же приглашения. Цель у всех одна — бедра Каринди. Бар с пансионом "Современная любовь" — вот бюро по трудоустройству молодых девиц; контракты подписывают там не на столах, а на женских бедрах. Наша новая Кения поет девушке лишь одну песню: "Сестра Каринди, с дураками трудно договориться. Сестра Каринди, любое судопроизводство начинается с угощения. Сестра Каринди, нет охотников лизать пустую руку! Ты мне, я тебе. Теперешние проблемы легко решаются при помощи бедер. Хочешь спать — стели кровать!" Но Каринди решила твердо: никаких кроватей! Даже если дела ее так никогда и не уладятся. Но поистине чудны дела господа, и в одно прекрасное утро Каринди получает работу, причем без визита в обитель современной любви. Босс Кихара, управляющий фирмой, — средних лет, женат, у него дети. Мало того, он член попечительского совета Храма небесного. Каринди безупречно справляется со своими служебными обязанностями. Не проходит и месяца, как Каринди находит себе Камунгонье[15]. Молодой человек учится в университете, придерживается прогрессивных взглядов. Когда Каринди признается, что у нее в деревне ребенок, он в ответ горячо ее целует. "Ребенок — не леопард, — говорит он Каринди, — что его бояться? Его существование доказывает, что ты не бесплодна". Услышав это, Каринди утирает счастливые слезы и с сердечным жаром клянется в верности любимому. "Какая я счастливая, искала и нашла своего Камунгонье! Никогда его не рассержу, не стану ему ни в чем перечить. Еслион накричит на меня, промолчу, опущу глаза, как жующая траву овечка. Помогу ему получить образование, охраню его от бед и неурядиц, а потом мы вместе выстроим себе дом на прочных сваях. Никогда на другого мужчину не взгляну!" Подруги Каринди ей завидуют и наперебой советуют: "Для твоего же блага, не будь такой. Семечки в одной тыкве и те разные". "Непоседливое дитя, — отвечает им Каринди, — отправляется из дому искать мясо, как раз когда там жарят баранину". Но подруги твердят свое: "Милая, это же новая Кения. Нужно откладывать впрок. Тот, кто делает запасы, никогда не голодает". "От обжорства живот пучит", — отвечает Каринди. А подруги знай дразнят: "Поститься скучно". Но Каринди тверда: "Чужое ожерелье напялишь — свое потеряешь". Казалось бы, жизнь Каринди наладилась, но тут босс Кихара начинает вдруг проявлять к девушке интерес. Однажды он выходит из своего кабинета и, остановившись около нее, притворяется, будто читает то, что она печатает. "Кстати, мисс Каринди, — спрашивает он, — какие у вас планы на субботу и воскресенье? Я бы хотел взять вас с собой в небольшое сафари. Что вы на это скажете?" Каринди вежливо отказывается. Такой учтивый отказ не может обидеть, и босс Кихара ждет, что Каринди в конце концов уступит. Если торопиться, батат на части разлетится. Через месяц он снова подступается к ней. "Мисс Каринди, сегодня вечером в клубе "Парадайз" коктейль". И снова Каринди вежливо отказывается. Приходит день, когда босс Кихара говорит себе: "Если охотник крадется к дичи слишком робко, то наверняка спугнет ее. Все устроится, если изменить тактику. Лезть в воду — так нагишом". И он идет в атаку. "Вот что, мисс Каринди, у меня сегодня скопилось много бумаг, неотвеченных писем, очень важных и весьма срочных. Хочу вас попросить задержаться в конторе после пяти. Фирма заплатит вам за сверхурочную работу". Каринди остается. Пять часов. Босс Кихара у себя в кабинете, должно быть, готовит ответы на деловые письма. Шесть часов. Все уже давно ушли домой. Босс Кихара вызывает Каринди, предлагает ей стул — им надо поговорить. Через минуту он встает, садится на краешек письменного стола, лукаво ухмыляется. Каринди наконец обретает дар речи: — Пожалуйста, мистер Босс, давайте начнем, у меня были планы на вечер, за окном уже темнеет. — Не волнуйтесь, Каринди. Если мы не управимся засветло, я отвезу вас домой в своей машине. — Спасибо, но мне бы не хотелось вас затруднять, — отвечает Каринди ровным голосом, старательно пряча раздражение. — Да какое уж тут затруднение! Я могу даже вызвать своего шофера, он довезет вас, куда скажете. — Нет уж, я предпочитаю автобусом. Пожалуйста, где письма? Босс Кихара слегка наклонился к Каринди, в глазах его вспыхивает огонек. — Каринди, — говорит он, понизив голос, — мои письма продиктованы сердцем. — Сердцем, говорите? — быстро переспрашивает девушка, делая вид, что не поняла намека. — Такие письма не следует показывать подчиненным. Лучше вам самому их отпечатать, чтобы ваши сердечные тайны не попали в чужие руки. — Прекрасная Каринди, цветок души моей! Только тебе могу я их доверить, ибо адресованы они твоему сердцу, твоим глазкам. Я хочу, чтобы ты хранила их в своей памяти вечно, за семью печатями. И пожалуйста, не отсылай их обратно с пометкой "адресат выбыл". Дорогая, цветок души моей, посмотри, что сделала со мной любовь к тебе, я стал немощен и слаб. — Мистер Босс, сэр, прошу вас!.. — пытается вставить словцо Каринди. Ей и страшно смотреть, как вздымается грудь босса Кихары, и смешно: его излияния не очень-то вяжутся со сверкающей лысиной. Каринди пытается усовестить старца: — Если бы ваша жена слышала, что вы говорите, вам бы не поздоровилось! — Жена не в счет. Собираясь на танцы, не душатся старыми духами. Прошу тебя, Каринди, апельсин души моей, выслушай меня внимательно, я должен сказать тебе столько прекрасных слов. Я сниму тебе дом в Фураха Лео, или же в центре, на Кениата-авеню, или в другом каком районе. Выбирай по собственному вкусу. Куплю мебель, ковры, портьеры — все, что пожелаешь, выпишу из Парижа, Лондона, Берлина, Рима, Нью-Йорка, Токио, Стокгольма или Гонконга. "Импортная мебель и кухонная утварь". Накуплю тебе нарядов по последней моде с лондонской Оксфорд-стрит, из парижских домов моделей. Туфельки закажем в Риме — на шпильках и на платформе. Знаешь, как прозвали эту обувь в народе? "Идти некуда, что же мне спешить?" Пусть весь Найроби на тебя оборачивается, пусть завидуют: "Вон идет шоколадка босса Кихары". Если ты ответишь мне взаимностью, дашь неземное счастье и наслаждение, куплю тебе корзиночку на колесах — на рынок ездить, по магазинам, за город по воскресеньям. Пожалуй, "альфа-ромео" — это как раз то, что надо. Каринди, ягодка, мой апельсинчик, цветок души моей, будешь умницей — распрощаешься с нуждой… Каринди едва сдерживается, чтобы не расхохотаться. — Мистер, позвольте вам задать один вопрос. — Хоть тысячу! — Вы что же, решили на мне жениться? — Ах, зачем ты притворяешься, будто не понимаешь, о чем речь! Разве не ясно?.. Будь моей, будь паинькой. — Нет. Я никогда не заведу романа с Боссом! — Что же тебя пугает, ягодка? — Прежде всего не хочу разрушать вашу семью. Чужое ожерелье напялишь — свое потеряешь. — Я же говорю тебе, — собираясь на танцы, не душатся старыми духами. Каринди, драгоценная, мой сочный помидорчик! Что же все-таки тебя страшит? В чем загвоздка? — У меня есть мой Камунгонье, мой молодой возлюбленный. — Ха! Каринди, не смеши меня. Неужели ты и в самом деле так старомодна? Ты говоришь об одном из этих необразованных сопляков, которые тужатся казаться взрослыми мужчинами? Да они даже обряда посвящения не прошли! — Батат, который своими руками выкопаешь, не гниет. Сахарный тростник, что срезала сама, спел и сладок. У любимого глаза не косят. Тот, кого вы поносите и хулите, мой избранник, суженый мой. — Послушай, Каринди, что я тебе скажу. — Босс Кихара ловит ртом воздух, встает из-за стола, подходит вплотную к Каринди. — Старая легенда врет. В наше время все иначе: богатых стариков предпочитают молодым оборванцам. Вайгоко побрил волосатую грудь, прикрыл ее деньгами… Но верно и то, что сердцу не прикажешь. Я не буду уговаривать тебя. Ты отказалась от роскошного дома и дорогих нарядов, не хочешь и корзинки на колесах. Ладно, будь по-твоему. Но не откажи мне хотя бы в одном… — Вы же ходите в Храм небесный, чтите Библию. Когда придете домой, откройте тринадцатую главу Послания к римлянам. Там сказано: "Попечение о плоти не превращайте в похоть…" — Но в той же книге говорится: "Просите, и дано будет вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят". Ягодка моя, любимая, нам нет нужды подыскивать место для свиданий. Контора вполне подходит. Если бы стены умели говорить, они бы многое порассказали. Гладкий цемент — восхитительная постель, он излечивает от сутулости и укрепляет позвоночник. — Я и так не сутулюсь! — выпаливает Каринди, уже не скрывая возмущения. Босс Кихара тянется обнять ее. Оба едва не падают, задев за стул. Каринди перекидывает сумочку через плечо, пятится к двери. Босс Кихара преследует ее, они кружат по кабинету, словно охотник и лань. Босс Кихара уже отбросил все приличия, он больше не притворяется робким влюбленным. Набрасывается на девушку, хватает ее за талию. Каринди старается вырваться, молотит его кулаками по груди. В сумке у нее складной ножик, но ей не удается его достать. Оба тяжело дышат. Каринди чувствует, что ей не совладать с ним. — Если вы не прекратите, — выпаливает она, — я закричу, позову на помощь! Босс застывает, вспомнив о жене и детях, о воскресных службах в Храме небесном, где ему нередко выпадает честь читать прихожанам Библию; его приглашают на свадьбы, где он наставляет молодых жить в мире, любви и согласии. Даже представить страшно, какой скандал разразится, если его обвинят в изнасиловании секретарши! Позор на всю страну! Огонь, полыхавший в нем, сразу гаснет. Он отпускает Каринди, утирает платком вспотевшее лицо. Пытается что-то промямлить, найти спасительные слова: криво улыбается, но ему явно не до смеха. Наконец он выдавливает из себя: — Каринди, ты вовсе не понимаешь шуток. Поди, вообразила бог весть что! Я просто поиграл с тобой, как отец с дочерью. Теперь иди. Письмами займемся завтра с утра. Каринди отправляется домой, вне себя от "отеческих шуток". Знает она им цену! Так шутит леопард с овечкой… Наутро она, как обычно, спешит в контору, но приходит с пятиминутным опозданием. Босс Кихара уже на месте, он вызывает ее к себе. Каринди смущена, ей вспоминается вчерашняя схватка. Босс даже не поднимает глаз, углубившись в газету. — Мисс Каринди, в последнее время вы ведете себя так, будто сами себе начальник. — Извините, сэр. Автобус опоздал. Босс Кихара только теперь вскидывает на нее глаза. Развалясь в кресле, он смотрит на нее с нескрываемой враждебностью. — Сознайтесь лучше, что все дело в молодых повесах, которые подвозят вас по утрам. Складывается впечатление, мисс Каринди, что вы не очень-то дорожите своим местом. Я не стану препятствовать вам, поступайте по велению сердца. Вам пойдет на пользу, если вы некоторое время посидите дома. А когда соскучитесь, дверь для вас открыта. Даю вам двухмесячное жалованье в качестве выходного пособия. Так наша Каринди лишается работы. Она снова бродит по городу в поисках места, потом тоскует дома в одиночестве, — даже слова не с кем сказать. Вечером должен прийти ее любимый. От одного звука его голоса у нее сладко замирает сердце. Все мы дорожим теми, кого любим. Камунгонье поддерживал ее в трудную минуту, ласковые речи прогонят грусть. Наконец Камунгонье приходит, и Каринди жалуется ему на похотливого богача Вайгоко. Истинную любовь за деньги не купишь, даже современная девушка не променяет своего Камунгонье на дряхлого Вайгоко! Каринди умолкает и ждет в ответ хотя бы сочувственного вздоха. Сейчас горячие поцелуи осушат ее мокрые от слез щеки!.. Но не тут-то было. Камунгонье опускает глаза, как робкий барашек. Им движет лицемерие. Он принимается отчитывать Каринди. Видите ли, он уверен, что она валялась в постели Вайгоко Кихары, Кихара не первый, кто ею угостился. Блудницу, пригубившую сладкую чашу богатства, за уши от нее не оторвешь. Стоит один раз отведать — сразу входишь во вкус! Хамелеона не переделаешь — так хамелеоном и останется. Если школьница спуталась с мужчиной, который ей в отцы годится, да еще и родила от него, кто ее теперь остановит? "Скажи, Каринди, разве тебе можно верить, слишком ты доступна, никому не можешь отказать! А историю эту сочинила, потому что наскучила своему Вайгоко и он отказался от твоих услуг". У Каринди точно язык отнялся, из глаз брызнули слезы, она даже не утирает их. В сердце бурлит обида, Каринди в недоумении, она не находит ответа на загнавшие ее в тупик вопросы. У дойной коровы пропало молоко, теперь ей одна дорога — на бойню. Все мосты сожжены, вновь она осталась ни с чем!.. Так скажи, не давший мне упасть: что остается в нынешней Кении таким, как Каринди, если не идти на улицу? Каринди теперь уверена: нет никакой разницы между словами:Сгибать и выпрямлять,
Глотать и сплевывать,
Подняться и упасть,
Уйти или вернуться.
Отныне ей никогда уже не отличить
Греховодника от праведника,
Глупца от мудреца
И темноту от света,
От смеха плач,
От преисподней рай
И царство божие
От огненной геенны.
День меда и горчицы,
День хохота и слез,
Рожденья день и смерти.
3
Окончив свой рассказ, Вариинга внимательно взглянула на молодого человека, потом обвела взором улицу Скачек. Люди деловито сновали вокруг, по-прежнему гудели машины, обгоняя друг дружку. Найроби ни капельки не изменился с тех пор, как ее вышвырнули из дома в Офафа-Иерихоне. И тут в соборе святого Петра ударили в колокола, напоминая на закате дня верующим о молитве. Вариинга и молодой человек повернулись к храму. В гулком перезвоне Вариинге почудилось:Вперед, вперед,
Держи покрепче плуг,
Назад не озирайся.
Вперед, вперед…
О святая дева Мария, матерь божия,
Наша матушка,
И ты, святой Иосиф,
И ты, мой ангел-хранитель,
И все святые угодники,
Молитесь за меня,
Чтобы мой грех господь мне отпустил:
Хотела с жизнью я расстаться
До отведенного мне срока.
Следите же за мной Сегодня и всегда,
До самой смерти не спускайте с меня глаз. Аминь.
Глава третья
1
"Ньямакима", как и другие остановки автобусов и матату в Найроби, всегда запружена людьми и машинами. Кто-то отправляется или возвращается из Грогэн-Вэлли — там якобы можно отыскать запасные части для любого автомобиля; кто-то спешит на Ривер-роуд: на этой торговой улице по субботам и воскресеньям особенно много покупателей из пригородов. Одним только и надо что овощей: картошки, лука, салата "сукума вики"; [16] других тянет в пивные и закусочные пропустить кружку и чего-нибудь пожевать н, а дорогу, прежде чем отправиться к себе в Кариокор, Истлей, Пумвани, Шаури Мойо, Бахати, Мкаандару, Офафа-Иерихон, Кариобанги и Дандору. Но большинство дожидаются мата ту, идущих в Найвашу, Гилгил, Олкалоу, Ньяхуруру, Накуру, Руува-ини и Илморог. От людей и машин на остановке "Ньямакима" шумно, как на семи базарах. В ту субботу машин до Руува-ини и Илморога долго не было. Всякий раз, когда, дребезжа, подкатывало матату, сердце Вариинги начинало радостно биться. Но выкликали только едущих до Накуру или Ньяхуруру, и ею снова овладевало уныние. К шести часам ей стало ужо вовсе невмоготу, и она принялась молиться: "О дева Мария, матерь божия, сжалься надо мной, не хочу я ночевать в Найроби. Пошли мне автобус или повозку, запряженную осликом, — лишь бы добраться домой, в свой Илморог. Слава отцу, сыну и святому духу и ныне, и присно, и во веки веков! Аминь". Не успела она закончить молитву, как подкатило матату, идущее в Илморог, но при одном взгляде на него Вариинга ужаснулась: колымага годилась только на свалку! Хозяин, чтобы скрыть возраст развалины, расписал ее бока дразнящей рекламой: "Хотите знать все слухи и сплетни, садитесь в мое матату. Мне всегда с вами по пути. Если торопиться, батат разлетится. Тише едешь — дальше будешь. В гостях хорошо, а дома лучше". Вариинга не успела прочесть всех надписей, как водитель, выскочив из кабины, принялся нахваливать свое матату, петь песни в его честь и всеми способами развлекать публику, дабы ее не смутил жалкий вид его развалюхи. — Залезайте в мое матату, модель "форд-Т" — в два счета доставлю в Лимуру, Найвашу, Руува-ини, Илморог. Недавно я слышал песенку:Если б царство бога было рядом,
Я бы шлюх отвел к нему на суд.
Он снабдил их всем добром бесплатно —
С нас они втридорога дерут!
2
Вид "форда-Т" с регистрационным номером МММ-333 наводил на мысль, будто это самый первый автомобиль на свете. Мотор стонал и ревел, как добрая сотня циркулярных пил, кузов трясся и дрожал, точно былинка на ветру. Матату переваливалось с боку на бок, напоминая взбирающуюся на гору утку. По утрам, перед первой ездкой, матату доставляло зевакам редкостное наслаждение. Двигатель пыхтел и кашлял так, будто у него астма или в выхлопной трубе застрял кусок железа. Мваура театральным жестом распахивал капот, тыкал куда-то отверткой, перебирал провода, потом столь же эффектно захлопывал крышку, возвращался за руль, мягко давил на газ, и мотор начинал урчать, как кот, которого чешут. Мваура охотно отвечал на вопросы публики, касавшиеся его матату. Когда его спрашивали, например, не обломок ли это Ноева ковчега, он, откинувшись на крыло, разражался хохотом и принимался расписывать аудитории несравненные достоинства своей машины. — Честно говоря, ни одна современная модель по своей конструкции не сравнится с "фордом-Т". Не все то золото, что блестит. Красотой сыт не будешь. Из чего делают теперь все эти "пежо", "тойоты", "хантеры", даже "вольво" и "мерседесы"? Из промокашки! А мой "форд"? Им можно протаранить танк. Нет уж, я со своей старушкой не расстанусь. Скала со временем делается только крепче, никакой ливень ее не смоет. Все эти новые модели из Японии, Германии, Франции, Америки два месяца побегают, а потом рассыпаются на части. Куда им до "форда-Т". На самом деле Мваура мечтал накопить денег и купить машину попросторнее, чтобы брать больше пассажиров — монеты потекут ему в карман рекой. Мваура был одним из тех, кто поклоняется богу денег. Он не раз повторял, что готов отправиться хоть на край света, переплыть океан, взобраться на самую высокую гору, пойти на любое преступление, — и все во имя золотого тельца. Но его мольбы либо не достигали адресата, либо оставались без внимания. Он никак не мог отделаться от своего матату, доставшегося ему давным-давно от одного европейца. Иногда Мвауру одолевала тоска, и он спрашивал себя: "Зря, что ли, я столько лет колесил по дорогам? Кажется, плоды богатства и успеха рядом, только руку протяни! Я протягивал, а они отодвигались… Никак мне их не сорвать…" Вслух же он говорил: — Проклятые деньги — европейцы их к нам завезли! Только подумать — даже сына святой Марии, первенца бога иудейского, распяли из-за них. Что вы на это скажете? Да я бы сам продал родную матушку — дали бы только приличную цену! Слушатели думали, что это пустая болтовня. Конечно же, он балагурит, шут гороховый. И лишь один человек мог бы рассказать, что Мваура никогда не шутит, если дело касается денег. Только человек тот никому уже ничего не расскажет. Они с Мваурой повздорили из-за пяти шиллингов. Человек отказался уплатить, позволил себе даже подразнить Мвауру; "Ты навозный жук, никогда тебе не разбогатеть!" "Так-так, — прошипел Мваура. — Посулил мне семьдесят пять шиллингов и недодал пятерку, потому что я подсадил еще двух седоков?! Ты платил за место или за всю машину? Попробуй только улизнуть с моими кровными. Узнаешь тогда, что Мваура не мачете — его точили с двух сторон!" И однажды утром этого человека нашли болтающимся в петле. Тут же оказался клочок бумаги, а на нем слова: "Никогда не шути с чужим имуществом! Ангелы ада, частные предприниматели". Однако мало кто знал о тайном промысле Мвауры. Для окружающих он был водителем матату, модель "форд-Т", регистрационный номер МММ-333.3
Есть такая поговорка: если птица устала, она на первую же ветку сядет. Другого средства добраться до Илморога не было, и Вариинга влезла в кабину к Мвауре. Обрадовавшись, хозяин матату загорланил что-то вовсе сомнительное:Не проси меня, молодка,
Не хочу я стать отцом,
Не туда поплыла лодка —
Я приторможу веслом!
4
Первой заговорила женщина в китенге. Как раз проезжали Нгуируби, впереди лежало Кинеени. — Водитель! — откашлявшись, сказала она. — Можно просто Робин Мваура, — шутливо представился тот. — Брат, позволь мне поделиться с тобой моим затруднением, пока мы далеко не отъехали. — Стучите, и отворят вам, — отозвался Мваура, полагая, что женщине хочется скоротать дорогу за разговором. — Не прячьте своей мудрости, иначе вас засудят. — Спасибо за соучастие, брат! Нет в мире ничего дороже взаимной выручки. Ты везешь меня, но у меня за душой ни цента, — призналась женщина. — Что?! — гаркнул Мваура. — Мне нечем заплатить за проезд. Мваура так резко затормозил, что рядом с мужчиной в темных очках распахнулась дверца. Если бы сосед в комбинезоне вовремя не пришел ему на помощь, очкарик выпал бы наружу и покатился вниз по холму Кинеени. Мваура съехал на обочину. — Ты что, на тот свет нас везешь? — отчитал Мвауру пассажир в комбинезоне. — Может, тебя наши враги подкупили? Очкарик еще не пришел в себя от испуга и потому ни Мвауру не обругал, ни своего спасителя не поблагодарил. — Во всем виновата эта женщина! — повернувшись к пассажирам, закричал Мваура. — Нам не о чем о тобою говорить. Мотору нужен бензин, а не моча! — Доедем до Илморога, а там сразу у кого-нибудь займу. — Кения — это не Танзания и не Китай, здесь за все надо платить. — Послушай, почтенный, я никогда не жила на чужой счет, но если бы ты знал, как мне досталось в вашем Найроби… — Рассказывай сказки кому другому, — оборвал ее Мваура. — Меня страшными историями не запугаешь. Гони монету или слезай! — Ты в самом деле выбросишь меня посреди дороги, ночью, в глуши? — Женщина, вылезай и иди пешком. Повторяю, у меня в баке бензин, а не моча. — Я не лгу — вот этими руками я сражалась за свободу нашей страны. И ты хочешь, чтобы я провела ночь в лесу, среди хищных зверей? — спросила женщина с такой тоской, будто знала наперед ответ, но до конца не постигла, как такая черствость возможна. — В наши дни плоды пожинает не тот, кто полол сорняки, а кто пришел на готовенькое, — сказал Мваура. — Свобода — это не россказни о том, что было, а звон монет в кармане. Со мною шутки плохи. Вылезай или же побренчи денежками — тогда поедем дальше. Мужчина в комбинезоне положил конец препирательствам: — Поезжай, водитель. Только раненый зверь скулит от боли. Я уплачу за нее. — Заводи мотор, — поддержал рабочего Гатуирия. — Я тоже войду в пай. — И я внесу свою долю, — поспешно добавила Вариинга, вспомнив, что вполне могла оказаться в таком же положении, не отыщись ее сумочка. — Разделим стоимость проезда на три части, — согласился рабочий, — так всем проще. Трудности становятся непосильными лишь тогда, когда никто не хочет тебе помочь. Мваура включил мотор. Кинеени осталось позади. Некоторое время ехали молча, но вскоре крестьянка нарушила тишину: — Я так счастлива, что даже слов подходящих не нахожу. Меня зовут Вангари. Я из Илморога, точнее, из пригорода Нжерука. Доедем до места, я сразу расплачусь. Бог воздаст вам за доброту, а я буду молиться за вас предкам. — Ничего я с вас не возьму, — сказал рабочий. — Если не помогать друг другу, мы все в зверей превратимся. Не зря же во время мау-мау мы давали клятву: "Не сяду я один к столу…" — И я… я тоже… ну, в общем, все это пустяки, — подхватил Гатуирия. — Ничего вы нам не должны. — Он стеснялся говорить на кикуйю, путал слова родного языка с английским. — Я полностью согласен с тем, что сказал этот человек. Кстати, как ваше имя? Мое… меня зовут Гатуирия. — А меня Мутури, — представился мужчина в комбинезоне. — Я рабочий: плотник, каменщик, водопроводчик. Знаю и другую работу. Ведь труд — это и есть жизнь. — А тебя как звать, дочка? — спросила крестьянка у Вариинги. — Жасипта Вариинга, я тоже родом из Илморога. — Откуда именно? — спросила Вангари. — Из деревни Нгаиндейтхия. — Если позволите… — начал Гатуирия, обращаясь к Мутури, запнулся, откашлялся и предложил: — Не скажете ли, вернее, можно ли полюбопытствовать… И снова умолк, будто бы не зная, о чем спросить, но в конце концов договорил: — Можно ли сказать, что лозунг "Харамбе" [17] уходит корнями в движение мау-мау? — "Харамбе"? — усмехнулся Мутури, — "Харамбе"… А вы не слыхали, что на этот счет поют танцоры ньякиниа?Нынешнее "Харамбе"
Не для болтунов…
"Харамбе" золота,
"Харамбе" денег —
Оно для богачей
И их друзей.
Нашел я там, в народной гуще,
Великую любовь.
Зерно упало в землю — колос вырос,
Мы поровну разделим урожай!
"Корысть, измена" —
Наш девиз!
Зерно украли у народа
И за него готовы горло
Друг другу перегрызть.
Верные слова,
Так оно и есть!
Вам за них воздам
Я хвалу и честь!
5
Остальные пассажиры тоже молчали, им как будто нечего было добавить к рассказу Вангари. Лишь некоторое время спустя подал голос Мутури: — Страна наша беременна, а что она родит, один бог знает… Подумать только! Дети тружеников, наши дети, палимые солнцем, изнывают от жажды и голода, ходят голышом и только слюнки пускают при виде наливающихся соком плодов. Им нельзя их срывать, чтобы утолить голод! Что за судьба — видеть на огне горшок с похлебкой и не сметь зачерпнуть из него хоть ложку. Они не могут уснуть на пустой желудок, ночи напролет рассказывают друг другу истории одна страшнее другой, изо дня в день загадывают все ту же загадку: "Что бы ты отдал за один…" — …спелый банан! — отозвалась Вангари, словно Мутури и впрямь ждал ответа. — …за один глоток… — продолжал Мутури. — …прохладной воды из чужого колодца! — подхватила опять Вангари. — Вангари, твоя история лишний раз подтверждает: нашей родине давно пора разрешиться от бремени, — закончил свою мысль Мутури. — Недостает лишь повивальной бабки. Да вот только возникает вопрос: кто заронил в нее семя? — Все это дьявольские проделки! — внезапно вступил в разговор Робин Мваура. Ему было немного не по себе — слишком гнусно повел он себя в Кинеени, когда Вангари заявила, что у нее нет денег. Но дело уладилось — те трое обещали за нее заплатить. И теперь Мваура только ждал случая, чтобы ввернуть словцо и увести разговор от Вангари и ее невзгод. Ни с того ни о сего он запел:Покажу черту кулак:
Эй, не тронь меня, дурак!..
Покажу белым кулак:
Уходи домой, дурак!
Кения свободной хочет быть!
Кения свободной хочет быть!
Империалисты, убирайтесь вон!
Мы, народ, хозяева земли,
И на пашей стороне закон!
Голод нас изрядно потрепал,
Но никто не говорит про это,
Чтоб народ всей правды не узнал,
Спекулянтов не призвал к ответу!
Хищные торговки на крови жиреют,
Дети бедняков каждый день сиротеют.
Но чужое добро вам счастья не даст,
И не вечна над нами денег подлая власть.
Бог от вас отвернется,
Нищих день настает.
И дорога хоть вьется.
Но вперед нас ведет!
Богачи едва таскают брюхо.
Бедняков шатает с голодухи.
А на сердце пусто и печально…
Не вздыхай, и слез не лей,
И в грехах своих не кайся,
Хочешь сердце успокоить
К партизанам подавайся.
Если ищешь жизни смысл,
Только там его найдешь.
Где народ крепит единство,
Ты прощенье обретешь!
6
В голове у Вариинги жужжало, будто там вился комар. И сердце билось так, словно она целый день блуждала по лабиринту в городском парке Найроби, не в силах найти выход. Она пропустила мимо ушей большую часть спора Мвауры и Мутури — невольно отвлеклась, вспомнив свои беды: Джон Кимвана, босс Кихара, увольнение с работы, выселение из дома, попытка самоубийства. Вспомнила молодого человека, поддержавшего ее на улице, приглашение на бал Сатаны. А теперь еще все эти рассуждения о смерти, жизни, о сердце. Скорее бы добраться до дому, отдохнуть душой и телом. "Когда же судьба моя переменится? Кто мне поможет?" Вспомнила она и Богатого Старца из Нгорики. Давно это было, но до сих пор в ней кипит горечь… — Пожалуйста, минуту внимания! — воскликнул вдруг Гатуирия, прервав поток ее грустных дум. Мутури, Вангари, Вариинга и мужчина в темных очках — все посмотрели на него. Мваура тоже обернулся, но лишь на миг: тут же вновь уставился на дорогу. — Позвольте мне задать вопрос. — Гатуирия слегка понизил голос. Видно было, что он колеблется, как это бывает, когда сгорают от желания докопаться до сути важнейшего дела, но не знают, с какого конца к нему подступиться. — Валяй, спрашивай! — подбодрил его Мваура. — За это тебя в тюрьму не упекут. — Как знать, в нынешней Кении ни за что ручаться нельзя, — пробормотал Мутури. — Не беспокойтесь, — заверил Мваура Гатуирию. — В моем матату можно говорить о чем угодно, это не машина, а оплот демократии! — Что верно, то верно, — поддержала шофера Вангари. — Только в матату и можно без опаски выражать свои мысли, не озираясь по сторонам, не боясь доносчиков. — В моем матату все равно как в тюрьме или могиле — запретных тем нет. — Ваш спор… — простите, ваша беседа… мне бы не следовало вмешиваться… но если позволите… Гатуирия снова осекся. Он говорил на кикуйю, как и большинство образованных кенийцев: переходя на родной язык, они запинаются, как младенцы, зато на чужом изъясняются бойко и гладко. К чести Гатуирии, он хоть отдавал себе отчет, что тут нечем гордиться, что языковое рабство равнозначно рабству умственному. Впрочем, когда он горячился, то говорил на кикуйю вполне сносно, хотя частенько вставлял в речь английские слова. — Считается, что разногласия порождают ненависть. Однако чаще из таких столкновений пробиваются ростки истины, — сказала Вангари, видя колебания Гатуирии. Тот, откашлявшись, предпринял новую попытку: — Я не совсем улавливаю различие… э… ваших точек зрения. Если позволите, я задам вопрос. Верите ли вы, что бог и дьявол на самом деле существуют, что они живые, как вы и я? — Если есть бог, — не задумываясь ответил Мваура, — значит, есть и черт. Но лично я ничего наверняка не знаю. — Ну а как же все-таки с верой, — допытывался Гатуирия. — Во что вы верите? — Я-то? Эх, молодой человек, в ваши церкви я не ходок. Бизнес — вот мой храм, а деньги — бог. Но если есть и другой всевышний, я не возражаю — пусть будет. Иногда в виде жертвоприношения я окропляю спиртным землю, чтобы он не обошелся со мной, как с бедным Иовом. Я не склонен копаться во всяких тонкостях жизни. Повторяю еще раз — я плыву по течению. Земля обтекаемая и вечно меняется. Потому Гикуйю и сказал: закат не похож на восход. Осмотрительность — это еще не трусость. Всяких там вопросов я себе не задаю. Только укажите мне, где можно поживиться, — я вас мигом туда домчу! — Ну а вы? — обратился Гатуирия к Мутури, когда высказался Мваура. — Я? Я верю. — Во что? — Верю, что есть бог. — Живой? — Да! — А черт? — И черт есть! — Неужто вы и впрямь так считаете? — Да, именно так. — Но ведь ты же никогда их своими глазами не видел? — полюбопытствовал Мваура. — Молодой человек интересуется верой, — уточнил Мутури. — Что касается меня, то я верю, что и бог, и дьявол — это образы наших поступков в нашем воображении. Мы обуздываем природу вообще и человеческую натуру в частности. Мы трудимся ради хлеба насущного, ради крова над головой. Бог — это отражение всего хорошего и доброго, что делает человек. Сатана — олицетворение всех наших дурных деяний. Вопрос, однако, в том, что считать праведным и что порочным. Вы, молодой человек, вынуждаете меня повторить то, что я уже говорил. Есть две разновидности людей: одни живут своим трудом и потом, вторые наживаются на чужом труде. Вот в чем все дело. Вы, видать, человек ученый, так, может, знаете ответ на эту загадку: почему жизнь так устроена? "В поте лица твоего, — торжественно провозгласила Вангари, словно читая по раскрытой книге, — в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю". Захлопнув воображаемую Библию, она обратилась к Гатуирии: — Есть еще одна загадка. Если вы и на нее ответите, вас ждет награда. — Не надо мне никаких наград, — усмехнулся Гатуирия, — с единоверцев не берем. — Э, да вы, оказывается, хорошо говорите на кикуйю, — похвалила его Вангари. — А я было подумала, что вы признаете один английский. Гатуирия почувствовал себя более непринужденно. — В детстве я любил наш славный обычай загадывать загадки, — пояснил он, — только теперь все их забыл, даже самой простой не отгадал бы. Если бы вы вызвали меня на соревнование, я бы проигрался в пух и прах. Но вернемся к существу дела. Сознаюсь, ваш спор созвучен давно терзающему мою душу думам и сомнениям. Если бы вы помогли разрубить или хотя бы ослабить их узел!.. Гатуирия снова замолчал. Вангари уловила перемену в его голосе и насторожилась: где-то давно она уже слышала этот голос, кому он принадлежал? А может, ей только так кажется, просто очень захотелось узнать, что за груз у Гатуирии на сердце? Молодой человек опять откашлялся, посмотрел на Мутури. — Вы верно определили, я действительно окончил университет, да и теперь в нем работаю. Занимаюсь культурой. Младший научный сотрудник, специалист по проблемам африканской культуры. Наша культура… Ее долго подавлял империализм. То, что мы называем английским культурным проникновением, закабалило наш ум и душу. Оно порождает слепоту и глухоту, смирение перед чужеземцами, которые указывают нам, как жить в своей собственной стране. Иностранцы стали нашими ушами и устами. Забыли мы поговорку: лишь тот, кто живет в глуши, знает, как найти там пропитание. Чужеземец не может знать, что для нас лучше. Не о нашем ли поколении сложили песню?Слепец дорогу не найдет домой.
Глухой как пень,
Народ не слышит свой!
7
То и дело в сторону Илморога и в обратном направлении проносились машины, на миг выхватывая из темноты равнину Рифт-Вэлли, но затем землю окутывал еще больший мрак. Мужчина в темных очках снова застыл как изваяние. Мваура ворочался за баранкой. Трое остальных склонились над Вариингой. Вспыхнувшая спичка ненадолго осветила ее лицо и погасла. Гатуирия чиркнул еще одной. Они увидели, что девушка дышит и даже открыла глаза. Тут все разом заговорили, высказывая различные предположения, отчего подобное могло случиться. — Кажется, она нездорова, — произнес Мутури. — Возможно, малярия или воспаление легких. — Пульс очень частый, — заметил Гатуирия. — Может, что-нибудь по женской части, — вступил Мваура. — Вы не поверите, тут одна недавно родила, прямо в моем матату! — Надо бы вынести ее из машины на свежий воздух, — раньше других смекнула Вангари, которой уже изрядно надоела болтовня Мвауры. И тут Вариинга заговорила — едва слышно, словно утомилась от долгих странствий. — Извините, у меня вдруг закружилась голова. Поедемте, не надо терять времени, что нам тут делать?.. Все заняли свои места. Мваура попробовал завести мотор, но что-то в нем не ладилось. Тогда Мутури, Вангари, Гатуирия и мужчина в темных очках вылезли из кабины и принялись толкать матату. Двигатель заработал, все снова уселись и покатили дальше, храня молчание. Некоторое время спустя Вангари, вернувшись к недавнему обмороку Вариинги, спросила: — Уж не от наших ли споров тебе сделалось дурно? — Пожалуй. — Ты испугалась? — спросил Мутури. — И да… и нет, — заколебалась Вариинга. — Не робей, — утешила ее Вангари, — давно уже нет и в помине чудищ, людоедов, духов, чертей с рожками. Все это выдумки, ими пугают шаловливых детей, чтобы наставить на путь истинный. Мваура засвистел какой-то мотивчик, словно заявляя о своем особом мнении по данному поводу и как бы намекая, что ему много чего известно, однако он не намерен никого в это посвящать. Потом запел:Ах, красотка, не скупись,
Со мной богатством поделись!
Если кто у нас родится,
Я готов даже жениться.
Идите все скорей сюда,
Спешите это видеть!
Воров скликает сатана,
Мы их накроем разом!
8
Наконец и мужчина в темных очках открыл рот — валаамова ослица заговорила: — Извините. — Все, кто был в машине, за исключением Мвауры, повернулись к нему, ожидая, что же он скажет. — Позвольте мне взглянуть на эти приглашения. Гатуирия протянул свою карточку. Мужчина попросил ему посветить, и Гатуирия зажег спичку. — Можно и ваше тоже? — обратился мужчина к Вариинге. Девушка полезла в сумку и вместе с приглашением вынула записку, врученную ей утром "Ангелами ада". Записка упала к ногам Мутури, но Вариинга не заметила этого. Мужчина тщательно разглядывал обе карточки, сравнивая их. Затем раскрыл чемодан и достал свое приглашение. Протянул его Гатуирии и велел прочесть текст вслух. Теперь Вариинга чиркала спичками, светя Гатуирии. Текст гласил: Большой бал! Спешите видеть! Конкурс на лучшего специалиста по современному грабежу и жульничеству. Семь призовых мест. Банковские ссуды и посты директоров компаний — победителям! Покажите, на что способны! Попытайте счастья! Корона может увенчать ВАС! В течение всего праздника играет оркестр "Ангелы ада". Подпись: Распорядитель бала. Адрес: Пещера воров и бандитов, Золотые Холмы, Илморог. — Вы заметили, что мое приглашение отличается от вашего? — спросил Гатуирию мужчина в очках. — Мой вариант — подлинный, и здесь ни разу не упоминается черт или дьявол. Знаете, большинство из тех, кто придет на бал, верит в бога. Я сам каждое воскресенье хожу в церковь. Кто-то напечатал и распространил фальшивки. Эти злоумышленники — враги прогресса, они хотят сорвать наш праздник. — Кто бы это мог быть? — спросил Гатуирия. — Кто? Скорее всего, студенты университета. Это как раз в их духе — подобные дурацкие выходки, порочащие добропорядочных граждан. — Я лично никакой разницы не заметила, — сказала Вангари. — Оба приглашения совершенно одинаковы. И потом, как это студенты могут испортить репутацию бандитов? — Утверждая, что это якобы бал Сатаны, что все это дьявольская затея. Кроме того, в их варианте не сказано, явно с умыслом, что конкурс организуется лишь для мастеров современного воровства и жульничества. — И мне кажется, что разницы никакой, — сказал Мутури. — Кража есть кража, а жульничество — жульничество. Мужчина в темных очках был явно уязвлен замечаниями Мутури и Вангари. Он заговорил, как проповедник, увещевающий вероотступников: — Меня зовут Мвирери ва Мукираи. Я ненавижу европейские имена и давно отбросил "Джона", как окрестили меня при рождении. Я тоже еду в Илморог. Моя машина поломалась в Кикуйю. Пришлось оставить ее у гостиницы "Ондири". Один знакомый довез меня до Сигоны. Я надеялся встретить кого-нибудь из важных людей, спешащих на конкурс, но никто мне не попался. Очевидно, основная часть гостей пожалует туда завтра утром. К тому же полагаться на пьющих мужчин нельзя, так что для верности я решил ехать сегодня же и сел в матату. Я учился в сирианской средней школе, потом закончил Университет Макерере[21] — прежний Макерере, а не нынешний, искалеченный Иди Амином[22]. Там я изучал экономику — науку о том, как создается национальное богатство. После Уганды я поступил в аспирантуру нашего университета, получил степень бакалавра, но и на этом не остановился. Отправился в Америку, в знаменитый Гарвард, досконально изучил управление производством — есть и такая дисциплина. Теперь у меня три научных степени, мои титулы не умещаются на визитной карточке. Господин Гатуирия способен оценить, что все это значит. Когда-то я мечтал о преподавательской должности. Да и теперь среди моих знакомых немало университетских профессоров. Но, оглядевшись, я обнаружил, что лишь ничтожная горстка образованных кенийцев занята в коммерции, и предпочел стать бизнесменом. К чему я так подробно о себе рассказываю? Нет, не из бахвальства. Я внимательно слушал все ваши доводы, сомнения, недоуменные вопросы. Скажу откровенно — такие вот разговоры могут погубить нашу страну. Их корни — в коммунистической пропаганде. Их цель — омрачить наши души, посеять в них недовольство. Разглагольствования черных до добра не доведут, несмотря на нашу глубочайшую веру в бога и христианство. Кения — христианская страна, и в этом наше счастье и благо. Однако ближе к делу. Завтрашний праздник не имеет никакого отношения к сатане, не дьявольская это затея. Его проводит Ассоциация современного грабежа и разбоя. Устраивается он в честь заморских коллег, представителей воровских кругов Запада: Америки, Англии, ФРГ, Франции, Италии, Швеции, а также Японии, входящих в Международную лигу воров и мошенников. Теперь о наших студентах. В последнее время они слишком уж распоясались. Позволяют себе поносить то, о чем не имеют ни малейшего представления. Что они знают о современном воровстве? Они распространяют ложные слухи. Вангари и Мутури явно подпали под их влияние. Так вот, я лично убежден, что люди как зубы — все разные и никогда не будут равны. Равенство противно человеческой натуре. Сама природа опровергает дурацкую болтовню о равенстве. Обратимся для примера к небесам. Господь восседает на троне, по правую руку от него — сын божий, слева — святой дух, у его ног — ангелы; ниже ангелов — святые угодники, еще ниже — апостолы и так далее, по нисходящим рангам, вплоть до нас, смертных. То же самое в аду, строгий порядок. Владыка преисподней не разводит огонь в печи, не носит дров, не крутит грешников на вертеле. Нет, этим занимаются его ангелы, прислужники, подручные… — Ну и ну, — не удержался Мутури, — вы что же, были там и все своими глазами видели? — Нет, не был. — Стало быть, вся эта картина — плод вашего воображения, как бы тень дерева, а где же само дерево? — Взгляните на мир, в котором мы живем, сами убедитесь в правоте моих слов, — тотчас отпарировал Мвирери ва Мукираи. — Одни люди высокие, другие низкорослые; одни белые, другие — черные. Некоторым богатство как по волшебству само прет в руки; другим всегда не везет, у них и десяти центов нет. Кто-то от рождения лежебока, кто-то работает всю жизнь не покладая рук. Кому-то на роду написано властвовать над другими. Одни усвоили цивилизацию, другие и понятия о ней не имеют. Одни дисциплинированны и собранны, другие ни на что не годны. Большинство людишек надо тащить в современную жизнь на аркане, и тянет их за уши горстка избранных. И так в любой стране — два сорта граждан: управляющие и управляемые; гребущие себе добро и те, кто довольствуется объедками; подающие и просящие милостыню. — Сэр, — перебила его Вангари, — знаете ли вы, что ничто на свете не вечно? Старая мудрость, изреченная Гикуйю, гласит: "Бывшие танцоры теперь с завистью смотрят на молодых плясунов. Тот, кто прыгал через ручей, теперь с трудом переходит его вброд. Пастух гонит скот с одного пастбища на другое. Пусть все меняется, ибо даже семечки в тыкве и те все разные!" — Я говорю о том, что знаю, чему долго учился, — возразил ей Мвирери. — Вернемся к экономике и производству. Спросим себя: разве воровство и жульничество всегда зло — во все времена, во всех странах, для всех народов? Нет, воровство — это показатель прогресса нации. Ибо, чтобы воровство процветало, должно быть что красть! И те, кого грабят, должны работать усерднее, чтобы восполнять потери. История учит нас, что все прошлые цивилизации строились на фундаменте воровства. Где бы теперь были Америка, Англия, Франция, Германия, Япония, если бы не грабеж? Грабеж — источник всех достижений западного мира. Не верьте социалистическим бредням. Искоренить жульничество и грабеж — значит задушить развитие и прогресс. В заключение скажу так: это разумно и полезно, чтобы национальное достояние попадало в руки удачливых людей, умеющих даже во сне приумножать богатство. Только подумайте, что будет, если страна окажется в руках толпы — ленивых, праздных, бездарных разрушителей, которым лень нагнуться, чтобы вытащить из пятки занозу, лень прихлопнуть под рубашкой вошь или прогнать муху? Все равно что метать драгоценный жемчуг перед свиньями, которые затопчут его в грязь!.. Давным-давно в племени мучунгва сложили песню:Нельзя давать калеке бубен,
Пусть бьет в него силач могучим кулаком!
Берегитесь нас, скупые мироеды,
Были мы с Кимати в день победы!
Глава четвертая
1
Царство земных хитростей подобно властителю, который предчувствовал, что настанет день, когда его вышвырнут из его вотчины народные массы и и борцы за свободу — партизаны. В его сердце давно поселилась тревога, он бился над тем, как уберечь свое несметное богатство и удержать власть над туземцами. "Что мне делать? Эти люди, всегда видевшие во мне бога и хозяина, теперь вознамерились вернуть себе то, что я у них отнял. Я не умею ни пахать, ни сеять и своим трудом не проживу. Они прогонят меня отсюда силой, навечно опозорят. Им внушали, что я непобедим, что невозможно совладать с моими бомбами и танками, что белые во всем превосходят черных. Если партизаны победят, им достанутся ключи от этой страны и власть перейдет к ним. Плакали тогда мои плантации и фабрики. Чай, рис, хлопок, кофе, драгоценные камни, отели, магазины — все бесценные плоды их подневольного труда будут для меня безвозвратно потеряны… Однако мне пришла в голову отличная мысль: меня выставят отсюда через парадный вход, а я попробую влезть назад через окно. Уверен, кое-кто мне будет рад, я снова пущу здесь корни, да еще поглубже, чем раньше". Он призвал к себе верных рабов и открыл им все свои уловки и хитрости, коими владел в совершенстве: как умащать благовониями смердящий разбой и воровство; как заворачивать яд в сладкие листья; как подкупом и посулами разъединять рабочих и крестьян; как играть на племенных и религиозных различиях. Обучив их всему этому, он объявил, что вознамерился вернуться в свой заморский дом. Когда рабы услыхали, что хозяин бросает их на произвол судьбы, они принялись рвать на себе одежды и посыпать голову пеплом; опустились на колени и запричитали: "Как ты можешь оставить нас, несчастных сирот? Ведь тебе известно: мы угнетали народ и творили зверства от твоего имени! Ты ведь торжественно клялся, что останешься здесь навеки! Если ты уйдешь, партизаны нас не пощадят!" Но их бог и господин ответил: "Мало в вас, однако, веры. Пусть сердца ваши успокоятся. Уповайте на господа, которого вы познали благодаря мне. Положитесь на меня, ибо моими устами глаголет бог. У меня достанет выдумки, чтобы навязать свою волю этой стране. Иначе я предупредил бы вас вовремя, чтобы вы бежали без оглядки или же припасали веревку: лучше в петлю, чем в лапы бандитов! Я подготовлю для вас почву, станете здесь верховодить без меня. Будете иметь всего больше, чем раньше, когда вам доставались одни мои объедки. А потом я вернусь с кучей денег, пооткрываю здесь банки, а вам доставлю танки и пушки, бомбы и самолеты. И заживем мы душа в душу, будем пировать за одним столом, все мои объедки снова будут ваши!" Накануне отъезда властелин вновь призвал своих верных слуг и вручил им ключи от страны с такими Словами: "Мы обманем народ и кровожадных партизан. Ведь вы такие же черные, как они, и чернь возрадуется: "Смотрите, ключи от власти в руках наших братьев, черные стоят теперь у кормила. Разве не за это мы сражались? Можем теперь сложить оружие. Да здравствуют наши черные вожди!" Потом он вверил им свое имущество, чтобы хранили и приумножали его. Одному дал полмиллиона шиллингов, другому двести тысяч, третьему сто тысяч — в зависимости от того, как преданно служили они господину, насколько разделяли его взгляды и следовали его вере. И, сделав так, властитель ушел через парадный вход. Получивший полмиллиона, не тратя времени даром, стал скупать у крестьян плоды их труда и продавать втридорога городским труженикам. Вскоре он удвоил оставленную ему сумму. Так же поступил второй и тоже получил огромную прибыль. Получивший же сто тысяч оказался умнее других. Он взвесил все обстоятельства, вспомнил, как правил старый господин: "Бывший бог и хозяин похвалялся, что это он принес процветание и прогресс стране, при помощи привезенных с собой денег. Капитал! Капитал! Посмотрим, может ли капитал сам по себе давать прибыль, если не поливать его потом рабочих, не удобрять дешевым трудом крестьян". Он положил сто тысяч в жестяную банку, надежно ее запечатал и закопал в землю под банановым деревом. Вскоре через черный ход пожаловал в страну прежний властелин — решил навестить оставленное им добро. Призвав своих слуг, он потребовал у них отчета. Получивший полмиллиона, доложил: "Мой бог и господин, я удвоил капитал, который ты мне доверил". Хозяин удивленно воскликнул: "Сто процентов прибыли? Фантастический доход. Я доволен тобой, мой верный и добрый слуга. Ты доказал, что заслуживаешь моего доверия, за это я поставлю тебя управляющим моими предприятиями. Раздели радость господина твоего, отведай богатства и процветания. Будешь отныне директором местных отделений моих банков и компаний. Получишь часть акций этих фирм. Отныне я буду в тени, не стану лезть на глаза. Ты — мой представитель в этой стране". Второй слуга отчитывался за оставленные ему двести тысяч: "Мой бог и господин! Я тоже удвоил доверенную мне сумму". Обрадовался властелин: "Превосходно, восхитительно! В стране царит стабильность, сюда безопасно и выгодно ввозить капиталы. Я доволен тобой, мой добрый и верный раб. Ты доказал, что заслуживаешь моего доверия, и я вознагражу тебя. Назначаю тебя главой местных отделений моих страховых компаний. Я предпочитаю теперь оставаться в доме, а ты стой на пороге, высовывайся из окна, чтобы все тебя видели. Будешь сторожевым псом моих инвестиций". Тут выступил вперед третий слуга: "Мой бог и господин, представитель высшей расы, я постиг твои тайны! Мне известно теперь твое настоящее имя. Империалист — вот кто ты такой, и жестокость твоя не знает границ! Ты жнешь, где не сеял. Присваиваешь то, что не полито твоим потом. Распоряжаешься тем, что тебе не принадлежит. А почему? Потому лишь, что ты хозяин капитала. Вот я и зарыл твои деньги в землю — посмотреть, что из них вырастет, если не поливать их потом. Смотри, вот твои сто тысяч, ровно столько, сколько ты оставил. Возвращаю тебе твой капитал. Пересчитай и убедись — все цело, до цента. И еще вот что: все это время я кормил себя своим трудом. Кончено, никогда не буду я больше поклоняться золотому истукану, не хочу быть больше рабом. Теперь я прозрел. Протяну руку всем тем, кто решил стать хозяином своей судьбы. Сообща мы сделаем нашу страну богатой, а народ счастливым!" Хозяин поглядел на него с горечью и злобой: "Лукавый, неверный и ленивый раб, бунтарь и мятежник! Не мог положить деньги в банк или отдать их в рост, чтобы я получил с них хоть какую-нибудь прибыль! Мучитель, зарыл мой капитал в землю, как мертвеца. Кто открыл тебе мое подлинное имя? Кто насоветовал тебе отречься от меня за то лишь, что я жну, но не сею, и богатею, не проливая пота? Кто нашептал тебе все эти крамольные мысли? Сами черные никогда бы до такого не додумались. Вам ли перерезать веревку, привязывающую вас к хозяину? Ну конечно, вас сбили с пути истинного коммунисты. Эти подрывные идеи идут от партии рабочих и крестьян. Твой ум отравлен коммунистическим ядом. Коммунизм… в нем зловещая угроза миру и стабильности, которыми наслаждались в этой стране я и мои слуги, псы, стерегущие мои владения. Мы поджарим тебя на медленном огне — забудешь, как меня зовут. Хватайте его, прежде чем он заразит других. Рабочие и крестьяне не узнают, что их организованность и единство сильнее танков и страшнее бомб! Поделите между собой его имущество. Богатые станут богаче, а бедняки последнего лишатся. Такова одна из важнейших моих заповедей. Что же вы медлите? Зовите армию, полицию, пусть схватят дерзнувшего отвергнуть рабство. Заточите его в темницу, откуда нет выхода, отныне пусть семья его умывается слезами и скрежещет зубами! Вот так, отлично! Вы воздали ему по заслугам! Та же участь ждет и других бунтарей — неповадно будет бастовать, требовать надбавки, разрывать цепи рабства. Я не буду больше — во всяком случае, на людях — называть вас рабами и слугами. Теперь вы мои задушевные друзья. Даже получив ключи власти, вы следовали моим заповедям, охраняли мое добро, приумножали мой капитал еще успешнее, чем я сам. Так что не стану называть вас рабами, ибо рабу нет дела до хозяйских интересов и чаяний. Теперь вы для меня — друзья! Я посвящу вас в свои планы; вам достанется часть моих барышей, чтобы у вас не пропало желание дробить черепа тем, кто бубнит насчет "народных масс". Пусть пребудет покой, единство, мир да любовь между нами! Что в этом плохого: вам два глотка, а мне четыре! Проучим крикливых подстрекателей! Да здравствует стабильность во имя прогресса! Прогресс во имя барышей! Да здравствуют чужеземцы! Слава иностранным специалистам!"2
Когда распорядитель бала завершил свою цветистую, полную аллегорий речь, все воры и мошенники, пришедшие в пещеру для участия в состязании, повскакали с мест и устроили ему громоподобную овацию. Из публики донеслись выкрики: "Этот ботинок как раз впору, и носка не надо!" Сидящие рядом дергали друг друга за рукав, перешептывались: "Нет, вы слыхали? Богачи будут богатеть! Прав распорядитель, для нас важнее всего крепить дружбу с иностранцами. Пусть им достается мясо, а нам только кости… Собаке и кость сгодится, особенно если на ней мясцо осталось… Вот подлинный, африканский социализм; он ничего общего не имеет с тем, что проповедует Ньерере[23] и иже с ним. Их социализм замешан на зависти. Они за то, чтобы ни у кото не было мясистой косточки. Нам здесь такие порядки не нужны. Мы — христиане…" Распорядитель призвал всех к порядку, и постепенно шум и аплодисменты стихли. Он был весьма упитанный мужчина; щеки круглые, как два арбуза; красные глазки похожи на сливы; толстая шея напоминала ствол баобаба, живот тоже был всему прочему под стать. Во рту сверкали два золотых зуба, а шелковый костюм переливался всеми цветами радуги. Распорядитель подробно разъяснил собравшимся условия конкурса: — Каждый участник должен выйти на сцену и рассказать, когда первый раз украл, где и чем промышляет теперь. Пусть поделится своими соображениями, как можно воровать еще лучше и больше. И самое важное — как развивать сотрудничество с чужеземцами, чтобы побыстрее вскарабкаться на небо и очутиться в современном раю, где все иностранное… В жюри входят все присутствующие, по громкости и продолжительности аплодисментов будут выставляться баллы, определяться победители. Как председатель Илморогского отделения Ассоциации современного грабежа и разбоя, я со всей ответственностью заявляю: сегодняшнее состязание — это камень для оттачивания наших клыков и когтей, дабы еще глубже впиваться в чужое добро. Если у хозяина есть точильное колесо, ножи в доме всегда острые. Поэтому проигравшим не следует огорчаться. Пусть и дальше грабят и гребут, пусть перенимают у победителей мастерство и сноровку. Даже мудрецу всегда есть чему поучиться. Леопард тоже долго не знал, как пользоваться когтями, пока его не научили… Теперь позвольте представить вам главу делегации Международной лиги современного грабежа и разбоя, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. Все вы знаете, что мы уже подали заявление о приеме в эту организацию. Приезд ее делегации, врученные нам подарки — это начало нового этапа в нашем плодотворном сотрудничестве. Мы должны овладевать опытом наших зарубежных коллег. Нет ничего зазорного в том, что мы еще не столь искусны, как они. Так припадем же к источнику чужестранной премудрости, Напейся — но не облейся! И да благословит всевышний наше собрание! Распорядитель предоставил слово главе иностранной делегации. Публика встретила его долго не смолкавшей овацией. Распорядитель сошел со сцены, и почетный гость, прочистив горло, приблизился к микрофону. — Англичане первые сказали: время — деньги! Мы, американцы, тоже так считаем. Поэтому не стану занимать ваше внимание лишними разговорами. Распорядитель бала поведал нам притчу, и ею все сказано. Мы съехались сюда со всех концов света: из США, Англии, ФРГ, Франции, из Скандинавских стран — Швеции, Норвегии, Дании, из Италии и Японии. Задумаемся над этим фактом: разные страны, разные языки, разный цвет кожи, различные религии — но при этом одна вера иодна цель: воровство!.. Мы находимся в гостях у друзей, охраняющих в своем доме наши интересы, и чувствуем себя превосходно. Мы уже побывали во многих пещерах — притонах местных воров и бандитов, и на нас произвели сильное впечатление ваши успехи. Ступив сравнительно недавно на стезю современного воровства, вы оказались способными учениками, быстро усвоили суть. Если и дальше дело так пойдет, вы вскоре станете крупными специалистами, ни в чем не уступающими своим западным коллегам. Мы хотим отобрать среди вас семерых самых достойных. Они станут нашими полномочными представителями, будут передавать свое искусство другим ворам. Распорядитель научил меня вашей пословице: стальное сверло и сталь сверлит! Семерых избранников ждут особые привилегии: двери местных отделений наших банков, страховых компаний и других финансовых учреждений будут для них всегда открыты. А ведь всякий, кто хоть мало-мальски разбирается в воровстве, знает, что именно финансовые учреждения управляют сегодня промышленностью, от них зависит размещение новых предприятий, расширение той или иной отрасли. Они диктуют свои условия. Миром правят деньги! Эти же учреждения служат самым надежным хранилищем награбленного. Семеро избранников должны будут передавать свой опыт другим, особенно начинающим, учить их, как воровать, есть, пить, храпеть, портить воздух, но так, чтобы при этом благоухало, — как это делают богачи. В заключение несколько мудрых напутствий. Думаю, никто не сомневается в том, что воровство и разбой — это краеугольные камни американского и западного общества. Деньги — пульс западного мира. Если хотите воспринять нашу великую цивилизацию, склонитесь перед богом денег. Забудьте лица ваших чад, родителей, братьев и сестер. Любуйтесь лишь неповторимой красотой денег, и тогда вы не свернете с правильного пути. Лучше пить кровь своего народа, чем хоть на шаг отступить от заветной цели! Говорю вам все это, опираясь на собственный опыт. Так поступали мы в Америке и Западной Европе. Когда американские индейцы попробовали сопротивляться, мы изгнали их огнем и мечом, стерли в порошок; пощадили лишь горстку — для резерваций, как пособие к учебнику истории. Еще не расправившись до конца с ними, мы занялись вашей Африкой, вывезли отсюда несколько миллионов рабов. Европа и Америка достигли нынешних высот на крови ваших братьев. Я не стану этого скрывать — вы же наши друзья! Сегодня мы, воры из Америки, Западной Европы и Японии, бродим по всей земле, как по большой дороге, — грабим всех подряд, впрочем оставляя кое-что своим друзьям. Наши предки не брезговали ничем — проливали реки крови, загубили множество работяг — у себя в стране и во всем мире. Сегодня мы свято верим в демократию грабежа и разбоя, кровопролития и насилия над рабочим людом. Хотите быть такими же, как мы, — отбросьте сострадание, не церемоньтесь с тружеником. Прав был распорядитель — сначала попробуйте обмануть его сладкими речами и посулами. Какой метафорой он воспользовался? Ах да, учитесь "заворачивать яд в сладкие листья". Но если народ окажется упрямым и несговорчивым, как нерадивый слуга из притчи, возомнивший, что он умнее хозяина, втопчите его в грязь коваными каблуками! Развивайте и укрепляйте ухуру [24] воров. Мы всегда придем на помощь — всей своей военной мощью. Это все, что я хотел сказать. Желаю удачи всем участникам конкурса! Глава иностранной делегации вернулся на свое место, и в пещере стало твориться нечто невообразимое: кто аплодировал, кто вопил: "Ботинок в самую пору, не надо и носка надевать! Как раз по ноге! Словно по заказу тачали. Этот иностранец свое дело знает!" Заиграл оркестр "Ангелы ада", публика принялась поглощать напитки. Мужчины в ажиотаже хлопали друг друга по плечу, целовали своих возлюбленных. Но мелодия была медленной, не для танцев, скорее походила на гимн или псалом. Когда присутствующие заметили это, они повернулись в сторону оркестра и затянули, словно на богослужении:Добрая весть
Докатилась до нас!
Славься, о боже,
Ты Кению спас!
3
Вариинга повернулась к Гатуирии и спросила: — Неужто все эти люди, в таких дорогих костюмах, на самом деле грабители? — Я сам толком не пойму, что здесь происходит. — Конечно, воры, — вступила в разговор Вангари, — отпетые бандиты. — Современные — в этом их отличие от обычных, — пояснил Мутури. — А у иностранцев кожа красная, — заметила Вариинга, разглядывая семерку заморских гостей. — Слышала, что их главный говорил? — зашептала Вангари. — Оттого они краснорожие, что пьют кровь своих и наших детей! — Да еще в крови купаются, — добавил Мутури. Вариинга, Гатуирия, Мутури, Вангари и Мваура сидели за столиком в дальнем конце пещеры, и Вариинге приходилось вставать, чтобы разглядеть тех, кто находился впереди. Столик с иностранной делегацией был у самой сцены, а на сцене установили высокую трибуну, и каждый оратор взбирался на нее. Позади трибуны расположился оркестр "Ангелы ада". Кресло главы иностранной делегации было несколько выше, чем остальные. По обе руки от него сидели заморские гости — по трое с каждой стороны. Вариинга вглядывалась в них: действительно, кожа красная, как у поросят, когда их обварят кипятком. Волосы на руках — как щетина у матерого борова… Длинные рыжие пряди покрывают плечи, словно их ни разу не стригли от самого рождения. На головах похожие на короны шляпы, увенчанные семью железными, ослепительно сверкающими отростками в форме рожков. Рожки изогнуты в виде начальной буквы той страны, которую каждый делегат представляет. Зато костюмы разные. На главе делегации — из долларов, у англичанина — из фунтов стерлингов, у остальных — из марок, франков, лир, крон и йен. На лацканах пиджаков большие значки, как у бойскаутов, с ярко намалеванными названиями фирм: "Всемирный банк"; "Банк мировой торговли"; "Банк всемирной эксплуатации"; "Золотоглотательная страховая компания"; "Загребательная индустрия сырья"; "Экспортеры бракованных промышленных товаров"; "Торговцы человеческой кожей"; "Ростовщики-процентщики"; "Помощь на кабальных условиях"; "Орудия убийств"; "Сборочные заводы по изготовлению каруселей для ярмарки тщеславия"; "Надежные и недорогие цепи рабства"; "Поставщик рабов для семейного комфорта" — и тому подобное. Мвирери ва Мукираи сидел далеко от своих давешних попутчиков, они могли видеть лишь его макушку. Накануне ночью, подъезжая к Илморогу, они условились прийти на бал, чтобы увидеть все своими глазами. Мвирери роздал им настоящие билеты, без которых их не впустили бы. Они встретились в десять часов утра, предъявили стражам свои приглашения и оказались в пещере. Пещера? Нет, роскошный зал, настоящий дворец. Гладкий, до блеска натертый пол, в который можно смотреться, как в зеркало. Потолок покрашен в кремовый цвет. Люстры напоминают гроздья спелых фруктов. Между ними натянуты разноцветные бумажные гирлянды, с потолка свешиваются огромные надувные шары — зеленые, голубые, красные. Официантки скользили между столиками, разнося напитки. Трико из черной шерсти плотно обтягивали фигуры девушек — издалека могло даже показаться, что они голые. Белые помпоны изображали заячьи хвостики, лента на лбу гласила: "Я люблю вас!" Официантки походили на привидения или инопланетянок. Вариинга заказала себе виски с содовой. Гатуирия, Мутури и Мваура спросили пива, а Вангари — фанту, Гатуирия и Мутури платили за всех. То был поистине шумный пир. Казалось, все следовали девизу: налейся до краев! Доставь себе удовольствие — сори деньгами! Большинство соискателей радовались случаю выставить напоказ свое богатство. Заказывали по очереди, щедро расплачиваясь за соседей по столику, виски, водку, бренди, джин — бутылками, пиво — ящиками. Вот как пьют настоящие воры! Только нищие заказывают спиртное рюмками или сосут весь день одну жалкую кружку пива. У многих висели на руках девицы — сладкие подружки, унизанные драгоценностями, ожерельями из жемчуга и рубинов, серебряными и золотыми кольцами. Женщины нарядились, как на парад мод или выставку ювелирных изделий. Мужчины заказывали дамам одно шампанское, бахвалясь: "Пусть оно течет рекой — как пенистая и полноводная Руиру. Если не сможем все выпить, будем в нем купаться!" — Когда они начнут? — спросила Вариинга. — С минуты на минуту, — ответил Гатуирия. Вангари думала про себя: "Вот повезло! Меня отпустили под честное слово. Я обещала указать воровские притоны и исполнить таким образом свой гражданский долг. Какая удача! Этот бал точно специально для меня устроили. Не прошло и суток, а я уже отыскала их логово. Вот они, злодеи, гуляют тут со своими заморскими дружками. Если их арестовать и засадить в тюрьму, не то что Илморог — вся страна очистится от скверны, избавится от грабителей и душегубов. Подожду маленько — послушаю, узнаю все их планы, а потом приведу сюда инспектора Гаконо и его людей. Я их изобличу — улик у меня предостаточно. Вон Мутури все примечает, ни одного словечка не пропускает. В случае чего он выступит свидетелем". Вангари решила обратиться к нему за помощью и советом, но отложила это на потом. Сердце ее забилось в такт песне, что пела она в дороге накануне:Идите все скорей сюда,
Спешите это видеть!
Воров скликает сатана,
Мы их накроем разом!
4
Первый из конкурсантов, пройдя между столиками, вспрыгнул на сцену. Воры пренебрежительно переглянулись. Костюм на нем был, что называется, не первой молодости. Судя по всему, его никогда не касался утюг. Хозяин костюма был долговязый и костлявый, глаза — круглые, как электрические лампочки, подвешенные к верхушке эвкалипта. Длинные руки-жерди качались, точно маятники, — он явно не знал, куда их деть: засунуть ли в карманы, вытянуть ли по швам, как при команде "смирно", или же скрестить на груди, чтобы придать своей фигуре вызывающий и решительный вид. Перепробовав все эти позы, он почесал в затылке, похрустел пальцами и наконец сложил руки крест-накрест на груди, хохотнул, прогоняя страх, и начал так: — Меня зовут Ндайя из Кахурия. Я сейчас немного не в своей тарелке и могу показаться робким и застенчивым. Это потому, что я не привык, когда на меня столько народу глазеет. Но эти вот руки, — он протянул к залу растопыренные пятерни, — эти руки чувствуют себя как дома в чужих карманах. Готов спорить, залезу к любому из вас, и вы даже не почувствуете. Пожалуй, во всей округе нет никого, кто бы искуснее меня выуживал кошельки у женщин на базарах и в автобусах. А как я мастерски таскаю кур! Бог и небо свидетели, клянусь говорить чистую правду и ничего, кроме правды! Ворую я только оттого, что голоден и мне нужна хоть какая-нибудь одежонка. Другой работы у меня нет, негде ночью голову приклонить. Я претендую на первое место как непревзойденный карманник. И чтобы подтвердить свои претензии, произведу показательную кражу. — Страх, сковывавший Ндайю поначалу, как будто исчез, и теперь он бойко повествовал о том, как протыкает шилом пшеничные зерна, нанизывает их на нейлоновую леску и подбрасывает курам: "Курукуру, курукуру, курукуру!.." Согнувшись до земли, Ндайя стал заманивать руками воображаемых кур. Ему, однако, не дали закончить, кто-то из гостей возмутился, другие поддержали его свистом, топая ногами: "Как только впустили сюда этого жалкого курощупа?!" Распорядитель взошел на сцену и призвал публику к порядку. Затем он разъяснил, что к конкурсу могут быть допущены только настоящие грабители, то есть те, кто достиг международных стандартов. Истории о взломе висячих замков в деревенских хижинах или краже кошельков на базаре недостойны ушей истинных специалистов, не говоря уже о присутствующих здесь иностранцах. Не затем они сюда ехали, чтобы глядеть на разную мелюзгу, которая идет на кражу с голода, холода, из-за безработицы. — Эти людишки — обыкновенные уголовники. А в нашей пещере получат слово лишь те, кто крадет на сытый желудок. — Распорядитель похлопал себя по брюшку. Ндайя из Кахурия, потеряв всякий стыд, дерзнул возразить распорядителю: — Вор есть вор, все мы равны, и причины воровства к делу не относятся. Все мы должны быть допущены к конкурсу без ограничений. Грабитель есть грабитель… Но тут со всех сторон на него зашикали, затопали ногами: "Пусть этот оборванец убирается со сцены. Она не для таких, как он! В таком убогом наряде только от кредиторов бегать. Вон отсюда! Вывести его! Пусть демонстрирует свой талант курощупа в Нжеруке! Распорядитель, выполняйте свои обязанности, а не справляетесь — живо найдем достойную замену!" Распорядитель подал знак вышибалам. Размахивая дубинками, они выскочили на сцену и погнали Ндайю ва Кахурию к выходу, не обращая внимания на его протестующие вопли о дискриминации. Его лишили права находиться в пещере. Другие воры злорадно хохотали и свистели ему вслед. Затем распорядитель снова стал призывать публику к порядку, требовать тишины и, когда она установилась, изрек: — Это международный конкурс воров, он открыт лишь для специалистов, снискавших мировое признание. Нам не интересны откровения новичков и любителей, пусть не отнимают время. Время — деньги! И следовательно, во всякое время должно воровать! Итак, давайте условимся о правилах ведения конкурса и в дальнейшем будем их неукоснительно соблюдать. Причина, приведшая нас сегодня сюда, не так проста, как некоторым может показаться, и нам вовсе не до смеха и шуток. Предупреждаю: тот, кто крадет сотнями или даже тысячами, пусть не вылезает на сцену и не занимает попусту наше время. Эти слова были встречены громкими аплодисментами. — Таково первое правило, и ваши аплодисменты, идущие от души, я расцениваю как единогласное его одобрение. Мы будем слушать лишь тех, кто хотя бы однажды прикарманил миллион. Второе правило: чтобы выступать перед нами, надо иметь толстое брюхо и круглые щеки, худым здесь тоже делать нечего. Ибо по размеру щек и живота можно безошибочно судить о размерах состояния и доходах. Воры, отвечавшие этим условиям, долго хлопали в ладоши. Но худые криками выразили несогласие. Толпа в пещере раскололась надвое, и дело едва не дошло до рукопашной. Один из тощих, совсем как скелет, вскочил с места, требуя отмены второго правила. От гнева у него ходуном ходил кадык, вверх-вниз. Его возражения сводились к следующему: хоть и верно, что многие воры наели себе животы, однако есть и другие, у которых ввалились щеки от неотступных забот о том, как свое богатство приумножить. — Да-да, это проблема, и немалая. Вряд ли кто станет утверждать, что худые воруют хуже толстопузых. Это дискриминация! Где худому взять живот — пересадку делать или у беременной жены занять? Худоба не обязательно признак нищеты и неудач. Нельзя судить о чьем-то геройстве по величине его ляжек. Оратор сел, а клан худых еще долго и восторженно ему аплодировали, в то время как толстопузые свистели и улюлюкали от гнева. Один толстяк заметил, что выразитель чаяний худых — такой же оборванец, как и незадачливый Ндайя ва Кахурия. — Кто посмел сравнить меня с Ндайей ва Кахурией? — снова вскочил оскорбленный до глубины души тощий оратор. — Кто назвал меня оборванцем? Что у меня может быть общего с жалким карманником? Пусть выйдет мой обидчик, и мы сразимся с ним на кулаках. Он узнает крепость рук, которые ворочают миллионами. Но тут поднялся мужчина — не толстый и не худой — и быстро уладил спор: — Не станем обращать внимания на не относящиеся к делу пустяки: тонкий, толстый, черный или белый, короткий или длинный. О хищных птицах судят не по их размерам, а по их добыче. Каждый чревоугодник, который чувствует, что ему есть что сказать, должен быть допущен к столу. Пусть обжоры померяются силами в честном поединке. Посмотрите на наших иностранных гостей: среди них и упитанные есть, и стройные, блондины и рыжие, один из них азиат, из Японии, есть и европейцы, а их глава — американец. Что делает их всех одной семьей, связывает, будто пуповиной? Не худоба, не толщина, не язык. Их объединяет и сплачивает в один клан воровство. Именно оно позволило им протянуть свои щупальца по всей земле — эдакие вьюнки, что расползаются по полю. Мы, их местные сторожевые псы, тоже имеем одну пуповину. Мы все братья, соратники — словом, одна семья, независимо от того, кто из нас луо, кто календжин, или мкамба, или суахили, или масаи, кикуйю или балуйя. Всех нас объединяет воровство, и у нас прочные связи с нашими заморскими друзьями. Распорядитель бала! Мы все члены одной организации, так останемся едиными навеки! Пусть ссорятся те, кого мы обкрадываем. Тогда у них не хватит сил противостоять нам. Люди, огонь в очаге может обуглить мясо, с которого каплет жир и заставляет пламя плясать! Его проводили такой овацией, что казалось, потолок и стены пещеры не выдержат. "Тобоа! Тобоа! [25] Даниил рассудил нас!" — восторженно кричали из публики. После короткого обсуждения договорились о том, что рост, вес, религия, племя и цвет кожи не могут служить помехой для участия в конкурсе. Главное — это хитроумие, искусность и профессиональное мастерство. Однако чтобы исключить любителей и начинающих, составили нижеследующий свод правил: 1. Каждый участник называет свое имя. 2. Каждый участник сообщает свой адрес. 3. Каждый участник называет количество своих жен и любовниц. 4. Каждый участник сообщает модель своего автомобиля, а также автомобилей жен и любовниц. 5. Каждый участник излагает вкратце свою карьеру на стезе воровства. 6. Каждый участник вносит предложения относительно развития воровства в стране. 7. Каждый участник предлагает меры по упрочению уз с зарубежными коллегами. Зачитав правила, распорядитель под бурные аплодисменты вернулся на свое место. — Я бы тоже хотел поучаствовать, — сказал Мваура Мутури. — Так ты грабитель? — спросил рабочий. — С чего же, по-твоему, я живу и получаю доход? — расхохотался Мваура, обратив тем самым все в шутку. Но тут он вспомнил недавний вопрос Мутури о его, Мвауры, связях с "Ангелами ада" и разом умолк, как подавился. Он повернулся к Вангари, прикидывая, известно ли и ей то, о чем наверняка прознал Мутури. Вангари сидела молча, раздираемая приливами отваги и отвращения. Ей хотелось встать и обрушить на весь этот сброд тяжкие обвинения и всю свою ненависть. Однако она сдерживалась, дав себе слово досмотреть конкурс до конца, чтобы собрать как можно больше улик для илморогской полиции. Время от времени она зажимала ладонями уши, чтобы хоть минуту-другую передохнуть — не слышать самодовольных излияний бандитов, их громких оваций. Внезапно у Вангари возникло такое чувство, будто она снова трясется в матату Мвауры и Мвирери ва Мукираи мерным голосом, убаюкивая слушателей, повествует о человеке, который, отправляясь в далекую страну, роздал своим слугам свои таланты — одному пять, другому два, третьему один… Получивший пять талантов употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрел другие два; получивший же один талант пошел и закопал его в землю. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший… талантов…КОНКУРСНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ГИТУТУ ВА ГАТААНГУРУ Ниже приводятся высказывания Гитуту ва Гатаангуру по поводу современного воровства. У Гитуту было такое брюхо, что, если бы не подтяжки, оно бы волочилось по земле. Казалось, его живот вобрал в себя все четыре конечности и много еще чего, в том числе шею. Руки и ноги походили на короткие обрубки, голова усохла и была величиной с кулак. В тот день на нем был темный костюм и белая сорочка с кружевами, черный галстук-бабочка прилеплен к подбородку, трость отделана чистым золотом. Гитуту одной рукой поглаживал живот, другой вертел трость. Говорил он с одышкой, словно тащил тяжеленную ношу. Вот текст его выступления. — Зовут меня Гитуту ва Гатаангуру, раз уж на то пошло. Это мое истинное имя, а на европейский, точнее, на христианский лад я прозываюсь Шитленд Нэрроу Истмэс. Когда европейцы слышат его, они почему-то тушуются, смотрят на меня как-то странно. Одни качают головой, другие начинают хохотать, ибо при всей своей учености ничего подобного не слыхали. Я вам больше скажу: белые меня даже побаиваются. Перехожу ко второму вопросу. Я человек семейный. У меня жена и пятеро детей — три мальчика и две девочки. Старший сын учился в нескольких африканских университетах и сейчас продолжает образование за границей. Второй только что поступил на первый курс. Третий мальчик и дочери еще ходят в школу. Я дам им превосходное образование, которого сам лишен, потому что моему отцу не хватало умения жить. Школы, в которых учатся младшие дети, самые дорогие — туда раньше принимали одних белых. По сей день все учителя там — европейцы. Далее. Помимо законной супруги, с которой мы венчались в церкви при миссии Тхогото, у меня есть две любовницы. Как говорится, у кого отложено про запас, тот никогда не голодает. Кое-кто из вас, наверно, пялит глаза на мой животик. Видя, что он свешивается, что я задыхаюсь, вы, должно быть, недоумеваете, как этот Гитуту, сын Гатаангуру, справляется с женой и еще двумя подружками? Я отвечу скептикам вопросом на вопрос: почему вы забыли наши поговорки? Когда танцор выходит в круг, только он знает, что и как будет танцевать. Слон носит свои бивни и не жалуется на их тяжесть. И еще: если кто в наши дни отказывается от денег, значит, он безумен и ему уже помочь нельзя. Теперь адрес. Мой дом здесь, на Золотых Холмах Илморога. В нем живут мои жена и дети. Это вроде как мой штаб. Но у меня еще много других домов в Найроби, Накуру и Момбасе. Я не люблю останавливаться в гостиницах, когда разъезжаю по своим контрабандным делам. Приятно провести ночь в собственном доме. Пока что речь идет о домах, про которые жена знает. Но есть еще несколько потайных берлог в Найроби — для моих сладких девочек. Теперь о машинах. По делам я разъезжаю в "мерседесе" с личным шофером. Для частных поездок у меня есть "пежо" и "рендж-ровер". Жена пользуется "тойотой-кариной". Это ее корзинка на колесах — возить покупки с базара. Есть у меня грузовики и тракторы, их я тоже использую в своем бизнесе. Ах да, чуть не забыл! Одной своей подружке я подарил на рождество "тойоту-короллу", а другой к дню рождения — "датсун". Современная любовь несовместима со скаредностью! Итак, друзья, сами видите, господь ко мне благоволит, и моя фортуна щедра. Не удивительно, что я прославляю современное воровство! Передо мной ровные и широкие авеню, на моем пути ни колючек, ни валунов. Семь потов спускать не приходится. Видите, у меня и рук почти что не осталось — им же делать нечего. А живот от чрезмерной работы все растет. Завтракаю я яйцами и хлебом с маслом, запиваю молоком. Около десяти утра уминаю пару фунтов вареной баранины. В двенадцать — четыре фунта говядины, вымоченной в вине и поджаренной на углях. Запиваю холодным пивом. В шесть поклюю курятинки, чтобы не пить виски на пустой желудок, и потом до самого ужина ни крошки! Я верю в господа. Как мудра притча, поведанная нам распорядителем! Как разумны хозяйские наставления слугам! Жни там, где не сеял; ешь то, что не полито и каплей твоего пота; пей воду, принесенную другими! Прячься от дождя в хижинах, к постройке которых ты не прикладывал рук; носи одежды, сотканные и выкроенные не тобой. Поверите ли, друзья, с того дня, как я начал следовать этим заповедям, дела мои сразу пошли на лад. Мой отец был присяжным в единственном суде, где в колониальные времена разрешалось заседать черным, — в туземном трибунале Руува-ини, округ Ичичири. За годы службы он научился обходить закон, склонять его в ту или иную сторону — к своей выгоде, конечно. Отец присваивал чужую землю. По тем временам ни один черный не мог тягаться с ним. Дело в том, что все члены туземных трибуналов, от Куры и Киамбу до Муранги и Ньери, были его закадычные друзья. Они часто пили в нашем доме пиво, отец резал в их честь лучших баранов, а пару раз даже закалывал быков! Они во всем помогали отцу, и в итоге тот нахватал столько чужой земли, что стал настоящим плантатором. Взял себе несколько жен. Старик был упрям, заносчив, высокомерен. Если ему нравилась случайная встречная, несущая связку хвороста или возвращающаяся с поля, он посылал за ней: "Приведите ко мне дочь такого-то". В конце концов он наплодил такое количество детей, что даже его обширных владений стало не хватать на всех. Я унаследовал от отца всего три вещи: грамотность, мудрые советы и рекомендательные письма его европейских дружков. Учился я в Маарамбе, закончил только начальную школу. Потом два года учительствовал. После этого поступил писцом и переводчиком в Верховный суд в Найроби. Верная поговорка — козленок идет по стопам козла. Я занялся тем же промыслом, что и отец. Когда было объявлено чрезвычайное положение, я уже выступал на процессах. Мой отец был одним из тех, кто сотрудничал с англичанами, — служил осведомителем, выявлял сочувствующих партизанам. Я никак не мог решить, что мне выгоднее, на чью сторону встать. Был, как говорится, ни жарок, ни холоден. Так я держался посередине, отсиживался в суде, переводил на процессах. Когда настала независимость, я все еще был судебным толкачом, кое-как перебивался на скудное жалованье. Я не спешил — надо было выяснить, в какую сторону земля вертится, куда ветер дует. Занялся мелкой коммерцией, открыл лавчонку и гостиницу. Но доходов они не приносили. Я тогда еще не освоил священные заповеди нашего людоедского общества. Тут пришли мне на память прощальные слова отца, сказанные им перед смертью, наступившей от обжорства. Он призвал меня к себе и изрек: "Ты поступил мудро, открыв лавку и гостиницу. Вспомни поговорки: "Пастух на одном месте не задерживается. В пути никто не делится взятой из дома пищей". Для человека семейного жалованье — это ничто. Однако мелкое предпринимательство не для нас, черных, нам не хватает на него терпения. Послушай отцовского совета — надо учиться у бывалых людей, перенимать их опыт. Есть только один путь для зрелого мужчины — это воровство. Подражай белым — не ошибешься! Белый человек из всех занятий на первое место ставит разбой. Он пришел в эту страну, держа в левой руке Библию, а в правой — ружье. Он отнял у народа самые плодородные земли, забрал коров и коз под видом налогов, отобрал у крестьян плоды их труда. Как, по-твоему, разбогатели Гроген и Деламер?[26] Скорее я отрекусь от родной матери, чем поверю, что их достояние полито собственным потом. Кто из нас может сравниться богатством с белыми, хоть и поднят теперь кенийский флаг? Наследства я тебе не оставляю. Однако я учил тебя в школе, а теперь открыл свои сокровенные мысли. Вот отзывы белых, на которых я работал и которые остались мною довольны. Я их друг, а они — мои друзья. Если попадешь в беду, обратись к любому из тех, кто поставил свою подпись на этих письмах. Скажи, что ты сын Гатаангуру и нуждаешься в помощи. Вспомнив эти отцовские слова, я задумался: "Кто когда-нибудь нажил богатство своим потом? Кто разбогател на свое жалованье? Отец приобрел имущество благодаря хитроумию и оборотистости. Гроген и Дела-мер тоже разжились не на жалованье, миллионерами сделала их ловкость и предприимчивость. Пусть же хитрость станет моим ангелом-хранителем. А в жалкой деревенской лавчонке, где товару-то всего два спичечных коробка, две пачки сигарет, мешок сахара, мешок соли, да пакетики чая по двадцать пять центов за штуку, да бочка с растительным маслом, капитал не сколотить! Хитрость, возьми меня за руку и веди вперед — днем и ночью! Я потому вспомнил последние слова отца, что с наступлением независимости предприимчивые кенийцы начали скупать те земли, за которые сражались партизаны из отрядов мау-мау. Те, кто пуще огня боялся ухуру, теперь успокоились и обрадовались — никто их не спрашивал, на чьей они были стороне, когда шла битва за свободу. Теперь это было неважно, только успевай наваливаться и хватать, что под руку попало. Одно только имело значение — неотразимость денег. Их не зарабатывали, проливая пот; хитроумие куда прибыльнее, чем тяжкий труд. Я оставил службу, пал на колени и взмолился истово:
Хитрость, укажи мне путь,
Верным гидом вечно будь
И во сне, и наяву,
А иначе я помру
Без еды и без питья,
Без одежды и жилья!
В Кении теперь все повое —
Торопись жить на готовое!
Скучно мне от старых баек —
Не сошьешь из них фуфаек!
Пахнут свежими духами
Те, кто шевелит мозгами.
Мне папаша дал урок:
Хитрость — счастия залог!
КОНКУРСНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ КИХАХУ ВА ГАТХИКИ Кихаху оказался рослым худощавым господином с длиннющими ногами, руками, пальцами, шеей и хищным, щелеобразным ртом. Голова его по форме напоминала шишку. Все повадки свидетельствовали о предельной изворотливости. На нем были брюки в черную и серую полоску, черный фрак, белая манишка и темный галстук. Со сцены он походил на двухметрового жука-богомола или комара. Откашлявшись, Кихаху заговорил: — Не стану особенно распространяться. Лакомство, если его много, превращается в отраву. Хорошего понемножку. Мой девиз: меньше слов, больше дела! Мои же дела красноречиво свидетельствуют о том, какой я мастер в деле воровства. Я служу прекрасной иллюстрацией того, о чем здесь говорилось: худоба не беда, о геройстве судят не по размеру ляжек. Воистину я петух, который громче всех кричит на заре. Я лев, от рыка которого трясутся слоны. Я орел, разгоняющий в небе ястребов. Я ураганный ветер, я молния, затмевающая солнце. Я оглушительный гром. Днем я — солнце, а ночью — месяц, король звезд. Я король королей современного грабежа и разбоя. Отдайте же мне золотую корону, настало время возвестить о начале моего царствования. Все это говорится не ради хвастовства, ведь у нас сегодня что-то вроде семинара по обмену опытом. Мой рассказ о себе прозвучит как гимн и побудит наших заморских гостей сделать меня своим главным доверенным лицом, старшим сторожевым псом, наипервейшим их пророком и представителем. Выслушайте меня и подивитесь моей истории. Делишки, что обстряпывал досточтимый Гитуту ва Гатаангуру, — это детские забавы. Для меня аферы с земельными участками, займами и закладными, дутыми акционерными обществами были всего лишь азами в освоении искусства воровства. Это пройденный этап, утехи любителя, хитрости новичков. Зовут меня Кихаху ва Гатхика, а английское мое имя — Лорд Гэбриел Бладвелл-Стюард-Джонс. Что до семейного положения, то у меня всего две жены. На первой я женился еще до того, как нажил состояние. А вторая стала моей, когда я разбогател. Я с ней познакомился на коктейле. Все вы знаете, что старые духи портятся и для новых танцев не годятся, тем более для вечеринок, где все говорят не по-нашему. Если женщина отстала от моды, она может погубить твое будущее. Вторая жена знаетанглийский, и у нее нет другого дела, как блистать на коктейлях в самых дорогих платьях и бриллиантах. Детей у меня порядочно. Все болтают по-английски, словно родились в Лондоне. А кикуйю и суахили они так корежат, что со смеху можно обмочиться. Потеха, да и только! Так говорят по-нашему миссионеры, едва приехав из Рима. Но меня это устраивает, зачем моим детям учить никому не нужную тарабарщину? Теперь о моих подружках. Я за школьницами не гоняюсь. От них одни неприятности да дурные болезни. Мне нравятся чужие жены. Обладание ими дает восхитительное ощущение победы. Это ведь тоже своего рода кража. Особенно мне везет с дамами из буржуазных семей. Они не сопротивляются, ни на что не претендуют. Одно им только и нужно. Мужья их забросили, торчат по ночам в кабаках со своими девками. Вот они и скучают, пухнут от безделья. Им тоже подавай разнообразие, они жаждут перемен, все твердят поговорку насчет семечек в тыкве. Ничего, мол, нас на всех хватит, чего скупиться! Я их окрестил "всегда готовы". И расходов с ними почти никаких. Одна из них, впрочем, ради меня от мужа ушла, я тогда, помню, ох как возгордился — все равно что вернулся с войны победителем. Пришлось, понятно, чем-то ее вознаградить: купил ей за полтора миллиона шиллингов десять акров земли в Тигони, рядом с Лимуру… А своей жене я пригрозил: если поймаю ее слоняющейся на перекрестке, в бараний рог согну! Машины у меня всякие были, я их меняю как сорочки. Конечно, с "мерседесом" ничто не может сравниться, но когда он мне надоедает, я покупаю "ситроен", или "даймлер", или "рендж-ровер". Обеим женам и старшим детям купил игрушки — "тойоту", "датсун", "пежо". Пусть забавляются — мне не жалко. Мои хобби: ежедневно пересчитываю барыши, в субботу и воскресенье играю в гольф и, конечно же, все свободное время провожу с моими "всегда готовы". Я часто сравниваю свою нынешнюю жизнь с той, что я вел до того, как ступил на поприще воровства. Да это все равно что сравнивать сон со смертью. Давным-давно, еще до ухуру, я не выпускал из рук мел и тряпку, учил детей грамоте в начальной школе Руува-ини. Что за жуткое прозябание! Вместо супа хлебал угали[27] с солью и овощами на десять центов. Весь день кашлял оттого, что мел крошился и я дышал этой пылью. На лекарства, чтобы унять боль в груди, не было денег… Но тут ко мне впорхнула птица удачи. Словно озарение на меня снизошло — однажды я распахнул окно классной комнаты, выглянул наружу и увидел: все мои сверстники заняты тем, что срывают сочные плоды с дерева ухуру. Чей-то голос зашептал мне: "Кихаху, сын Гатхики, что ты стоишь как истукан с забитым меловой пылью носом, в то время как другие уписывают за обе щеки плоды свободы? Чего ты ждешь? Этак тебе ничего не достанется, даже крошек после обжор-чемпионов". В один миг с моих глаз упали шоры, и я все увидел в подлинном свете. И тогда я, сын Гатхики, вышвырнул мел в окно, собрал вещички и распрощался с учительством. Это был поворотный момент моей жизни. Я тоже хотел вкусить плодов ухуру. Однако, если торопиться, батат на части разлетится. Я без разбору накинулся на первый же подвернувшийся плод, как невеста из сказки, выбиравшая жениха с завязанными глазами. Плод сильно горчил. Я сорвал гнилое яблоко. Расскажу вам подробнее о моей оплошности. Ведь мы собрались не для того только, чтобы хвастаться своими подвигами, но и ошибками делиться. Еще учительствуя, я осознал, что в народе всего сильнее тяга к знаниям. Но образование доступно только избранным, и с его помощью они закабаляют массы. Грея руки на жажде просвещения, многие полуграмотные люди пооткрывали частные школы и в два счета заработали себе на "мерседес". Помещения лепили из глины, учителей находили на свалке, вместо парт ставили деревянные ящики, писали на клочках бумаги, и доход такие, с позволения сказать, школы давали огромный. Вот и я, сын Гатхики, решил подвизаться на этом поприще и набить карман звонкой монетой. Легче всего, подумал я, открыть детский сад, это потребует ничтожных затрат. Отправился в банк и, заложив свою крошечную ферму, получил под нее ссуду. Потом подыскал подходящий домишко в Найроби; подвернулась молодая африканка, провалившаяся на экзаменах в средней школе. Я нанял ее приглядывать за детьми, играть с ними, поить их молоком, разучивать песни. После этого поместил в газете такое объявление: Новый детский сад "Черная краса" для детей преуспевающих кенийцев. Владелец, директор, учителя — кенийцы. Все говорят на суахили! Разучиваются кенийские народные песни и танцы. У меренная плата, превосходные условия. Милости просим! Приводите своих детишек! Sisi Kwa Sisi, Tujenge Kenya Taifa Letu[28]. И что же? Хоть бы одного ребенка я дождался, пусть бы уродца какого привели! Я так расстроился, что с трудом сдерживал слезы. Столько денег потратил, теперь банк пустит мою ферму с молотка. Что же мне делать, чем горю помочь? Видно, не разобрался я в плодах ухуру, стал впопыхах трясти не то дерево. Надо попытать счастья снова, извлечь уроки из поражения. Я стал присматриваться к тому, что происходит в стране. Выяснилось, что ни один зажиточный кениец, купив имение, не нанимает управляющим кенийца. Все берут на службу только европейцев. То же самое и в промышленности. Новые черные хозяева принимают директорами и бухгалтерами только европейцев или индийцев. И говорят друг с другом исключительно по-английски. Все это я, как говорится, намотал себе на ус: вот в чем секрет успеха современной кенийской буржуазии! И прежде чем банк потребовал вернуть ссуду, произвел коренные перемены в своем детском саду. Дал ему новое имя: "Современные подготовительные классы", подыскал белую женщину на место директрисы. Дряхлая старушенция, подслеповатая, глухая, спит на ходу, зато белая! Она милостиво согласилась дремать на жалованье. Потом я отправился в дорогие столичные магазины, купил детские манекены из пластмассы и обрядил их в нарядные костюмчики, напялил на них рыжие парики, вставил в них электрические моторчики, а к ногам приделал колесики. Стоило включить ток, и манекены двигались как живые. Я выставил их в витрине на всеобщее обозрение и дал в газету новое объявление: Современные подготовительные классы. Опытная европейская директриса. Раньше принимались только белые дети. Теперь допускаются также избранные кенийцы. Прежние стандарты сохранены. Занятия проводятся на английском языке. Прием ограничен. Звоните и приезжайте на автомобилях! Никакой расовой дискриминации, только имущественный ценз! Плата высокая! И от родителей ни днем ни ночью не стало отбоя. Спешили зарезервировать места для своих чад. Всякий раз, когда звонил телефон, я будил свою белую старуху, и она брала трубку. Однако большинство родителей приезжали лично, чтобы воочию убедиться в достоинствах моего заведения. Увидев европейскую даму и поглазев на манекены в витрине, они вносили плату за несколько месяцев вперед — другие подробности их не интересовали. Я велел директрисе записать не более ста детей. За каждого я брал две тысячи пятьсот шиллингов в месяц. О радость — мой ежемесячный доход был равен четверти миллиона! После уплаты за аренду дома и жалованья старухе и остальному персоналу оставалось двести тысяч чистой прибыли! И заметьте, я не пролил ни капли пота, не дышал больше мелом, не орудовал пыльной тряпкой. Плод с этого дерева не горчил, он был как раз мне по вкусу. Дело теперь шло как по маслу, я едва успевал срывать плоды: открыл в Найроби еще четыре сада с белыми старухами и европеоидными манекенами в витринах. Здесь, в Илмороге и Руува-ини, у меня тоже есть подобные заведения. Дерево мое оказалось на диво изобильным, а его плоды спелы и сочны. Но европейцы учат нас, что не следует складывать все яйца в одну корзинку — не ровен час, разобьются. Я решил отведать плодов с других деревьев, пустился в земельные спекуляции вроде тех, о которых рассказывал Гитуту ва Гатаангуру. И опять плоды пришлись мне по вкусу, я проглатывал их с большим удовольствием. Однако самое большое лакомство растет на дереве… Подождите, надо начать сначала, чтобы вам стало понятно: в воровском искусстве я не новичок. Собрав урожай с нивы просвещения и набив карманы на аферах с землей, я огляделся: чем еще можно поживиться? Оказывается, что, едва нажив капитал, баловни судьбы начинают мечтать о месте в парламенте. На моих глазах кое-кто продавал землю и даже любимую жену, чтобы покрыть расходы по предвыборной кампании. Я задумался: неспроста за это так дерутся, готовы пожертвовать миллионами, женами, дочерьми, фермами. Не иначе как на этом дереве зреет больше плодов, чем на других. Я надумал заняться политикой и сам все выяснить: чтобы узнать, чем питается муравей, надо посидеть возле муравейника. Но спешка до добра не доводит, было бы неразумно сразу зариться на место в парламенте — за него дерутся не на жизнь, а на смерть. Начну-ка с депутата окружного совета от Руува-ини в округе Ичичири. Сказано — сделано! Чем раньше свезешь овощи на базар, тем вид у них свежее. Я сорил деньгами направо и налево. Уж если я что надумал, за расходами не постою. Нанял женский хор из Ньякенийи, они распевали обо мне песни, выдумывали истории про то, как я сражался за свободу, раздавал людям землю, строил для детей школы и прочее, и прочее, и прочее. Я сшил этим женщинам платья из материи, на которой был намалеван мой портрет. Потом нанял громил — они поджигали дома и другую собственность моих противников, избивали тех, кто позволял себе нелестно высказываться в мой адрес. Кроме меня, на место было еще пять претендентов. С двумя я договорился полюбовно, дав каждому по пятьдесят тысяч шиллингов отступного. Они публично заявили, что снимают свои кандидатуры в пользу прославленного героя Гатхики. Но третий от взятки отказался. Тогда его ночью похитили мои молодчики, отвели в лес Руува-ини, наставили на него пистолеты и предложили выбирать: жизнь или место в окружном совете. Он проявил благоразумие и выбрал жизнь. Четвертый не только не взял денег, но позволил себе и под дулом револьвера противиться моей воле. Пришлось переломать ему ноги, только тогда он поумнел. Пятый оказался головастым мерзавцем. Он сам подослал ко мне головорезов, которые подкараулили меня и, угрожая оружием, предупредили, что, если я вздумаю шутить с их хозяином, мне придется худо: око за око, зуб за зуб! Я понял, что противник мой шутить не намерен, и притворился, будто готов идти на уступки. Передайте своему хозяину, сказал я бандитам, что пожиратели чужих богатств, как это заведено, встречаются один на один и между собой решают, кто из них может больше слопать. Нам предстоит в день выборов помериться силами в "честном" поединке. Тогда и выяснится, кто чего стоит. А пока что не будем задевать друг друга. Деньги — это сила, так пусть наши деньги сражаются за нас. В конце концов мы поняли друг друга и договорились скрестить оружие в открытом бою. Итак, нас осталось двое. Деньги есть деньги — кто больше наворовал, тот и победит. Я отдал приказ отвернуть все краны до упора. Пусть каждый избиратель хлещет за мой счет пиво, лишь бы обещал отдать свой голос. Я пошел на все уловки, а попросту сказать, скупал голоса. Кампания обошлась мне в два миллиона. Мой соперник тоже был крепкий орешек. Он выложил полтора миллиона шиллингов. Однако место досталось все-таки герою, который стоит теперь перед вами. Еще не успев толком занять своего кресла в совете, я стал прикидывать, как бы побыстрее возвратить потраченные на выборы миллионы. Я уже знал, что нынче все танцуют не под музыку, а под звон монет. И потому крутился как белка в колесе: наносил визиты своим коллегам — членам совета. Новая затея обошлась мне еще в пятьдесят тысяч. Но зато меня назначили или, вернее сказать, "выбрали" председателем комиссии по жилищным вопросам окружного совета Ичичири. В ведении комиссии было строительство домов, а также предоставление земельных участков частным компаниям под промышленные предприятия. Теперь я, сын Гатхики, наконец достиг заветной цели. Пришло мое время. Казенные деньги и тощего превратят в толстяка. Так уж повелось, что совет то и дело брал ссуды у Всемирного банка, принадлежащего американцам, а также у европейских и японских банков для финансирования строительства домов для бедняков. То был поистине неиссякаемый источник наживы. Помню, однажды совет постановил снести трущобы в Руува-ини. Предполагалось построить на их месте тысячу домов. Деньги на этот проект ссудил итальянский банк, и подряд на строительство достался итальянской фирме. Конечно, ей пришлось сделать мне за это маленькое подношение — два миллиона шиллингов. Таким образом, затраты на выборы окупились. Теперь оставалось подсчитать чистую прибыль. Ждать ее пришлось недолго. Когда дома были возведены, настал мой час. Всякий, кто хотел въехать в муниципальный дом, должен был дать мне на чай две тысячи шиллингов. Так я заработал еще два миллиона и снова отнес их в банк. Нет нужды говорить вам, что за два года деньги, вложенные в предвыборную кампанию, принесли мне кругленькую сумму. И заметьте — я не пролил ни капельки пота. Деньги несли те люди, которые за меня голосовали. Они-то думали, что налог, взимаемый с них, идет на погашение иностранных займов… Ну, что вы теперь скажете? Будь вы на моем месте, отказались бы вы от сладкого и сочного яблока, не доев его до конца? По моим губам и щекам тек сок и слюни, потому что я не сразу научился есть по правилам хорошего тона. Но мне все было мало. Сейчас я уже не жду, когда дома построят, собираю подати загодя. Войдя в долю с итальянцами, я стал одним из директоров компании "Жилищное строительство в Руува-ини". Так уж получается, что именно моей фирме достаются все муниципальные подряды. Кроме того, компании предоставляются ссуды банков на осуществление обширных проектов, благодаря чему мы имеем возможность распродавать еще не выстроенные дома. Сами знаете, какая у нас нехватка жилья. Фирма возводит здания на всякий карман и на любой вкус. Каменные дома, к примеру, дают куцый доход. А вот бараки из дерева и глины — видели такие? На них в два счета можно разбогатеть, уж можете мне поверить. Местные филиалы различных иностранных фирм стали приглашать меня на директорские посты. Я скупал их акции да еще получал жалованье — за то лишь, что присутствовал на заседаниях правлений. И так каждый месяц: здесь урвешь, там отхватишь — глядишь, и набегает по частям целое. И все это, несмотря на худобу, каким-то чудом умещается в утробе Кихаху ва Гатхики! Вот почему я глубоко признателен кенийским народным массам за их слепоту, невежество, неумение постоять за свои права. Именно благодаря этому мы, кровопийцы и душегубы, имеем возможность жиреть на их трудовом поте. Они не задают нам ненужных вопросов. Однако не следует обольщаться и благодушествовать, массы не всегда будут столь глупы и податливы. Не зря иностранцы, исходя из возможности нежелательных перемен, предложили мне директорские посты в своих компаниях — они хотят оградить себя от вспышек народного гнева. И я охотно согласился занять эти прибыльные должности. Я, однако, не упускаю случая пожертвовать деньги на различные благотворительные цели под лозунгом "Харамбе". В зависимости от настроения могу отвалить пять, десять или даже двадцать тысяч. Если же мне охота пустить пыль в глаза, я обращаюсь в различные фирмы, принадлежащие иностранцам. Там имеются специальные фонды для одурачивания публики, и они охотно идут мне навстречу. Я поднимаюсь на трибуну и во всеуслышание объявляю о своей щедрости: "Вот несколько сот тысяч. Примите их от меня и от моих друзей". И тогда женский хор из Ньякенийи провозглашает пятикратную здравицу в мою честь. Чем крупнее суммы, тем громче овации. Деньги в наши дни могут срыть горы. Нынче у народа новые герои, никто уже не вспоминает Кимати и его партизан. Так пусть же подольше массы остаются такими, как теперь. Пусть они воспевают лишь тех, у кого туго набиты карманы. Это даст нам время выкачать из них все соки. Сами знаете: то, что скрыто в утробе, никому глаз не мозолит. Я свято верю в эффективность принципа кнута и пряника. Благотворительность — это наш пряник. Но появились смутьяны, подстрекающие против нас народ, призывающие людей скинуть с глаз шоры. Вот им давно пора отведать кнута. Они заслуживают тюрьмы, место им — за решеткой. Я лично подсылаю к таким упрямцам моих головорезов, если деньги и спиртное на них не действуют. И тогда их трупы достаются гиенам, что рыскают по холмам Нгонг, или крокодилам в реке Атхи, дабы им впредь неповадно было трепаться о служении народу! Вы прекрасно знаете, кого я имею в виду. Призывы к демократии — это пустая болтовня. С утра до вечера только и слышишь: демократия, демократия! Однако ею сыт не будешь. Эх, добраться бы мне до этих сосунков из университета и их профессоров-пигмеев! Я бы посадил их в самолет и отправил в Китай или Советский Союз — пусть там разглагольствуют о коммунизме. Извините, господа, в своем негодовании на этих мерзавцев я отклонился от основной темы. Позвольте мне вернуться к рассказу о воровстве в сфере жилья. Лично я от этого поприща никогда не откажусь. Нет более прибыльного дела, чем спекуляция на тяге людей обрести свой кров. Главное, чтобы эта нужда никогда не притуплялась. Часто по ночам я изобретаю способы, как обострить жилищный кризис. Это взвинтит цены на дома, соответственно возрастут мои доходы. Чтобы костер разгорался, надо подливать в него масло. Нам, душегубам, это только на руку. А о дележе награбленного как-нибудь между собой договоримся. Моя идея сводится вот к чему. Когда нехватка жилья станет нестерпимой, мы начнем строить не дома, а скворечники, причем складные, наподобие палаток. Бездомным волей-неволей придется покупать у нас эти переносные птичьи гнезда. Бродяги с наступлением темноты смогут ставить их на обочине — и спи себе! Поверьте, всю ночь напролет они будут возносить за нас молитвы, благословлять добросердечных предпринимателей, позаботившихся об их ночлеге.. А сколько денег заграбастаем мы на этом деле! Каждому бедняку — по скворечнику! Ха-ха-ха! И рабочим будет где голову приклонить. Станут они жить как птицы — между небом и землей! Люди добрые, присудите мне корону! Эй, минутку, если у кого-то остались еще сомнения относительно моих талантов, то знайте: траву и бечевку для гнезд будут нам доставлять из Америки, Европы и Японии… или еще проще — ввозить оттуда готовые скворечни. Это все, что я хотел сказать. Давайте-ка сюда корону!
ОПРОВЕРЖЕНИЕ Кихаху ва Гатхика сошел со сцены в полном недоумении: почему-то ему никто не хлопал. Он еще плелся к своему столику, когда к сцене ринулся, ловя ртом воздух, Гитуту ва Гатаангуру. Его переполняла злоба, губы дрожали, в уголках рта выступила пена. — Господин председатель, мы не затем собрались, чтобы осыпать друг друга оскорблениями и выслушивать возмутительные инсинуации. Не для того пришли мы сюда, чтобы нас поливали помоями. Единственная наша цель — это выявить путем честного состязании самого искусного грабителя. Счастливчик, которому достанется корона, наверняка будет назначен сторожевым псом иностранных капиталов и предприятий. Обогащая своих хозяев, он и себя не обидит. Кто из нас победит, зависит от удачи, и негоже раньше времени вступать в перебранку, оскорблять друг друга. А если здесь соревнуются в сквернословии, надо так и объявить. Мы обряд посвящения прошли и за словом в карман не полезем!.. И нечего пугать нас громилами. Я, Гитуту ва Гатаангуру, — да будет всем известно — тоже нанял молодчиков, таких, что и в страшном сне не приснятся. Они беспрекословно выполняют мою волю и готовы в порошок стереть любого, кто сунет нос в мои воровские дела. У моих головорезов одна страсть — наркотики. Приходится изводить на них горы бханга. Думаю вскоре от их услуг отказаться и нанять телохранителей из Англии или Франции. Ну а ежели кому охота вступить со мной в поединок, я сам, Гитуту ва Гатаангуру, и мой револьвер к вашим услугам. Эта жердь, Кихаху ва Гатхика, дерзнул назвать меня новичком, начинающим вором. Да знает ли он меня лично или же только слышал мое имя? Клянусь святой истиной, ему еще придется поползать у меня в ногах, пойти ко мне в обучение, начать с азов. О способах воровства, какими я владею, он и не подозревает. Недаром я себе такое брюхо отъел. Господин председатель! О чем говорил здесь долговязый? Что это за воровство такое? Подкуп кандидатов на провинциальных выборах? Если бы речь шла о парламенте, тогда еще понятно! А другие его хитрости? Белые чучела из пластмассы, которых он выдавал за живых карапузов? Теперь остановимся на его прожектерских идеях касательно дальнейшего развития воровства в нашей стране. Все, что он может предложить, так это строить скворечники, воробьиные гнезда. Смех, да и только! Кто купит такую ерунду? Господин председатель! Человек, назвавшийся Гатхики ва Кухуухия — или как там его, — видно, хочет, чтобы рабочие и крестьяне поднялись на нас с оружием в руках. Он добьется одного: вызовет их гнев, и тогда они прозреют и обратят против нас свои мечи, дубинки и ружья. Разве Гатхики ва Кихаху не понимает, что нашему народу до смерти надоело воевать? Или он хочет, чтобы власть в стране захватили коммунисты? Господин председатель, предлагаемый мной план развития в тысячу раз разумнее: торговать землей в горшочках, консервировать воздух, измерять, кто сколько надышит, специальными счетчиками. Рабочие и крестьяне дышать будут по нашей команде! Это надежный способ удержать их в кабале: при малейшем неповиновении повернем краник — и они на коленях!.. Друзья! Покажите этому Вачеке ва Гатхике, что вы не из тех, чей голос можно купить за кружку пива. Надеюсь, он слышит меня. Я, Гитуту ва Гатаангуру, не привык бежать с поля боя, уступая победу длинноногим и их костоломам. Нет, победа будет за нами! Не успел Гитуту дотащиться до своего места, как новый оратор вскочил со стула, он не удосужился даже подняться на сцену. И хоть на губах у него пены не было, как у Гитуту ва Гатаангуру, злобы в нем было не меньше. — Господин председатель! Я бы тоже хотел сказать словцо, ибо, как говорится, запертая в сердце мудрость тяжбы не выиграет… Извините! Меня зовут Итхе ва Мбуи. Я так понимаю, что мы собрались здесь похвастаться и поучить друг друга самым изощренным и передовым способам ограбления бедняков. Но мой предшественник — я имею в виду худерьбу с комариной рожей — допустил серьезный промах. Сын Гатхики, тебе не стыдно? Хвастаться перед нами тем, что ты обманываешь своих братьев по классу, воруешь у друзей и союзников! Если мы начнем грабить, воровать и обжуливать друг друга, мы погубим себя как класс! Лично мне ужасно стыдно, я крайне огорчен, потому что все мои дети ходили в так называемый "современный детский сад". Я-то думал, это европейское заведение, а выходит, меня надули. И я выкинул сотни тысяч шиллингов ради того только, чтобы мои чада проводили время в компании пластмассовых истуканов! Какая невыразимая гнусность! Этот Кихаху ва Гатхика просто жулик, брал такие деньги ни за что. Вот почему мои детишки так и не научились говорить по-английски. Сколько раз мне приходилось из-за них краснеть: люди моего круга обращаются к ним по-английски, а они отвечают на кикуйю. Их мать, Найина ва Мбуи, говорила мне: "Итхе, ничего европейского там и в помине нет. Белые дети в витрине ведут себя как-то странно, повторяют одни и те же движения, бегают по кругу как заведенные". Я же убеждал ее, что все в порядке: "Найина, англичане, да и все белые, люди сугубо принципиальные и последовательные, они не из тех, кто все время меняет занятия и привычки. Они любят игры, где приходится много бегать. Недаром именно англичане изобрели футбол, регби и крикет. Найина, пусть наши дети сызмальства усваивают европейские обычаи. Европейцем можно быть и с черной кожей". А теперь оказывается, права была она, а не я. Верно говорят: мужчины прислушиваются к советам женщин, когда уже поздно что-нибудь исправить. Господин председатель, никто не возражает — грабьте и обжуливайте бедняков, сколько душе угодно! Иначе откуда взяться нашему богатству? Никто из порядочных людей не усомнится в разумности такого положения вещей. Испокон веку так было и так будет всегда. Но когда человек обкрадывает и надувает себе подобных, это ни на что не похоже! Прямо в голове не укладывается. Еще смеет сотрясать воздух и требовать корону! Как же, держи карман шире! Одолжи у своей матери горшок и напяль на башку! Все, Кихаху, мои дети в твое заведение больше ни ногой! Велю жене, Найине ва Мбуи, — она у меня образованная, в Кембридже училась, — подыскать взамен что-нибудь действительно иностранное. Нам не надо хромоногих директрис и пластмассовых манекенов. Нам заграничное подавай! Не успел Итхе ва Мбуи сесть, как поднялся очередной оратор. Этот от переполнявшей его ярости грыз ногти и кусал губы. Его огромный живот свешивался едва не до колен. — Господин председатель! Меня зовут Фатхог Марура ва Кименге. Я буду краток. Предлагаю лишить Кихаху ва Гатхику права участвовать в состязании. Какая наглость — хвастаться здесь тем, что он спит с чужими женами! Действительно, господин председатель, моя жена убежала из дому. Теперь я знаю куда. Развратник, оскверняющий и разрушающий чужие семьи! Кихаху, ты негодяй! Клянусь женщиной, породившей меня на свет: будь у меня при себе ножницы, я бы тебя оскопил! Ублюдок, практикующий "Харамбе" в чужих постелях! Добро бы, господин председатель, Кихаху соблазнял жен бедняков или же их дочерей, но… но!.. — И Фатхог Марура в бессильной злобе плюхнулся на стул. Пещера загудела, как улей. Кихаху ва Гатхика сделался мишенью всеобщего негодования. Тогда он поднялся, чтобы защититься от нападок. — Господин председатель! Меня здесь оскорбляют, а я терплю. Но хватит, я требую положить конец издевательствам. И еще скажу кое-что без обиняков, не задумываясь о последствиях. Пусть все, кто здесь шумит, повесят своим женам замок на одно место, а ключ спрячут в банковский сейф. Я не виноват, что они "всегда готовы", я их этому не учил. А твоя жена, — тут Кихаху указал пальцем на Маруру ва Кименге, — истинный бог, я бы к ней ни за что на свете не прикоснулся, даже если меня замуруют с ней в подземелье. Не хочу перебегать дорогу школьникам и туристам… И еще я посоветовал бы присутствующим не бряцать оружием. У меня дома три винтовки, а в машине я вожу пулемет. И карман, как видите, у меня слегка оттопыривается, это неспроста. Я всегда вооружен с головы до ног. Пусть кто-нибудь посмеет меня задеть, у него искры из глаз посыплются… Господин председатель, Гитуту ва Гатаангуру оскорбил меня. Мы пришли сюда, чтобы побахвалиться всласть грабительским искусством. Я говорил одну лишь правду и никого не хотел обидеть. Действительно, ограбление посредством спекуляции земельными участками для меня уже пройденный этап, предшествовавший моим нынешним, более мудреным аферам. Нельзя воровать все время в одном и том же доме — хозяин в конце концов застигнет тебя на месте преступления. Я решительно отвергаю обвинения, высказанные в мой адрес Гитуту ва Гатаангуру, будто мои действия приводят к появлению в стране коммунистических настроений. Да я скорее руки на себя наложу, чем соглашусь, чтобы нами правили рабочие и крестьяне. Ведь их партия поклялась искоренить систему грабежа на земле. Что же мне тогда делать, работать собственными руками? Есть то, что полито моим потом? Снова дышать мелом и стоять с тряпкой у доски? Нет уж, мистер Гитуту… Кстати, именно ваш план захватить всю землю и весь воздух планеты чреват опасностью стремительного разрастания коммунизма. Если отнять у людей возможность дышать, им ничего не останется, как взяться за оружие. Ваша затея насквозь пронизана презрением к трудовым массам. Лучше все-таки маскироваться — прикрывать грабеж ложью. Не для того ли наши друзья — империалисты — подарили нам Библию? Они не дураки: внушали труженикам, что стремление к земным благам есть тщетная суета, что им надлежит молиться с закрытыми глазами. Неспроста я хожу на все молебны, посещаю все религиозные собрания, щедро жертвую на церковь. Так что лучше меня не трогай, Гитуту. А не хочешь угомониться, вызывай на дуэль. Я готов с тобой стреляться хоть сейчас, твое брюхо такая удобная мишень, я продырявлю его, как воздушный шарик. Что, струхнул? Тогда устроим бой между нашими наемными головорезами — прекрасный способ выяснить, чей бханг дурманит сильнее! Я тоже прошел обряд — спроси у твоей жены, какой я мужчина!.. Теперь отвечу на упрек Итхе ва Мбуи, будто я граблю своих же. Тоже мне, вор! Нечего ему делать на конкурсе, коли не знает, что стальной бур дырявит сталь! Заруби себе на носу, Итхе ва Мбуи: воры на то и воры, что одни вороватее других. Есть короли над королями. Коли такой простой вещи не постиг, иди к своей Найине ва Мбуи, помогай ей картошку чистить да золу из очага выгребать. Не будем терять время: давайте сюда корону — она моя! Однако "дополнительные разъяснения" Кихаху ва Гатхики только умножили число его врагов. Многие повскакали с места, и началась перебранка, как на базаре. Но внезапно наступила тишина. Кихаху, Гитуту и Итхе ва Мбуи выхватили оружие. Все забились под столики, опасаясь пули, затаили дыхание. Праздник едва не завершился плачевно, но распорядитель спас дело: он вскочил на сцену, прежде чем началась перестрелка, и заорал на публику, призывая ее занять свои места. Испепеляя друг друга взглядами, Кихаху, Гитуту и Итхе ва Мбуи опустились на стулья. Постепенно зал снова загудел. Распорядитель снова замахал руками, призывая всех к порядку. Затем он заговорил мягко и примирительно: — Спрячьте оружие. Нижайше прошу вас вспомнить, ради чего мы собрались. Здесь не место устраивать дуэли. Наша единственная цель — выявить лучшего грабителя. Хотелось бы напомнить, что среди нас находятся гости, семь представителей Международной лиги грабежа и разбоя, они скрупулезно регистрируют все, что здесь говорится и делается. Кому охота обнажаться догола на глазах иностранцев? Что о нас теперь подумают? Учинили скандал, да такой, что едва не дошло до перестрелки. Они изменят о нас мнение, лишат своего доверия. "Могут ли такие люди, — скажут они, — присматривать за нашим награбленным добром? Как им после этого отдавать в управление банки, фабрики, заводы, склады и магазины?" И нам конец! Они лишат нас своих объедков. Илморог придет в полное запустение. А винить надо будет самих себя — кого же еще? Более того, скажу начистоту: они просто нас разлюбят; как говорится, с глаз долой — из сердца вон. Мясо надо жарить на медленном огне… Прошу вас, умоляю, ну пожалуйста, наберитесь терпения! Каждый из соревнующихся сможет выступить и похвастаться своим искусством. Проявим взаимное уважение. Всякий ястреб — хищник, когда речь идет о современной охоте. Чтобы восстановить мир в пещере и в душах, предлагаю устроить перерыв, дабы утешить наши утробы. Желудок вора не так глуп, чтобы помалкивать, когда рядом полно жратвы. Каждый из вас может за свой счет отобедать в пещере — тут особая заморская кухня — или перекусить где-нибудь в самом Илмороге. Прошу вас, однако, не затягивать еду и выпивку, чтобы собраться вновь в половине третьего. Желающих выступить еще много. Прежде чем объявить перерыв, напомню присутствующим здесь дамам — женам, любовницам, подругам: по окончании конкурса состоится парад мод, в котором все вы можете принять участие, выставить напоказ бриллианты, золотые и серебряные украшения, рубины, танзаниты, жемчуг и так далее. Мы должны всячески развивать нашу культуру; вы знаете, что по женским нарядам и драгоценностям можно судить о достигнутом страной культурном уровне. Так что готовьте свои ожерелья, серьги, кольца и броши, не ударим в грязь лицом перед западной цивилизацией. Итак, в четырнадцать тридцать, не опаздывайте! А теперь кушайте на здоровье, bon appetit, mes amis! [29] Распорядителю громко и долго хлопали. Все развеселились, предвкушая обед, добродушно и непринужденно болтали. "Ангелы ада" принялись наяривать конголезскую мелодию. Одни, не покидая своих столиков, заказали обед и выпивку, в подробностях обсуждая едва не возникшую вооруженную потасовку. Другие потянулись к выходу. — Выйдем, — коснувшись руки Вариинги, предложил Гатуирия. — Скорее на свежий воздух, не то я здесь задохнусь. — Мне тоже невмоготу, — ответила та, вставая. — Пойдем подышим бесплатно, пока Кихаху и Гитуту не запечатали кислород в консервные банки. — Как это ты пронюхал про "Ангелов ада"? — обратился тем временем Мваура к Мутури. — Какое ты к ним имеешь отношение? Мутури достал записку, которую сунули Вариинге выселявшие ее из дома бандиты. — Взгляни, — Мутури передал клочок бумаги Мвауре. — Уверен, это твоя записка. Мваура прочел и нахмурился: — Где ты ее взял? — Нашел в твоей машине. "Зачем Мутури здесь? — опять забеспокоился Мваура. — Кого выслеживает? Так и зыркает по сторонам. Не меня ли? Сам небось записку написал, а теперь врет, будто нашел ее в матату. Думает, что я себя выдам. Кто они, эти Мутури с Вангари?" Мутури не заметил ожесточения во взгляде Мвауры, потому что в этот момент повернулся к Ван-гари. — Пойдем и мы, — предложил он ей. Оркестр все играл конголезскую мелодию. Мваура решил напрямик спросить Мутури и Вангари, кто прислал их в Илморог. "Пусть видят, что я знаю про их секретное задание. А то радуются небось, что их дурацкие разговоры в матату усыпили мою бдительность". — Интересно, — начал он, по подавил свое первоначальное намерение и на ходу переиначил вопрос: — Вангари тоже наденет золото, бриллианты и жемчуга? Все трое рассмеялись и пошли к выходу. Мваура почувствовал облегчение: ему как будто не о чем волноваться. — Я бы надела серьги из сушеных кукурузных початков, — ответила Вангари. — Только вот уши в юности не проколола. — Почему? — спросили Мутури и Мваура. — Время было не то, чтобы украшать себя цветами да ожерельями. Дороже бриллиантов были тогда свинцовые пули, которыми сражались борцы за свободу Кении! — В голосе Вангари звучала гордость, она знала: в исторических переменах, происшедших у нее на родине, есть и ее заслуга. Мваура внезапно оборвал смех и снова помрачнел. Сердце учащенно билось; снова его одолевали сомнения: "А что, если ты сам привез сюда свою погибель? Так собака таскает на себе чумную блоху!" Мутури же любовался Вангари. Ее лицо светилось гордостью и счастьем. "Вангари — наша героиня, — думал рабочий. — И таких, как она, немало. Пожалуй, я расскажу ей, зачем послан сюда, с каким заданием. Она не откажется помочь мне. Впрочем, время пока не пришло, понаблюдаю за ней еще, там видно будет". Он снова вспомнил гнусных хвастунов из пещеры и едва не застонал от гнева. — Давайте-ка выбираться отсюда, — поторопил он Вангари и Мвауру. — Скорее из этого притона!
Глава пятая
1
Вариинга и Гатуирия, выйдя из пещеры, некоторое время постояли на тротуаре. Окружавшие Илморог горы и долины искрились под солнцем. Мир и спокойствие царили вокруг. — Несмотря на то что в пещере яркое электричество, меня будто целую вечность продержали в кромешном мраке. — Вариинга глубоко вдохнула свежий воздух и добавила певуче: — Да будет солнце над нами! Хвала божьему свету! — И свету нашей родины! — закончил Гатуирия. — Уж не тот ли это свет, — спросила Вариинга с легкой иронией, — который сиял в пещере? — Нет, — ответил Гатуирия, — я про то сияние, что мракобесы из пещеры стараются погасить. Они неторопливо брели к шоссе. Постепенно у них завязался разговор или, скорее, речитатив, будто они соревновались в искусстве импровизации, воскрешая в памяти строчки, услышанные во сне. Гатуирия.Славься, гордая земля!
Славься, Кения — гора!
Страна моя, родимый край!
Зеленые поля, омытые дождем,
Приносят нам обильный урожай.
Как прекрасны наши горы
И глубокие озера!
От Турканы до Найваши,
От Нам-Лолве до Момбасы
Чернота бескрайних пашен.
Свет отчизны так прекрасен!
Слава тем, кто за нее сражался,
Защитить ее холмы старался,
Нам горы в часовые назначила природа,
Но гор надежней героизм народа.
Земля взывает к нам,
Я слышу ее голос:
Журчит в реках вода,
В полях тучнеет колос.
Ведь выкуп за нее сполна уплачен
Отцовской кровью, материнским плачем…
Мужчины, женщины и дети
Рвут рабства унизительные сети…
Империалисты, Кения не ваша!
Конец разбою настает,
Хозяин истинный сюда идет!
Жалкий и печальный вид,
Глиняный горшок разбит!
Я вернулась из Найроби,
И теперь в моей утробе
Вырос непонятный плод,
Не ребенок, а урод!..
Качу — в — Уганду
Качу — в Уганду
Качу — в Уганду-у-у-у
Качу Ка-чу
Ка-чу-уууу-у!
2
Жансита Вариинга родилась в Каамбуру, округ Гитхунгури Киа Вайрера, в 1953 году. Кенией тогда правили британские империалисты; они ввели репрессивные законы и как раз в то время объявили чрезвычайное положение. Кенийские патриоты во главе с Кимати ва Вачиури дали клятву единства и провозгласили, что поскольку смерть есть всего-навсего факт жизни, то они будут сражаться с английскими карателями (прозванными "джонни"), пока не прекратятся муки и страдания народа. Орудийные залпы и разрывы бомб в Ньяндарве и вокруг горы Кения напоминали раскаты грома. Англичане и их черные слуги из отрядов "внутреннего охранения" — выродки, продавшие страну ради спасения своей шкуры, — почувствовав, что партизаны мау-мау берут над ними верх, усилили жестокие гонения на рабочих и крестьян по всей стране. В 1954 году был схвачен отец Вариинги и отправлен в концлагерь Маньяни. Через год арестовали мать, она отсидела изрядный срок в тюрьмах Лангаты и Камити. Вариинге не было тогда и двух лет. За ней приехала тетка из Накуру. Муж тетки работал в ту пору на железной дороге, а впоследствии в муниципальном совете Накуру. В этом городе и росла Вариинга вместе с двоюродными братьями и сестрами. Первое время семья жила на усадьбе "Панья", а перед провозглашением независимости переехала в муниципальный дом в пятьдесят восьмом квартале. Вариинга ходила в начальную школу "Бахарини" неподалеку от поселка Шаури Яко. Ее старший кузен был определен в другую школу — "Бондени" в Мадженго. Она бегала на уроки мимо крытых травою хижин бедняков, окружавших городскую скотобойню. Перед самым звонком Вариинга занимала место в строю — начиналась утренняя перекличка. Иногда после школы или же в выходные Вариинга с двоюродными братьями бродила по улицам, разглядывая людей, дома и витрины магазинов. Изредка в муниципальном зале "Мененгаи" устраивались концерты и представления, а в Камукунджи бесплатно показывали кино. Еще они гуляли по дороге, ведущей к озеру Накуру, спускались к берегу, любовались фламинго и другими птицами. Можно было сходить и на трек, где устраивались авто- и мотогонки. Но больше всего Вариинга любила не уличные зрелища, а церковные службы. Ей нравилось молиться и слушать проповеди. Каждое воскресенье тетка брала ее с собой на утреннюю мессу в церковь святого Розария. Там ее и крестили, дав имя Жасинта. Вариинга избегала разглядывать картины на стенах и витражах церкви, хотя взгляд ее против воли то и дело скользил по ним. На них был изображен Иисус на руках у Девы Марии или на кресте; дьявол с двумя рожками, как у коровы, и с обезьяньим хвостом отплясывал на одной ноге бесовский танец, в то время как ангелы ада с вилами в руках поджаривали грешников на огне. Дева Мария, Иисус и ангелы господни были белые, как европейцы; дьявол и его свита — черные. По ночам Вариинге снился один и тот же кошмар. Вместо Иисуса на кресте оказывался дьявол, он был белый, походил на откормленного европейца, которого она видела однажды в спортивном клубе "Рифт-Вэлли". Его распинали люди в обносках, вроде тех, что заполняли улочки Бондени. Через три дня дьявол испускал дух, и тогда черные люди в костюмах и галстуках снимали его с креста, он оживал и принимался дразнить Вариингу. Когда в 1960 году за три дня до ухуру ее родителей отпустили на волю, выяснилось, что принадлежавший семье клочок земли в Каамбуру перешел в собственность ополченца, воевавшего на стороне англичан. В поисках новых пастбищ и крова над головой им пришлось перебираться в Илморог. Родители навестили Вариингу и, узнав, что она учится в школе "Бахарини", позволили ей остаться в Накуру. Скорее бы ей доучиться, молили они бога, дочка поможет им вырваться из цепей нищеты. Вариннга все схватывала на лету, неизменно была первой ученицей в классе. Она даже натаскивала по математике своих двоюродных братьев, в том числе и того, который был на класс ее старше. Когда объявили результаты выпускных экзаменов, Вариинга оказалась среди лучших, и ее приняли в среднюю школу Накуру. То был самый безмятежный период в ее жизни, Она не могла нарадоваться школьной форме: синяя юбка, белая блузка, белые чулки и туфли! Счастливые слезы застилали взор. Так продолжалось года два, все ее мысли были направлены на то, чтобы прилежно учиться и окончить школу с наивысшими баллами. С учебниками под мышкой она торопилась мимо крытых соломой хижин в сторону Лэдхиз-роуд, сворачивала направо у муниципальной клиники. Оставив слева дорогу на Бондени, а центр города справа, она шагала по улице Роналда Нгалы мимо церкви святого Розария, затем пересекала улицу Огинги Одинги и выходила прямо к школе. По вечерам она шла назад по улице Огинги Одинги, мимо стадиона "Афраха", взбиралась вверх по крутой улочке и, минуя клинику и бойню, выходила к пятьдесят восьмому кварталу. Если же ей давали поручения в город, путь к центру лежал мимо суда и муниципальных учреждений. Она никогда не задерживалась, не слонялась бесцельно по улицам: из дома — в школу, из школы — домой. Бегая по привычным тропкам, она воображала себя королевой учености, жила в мире сладких грез, предощущая свой юный расцвет. Горячая кровь стучала в чистом сердце. Ее самой заветной мечтой было успешно закончить среднюю школу и поступить в университет. Хотелось изучать механику, электротехнику, инженерное дело. От одного слова "инженер" сердце ее учащенно билось; она зажмуривалась, стараясь заглянуть в свой завтрашний день. "Странно, — думала она, — почему девушки почти никогда не выбирают такие занимательные профессии, отдавая это интереснейшее поприще целиком на откуп мужчинам?" — Любая работа нам по плечу, стоит только хорошенько захотеть и поверить в свои силы! — говорила Вариинга подругам, а те только посмеивались над ее несбыточными мечтами. Но в конце концов она их убедила, что сумеет выучиться на инженера — ведь никто в их классе, в том числе и мальчишки, не мог тягаться с ней в математике. Познания Вариинги снискали ей известность в соседних школах. Порядок жизни Вариинги был размерен и строг и не отличался особым разнообразием: с утра до ночи занятия; по воскресеньям походы в церковь, работа вместе с теткой в поле — муниципальный совет отвел им участки в Баари и Килимани на склонах кратера Мененгаи. И так неделя за неделей. Настойчивость и трудолюбие, с какими Вариинга бралась за любое дело, хорошо знали все жители пятьдесят восьмого квартала. Однажды в субботу, часа в четыре пополудни, когда она с двоюродными братьями возвращалась с полей, Вариинга впервые в жизни увидела человеческую смерть. Они миновали новый корпус главной муниципальной больницы, пересекли шоссе Накуру — Найроби и уже приближались к пятьдесят восьмому кварталу. На переезде толпились люди — какой-то бедняга попал под поезд. Труп был так обезображен — сплошное кровавое месиво, — что никто не мог его опознать. У Вариинги появилась резь под ложечкой — точно бритвой полоснули, — ее едва не стошнило. Оставив братьев, она стремглав помчалась к дому. Вариинга панически боялась вида крови. Узнав про чью-то смерть или встретив похоронную процессию, лишалась сна, ночи напролет ломала голову над загадкой жизни. Считанные минуты назад человек дышал, думал, и вот что от него осталось! Потрясение было столь велико, что с того дня Вариинга старалась за милю обходить злосчастный переезд. Такой вот и росла она в Накуру: прямодушной, чистой, живущей по законам добра, которые ей прививали в школе и которые она постигала на собственном опыте. Когда Жасинта Вариинга перешла в третий класс второй ступени, ее длинные волосы заблестели, грудь стала упругой, как спелые плоды налились щеки. Муж тетки способствовал тому, что она сбилась с дороги, которой идут простые труженики, и связалась с теми, кто представляет класс мелкой буржуазии, — с теми, кто "носит галстуки". Дядя ради спасения своей шкуры верой и правдой служил белым. С приходом независимости такие люди стали наследниками англичан, им отошли земли и различные доходные предприятия. Но дяде повезло меньше, чем другим. Мизерное жалованье не позволяло ему подняться по крутым ступеням тщеславия. Денег едва хватало на еду и одежду, на плату за обучение детей и другие домашние нужды. Несмотря на скудные возможности, дядя любил жить "красиво", водил дружбу с теми, кто стоял выше его на общественной лестнице. В его компании было несколько богачей из Ньоро и Нгорики — обладателей тугих кошельков, которые пировали в дорогих отелях и клубах, куда раньше черных не пускали. Дядя надеялся, что, водя дружбу с богатыми, и сам разбогатеет. Кто усердно ищет клад, тот в конце концов его находит. Поэтому он не противился, когда дружки им помыкали, был у них на посылках, не обижался, если при встрече ему подавали не руку, а один палец. Так еще в доколониальные времена феодальная знать обращалась со своими вассалами. Он ничем не брезговал, и со временем ему начали перепадать кое-какие объедки. Богач из Нгорики выхлопотал ему участок в Самбуго, помог купить в рассрочку дом. "Ты мне — я тебе! — гласит поговорка. — Не забывай, что хлебосольный хозяин придет к тебе с ответным визитом". Дядя получал подачки не задаром; добро просто так на дороге не валяется, о нет! Он обещал богачу из Нгорики "нежной цыплятинки", которой предстояло стать Вариинге. "Цыпленка" должны были общипать по перышку, чтобы отдать мякоть беззубому старцу. Вариинга и не подозревала, что ее фактически продали в рабство. За ней не бегали, ее не домогались, начали издалека, так подступаются к горячему блюду — с краев, поначалу осторожно, а потом приканчивают без остатка. Дядя велел Вариинге заходить в муниципалитет после школы и забирать кое-какие вещи для дома. Там она каждый раз сталкивалась с Богатым Старцем из Нгорики. Старец подвозил их с дядей до пятьдесят восьмого квартала, или же Вариинга сходила у городской бойни. Однажды школьная подруга пригласила Вариингу в гости в Бахати. Среди тех, кто был на вечеринке, оказались дядя и Богатый Старец из Нгорики. Домой ее вез Старец — в "мерседесе". Постепенно Вариинга и Старец познакомились ближе. Он преследовал ее без устали, не давая передышки. Выходя вечером из школы, она всякий раз натыкалась на "мерседес", поджидающий ее на улице Огинги Одинги рядом с церковью святого Розария. Старец предлагал подвезти ее, но ехал не прямой дорогой, а кружной, не спеша, подъезжая прежде к кратеру Мененгаи, или к озеру Накуру, или к ипподрому. Он начал давать ей деньги на карманные расходы — сходить в кино, или на скачки, или на сельскохозяйственную выставку. И поскольку Вариинга не отказалась от его ухаживаний сразу, когда он только издали ей улыбался, она постепенно свыклась с ним и в конце концов уже ни в чем не могла ему отказать. Дважды они встретились в кинотеатре "Эрос", третий раз он назначил ей свидание в "Одеоне". Жизнь Вариинги переменилась. Перед ней словно бы открылась дверь в иной Накуру, о существовании которого она и не подозревала. Внезапно мир засверкал, яркий свет озарил широкую накатанную дорогу, Вариинга услышала голоса, нашептывающие ей нежные и терпкие слова любви: "Вариинга, моя дорогая, глупо приковывать себя к книгам, когда повсюду в Кении полно спелых, сочных фруктов и других чудесных соблазнов, способных разбередить душу и обогреть тело…" У Вариинги точно выросли крылья. Она расправила их и взмыла ввысь со своим Старцем. Ей все очень нравилось, с каждым "полетом" восторги все возрастали. Старец ободрял ее, говорил, что ни о чем не надо беспокоиться, что ради ее прелестей он готов развестись с женой. Вариинга пребывала в каком-то взвинченном состоянии. Постепенно она возненавидела школу — учеба подрезала ей крылья, тянула железными гирями к земле, а ей хотелось свободно парить, взмыть к небесам, сулящим нескончаемые радости. Растаяли мечты об университетском образовании, о дипломе инженера — так к полудню исчезает утренняя роса. На уроках она считала минуты, секунды — скорее бы суббота и очередной "полет" к свободе, к настоящей жизни. Она быстро выучилась лгать, не раз обманывала тетку, уверяя ее, будто едет на выходные к родителям в Ил-морог. На самом деле на автобусной остановке ее ждал Старец в "мерседесе", по асфальтовому шоссе они неслись к Найваше, катались на моторной лодке по озеру или гуляли по берегу, наблюдая за рыбаками. Старец не упускал случая назидательно поразглагольствовать о том, что на маленького живца клюет крупная рыбка — рыбы покрупнее питаются мелюзгой. "Так и глотают заживо, целиком!" — гоготал он. Иногда они ездили в охотничьи угодья Хот Спрингз. Старец придумал игру "Охотник и добыча": с пистолетом в руке он гнался за Вариингой, а когда наконец ловил — выстрелом в воздух оповещал о своей победе. Юная Вариинга, легкая на ногу, без труда уходила от преследований и пряталась в кустах. Он тщетно искал ее, злился, принимался звать. Тогда Вариинга научилась притворяться, будто первая устает. Старец догонял ее, палил в воздух и сиял от счастья. Затем наступал черед Вариинги быть "охотником", и, даже если она до этого действительно уставала, одно прикосновение к пистолету придавало ей новых сил, она быстро настигала Старца и победно нажимала на курок. Но однажды эта игра ей наскучила, и она выстрелила прежде, чем догнала его. Она не могла бы объяснить, как это произошло — может, ветка задела за курок, — но так или иначе пуля прошла в каком-то дюйме от Старца. Его била дрожь, он покрылся испариной. Вариинга расплакалась — не станет она больше играть в эту дурацкую игру! Старец криво улыбнулся, делая вид, что ничуть не напуган, и сказал, что без этой игры не может жить, однако оружие ей доверять нельзя, поэтому отныне охотником будет только он. — А если вы выстрелите ненароком? — спросила Вариинга. — Я не ты, — шутливо ответил Старец. — Уж я не промахнусь. Они посмеялись. Он и впрямь не желал отказываться от глупой игры. Это превратилось у него в настоящую манию. Богатый Старец обычно бронировал номер в одной из гостиниц на берегу озера. Вечером, после обильного ужина с вином, они запирались в отведенной им комнате и предавались любовным утехам. На следующий день он отвозил ее в Илморог. Она сходила на автобусной остановке, бежала домой, наспех здоровалась с родителями и, едва перемолвившись с ними словом, возвращалась к своему Старцу, который терпеливо ее ждал. И снова "полет", очередная гостиница, продолжение сладкой жизни. Говорят, что у сладости свои уста и своя утроба, ее укус ядовит. Однажды по пути в школу, неподалеку от церкви святого Розария, у Вариинги закружилась голова. Она села на землю, ее стошнило. Когда дурнота прошла, Вариинга побрела дальше, решив, что съела что-то неподходящее. Но день ото дня ей делалось все хуже, приступы участились. Прошло еще некоторое время, и обнаружились тревожные признаки — она беременна! Ее обуяла паника. Она знала: такое случалось со многими ее сверстницами, но не допускала мысли, что сама попадет в беду. Однако это произошло — вне всяких сомнений! "Что сделано, то сделано", — сказала себе Вариинга. Так или иначе, ноги ее еще носят и земля под ней не разверзлась. Ведь Старец уверял, что женится на ней, согласно местному обычаю, или даже разведется с нынешней супругой и обвенчается с Вариингой в церкви. Так что ее беременность не будет для него неприятным сюрпризом. В наше время многие девушки еще до свадьбы оказываются в положении — теперь это в порядке вещей. Нередко невесты идут под венец на восьмом или девятом месяце. Бывает и так, что сегодня в церковь, а назавтра — рожать. Слыхала Вариинга и про случай, когда невеста родила прямо в храме. Другая не дошла до церкви, разрешилась по дороге, а жених со священником зря прождали ее на паперти. Нет, Вариинга не боялась за себя: вера в любимого прогоняет страх. В субботу вечером, в найвашской гостинице, она все ему рассказала. Старец вздрогнул, словно его укусил в зад скорпион, но тут же взял себя в руки, не стал жаловаться на судьбу и причитать. "Все хорошо!" — решила Вариинга. Ночью ей снилось, как она рвет школьные цепи, приходит конец игу учителей и экзаменов; она погружается в волны наслаждения; плывет по руслу новой Кении, ее жизнь сплошь состоит из удовольствий; нет тягостных мыслей, она свободна, свободна!.. Но наутро Старец преподал ей урок, который она никогда не забудет. Он спросил, почему она не предохранялась, как это делают другие. Почему не принимала пилюли? Почему еще месяц назад ему не сказала? Впрочем, ясно почему — она сама толком не знает, от кого беременна! — Если бы я был у тебя один, этого бы не случилось. Иди и поищи того молодца, который втянул тебя в беду, — пусть он на тебе женится или обстряпает аборт. Я-то думал, что имею дело с невинной школьницей и она не станет меня огорчать. На такой я рад был бы жениться, она стала бы мне утешением на старости лет. А оказывается, я подобрал публичную девку! Вариинга обомлела, она не могла ни плакать, ни кричать, ни возражать. Словно язык отнялся, будто знаменитый Камири ее околдовал. Мир сделался неуютным, враждебным. Яркий свет, что еще недавно сверкал перед ее взором, погас. Дорога, казавшаяся широкой и прекрасной, сузилась и заросла колючками. Теперь она, сулившая раньше привести на небо, круто спускалась в ад. Море наслаждений оказалось на поверку геенной огненной! А ковер из цветов, по которому она ступала, на самом деле был соткан из терниев! И нет крыльев за плечами, лишь чугунные оковы на ногах… Вариинга не помнила, как вернулась в Накуру, как вышла из "мерседеса", ставшего могилой ее чистоты и достоинства. Высадив девушку, Старец развернулся и покатил к своим владениям в Нгорику. Невидящими глазами смотрела Вариинга вслед своей иллюзорной надежде. Она осталась одна в целом мире; колючки ранили сердце, впивались в ноги, которые сами несли ее к пропасти, — да, она сама выбрала такую судьбу. Выбрала или же ей эту участь навязали? Вариинга стояла на автобусной остановке, ее взгляд блуждал по видневшемуся невдалеке зданию вокзала Накуру, по дороге, ведущей в Элдорет… Вон бар "Амигос", Кениата-авеню, магазины, лавки… Куда ей теперь податься? Она медленно брела в сторону городского рынка, зашла в гостиницу "Ньоро", села за свободный столик в дальнем углу, заказала чай, пытаясь взять себя в руки. "Господи, что же мне теперь делать?" — вновь и вновь спрашивала она себя. Она знала, что не найдет сочувствия ни у тетки, ни у дяди, ни у двоюродных братьев, ни у учителей, ни у одноклассниц. У Вариинги не было таких родственников или друзей, которые сами предложили бы помощь. На это рассчитывать не приходилось… К чаю она не притронулась, расплатилась, вышла на улицу. Добравшись до дому, сразу легла. Хотела помолиться на ночь, но ничего из этого не вышло. Пробовала плакать — может, стало бы легче, но слезы не шли. В те мучительные дни Вариингу некому было утешить, никто ей не сказал: "Успокойся, дитя мое, я научу тебя, как выйти из затруднения". Напротив, ее пытка еще усугублялась тем, что дома надо было напрягать все силы, чтобы не выдать себя. Только ночью она давала волю слезам: "Как же спастись?" Увы, обратиться за советом ей было не к кому. Вариинга решила посвятить в свою беду самых близких подружек по школе, но не прямо, а так, слов-по бы речь шла о ком-то постороннем. В ответ она услышала такие рассказы, что кровь стыла в жилах: например, историю про девушку, выпившую смесь чая, хииы, аспирина и еще каких-то лекарств. Вариинга лихорадочно перебирала возможные выходы из создавшегося положения. Ей бы впору сквозь землю провалиться, чтобы никто ее больше не увидел — ни в школе, ни в Накуру, ни вообще в Кении!.. Как-то, набравшись смелости, она отправилась к доктору Пателю, известному во всем Накуру тем, что он делал подпольные аборты. Было это в субботу утром. Она взяла с собой все отложенные деньги из тех, что дарил ей Старец, а тетке соврала, будто идет к учительнице за книгами. Вариинга брела по улицам наедине со своим горем; пересекла площадь, застроенную соломенными хижинами, вышла к Лэдхиз-роуд, но свернула не как обычно на ведущую к школе Нгала-авеню, а в сторону центра. Прежде, по дороге в школу, о чем только она не грезила! Теперь же ее душу захлестнула безмерная горечь: девичьи мечты стремительно расцветают в юную пору, но так же быстро увядают, точно цветы в засуху. Она шла по Кениата-авеню в сторону почтамта и ресторана "Голова оленя". Около здания Кенийского коммерческого банка Вариинга остановилась и, оглядевшись, свернула налево. Она ускорила шаг, боясь встретиться взглядом с прохожими. У книжного магазина "Гора Кения" она задержалась, разглядывая витрину, потом зашла внутрь, порылась на полках и снова вышла на улицу. Сердце так громко билось, словно ухала сова. Вариинга постояла, убедилась, что знакомых вокруг нет, и решительно направилась к дверям клиники, но, уже ступив на порог, заметила вдруг соседку из пятьдесят восьмого квартала. Вариингу обуял такой стыд, будто ее поймали с краденым, и она пустилась наутек. В следующую субботу она отправилась к подруге, с которой вместе училась еще в начальной, а затем и в средней школе. Подружка после второго класса поступила на курсы медсестер при центральной муниципальной больнице. Вариинге повезло: она застала подругу одну. Они поболтали о том о сем — о школе, об учителях, одноклассниках, экзаменах. Вариинга ждала удобного случая, чтобы заговорить о своей беде. Но только открыла было рот, как почувствовала, что к горлу подступил комок. Так и не смогла поведать свой секрет. Вместо этого стала расспрашивать девушку о курсах, будто тоже решила учиться на медсестру. Поболтав еще некоторое время, Вариинга заторопилась домой. Подруга проводила ее до правительственной резиденции на шоссе Накуру — Найроби и повернула назад. Когда Вариинга осталась одна, у нее подкосились ноги. Хотелось закричать подруге вслед, вернуть ее… Она побрела по шоссе в сторону Найроби с таким видом, будто выпила спиртного или накурилась бханга. Ноги отказывались повиноваться, она не замечала мчащихся в обе стороны машин; между тем стемнело, зажглись уличные фонари. Она шла и шла без цели. В одном месте едва не налетела на дерево. Только тут до ее сознания дошло, что она стоит на повороте в Бахати. Обогнув забор мужской средней школы, Вариинга направилась к кратеру Мененгаи — она бросится в огромную дыру, как тот индус, что въехал туда однажды на машине и разбился насмерть. Еще ребенком Вариинга часто слышала, будто кратер населяют духи, которые по утрам бреют деревья и кустарник острыми лезвиями и раз в год поджигают траву. Когда индус упал в кратер, пошла молва, что его затащили туда духи, потому что он ненароком увидел, как они бреют кусты и скачут, играя, по верхушкам деревьев. Вариинга была бы только рада, если духи схватили бы ее и унесли из Накуру — хоть на тот свет!.. Тут она вспомнила про школьный плавательный бассейн. Вместо того чтобы взбираться ночью к кратеру, она прыгнет в воду и покончит разом со всеми бедами. Вернувшись назад, она ступила на вьющуюся среди школьных построек тропку. В освещенных окнах видны были ученики. Сердце заполыхало огнем. Она зашагала быстрее, моля бога, чтобы ей никто не повстречался. В колониальные времена в эту школу принимали исключительно белых. Но после достижения независимости ее открыли для детей обеспеченных кенийцев. Кое-кто из учеников жил в городе, но большая часть — в общежитии. По вечерам они готовили в классах домашнее задание. Их-то и видела Вариинга в окнах — склоненными над книгами. Она свернула с дорожки, ведущей к спальному корпусу, и направилась к бассейну. Пока ей никто не встретился — видно, бог услыхал ее молитвы! Последний поворот вдоль учебного корпуса в конце школьной территории — и она у бассейна. Здесь было темно, свет из окон так далеко не доходил. Она уже подошла к бассейну, как вдруг раздался мужской голос: — Что ты здесь делаешь? Вариинга вздрогнула и обернулась. Наверно, духи из кратера Мененгаи спустились за нею с гор. Значит, они и впрямь существуют!.. Но голос принадлежал школьному сторожу, который стоял за невысокой живой изгородью. — Я тут в гостях, — солгала она. — Мистер Камау — мой брат. Я всю неделю у него пробуду… А сейчас гуляю перед сном. Вариинга боялась, что сторож не поверит ей. Постояв несколько секунд в нерешительности, она вернулась на центральную аллею и побрела назад к шоссе. "Что же, вечно бродить по тернистым дорогам? Чтобы непрестанно ныло сердце? — стучало у нее в висках. — Оказывается, покончить с собой не так-то просто. Значит, даже наша жизнь нам не принадлежит, мы не вправе расстаться с нею, когда становится невмоготу…" Раздумывая над этим, Вариинга дошла до железнодорожного переезда. И тут вспомнила беднягу, раздавленного поездом. Не смогли даже опознать труп. Его имя осталось для всех тайной, словно он и не жил никогда. Такая смерть, решила Вариинга, ей больше всего подходит. Итак, завтра она бросится под колеса! Дождется поезда здесь, на переезде, и упадет на рельсы. Стальные колеса превратят ее в крошево. Впервые за все время она помолилась богоматери, искренне прося у нее смерти. "Пресвятая Дева Мария, услышь меня, утоли мою печаль кровью из ран Иисуса! Аминь". В первый раз с тех пор, как Старец из Нгорики "заразил ее проказой", Вариинга ощутила относительное спокойствие, стала даже нашептывать слова гимна, который пела, когда бывала счастлива, но на сей раз в нем сквозила тоска:Молю тебя, всевышний,
Дай мне душевный покой!
Пусть сердце в груди воскреснет,
Как воскрес повелитель мой!
Перевези меня через реку,
Ты, утоляющий голод и жажду,
Отдых дающий уставшим!
Качу — в — Уганду!
Качу — в — Уганду!
Качу — в — Уганду-у-уу!
И сердце забилось в такт:
Качу — в — Угапду!
Качу — в — Уганду!
Качу — в — Уганду-у-уу!
Глава шестая
1
Незадолго до трех часов пополудни Вариинга и Гатуирия вернулись к пещере, чтобы присутствовать на вечернем отделении конкурса современных воров и бандитов. Им показалось, что они опоздали. Робин Мваура стоял у входа, прислонившись спиной к стене, словно специально их караулил. — Ага! Я думал, вы уже не придете! — По его тону можно было понять, что он чего-то не договаривает. — Разве уже началось? — спросил Гатуирия. — Нет еще. — Где Мутури и Вангари? — спросила Вариинга. Мваура ответил не сразу. Встав между Вариингой и Гатуирией, он положил им руки на плечи, увлекая в сторону от пещеры, подальше от чужих ушей. Они последовали за ним к повороту. Мваура молчал. Потом, опасливо осмотревшись, зашептал: — Бежимотсюда немедленно! — Почему? — хором спросили Гатуирия и Вариинга. — Потому… потому что здесь пахнет дракой. — Дракой? — недоумевали молодые люди. — Чего это вдруг? — Нас могут обвинить в том, что мы привели сюда двух помешанных, — наконец выпалил Мваура. — Еще в Кинеени я смекнул, что Вангари и Мутури доверять нельзя. Ежели меня спросили бы, я не велел бы их пускать в пещеру, где столько важных шишек, да к тому же иностранные гости. Мутури и подобные ему могут устроить крупные неприятности таким уважаемым людям. Готов биться об заклад… у этой пары целая свора сообщников. — Что нибудь случилось, пока мы обедали? — спросил Гатуирия. — Тебя выбросили из пещеры, как Ндайю ва Кахурию? — Где Вангари и Мутури? — спросила Вариинга, сгорая от нетерпения. — Ты вроде той ящерицы, которую бог послал с важным известием к людям. Говори же скорее! — Начну с самого начала, а потом решим, как нам быть… — И Мваура рассказал им, что произошло.2
— Когда первое отделение закончилось, вы вдвоем куда-то ушли. Мы вскоре последовали вашему примеру, надо было заглушить урчание в пустых желудках. "Пойдем в Нжеруку, там хорошо жарят мясо. Обед в пещере нам не по карману", — решили мы и отправились в одну мясную лавку, где роем вились мухи, зато название с большой претензией: "Хилтон", И снаружи зазывный плакатик: "Нигде так не накормят, как у нас!" Заказали четыре фунта мяса. Платили мы с Мутури пополам. Пока мясо жарилось, мы ждали в задней комнате. Нам с ним подали пиво, а Вангари попросила татино. Затеял разговор Мутури. Начал с того, на чем остановился в пещере: "Как сказал ночью в матату Мваура, я на этой земле жизнь прожил и много чего повидал. Кем только не работал! Всю Кению обошел, был очевидцем множества событий. Однажды, работая школьным сторожем в Накуру, спас девушку, которая собиралась на себя руки наложить. Дело было поздним вечером около бассейна. Увидев, как она идет крадучись вдоль кустов, я спросил, что она тут делает одна в такой час. Она ответила, что гостит у брата — учителя, и сразу ушла. На следующий день я случайно встретился с ней на переезде, и на моих глазах она едва не бросилась под поезд. Божий приговор обжалованию не подлежит. Какая-то сила заставила меня обернуться. Поверите, я вытащил ее из пасти смерти. Она лишилась сознания. К счастью, в ее сумочке оказался конверт с адресом: она жила в пятьдесят восьмом квартале. Я доставил ее домой, а сам продолжал свой путь в Бондени. Почему я об этом вспомнил? Увиденное и услышанное в пещере превосходит все чудеса, какие только со мной случались". Гатуирия и Вариинга изумленно переглянулись, Мваура же продолжал: — Тут в разговор вступила Вангари: "Верно говорят: из одной утробы появляются на свет и вор, и колдун. И в моей жизни не было ничего подобного тому, что мы увидели в пещере". Я помалкивал, хотя прекрасно знаю, что мелков воровство не такая уж скверная штука. И в разбое, ежели все шито-крыто, тоже ничего зазорного нет. А Мутури так высказался: "Грабитель хуже злого колдуна". Тут я ему возразил. Колдун, говорю, хуже вора. Вор крадет имущество, но не отнимает жизнь, А имущество — дело наживное. В это время нам принесли мясо на деревянном подносе. Изжарили отменно! Я достал нож и порезал его. Пока мы ели, Мутури рассказал историю о воре и колдуне: "Давным-давно в одной деревне поселился беспардонный вор, прямо-таки бич для всех жителей. Промышлял он так ловко, что его никак не удавалось схватить с поличным. В той же деревне жил злой-презлой колдун, все его очень боялись. Его чары были опаснее, чем у знаменитого Камири. Старейшины, собравшись на деревенской площади, попросили колдуна напустить на вора порчу, свести его в могилу. Колдун похвастал, что это ему легче легкого. Он собрал самые сильные снадобья, волшебные тыквы да орехи и отправился на боковую, Утром, проснувшись в обычный час, пошел взглянуть на них. И что же вы думаете — вор их стянул! Колдун, порывшись в запасах, наскреб еще один набор всего необходимого, но вор снова его обчистил. Пришлось колдуну уходить из той деревни. Отсюда и поговорка: вор всех страшнее — из-за него даже колдун бросит свою деревню. Еще говорят, что вор тащит у родной матери. Вот как белый человек — для него тоже нет ничего святого". "Современные воры и того хуже, — поддержала Мутури Вангари, — они приглашают иностранцев вместе обкрадывать собственных матерей и за это получают объедки с барского стола. А вообще-то, вор не хуже колдуна. Оба стоят друг друга. Вор крадет твою землю, твой дом, твою одежду — разве это не равносильно убийству? А колдун, лишая тебя жизни, не отнимает ли он всего, что тебе принадлежит? Вот почему я утверждаю: вор — это злой колдуп; колдун — это вор. Еще Гикуйю установил одинаковое наказание колдуну и вору. Их либо сжигали на костре, либо скатывали вниз по склону горы в улье из долбленого бревна". Доев мясо, мы поднялись. Я поторопил Мутури и Вангари — не хотелось опаздывать к началу второго отделения. И тут у Вангари словно в голове помутилось. Заявила, что назад в пещеру не пойдет, а прямиком направится в полицейский участок Илморога. Зачем? — спрашиваю. А она отвечает: "Уговор есть уговор. Нельзя допустить, чтобы такое количество воров оставалось на свободе!" Значит, говорю, ты вчера насчет полиции не шутила? А Вангари совсем разошлась! Я, мол, добропорядочная гражданка и ради полного искоренения грабежей и краж готова помогать полиции. "Если полиция хватает карманника, стянувшего женскую сумочку на базаре, мелкого воришку, укравшего пять шиллингов, или деревенского курощупа, представляете, что они сделают с этими хищниками, крадущими у всего народа?!" Я, конечно, со своей стороны сделал все, чтобы ее образумить. Не порть людям праздник, говорю, достаточно ли у тебя доказательств? Помни, Вангари, судебное дело легко может обернуться против свидетеля. Но Вангари и слушать меня не хотела: "Если на наших глазах кто-то грабит, а мы отворачиваемся, делаем вид, что ничего не знаем, зажмуриваемся и затыкаем себе рот, то воровству конца не будет!" Что мне оставалось — пусть поступает как хочет! Дурака не вразумишь! И еще: мудрый человек не спорит с глупцом. Если кому на роду написано погибнуть, его уже не спасти. Мутури слушал наш разговор молча. И вдруг, к моему удивлению, заявляет: Вангари, дескать, права, он с ней заодно и будет ей помогать. Настоящий лицемер! А как, спрашиваю, ты можешь ей помочь? Пойду, говорит, по всей Нжеруке сзывать рабочих и безработных, поведу их за собой, укажу место сборища грабителей народного добра, которые друг перед другом похваляются тем, кто больше украл. Только жертвы грабежа могут заставить грабителей вернуть им свое имущество. Я стал уговаривать Мутури не делать глупостей. Мутури, говорю, на вид ты вроде разумный человек. Не давай бабьим прихотям сбить себя с толку. Вспомни, как выкинули из пещеры Ндайю ва Кахурию за то, что он крадет не больше пяти шиллингов враз, чтобы с голоду не помереть. Значит, все, кто там сидит, очень важные грабители, их нельзя беспокоить. Мутури только головой покачал и говорит: "Не верю я в поговорку, будто молчание спасает жизнь, Вангари права: когда на наших глазах грабят и воруют, мы зажмуриваемся либо смотрим в другую сторону. Стало быть, мы потворствуем грабежу. Нет разницы между тем, кто ворует, и тем, кто на это бесстрастно смотрит, как говорил Гикуйю. Ты вспомнил, как Ндайю ва Кахурию выбросили из пещеры. О чем это говорит? Только о том, что верно и другое высказывание Гикуйю: "Мелкий карманник часто отдувается за крупного грабителя". Не следует забывать, что воришка в лохмотьях крадет из нужды, от голода и жажды. В старые времена Гикуйю никогда не наказывал тех, кто шел на кражу с голодухи. Тогда можно было зайти на чужое поле, срезать сахарный тростник и тут же его съесть или же накопать сладкого картофеля и изжарить. Хозяин не стал бы ругаться. Но современные воры, жнущие там, где не сеяли, зовут иностранцев собирать вместе с ними урожай; все зерно они увозят в заморские хранилища, а хозяину остается умирать от голода; они воруют овец у пастуха, жиреют на краденом мясе. Их наглость превзошла все границы. Пусть труженики остановят их, схватят за руку, пока они все тут, в одпом месте, выставляют напоказ свои животы и чванятся. Мваура, ты говоришь, у нас мало доказательств? Нет. Леность пасечника погубила пчелиный рой. Чем раньше на базар ехать, тем лучше — овощи не успеют пожухнуть.Все как один сюда идите
И радость нашу разделите!
Прогоним вместе сатану!
Освободим свою страну!
КОНКУРСНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ МВИРЕРИ ВА МУКИРАИ — Белый человек сказал однажды: время — деньги! Поэтому займу всего несколько минут, чтобы изложить самую сердцевину своей премудрости. О женщинах. У меня одна жена. Она получила прекрасное образование, имеет ученую степень по экономике, отлично ведет хозяйство, разумно тратит деньги и вообще умеет жить, как цивилизованные люди. Любовницы? У меня их нет. Точнее, так: если мне охота развлечься, я это делаю в обществе белых дам или индианок. Я не сторонник ни расовой, ни племенной дискриминации, когда речь идет о женщинах. Они все принадлежат нам независимо от возраста, рода или племени. Подвернется белая — хватай ее; азиатка — тоже годится. "Всегда готова", конечно, лучшая их разновидность. Дети. У нас их двое — мальчик и девочка. С нас хватит. Я приверженец контроля над рождаемостью. Родители сами должны решать, сколько детей им иметь, скольких они могут себе позволить. Я против того, чтобы дети появлялись на свет нежданно-негаданно и лишали нас комфорта и удовольствий. Я член Международной организации по контролю над рождаемостью со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Послушайте меня, дети — вот наш злейший враг! Рост населения противоречит нашим интересам. Понимаете, к чему я клоню? Самая большая опасность — это увеличение числа тех, кто требует пищи, одежды, крова. Если они не смогут найти работу, не получат еду, одежду, что их тогда остановит? Они возьмут в руки что подвернется и проткнут наши холеные животы. Мы, члены организации по контролю над рождаемостью, стремимся к одному: найти способ устранить конфликты между теми, кто грабит, и теми, кого грабят. Наша организация провозглашает следующие принципы: пусть жены бедняков рожают столько детей, чтобы им хватило того зерна, которое мы оставляем для них. Если у тебя нет работы, ты не вправе обременять себя женой и детьми. Теперь о моем образовании. Прошу вас, люди добрые, проявить снисхождение: если я начну хвастаться, то не от высокомерия. Дело в том, что у меня три диплома в кармане, точнее, в голове, на которую вы все уставились. Героя не определяют по толщине ляжек; слава зачастую обгоняет ее обладателя; мудрость — вещь врожденная, ее не пришьешь, как заплатку… Если кто сомневается, вот мои визитные карточки, не все еще роздал. На них по порядку перечислены все мои ученые звания: бакалавр экономических наук (Университет Макерере); бакалавр коммерции (Университет Найроби); магистр научной организации производства (Гарвард); член Королевского общества научной организации мирового предпринимательства. Как видите, мои познания в основном относятся к области экономического развития и предпринимательства. И, как ни странно, такая прорва премудрости вполне умещается в столь тщедушном теле, которое вы нынче имеете возможность лицезреть. Потому-то я и говорю, что слава порой обгоняет ее обладателя. Я не гонюсь за иностранной модой, верю лишь в идеи современного воровства. Но для вашего сведения… Его прервали. Кто-то из зала видел утром, как Мвирери ва Мукираи вылезал из матату, в связи с чем возникают серьезные сомнения, отвечает ли оратор требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. — Господин председатель, оратор долго и красноречиво расписывал нам свои дипломы. Все это хорошо, В нашем деле нужны образованные люди. Но, господин председатель, как говорится — кого любим, того и бьем. Пусть он назовет марку своего автомобиля. Мы понимаем только такую славу, а басни про образование для нас пустой звук. Говоривший сел на свое место под громкие аплодисменты всех присутствующих. Мвирери ва Мукираи заметно растерялся. А из зала вопили, требовали: — Машины! Пусть про них расскажет! Где его водительские права?.. — Господин председатель! — перекрывая общий шум, крикнул Мвирери. — Моя машина… извините, упустил этот вопрос… У меня один автомобиль — "пежо-504". Но, скажу я вам, зверь-машина, летит быстрее, чем стрела! В ней же и супруга за покупками ездит. Впрочем, собираюсь купить ей пикап "тойоту" — для фермы и для базара. Снова его прервал тот же голос из зала; Господин председатель! Пусть мистер Мвирери докажет, что ехал сюда на своем "пежо", иначе можно подумать, что его "стрела" воткнулась в землю. Острослова вновь наградили овацией. Успех у публики придал ему свежих сил, и он засыпал Мвирери саркастическими вопросами? — На чем же вы добрались до пещеры? Может, взяли машину взаймы или напрокат? Господа, обладатель одного-единственного авто, пусть даже летящего как стрела, недостоин внимания опытных и респектабельных грабителей. Предлагаю вышвырнуть Мвирери за дверь вместе с его коллекцией дипломов. Вслед за Ндайей ва Кахурией! Язвительный скептик плюхнулся на стул, а Мвирери ва Мукираи достал из кармана носовой платок и утер вспотевшее лицо. Откашлявшись, он с вызовом поглядел на публику, потом возвысил голос в праведном гневе: — Да, господин председатель, я приехал сюда не в своей машине. Но, господин председатель, вы меня близко знаете и не раз видели мой автомобиль, я развозил на нем пригласительные билеты на этот конкурс по всему Найроби. — Мвирери ва Мукираи! — оборвал его распорядитель. — Позвольте напомнить вам, что здесь было сказано: человека без машины распознать трудно. Автомобиль — удостоверение личности. Однажды я собственную жену не узнал: она оставила свою машину дома и шла пешком. Если я жену без машины не узнаю, с какой стати мне делать исключение для вас? Предъявите уважаемым старейшинам удостоверение личности, и продолжим наш праздник. — Господин председатель! — в отчаянии завопил Мвирери. — Господин председатель, моя машина застряла в Кикуйю. Я оставил ее у отеля "Ондири", Можно позвонить туда — вам подтвердят, что мой "пежо-504" припаркован у входа. Сюда я добрался на матату. Спросите у водителя, я ему объяснил, почему пришлось сесть в его колымагу. Какой срам! Неужели я похож на человека, который только в матату и ездит! Робин Мваура, встаньте, пожалуйста! Мваура поднялся, широко улыбаясь. Мвирери ва Мукираи учинил ему допрос по всей форме — так допрашивают свидетелей на суде. Мвирери. Ваше имя? Мваура. Робин Мваураанду, или Короче — Мваура. Мвирери. У вас имеется матату? Мваура. Как же, имеется. Я и хозяин, и водитель. Номер МММ-333, модель — "форд-Т". Девиз: "Хотите узнать все сплетни, залезайте в кабину". Мвирери. Можете припомнить вчерашний вечер? Мваура. Конечно. Мвирери. Расскажите высокочтимому собранию грабителей все по порядку. Мваура. Около шести часов я посадил вас у гольф-клуба "Сигона" в окрестностях Кикуйю. У меня уже было четыре пассажира из Найроби. Мвирери. Говорил я что-нибудь о своей машине? Мваура. Говорили, что ваш "пежо-504" поломался в Кикуйю и вы оставили его у гостиницы "Ондири"; что не хотите опоздать на конкурс и просить подбросить вас до Илморога. Тут какой-то господин из зала напомнил распорядителю, что они собрались не для судебного разбирательства. — Пусть Мвирери продолжает, — сказал он. — Все же интересно, как и кого он грабит. Если вглядеться, в его лице есть что-то от радиаторной решетки "пежо"; видать, он и впрямь владеет такой машиной. — Садитесь, Мваура. Спасибо. Старейшины удовлетворены, — обрадованно сказал Мвирери ва Мукираи. Но Робин Мваура продолжал стоять, и все повернулись в его сторону. — Господин председатель, наши иностранные гости, старейшины! — начал он. — Прошу вас, позвольте и мне сказать словцо. Я тоже хотел бы участвовать в соревновании. Как водится, мужчины вступают в схватку, чтобы выяснить, кто чего стоит. Но прежде чем перейти к рассказу о себе — а воровать я начал задолго до введения чрезвычайного положения, — хотел бы сообщить вам одну новость, рискуя омрачить праздник. Двое лиц, рабочий и крестьянка, намереваются воспрепятствовать проведению конкурса. Это верх неблагодарности с их стороны, учитывая, что пригласительные карточки им любезно предоставил Мвирери ва Мукираи Они хотят… Несколько зрителей вскочили с мест. Они-де пришли в пещеру не для того, чтобы слушать небылицу про рабочих и крестьян. Пусть Мваура прекратит распрострапять слухи и не мешает проводить конкурс. Солнце даже короля не ждет! Помрачнев как туча, Мваура сел на место: "Мутури хочет моей крови, а я упустил случай его обезвредить". Он надеялся, что, предав гласности план Мутури и Вангари, заслужит тем самым право выступать на конкурсе и — чем черт не шутит! — может, корона достанется ему. Но и теперь, несмотря на унижение, которому его подвергли, Мваура не отчаивался, не зря говорят: "Любишь красоток — не жалуйся, что приходится за ними побегать". Публика ждала продолжения рассказа Мвирери. С его лица исчезла напряженность. — Начну с того места, на котором меня прервали. Дело не в том, сколько у человека машин, главное — какая модель! Всем известно, пчела начинает с того, что строит соты. Клоп жиреет даже в трещине бревна. Для нас важно, во что человек верует, на чем стоит — да-да! — какова его позиция относительно перспектив развития и эксплуатации национального богатства. Буду краток. Я поклоняюсь богу современного воровства. Полученное мною образование убедило меня: все народы и страны, достигшие прогресса и внесшие вклад в сокровищницу современной цивилизации, разбогатели за счет эксплуатации. Власть в этих странах была отнята у рабочих и крестьян и отдана чемпионам разбоя — тем, кого принято называть капиталистическими предпринимателями. Нынешние герои — это те, кто разбирается во всех тонкостях творческого вложения капиталов и употребляет свои таланты наиболее плодотворным способом, Специалисты обладают особым нюхом на редкое яство, величаемое доходом или процентом прибылей. Иными словами, если сегодня вы украли пять шиллингов, назавтра необходимо украсть побольше — скажем, десятку, послезавтра — уже пятнадцать, а на следующий день — двадцать пять, и так далее, во все возрастающей прогрессии; скорее-скорее к вечному блаженству! Кривая прибылей должна взмывать все выше. Необходимо обеспечить неуклонный рост доходов. Надо уметь отыскивать тучные нивы, чтобы они год от года давали все больший урожай. Но нивы тучнеют только тогда, когда рабочие и крестьяне поливают их потом. Друзья мои, современное воровство бывает двух видов. Первый — это воровство домашнее, или внутреннее, когда воры данной страны обирают собственных рабочих и крестьян. Вторая разновидность предполагает участие иностранцев. В этом случае воры и разбойники из одной страны обкрадывают массы в других странах и вывозят награбленное к себе. Такие грабители обирают одновременно и своих и чужих, паразитируют и дома и за границей. Например, американские, европейские и японские воры грабят собственный народ и к тому же разбойничают в Африке, Азии и Латинской Америке. Во всех махинациях и аферах им помогают банды местных ворюг. Однако часть награбленного они оставляют на складах и в хранилищах чужих стран и нанимают местных воров сторожить краденое добро. Я, Мвирери ва Мукираи, сторонник первой разновидности воровства — когда местные воры крадут у собственного народа и пожирают награбленное на месте. Второй категории: разбою иностранцев при помощи местных подручных — я говорю решительное "нет", тысячу раз "нет"! Местным специалистам не следует объединяться с иностранцами, помогать им грабить национальное достояние. Нам в этом случае достаются лишь жалкие крохи. Не будем их агентами, сторожевыми псами, их подмастерьями и солдатами, надсмотрщиками на их складах. Пусть не мешают нам наживаться на нашей собственной ниве. Почему я говорю об этом? Буду откровенен до конца, и плевать я хотел на последствия! Эти люди — лицемеры, хотя, глядя на них, чинно покуривающих сигары и трубки, этого не скажешь. Я, Мвирери ва Мукираи, тщательно изучил систему, основанную на грабеже рабочих и крестьян, — систему капитализма. Вот к чему она сводится: массы производят, горстка избранных потребляет. Пять богачей пьют соки из пятидесяти тружеников. Я все постиг, меня учить не надо. Уверен, что мы сами, без посторонней помощи, можем строить собственные склады и хранить там добро, созданное кровью и потом нашего собственного народа. Мы, кенийские воры и разбойники, можем сами стать на ноги. Пора покончить с привычкой делить награбленное с иностранцами. Запрятанная в сердце мудрость тяжбы не выиграет: зачем грабить своих, а потом отдавать награбленное чужим? Они же не разрешают нам воровать в Америке, Европе и Японии, не позволяют нам строить у себя склады! Будем же красть самостоятельно, без посторонней помощи, чтобы богатство страны не уплывало за границу, чтобы из плоти десяти миллионов бедняков выросли десять наших собственных кенийских миллионеров. Тогда легче будет дурачить народ. "Люди, — скажем мы, — не жалуйтесь! Когда иностранцы уписывали за обе щеки, вы же не роптали, не скребли недоуменно в затылке. Недуг, поразивший теперь нашу страну, все-таки свой, а не чужой. Радуйтесь тому, что ваш пот и кровь взрастили наших родных миллионеров". Я человек немногословный. О добром мясе судят по бульону, Мое выступление подходит к концу. Призываю вас к борьбе против иностранных компаний! После окончания школы я работал в разных западных фирмах: в нефтяных, фармацевтических, финансовых, туристических, автомобильных, сельскохозяйственных — легче перечислить те, где я не служил. В одних заведовал отделом сбыта, в других — кадрами, но чаще всего отвечал за связи с общественностью. Ни в одной из них меня не посвящали в тайны узкого круга, к которому принадлежат те, кто принимает самые важные решения, например, как распределять прибыли. В этот круг входили одни иностранцы. Но всякий раз, когда в стране случался кризис, или рабочие затевали волнения и отказывались повиноваться, или же парламент обсуждал новые подоходные налоги на монополии, или же кабинет министров затевал какое-то новшество касательно чужеземцев, тогда вспоминали обо мне. Я был глазами и ушами заморских хозяев; умело шпаклевал трещины; взывая к чувству патриотизма, заставлял наших парламентариев пересмотреть взгляды; спаивал министров. Я покупал добрую репутацию своей фирме, жертвуя ее деньги на различные проекты "Харамбе". Но однажды я задал себе вопрос: иностранцы ценят мои деловые качества или же им нужен цвет моей кожи? Тут я понял, что меня используют как манекен в витрине. Кенийцы увидят черного и клюнут на эту удочку: им покажется, что я как бы частица их самих, что им принадлежит доля в делах этого предприятия, и закроют глаза на иностранный разбой в надежде, что и сами мало-помалу разбогатеют. Я посоветовался со своим внутренним голосом. Богатство страны создается рабочим людом. Без рук, головы и сердца труженика добра не нажить. Что привозят сюда иностранцы? Станки и немного деньжат — на первое жалованье рабочим. Станки — вроде капкана, а жалованье — кусочек сала для мышеловки. Еще станки можно сравнить с рыболовной леской, а жалованье — с червяком. Машины выкачивают из людей пот, кровь, энергию и таланты. Банки служат вместо бидонов, калебасов и других емкостей, в них стекают рабочая кровь и пот. Я спросил себя: Мвирери ва Мукираи, кто позволил империалистам доить сразу две страны — свою и твою? Разве нет у нас подходящих людей, чтобы доить собственный народ? Или ты, Мвирери, не сможешь найти применение поту своих земляков? Сначала они произведут товары, а потом купят их у тебя; вырастят зерно, которое ты им же будешь сбывать. Заморские пожиратели чужого добра нам не нужны. Воспитаем свой, кенийский, класс мироедов!" И я закричал в сердцах: "Ну иностранцы, ну подонки! Теперь посмотрим, кто кого! Я вам докажу, что среди нас есть люди, поднаторевшие в искусстве современного ограбления рабочих! Отдавайте мои игрушки и убирайтесь вон!" Я отказался им служить, но пока что мои позиции были шаткие, пришлось идти в иностранный банк за ссудой — чтобы купить корм для рабочих и машины, которые будут доить из них пот. Я открыл фабрику по производству растительного масла из дикого шпината. Тише, не перебивайте меня! Много я через это дело бед натерпелся, зато узнал, как мир устроен. Когда я собрался сбыть первую партию своей продукции, оказалось, что рынок забит импортным маслом. К тому же иностранные фирмы, точно сговорившись, снизили цены. Я, Мвирери ва Мукираи, оказался на грани банкротства. Пришлось продавать фабрику, ее перекупили чужеземцы. Затем я занялся производством отбеливающих кремов, рассуждая при этом так: если белые набивают карманы, портя черную кожу, чем я хуже? Однако меня снова постигла неудача. Иностранцы завалили всю страну этими кремами и торговали ими по дешевке. Снова оказавшись на грани банкротства, я и о этим бизнесом расстался. Словом, не сомневайтесь — я ничем не гнушался, но в каждом деле наталкивался на сопротивление со стороны иностранных фирм и их местных лакеев. Если я предлагал свой товар за пять шиллингов, они снижали цену до трех и переманивали покупателей. Никто не продавал мне нужное оборудование, одни только устаревшие станки, да еще приходилось ждать их не один год. Не мог достать запасных частей: их либо не посылали, либо они исчезали в пути — и моя фабрика останавливалась. Тогда я понял, что иностранцы не хотят выпускать из рук промышленность, работающую на поте кенийских тружеников. Этот пот — источник всех доходов. Я решил на время оставить сферу производства. Это было лишь тактическое отступление. Поскользнуться — еще не значит упасть! И снова пошел на службу к иноземцам, в оптовую фирму — сбывать их товары. Дело недурственное: перекладываешь добро с места на место, сам не потеешь, и тебе кое-что перепадает. Сейчас я крупный оптовик: импортирую ткани, напитки, обувь, ношеную одежду и пилюли — чтобы бедняки не плодились, как крысы или кролики. Сегодня я, сын Мукираи, по-прежнему служу иностранным хозяевам. Чужеземцам все еще принадлежит монополия на ограбление наших трудящихся. Но я не оставил своей мечты потеснить и в конечном счете прогнать их. Вот почему, господин председатель, когда я получил приглашение на это собрание и письмо с просьбой известить всех, кого это касается, я пришел в неописуемый восторг. Теперь слушайте внимательно, открою вам секрет. Долгие годы я, Мвирери ва Мукираи, держал в тайне способ, как взлететь выше японских, американских, английских, французских, немецких, итальянских и датских воров — выше всего капиталистического Запада; как разбить цепи, приковывающие нас к иностранцам. И нынче я посвящу вас в этот секрет, ибо для успеха дела необходимо наше полное единство. Дело в том, что у нас в стране есть железная руда, есть и специалисты по металлу. В течение веков в пароде жило искусство выплавки железа. До эпохи империализма наши умельцы изготовляли превосходные копья, мечи и сохи. Но это ремесло зачахло по двум причинам. Во-первых, плавильщики и кузнецы хранили свои профессиональные навыки в тайне. Во-вторых, когда пришли чужеземцы, они с умыслом запретили промыслы местных умельцев, чтобы мы покупали необходимые товары за границей и таким образом обогащали их. Сегодня я призываю вас объединиться и начать производство собственных станков и инструментов. Ведь пот и кровь кенийских рабочих стоят сущие гроши, и эти ресурсы неиссякаемы. Не верьте, будто у нас нет своей железной руды, нефти и других полезных ископаемых. Наша страна имеет все, что ей нужно, причем в избытке! Но и не будь этого, можно было бы научиться переплавлять металлолом. Что, по-вашему, позволило Японии стать ведущей индустриальной державой? Пусть наши рабочие изготовляют булавки, бритвенные лезвия, ножницы, топоры, сохи, серпы, жестяные баки и кровельное железо, автомобили, тракторы, паровозы и тепловозы, суда, самолеты, копья, мечи, ружья, бомбы, ракеты, космические корабли — словом, все то, что пока производят иностранцы. Докажем им, что мы тоже умеем извлекать пользу из современной науки и техники! Подумайте, люди добрые! Появятся наши собственные, кенийские, миллионеры и даже миллиардеры. Не хуже, чем в Японии, — и все при помощи железной руды и металлолома, отмытого добела потом и кровью рабочих. Чего еще желать? Кенийские воры и бандиты, я указал вам путь. Теперь расходитесь по домам и проверьте свои таланты, так сказать, на собственной матушке! Кому же достанется корона? Мне, Мвирере ва Мукираи! Ибо я изрек умнейшие слова; моя мудрость природная и благоприобретенная. Не зря я в школу ходил! Свое выступление я хочу закончить призывом: "Вор, ограбь собственную мать!" Вот подлинная демократия и равенство. Per omnia saecula saeculorum[30]. Аминь.
Глава седьмая
1
Сон, сон среди бела дня! Гатуирия даже ущипнул себя и испытал боль — значит, все-таки ему это не снится. Как поверить своим глазам? Может, щиплет он себя во сне? Присниться может что угодно — как умираешь, например, тебя хоронят, и ты отправляешься на небо или в ад. Гатуирия посмотрел на Вариингу, протянул руку, коснулся ее пальцев, нежно пожал их. Нет, сомнений не было, все это наяву, перед ним живая девушка, из плоти и крови. Пещера действительно существует, и все, что в ней происходит, правда. Это не видение, не бред больного, измученного малярией. Даже много времени спустя Гатуирия с содроганием вспоминал тот хаос, которым увенчалось выступление Мвирери ва Мукираи. Нельзя, впрочем, не признать, кое-кто ему хлопал, но большинство скрежетало зубами, орало и злобно рычало. Женщины не отставали от мужчин, криками и улюлюканьем выражая свой протест.2
Глава иностранной делегации с гербом США на короне первым обрел дар речи. Шум и крики утихли, слушатели боялись пропустить хоть слово. — Господин председатель! От своего имени и от имени присутствующих здесь иностранных специалистов хочу выразить негодование в связи с теми оскорблениями, которые нанес нам Мвирери ва Мукираи. Не затем мы сюда приехали, чтобы нас поливали грязью. Нет, наша цель — найти средство укрепить партнерство американских, европейских и японских воров и их коллег в развивающихся странах, недавно поднявших собственный флаг. Мы представляем здесь передовые страны и имеем за своими плечами многолетний опыт современного грабежа. Напомню, нам принадлежат склады и хранилища, где лежат все когда-либо украденные у колониальных народов богатства. Видите, даже наши костюмы сшиты из купюр. В наше время всей промышленностью и торговлей управляют деньги. Деньги — это главнокомандующий воровства на земле. Деньги — это верховный правитель, повелевающий вселенной. Мы приехали, чтобы посмотреть, можно ли кого-нибудь из вас познакомить с нашими секретами, сделать из вас глаза и уши международного сообщества грабителей. Мы не ожидали, что придется слушать речи, свидетельствующие о политической наивности; кое-кто, не научившись ползать, уже мечтает бегать. В этих речах сквозит зависть новичков к тем, кто долгие столетия воровал и разбойничал. Мы рассчитывали встретить здесь разумных людей. Все громилы мира — это единая семья, один народ. Все мы преданы одной идеологии, верим в свободу, которая позволяет грабить по способностям. Вот что мы называем личной инициативой и индивидуальным предпринимательством. Мы не устаем повторять, что являемся частью свободного мира, мира, где нет никаких запретов на воровство. Мвирери ва Мукираи стремится посеять среди нас рознь. Зачем бубнить про разновидности грабежа? Кража есть кража. К чему Кении собственные бомбы, снаряды и ракеты? Или, по-вашему, у нас не хватит сил, чтобы защитить вас? Мы недурно справлялись и справляемся с этим в Южной Корее, Бразилии, Израиле, Южной Африке. Мы едим и пьем за одним столом, а вы все-таки нам не верите. Мвирери ва Мукираи обидел нас, и мы решили не ждать окончания конкурса и немедленно уйти, забрав все свои подарки. Предоставляем вам полную свободу искать самим ту самую руду, о которой Мвирери разглагольствовал с таким жаром.3
Зал словно сковала стужа. Многие воры до мозга костей прочувствовали, чем чревата для них эта угроза, какие потери они теперь понесут. Все повернулись к Мвирери ва Мукираи и уставились на него с ненавистью. И снова положение спас распорядитель. Он взобрался на сцену и заговорил с душевным и искренним раскаянием, умоляя иностранных гостей не обращать никакого внимания на сказанное Мвирери, потому что все остальные воры, присутствующие в пещере, только и мечтают о том, как бы улучшить контакты с такими важными господами во имя нового подъема и процветания системы грабежа на земле. Призывы Мвирери опираться на собственные силы, забиться в свой уголок и поглаживать себя по животику — какой же это, право, детский лепет! Распорядитель поклялся всеми богами, что никто из присутствующих не разделяет заблуждений Мвирери. Он напомнил иностранным гостям о притче, с которой начал конкурс… Флаг независимости наводит на мысль о человеке, отправившемся в долгое странствие и вручившем свое добро рабам… Не дойдя и до середины притчи, он, скаля золотые челюсти, заискивающе поглядел на иноземцев: — Высокочтимые гости! Мы ваши рабы. Вы вернулись, чтобы посмотреть, как мы распорядились талантами, которые вы нам вручили в благодарность за нашу службу и за участие в подавлении соплеменников, дерзнувших назвать себя борцами за свободу. Позвольте напомнить, что мы денно и нощно не покладая рук обманываем народ, заставляя его поверить, будто вы на самом деле ушли. Мы не говорим про вас: иностранцы, империалисты, белые грабители, а называем вас — наши друзья! Прошу вас, пожалуйста, проявите терпение, послушайте выступления остальных душегубов и мироедов. Пусть Мвирери ва Мукираи вас не тревожит. Им займутся, сегодня же его судьба будет решена. Надеюсь, мои извинения вас удовлетворят. Теперь нам предстоит не словами, а делом заслужить ваше прощение. И распорядитель сошел со сцены. Глава делегации благосклонно принял извинения и заявил, что они согласны подождать реальных шагов, искупающих вину. — Правосудие должно не просто свершиться, но свершиться на глазах у всех. Спасибо за внимание, — такими словами он закончил свою краткую речь. От громоподобных аплодисментов в пещере едва не обвалился свод и не рухнули стены.4
Гатуирия держал ладонь Вариинги в своей. Ему все еще казалось, что он спит. Они сидели молча, погруженные каждый в свои мысли, но чувствовали, что стоит им разжать пальцы, как оба утонут в беспросветной пучине. Гатуирия не мог довести свои рассуждения до какого-либо логического конца. Мысли метались в голове, сменяя одна другую. Заветная мечта найти музыкальную тему испарилась. Больше всего его теперь занимали пережитые Вариингой несчастья. Перебирая в голове ее мытарства, он в то же время неотступно думал о том, что Вангари отправилась за полицией, а Мутури — за рабочими. Что будет, когда противоборствующие силы сойдутся в пещере? Его раздражали шум и неразбериха, последовавшие за выступлением Мвирери ва Мукираи. Мвирери, упаси бог, не ставил под сомнение систему грабежа, а только призывал к тому, чтобы каждый вор грабил свою страну, а не чужую! Как же все запоют, когда явится Мутури и бросит вызов самой системе?! Гатуирии вдруг так захотелось выбраться отсюда, поскорее унести ноги; представлявшиеся ему картины вызывали страх, и центральной их фигурой был Мваура. Гатуирии казалось, будто Мваура пожирает его глазами. Но потом он заметил, что не один Мваура так на него смотрит. Когда кто-нибудь из воров позевывал, Гатуирии виделись вместо зубов окровавленные клыки. Внутренний голос нашептывал: "Это людоеды, они питаются человеческой плотью, пьют людскую кровь; современные Ндингури; бери Вариингу и бегите отсюда!.." По что-то побуждало Гатуирию остаться, досидеть до конца, чтобы знать, чем дело кончится, и не полагаться на слухи и россказни. Ведь скажи ему кто, что в мире есть профессиональные людоеды, он бы ни за что не поверил. Значит, старик в Бахати рассказывал ему о теперешних современных чудищах! Гатуирия потряс головой, чтобы прогнать наваждение.КОНКУРСНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НДИТИКИ ВА НГУУНДЖИ Ндитика ва Нгуунджи был невероятно толст. Огромная голова его напоминала гору. Живот свешивался. Глаза как две красные электрические лампочки — казалось, создатель ввернул их наспех, торопясь заняться другим делом. Волосы расчесаны на прямой пробор — будто бы дорога, проложенная среди волнистых холмов. На нем был черный костюм, вернее, фрак, полы которого напоминали крылья большущей навозной мухи. Белоснежная кружевная сорочка. Черный галстук-бабочка. Глаза вращаются в такт словам. Руки покоятся на животе, нежно поглаживая его, словно уговаривая не выпирать так нагло, не дразнить публику. — Я тоже буду краток. И уж конечно не стану перечислять дипломы, дающие их хозяину неоспоримое право ездить в матату. Пусть ругают иностранцев жалкие неудачники, которым нечем больше похвастаться перед нами, откормленными обжорами, кроме ненависти ко всему заграничному. Меня зовут Нгуунджи ва Ндитика — извините, Ндитика ва Нгуунджи. У меня одна жена. Подружки и любовницы? Я их раб, с ног до головы, со всеми потрохами. Вот две моих слабости: женщины и жратва. И того и другого мне всегда мало. Правильная пища — залог прекрасного здоровья и крепости организма, а молоденькие девицы лечат душу. Что касается машин, у меня их целая коллекция, от "мерседеса" до "рендж-ровера", от "вольво" до "пежо-604". Когда охочусь на девушек, сажусь в БМВ (что означает "Будь моей возлюбленной"), и ни одна не может мне отказать. Жена ездит за покупками на "фиате". Недавно она пожаловалась, что одной соломенной корзинки ей мало, нужна еще сизалевая, пришлось купить ей "мазду". Мои дети увлекаются верховой ездой. Они учились в специальной школе в Найроби, принадлежавшей раньше Грогену и Деламеру. А ведь до независимости черному человеку нельзя было приблизиться даже к школьному забору. И еще находятся безмозглые забулдыги, которые осмеливаются утверждать, будто свобода не достигнута, нет еще подлинного ухуру! Какого им еще ухуру надо! Лично я всякий раз при виде моих детей, скачущих верхом, испытываю наслаждение. Они галопируют рядом с моей машиной, машут мне рукой, показываютязык, кричат: "Папа, папа!" Точь-в-точь как европейские дети. Вот это и есть плоды ухуру. Все радости жизни стали для меня доступны благодаря великой науке современного грабежа. Мне принадлежит несколько ферм в Нжоро, Эльбургоне и Китале. Я плачу батракам семьдесят пять шиллингов в месяц, к тому же они каждый день бесплатно получают муку и раз в неделю — бутылку обезжиренного молока. Ха-ха-ха! Знаете, однажды они затеяли забастовку, требуя повысить им жалованье. Можете мне поверить, им эта затея вышла боком! Уволил всех одним махом, без всяких церемоний, а сам поехал в деревню и без труда нашел им замену. Ха-ха-ха! Деревни — это же бездонный колодец рабочей силы! Ха-ха-ха! Что это я все время хохочу? Извините, только вот утрусь — от смеха даже прослезился. Разве не смешно: большинство батраков, гнущих на меня спину, — это те самые люди, которые когда-то взяли самодельные ружья и тупые мечи и пошли сражаться за свободу! Я от них ничего не скрывал, всегда говорил, что думал: "Мы повелеваем вами сейчас, и когда придет независимость, вы по-прежнему будете у нас в рабстве". А они возмущались: "Перестань нести ерунду! Ты заслуживаешь пули в брюхо!" Теперь приходят ко мне в контору за своим жалованьем, ломают шапки, гнут угодливо спину, а я едва не давлюсь от смеха. Ха-ха-ха! Но все это уже достояние истории. Каждый из нас сражался за свободу по-своему. Что вас нынче не устраивает? Забудем прошлое! Дурацкая освободительная война как дурной сон, бессмысленный кошмар. Объединим же усилия во имя трех целей: хватать, вымогать, конфисковывать. Вот святая троица вора! Если мы о себе не позаботимся, никто этого не сделает. Мой промысел ограничивается сферой контрабанды и спекуляции. У меня множество поставщиков драгоценных камней — жемчуга, золота, танзанита; леопардовых и львиных шкур; слоновых бивней и зубов носорога, змеиного яда и много чего еще. Этот товар поступает ко мне из государственных рудников и национальных заповедников. Я вывожу это богатство за границу. Особенно большие заказы поступают из Японии, Германии и Гонконга, и мои усилия с лихвой вознаграждаются. Поистине мне не на что жаловаться. Эти сделки возможны лишь благодаря деловому сотрудничеству с иностранцами, которым принадлежат огромные отели и вообще вся туристская индустрия. Они большие умельцы во всем, что касается таможни, пароходных линий и грузовых авиаперевозок; у них прекрасно налажены контакты с заказчиками. А ведь многие кенийцы даже мысли не допускают, что белые могут заниматься контрабандой и спекуляцией. Но я-то знаю правду, у меня с ними весьма прибыльное партнерство. Вот почему, когда кто-то бездумно требует очистить страну от иностранцев, я испытываю… Впрочем, дипломированные бедняки, катающиеся в матату, не стоят даже моего презрения. Предметами контрабанды в соседние и заморские страны являются также соль, сахар, кукуруза, пшеница, рис, кофе и чай. Лично для меня падение Амина в Уганде — это прискорбная утрата. За время его правления я заработал на угандийском кофе более пятидесяти миллионов. Еще я торгую мясом с Аравией и Европой, для чего постоянно держу под парами свое судно в порту Момбасы. У меня множество других прибыльных занятий. Например, я скупаю пшеницу во время уборки урожая, она в это время практически ничего не стоит. А когда на страну надвигается голод, я продаю зерно тем самым людям, кто его выращивал. Как это назвать — продажей или вымогательством? Гитуту ва Гатаангуру прав: голод — удача для богачей! Я стараюсь узнать заранее о готовящемся повышении цен, подкупаю чиновников, посвященных в эти тайны. Затем скупаю и припрятываю огромные партии тех товаров, которые подорожают, а после введения новых цен наводняю ими рынок. Иногда куплю что-нибудь на складе, а на следующий день там же сбываю — но с прибылью! Однако этот метод плох тем, что не дает абсолютной гарантии обогащения. Помню, однажды меня предупредили, что подорожает перец в стручках, а также его коренья. Я скупил перца столько, что хватило бы всей стране на целый год. Люди, даже теперь у меня от досады текут слезы! Вместо того чтобы подняться, цены упали! Пришлось сжечь всю партию. С тех пор я даже запаха перца не выношу. Ну вот, вся эта деятельность открыла мне глаза, я усвоил несколько бесспорных истин. Книжная ученость не так уж важна, как пытался уверить нас Мвирери ва Мукираи. Образование — не состояние. Взять хоть меня, к примеру. Я и начальной школы не осилил, зато теперь на меня работают бакалавры, строчат бумажки. И дипломы у них подлинные, не то что нынешние, которые выдаются в Найроби тем парням, чьей учености хватило лишь на то, чтобы отбросить иностранные имена да приставить частичку "ва"[31]. И мои подружки все на уровне Кембриджа, никак не ниже. Так что Мвирери ва Мукираи может не кичиться своими степенями. Вызываю его на поединок: посмотрим, на что девочки скорее клюнут — на его дипломы или на БМВ. Я сказал бы даже, что слишком большая ученость оборачивается дуростью. Вспомним, к примеру, речи того же Мвирери ва Мукираи. Он призывал нас копаться на свалках, строить матату из консервных банок, опираться на самих себя в воровских делах. Где нам тогда набраться ума-разума, как освоить ценный международный опыт? На свалках его не отыщешь. Мвирери, ты, наверное, нас разыгрываешь! Могу лишь повторить сказанное другими: нам выгодно сотрудничество с иностранцами. Давайте укреплять его. Несмотря на то что нет у меня ни матату, ни ученых степеней, недавно мне пришло в голову, как повысить уровень нашей зажиточности. Но реализовать эту идею можно лишь при участии иностранцев, только они располагают современной технологией. Вот почему я целиком согласен с теми, кто торопит белых с установкой у нас самого передового оборудования. Так и быть, поделюсь с вами своей замечательной идеей, и вы убедитесь — только я достоин носить корону! Она пришла ко мне нежданно-негаданно, во сне. Сердце запрыгало от радости — мне открылся секрет новой жизни предприимчивых людей. Было это в те дни, когда в Кении гостил профессор Барнард — знаете, наш друг из Южной Африки. Он читал здесь лекции о пересадке человеческого сердца. Я слушал его выступление перед врачами в больнице имени Кениаты, и меня охватило беспокойство. Всякий раз, окидывая мысленным взором свое невероятное богатство, я задаю себе все тот же печальный, даже безжалостный вопрос. Что у меня есть такого, чего нет у рабочего или у крестьянина, вообще у бедняка? У меня, как и у них, один рот, одна утроба, одно сердце, один… вы понимаете, что я имею в виду. Чем же я отличаюсь от последнего нищего? Моего добра хватило бы на тысячу человек, но, как и любой другой, я наедаюсь одной тарелкой супа. Я могу себе сшить тысячу костюмов, но, как говорится, десять порток на одну задницу не напялишь. Если бы жизнями торговали на базаре, я без труда купил бы себе хоть пятьдесят. Но увы, у меня всего одно сердце и одна жизнь, как у каждого смертного. Если бы речь шла только о деньгах, я мог бы себе позволить любить десятерых, но у меня едва хватает прыти на одну девицу. Так вот, суммируя все сказанное, вернемся к первоначальному вопросу: в чем разница между богачом и бедняком? Зачем обирать других? В ту ночь мне стало ясно, что нам необходима фабрика для изготовления человеческих запасных частей: ртов, желудков, сердец и так далее. Тогда богач обзаведется двумя или тремя ртами, животами, сердцами, детородными органами. Если один рот устанет жевать и одна утроба не вместит всего, вступят в работу резервные мощности. Если старик забавляется с девочкой, то с помощью запчастей он сможет работать как заводной до утра. Сейчас в ходу новые поговорки: "У богача вечная молодость… Если у человека два сердца, он проживет две жизни". Или вот еще одна: "Богач никогда не умрет". С нашими деньжищами мы могли бы купить себе бессмертие, предоставив беднякам привилегию умирать. Меня эта идея пленила. Но я допустил ошибку, рассказав о ней своей супруге. В любом деле нужна осмотрительность. Женщины не умеют хранить тайны. Ей моя выдумка понравилась, она осыпала меня поцелуями и даже похвалила по-английски: "Умница моя дорогая! Если твою идею удастся воплотить в жизнь, это будет потрясающе. Ведь тогда легко можно отличить жену богача от жен бедняков". В наши дни все женщины — богатые или бедные — выглядят одинаково из-за массового производства одежды, — сказала она, — но когда придуманная тобою фабрика заработает, богачку легко будет отличить по двум ртам и двум животам; у нее будет несколько сердец да и всего остального с запасом… Услышав это, я содрогнулся: моя благоверная сможет одновременно спать с несколькими мужчинами! Я велел ей забыть всю эту ерунду. Два рта или два живота — еще куда ни шло, но… Нет, только не это! Она стала мне перечить: тебе, мол, можно, а мне нельзя! У нас ведь равноправие! Давно я так не злился. Катись, говорю, со своим равноправием в Европу или Америку. Мы — африканцы и должны во всем следовать африканским традициям. Пришлось отвесить ей затрещину. Она захныкала, я еще ей наподдал. Это подействовало, и она стала шелковая. Ладно, говорит, бери себе всего хоть десяток, а мне и того хватит, что есть. Люди, только вдумайтесь, прикиньте-ка! У каждого богача два рта, две утробы, два сердца и, значит, две жизни! Деньги — залог бессмертия. Предоставим бедным умирать. Ха-ха-ха! Давайте же сюда корону! Наконец она обретет законного хозяина!
Глава восьмая
1
Вариинга не могла больше оставаться в пещере. Услышанное неподъемной глыбой давило на сознание. Изо рта ораторов дурно пахло, будто они объелись гнилыми бобами, К горлу подкатывала тошнота. Извинившись перед Гатуирией, Вариинга поспешила на свежий воздух. Пересекла луг с высокой травой, прошла сквозь посаженные в ряд кусты роз и оказалась на площадке для игры в гольф. Опустившись на траву, прислонилась к черному стволу акации, глубоко вздохнула, словно бы освобождаясь от тяжелой ноши. Но боль в сердце не утихала. Зря она вернулась в пещеру. Вид воров, их бахвальство всколыхнули воспоминания о Богатом Старце из Нгорики, от которого у нее родилась дочь Вамбуи!.. К тому времени родители Вариинги покинули Каамбуру и вместе с младшими детьми обосновались в Илмороге. Пришлось им взять на себя и хлопоты по воспитанию внучки. Вариингу они даже не попрекнули. Напротив, узнав, что дочь пыталась броситься под поезд, они только пожалели ее. Вариинга никогда не забудет материнских слов: "Паши предки говаривали, что у мертвой матери молока не допросишься. Сколько женщин мечтает о детях, но судьба к ним жестока. Младенец — это подарок родителям, в том числе и незамужней женщине. Иметь ребенка — великое счастье. Нашла из-за чего горевать!" И после рождения Вамбуи Вариинга продолжала брать у родителей деньги на заочные подготовительные курсы. Целый год прозанималась она дома, но, когда настала пора экзаменов, ей с трудом удалось попасть в четвертый разряд. Тогда, оставив мечты о высшем образовании, она поступила на курсы стенографии в Найроби. Окончив их, долго искала работу, пока наконец не получила место в строительной фирме "Чемпион"… Сидя около площадки для гольфа, Вариинга в который раз перебирала все, что с ней произошло после увольнения: Джон Кимвана… домовладелец… "Ангелы ада"… бесцельное блуждание по Найроби… остановка автобуса у гостиницы "Кока"… безумное желание броситься под колеса… незнакомец, спасший ей жизнь. Где он теперь? Почему его не было в пещере? Вариинге чудилось, что все это произошло не с ней, а с кем-то еще много лет назад. А ведь и двух дней не прошло. Ей стало и вовсе невмоготу. Поплыли в памяти сцены в матату, знакомство с Гатуирией, Мутури, Вангари и Мвирери ва Мукираи. Всю дорогу они рассказывали друг другу о себе, а наутро встретились в пещере как добрые знакомые. Припомнила Вариинга и недавний разговор с Гатуирией за обедом: как только хватило у нее отваги рассказать о своей связи с Богатым Старцем из Нгорики?! Никому, кроме матери, она не открывала душу… Потом перед ее мысленным взором предстал школьный сторож, успевший столкнуть ее с железнодорожного полотна. Какое совпадение: Мутури и сторож — одно лицо! Ее ангел-хранитель, ангел в лохмотьях. А на автобусной остановке в Найроби ее, спас и вручил фальшивое приглашение — может быть, тоже он? Нет! Она увидела словно увеличенное биноклем лицо того мужчины, вспомнила его голос, манеру говорить, одежду. "Он сделал еще одно доброе дело, — сказала себе Вариинга, — дав мне приглашение на конкурс. Я все увидела своими глазами и теперь уже никогда не покушусь на свою жизнь из-за гнусных мерзавцев, стремящихся прибрать к рукам весь мир!" На экране ее памяти возникла Нжерука: лачуги из кусков жести и полиэтиленовой пленки, сточные канавы, а потом по контрасту — виды Золотых Холмов: красивые просторные дома, прозрачный воздух… Воспоминания привели ее назад в пещеру: физиономии семерых иностранцев, алчные глазки соревнующихся. "Что произойдет, — вновь подумала она, — когда там сойдутся Мутури с рабочими и полиция, за которой отправилась Вангари?" Она зевнула, потянулась, устроилась поудобнее. Ее одолевал сон, мысли разбегались, голова отказывалась повиноваться. — Местные и иностранные воры собрались в одном логове, — заговорила Вариинга вслух, — обсуждают, как бы лишить целый народ его законных прав. Где такое видано? Это все равно что сын ворует у матери, да не один, а с дружками! Недаром говорится, есть два мира… Но прежде чем она додумала эту мысль, послышался голос: "Существует еще третий, революционный мир!"2
Вариинга вздрогнула, огляделась, но никого не увидела. Перед глазами была лишь зеленая трава на площадке для гольфа, убегающая во все стороны и теряющаяся в дальних кустах. Ей стало страшно, она хотела встать, но невидимые путы усталости прочно удерживали ее. Она смирилась, и внезапно страх улетучился. "Будь что будет, — сказала она себе, — надоело бегать от жизненных невзгод". — Кто ты? — с непривычной для себя отвагой обратилась она к невидимке. Голос. Я странствующий дух, брожу по земле, утыкая ее саженцами знаний. Когда деревья начнут плодоносить, люди отведают плодов и научатся отличать добро от зла. Вариинга. И конечно, искуситель? Голос. Конечно, ведь ты усердно посещала церковь. Храм святого Розария в Накуру, не так ли? Вариинга. Допустим. Голос. Поэтому ты сразу догадалась, кто я. Вариинга. Я тебя не знаю. Голос. Думаешь от меня отречься? А раньше даже хотела распять на кресте. Вариинга. Я так и не знаю, кто ты. Назовись. Голос. Я уже сказал — странствующий дух, сеющий знания, учащий людей различать добро и зло. Я искуситель и судия. Вариинга. Искуситель и судия? Голос. Да, искуситель душ. Вариинга. Зачем ты здесь? Неужто хочешь испытать души тех, кто соревнуется в искусстве воровства и разбоя? Голос. А ты, что ты здесь делаешь? Тот, кто водится с нечестивцами, сам становится таковым. Вариинга. Я здесь для того, чтобы увидеть все своими глазами… Голос. Есть ли разница между тем, кто ворует, и тем, кто за этим наблюдает? Вариинга. Илморог — мой дом. Голос. С какой такой стати? Вариинга. Мой отец и мать… наша семья… значит, и мой дом здесь. Голос. Большие дела — это не громкие слова. Языком больших дел не свершишь. Вариинга. Что ты хочешь сказать? Что Илморог — не мой дом? Голос. Истинные граждане Илморога заслужили право называть его так. Когда их дом загорелся, они стали звать на помощь. И помощь к ним пришла. Вариинга. О ком это ты? Голос. О Вангари и Мутури. Их-то ты знаешь? Вариинга. Мне позвать было некого. Голос. Потому что ты сама не горяча и не холодна. Ведь ты только что сказала, есть два мира… Вариинга. Я лишь повторила поговорку. Голос. Что это за два мира? Вариинга. Не знаю. Голос. А еще считаешь себя образованной. Вариинга. Всего лишь курсы стенографии. Когда была моложе, стремилась постичь премудрость, взобраться на высочайшую на земле вершину — пик знаний, чтобы вся земля лежала у моих ног. Но сегодня моего образования не хватит и на то, чтобы прожить на свете один день. Голос. Беда в том, что скверно вас учили. Детям велят закрывать глаза и затыкать уши, чтобы они не видели народных нужд, не слышали стенаний бедняков. Тот, кто слышал, оглох. И выходят из школ такие, про которых сказано: "Горе этому поколению, ибо у них есть глаза, но они не видят; есть уши, но они не слышат!" Их научили видеть и слышать только один мир. С чего же ты все-таки заговорила о двух мирах? Имела ли в виду мир грабителей и мир ограбленных? Мир хозяев и мир жертв? Угнетателей и угнетенных? Паразитов, поедающих плоды чужого труда, и производителей? Вариинга. Кто ты? Слово в слово повторяешь то, о чем говорили мы вчера в матату Мвауры. Мутури высказывал те же мысли. Голос. Еще бы, всю жизнь его грабят и обирают, так ему ли об этом не знать! Вариинга. Мутури грабят? Да что у него взять? Ведь он же не богач. Голос. Ты, наверно, невнимательно меня слушала. У тебя есть уши, но ты не слышишь; есть глаза, но не видишь. Твое порочное образование вывернуло тебя наизнанку, поставило с ног на голову. Ты уверовала в то, что тучи — это земля, а земля — тучи; черное — белое, а белое — черное; добро — зло, а зло — добро. Спрашиваешь, что крадут у Мутури. Его пот и кровь, по-твоему, ничего не стоят? Чему вас в школе учили — откуда берется богатство нации? Из туч? Из рук богатеев? Те, кто собрался в пещере, прекрасно знают источник этого богатства. Знают, где испить воды, которую не они носили. Знают, где перегородить реку, чтобы лишить влаги тех, кто живет ниже по течению. Знают, как проложить каналы, чтобы поливать свои плодородные поля. На своих сборищах они говорят обо всем открыто и откровенно. У них одна общая мудрость: "Я ем, и ты ешь. Сытый сытого понимает". Ты как будто мне не веришь. Но разве не была ты в пещере? Слушай же, я открою тебе истину. Говорят, и мудрым есть чему поучиться. В этот самый миг на сцене ораторствует Кимендери ва Канийанджи. Посмотрела бы ты на него! Рот его что клюв красногрудого дятла. Щеки гладкие, как у новорожденного. Ноги такие, будто у него слоновая болезнь. Но все его недуги от обжорства. На шее складки жира, как у волосатого червя. Однако его уродство спрятано под белым костюмом, на шее красуется галстук-бабочка. Его прозвали Кимендери — что значит "командир во время чрезвычайного положения". Он был тогда районным комиссаром, вволю покуражился над рабочими и крестьянами. Заставлял мужчин и женщин ложиться наземь ничком, а потом давил их своим "лендровером". Когда пришла независимость, он быстро поднялся по административной лестнице и занял пост постоянного секретаря департамента. Работал в иностранных финансовых компаниях. Теперь у него бескрайние фермы, экспортно-импортные конторы. Он знает множество хитрых трюков. Издалека видно, что это за птица. Вполне вероятно, корона достанется ему как несравненному мастеру воровства и верному слуге иностранцев. Он-то доподлинно знает, что источник богатства — пот и кровь рабочих, его превосходство над другими ворами основывается на этом знании. Сейчас он внушает своим слушателям: "Мы пьем кровь рабочих, давим из них соки, иссушаем их мозг, но делаем все по старинке; нужен научный подход". Кимендери предложит создать исследовательскую ферму-лабораторию, чтобы ставить различные эксперименты. Он придумал обнести ферму колючей проволокой наподобие концлагерей в колониальной Кении, загонять туда рабочих, как скот, и подключать к ним электрические доильные аппараты. Добываемые таким образом кровь, пот, энергию и разум он собирается вывозить за границу, чтобы иметь с каждого галлона твердый доход. Вариинга. А как перевозить столь необычные товары? Голос. Он построит трубопроводы. Кровь будут перекачивать за границу, как нефть! Он даже придумал название для будущей фирмы: "Кенийско-саксонские экспортеры. Человеческая кровь и плоть". Вариинга. Но рабочие этого не позволят, воспротивятся такому бесчеловечному ограблению и эксплуатации. Голос. Что же ты сама до сих пор не противилась? И вообще, рабочие никогда не узнают правды. Они не почувствуют, что к ним подключены машины. А если и почувствуют, все равно не станут возражать… Вариинга. Почему? Голос. Потому что Кимендери и его сообщники не такие дураки, как ты думаешь. Они покажут рабочим только два мира — мир жрущих и мир пожираемых. Рабочие никогда не узнают о существовании третьего мира — мира революционной ломки системы эксплуатации. Трудящиеся не посмеют даже усомниться в вечности и незыблемости двух открытых их взору миров. Вариинга. Но как удается их дурачить? Голос. На своей ферме Кимендери построит церкви или мечети — в зависимости от религиозной принадлежности рабочих. Он наймет проповедников. По воскресеньям рабочим будут внушать, что система кровопийства, грабежа человеческого труда и энергии, потогонная эксплуатация угодна богу, в ней залог спасения их душ. В Священном писании говорится: "Благословенны те, кто скорбит, ибо они утешатся. Благословенны те, кто алчет и жаждет праведности, ибо они насытятся. Благословенны те, кто не желает зла ближнему, ибо они увидят господа. Благословенны те, кто денно и часно соблюдает четыре заповеди: "Не убий", "Не солги", "Не укради", "Не возжелай добра ближнего", ибо им уготовано царство небесное. На экспериментальной ферме будет даже свой гимн:Кто стонет и кряхтит
Под тяжестью Греха,
Тот в вере обретет
Спасенье на века!
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem[32].
Ессе Agnus Dei,
Ессе qui tollis peccata mundi…[33]
Пейте из нее все,
Ибо сие есть Кровь Моя.
Сие творите в Мое воспоминание.
Dominus vobiscum,
Per omnia saecula saeculorum[35].
Аминь.
Я говорю вам:
Не противься злу.
Но кто ударит тебя в правую щеку твою,
Обрати к нему и другую.
И кто захочет судиться с тобою
И взять у тебя рубашку,
Отдай ему и верхнюю одежду…
3
Вариинга проснулась. Ее тело оцепенело от страха. — Ты тут мирно спишь, а я с ног сбился, тебя разыскивая, — услышала она голос Гатуирии. Она открыла глаза и, увидев его подле себя, испытала редкостное блаженство. — Я прислонилась к этому дереву и сама не заметила, как задремала, — позевывая, сказала она, потом встала, потянулась, снова зевнула. — Вчера ночью совсем не спала. До утра с матерью проговорили. — Дорога была долгой и утомительной, — заметил Гатуирия, — матату Мваури ползло, как навозный жук. Вариинга подумала, не пересказать ли Гатуирии свой странный сон, но решила этого не делать: у каждого бывают кошмары. — Кончился праздник? — улыбнулась она, пытаясь прогнать страх. — Нет, но все равно пойдем отсюда, — отозвался Гатуирия, — пока головешки не загорелись. — Что ты сказал? — В пещере свалка, — мрачно поведал Гатуирия. — Туда явилась полиция. — Значит, все эти Гитуту и Гатхики арестованы? — взволнованно спросила Вариинга. — Чудесно! — Нет, — едва слышно ответил Гатуирия, — они схватили Вангари. — Вангари? Арестовали Вангари? Ведь она сама их привела! — Да, и в этом ее ошибка. Искала защиты от разбойника у его же подручных. — Гатуирия не мог сдержать гнев. — На моих глазах ее заковали в наручники и затолкали в полицейский фургон. — Но за что? — За то якобы, что она распространяет слухи, сеет семена раздора в стране, идущей по пути мира и стабильности. Вариинге припомнился недавний сон. — Какой мир? — переспросила она. — Чей мир? Для кого мир? Всегда так — стоит беднякам потребовать свое кровное, сразу кричат, что они посягают на мир и спокойствие! Сказанное Вариингой пронзило сердце Гатуирии, точно плотину прорвало. Слова хлынули, как поток, размывающий берега. — Посмотрела бы ты, как эти пастыри мира — илморогские фараоны — набросились на беззащитную женщину! Дубинки, щиты, оружие — будто на войну собрались. Инспектор Гаконо руководил операцией, Вариинга, я бы никогда не поверил, если бы не видел все собственными глазами. Кимендери ва Канийанджи только сошел со сцены, как… — Минутку! — перебила Гатуирию Вариинга. — Как ты сказал: Кимендери ва Канийанджи? Там действительно был кто-то с таким именем или тебе приснилось? — Уж лучше бы приснилось. Нет, я не ошибся. Его звали Кимендери ва Канийанджи, но он больше похож на жирного волосатого червя с клювом, чем на человека. Долго нёс всякие глупости, будто у него словесный понос. Начал с того, что подробно описал свое богатство, потом похвастался проектом экспериментальной фермы для экспорта нашей рабочей силы за границу. Вдруг я увидел, что все, кто был в пещере, уставились на меня кровожадными глазищами. Меня обуял страх, я решил бежать оттуда, пока не поздно… — Пожалуйста, давай сядем, — взмолилась Вариинга. — У меня ноги подкашиваются. Они опустились на траву, и Гатуирия продолжал рассказ: — Тут нагрянула полиция. Вангари первая вошла в пещеру, а сразу за ней — старший инспектор Гаконо. Такой отважной женщины я еще не встречал. Она спокойно поднялась на сцену и взглядом заставила всех замолчать — казалось, в ее глазах полыхает пламя; потом обрушилась на воров. В ее голосе не было и намека на страх: "Эти людишки всегда угнетали крестьян, отказывая им в одежде и пище, лишая сна. Они отобрали у нас то, что завещал Вайяки ва Хиинга, Кимати ва Вачиурн и другие патриоты, проливавшие кровь за освобождение Кении. Это сторожевые псы империалистов, исчадия ада, дети сатаны. Наденьте на них наручники и кандалы, засадите их навечно в тюрьму, пусть до конца своих дней скрежещут зубами в бессильной злобе. Пусть та же участь постигнет всех, кто продает иностранцам наследие наших праотцев и героев!" Варииига, мне не передать словами последовавшую за этим сцену. Казалось, от Вангари исходит электрический ток. Она была так прекрасна, будто помолодела на двадцать лет! Ее глаза сияли, в голосе звучали сила и авторитет народного вожака. Поднялся распорядитель, и его взгляд остановился на инспекторе, неподвижно стоявшем у входа. "Что все это значит, инспектор? Мятеж, бунт?" — сердито спросил он. Гаконо вытянулся как по команде "смирно", отдал честь, дрожащим голосом принялся извиняться и просить о снисхождении. Казалось, страх пронизал все его существо, он бубнил так, будто не существует знаков препинания: "Я извиняюсь сэр очень сожалею по правде сказать не знал что это вы здесь собрались думал обычные карманники и прочая шушера из Нжеруки которая иногда совершает налеты на дома и банки иностранцев не при ваших уважаемых гостях будет сказано эта женщина донесла в пещере якобы сошлись воры и грабители опустошившие всю страну и еще хвастаются своими подвигами и пожалуйста отметьте моей вины тут нет потому что в субботу мне позвонили из Найроби и предупредили что эта самая женщина доставит важные сведения о грабителях и когда она явилась…" "Ладно уж, — отмахнулся от него распорядитель, — поговорим об этом потом, отыщем мерзавцев, которые все это подстроили. Поступим с ними по всей строгости, искореним тех, кто возомнил, что они умнее других. Нам крайне неудобно и стыдно за эту нелепицу перед нашими заморскими гостями. Инспектор, делайте свое дело. Покажите, каковы вы в гневе, а потом выпьем по стаканчику виски с нашими дорогими иностранцами". Гаконо засвистел в свисток, в пещеру вломилась полиция, вооруженная дубинками и револьверами. Гаконо указал на Вангари, полицейские взбежали на сцену, набросились на нее, надели наручники. Но даже теперь, когда фортуна от нее отвернулась, Вангари не выказала ни тени страха, только произнесла ровным и твердым голосом: "Вот оно как, полицейские служат одному лишь правящему классу. А я-то уши развесила, вверила мою любовь к родине гнусным крысам, грызущим все самое святое!" Они толкали ее к выходу, осыпая ударами дубинок, а она пела во весь голос:Если вы услышите стук капель,
Знайте, то не дождь идет —
Это кровь рабочих и крестьян,
За свободу бьется наш народ!
4
Обремененные ношей тяжелых дум и сомнений, Гатуирия и Вариинга зашагали в сторону Нжеруки. Гатуирии представлялась Вангари, связанная по рукам и ногам, в арестантской яме. Вариинга же припомнила в подробностях рассказанную Мвирери ва Мукираи притчу о человеке, возвратившемся из дальнего странствия и потребовавшем отчета у своих слуг… Подошел и получивший один талант и сказал? "Господин! Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал…" Вариинга внезапно остановилась и дернула Гатуирию за рукав. — Что такое? — спросил молодой человек. — Прислушайся: люди поют новую песню!Глава девятая
1
Лучи заходящего солнца, упав на ЗолотыеХолмы Илморога, пламенем вспыхнули на сверкающей стали мечей и копий. Вариинга и Гатуирия стояли на зеленом ковре площадки для гольфа, вслушиваясь и всматриваясь в даль. С дороги на Нжеруку доносилось пение:Придите же все, как один,
Взгляните на славное зрелище:
Мы гоним взашей сатану
И всех его присных!
Придите же все, как один!
Придите же все, как один,
Взгляните на славное зрелище:
Мы гоним взашей сатану
И всех его присных!
Придите же все, как один.
2
В этот самый момент, словно бы услышав ее, Мутури отделился от демонстрантов и подошел к Вариинге и Гатуирии. Он заговорил быстро, без пауз, будто словесный поток прорвал плотину и вышел из берегов. — Рано вы уезжаете, борьба только начинается! Не увидите редкостного зрелища — как мы будем выкуривать эксплуататоров из их логова. Народ шагает твердо и гордо, люди услышали нас и отозвались на призыв! Оказалось, что рабочие Илморога уже вполне созрели. Мне оставалось лишь подтолкнуть их немного, Видите вон тех людей? Это илморогские школьники и студенты университета. Просто замечательно! Будущие поколения будут славить этот день с крыш, с верхушек деревьев и горных пиков: от горы Кения до горы Элгон, от Элгона до Килиманджаро, от холмов Нгон до Ньяндаарвы. Я, Мутури ва Кахония Майтхори, застал студентов и рабочих в тот момент, когда они уже строились в шеренги, призывая всех жителей Нжеруки присоединиться к ним и выступить против местных воров и их заморских друзей. Я изложил собранные мною факты. Мы обошли всю Нжеруку, каждый уголок. Когда люди узнавали, что я своими ушами слышал похвальбы разбойников и воров, они брали колья и присоединялись к нам, подхватывали наши песни. Что еще вам сказать? Трубите в трубы, воспойте этот великий день. Идемте же, порадуемся вместе. Образованные молодые кенийцы услышали зов народа! Они открыли глаза и увидели свет, исходящий от великого единства рабочих и крестьян! А где Вангари? — Мы пошли тебе навстречу! — обрадовался возможности вставить словцо Гатуирия. — Зачем? Где все-таки Вангари? — Ее схватила полиция, — вздохнула Вариинга. — Она арестована? — Да, за распространение подстрекательских слухов, посягательство на мир и стабильность в стране! — ответил Гатуирия. — Где это случилось? В пещере? Вариинга кивнула. — Ну конечно, — с болью и горечью заговорил Мутури, — закон и силы правопорядка на стороне тех, кто грабит рабочих, отбирает у крестьян землю и продукты их труда. Мир, порядок и стабильность, которые защищают броневики, — это мир и стабильность богачей, вырывающих последний кусок у бедняка. Они защищают обжор от гнева алчущих и жаждущих. Вы видели когда-нибудь, чтобы армия и полиция нападала на предпринимателей, отказывающихся увеличить заработную плату рабочим? Иное дело, когда бастуют трудящиеся. И еще смеют рассуждать о насилии! Кто сеет семена гнева в нашей стране? Я хотел, чтобы Вангари сама в этом убедилась, чтобы исчезли ее сомнения, чтобы она наконец спросила себя: "Да разве доводилось мне видеть, как полицейские усмиряют богачей?" — Послушай, — нетерпеливо перебил его Гатуирия, — и тебя могут арестовать. Шеф илморогской полиции там, в пещере. — Вы пришли нас предупредить! — медленно произнес Мутури, тронутый их сочувствием. — Ваш порыв меня радует. Мы знакомы недавно, и вы пришли спасти меня. Но я не побегу. Мы не побежим. Нам, рабочим, отступать некуда. Я уверен, что грабеж будет царить в этой стране до тех пор, пока народ будет бояться ружей и дубинок. Мы должны побороть страх, а для этого есть лишь одно средство: крепкая организация, единство рабочих, крестьян и всех тех, чьи глаза открыты, чьи уши слышат. Эти отважные студенты подают пример всем образованным людям. Друзья, и ваше место — в наших рядах. Пусть послужит ваша ученость народу, не отворачивайтесь от масс. Вот единственно верный путь!3
Сказав это, Мутури оставил Гатуирию и Вариингу и бегом вернулся в колонну демонстрантов. Вариинга и Гатуирия переглянулись. Обоих разбередил призыв Мутури. Совсем недавно, когда они в Нжеруке ели мясо, запивая его пивом, им и в голову не пришло бы, что они могут присоединиться к оборванным, босоногим рабочим, решившим атаковать пещеру. Но теперь голос рабочего призывал их сделать выбор: кому послужат их знания? Еще недавно, даже испытывая тошноту от речей в пещере, они были склонны взирать на все это, как на нечто не относящееся к их собственной жизни. Но теперь голос рабочего взывал к ним: никто не может идти сразу двумя дорогами! Еще недавно они считали себя лишь зрителями, наблюдавшими за танцорами. Но теперь голос рабочего звал их выйти в круг, а не стоять с краю. Весь народ пускался теперь в пляс! "Мы интеллигенты, — рассуждал про себя Гатуирия, — а они рабочие. Так на чьей же мы стороне? На стороне производителей или паразитов? На стороне тружеников или эксплуататоров? Или, подобно гиене, мы пытаемся ухватить и тут и там?" Вариингу обуревали схожие чувства, преследовали те же мысли: "Мы, машинистки и секретарши, на чьей мы стороне? Те, кто пишет и печает под диктовку босса Кихары и ему подобных, — с кем мы? С рабочими или богачами? Кто мы? Кто мы такие? Много раз я слышала от подружек: "Наша фирма производит то-то и то-то", "В нашей фирме столько-то рабочих и платят им столько-то", "Наша компания получила такую-то прибыль". Они говорят "наша", а у самих нет ни цента, даже на автобусный билет после рабочего дня не наберется. Девушки частенько хвастаются своими боссами, а хвастаться-то, в общем, нечем! Разве что парой сот шиллингов в месяц, которые они гордо называют жалованьем! И за такую малость мы жертвуем важнейшими вещами. Это, во-первых, наши руки. Мы перепечатываем все их бумаги, письма. Наши руки становятся их руками, наша сила — их силой. Во-вторых, наши мысли. Ни один босс не оставит на работе девушку, имеющую собственные суждения и взгляды, отличные от его взглядов; боссам не нравится, когда секретарши подвергают что-то сомнению, задают вопросы, не закрывают глаза на их гнусные дела. Босс всегда прав, у тебя же вместо мозгов руки да бедра, ничего другого не требуется. В-третьих, наша душа. Босс Кихара и ему подобные вымещают на нас свое дурное расположение духа. Накричавшись дома с женами, они приносят свою злобу в контору. Когда у них что-то не ладится — лучше к ним не приближаться. Нас оскорбляют, но мы помалкиваем — нам не положено расстраиваться, тем более давать волю слезам. В-четвертых, наше тело. Большинство из нас, за редким исключением, может получить работу и удержаться на ней, только уступив домогательствам субъектов вроде босса Кихары. Мы их подлинные жены… хоть и незаконные. По субботам и воскресеньям нас возят на бойню в БМВ. Есть ли разница между жертвенным ягненком и дойной козой?.. Так кто же мы такие?" Сердце Вариинги билось в такт ее мыслям. Мучительные вопросы не находили ответа. Никто не поможет ей, необходимо самой принять решение и найти место в битве, что ведется не на жизнь, а на смерть!4
Вариинга и Гатуирия, подойдя к пещере, едва не задохнулись от дыма. Повсюду — догорающие обломки столов и стульев, вокруг плотное кольцо щителей Нжеруки. Люди все еще пели ту же песню:Придите же все, как один,
Взгляните на славное зрелище:
Мы гоним взашей сатану
И всех его присных!
Придите же все, как один!
5
Оставшиеся у входа в пещеру люди ждали, что скажут их вожаки. Мутури ва Кахония Майтхори выступил первым. — Друзья, или нет, пожалуй, назову вас сородичи, ибо все, кто собрался здесь, принадлежат к одному роду — роду рабочих. Вы вдоволь налюбовались тем, что здесь происходило. Толстопузые вздумали нас хулить. А ведь у них такие животы вовсе не потому, что они ждут детей, вздулись они не от недугов. Их распирает от нашего пота и крови. Их чрева бесплодны. Мы, рабочие, строим дома, но въезжают в них другие, а строители остаются под дождем. Мы шьем одежду, которая достается другим, и те щеголяют в ней; портные же ходят нагишом. Мы растим хлеб, но едят его другие, а у хлеборобов по ночам в животах урчит с голодухи. Смотрите, мы возводим отличные школы, но учатся в них не наши дети. А наши роются в помойках — ищут объедки. Сегодня мы решили наконец заявить о своих правах. Мы отказываемся быть горшками, в которых другие варят кашу… — сказал в заключение Мутури и скромно подался назад. Толпа устроила ему овацию, женщины криками выражали восторг. Следующим оратором был предводитель илморогских студентов. Увидев его, Вариинга испытала странное чувство. Возможно ли? Мутури спас ее от смерти под колесами поезда в Накуру, а этот молодой человек только вчера вытащил из-под автобуса в Найроби. Теперь они выступают друг за другом. — Мы, студенческая община Илморога, а также школьники начальной и средней ступени, полностью поддерживаем справедливую борьбу рабочих против системы современного грабежа. Рабочие идут в авангарде борьбы с неоколониализмом — последней стадией империализма. Когда илморогские рабочие узнали о готовящемся сборище местных и иностранных воров, они сообщили об этом нам. Студенты долго раздумывали над тем, что бы такое сделать, чтобы проявить свою солидарность с рабочими. И было решено напечатать разоблачительные карточки, чтобы людям стала ясна подлинная суть затеи с конкурсом. Это и впрямь бал Сатаны, дьявольская выдумка. Сомкнем же наши ряды в справедливой битве против кровопийц и душегубов, против всех преступлений империализма и неоколониализма. Вместе с рабочими будем возводить дом, в котором заживут все строители. Нет лучшего применения нашим знаниям, чем поставить их на службу народу. Мы, студенты, не хотим отставать от трудящихся, вместе с ними прогоним сатану и его присных! Ему тоже громко хлопали. Третьим взял слово представитель илморогских рабочих. На нем была длинная шинель и островерхая шапка, которую он стащил с головы, прежде чем заговорить. В волосах его пробивалась седина. — Во-первых, — начал он, — позвольте воздать должное отважным студентам университета и учащимся окрестных школ. Если наша молодежь сложит оружие, родина останется беззащитной. Что тогда станет со страной? Мы приносим благодарность всем тем, кто откликнулся на наш призыв о помощи. Хочу теперь сказать одно лишь словцо, задать всего один вопрос. Есть два вида единства: единство рабочих и единство богачей. На чьей вы стороне? Чьи принципы вы поддерживаете, ибо у каждой из сторон свое учение? Гимн богачей и империалистов звучит так:Блажен хищник, который плачет крокодиловыми слезами,
Потому что его никогда не разоблачат.
Блажен тот, кто спалит чужой дом,
А наутро сочувствует погорельцу —
Он прослывет отзывчивым и чутким.
Блажен тот, кто крадет у ближнего пять шиллингов,
А затем возвращает ему полшиллинга на соль —
Его назовут щедрым.
Если же ты крадешь у масс,
Даже не пытаясь дурачить их сладкими речами,
То горе тебе!
Когда массы пробудятся,
Тебе несдобровать,
Да и нам заодно с тобой не поздоровится,
Хоть мы и умели скрывать грязные дела
Под покровом ханжества.
Я верю, что рабочие — одна семья.
Долой различья в вере, племени и цвете кожи!
Наша сила —
В крепкой спайке и организации.
Все, кто шагает вместе, с пути не собьются.
А те, кто не спаян, от первой пули разбегутся.
Вот отчего я верую в единство.
В нем мощь и сила тружеников.
Империалисты и их местные лакеи —
Враги прогресса, враги рабочих и крестьян,
Враги всего народа.
Клянемся бороться до конца с колониализмом!
Неоколониализм — последняя конвульсия
Агонизирующего империализма!
Теперь все вместе исполним рабочий гимн!
Теперь ты меня видишь
И можешь хорошенько разглядеть.
Заря на небе заиграла,
Мне все равно: жизнь или смерть.
Заря на небе заиграла…
Глава десятая
1
Прошло два года с тех пор, как Вариинга не поддалась искушениям дьявола, явившегося ей на площадке для игры в гольф в Илмороге. Целых два года минуло с того дня, когда состоялся бал Сатаны. Затея бандитов, набившихся в пещеру, имела печальные последствия — кончилась гибелью одних, тюремным заключением других. То были два года, отмеченные большими переменами в жизни Вариинги и Гатуирии. Два года. С чего же мне начать? Или все-таки перестать вмешиваться в чужие жизни? Не суди — да не судим будешь! Уж лучше кончить антилопу самому, чем криками других охотников сзывать. Но ведь я был там, в Накуру, видел все своими глазами, слышал все своими ушами. Могу ли я не верить собственным глазам и ушам? От правды не убежишь.Она открылась мне,
Она открылась мне!
Правда — как натянутая тетива!
Это хорошо, мой друг.
Пусть сразит клеветника стрела.
Бей без промаха, надежный лук!
2
Вот она, Вариинга! Живет теперь в столичном районе Нгара, занимает комнату на четвертом этаже семиэтажного здания, названного хозяином "Мара-аро Хауз". На первом этаже дома несколько однокомнатных квартир, сдающихся по баснословно высокой цене. Комната Вариинги одновременно служит ей кухней, гостиной и спальней. Несмотря на безумную цену, все помещения сданы: птица, выбившись из сил, садится на первое попавшееся дерево. Снаружи дом окружен множеством заправочных станций, принадлежащих иностранным нефтяным компаниям: "Эссо", "Шелл", "Б. П.", "Калтекс", "Мобил Ойл", "Аджип", "Тотал". Всего в нескольких ярдах, на углу Муранга-роуд, стоят ларьки, в них торгуют продуктами и горячей снедью. "Марааро Хауз" находится на пересечении дорог. От гула машин ночью трудно уснуть, особенно пока не привыкнешь. Но Вариинга не обращает внимания на шум. Она совершенно свыклась с автомобилями, ведь теперь они ее основное занятие. Вариинга трудится, не жалея сил во имя прогресса нашей родины. Это совсем не та женщина, с которой мы познакомились два года назад. Она давно уже не думает, что единственное, на что она годна, — печатать бумаги для боссов. Не губит свою кожу отбеливающими кремами, чтобы нравиться похотливым болванам. Новая Вариинга не ищет спасения от жизненных передряг в самоубийстве. Да, это совсем другая Вариинга. Она ни за что не согласится быть цветком, который выбрасывают на помойку, едва он начнет увядать. Она рассчитывает теперь только на себя, смело окунается в самую гущу жизни, чтобы испытать в борьбе за существование свои силы, свою человеческую значимость. Любовь к воде — залог чистоты. Герой познается лишь на поле битвы, а хороший танцор — на свадьбе. Вариинга, труженица, твое геройство проверяется в ежедневной борьбе за жизнь!.. Сегодня суббота. Вариинга просыпается на рассвете, разводит примус, ставит чайник. Пока вода закипает, она моется, расчесывает у зеркала волосы, заплетает четыре косички и укладывает их в пучок. Волосы у нее иссиня-черные, длинные, мягкие. Она давным-давно не распрямляет их горячим гребнем. Причесавшись, повязывает голову косынкой, надевает линялые джинсы и рубашку цвета хаки. Полюбуйтесь, как все на ней ладно сидит, будто родилась в таком наряде! Она подходит к комоду, достает платье, которое наденет вечером, и еще одно — на завтра, укладывает их в небольшой дорожный чемодан. Сегодня после работы она едет в Илморог навестить родителей; а завтра в Накуру ее ждут родители Гатуирии. Однако предстоящие развлечения не отвлекают ее от мыслей о работе. Сегодня предстоит замена двигателя; необходимо управиться с этим к часу дня. Вариинга, славный наш механик! Выпив чаю, она проверяет содержимое сумочки — не забыла ли чего. Все необходимое на месте: расческа, крем, зеркальце, платок… и маленький гаечный ключ. Угораздило же сунуть его в сумку! Это по рассеянности, конечно. А еще здесь пистолет, который отдал ей Мутури на хранение. Вариинга никогда с ним не расстается. Он такой маленький, что его легко принять за игрушечный. Все, готова! На пороге Вариинга спохватывается: она оставила измеритель фазы на подоконнике. Обычно она носит его в кармане рубашки, как авторучку, хранит отдельно от другого инструмента. Пистолет и этот приборчик — ее неизменный арсенал. И вот Вариинга выходит из дома. Она шагает по Нгара-роуд, сворачивает в проулок, минует кинотеатр "Шан", проходит по мосту через речку Найроби, пересекает долину Грогэн. Дальше ее путь лежит по улице Ривер-роуд в сторону улицы Тома Мбойи. Гараж, где она работает, находится на Мунья-роуд. Прохожие смотрят ей вслед: как ладно сидят на ней джинсы, рубашка, голубой жилетик! Впрочем, ей все к лицу. Она теперь не гонится за модой, а одевается так, как ей удобно. Но не только манера одеваться преобразила Вариингу. У нее теперь совсем иная походка, карие глаза светятся решимостью, отвагой, спокойной уверенностью в своих силах. Чего ей робеть — она ощущает себя хозяйкой в собственной стране. Вариинга, черная красавица! Ее ум, сердце, руки — все готово для долгого путешествия, называемого жизнью! Вариинга, труженица! Те, кто не знаком с ней, никогда не догадаются, что эта девушка — механик-моторист. Любители хулить женщин, принижать их ум и способности удивились бы, узнав, что она освоила и множество других профессий — наладчика, токаря, сварщика, жестянщика. Кое-кто склонен распространяться в том духе, что женщинам под силу только стряпать да ублажать мужа в постели — ни на что другое, мол, они не годны. Новая Вариинга опровергла эти предрассудки. Она сама себе хозяйка — своей голове, рукам и телу, и не позволяет какой-нибудь страсти или увлечению возобладать над другими. Вот почему она распростилась с секретарской службой, зареклась печатать бумаги негодяям, вроде босса Кихары. Вариинга наконец осуществила свою мечту и поступила в политехнический институт на инженерный факультет, к которому готовилась еще школьницей, пока Богатый Старец из Нгорики не вторгся в ее жизнь. Каждый раз на пороге мастерской она останавливается, завороженная сверлильными станками: от них во все стороны летят снопы искр. Нравится ей также обрабатывать молотком раскаленные добела болванки. Ее наполняет радость и гордость от сознания, что человеческий ум и тело способны одолеть природу — из расплавленного металла она научилась изготовлять полезные, облегчающие жизнь человека вещи. С особым волнением Вариинга постигала секреты двигателей внутреннего сгорания. Запах дизельного топлива и бензина пьянил ее, как дорогие духи. Гул станков, урчание и скрежет сверл и резцов, стук кузнечного молота, голоса рабочих, умудряющихся, несмотря на шум, как-то объясняться друг с другом, — все это казалось Вариинге чарующей музыкой. Восхитительная музыка современного завода! Она закончила два курса политехнического, остается еще год до выпуска. Первый курс оказался самым трудным. Студенты посмеивались над единственной среди них девушкой, но, убедившись в ее усердии и настойчивости, увидев, что она не хуже их управляется с металлом, наравне с ними отрабатывает заводскую смену и не боится никаких трудностей, оставили свои насмешки. А уж когда объявили итоги первого семестра, им и вовсе стало не до смеха. Вариинга оказалась на четвертом месте в группе, состоящей из двадцати пяти человек. Они прониклись к ней уважением, стали относиться как к товарищу, однокашнику, коллеге. Ей приходилось туговато с деньгами. Большинство студентов получали пособие от хозяев предприятий, где они работали до поступления на учебу. Но у Вариинги покровителя не было, она сама платила за свое обучение; накопленных на секретарской службе денег не могло хватить и на квартиру, и на еду. Гатуирия предложил свою помощь, но Вариинга не приняла ее: не хотела быть обязанной ни ему, ни кому-либо другому. Полагаться только на себя! Она умудрялась сводить концы с концами, не чураясь случайных заработков: выучилась на парикмахершу, печатала статьи и диссертации, которые Гатуирия приносил из университета. В первый год она трудилась без передышки. Сразу после лекций садилась за учебники, потом вечерняя работа, потом секция дзюдо и каратэ: надо уметь постоять за себя, быть во всех отношениях независимой. На втором курсе с деньгами стало полегче, когда удалось устроиться в гараж. Поистине в счастливый день попалась ей на глаза эта мастерская под открытым небом. Дело было в пятницу, часа в два пополудни Вариинга очень проголодалась, но, увидев мужчин, копошащихся подле автомашин, решила предложить свою помощь в надежде заработать несколько центов. Выслушав ее, механики покатились со смеху. Один из них, высунув голову из-под капота грузовика, поглядел на Вариингу со злобой. Специально подбирая слова, чтобы больнее ее обидеть, он сказал: — Женщина, тебе только в баре пивом торговать! Здесь не место вилять задом и завлекать мужчин. Вариинга сдержала гнев — нищий не может себе позволить принимать близко к сердцу оскорбления. Всеми правдами и неправдами она решила добиться своего, на чью-то милость ей рассчитывать не приходится. — Я здесь не для того, чтобы вилять задом и завлекать мужчин. Тогда из-под соседнего грузовика вылез другой механик. — Ну, раз такое дело, — сказал он с ехидцей, чтобы все вокруг слышали, — разбери-ка вот этот двигатель и найди неисправность. Мы с утра над ним бьемся. Вариинга ощутила внезапный прилив сил и отчаянной смелости. — Для этого нет нужды разбирать мотор. Заводи! — скомандовала она не терпящим возражений тоном. Когда мотор взревел, она подошла поближе и с минуту пристально глядела под капот. Механики, оставившие свои дела, и несколько прохожих сгрудились вокруг: всем охота поглазеть на женщину, бросившую вызов мужчинам. Оторвав глаза от двигателя, Вариинга принялась осматривать площадку вокруг грузовика, словно отыскивая что-то. Увидав деревяшку, напоминавшую по форме ложку с длинной ручкой, подняла ее, постучала по камню, чтобы сбить с нее грязь. Приставила деревяшку одним концом к корпусу мотора, а другой конец приложила к уху — так доктор стетоскопом выслушивает больного. Она подносила конец деревяшки к разным участкам мотора. Те, кто наблюдал за ней, не могли ничего понять. Вдруг Вариинга замерла, вслушиваясь в перебои третьего цилиндра, потом подозвала механика, который никак не мог найти поломку, вручила ему деревяшку и велела слушать. Он повиновался. Кое-кто в толпе захохотал, другие принялись язвить — чего, мол, подчиняешься безумной бабе? Где это видано, чтобы определяли неисправность в двигателе при помощи деревянной чурки! — Слышишь что-нибудь? — сурово спросила Вариинга, не обращая внимания на насмешки. — Слышу какой-то скрежет, — послушно ответил тот, — словно стальные зубья вгрызаются в металл. — Ну, понял, в чем дело? — экзаменовала механика Вариинга. Остальные затаили дыхание, ловя каждое слово. Мужчина, который мгновение назад корчил из себя всезнайку, теперь беспомощно озирался, ожидая от дружков подсказки. Так и не дождавшись помощи, он пристыженно потупился и, сглотнув слюну, буркнул: — Не понял. Тогда Вариинга разъяснила: скрежет оттого, что ослаб болт, соединяющий коленчатый вал с коробкой передач. Зрители захлопали и разошлись по местам, покачивая головами и приговаривая: — Ну и ну, такого мы еще не видали! Выходит, женщины умнее нас, мужчин! С того дня механики приняли ее как ровню в свою семью, разрешали пользоваться их инструментом, пока собственным не обзаведется. День ото дня их дружба крепла. Наблюдая Вариингу в работе — а она бралась за любое дело, — они проникались к ней все большим уважением. Однажды какой-то заказчик пригнал свою машину на профилактику. Увидев, что капот открывает Вариинга, он засомневался. Но, разглядев, что она хороша собой, завел игривый разговор, попытался ее обнять. Вариинга взглянула на него исподлобья, выражение ее глаз не предвещало ничего хорошего, и отчеканила ровным, твердым голосом: — Я механик. Вы должны судить обо мне по качеству моей работы. А то, что я женщина, к делу не относится. Заказчик принял ее слова за обычное кокетство и еще больше распалился. Вариинга занялась двигателем, а он вновь дал волю рукам. И тогда Вариинга преподала наглецу урок, который он наверняка запомнил на всю жизнь. Она обрушила на обидчика серию приемов дзюдо и каратэ. У того искры из глаз посыпались, он повалился на землю, моля о пощаде. Кое-как поднявшись на ноги, достал из кармана ключи и, взбив на асфальте пыль, умчался прочь. Молва о Вариинге распространилась по всему городу. Вариинга, дочь гордых иреги! В конце месяца все вносили поровну в общую кассу, чтобы заплатить за аренду помещения и покрыть другие совместные расходы. Если кто-то попадал в беду, он мог занять денег в кассе. В этой рабочей общине никто не наживался за чужой счет. Каждый получал по труду и способностям. Заработки зависели от репутации механика, проворности его рук, его искусства. Если у одного скапливалось слишком много заказчиков, он уступал их менее занятым товарищам. Никто из них разбогатеть не мог, но на одежду, еду и жилье хватало. Со временем они надеялись отстроить здесь автостанцию по последнему слову техники на артельных, кооперативных началах. Их старшой уже ходил по этому поводу в муниципалитет, и ему обещали разрешение. Таким образом, в течение второго курса в политехническом Вариинга делила время между занятиями в аудитории, чертежной доской и мастерской "Мвихотори Киванжани". В эту субботу она торопилась в мастерскую, чтобы до отъезда в Илморог успеть закончить начатую накануне работу. Рядом с мастерской закусочная. Вариинга хранит в ней свой комбинезон и ящик с инструментом. Большинство рабочих, пьющих здесь утренний чай, ее знают. Они обмениваются приветствиями, шутят. Механики считают Вариингу своей, она такой же труженик, как и любой из них. Надев замасленный комбинезон, она оставляет платье и чемодан на хранение, выходит наружу, пересекает улицу. Вот и мастерская. Сердце у Вариинги учащенно бьется. Что случилось: механики сгрудились в кучу, лица скорбные?! Отчего у них такой озабоченный вид? День только начался… Торопись же, Вариинга, прибавь шагу! — Что это вы такие грустные? — Не спрашивай, подруга! — Да говорите же, в чем дело! — Наш участок продан. — Кем? — Муниципалитетом, конечно. — А кому? Кому отдали то, что обещано нам? — Боссу Кихаре и кучке американцев, западных немцев и японцев. — Боссу Кихаре? — Ему и так принадлежит почти весь Найроби. Собирается выстроить на этом месте огромный отель для туристов. — Чтоб нашим женщинам было где продавать себя иностранцам! — Строят еще одну фабрику современной проституции! — Что верно, то верно. Туристские отели для того и существуют, чтобы растлевать народ, превращать нас в продажных слуг, поваров, чистильщиков обуви, горничных, носильщиков… — Короче, рабов, ублажающих чужеземцев. Босс Кихара, бал Сатаны, иностранцы, финансовые компании, туризм… Мысли пляшут в голове Вариинги. Она вспоминает Мутури, Вангари и вожака студентов. Выпустят ли их когда-нибудь на свободу? Вариингу душит ярость. — Из огня да в полымя! — вздыхает один из механиков, ни к кому не обращаясь, словно говоря сам с собой. — Расчистив пустошь от папоротников, ее засаживают фиговыми пальмами. А ведь они иссушают почву. — Нельзя сидеть сложа руки, — говорит Вариинга, глотая слезы досады. — Будет ужасно, если мы смиримся, не окажем сопротивления. В сердце ее бушует мятежная отвага.3
Тот же субботний день, вторая половина дня. Вариинга и Гатуирия едут в Илморог. Гатуирия сидит за рулем красной "тойоты-короллы". Они заночуют в Илмороге, а наутро отправятся в Накуру. Сегодня они объявят ее родителям, что решили пожениться. На Гатуирии серые брюки, белая рубашка, коричневый кожаный пиджак. Вариинга успела переодеться в длинное китенге с красными и белыми цветами, волосы заплетены в косички — от лба до затылка. Трудно узнать в этой нарядной женщине человека, спешившего утром в мастерскую в джинсах и полдня отработавшего в промасленном комбинезоне. Еще труднее вообразить, что эта модница прекрасно владеет приемами дзюдо и каратэ и даже умеет обращаться с оружием. Гатуирия краем глаза наблюдает за Вариингой, он не устает любоваться ею! Пройдет немного времени, и эта красавица станет Вариингой ва Гатуирией. При этих мыслях молодойчеловек, как всегда, испытывает щемящее чувство, в теле вскипает кровь, сердце взмывает будто на крыльях… Счастливы те, чьи сердца бьются в унисон. Девушка у калитки зовет юношу, когда он возвращается с поля боя, отстояв родину от врагов. Юноша радуется, наблюдая за любимой, набирающей в ручье воду или срывающей с грядки овощи. По ночам возлюбленные вместе сторожат побеги проса; в их жилах струится молодая, горячая кровь, сердца стремятся навстречу друг другу. "Любимая, что же мне делать? Любовь лишила меня покоя!" В такие минуты юноша, словно сказитель, играющий на гикаанди, говорит прекрасными стихами, а девушка ловит каждое слово любимого… Такие же чувства переполняют теперь Гатуирию и Вариингу. Гатуирия заводит разговор о музыке. Вскоре после бала Сатаны он решил, что период поисков завершен и нельзя откладывать работу на завтра — завтра может и не наступить! Он зарекся кому-нибудь рассказывать о своем замысле, пока работа над ораторией не будет завершена. Партитура для многоголосого хора и оркестра, насчитывающего добрую сотню инструментов, подвигалась медленно. Пришлось отложить помолвку; он не знакомил Вариингу с родителями, пока работа не подойдет к концу. Два года Гатуирия посвятил своему детищу, трудился, не разгибая спины. Когда его посещала муза, он запирался в кабинете и в эти часы никого к себе не пускал. Любое дело человеку под силу, если за него взяться всерьез. Гатуирия не только достиг творческих высот, но к тому же завоевал сердце Вариинги. Она приняла его предложение, и тогда он написал отцу, сообщая, что хотел бы вернуться после долгого отсутствия в родительский дом и ввести в него свою избранницу. Отец тотчас ответил: "Мой единственный сын! Твое решение похвально. Ты можешь рассчитывать на отцовское благословение. Мое неохватное имущество нуждается в толковом управляющем, получившем современное образование. Приезжай скорее, чтобы я смог заказать тебе костюмы у лучшего портного и самые дорогие кольца. В твою честь будет зарезан тучный теленок, мы весело попируем, ибо ты словно воскрес из мертвых: сгинул без вести, а теперь нашелся. Привози свою суженую, порадуемся твоему счастью. Господь услышал мольбу наших сердец!" — Значит, завтра заколют теленка в твою честь! — говорит Вариинга. — И не одного, — сквозь смех отвечает Гатуирия. — Судя по письму, родители ждут не дождутся блудного сына, который долго странствовал вдали от родины, растрачивая молодые годы на буйные пороки. Уверен, отец неустанно молился богу, чтобы тот наставил меня на путь истинный, чтоб я перестал метать бисер перед свиньями! — Теперь выяснится, что ты по-прежнему его мечешь. — Когда он увидит, кого я ему привез, его сердце возликует. — Из-за меня или из-за оратории? — спрашивает Вариинга с озорными искорками в глазах. — Как ты можешь сравнивать свою красоту с нотной бумагой! — Гатуирия притворно гневается. — После бала Сатаны тебя как будто подменили — и внешне, и внутренне. Твоя кожа нежнее, чем самое дорогое притирание; глаза сверкают ярче звезд на небе. Щеки как спелые ежевички. В твоих волосах хочется спрятаться, как в тени дерева. А твой голос слаще любого музыкального инструмента. Вариинга, любовь моя, ты музыка души! Его слова поражают Вариингу, она вздрагивает. Тень скользит по ее лицу, искорки в глазах гаснут. Как же так: те же слова она слышала два года назад во сне… Вариинга не хочет говорить Гатуирии о внезапно охватившем ее страхе. Ей неприятны его комплименты. Она старается направить беседу в иное русло. — Расскажи об оратории, — просит она. — Никогда бы не подумала, что музыку можно сочинять годами. — Мне хотелось отразить всю историю нашей страны. Оратория написана для оркестра, состоящего из сотен инструментов, для тысячеголосого хора. В партитуре указано, где вступать каждому инструменту, каждому певцу. Мой друг, музыка разная бывает; песня песне рознь! Если бы я тебя не встретил, не заглянул в твои глаза, если бы любовь не окрылила мое сердце, вряд ли оратория была бы написана. Сидя запершись в кабинете, я видел перед собой твое прекрасное лицо, ты ободряла, поддерживала, утешала меня. "Вот закончишь работу, — говорила ты, — и мы уедем вместе. Тебя ждет особая награда, несравненный приз…" Гатуирия решил преподнести ораторию Вариииге вместо обручального кольца. Он подарит ей экземпляр партитуры в присутствии родителей, а первое исполнение состоится в день свадьбы. Завтра они сделают важный шаг навстречу своему союзу: Гатуирия передаст девушке двести листов нотной бумаги — результат двухлетних напряженных трудов… — Я спрашиваю тебя о музыке, а ты опять за свое: "Твое прекрасное лицо!.." — сердится Вариинга — ей не удается изменить тему. Сколько трудностей пришлось ему преодолеть! Как объяснить все это словами? Работа заняла два года, за две минуты о ней не расскажешь. Он, конечно, может восстановить в памяти весь процесс поиска гармонии голосов и звуков: они сливаются воедино, а затем разбегаются каждый по своей тропинке, а потом снова сливаются и текут, подобно Тхиририке, несушей свои воды по долине к морю. Голоса, сливаясь, дополняют друг друга, как цвета радуги. То же происходит и с музыкальными инструментами. Гатуирия отчетливо слышит, как они звучат в унисон, а потом по очереди солируют, ведут каждый свою тему. Сердца слушателей будут то взмывать ввысь, то никнуть в пучине скорби. Гатуирия видит их лица; по окончании концерта они выходят из зала, негодуя на тех, кто продает душу чужеземцам; восхищаются подвигами героев, спасших народ от иностранной кабалы. В первую очередь Гатуирия рассчитывает пробудить своим сочинением патриотизм в слушателях, любовь к Кении. Мысли бурлят в его голове, одни образы сменяются другими; видения борются между собой за его, Гатуирии, благосклонное внимание. Он крутит баранку, "тойота" несет их в Илморог, а в голове звучат голоса певцов, призывные звуки инструментов…ПЕРВАЯ ЧАСТЬ Доколониальные времена, когда еще не вторглись в страну английские империалисты. Голоса из прошлого.
Калебас Гикаанди Однострунная скрипка Барабан, флейты Погремушки, рожки Струнные, духовые, ударные инструменты…
| Танцуют, | Наши женщины | Расчищают лес Корчуют кусты |
| Загадывают загадки | Наши мужчины | Копают Разбивают комья глины |
| Рассказывают истории | Наши дети | Сеют Ухаживают |
| Молятся | Юноши | |
| Улаживают распри | Девушки | Охраняют посевы от птиц |
| Участвуют в ритуальных церемониях | Дети Толпа | Собирают урожай Пасут стада Строят дома Куют железо |
| Рождение | Массы | Делают глиняные |
| Инициация Свадьбы Похороны | сосуды и посуду |
ВТОРАЯ ЧАСТЬ Иностранный говор Голоса империалистов Трубы, барабаны
| Тянутся к нашей земле Им нужен наш труд, рабы, все богатства страны | Иностранцы со своими армиями | Их цели: наши угодья наши стада наш урожай наши фабрики наш созидательный труд |
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ Иностранный говор, липкий от лицемерия Барабаны Флейты Фортепьяно, орган Церковное песнопение
| Они требуют верности от: Вождей Епископов Феодалов — торговцев | Чужеземцы Священники Просветители Администраторы | Их цель: богатство. Средства достижения цели: разделяй и властвуй! Улавливай души! |
ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ Голоса рабства Фортепьяно Гитара Саксофоны Барабаны и трубы
Люди собирают чайный лист Люди собирают кофейные бобы Люди собирают хлопок Люди жнут пшеницу Голоса фабричных рабочих
ПЯТАЯ ЧАСТЬ Голоса и звуки новой битвы за спасение души народа Рожки Барабаны Флейты Голоса возрождения Голоса наших героев Голоса партизан Голоса революции Революционное единство рабочих и крестьян…
Гатуирия объясняет Вариинге, что символизируют отдельные части оратории, различные голоса и звуки; какие понадобятся инструменты для передачи накала борьбы за спасение народа от империалистического рабства; объясняет, почему африканскую музыку трудно записать при помощи нотной грамоты, применяемой в Европе. Внезапно он замечает, что Вариинга его не слушает. — В чем дело? — спрашивает Гатуирия. — Ты упомянул рабочих и крестьян, я вспомнила Вангари, Мутури и… и… — Того студента? — Да, и его. — Святая троица! — восклицает Гатуирия. — Рабочий, крестьянка, интеллигент… — Ни на миг о них не забываю, — продолжает Вариинга, — в мельчайших подробностях вижу суд. Господи, поистине святые! Да разве можно их забыть?..
4
На суд пришли почти все жители Илморога, Зал забит до отказа. Публика разделилась на два лагеря. В одном — Кихаху ва Гатхика, Гитуту ва Гатаангуру, Ндитика ва Нгуунджи, Кимендери ва Канийанджи и многие другие участники бала Сатаны. В другом — рабочие, крестьяне, студенты, мелкие торговцы. Судья — европеец в кроваво-красной мантии. Судебный писарь ведет протокол и переводит прения сторон с английского на кикуйю. На скамье подсудимых — Мутури, Вангари и бородатый студент. Их охраняют тюремные надзиратели и полисмены. Всем троим предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка на территории Илморогского гольф-клуба, в результате чего семь человек погибло… Гатуирию и Вариингу вызвали в полицейский участок Илморога и в ходе допроса предложили выступить на суде в качестве свидетелей обвинения. Оба отказались. Зато Гитуру, Кихаху и других жуликов уговаривать не пришлось. Показания давали также полисмены. Но основным свидетелем был Робин Мваура, владелец матату. Он показал, что в субботу накануне конкурса к нему в матату сели два пассажира: Вангари и Мутури. Дело было в Найроби. С самого начала он якобы учуял, что они не внушают доверия. Вангари даже отказалась платить за проезд, кричала, что в Кении все теперь должно быть бесплатно. Мутури явно состоял с Вангари в сговоре, он уплатил даже за ее проезд! Всю дорогу от Найроби до Илморога они трещали о единстве рабочих и крестьян, о том, что стране нужен коммунизм, за который агитируют студенты университета. Мваура своими ушами слышал, как Вангари грозилась сорвать праздник в пещере; она, мол, обманом заставит найробийскую и илморогскую полицию поверить в то, будто это сборище бандитов и грабителей. Мваура также слышал, как Мутури обещал привести рабочих и крестьян и устроить в пещере потасовку в отместку за то, что его уволили из строительной компании "Чемпион". Мваура также заявил, что обвиняемые находились в сговоре с неким Мвирери ва Мукираи. Мвирери всю дорогу помалкивал, однако его молчание было не чем иным, как лицемерием, потому что в конце концов именно он вручил Вангари и Мутури приглашение на праздник. Когда Мвирери убедился, что конкурс сорван, он улизнул из пещеры, договорившись, что он, Мваура, отвезет его вечером домой. Но случилось непредвиденное — недалеко от Кинеени машина перевернулась. Мвирери погиб, а матату разлетелось вдребезги. Сам Мваура чудом спасся… Мваура еще не кончил говорить, когда прокурору передали записку. Прочтя ее, тот подошел к судье и зашептал ему что-то на ухо. Судья тут же объявил, что обвинения против подсудимых не доказаны а стало быть, Мутури, Вангари и студент немедленно освобождаются из-под стражи. Публика даже не стала слушать, какой статье уголовного кодекса это решение соответствует. Рабочие, крестьяне и студенты радостно загудели. Вариинга выбежала из зала, торопясь обнят Вангари, Мутури и лидера студентов. Но тут ее ждала неожиданность. Оказалось, что здание суда окружено вооруженными до зубов солдатами. Едва Вангари. Мутури и студент показались в дверях, на них надели наручники. Об этом эпизоде было объявлено лишь спустя две недели. А через месяц Мваура приобрел три новеньких автомобиля и переоборудовал их в матату. Он основал фирму "Современная транспортная компания". Одним из ее директоров стал распорядитель бала. Такой же пост занял в фирме Кимендери ва Канийанджи… — Живы ли они? — спрашивала Вариипга Гатуирию. — Боюсь, что их отвезли в горы и прикончили. — Кто знает? — отзывался Гатуирия, крутя баранку "тойоты". — Подождем до двенадцатого декабря. Обычно в годовщину Независимости бывает амнистия. Даст бог, и их отпустят вместе с уголовниками. — Аминь! — страстно заключила Вариинга. — Если так, то в этот день в душе моей зазвучит неземная музыка!Глава одиннадцатая
1
Наш Илморог как будто совсем не меняется. Прошло два долгих года после бала Сатаны, а его контрасты все те же. Золотые Холмы продолжают застраиваться. Особняки с золочеными канделябрами на стенах, устланные персидскими коврами, растут как грибы на баснословные доходы местных воротил. Даже кровати из чистого золота и серебра стали нормой, никого из соседей этим не удивишь. Еще прибавилось в городе отделений американских, канадских, западногерманских, французских, английских, итальянских и японских фирм. Автомобили служат мерилом иностранного засилья. Нет такой марки машин, которую нельзя увидеть на улицах Илморога. Иностранные конторы, склады, страховые компании и банки, куда стекаются народные деньги, заполнили весь город. Только в последнее время в этом заповеднике делячества отстроились еще два американских банка: чикагский и нью-йоркский. Разрослась и Нжерука. Картонные лачуги, сточные канавы со смердящей жижей, отходы фабрик, нечистоты — всего этого тоже прибавилось. Окрестные деревни, в том числе и Нгаиндейтхия, где жили раньше родители Вариинги, проглочены Нжерукой. Нищие, безработные, торговцы запрещенным самогоном, разносчики апельсинов и мандази[36], проститутки — трущобы Нжеруки трещат от этого сброда по швам. В лавчонках бойко торгуют мясом, яйцами, "сукума вики", овощами, солью, пивом, перцем, луком и мукой. Хозяева лавок и владельцы трущоб живут на Золотых Холмах, лишь изредка наезжая в Нжеруку за причитающейся им арендной платой; большинство же нанимает громил, чтобы те собирали для них подать. Даже "Ангелы ада" открыли свою контору в Илмороге. Родители Вариинги живут теперь в Нжеруке, хотя по старинке называют свой квартал "Нгаиндейтхия". Их дом чуть больше соседних: когда Вариинга работала секретаршей, она помогала им отстроиться. Теперь из тех небольших денег, что она зарабатывает в автомастерской, она дает кое-что родителям на еду и плату за обучение младших детей. Здесь, в Нгаиндейтхии — или, по-новому, в Нжеруке, — Гатуирия и Вариинга проведут остаток дня и ночь.2
Суббота, около пяти вечера. Отца Вариинги нет дома, ее дочь Вамбуи тоже отлучилась — ушла погулять с другими детьми. Гостей встречает мать Вариинги. Молодые люди объявляют ей о своем решении пожениться. Мать Вариинги смущенно покашливает. Ей уже немало лет, но она из тех, кого годы не старят. Платье в черных и белых цветах слегка полиняло, но сидит на ней ладно. Она готова благословить жениха и невесту, но задает один вопрос, всего лишь один: — Хочу кое о чем спросить тебя, Вариинга, в присутствии этого молодого человека. Пускай и он услышит твой ответ. Ты сказала ему, что у тебя почти взрослая дочь? Ей бы, по старым обычаям, уже впору проходить обряд посвящения. — Это мою маленькую Вамбуи ты называешь взрослой? — смеется Вариинга. — Я ни от кого не скрываю, что она у меня есть, и Гатуирия тоже о ней знает. Он ее видел, когда был здесь в прошлый раз — два года назад, во время конкурса в пещере. Они, кстати, очень похожи, никто и не догадается, что они не родные. Тебе не кажется, мама, что они как близнецы? Только Гатуирия по сравнению с ней старик! — Ты права, — соглашается мать Вариинги. — Они действительно похожи. — Подумаешь, родные, не родные! — Гатуирия явно расстроился. — Похожи, не похожи — разве в этом дело? Ребенок есть ребенок. Мы все из одного чрева — чрева Кении! Пролитая за свободу кровь смыла различия между родами, кланами, народностями. Сегодня нет ни луо, ни кикуйю, ни камба, ни гириама, ни лухайя, ни масаи, ни меру, ни календжин, ни туркана. Мы все дети одной матери. Наша мать — Кения! — Верно сказано, молодой человек! — кивает пожилая женщина. — Да поможет тебе бог, пусть твои поля всегда плодоносят. Сегодня матери готовы выбросить своих детей на помойку, лишь бы ухажеров не отпугнуть. — Я сама в свое время чуть руки на себя не наложила, — говорит Вариинга, — и все потому, что Богатый Старец от меня отвернулся. Даже не верится! Бросаться под поезд из-за тех ничтожеств, что держат Мутури и его товарищей за решеткой. — Только безумец сосет грудь мертвой матери, — говорит пожилая женщина. — Молодо-зелено! — Не надо об этом! — Гатуирия не хочет, чтобы Вариинга вспоминала свои мытарства. — Незачем ворошить прошлое. Что было, то было… — Я давно уже не горюю о том, что потеряла, — усмехается Вариинга. — Если бы я вышла замуж за Вайгоко с волосатой грудью, не видать мне такого молодца, как ты. Впрочем, у нынешних Вайгоко хватает денег на то, чтобы прикрыть ими грудь. Деньги нынче заменяют молодость. — Но деньги не заменят жизни, — говорит мать Вариинги. — Старик или юноша, разве в этом дело? Счастье человека в его делах на этой земле. Вариинга, показала бы Гатуирии Илморог, а я пока приготовлю ужин. Когда придете, отец уже будет дома — расскажете ему о своих планах. — Спасибо, мать. — Гатуирия встает со скамьи. — Я с тех самых пор Илморога не видел.3
И снова Вариинга и Гатуирия направляются в сторону Золотых Холмов. Воздух прохладен и свеж. Вечереет. Трава в илморогском парке мягкая, зеленая. Густые и раскидистые кроны деревьев напоминают раскрытые зонты. Гатуирия останавливает "тойоту" на обочине, им хочется походить по траве среди деревьев. Они взбираются на гребень холма, любуются лежащей внизу долиной, пшеничными и ячменными полями, принадлежащими пивоваренной компании "Тхенгета". Вот оно, счастье: молодая кровь струится по долинам любви. Вариинга и Гатуирия стоят рядом, касаясь друг друга плечами, устремив взгляд на долину и горы на горизонте. — Я всегда радуюсь, когда слышу те твои слова, которые ты сказал дома, — начинает Вариинга. — А что я сказал? — спрашивает Гатуирия. — Всего уж и не упомню. — Что нет ничего постыдного, когда девушка ждет ребенка. Что внебрачный младенец не прокаженный. — Я просил тебя не возвращаться к прошлому. Будем счастливы сегодняшним днем и завтрашпим. Еще один рубеж преодолен: твоя мать нас благословила. Так радостно на сердце. Я счастливый человек: сочинил музыку, о которой долгие годы мечтал. А теперь мне достался особый приз — самая прекрасная девушка в мире! — Ты как те воры из пещеры — так же хвастаешься своими "достижениями", — смеется Вариинга. — Подождал бы лучше, когда другие тебя похвалят. — Но ведь это правда. Я готов петь от счастья. Одного только не хватает, чтобы моя радость прорвала плотины и вышла из берегов. Отгадай — чего? — Не могу я прочесть письмо, запечатанное в конверте твоего сердца, — говорит Вариинга, а сама едва сдерживает смех: так же витиевато выражался босс Кихара. — Скажи же, чего тебе недостает, тогда я успею отскочить в сторону, чтобы меня не унес все сметающий поток твоей радости. — Мне не хватает благословения моих родителей, отвечает Гатуирия. — Завтра в Накуру… — А на кого из них ты похож? Раньше Вариинга не спрашивала Гатуирию об этом. Он не знает, что ответить. В глубине души Гатуирия всегда стыдился родителей за их раболепие перед западной модой. Европа — вот их бог. Гатуирия не знает, как они завтра встретят Вариингу, как отнесутся к тому, что у нее ребенок от другого. Но одно он знает наверняка: как бы они ее ни приняли, Вариинга его суженая, избранница, невеста. Кроме того, неизвестно, как сама она отнесется к его родителям. Раскусит их и станет презирать. Она и к нему может перемениться, узнав, что в его отчем доме царят порядки, которые они оба много раз осуждали. Вот почему Гатуирия так и не показал Вариинге приглашение, которое его родители разослали знакомым. При мысли об этой злосчастной открытке Гатуирия едва не плачет от стыда. — Ты что, забыл, как выглядят твои родители? Отмалчиваешься, на вопрос не отвечаешь, — теребит его Вариинга. — Зажмурься, — с наигранной веселостью говорит Гатуирия, — а завтра, в два часа пополудни, откроешь глаза и увидишь родителей Гатуирии. Тогда и решай, в кого я такой уродился. Его рука обвивает талию Вариинги, она кладет голову ему на плечо. — Завтра… скорее бы оно настало! — вздыхает Вариинга мечтательно. — Подымемся на заре, как ранние птички… Слезы бегут по ее щекам, точно капли утренней росы по гладкой кожице спелого плода. Только сейчас не утро, а вечер, и солнце уже садится на Золотые Холмы. — Что с тобой, моя любовь, почему ты плачешь? — беспокоится Гатуирия. — Какая тяжесть у тебя на сердце? Может, я обидел тебя?4
— Не в тебе дело, — отвечает Вариинга. — Не обращай внимания. Иногда я плачу безо всякой причины, но сегодня нам вручили предписание муниципалитета освободить помещение мастерской. — В самом деле? А куда же вам деваться? Кому отойдет участок? — Боссу Кихаре и его новой фирме "Парадайз", строящей отели для туристов. — Это тот самый Кихара, который тебя уволил, когда ты отказалась стать его наложницей? — Тот самый, вместе с заморскими дружками. Обобрал нас до нитки. Разбой среди бела дня! Сбудется пророчество: "Всякому имеющему дастся и приумножится", — вспоминает Вариинга притчу, услышанную от Мвирери ва Мукираи. — "А у неимущего отнимется и то, что имеет", — заканчивает Гатуирия, как и Вариинга, будто проповедь с амвона читая. Оба улыбаются, потом каждый погружается в свои мысли. Вариинга вздыхает. — Помнишь, я рассказывала тебе сон, который часто видела, когда была еще школьницей? — Люди в лохмотьях распинают сатану? — …а на третий день его присные в темных костюмах и галстуках снимают его с креста… — …опускаются перед ним на колени и кричат: "Осанна! Осанна!" Как видишь, я помню твой сон. А что я тебе тогда ответил? Иконы и фрески в церквах навевают кошмары. Но отчего ты снова заговорила об этом? — Гатуирия пристально глядит на Вариингу. — Я снова видела этот сон прошлой ночью, а ведь в церковь я давно не хожу. На сей раз он кое в чем отличался: люди в галстуках появились не на третий день, а сразу, как только дьявола втащили на крест. Их сопровождали бронемашины и артиллерия. — А что же люди в лохмотьях? — спрашивает Гатуирия. — Как они поступили? — Рассеялись, убежали в леса и горы. Я проснулась, не досмотрев этот страшный сон до конца. — Не придавай значения снам. — Гатуирия старается приободрить Вариингу. — Два года назад ты видела броневики наяву, они разгоняли рабочих, крестьян и студентов, которые пришли к зданию суда, где слушалось дело Мутури и его товарищей. Итак, броневики приснились потому, что тебе предстояла поездка в Илморог. Что и требовалось доказать! — Очевидно, ты прав, — соглашается Вариинга, а ей делается легче на душе. — Из тебя бы вышел превосходный провидец, второй Яхья Хуссейн! Открыл бы салон и жил безбедно. "Профессор Гатуирия, толкователь кошмаров. Чудодейственные снадобья от всех болезней! Редкостные приворотные зелья! Профессор Гатуирия первый предсказал, что наступит день, когда солнце взойдет утром и закатится вечером!" Вариинга и Гатуирия заразительно хохочут. Верно говорят: любовь не знает страха. Для нее нет ни бед, ни боли, ни дурных снов. Любовь не помнит дня вчерашнего и позавчерашнего; она верит только в завтра и послезавтра, сулящие вечное блаженство. Будущее для Гатуирии и Вариинги начнется завтра… — Но я плачу не из-за мастерской и не потому, что видела дурной сон. — Тогда вытри слезы. — Не выйдет, они текут и текут — это от печали и радости. — Что ты хочешь сказать? — Я давно не была в Накуру — с тех пор, как едва не погибла на переезде. Накуру — начало моих бед, а завтра в Накуру начнется мое счастье. — Что же в этом плохого? — спрашивает Гатуирия. — Завтрашний Накуру отомстит за Накуру вчерашний. — Он хочет успокоить Вариингу. — Это так. Накуру — источник слез и смеха. — Аминь! — восклицает Гатуирия. — Накуру — земля чудес, превращающая печаль в радость. Позволь, я осушу твои глаза, моя любовь! — Профессор вранья! — Вариинга притворно отталкивает Гатуирию. — Где это ты научился заморской привычке целоваться? Нет, все-таки живучи пережитки! — А тебе хочется ласки туземцев! — смеется Гатуирия. Оба напевают строчки из народной песни. Гатуирия.Я тебя в объятиях сжимаю,
Я тебя в объятиях сжимаю.
Любимая, тебе не больно?
Ты меня в объятиях сжимаешь,
Но не больно мне в твоих руках.
Держи крепче и не отпускай!
Мы уйдем с тобой отсюда вместе.
Не бросай меня — озябну я один!
Буду танцевать я на горе,
Буду танцевать я на горе —
Ведь в долину не пускает злой плантатор!
Глава двенадцатая
1
Когда в воскресенье утром Гатуирия приехал за Вариингой, она уже ждала его. Наряд ее был тщательно продуман. Гатуирия даже не сразу узнал ее. На ней было платье народности кикуйю. Коричневая ткань, собранная у шеи в складки, обнажала левое плечо. На правом плече материя была сколота так, что напоминала цветок. Длинное одеяние доходило до щиколоток. Кисти вязаного кушака из белой шерсти доставали до земли. На ногах сандалии из леопардовой шкуры; ожерелье из разноцветного бисера; в ушах — серьги народности ньори. Волосы гладко зачесаны назад. Вариинга показалась Гатуирии истинным дитя красоты, исполненным всех прелестей, вдохновенным созданием взыскательного вкуса! — Подумать только, и материя-то простая, а как смотрится! — наконец придя в себя, восхищенно произнес Гатуирия. — Ты хочешь сказать, что не я красивая, а платье! Тогда я его немедленно сниму, — шутливо пригрозила Вариинга. — Кожа становится гладкой от притираний, — в том же шутливом тоне ответил Гатуирия, — но душистую мазь делают не из красавиц. — Я испытываю чувство вины, мне стыдно наряжаться как на свадьбу. — Голос Вариинги погрустнел. — Почему? — Не то сейчас время, чтобы думать об украшениях, — ответила Вариинга. — Нельзя отвлекаться на пустяки, нужно быть все время наготове. — А к чему ты себя готовишь? — К предстоящим битвам. — Они не за горами, — откликнулся Гатуирия. — А пока что надо жить сегодняшним днем.Если бог меня услышит,
Я ему пожалуюсь на женщин:
Дал он им бесплатно прелести неземные,
А они губят их отбеливающими кремами! —
Торопись, молодой человек!
Ждет тебя божий суд,
Потому что глаза, что дал тебе творец,
Замечают лишь заморскую красу! —
2
Путешествие в Накуру оказалось на редкость приятным. Они проехали Ланет, и красная "тойота" свернула к Нгорике. Молодые люди и не заметили, как доехали до дома мистера и миссис Испаниоры Гринвей Гитахи, стоящего в Небесных Садах… Вы же сами были там и знаете это райское место, так что к сказанному мне нечего добавить.3
Войдя в ворота, долгожданные гости зашагали по двору к дому, испытывая радостное волнение. Но тут им попались на глаза Кихаху ва Гатхика, Гитуту ва Гатаангуру, Ндитика ва Нгуунджи, Кимендери ва Канийанджи и еще многие другие участники достопамятного бала Сатаны в Илмороге. Робин Мваура, владелец транспортной компании, тоже был здесь. В своих новеньких матату он доставил сюда иностранных гостей. Вариинга отказывалась верить глазам, но, увы, они ее не обманывали: среди приглашенных оказались даже ее тетка и дядя…4
Говорите, этого не может быть? Дайте же мне сил, вы, которые сами просили рассказать вам все без утайки. Дайте мне язык, дайте нужные слова…5
О том, что затем последовало, рассказывалось множество раз, но те, кто не был очевидцем, до сих пор отказываются верить. Дайте же мне сил, ждущие от меня правды, дайте язык и нужные слова…6
Гатуирию и Вариингу встретили у ворот слуги в униформе: полосатые брюки, черные смокинги, цилиндры, белые перчатки. Они отвели дорогих гостей в парадную залу, где их ждали отец Гатуирии и старейшины — узкий круг избранных. Отец Гатуирии собирался первым приветствовать невесту сына, первым коснуться ее руки. Так уж повелевает нынешний этикет. Гости выстроились в две шеренги и дружно аплодировали молодой паре. На мужчинах были темные костюмы, белые кружевные сорочки, галстуки-бабочки. На женщинах — роскошные туалеты всех цветов радуги, шляпы, белые перчатки. За ними вдоль стен расположились иностранцы в легких из-за жары костюмах. Они с любопытством наблюдали за происходящим, размышляя о комических результатах их цивилизаторской миссии в Африке. Вариинга взглянула на тетку с дядей, словно желая развеять одолевшие ее сомнения, и заметила, что родственники прячут от нее глаза: должно быть, им за нее стыдно — не так одета, как следовало бы… Перед входом в залу была расстелена алая дорожка, а в самой зале ноги утопали в толстом зеленом ковре. С потолка, подобно гроздьям стеклянных плодов, свисали люстры. Отец Гатуирии сидел на возвышении среди пестрых подушек. Слева и справа от него на стульях пониже расположились старейшины. Новость о возвращении единственного сына в отчий дом достигла едва ли не самых отдаленных уголков провинции, ее разнесли те, кто сподобился быть приглашенным на праздник. Ну как же — тот, кого считали пропащим, ищет теперь отцовского благословения, а также покровительства старейшин. Об этом говорила вся округа. У Вариинги возникло ощущение, будто они снимаются в кино: алая дорожка, пушистый зеленый ковер, расфранченная толпа… Она ступила на алую дорожку, потом на зеленый ковер, обвела взглядом собравшихся в зале людей, и тут ее глаза остановились на отце Гатуирии. Это отел ее жениха? О господи, за что? Богатый Старец из Нгорики! Сидит на постаменте из подушек и протягивает руки, готовый принять ее. Отец Гатуирии? Отец Вамбуи!7
— Отец, это… — начал было представлять свою невесту Гатуирия, но Старец взмахом руки остановил его. Он был крепкого телосложения; его гладкая лысина сверкала под яркими огнями люстр. Лицо оставалось непроницаемым, он ничем не выдал себя, и голос не дрогнул, когда он попросил всех присутствующих, в том числе и Гатуирию, покинуть залу под тем предлогом, что ему необходимо для более близкого знакомства поговорить с будущей невесткой с глазу на глаз. — Гатуирия, иди поздоровайся с матерью, а старейшин проводи к остальным гостям. Затвори за собой дверь и передай, пожалуйста, чтобы никто сюда не входил. Похотливо разглядывая Вариингу, гости оставили залу. Кто-то из них буркнул себе под нос: — До чего же хороши эти нынешние молодые! — Эх, старость — хуже стихийного бедствия! Приглашенные решили, что все идет по плану, так, дескать, и должно быть. Никому не пришло в голову, что случилось нечто непредвиденное. Знали это только Вариинга и отец Гатуирии. Отец Гатуирии? Отец Вамбуи!8
Руки Богатого Старца слегка подрагивали, когда он вытянул их перед собой и опустил на лежавшую перед ним Библию. Его глаза ни на миг не отрывались от лица Вариинги; губы тоже дрожали; он не знал, что сказать, с чего начать. Словно лава его красноречия застыла. Вариинга стояла неподвижно, без страха глядя на Богатого Старца. Только сумочку переложила из правой руки в левую. — Садись, прошу! — предложил Старец, пододвигая ей стул. Но Вариинга не шелохнулась, не произнесла ни слова. Старец из Нгорики снова плюхнулся на подушки, по-прежнему не сводя с нее глаз. — Ты знала… что Гатуирия — мой единственный сын? Вариинга покачала головой. Богатый Старец снова поднялся: — Станем на колени, помолимся вместе… Вариинга пожала плечами. — Пожалуйста, — настаивал Старец, — господь укажет нам путь! Вариинга с места не двинулась. Богатый Старец из Нгорики опустился перед ней на колени. Вариинга взглянула на него, как судья на нераскаявшегося преступника, который просит о снисхождении. Богатый Старец начал было молитву, но слова не шли. Губы Вариинги разжались — она едва не рассмеялась ему в лицо. Богатый Старец из Нгорики открыл глаза, посмотрел снизу вверх на Вариингу и прочел в ее взоре презрение и насмешку. Губы его снова задрожали. Он поднялся с колен и, сцепив руки за спиной, начал вышагивать по ковру из конца в конец. То и дело останавливаясь, он касался то стола, то стула, на котором до того сидел. Вариинга не сводила с него глаз. Внезапно он остановился напротив нее. — Это мне испытание от господа, — произнес он сдавленным голосом и опустил глаза, не смея встретиться с Вариингой взглядом. — Ты понимаешь, что теперь ваши с Гатуирией планы неосуществимы? Вариинга молча глядела на него. На гладкой лысине выступили крупные капли пота. Внезапно Вариинга почувствовала неловкость. Острая стрела жалости кольнула ее в сердце — она вздохнула. Богатый Старец уловил перемену и, решив, что непреклонность Вариинги дала трещину, поспешил эту брешь расширить: — Жасинта Вариинга! Чего бы я не сделал — проси что угодно, только избавь от тяжкой ноши. Жасинта, пожалуйста! Во имя женщины, давшей тебе жизнь! Мое положение в обществе, вера, благополучие — все это теперь в твоих руках. Сними же камень с души! Вариинга снова едва удержалась, чтобы не расхохотаться, чувство жалости пропало. Она произнесла лишь одно-единственное слово: — Как? Богатый Старец из Нгорики давно не слышал голоса Вариинги, и это слово пронзило его. Глядя в ее карие глаза, он заговорил быстро-быстро, уповая на то, что ему удастся разжалобить девушку: — Оставь Гатуирию в покое. Он мой единственный сын, я очень люблю его, хоть он и отбился от рук, ищет собственную дорогу, вместо того чтобы идти по моим стопам… Пока я жив, вашим планам не сбыться. Это почти то же самое, что свататься к собственной матери. Мой сын женится на моей жене, а я ведь еще дышу! Я не переживу такого позора перед богом и людьми. Моя семья распадется, имущество останется без присмотра. Вся жизнь — вдребезги! Спаси меня, Жасинта! — Но как? Снова Богатый Старец оцепенел от звука ее голоса, потом заметался по ковру, тщетно стараясь взять себя в руки. — Я хочу, чтобы ты оставила Гатуирию. — Как же это сделать? — Уезжайте в Найроби, там скажешь ему, что роману конец. Он еще ребенок и скоро утешится. — А я? Внезапно к Старцу вернулась былая уверенность в себе. Когда-то он мог в чем угодно убедить Вариингу. Кровь быстрее побежала по его жилам. Набравшись мужества, он протянул руки, чтобы обнять Вариингу, но, встретив ееиспепеляющий взгляд, отдернул их. А слова все-таки успели слететь с его уст, их он остановить не сумел: — Будь моей, как раньше. Я сделал тебя женщиной. Ты мать моего ребенка. Мне так хочется его увидеть! — А как быть с твоей женой, матерью Гатуирии? Богатый Старец загорелся; вожделение охватило все его существо. Сладкие слова потекли свободно, как бы сами собой. Он подошел ближе и заговорил точь-в-точь как босс Кихара, будто они учились в одной и той же школе обольстителей или штудировали книгу "Сто любовных писем". — Она не в счет. Собираясь на танцы, не душатся старыми духами. Моя ягодка, Жасинта, моя маленькая госпожа! Избавь меня от позора. Стань моей, и я сниму тебе дом в Найроби, Момбасе — всюду, где пожелаешь! Обставлю такой же мебелью, что ты видишь здесь. Все прочие мелочи тоже будут импортные: мы выпишем их из Гонконга, Токио, Парижа, Лондона, Рима, Нью-Йорка. Стоит тебе что-нибудь попросить — любое желание немедленно исполнится… И пожалуйста, не носи ты это платье, бусы и серьги из сухих кукурузных початков. Туалеты и драгоценности мы закажем для тебя в Европе. Куплю я тебе и корзинку для базара — "тойоту-корону", "датсун-16", или "альфазуд". Какую выберешь, Жасинта, детка, ягодка, апельсинчик, вернись ко мне! Все твои проблемы сразу решатся. Ты спасешь мой дом, моего ребенка! — Какого? — Гатуирию, конечно. — А как же Вамбуи? Ведь она тоже твоя. — Я не такой безмозглый, как ты думаешь. Гикуйю говорил: "Ежели любишь корову, люби и теленка!" — А что, если я не соглашусь стать цветком, скрашивающим твою старость? Богач из Нгорики помрачнел, ответил не сразу. Слова Вариинги рассердили его. Прочистив горло, он заговорил резко и грубо — не привык, чтобы ему перечили, противились его воле. — Отвечу тебе иносказательно, притчей. Давным-давно сатана был ангелом, любимцем бога. Тогда его звали Люцифер. Но однажды его обуял злой дух, и он потребовал себе место по правую руку от бога. Место это, как известно, принадлежит сыну всевышнего. Как же бог поступил с Люцифером?.. То-то вот. Поклоняясь господу, мы стараемся во всем ему угождать. Ты не ребенок, и мне нет нужды объяснять, что это значит. Я не был на конкурсе в Илмороге, но мне рассказали о том, что случилось там с неким Мвирери ва Мукираи. Его окружили почестями как дорогого гостя за то, что он сумел пристроить все билеты на праздник. Но, поев и изрядно выпив, Мвирери принялся хулить господа, выказывать презрение к своим братьям по классу. Он отринул божьи заповеди — и где он теперь? — Его убил Робин Мваура, угробил на своем матату. Произошло это в Кинеени, неподалеку от Лимуру, — ответила Вариинга. Старец из Нгорики вздрогнул. — Тебе и это известно? Тогда не стану от тебя скрывать: Мваура — глава организации "Ангелы ада". Очевидно, и о ней ты слыхала. Ее задача состоит в том, чтобы ликвидировать всех неугодных господу. Вот и теперь, стоит мне шепнуть словцо — и ты не доедешь даже до Гилгила… Но о чем это я? Кажется, мы уклонились от темы. Жасинта, я знаю, ты не дура, не отмахнешься от богатства. Хочешь ферму в Рифт-Вэлли? Будешь управлять ею по телефону из Найроби или Момбасы. Только скажи — все мигом исполнится. — А гости? Что мы скажем им? — Предоставь это мне. — Мистер Гитахи, дайте себе труд задуматься и над чужой судьбой! Можно задать вам вопрос? — Конечно. За вопросы под суд не отдают. — Вы хотите, чтобы мы с Гатуирией разлюбили друг друга, не так ли? — Да, так. — Хорошо. И тогда вы на мне женитесь? Чтобы все было честь по чести — со свадьбой, и я стану вашей второй женой?.. — Жасинта, не притворяйся, будто не понимаешь. Я человек набожный и хочу просто, чтоб ты была моей. Я все устрою, буду тебя навещать, как в старые добрые времена. Помнишь? Пожалуйста, спаси меня! Спаси мою честь, мое доброе имя! Спаси сына! Жасинта, сохрани мне жизнь, и ты убедишься — я сумею тебя отблагодарить! Богатый Старец пожирал Вариингу глазами, ее красота сводила его с ума. Потеряв контроль над собой, он упал перед ней на колени и завопил: — Спаси меня! Я слепну от твоего сияния! Он обхватил ее ноги, слова фонтаном били из его уст. Вариинга по-прежнему стояла как вкопанная на том же самом месте. — Ты, губитель человеческих жизней! — Она словно выносила приговор. — Помнишь игру в охотника? Ты меня ей научил. Не думал, поди, что мы можем поменяться ролями? Что сделано, то сделано. Я не стану тебя спасать, зато спасу множество других людей, чьих жизней ты уже не загубишь при помощи медоточивых слов. Богатый Старец перебил Вариингу: — Я знал, что ты согласишься! Дорогая, любимая! Ягодка моя, апельсинчик, цветочек, украшение моей старости! Он не мог уже остановиться, увлекаемый лавиной слов; не видел, как Вариинга рывком открыла сумочку и выхватила из нее пистолет. — Взгляни на меня! — скомандовала она. Увидев в ее руках оружие, отец Гатуирии лишился дара речи, река слов сразу высохла.9
Услыхав выстрелы, гости вбежали в залу и увидели стоящего на коленях хозяина дома, все еще обнимающего ноги Вариинги. Но три пули уже поразили его. — Что такое? — взволнованно спросил Гатуирия. — Что случилось, Вариинга? — Прихлопнула блоху, вошь, клопа! Гниду, паразитирующую на чужих жизнях!..10
Вариинга шла вон из залы. Гости расступались, давая ей дорогу. На пороге она столкнулась с Кихаху ва Гатхикой и Гитуту ва Гатаангару. Вспомнив Вангари, Мутури и вожака студентов, освободивших ее от духовного рабства, она ощутила гнев. — И вы туда же?! Вот вам! — Она выстрелила в обоих, раздробив им коленные чашечки. Гости бросились врассыпную с криками: — Хватайте ее! Арестуйте! Она рехнулась! Двое мужчин попытались ее скрутить, но она применила прием дзюдо, и оба рухнули на пол. Вариинга спокойно вышла из дома; с безопасного расстояния на нее глазели перепуганные до смерти гости. Один лишь Ндитика ва Нгуунджи, обеими руками поддерживая живот, метался по зале, взывая о помощи: — Где Мваура?! Где его люди? Но Мваура уже завел свое матату, спеша улизнуть подобру-поздорову. Гатуирия не знал, что делать: то ли спасать отца, то ли утешать мать, то ли бежать за Вариингой. Он стоял в полной растерянности посреди двора, а в голове звучала музыка, никуда не ведущая, не указывающая пути. У него словно язык отнялся, ноги отказывались повиноваться…А Вариинга шагала вперед, ни разу не оглянувшись. Она знала, всем сердцем чувствовала: самые тяжкие битвы на её жизненном пути еще впереди…
Последние комментарии
3 минут 49 секунд назад
36 минут 20 секунд назад
16 часов 6 минут назад
16 часов 15 минут назад
3 дней 11 часов назад
4 дней 3 часов назад