Островер Леон Исаакович ТАДЕУШ КОСТЮШКО

Леон Исаакович Островер родился в 1890 году в Плоцке. Окончил философский факультет Краковского университета, в Берлине получил диплом врача. В годы Великой Отечественной войны служил в Советской Армии в должности начальника госпиталя. Первая книга писателя — «В серой шинели» — вышла в 1926 году. Затем появились романы и повести «Когда река меняет русло», «Конец Княжеострова», «Караван входит в город»», «На берегу Двины», «Буревестники», «Николай Щорс», «Пресня не сдается» и др. В серии «ЖЗЛ» вышли две книги Л. Островера — «Петр Алексеев» (1957) и «Ипполит Мышкин» (1959).

ГЛАВА ПЕРВАЯ ПРИКАЗ КОРОЛЯ

 адету Тадеушу Костюшке были в тягость придворные балы. Открывал их король Станислав Август Понятовский в красном шелковом кафтане с «Белым орлом» на шее; во второй паре — российский амбасадор[1] князь Репнин, грузный и напыщенный, увешанный бриллиантовыми звездами; за ними — паны в бархате, пани и панны в парче, кадеты — сынки родовитой шляхты — в ярких кунтушах и жупанах. Тадеуш Костюшко в синем грубошерстном мундире сам себе казался вороной среди павлинов. Ему было неловко, но приказ начальника Рыцарской школы князя Чарторийского обязывал кадетов посещать придворные балы.
Тадеуш Костюшко, невысокородный и небогатый шляхтич, попал в Рыцарскую школу случайно: ясновельможный польный писарь[2] литовского войска Юзеф Сосновский «снизошел» к мольбе «дальней соседки» и добился зачисления ее сына Тадеуша во вновь учрежденный аристократический корпус.
После пятилетнего пребывания в Любашевской бурсе отцов-пиаров[3], размещавшейся в низеньких и затхлых кельях, где монахи от рассвета до темна внушали своим юным питомцам любовь к наисладчайшей деве Марии и ее божественному сыну, Тадеуш Костюшко очутился в просторных и светлых залах корпуса. Галантные кавалеры и славные ученостью мужи преподавали иностранные языки и математику, эстетику и экономику, архитектуру и живопись, военное дело и государственное право. Вместо любви к матери церкви прививали они кадетам стремление к свободе и любовь к отчизне.
Тадеуш Костюшко относился к школьным обязанностям с суровой добросовестностью. Быть посредственным кадетом он не мог, а чтобы стать одним из первых, надо было заниматься упорно и много. Тадеуш вставал до рассвета. Его будил сторож: Костюшко привязывал к своей ноге веревку, конец ее выводил в коридор, и ежедневно в три часа утра сторож тянул за эту веревку. Тускло мигала восковая свеча, едва освещая страницы учебника.
Уже одна церемония приема в Рыцарскую школу произвела на Костюшко огромное впечатление. Кадеты были выстроены в зале; Костюшко произнес обет верности традициям школы; его облекли в синий мундир… Через год, 20 декабря 1766 года, Тадеуш сдал все экзамены и получил звание хорунжего. Опять торжественная церемония: месса с проповедью епископа, военный парад. Перед фронтом начальник обратился к Тадеушу:
— Есть у вас желание?
— Я счастлив, что мне разрешили носить кадетский мундир, сейчас я прошу о праве носить оружие.
— Имеете ли вы искреннее намерение употреблять это оружие всегда на защиту родины и чести?
— Другого намерения у меня нет.
Под звуки барабанной дроби принесли саблю, и старший из офицеров перепоясал ею Тадеуша.
Четким голосом Костюшко произнес клятву:
— Обещаю братьям моим, здесь присутствующим, что своими поступками не принесу им стыда, а младшим, вновь поступающим, не дам дурного примера.
Первый чин принес и материальное облегчение: звание хорунжего давало ему 72 злотых месячного жалованья. Гроши! А для Тадеуша Костюшки это было богатство, делающее его независимым от нищенских подачек матери; богатство, придающее ему большую свободу в отношениях с товарищами по корпусу. Сынки «ясновельможных» весь первый год чуждались нового кадета, и Тадеуша это не удивляло. Все они выводили свой род чуть ли не от первого человека, осознавшего себя поляком, или по крайней мере от тех древних шляхтичей, которые девять веков тому назад избрали легендарного Пяста своим князем.
А он, Тадеуш Костюшко?
Его предки — белорусы, веры — православной, и русский язык был их родным языком. В течение двухтрех веков Костюшки сменили и религию и язык. Отцы «ясновельможных» сынков — воеводы и каштеляны, на худой конец — старосты.
А его отец?
Полковник, который никогда ничем не командовал, ибо у него ни разу не было такой большой суммы, чтобы оплатить патент на право командования; мелкий шляхтич, которым магнат Сапега пользовался для своих не всегда чистоплотных дел, и державца[4] небольшого имения, десятки лет копивший дукаты, чтобы выкупить свое родовое гнездо Сехновицы, а выкупив, наконец, Сехновицы, умер, оставив на необжитом месте вдову с четырьмя детьми.
Костюшко был не знатен и не богат и к тому еще не красив и не боек. Ростом невысокий, он из-за чрезмерной худобы казался жердеобразным; глаза, голубые и доверчивые, лежали глубоко в глазницах, придавая лицу выражение застенчивости и неуверенности; нос с припухшим и вздернутым концом.
Однако сынки воевод и каштелянов постепенно убеждались, что невзрачный кадет обладает какими-то достоинствами, которые вызывают уважение преподавателей и самого князя Чарторийского, начальника корпуса.
адету Тадеушу Костюшке были в тягость придворные балы. Открывал их король Станислав Август Понятовский в красном шелковом кафтане с «Белым орлом» на шее; во второй паре — российский амбасадор[1] князь Репнин, грузный и напыщенный, увешанный бриллиантовыми звездами; за ними — паны в бархате, пани и панны в парче, кадеты — сынки родовитой шляхты — в ярких кунтушах и жупанах. Тадеуш Костюшко в синем грубошерстном мундире сам себе казался вороной среди павлинов. Ему было неловко, но приказ начальника Рыцарской школы князя Чарторийского обязывал кадетов посещать придворные балы.
Тадеуш Костюшко, невысокородный и небогатый шляхтич, попал в Рыцарскую школу случайно: ясновельможный польный писарь[2] литовского войска Юзеф Сосновский «снизошел» к мольбе «дальней соседки» и добился зачисления ее сына Тадеуша во вновь учрежденный аристократический корпус.
После пятилетнего пребывания в Любашевской бурсе отцов-пиаров[3], размещавшейся в низеньких и затхлых кельях, где монахи от рассвета до темна внушали своим юным питомцам любовь к наисладчайшей деве Марии и ее божественному сыну, Тадеуш Костюшко очутился в просторных и светлых залах корпуса. Галантные кавалеры и славные ученостью мужи преподавали иностранные языки и математику, эстетику и экономику, архитектуру и живопись, военное дело и государственное право. Вместо любви к матери церкви прививали они кадетам стремление к свободе и любовь к отчизне.
Тадеуш Костюшко относился к школьным обязанностям с суровой добросовестностью. Быть посредственным кадетом он не мог, а чтобы стать одним из первых, надо было заниматься упорно и много. Тадеуш вставал до рассвета. Его будил сторож: Костюшко привязывал к своей ноге веревку, конец ее выводил в коридор, и ежедневно в три часа утра сторож тянул за эту веревку. Тускло мигала восковая свеча, едва освещая страницы учебника.
Уже одна церемония приема в Рыцарскую школу произвела на Костюшко огромное впечатление. Кадеты были выстроены в зале; Костюшко произнес обет верности традициям школы; его облекли в синий мундир… Через год, 20 декабря 1766 года, Тадеуш сдал все экзамены и получил звание хорунжего. Опять торжественная церемония: месса с проповедью епископа, военный парад. Перед фронтом начальник обратился к Тадеушу:
— Есть у вас желание?
— Я счастлив, что мне разрешили носить кадетский мундир, сейчас я прошу о праве носить оружие.
— Имеете ли вы искреннее намерение употреблять это оружие всегда на защиту родины и чести?
— Другого намерения у меня нет.
Под звуки барабанной дроби принесли саблю, и старший из офицеров перепоясал ею Тадеуша.
Четким голосом Костюшко произнес клятву:
— Обещаю братьям моим, здесь присутствующим, что своими поступками не принесу им стыда, а младшим, вновь поступающим, не дам дурного примера.
Первый чин принес и материальное облегчение: звание хорунжего давало ему 72 злотых месячного жалованья. Гроши! А для Тадеуша Костюшки это было богатство, делающее его независимым от нищенских подачек матери; богатство, придающее ему большую свободу в отношениях с товарищами по корпусу. Сынки «ясновельможных» весь первый год чуждались нового кадета, и Тадеуша это не удивляло. Все они выводили свой род чуть ли не от первого человека, осознавшего себя поляком, или по крайней мере от тех древних шляхтичей, которые девять веков тому назад избрали легендарного Пяста своим князем.
А он, Тадеуш Костюшко?
Его предки — белорусы, веры — православной, и русский язык был их родным языком. В течение двухтрех веков Костюшки сменили и религию и язык. Отцы «ясновельможных» сынков — воеводы и каштеляны, на худой конец — старосты.
А его отец?
Полковник, который никогда ничем не командовал, ибо у него ни разу не было такой большой суммы, чтобы оплатить патент на право командования; мелкий шляхтич, которым магнат Сапега пользовался для своих не всегда чистоплотных дел, и державца[4] небольшого имения, десятки лет копивший дукаты, чтобы выкупить свое родовое гнездо Сехновицы, а выкупив, наконец, Сехновицы, умер, оставив на необжитом месте вдову с четырьмя детьми.
Костюшко был не знатен и не богат и к тому еще не красив и не боек. Ростом невысокий, он из-за чрезмерной худобы казался жердеобразным; глаза, голубые и доверчивые, лежали глубоко в глазницах, придавая лицу выражение застенчивости и неуверенности; нос с припухшим и вздернутым концом.
Однако сынки воевод и каштелянов постепенно убеждались, что невзрачный кадет обладает какими-то достоинствами, которые вызывают уважение преподавателей и самого князя Чарторийского, начальника корпуса.
Тадеуш Костюшко — хорунжий, офицер, однако балы все еще ему в тягость. Он уже имел возможность купить пару парижских перчаток, из-под рукавов его мундира уже выступает тонкое кружево, но заставить себя говорить о пустяках с наигранной серьезностью Тадеуш не мог, не мог он и восхищаться тем, что ему казалось ничтожным, — в нем не было той приятной светскости, которая вырабатывалась в сынках «ясновельможных» чуть ли не с колыбели. Тадеушу Костюшке двадцать один год, и в его распахнутое сердце вошла любовь. Правда, он еще сам не знает, любовь ли это, но образ панны Людвики неотступно стоит перед его глазами. Как-то раз в бальной сутолоке кадет Водзиевский обнял Костюшко и подвел его к девушке. — Вот он, Тадеуш Костюшко, наш философ и художник, — сказал Водзиевский и тут же исчез. Тадеуш взглянул на девушку. Большие глаза — грустные, а брови, тонкие, изогнутые, делают лицо чуть-чуть плутоватым. Девушка протянула руку, улыбнулась — поднялись брови, глаза сузились, и все лицо вдруг стало по-детски радостным. — Так это вы и есть пан Костюшко? А я Людвика… Сосновская. Она, видимо, осталась довольна новым знакомым: ямочка между ртом и носом исчезла, а с ней и вся девичья строгость. С хоров донеслись первые звуки кадрили. Костюшко пригласил Людвику. Она доверчиво положила свою руку на его плечо. Во время танца Людвика смотрела на Тадеуша весело и с хитринкой. Она будто и не танцевала: стройная, в воздушном белом платье, порхала вокруг своего кавалера, а когда, по правилам кадрили, переходила к другому партнеру, ее глаза призывно смотрели на Тадеуша, словно просили поскорее вызволить из чужих рук. После кадрили они вышли на балкон. На ночном небе сияла россыпь Млечного Пути. Варшава тянулась ввысь башнями костелов, а вокруг них, точно молящиеся на коленях, застыли темные дома. Сизой лентой текла Висла: хибарки Праги отражались в ней неясно, как в тусклом зеркале, у стен же Замка вода была кроваво-красной от сотен свечей, которые горели в танцевальном зале. Картина мрачная, зловещая, и Костюшко хотел сказать Людвике, что Варшава кажется ему мертвым городом… — Пан хорунжий любит стихи пана Морштына? Вопрос, заданный нетерпеливым голосом, вернул Тадеуша к действительности. — Стихи Яна Морштына? Панна Людвика извинит меня, не люблю его стихов. Слишком много в них шляхетской спеси и французской кокетерии. — А стихи пана Твардовского? — И его не люблю. Пан Твардовский пишет, что поляки проиграли бой со шведами из-за «кары божьей», а я вижу, бой был проигран потому, что мы построили свою кавалерию лицом к солнцу… Считала ли Людвика тему исчерпанной или по другой причине, но она подошла к барьеру балкона, несколько минут смотрела на ночную Варшаву и вдруг, точно вспомнив что-то, обернулась. — Теперь я понимаю, почему пана хорунжего коллеги прозвали Шведом. — Она сказала весело, но за этой веселостью, как темный цвет сквозь белую кисею, пробивалась ирония. Кадеты звали Костюшко Шведом, утверждая, что он характером напоминает им короля-аскета Карла XII. Костюшко не обидела ирония — в ней он услышал поощрение, призыв к откровенности. — Панна Людвика поняла, а я, каюсь, не понимаю. Король Карлюс и я! Если мы чем-нибудь похожи друг на друга, то только тем, что он и я некрасивы. — А пан хорунжий считает, что красота основное достоинство мужчины? — Не основное, но одно из трех основных. — А какие остальные два? — Родовитость и богатство. Людвика расхохоталась. — Пан хорунжий! Какой вы Карлюс! Вы всего-навсего старая гувернантка! «На белом конике прискачет красавец принц». А может, пан хорунжий изволит иронизировать? Или пан хорунжий вычитал эти разумные истины из ученых книг? — Сдаюсь, панна Людвика. Мои разумные истины потерпели поражение. Но позвольте узнать, какие истины вы считаете разумными? Какими, по-вашему, достоинствами должен обладать мужчина? — Если вы действительно интересуетесь, скажу. Мужчина должен обладать тремя достоинствами, но вовсе не теми, которые вы назвали с высоты своего философского величия или с точки зрения старой гувернантки. — Панна Людвика, нехорошо бить лежачего, в особенности когда этот лежачий уже каялся в своих прегрешениях. — Скажу, пан Карлюс. Мужчина должен обладать вот какими достоинствами: сердце, ум и благородство. А теперь пойдем, побудка к краковяку! Когда они, переступив порог зала, на секунду остановились, чтобы привыкнуть к яркому освещению, Людвика серьезно спросила: — А свои рисунки вы мне покажете? — Почту за счастье!
Счастье, однако, длилось недолго. После третьего бала, за завтраком, Водзиевский шепнул на ухо Тадеушу: — Поздравляю, Швед, ты полонил сердечко моей кузины. Только вот… приедет ее отец, этот кичливый польный писарь… — Как! — вскрикнул Костюшко. — Людвика дочь Юзефа Сосновского, а не Станислава? Водзиевский удивленно взглянул на товарища. — Ты что, Швед, с луны свалился? Станислав никогда не был женатым. Костюшко заставил себя высидеть до конца завтрака. Перед глазами туман; сердце точно иголками набито. Людвика, такая простая, сердечная девушка, — дочь того самого магната Сосновского, которому мать колени целовала, вымаливая протекцию для своего сына. Людвика Сосновская и Тадеуш Костюшко — они удалены друг от друга, пожалуй, больше, чем Млечный Путь от Земли. Балы в Замке, которые из-за Людвики стали радостью, опять начали угнетать Тадеуша. Он был вынужден «присутствовать», но не мог себя заставить «участвовать». Слоняясь по залам, избегал встреч с Людвикой. «Зачем? — убеждал он себя. — В мир магнатов мне доступа нет, а околачиваться в прихожих не хочу!» Шли недели, месяцы, а образ Людвики, вместо того чтобы угаснуть, все ярче оживал в его сознании, и не только в минуты раздумий, но и в часы занятий. Чтобы отогнать, побороть овладевшее им чувство, Костюшко стал искать общества своих товарищей, стал участником их бесед, споров.
В 1768 году Тадеуша Костюшко произвели в капитаны и оставили инструктором при корпусе. Костюшко стал Крезом: двести злотых жалованья! Он уже мог и книги покупать, и дорогие итальянские краски, и голландский холст для картин. Опять карнавалы, опять балы в Замке. Костюшко в танцевальном зале, но не танцует. Из-за колонны следит он за Людвикой. Она весела, возбуждена, танцует, закинув голову, и из полураскрытого рта белеет полукружие зубов. Случайно встретившись взглядом с Тадеушем, она на мгновение теряет ритм, но тут же, тряхнув головой, уносится в другой конец зала, теснее прижимаясь к партнеру, как бы ища у него защиты… И в этот момент огромный, медвежеподобный воевода Гоздский толкнул синемундирного кадета, который под руку с дамой направлялся в круг. И не только толкнул, но еще и рявкнул: — С дороги, молокосос! Кадет побагровел, рванулся к обидчику, но, видя, что перед ним ясновельможный пан воевода, застыл на месте и растерянно взглянул на стоявшего у колонны капитана. Костюшко шагнул к Гоздскому и ледяным тоном промолвил: — Пан воевода извинится перед моим коллегой. — Мне? Извиниться? — расхохотался Гоздский. — Да, пан воевода! Вам придется извиниться! — жестко отчеканил Костюшко. — Спор? — спросил король, оказавшись неожиданно за спиной Костюшки. Он направлялся в зал под руку с князем Чарторийским. Костюшко ловко повернулся и отрапортовал: — Ваше королевское величество! Пан воевода нанес оскорбление кадету и отказывается извиниться перед ним! Образовался живой круг. Все взоры были обращены к королю. Играя черепаховым лорнетом, Станислав Август пристально смотрел в лицо молодому капитану. Наконец улыбнулся и добродушно спросил: — Что сделал пан воевода? — Грубо толкнул кадета. — Народу много, а пан воевода не былинка, — сказал король с прежним добродушием и, обратясь к оскорбленному юноше, закончил строгим голосом: — Мог бы уступить дорогу имч пану воеводе. Лицо короля сразу преобразилось: вместо мягкой, добродушной улыбки появилось выражение усталости или нетерпения. Костюшко сделал шаг в сторону, как бы загораживая дорогу королю, и твердым, хотя и почтительным голосом сказал: — Ваша королевская милость, вступая в корпус, мы дали клятву, что в любую минуту обнажим шпагу на защиту своей чести. Пан воевода оскорбил кадета и тем самым нанес урон чести всего корпуса вашего величества. Король достал из жилетного кармана хрустальный флакончик, откупорил его, вылил себе на ладонь несколько капель, натер ими виски, и — от этого ли, или по другой причине — выражение усталости сошло с его лица. Стоявший рядом Чарторийский склонился и шепнул что-то на ухо королю. Станислав Август оживился: легкая, едва уловимая усмешка выпорхнула из его глаз. — Художник. Хвалю. Буду в корпусе, посмотрю твои акварельки. Пан воевода, — обратился он к Гоздскому, — дело чести. Надо извиниться. Гоздский повернул голову в сторону кадета и промычал что-то. Король удалился. Костюшко был недоволен собой: он должен был знать, что вмешательство короля придаст инциденту шутовской характер. Надо было оборвать спор, а потом, после ухода короля, вызвать Гоздского на балкон и потребовать у него сатисфакции, как шляхтич у шляхтича. Медведь не отказался бы: какой шляхтич откажется обнажить карабельку[5], а если бы отказался, то можно было перчаткой сдунуть спесь с его медвежьей морды. А получился спектакль! Сегодня жужжат об этом в Замке, завтра будет судачить вся Варшава. Герой Костюшко! А что он сделал? Произнес несколько фраз о чести. Если в парке корпуса водились бы попугаи, они в первую очередь усвоили бы слово «честь» — так часто произносят его кадеты… Костюшко вышел на балкон. Был ранний вечер. На крышах домов еще лежала розовая пелена, кресты на костелах горели. По маленькой площади Канонии шла казачья сотня — с гиком, с тулумбасным гулом. Народ возвращался с вечерни. Несколько казаков, горяча коней и играя пиками, прижимали пешеходов к стенам домов. — Не помешаю, пан капитан? — Панна Людвика! — Вы еще помните, как меня зовут? — спросила она с иронией. — А почему не прибавили «дочь ясновельможного пана польного писаря литовского войска»? Или этот титул так пугает вас, что даже произнести его вслух не решаетесь? Сядем, мне с вами поговорить надо! — закончила она раздраженно. — Помните, пан капитан, на этом балконе мы говорили о достоинствах мужчин. — Хорошо помню, панна Людвика. — А помните, пан капитан, какие достоинства я считала обязательными? — И это помню. — Так вот, пан капитан, из трех достоинств вы обладаете только одним. — Каким, если позволено мне знать? — Благородством. Это вы сегодня доказали. А вот сердца и ума у вас нет. — Значит, пан бог обидел меня. — Пан бог тут ни при чем. Кузен Вацлав сказал вам, что я дочь польного писаря, и вы, как мимоза, закрылись, замкнулись. А разве дочь польного писаря не может интересоваться живописью, интересоваться тем, чем интересуетесь вы? Разве дочь польного писаря не может интересоваться древними героями, перед которыми вы преклоняетесь? Разве дочь польного писаря не может интересоваться всем тем, о чем вы спорите в парке вашего корпуса? Вы слывете среди товарищей умным, а на деле вы начинены предрассудками не меньше, чем моя бабушка Яблонская. Разве богатство и родовитость могут служить причиной тому, чтобы повернуться спиной к человеку, который обладает этими преимуществами? — Она решительно поднялась. — Я сказала все, что хотела сказать. И прощайте, пан капитан! Костюшко остался сидеть. Первое движение — побежать за Людвикой, но это движение было подавлено гордостью. Что он ей скажет? Что мучился, что мечтал о ней? А какое ей дело до его сердца? Ей нужен собеседник — не такой скучный, как те сиятельные хлыщи, которые ее окружают, и выбор пал на него: видно, Вацлав размалевал его так, как бездарный гончар размалевывает свои горшки — щедро и ярко.
При корпусе был большой парк. Перед отбоем кадеты собирались в нем и, разбившись на группы, вели нескончаемые споры. Основная тема — Барская конфедерация[6] и поведение короля. В этих спорах сказалось своеобразие Рыцарской школы. Кадетов, воспитывающихся под боком короля, учили, что «высшее начало», которым должен руководствоваться поляк, — это родина, а не король. Доходило до того, что на каком-то концерте в присутствии Понятовского молоденький кадет прочитал отрывок из поэмы Красицкого «Мышееды»:
При короле водились фавориты,
Они, подобье упырей,
Прожорливы и никогда не сыты,
Сосали соки из простых людей…
Людвика, дочь магната Сосновского, полюбила Тадеуша Костюшко не потому, что он был «аляповатым», а потому, что он был именно таким, как его рисовал Водзиевский: умным, серьезным, благородным. Людвика понимала, почему Костюшко сторонился ее, и она была достаточно настойчивой, чтобы заставить его вернуться. В один из дней Водзиевский увел Костюшку в парк. — Швед, ты веришь, что я тебе друг? — Верю. — Не обидишься, если суну свой нос в твои дела? — Туманно, Вацлав. Ты хозяин своего длинного носа и волен распоряжаться им, как тебе угодно. — Не язви, Швед. Знаешь, о чем говорю? — Догадываюсь. Но сначала скажи: ты затеял этот разговор по дружбе или по поручению? — По поручению. Доволен? — Смотря какое поручение. — Ты ведешь себя, как осел. — Это по дружбе или по поручению? — По дружбе, хотя смысл поручения также сводится к этому. — Тогда закончим, Вацлав. — И не подумаю! Нечего тебе на правду обижаться! Пойми, Швед, ты разыгрываешь Дон-Кихота, с ветряными мельницами воюешь. Дочь польного писаря! Аристократка! А подумал ты о том, что и у аристократки может быть верное сердце? — Все это говоришь по дружбе или по поручению? — Не язви, Швед! Слышишь? Мне обидно, ты мучаешься, ее мучишь. Брось, говорю тебе, донкихотствовать! — Советуешь по дружбе или по поручению? — Швед! Если не перестанешь издеваться… — Вацлав, мне ли издеваться? Если все, о чем ты говоришь, твое личное мнение, скажу: «Спасибо, друг, но позволь мне самому отвечать за свои поступки». Если же честно передаешь мнение панны Людвики, то обниму тебя и расцелую. — Тогда можешь меня обнять и расцеловать!
Только теперь по-настоящему увидел Костюшко Варшаву. Его трудовой день был насыщен до предела, и все же иногда удавалось вырвать свободные часы. Читать, рисовать он не мог — его тянуло на воздух, к людям. Садами дворца Казимира он спускался к Висле. Река текла широко, величаво. Словно заплаты на серебристой ткани, чернели плоты. Зелеными цепочками тянулись деревья на Саской Кемпе. С того берега, со стороны Праги, доносился мелодичный перезвон молотков. Костюшко поднимался в центр города, через Краковскую Браму к улицам Пивной и Свентояньской. Ему чудилось, что идет по полю, где узкая межа прокладывает границу между разными посевами. В каждом квартале свои дома, свой народ, свой ритм. По Медовой, по Краковскому Предместью, по Сенаторской, Маршалковской, по Новому Свету горделиво высятся дворцы магнатов — радзивиллов, пацов, замойских, потоцких, осолинских; редко-редко встречались здесь пешеходы — беспрерывное движение карет, верховых. Стоило Костюшке свернуть влево, на Налевки или Лешно, — лавки, лавчонки, рундуки, и всюду многоголосый говор, гомон. Еще шумнее в Старом Мясте — не улицы, а щели, и в этих щелях бурлит. Работают на воздухе, перед домами: сапожник шьет обувь; бондарь готовит клепку; гвоздильник тянет проволоку сквозь дырчатый щит; сидя на столе, латает портной сермягу; шапочник натягивает заготовку на деревянную болванку; оружейник отбивает грань на стальной полоске. Вокруг вьется детвора, с окон свисает мокрый хлам, отовсюду несется напевный речитатив угольщиков, зеленщиков, торговцев свежей рыбой, живностью… Все это радовало Тадеуша Костюшко. Он видел межу, отделяющую человека от человека, но межа его не раздражала, и он был счастлив, он верил, что все вокруг него также счастливы. Стычка с надменным воеводой Гоздским принесла Костюшке неожиданную милость короля. Станислав Август явился в корпус, чтобы поздравить кадетов с пятилетним юбилеем. После парада, как только раздалась команда «вольно», король обратился к Чарторийскому: — Того… художника. — Капитан Костюшко! — позвал Чарторийский. Строевым шагом, прижимая левой рукой саблю к бедру, подошел Костюшко. — Рисунки… покажешь. Они отправились в кабинет начальника корпуса. Костюшко принес туда две акварели: «Варшава ночью» и «Казаки в Варшаве». Король посмотрел, поморщился, потом вылил себе на руку несколько душистых капель из хрустального флакона, натер ими виски и тихо, как бы про себя, сказал по-французски: — Мрачно. Костюшко ответил тоже по-французски: — Сир, я писал то, что видел. У Понятовского было красивое, но блеклое лицо. Оно вдруг порозовело. — Не все, что видишь, надо писать. — Слова прозвучали строго, как выговор. Лицо короля опять посерело, голос сделался пренебрежительно-добродушным: — Рисуешь неплохо. — Повернул голову к Чарторийскому: — Не очень занят по службе. — Спрятал хрустальный флакон в жилетный карман и, вскинув усталый взгляд на Костюшко, закончил: — Ежедневно. Час. Будешь мне читать. И мои эстампы… рассортировать надо. Костюшко стал королевским лектором и консультантом по живописи: Станислав Август недурно писал. Но не это делало капитана Костюшко счастливым. Вацлав Водзиевский не преувеличивал: дочь польного писаря Сосновского действительно полюбила худородного шляхтича Тадеуша Костюшко. Они встречались часто: в парке корпуса, в аллеях Лазенок, а хромая француженка, вечная спутница Людвики, следовала за ними на таком расстоянии, чтобы слышать их речь, но не понимать ее. А говорили они о многом: о жизни, о книгах, о людях, но больше всего о том, что им обоим хорошо и радостно только тогда, когда они вместе. Костюшко уже видел свое будущее. Его жизнь будет течь ровно и ясно, как Висла, только без мрачных теней у берега Праги и без кроваво-красного марева у стен Замка. Он не будет таким жадным, как Водзиевский. Конечно, своей земли не отдаст хлопам, но барщину снизит, установит справедливые порядки, откроет школу для крестьянских детей — его хлопы будут сыты, одеты, обуты и с надеждой на еще лучшее будущее. Жить в деревне не станет: купит патент на право командования полком, потом дивизией, и, когда в его руках будет воинская сила, он вмешается в дела управления государством. Все, что отжило, должно умереть; все молодое должно расцвести; расстояние между отдельными слоями населения надо сократить, тогда весь польский народ почувствует ответственность за судьбу отчизны. Кончатся годы унижения, возродится былая слава Польши. С такой женой, как Людвика, можно всего добиться: она будет не только чутким другом, но и мудрым советчиком, верным помощником, настойчивым поводырем к высокой цели.
В золотой, насыщенный запахом яблок августовский день 1769 года Костюшко явился в Замок, чтобы, сидя перед дремлющим в кресле королем, продолжить чтение романа «Новая Элоиза». Эту книгу Костюшко читал с особым удовольствием, и не только потому, что автор высказал благородные мысли, — в романе описывалась любовь философа к аристократке, и переживания книжного героя с зеркальной точностью повторяли переживания Костюшки. На этот раз заставили лектора долго ожидать в приемной, круглой, уютной, обитой серебристыми шелковыми обоями. Костюшко нервничал: через два часа он должен встретиться с Людвикой в Лазенковском парке. На камине стояли высокие, под стеклянным колпаком часы. Они вызванивали каждые пятнадцать минут, и от их мелодичного звона Костюшко вздрагивал, точно его внезапно окликали. Прошло больше часа. Костюшко уже хотел подняться, чтобы уйти, сбежать, не считаясь с тем, что его своевольный уход мог бы иметь неприятные последствия, как вдруг раскрылась дверь и из королевского кабинета вышел польный писарь Сосновский. Он небрежно ответил на поклон Костюшки и торопливым шагом прошел через приемную. Костюшко удивился: Сосновский в Варшаве? Когда он приехал? — Имч пана капитана Костюшку к его королевской милости! — объявил лакей с порога. Костюшко зашел в кабинет. Король сидел в кресле, с обеих сторон кресла свисали руки. Из левого кулака выглядывала пробка хрустального флакона. — Не надо, — сказал Понятовский, когда Костюшко потянулся к настенному шкафчику за книгой. — Не будем читать. — Он было поднял руку с хрустальным флаконом, но рука, славно сама собой, вновь опустилась. Так он просидел несколько минут. Наконец оторвался от спинки кресла и ровным, бесцветным голосом промолвил: — Поедешь в Париж. В Академию художеств. Мне нужны художники. Стипендиатом… моим… поедешь. Костюшко был ошеломлен, оглушен, точно его по уху хватили. «В Париж… его, строевого офицера, посылают в Академию художеств…» Впоследствии Костюшко не мог вспомнить, как он добрался до Лазенок. Помнит только, что шагал взад-вперед по аллее и подбадривал себя: «Людвика придет… Людвика посоветует…» Людвика не пришла. А когда он, промучившись несколько часов в Лазенках, побежал к ней на Медовую улицу, сторож Тудор не раскрыл перед ним железной калитки, а сказал через оконце: — Малость опоздали, пан капитан. Уехали все…уехали. — Куда? — У пана польного писаря деревенек много. Куда захотел, туда и поехал. И у железной калитки понял Костюшко, что появление Сосновского в Замке, приказ короля и увоз Людвики — три кольца одной цепочки. Его, Тадеуша Костюшко, не посылают в Париж, а ссылают: польный писарь литовского войска ясновельможный пан Юзеф Сосновский не желает терпеть возле своей дочери какого-то захудалого и нищего капитана Костюшко.
ГЛАВА ВТОРАЯ ПОИСКИ ПУТИ

 корпусе да и в Любашевской бурсе Костюшко охотно брался за мелок и за кисть, но делал это не из внутренней потребности, а из присущей ему основательности: закрепить, запомнить понравившееся лицо или пейзаж. Живопись Костюшко не считал своим призванием, но раз его вынудили стать художником, он им станет.
Париж поразил Костюшко не тем, что это был большой и красивый город» а тем, что бедный люд хотя и оказывает почтение богатому, но без униженности, без умаления своего человеческого достоинства. А в Польше? «Повозочный шляхтич» (едущий в повозке, не в карете) сам считает, что он не ровня графам замойским или грохольским. А в Париже, в Академии живописи и ваяния, которая размещается в Лувре под оком короля и где наряду с маркизами занимаются сыновья часовщиков и даже лакеев, никакому герцогскому отпрыску и на ум не придет говорить с плебеем языком ясновельможного пана Гоздского.
Жизнь в Париже началась для Костюшки с забавного приключения. Он поселился в большой светлой комнате на третьем этаже респектабельного дома по улице Малых Августинов. Переехал он на квартиру вечером, несколько часов устраивался, написал письма брату и сестрам, написал письмо Людвике, несколько раз его переписывал и все же уничтожил, посидел у раскрытого окна, хотя осенний дождь навевал нерадостные мысли, и, когда куранты на ближайшем соборе пробили два часа, лег спать.
Но спать пришлось недолго: в квартире этажом выше так загрохотало, что спросонья Костюшке почудилось, будто потолок рухнул.
Так продолжалось часа полтора. Когда верхние жильцы угомонились, Костюшко снова улегся в постель и проспал до вечера. А вечером старушки хозяйки не оказалось дома, и он не смог узнать причины утреннего грохота.
На следующий день повторилась та же история. Костюшко, возмущенный, поднялся на четвертый этаж, раскрыл дверь — и остолбенел. Просторная комната с покатым потолком. Посреди — странная пирамида, построенная из столов и табуретов. На вершине пирамиды — голый мальчонка лет двенадцати-тринадцати. Двое мужчин, в одних коротких рубахах, зацепившись ногами за какие-то перекладинки, свисали с обеих сторон пирамиды, свисали плашмя, параллельно полу, и перебрасывались через голову мальчонки пустыми бутылками.
В углу, под нависшим потолком, были разбросаны мешки с соломой. На одном из них, прикрытая ветошью, спала женщина, длинноволосая, с впалыми, точно провалившимися, щеками.
Мужчины соскочили на пол. Один из них, с красивым и гордым лицом, подошел к Костюшке.
— Месье извинит, — сказал он церемонно, — я и брат мой Филипп не совсем одеты, но мы не ждали вашего визита.
Костюшко обрел дар речи:
— Вы меня простите, господа, но я живу под вами.
Женщина, оказывается, не спала. Она приподнялась и сказала укоризненно:
— Я тебе говорила, Анри, нельзя так рано людей беспокоить.
— Мы вас беспокоим? — искренне удивился Анри. — Тысяча извинений, месье!
— Вам, кавалер, не повезло с квартирой, — весело сказал Филипп. — Жить под акробатами, должно быть, не особенно приятно.
— И я такого мнения, — подтвердил Костюшко. — Но я привыкну. Пожалуйста, не стесняйтесь.
— Они скоро уедут, месье, — заявила женщина. — На ярмарку в Руан.
Действительно, дней через десять грохот прекратился, и, если честно сказать, Костюшко пожалел об этом. Ему нужен был «большой день».
В академии, слушая лекции и участвуя в беседах товарищей, Костюшко понял, что искусство многогранно, как хорошо отшлифованный алмаз. И настоящий художник должен видеть все эти грани. Костюшко умеет рисовать, но его рисунки передают лишь внешние формы предметов. Его картины похожи на пустой ананас — хорошо выписаны шипы, но за шипами не угадывается сочный плод.
Еще в школе отцов-пиаров Костюшко записал в свой дневник: «Строго выполнять обязанности», и этому правилу он неуклонно следовал. Его обязали стать художником — он им станет!
В библиотеках Сен-Женевьев, Мазарини и в Королевской студентам выдавали на дом книги. Костюшко широко использовал эту привилегию, и, как в былое время, вставал с рассветом и при мигании свечей читал, изучал.
корпусе да и в Любашевской бурсе Костюшко охотно брался за мелок и за кисть, но делал это не из внутренней потребности, а из присущей ему основательности: закрепить, запомнить понравившееся лицо или пейзаж. Живопись Костюшко не считал своим призванием, но раз его вынудили стать художником, он им станет.
Париж поразил Костюшко не тем, что это был большой и красивый город» а тем, что бедный люд хотя и оказывает почтение богатому, но без униженности, без умаления своего человеческого достоинства. А в Польше? «Повозочный шляхтич» (едущий в повозке, не в карете) сам считает, что он не ровня графам замойским или грохольским. А в Париже, в Академии живописи и ваяния, которая размещается в Лувре под оком короля и где наряду с маркизами занимаются сыновья часовщиков и даже лакеев, никакому герцогскому отпрыску и на ум не придет говорить с плебеем языком ясновельможного пана Гоздского.
Жизнь в Париже началась для Костюшки с забавного приключения. Он поселился в большой светлой комнате на третьем этаже респектабельного дома по улице Малых Августинов. Переехал он на квартиру вечером, несколько часов устраивался, написал письма брату и сестрам, написал письмо Людвике, несколько раз его переписывал и все же уничтожил, посидел у раскрытого окна, хотя осенний дождь навевал нерадостные мысли, и, когда куранты на ближайшем соборе пробили два часа, лег спать.
Но спать пришлось недолго: в квартире этажом выше так загрохотало, что спросонья Костюшке почудилось, будто потолок рухнул.
Так продолжалось часа полтора. Когда верхние жильцы угомонились, Костюшко снова улегся в постель и проспал до вечера. А вечером старушки хозяйки не оказалось дома, и он не смог узнать причины утреннего грохота.
На следующий день повторилась та же история. Костюшко, возмущенный, поднялся на четвертый этаж, раскрыл дверь — и остолбенел. Просторная комната с покатым потолком. Посреди — странная пирамида, построенная из столов и табуретов. На вершине пирамиды — голый мальчонка лет двенадцати-тринадцати. Двое мужчин, в одних коротких рубахах, зацепившись ногами за какие-то перекладинки, свисали с обеих сторон пирамиды, свисали плашмя, параллельно полу, и перебрасывались через голову мальчонки пустыми бутылками.
В углу, под нависшим потолком, были разбросаны мешки с соломой. На одном из них, прикрытая ветошью, спала женщина, длинноволосая, с впалыми, точно провалившимися, щеками.
Мужчины соскочили на пол. Один из них, с красивым и гордым лицом, подошел к Костюшке.
— Месье извинит, — сказал он церемонно, — я и брат мой Филипп не совсем одеты, но мы не ждали вашего визита.
Костюшко обрел дар речи:
— Вы меня простите, господа, но я живу под вами.
Женщина, оказывается, не спала. Она приподнялась и сказала укоризненно:
— Я тебе говорила, Анри, нельзя так рано людей беспокоить.
— Мы вас беспокоим? — искренне удивился Анри. — Тысяча извинений, месье!
— Вам, кавалер, не повезло с квартирой, — весело сказал Филипп. — Жить под акробатами, должно быть, не особенно приятно.
— И я такого мнения, — подтвердил Костюшко. — Но я привыкну. Пожалуйста, не стесняйтесь.
— Они скоро уедут, месье, — заявила женщина. — На ярмарку в Руан.
Действительно, дней через десять грохот прекратился, и, если честно сказать, Костюшко пожалел об этом. Ему нужен был «большой день».
В академии, слушая лекции и участвуя в беседах товарищей, Костюшко понял, что искусство многогранно, как хорошо отшлифованный алмаз. И настоящий художник должен видеть все эти грани. Костюшко умеет рисовать, но его рисунки передают лишь внешние формы предметов. Его картины похожи на пустой ананас — хорошо выписаны шипы, но за шипами не угадывается сочный плод.
Еще в школе отцов-пиаров Костюшко записал в свой дневник: «Строго выполнять обязанности», и этому правилу он неуклонно следовал. Его обязали стать художником — он им станет!
В библиотеках Сен-Женевьев, Мазарини и в Королевской студентам выдавали на дом книги. Костюшко широко использовал эту привилегию, и, как в былое время, вставал с рассветом и при мигании свечей читал, изучал.
 Варшава. Гравюра 1770 года. Каналетто.
Варшава. Гравюра 1770 года. Каналетто.
 Гуго Коллонтай.
Гуго Коллонтай.
 Игнатий Потоцкий.
Игнатий Потоцкий.
Костюшко приехал во Францию в то время, когда история делала крутой поворот, когда в воздухе уже чувствовалось приближение очистительного урагана революции. «Религия, взгляды на природу, общество, государство — все подвергалось их беспощадной критике, все призывалось пред судилище разума и осуждалось на исчезновение, если не могло доказать своей разумности… Все старые общественные и государственные формы, все традиционные понятия были признаны неразумными и отброшены, как старый хлам»[9]. Не видеть всего этого, не слышать всего этого Костюшко не мог: об этом говорили в мастерских академии, об этом говорили за столиками в кафе. Костюшке подчас чудилось, что он вновь очутился в парке Рыцарской школы, и, чтобы принимать участие в беспрерывных товарищеских спорах, он принялся читать Вольтера и Дидро, «Дух законов» Монтескье и «Естественную историю» Бюффона. Как река, обтекая горы и петляя, докатывается широким руслом к морю, так и мысль Костюшки, пробившись сквозь философские сложности, добралась до нескольких бесспорных истин: Костюшко убедился, что благосостояние страны создается руками народа, а над народом, создающим богатства, властвует кучка богатых мошенников; Костюшко уверовал, что равенство — естественное право человека. Все это обогатило его ум, дало ему возможность принимать участие в товарищеских спорах, но все же основное осталось без ответа: где истоки несправедливости, в чем первопричина? Костюшко бывал часто в Латинском квартале. На склоне горы св. Женевьевы жили рабочие кожевенных предприятий, расположенных по берегам Бьевры, и пивоваренных заводов, помещавшихся на улице Муфтар. Жилые кварталы были похожи на пчелиный улей, где рабочая семья занимала крохотную ячейку, — туда не только солнце не заглядывало, но и воздуха для дыхания не хватало. Улочки были так узки, что хозяйки, живущие друг против друга, по двум сторонам мостовой, переговаривались и обменивались мелкими услугами через окна. Взрослые — худые, в лохмотьях, дети — голые, со вздутыми животами. В этих улочках всегда пахло дымом, паленым волосом, и Костюшке казалось, что все эти запахи задержались еще с того времени, когда на площади Мобер сжигали еретиков. А спустишься с холма — дворцы, утопающие в зелени, музыка из окон, детский смех… Где первопричина? Ведь не только в отсутствии равенства между людьми или в том, что властвует кучка мошенников, — все это уже следствие, а не причина. Руссо пишет: «Первый, кто, оградив клочок земли, осмелился сказать: «Эта земля принадлежит мне», и нашел людей, которые были столь простодушны, чтобы поверить этому, был истинным основателем гражданского общества. Сколько преступлений, сколько войн, сколько бедствий и ужасов отвел бы от человеческого рода тот, кто, вырвав столбы или засыпав рвы, служившие границами, воскликнул бы, обращаясь к человечеству: «Не слушайте этого обманщика! Вы погибнете, если забудете, что плоды принадлежат всем, а земля никому!» Если в этом причина, думал Костюшко, то как восстановить справедливость? Костюшко поймал себя на том, что заранее знает, где тупик. Отказаться от собственности? Я отдам Сехновицы, князь Чарторийский отдаст Пулавы, вся шляхта отдаст свои земли — собственность будет раздроблена, жизнь переместится в крохотные ячейки, и государство превратится в пчелиный улей… Нет, это не решение! По воскресеньям и праздникам Костюшко разрешал себе прогулку за город с товарищами. Под сенью вязов Лувра или на лужайках Фонтенбло они говорили об искусстве. У каждого из его друзей была своя теория. Рыжеволосый великан Ван-Лоэ утверждал, что всё в мире: и люди и вещи — отливает зеленым и красным цветом и только сочетание этих красок может воссоздать живую природу. Стройный, с тонкими чертами лица Давид едко высмеивал рыжего Ван-Лоэ: — Красок столько, сколько лиц, сколько тел, сколько рек, деревьев. И не в красках дело, не в них ценность картины. Ценность картины в строгой, психологически верной композиции. Неважно, что на кушетке лежит анатомически верно выписанная женщина, не это важно, а важно, как она лежит и почему лежит. Вылей ты на такую женщину хоть целое ведро своего зелено-красного, но не сумей выразить ее чувств, будь то в изгибе руки, во взгляде, в повороте головы или в напряженности ног, твоя натура покажется всем причудливо раскрашенным куском мяса. Изящный, похожий на красивую чернявую девушку, Вернэ соглашался и с Давидом и с Ван-Лоэ, но неизменно добавлял: — А вы, друзья, все же забываете, что Рембрандт добивался воздействия на зрителя какой-нибудь ярко выписанной деталью. И Рембрандт не единственный художник, который проник в секрет деталей. Улыбка Джоконды, тонкое деревцо Рафаэля — все это результат многолетних поисков, поисков, доведенных до гениального совершенства. Проблема красок — серьезная проблема, и хорошо, что ты, Ван-Лоэ, болеешь ею. Проблема композиций — серьезная проблема, но ты, Давид, не прав, считая ее единственной панацеей в живописи. Проблем много, и прав Костюшко, который нырнул в океан искусства, чтобы изведать его глубину. Костюшко ответил спокойно, без взволнованности друзей: — Я нырнул в океан, это верно, но чем глубже я опускаюсь, тем больше убеждаюсь, что никогда не достигну дна, и не потому, что у меня мужества не хватит дойти до конца, а потому, что океан, по-видимому, бездонный. Вы говорите о красках, о композиции, о деталях, а ведь не это основное в живописи. Вот Дидро считает, что всякое произведение живописи должно быть выражением большой идеи, должно быть поучительно для зрителя, — без этого произведение будет немым. И Дидро прав! Искусство должно не ублажать, а поднимать, воодушевлять, облагораживать, внушать зрителю высокие добродетели… Костюшко говорил убежденно, страстно, и товарищи обычно соглашались с ним. Но после каждого такого спора Костюшко ловил себя на мысли: «А ты-то сам, как художник, можешь доказать правоту Дидро? Не словами, а кистью?» Шесть месяцев общался он с этими тремя полюбившимися ему юношами и за это время убедился: как рыба не может жить вне воды, так они, три его друга, не могут жить без искусства. Все, что видят их глаза, мгновенно превращается в картину: лужайки в Фонтенбло — пейзаж, люди — портреты, происшествия на улице — жанровая зарисовка. Однажды им встретилась похоронная процессия. На высоком катафалке стоял гроб, обитый черным крепом. Вернэ сказал: «Глаза у мертвеца западают, и это страшно». Ван-Лоэ сказал: «Не это страшно, страшно зеленое лицо». Давид сказал: «Я хотел бы поглядеть, как у мертвеца сложены руки: переплетены они в пальцах или лежат вдоль тела». А Костюшко поймал себя на том, что его мысли текли совсем не в русле искусства: ему было просто жаль ушедшего из жизни человека. Эту внутреннюю потребность видеть все в красках или в композиции Костюшко считал качествами настоящего художника, и, будучи предельно честным с собой и с людьми, он должен был сказать своим друзьям: «Из меня навряд ли получится художник». Но этих слов не сказал: где-то глубоко теплилась надежда, что все-таки своего добьется. Преподавание в академии напоминало Костюшке и Любашевскую бурсу и Рыцарскую школу. Одни профессора да и сам директор Пуассон де Мариньи говорили много об «идейном искусстве», видя эти идеи в страданьях св. Роха, во снах св. Франциска, в раскаянии св. Магдалины. Другие же во главе с прославленным Кошеноном-младшим проповедовали сочную красочность, человеческие страсти, декоративный портрет, поэтический пейзаж. Костюшко в отличие от своих друзей не искал собственного пути — он пробовал себя и в божественном и в человеческом, чтобы, найдя самое выразительное в одном из двух направлений, выйти на дорогу совершенства. Жизнь Костюшки была бедна происшествиями, путь к цели был слишком далек, чтобы позволить себе тратить время на заманчивые приключения аристократов или на отвлекающие от дела политические споры в среде плебеев. Труд, работа стали для него той вифлеемской звездой, о которой с таким чисто французским увлечением говорил профессор Maриньи. Но и в этих суровых условиях был бы Костюшко счастлив, если не тоска по Людвике. Гордость не разрешала ему напомнить о себе, а она молчала. Проходили месяцы. Привратница все реже стала выходить из своей подлестничной каморки, чтобы не встретиться с ого вопрошающим взглядом: Людвика не писала. Минул год рабочего угара. Профессор Мариньи, собираясь уезжать, назначил просмотр студенческих работ. Костюшко закончил портрет пожилого человека, чем-то напомнившего ему Дон-Кихота. Этот портрет он и решил показать директору. Пуассон де Мариньи, рослый, представительный, в черном шелковом кафтане и воланами кружев вокруг шеи, уселся против мольберта и минут пять смотрел на портрет пристально и сосредоточенно. — Мило, — сказал он наконец, но это, в сущности, похвальное слово прозвучало с издевательской ироничностью, особенно в сочетании с быстрым вороватым взглядом, которым Мариньи обменялся со стоявшим рядом Кошеноном. — Вам не нравится? — спокойно спросил Костюшко, проникнув в истинный смысл и тона и взгляда Мариньи. — Месье Костюшко, — любезно ответил профессор. — Так ставить вопрос нельзя. Тут дело не в моем или вашем вкусе. Тут дело в принципиальном взгляде. Портрет сделан очень мило. Анатомия — без греха. Пропорции соблюдены. Есть лицо, есть торс, есть руки, а человека нет. Кто он, не знаю; о чем он думает, не вижу. Если я его встречу на улице, не узнаю: вы не наделили его ни единой запоминающейся деталью, которая была бы присуща именно ему, в отличие от других, похожих на него людей. Портрет — это не зеркало. Кисть портретиста, подобно ланцету прозектора, должна уходить вглубь, а не скользить по поверхности. — Он поднялся, протянул руку. — Надеюсь, вы не обиделись на меня, месье Костюшко. У вас мило получилось, чистенько, а глубина, будем надеяться, придет. Придет, месье Костюшко. Профессор ушел, а вслед за ним ушел из мастерской и Костюшко. Другой, менее мужественный и менее честный студент нашел бы утешение в последних словах многоопытного Мариньи, но Костюшко осознал именно первую, осуждающую часть краткой лекции и понял не только то, что профессор сказал, а также и то, чего он по деликатности, щадя студента, не сказал. Костюшко понял: случилось именно то, что должно было случиться, — отсутствие подлинного таланта нельзя возместить даже сизифовым трудом. Ведь до поступления в академию он и не думал, что живопись будет делом его жизни, а в академии, общаясь с истинно талантливыми людьми, убедился: художниками не делаются, а рождаются. Стать же посредственностью, ремесленником Костюшко не желал. Придя домой, он сам себе приготовил любимый напиток — черный кофе и с дымящейся чашкой в руке подсел к окну. Закончился третий этап. Любашевская бурса внушила ему отвращение к сутане и тоску по бескорыстной героике; Рыцарская школа привила ему любовь к родине и желание служить ей; академия убедила его, что человек должен выбрать для себя жизненную дорогу не по указанию короля, а по собственному влечению. Куда, на какую дорогу его влечет? Кем он видел себя в мечтах? Солдатом, и только солдатом на службе отчизны! Костюшко поставил чашку на стол, увязал книги, отнес их в библиотеки и… покончил с академией и с живописью. Начался четвертый этап — жизнь по призванию. Собственно, начался не сам этап, а подготовка к нему. Прямо из последней библиотеки Костюшко поехал в Фонтенбло, уселся на узорчатую скамью и повел сам с собой мысленный разговор. Чему учиться? Под какой камень подвести архимедов рычаг? Военная служба! В качестве кого? Польша славится своей кавалерией, но стать уланским офицером бессмысленно: прошло уже то время, когда конь решал исход боя. Он неплохой математик, мог бы найти применение своим знаниям в артиллерии, но польская артиллерия, хотя по калибрам и отстает от русской или прусской, все же сильна и традицией и кадрами. Следовательно, он станет одним из рядовых артиллеристов. Не устраивает. А вот инженерная служба у нас в зачаточном состоянии. И это плачевно. Опытные французские военачальники не зря восхваляют инженера Вобана, и совсем не случайно такой выдающийся теоретик, как военный министр Сен-Жермен, оказывает исключительное внимание инженерным училищам в Мезиере и в Бароме. А он приобрел именно те знания (математика и рисование), которые нужны хорошему военному инженеру. Решить, желать еще не значит сделать. Костюшку не приняли ни в Мезиере, ни в Бароме: у него не было высокопоставленного покровителя. Однако он не сдался: если нельзя числиться курсантом, то можно пройти курс в училище наравне с курсантами — без присвоенных им прав и привилегий. Костюшко попал в новый мир. Выдающиеся математики Босю, Моннэ, Перанэ раскрывали перед ним гениальную простоту сложных формул, а военные инженеры Гуэн и Молино на экскурсиях по крепостям и на полевых вылазках учили его применять эти сложные математические формулы на практике. Четыре года упрямого труда потратил Костюш-ко на овладение искусством добывать из камня и земли добавочные мощности для усиления воинских частей в бою и в обороне. Молодые инженерные офицеры, с которыми Костюшке пришлось общаться, разительно отличались от слушателей Академии живописи. Художники видели мир в красках, в композиционных построениях, военные инженеры этот же мир видели в его национальных противоречиях. Они говорили не только о плацдармах будущих боев, но и об идеях, во имя которых народы пойдут в бой. Во Франции, как и в Польше, сынки «ясновельможных» шли в гвардию, в кавалерию; в Мезиере или в Бароме их не было: состав слушателей — сплошь выходцы из буржуазных и интеллигентных семей, с явным преобладанием поклонников Вольтера, Дидро, Монтескье. И профессура в большей своей части была тех же убеждений. Когда один из слушателей, молоденький лейтенант, написал на доске: «Свет начинает распространяться, мы приближаемся к веку революции. Молодежь счастлива: увидит прекрасные вещи», профессор Босю, зайдя в класс и прочитав написанное на доске, сказал: «Сотрите, мой лейтенант. Раньше математика, а Вольтер на десерт». Под влиянием своих новых друзей Костюшко занялся трудами Тюрго, Дюпона де Немур и Квеснея — основателя школы физиократов. Учение этой школы особенно привлекало Костюшко. Они учили: «Бедные крестьяне — это бедное государство». Не в бедности ли крестьян кроется основа основ польских несчастий?
В один из ветреных зимних дней, переступив после недельной отлучки порог своей вымороженной комнаты, Костюшко неожиданно для себя выругался: — Сто дьяволов и десять зеленых чертенят в зубы твоему будущему жениху! Это «пожелание» относилось к служанке, нескладной, мужеподобной Жозефине. Костюшко разделся, зашел к квартирной хозяйке, доброй старушке, вечно воюющей с пылью. Он был так раздражен, что даже забыл поздороваться. Спросил раздраженно: — Почему Жозефина камин не топила? Старушка прижала к сердцу пыльную тряпку, запричитала: — Вы вернулись, месье Костюшко? Какая неприятность. Жозефина наверху, у комедиантов. Посидите пока у меня, отогрейтесь, а я сбегаю за Жозефиной. Она мигом затопит у вас камин. Костюшко уже внутренне краснел за свою грубую выходку. — Не беспокойтесь, мадам Гаро, я сам пойду за ней. — Если вы считаете это удобным для себя. Костюшко поднялся на четвертый этаж. Под нависшим потолком, на соломенном тюфяке, распластавшись, лежала женщина, та, которую он уже однажды видел. Возле нее, на табурете, — Жозефина. Посреди комнаты — стол. Больше никакой мебели. Жозефина повернула голову, взволновалась: — Вы вернулись? Мой боже! У вас в комнате холодно! Сейчас спущусь! — Не надо, потерплю, — успокоил ее Костюшко. — Скажите, что с этой дамой? — Горит вся. — Давно? — Уже четвертые сутки. — Что вы ей даете? — Она ничего не ест. Одну холодную воду пьет. Костюшко подошел к больной: она лежала с закрытыми глазами, закинув голову, и прерывисто дышала. Нос еще больше заострился, щеки глубже запали. Лицо красное, в испарине. Пот скапливался в уголках рта. — Посидите, Жозефина, у нее. С камином я сам справлюсь. И он, как был, без плаща и без шляпы, побежал «а улицу Камартэн к доктору Вернону, у которого сам когда-то лечился. — Мой польский друг, — встретил его доктор укоризненным взглядом, — в такую погоду не выходят из дому без плаща. — Нужда заставила, уважаемый мэтр, — женщина умирает. — Тем меньше основания рисковать своей жизнью. Кто эта дама? — Расскажу по дороге. До третьего этажа доктор Вернон поднялся с трудом, но охотно. Когда же Костюшко поставил ногу на первую ступеньку следующего этажа, доктор остановился и растерянно спросил: — На мансарду? — Да, мэтр, больная там живет. — А может она оплатить услуги врача? — Не беспокойтесь, мэтр, я буду оплачивать ваши визиты. — Тогда идем, мой польский друг.
Женщина проболела около месяца. Жозефина по просьбе Костюшки нашла монашенку, у которой был опыт по уходу за больными, и возможно только благодаря ее умению больная вернулась к жизни. Мансарда за этот месяц преобразилась: появилась кое-какая мебель, утварь; больная была перенесена на кровать с простыней, с одеялом, с подушкой. Преобразилась и сама больная: лицо округлилось, глаза заискрились, черные волосы потеплели. Костюшко при всей кажущейся суровости был легко ранимым человеком. Жизнь наносила ему удар за ударом, а со стороны казалось, что он ударов даже и не чувствует. На самом деле ему было больно, только умение не показывать никому своих переживаний вводило всех в заблуждение. Он черпал силы в уверенности, что рано или поздно взойдет его «солнце», что и у него будет кровля над толовой, семья вокруг стола и любимое занятие. А пока, до восхода этого «солнца», надо трудиться, сжавши губы. В последнее время было ему тоскливо: Людвика молчала, мать умерла, обеим сестрам жилось трудно, и они писали ему редко, старший брат — фанфарон, вовсе им не интересуется. Костюшко угнетало одиночество — ни в чьих глазах не вспыхивает искорка радости при его приближении, ни одна рука не ложится дружеской лаской на его плечо. И вдруг встречает он человека одинокого, как и он, но еще более несчастного, нуждающегося не только в ласке, но и в воздухе. С детских лет жила в нем потребность раздаривать кусочки своего счастья. В детстве он раздавал ржаные лепешки, снимал с ног сапожки; сейчас, в двадцать восемь лет, он отдавал тепло своего сердца и золото из своего кошелька. И обоим им было хорошо: ее, комедиантку, бросил муж, ушел куда-то сын, а теперь вместе с уютом, вошедшим в ее дом, возродилась надежда, что муж вернется, вернется к ней и сын, и жизнь опять войдет в свои пазы; для Костюшки же это приключение создавало иллюзию семьи, и ему было грустно, когда его подопечная, выздоровев, куда-то исчезла.
Пять лет, полных пять лет Костюшко провел вдали от родины. Деньги на исходе, а новых получений ждать неоткуда. Король, как часто бывает с королями, обманул: обещал высылать своему стипендиату по тысяче злотых в год — и ни разу не послал. Брат! Выдал ему перед отъездом в Париж семь тысяч злотых в счет будущих доходов с имения — и этим ограничился. Сестры! Сами нуждаются. Скучный дождливый день. Костюшко сидел в кафе возле окна и смотрел на улицу. Лето, а погода осенняя. Редкие пешеходы. Мужчины прячут бороды в плащах; женщины подымают высоко юбки. Тротуар в лужах. Со стороны Сены налетают порывы ветра, и дождь, словно спасаясь от ветра, стучится в окно. Неуютно и в кафе. За столиком, склонившись, сидит аббат в мокрой сутане — не то дремлет, не то читает лежащую перед ним газету. За большим столом, где обычно размещается человек десять, устроилась тощая, с длинной шеей женщина. Она теребит концы белой косынки и неотрывно смотрит в сторону буфетной стойки. Перед женщиной — стакан с розовым сиропом, и крупная черная муха, густо жужжа, кружит вокруг стакана. Боком к буфетной стойке, с кружкой пива в согнутой руке стоит усатый верзила; он смотрит на свои забрызганные грязью высокие сапоги. Как надоела Костюшке эта его бездомность! Пять лет! Давно улетучился подъем первых месяцев, когда ему казалось, что мелок и кисть раскроют перед ним двери в широкий мир. Он обманывал самого себя — ведь с детства мечтал о солдатском мундире, а не о лаврах художника. Юзеф Орловский, поступивший вместе с ним в академию, укорял: «Бросаешь живопись! Меняешь кисть на карабельку!» «Милый Юзеф, ты не понимаешь, что моя мечта не Парнас, а песчаные шляхи отчизны. В часы раздумья я вижу себя не на Пегасе, а на польском бескрылом конике. Четыре года я проучился, получил то, к чему интуитивно стремился, получил даже больше, чем надеялся, — кроме умения воевать, я приобрел еще умение разбираться в причинах, которые вызывают войны». Костюшко расплатился и ушел из кафе. Дождь висел сизым парусом. Из луж на тротуаре били маленькие фонтанчики. Привратница встретила Костюшко с конвертом в руке. — Месье капитан, вам приятное письмецо! Он улыбнулся, поблагодарил, хотя видел, что серый, из толстой бумаги конверт не от «нее». Пять лет ждал Костюшко «приятное письмецо», но оно не приходило. В первые месяцы парижской жизни, в угарные месяцы погони за славой, ни на одно мгновение не покидала уверенность, что Людвика его не забыла. Однако прошли годы — ни одного письма. Боль, правда, притупилась, но стоило ему подумать о Людвике, как она оживала перед его глазами нежной и любящей. Неужели притворялась, была неискрення с ним? Корпус… Людвика… Мечта о счастье — все позади. А что впереди? В комнате раскрыто окно. Нудно шумит дождь. Костюшко пододвинул стул к окну, уселся. Из дождя вырисовывались крыши, трубы… Польша… Отчизна… По-новому и без националистического пристрастия думал Костюшко о своей родине. Еще в Варшаве видел он, что небо его отчизны заволакивается грозовыми тучами, но здесь, в Париже, он научился сплести в единую нить все крупные и мелкие причины, которые подвели Польшу к краю пропасти. Здесь, в Париже, он получил возможность сравнивать. Франция и Польша — какое разительное несходство! Тут народ: дворяне, интеллигенция, мещане, ремесленники, крестьяне. У всех своя ступенька в государственной лестнице. А у нас? Нет народа! Есть шляхта — в ее руках ключи от жизни, остальной люд — быдло, голодное и униженное. Тут парламент, пусть не выборный, пусть не законодательный, но все же он что-то решает, утверждает. А у нас сейм, выборный, законодательный, но любой шляхтич — со сна, спьяну или за дукат, полученный от магната, — может крикнуть: «Не позвалям!», и закон, уже одобренный 99 процентами голосов, теряет силу. Тут король, хороший или плохой, но вереница предков придает его царствованию блеск и устойчивость. А у нас? Тоже король, но случайный человек, избранный на элекционном поле не большим количеством свободных голосов, а большим количеством купленных глоток и кулаков. Среди случайных королей попадались и дельные люди, но они ничего путного сделать не могли: они были безвластны из-за «особых договоров», что магнаты заключали с «ими при их вступлении на престол. Внутренние неурядицы и привели к внешнему бессилию. Великая Польша сделалась «постоялым двором» для соседних государств. И кто может закрыть ворота в постоялый двор? Армия? Разве 17 тысяч шляхтичей на резвых кониках да немного артиллерии, пусть хорошей, могут сдержать стотысячные армии соседей? Магнаты не желают создавать современной армии, и они цинично говорят об этом в сейме: содержать пехотные полки — значит обучать военному делу крестьян, что опасно, ибо создает возможность бунтов против шляхты; создавать постоянную армию, говорят они, значит усиливать королевскую власть, а это опасно, ибо, опираясь на такую армию, король может посягать на шляхетские привилегии; постоянная армия, говорят они, требует крупных средств, а шляхта платить подати не желает… В Париже, вдали от межмагнатной свары, Костюшко имел возможность видеть события в их истинном свете. Он видел не только то, что Польша уменьшилась после первого раздела, но видел и причины, приведшие к этому разделу, видел отдельные ступеньки в той лестнице, по которой Польша спускалась в пропасть. Начали раздел Пруссия и Австрия. Еще в 1770 году пруссаки заняли часть Великой Польши и Поморья под подлым предлогом: «предотвратить проникновение из Польши эпидемии» — эпидемии, которой в Польше тогда не было. Австрия еще до этого заняла Спиж и почти весь Сандетский повет. Но эти захваты не насытили немцев. Пруссия зарилась на все Поморье и на остальную часть Великой Польши, Австрия — на южные земли Краковского и Сандомирского воеводств, на все Люблинское, Русское и Белзское воеводства и часть Волыни. Россия воспротивилась притязаниям Пруссии и Австрии, но, опасаясь вступления Австрии в войну на стороне Турции, Екатерина II согласилась на раздел. 5 августа 1772 года была подписана в Петербурге конвенция о разделе. Три государства ограбили более слабого соседа под подлым предлогом: «ради спокойствия и порядка во внутренних делах Речи Посполитой», и свои грабительские претензии они назвали «столь же древними, как и законными». Костюшко научился в Париже широко мыслить: раздел Польши он считал исторической катастрофой, неизбежной в условиях магнатской анархии. Такую катастрофу надо оплакивать, но не приходить в отчаяние. Однако как могут поляки примириться с национальным позором? Ведь они сами утвердили грабеж своей родины на заседании сейма 30 сентября 1773 года! Только немногие делегаты: Корсак, Рейтан, Богушевич — нашли в себе мужество назвать грабеж грабежом! Раздел, казалось, должен был вызвать взрыв национальной гордости. Но не вызвал. Польша — это шляхта, а раздел Польши не нанес шляхте никакого урона: она по-прежнему хозяйничала в своих имениях. Первое время еще слышалась воркотня: соль вздорожала (к Австрии отошли соляные копи в Бохнии и Величке), да пруссаки, ставшие хозяевами в верховье Вислы, требуют пошлины за хлеб, сплавляемый на баржах к Балтийскому морю. Но вскоре и ворчать перестали: подналегла шляхта на своих хлопов, и хлопы покрыли разницу в ценах. На крестьянах раздел Польши также не сказался: были рабами и остались рабами. «Есть ли просвет в тучах? — спрашивал себя Костюшко. — Все ли прогнило? Есть ли в Польше люди, которые видят пропасть у ног?» «Есть такие люди! Станислав Конарский. Все громче и громче звучит его голос против шляхетской анархии, против своеволия магнатов. Даже сегодня, на склоне лет, он опекает созданные им светские школы. Гуго Коллонтай — государственный муж, который упорно, изо дня в день, пробивает брешь в стене вековых предрассудков. Станислав Сташиц — блестящий журналист, который уже не уговаривает шляхту улучшить положение крестьян, а угрожает: «Торопитесь… торопитесь… Будет поздно…» Не только в этом кроется надежда на скорые перемены в Польше — уже сама жизнь настойчиво требует радикальных преобразований. Мещанству нужна свобода для расширения своих коммерческих дел. Помещикам также нужна перемена: крестьяне отказываются выполнять повинности, поджигают усадьбы, рубят леса, а если не бунтуют открыто, то работают так нерадиво, что барщинное хозяйство становится просто невыгодным. Много лет нависал этот дамоклов меч над головой помещиков. Еще пастух Василь, друг детства, говорил молодому Тадеушу, что землю надо отобрать у шляхты. А в «Торчинском манифесте» прямо сказано: «Настало время подняться нам из рабского состояния, которого не терпят наши собратья в наследственных монархиях». Но магнаты да и подавляющая часть шляхты не слышат подземных толчков. Король… Станислав Август Понятовский. Десять лет он на престоле. Кто он? Был секретарем английского посла Вильямса, был польским послом и агентом прусского короля при царском дворе, стал очередным любовником Екатерины, и она же, не щадя русского золота, посадила своего мимолетного любовника на трон польских королей. Мог ли Понятовский спорить со своей царственной благодетельницей, когда ей захотелось расширить свои границы за счет Польши? Мог ли Понятовский, давнишний агент прусского короля, ослушаться своего бывшего хозяина? И удивительно ли, что при таком короле управляет Польшей негодяй Антони Понинский, который в открытую, бесстыдно принимает взятки и от русских и от пруссаков? «Вот я, Тадеуш Костюшко, вернулся в Польшу, что мне там делать? Нет у меня восемнадцати тысяч злотых, чтобы купить, патент на командную должность. В Сехновицах хозяйничает брат Юзеф. Что предпринять? В Польшу! Даже такая Польша, где власть в руках мерзавцев понинских, мне ближе и дороже, чем Париж с его парламентом и наследственным королем. И над несчастной Польшей засияет солнце истории, осуществится пророчество Вольтера: «Молодежь счастлива, увидит прекрасные вещи». Наконец там Людвика!»
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ГОРЛИЦА И ВОРОБЕЙ

 августовское утро 1774 года, когда из улиц Варшавы еще не ушла ночная прохлада, подъехал к почтовой станции краковский дилижанс. С крыльца двухэтажного дома, что стоял в глубине двора, сошел горбун и, шагая медленно, словно обдумывая что-то на ходу, приблизился к карете. Небрежным кивком головы горбун ответил на приветствие кучера и, заглянув внутрь кареты, торжественно сказал:
— Прошу, панув.
Сначала вышел из кареты тучный ксендз, подтягивая за собой большой лубяной короб. Он поставил короб на землю, перекрестился и, обращаясь к почтарю, сказал скорбным голосом, словно жалуясь на что-то:
— Пусть будет восхвален…
— На веки веков, — ответил горбун скороговоркой.
Вслед за ксендзом, толкаясь, мешая друг другу, почти одновременно выскочили два шляхтича: оба вислоусые, оба в теплых кунтушах. Когда они очутились на земле, один из них зло проговорил:
— Вач пан мог бы не торопиться!
— А пана брата, видать, найяснейший наш круль ждет с обедом, — насмешливо ответил другой.
— Вач пан мог бы не совать свой пьяный нос в чужой кубок.
— Братья шляхта, прошу закончить ссору на улице, — обратился к ним почтарь. — Панове мешают панам пассажирам.
Четвертым вышел Тадеуш Костюшко. Он посмотрел вокруг. Грязный двор, куры, раскрытые ворота конюшни…
— Прошу пана в контору, — вежливо предложил горбун. — Пан мешает панам пассажирам.
Костюшко направился в сторону двухэтажного дома и поднялся на крыльцо. Из раскрытого окна донесся веселый женский голос:
— Прошу пана до салёну, туда принесут вещи пана.
— А чашечку кофе тоже принесут? — спросил Костюшко.
— Пани Ядвига скоро придет, она пану и кофе сварит и даже чай хиньчицкий.
Костюшко вошел в салён. Там за столом уже сидели оба вислоусых шляхтича и мирно беседовали. Ксендз, склонившись, копался в своем коробе.
Салён! Просторная горница с двумя небольшими окнами. Пол в заусеницах, известка на стенах лупится, потолочные балки черны от копоти.
Вот он, наконец, дома; пусть в неуютном салёне, но дома. Отсюда, из этой грязной комнаты, он попадет на светлую и чистую дорогу — дорогу своей жизни. Трудные годы позади; все, что созрело в мыслях, все, что накопилось в сердце, — все он отдаст своему Краю, своему народу.
Пришли последние пассажиры; внесли вещи. Появился почтарь, проверил квитанции. Налетела стайка босоногих мальчишек:
— Я отнесу! Я отнесу!
Разошлись пассажиры. Салён опустел.
Остался один Костюшко: ему некуда идти, его нигде не ждут.
— Есть у вас комнатка, где я мог бы прожить несколько дней? — спросил он почтаря.
Горбун взглянул на Костюшко грустными глазами.
— Есть у нас, пане ласкавый, не одна, а три комнаты, но я не волен ими распоряжаться.
— Не понимаю.
— И я, пане ласкавый, не понимаю, но вынужден подчиниться.
— Для кого эти комнаты?
— То-то, для кого бы вы думали, пане ласкавый? Для панув русских и прусских офицеров. Для них эти комнаты.
Костюшко возмутился:
— Позор! В польском доме нет комнаты для польского офицера!
— Эх, пане ласкавый, с таким позором можно было бы еще мириться. Не в одном доме, так в другом найдете комнату, а вот, что сами поляки свою Польшу чужакам отдают, с этим позором мириться невозможно.
Их разговор прервала дородная черноволосая женщина, она остановилась на пороге и требовательно спросила:
— Это вы, вач пан, любитель кофе?
— Я, моя пани.
— С молоком или без?
— Без, если пани позволит.
Она повернулась и исчезла.
— Пане ласкавый, вижу, вы долго жили в чужих краях.
— Пять лет.
— Срок немалый, пане ласкавый, а для нас, поляков, это целый век. За эти годы мы чужим государствам и земли свои отдали и совесть свою продали.
— Не все продают свою совесть!
— Пане ласкавый, я понимаю, вам это неприятно слышать, а мне, думаете, приятно говорить об этом? Больно, понимаете, больно. И важно ли, что не все продают? Неважно, потому что продают свою совесть именно те, которые имеют возможность продавать нашу страну. Эх, пане ласкавый, что говорить. Вы надолго приехали?
— Навсегда.
— Дай вам бог. Вы молоды, может, и до лучших времен доживете.
Костюшко понял, что почтарь тяжело переживает позор раздела; он весь во власти своего горя и говорит о нем даже с незнакомым человеком, как больной говорит со всеми о своей болезни. Но горе почтаря обрадовало Костюшко: если первый поляк, которого он встретил на варшавской земле, так болезненно переживает несчастье своей родины, то этим несчастьям скоро наступит конец, ибо народ, осознавший свою болезнь, сумеет найти средство для ее лечения.
Все, о чем говорил почтарь, Костюшко знал уже в Париже, но для него, для Костюшки, новое заключалось в том, что его чаяния и его боль текут в русле народных чаяний и народной боли.
Бывало, в Париже, когда тревожные мысли о родине отгоняли сон, он мучился не только тем, что дела Польши плачевны, а больше оттого, что польский народ смирился, сжился со своим позором. А тут, оказывается, народ не смирился — ему стыдно, ему больно, он говорит о своем горе.
— Пане добродею, — сказал Костюшко, желая хоть словом утишить горе горбуна, — Висла и та не течет прямо к морю, она петляет, выписывает зигзаги, а у Вышогрода она даже пытается повернуть вспять. Так и жизнь. Важно, чтобы народ видел свое море, стремился к нему.
— То Висла, пане ласкавый, она течет в одном русле, одним потоком, а у нас потоков много, и все они в разные стороны бегут.
— Вы правы, но я верю, что горе объединит народ, что из горя может родиться злоба, а из злобы — сила.
Горбуну не понравились слова приезжего: в них слышалось желание, а не уверенность, но и за эти слова, за этот луч надежды был горбун благодарен незнакомцу. Он взял его под локоть.
— Позвуль, пане ласкавый, я тебя в комнату провожу.
— А если панове офицеры приедут?
— До холеры тых панув офицерув! — зло ответил почтарь.
августовское утро 1774 года, когда из улиц Варшавы еще не ушла ночная прохлада, подъехал к почтовой станции краковский дилижанс. С крыльца двухэтажного дома, что стоял в глубине двора, сошел горбун и, шагая медленно, словно обдумывая что-то на ходу, приблизился к карете. Небрежным кивком головы горбун ответил на приветствие кучера и, заглянув внутрь кареты, торжественно сказал:
— Прошу, панув.
Сначала вышел из кареты тучный ксендз, подтягивая за собой большой лубяной короб. Он поставил короб на землю, перекрестился и, обращаясь к почтарю, сказал скорбным голосом, словно жалуясь на что-то:
— Пусть будет восхвален…
— На веки веков, — ответил горбун скороговоркой.
Вслед за ксендзом, толкаясь, мешая друг другу, почти одновременно выскочили два шляхтича: оба вислоусые, оба в теплых кунтушах. Когда они очутились на земле, один из них зло проговорил:
— Вач пан мог бы не торопиться!
— А пана брата, видать, найяснейший наш круль ждет с обедом, — насмешливо ответил другой.
— Вач пан мог бы не совать свой пьяный нос в чужой кубок.
— Братья шляхта, прошу закончить ссору на улице, — обратился к ним почтарь. — Панове мешают панам пассажирам.
Четвертым вышел Тадеуш Костюшко. Он посмотрел вокруг. Грязный двор, куры, раскрытые ворота конюшни…
— Прошу пана в контору, — вежливо предложил горбун. — Пан мешает панам пассажирам.
Костюшко направился в сторону двухэтажного дома и поднялся на крыльцо. Из раскрытого окна донесся веселый женский голос:
— Прошу пана до салёну, туда принесут вещи пана.
— А чашечку кофе тоже принесут? — спросил Костюшко.
— Пани Ядвига скоро придет, она пану и кофе сварит и даже чай хиньчицкий.
Костюшко вошел в салён. Там за столом уже сидели оба вислоусых шляхтича и мирно беседовали. Ксендз, склонившись, копался в своем коробе.
Салён! Просторная горница с двумя небольшими окнами. Пол в заусеницах, известка на стенах лупится, потолочные балки черны от копоти.
Вот он, наконец, дома; пусть в неуютном салёне, но дома. Отсюда, из этой грязной комнаты, он попадет на светлую и чистую дорогу — дорогу своей жизни. Трудные годы позади; все, что созрело в мыслях, все, что накопилось в сердце, — все он отдаст своему Краю, своему народу.
Пришли последние пассажиры; внесли вещи. Появился почтарь, проверил квитанции. Налетела стайка босоногих мальчишек:
— Я отнесу! Я отнесу!
Разошлись пассажиры. Салён опустел.
Остался один Костюшко: ему некуда идти, его нигде не ждут.
— Есть у вас комнатка, где я мог бы прожить несколько дней? — спросил он почтаря.
Горбун взглянул на Костюшко грустными глазами.
— Есть у нас, пане ласкавый, не одна, а три комнаты, но я не волен ими распоряжаться.
— Не понимаю.
— И я, пане ласкавый, не понимаю, но вынужден подчиниться.
— Для кого эти комнаты?
— То-то, для кого бы вы думали, пане ласкавый? Для панув русских и прусских офицеров. Для них эти комнаты.
Костюшко возмутился:
— Позор! В польском доме нет комнаты для польского офицера!
— Эх, пане ласкавый, с таким позором можно было бы еще мириться. Не в одном доме, так в другом найдете комнату, а вот, что сами поляки свою Польшу чужакам отдают, с этим позором мириться невозможно.
Их разговор прервала дородная черноволосая женщина, она остановилась на пороге и требовательно спросила:
— Это вы, вач пан, любитель кофе?
— Я, моя пани.
— С молоком или без?
— Без, если пани позволит.
Она повернулась и исчезла.
— Пане ласкавый, вижу, вы долго жили в чужих краях.
— Пять лет.
— Срок немалый, пане ласкавый, а для нас, поляков, это целый век. За эти годы мы чужим государствам и земли свои отдали и совесть свою продали.
— Не все продают свою совесть!
— Пане ласкавый, я понимаю, вам это неприятно слышать, а мне, думаете, приятно говорить об этом? Больно, понимаете, больно. И важно ли, что не все продают? Неважно, потому что продают свою совесть именно те, которые имеют возможность продавать нашу страну. Эх, пане ласкавый, что говорить. Вы надолго приехали?
— Навсегда.
— Дай вам бог. Вы молоды, может, и до лучших времен доживете.
Костюшко понял, что почтарь тяжело переживает позор раздела; он весь во власти своего горя и говорит о нем даже с незнакомым человеком, как больной говорит со всеми о своей болезни. Но горе почтаря обрадовало Костюшко: если первый поляк, которого он встретил на варшавской земле, так болезненно переживает несчастье своей родины, то этим несчастьям скоро наступит конец, ибо народ, осознавший свою болезнь, сумеет найти средство для ее лечения.
Все, о чем говорил почтарь, Костюшко знал уже в Париже, но для него, для Костюшки, новое заключалось в том, что его чаяния и его боль текут в русле народных чаяний и народной боли.
Бывало, в Париже, когда тревожные мысли о родине отгоняли сон, он мучился не только тем, что дела Польши плачевны, а больше оттого, что польский народ смирился, сжился со своим позором. А тут, оказывается, народ не смирился — ему стыдно, ему больно, он говорит о своем горе.
— Пане добродею, — сказал Костюшко, желая хоть словом утишить горе горбуна, — Висла и та не течет прямо к морю, она петляет, выписывает зигзаги, а у Вышогрода она даже пытается повернуть вспять. Так и жизнь. Важно, чтобы народ видел свое море, стремился к нему.
— То Висла, пане ласкавый, она течет в одном русле, одним потоком, а у нас потоков много, и все они в разные стороны бегут.
— Вы правы, но я верю, что горе объединит народ, что из горя может родиться злоба, а из злобы — сила.
Горбуну не понравились слова приезжего: в них слышалось желание, а не уверенность, но и за эти слова, за этот луч надежды был горбун благодарен незнакомцу. Он взял его под локоть.
— Позвуль, пане ласкавый, я тебя в комнату провожу.
— А если панове офицеры приедут?
— До холеры тых панув офицерув! — зло ответил почтарь.
Костюшко позавтракал, надел голубой капитанский мундир с красными отворотами, пропустил через портупею отцовскую саблю и направился в город. В этот день он хотел справить два дела: выхлопотать аудиенцию у короля и посетить князя Чарторийского, своего бывшего директора. В хорошо знакомые улицы Варшавы вошло что-то новое. Народу стало больше, домов стало больше, но больше стало и чужеземных офицеров. На каждом шагу встречались пруссаки в черных, словно траурных, мундирах, русские в золотом расшитых ментиках, австрийцы в высоких лакированных шапках. Варшавяне, обычно веселые, словоохотливые, держались ближе к домам и шли, словно погруженные в думу. Шляхтичи в цветных кунтушах, с карабелью на боку, те шляхтичи, которые всегда ходили стадом, фанфароня во всю глотку, и они притихли, стали незаметнее. Через Краковскую Браму Костюшко вышел к королевскому Замку. Перед ним толпился народ. К воротам то и дело подъезжали кареты, верховые. Костюшко подошел к гвардейцу, дежурившему у калитки. — Хотел бы видеть пана Водзиевского, — сказал он часовому. — Имч пана пулковника Водзиевского, — поправил его часовой. — Пусть так будет, — согласился Костюшко. Часовой распахнул калитку и крикнул: — Франек! До имч пана пулковника Водзиевского! Из караулки вышел другой гвардеец. — Прошу пана капитана! — предложил он Костюшке. Гвардеец привел Костюшку в кордегардию. В огромной комнате на нарах отдыхали солдаты. Вдоль стен — ружья в козлах. На длинном столе стояли жбаны, крынки, кружки. Следуя за Франеком, Костюшко поднялся по крутой винтовой лестнице на второй этаж и попал в узкий полутемный коридор. — Пан капитан обождет, замельдую имч пану пулковнику. Франек раскрыл одну из трех дверей и исчез. «Имч пан пулковник, — подумал Костюшко. — Лет этому пану пулковнику не больше, чем мне, знаний у этого пана пулковника меньше, чем у меня, но я Костюшко, а он сын ясновельможного пана каштеляна. Он — в кабинете, а я — в коридоре, проситель…» — Имч пан пулковник просит пана капитана. Водзиевский лежал на широком диване и чистил ногти. Увидев Костюшко, он бросил пилку, вскочил. — Швед! Ты? Он обнял приятеля. — Рад видеть тебя! Когда ты приехал? — Только сегодня. — Садись рассказывай. — Он подошел к шкафчику, достал оттуда два бокала и бутылку. — Ей-богу, Швед, я рад тебя видеть. — Он разлил вино по бокалам, — За твой приезд! — Они выпили. — Скажи, Швед, правда, что ты бросил живопись? — Правда, Вацлав, я предпочел изучать военное дело. — Ты всегда что-нибудь выкинешь. Не любишь прямых дорог. Как там, в Париже, весело тебе жилось? — А я туда поехал недля веселья. Работал, и работал много. А ты, вижу, в гору пошел. — Какая это гора! Старший дворник! Жду, пока его королевская милость подпишет мою номинацию в генералы. — А тогда? — Тогда — дивизия. Понимаешь, Швед, второй кавалерийской дивизией буду командовать! — Даже знаешь, какой дивизией. — Уже патент выкупил. Но хватит обо мне! Что ты думаешь с собой делать? — За этим и пришел к тебе. Посоветуй, Вацлав. — Добейся номинации в полковники и бери полк. — А кто мне полк даст? — Купи патент. Всего восемнадцать тысяч злотых. — Нет у меня таких денег. И половины не наскребу. Водзиевский наполнил бокалы, сам выпил. — Плохо, — сказал он, — плохо без денег. А протекцию имеешь? — На князя нашего надеюсь. — Плохая надежда. Чарторийский не в фаворе. И, кроме того, он в Пулавах. Нет ли у тебя кого-нибудь из окружения Понинского? — Этого негодяя! — возмутился Костюшко. — Эх, Швед, — серьезно промолвил Водзиевский, — ты, видать, не изменился, все еще о Тимолеоне грезишь. Времена Тимолеона прошли. Антони Понинский государством правит. И как бы ты ни относился к нему, его воля для тебя закон. — А мне кажется, дорогой мой Вацлав, что он недолго усидит в седле. — На твой век хватит. — Не хватит. У Штакельберга достаточно дукатов, чтобы купить Понинского, но нет в мире столько золота, чтобы купить весь польский народ. — Бредни, Швед, пойми меня, бредни. Это у тебя навязчивая идея: народ, народ и опять народ. Народ — это стадо. Куда пастух поведет, туда и пойдет. Мы с тобой сейчас не в корпусе, где при свете луны мир казался нам поэтическим сновидением. Жизнь — штука жестокая, в жизни только две дороги: направо или налево. Хочешь жить — иди к Понинскому или Штакельбергу; не хочешь — поезжай в Сехновицы капусту сажать. — Опять же, Вацлав, не согласен с тобой. Есть и третий путь. — Какой? — Служить родине, ее славе, ее чести, как нас с тобой учили в корпусе. — Опять Тимолеон! — рассмеялся Водзиевский. — Швед, ведь родина, по крайней мере сегодня, — это и есть понинские, штакельберги, массальские, сулковские — все те, которые теперь управляют Польшей. От них ты зависишь. Одному из них ты должен поклониться, если не собираешься капусту сажать. — Есть еще один человек, от которого зависит моя судьба. Король. Водзиевский наполнил свой бокал, выпил и угрюмо промолвил: — Что ж… Попытайся. — Устрой мне аудиенцию. После долгого молчания Водзиевский сказал: — Хорошо. Устрою. Где ты живешь? — На почтовой станции. Костюшко произнес эти слова пренебрежительным томом, подчеркивая этим, что ему на этой почтовой станции неуютно и неудобно. Он был уверен, что сейчас же последует дружеское предложение: «Переезжай ко мне!» Но Водзиевский поднялся и сдержанно сказал: — Дам тебе знать. Костюшко понял: он стал неприятен Водзиевскому, Продолжать беседу не имело смысла. А жаль — Костюшко хотел выпытать, что с Людвикой, почему она ему не писала. Но после этой размолвки Водзиевский навряд ли захочет говорить о своей кузине. — Прощай, Вацлав, жду твоего курьера. — Прощай, Костюшко, дам тебе знать.
Курьер от Водзиевского явился на третий день, когда Костюшко уже потерял всякую надежду. Пани Ядвига вычистила и проутюжила его обмундирование, накрахмалила кружева, выступающие из-под жилета и рукавов мундира, навела, глянец на сапоги. Костюшко очутился в знакомом зале с серебристыми обоями, с мелодичными часами на камине. Король сидел в кресле с перекрещенными ногами, обтянутыми белыми шелковыми чулками. В руке он держал хрустальный флакон. — Разочаровал меня, — сказал он, разглядывая флакон с таким интересом, точно видел его впервые. — Поехал учиться живописи и сбежал из академии. — Ваша королевская милость, вместо познаний в живописи я приобрел познания, более полезные для моей отчизны. Король вскинул голову. Перед ним стоял стройный офицер. Высокий лоб, пепельные волосы мягко падают на плечи, ясные голубые глаза — ничего вызывающего, и в то же время во всей стати этого молодого офицера, начиная от приподнятой головы и кончая чуть выдвинутой вперед правой ногой, чувствуется уверенность, настойчивость и даже что-то враждебное. — Какие это полезные для отчизны знания приобрел пан Костюшко? — спросил он иронически, желая оскорбительным тоном смутить молодого офицера. — Знания по военной инженерии, ваша королевская милость. Польша находится сейчас в таком положении, когда ей нужны сильные крепости на своих рубежах, чтобы преградить дорогу охотникам до чужих земель. Польше нужны честные люди, которые построили бы эти крепости и накрепко заперли бы входы в наш дом для непрошеных гостей. Король вылил себе на ладонь несколько капель из хрустального флакона, натер виски, сделал резкий выпад правой ногой, словно отшвырнул невидимый камень, и сказал шутливым тоном: — А пану Костюшке кажется, что у нас некому думать об этом? Носок правого сапога Костюшки еще больше выдвинулся вперед. — Но не думают, ваша милость, — прозвучал резкий ответ. — Те, кому полагается думать об этом, видно, заняты другими делами, им, видно, некогда думать об охране границ нашего Края. Король поставил флакон на стол и, тяжело ступая, направился к окну. Не оборачиваясь, тихо сказал: — Благодарю. Я поговорю с теми, кому полагается думать. Позвони, прошу. Костюшко подошел к столу, позвонил в колокольчик. Явился флигель-адъютант. Король, все еще спиной к Костюшке, сказал. — Попроси, пан пулковник, его эминенцию Массальского! Аудиенция окончена. Костюшко вышел из Замка недовольный, злой, и не потому что рухнули его надежды, а потому, что он разрешил себе резко говорить со своим королем. Для Костюшки король не был человеком, а символом славы, чести, достоинства Польши. Каким бы ни был Понятовский — плохим или хорошим, неважно: он символ, а к символу неприменимы человеческие нормы законности и справедливости. Нельзя осуждать солнце за то, что оно скрылось за тучи. Если встреча с Водзиевским не закончилась бы разрывом, Костюшко тут же отправился бы к нему с просьбой выхлопотать вторичную аудиенцию исключительно для того, чтобы принести королю свои искренние извинения за свою невольную, именно невольную, резкость — резкость несвойственна Костюшке, не в его характере. Остается одно — отправиться в Сехновицы «сажать капусту».
Костюшко приехал в Сехновицы вечером. Все окна небольшого одноэтажного помещичьего дома распахнуты и ярко освещены. Костюшко расплатился с возницей и вошел в дом. Его никто не встретил. Хотя с Сехновицами не связаны воспоминания ни детства, ни юности — Костюшко родился и вырос в другом месте, — но все же Сехновицы его родовое гнездо, а он, вернувшись издалека, входит в свое «гнездо», словно в корчму. Из столовой несется шум, гам, звон посуды. Костюшко поставил чемодан у стены, повесил плащ на гвоздь, на котором уже висел драный хомут, и раскрыл дверь в столовую. За столом — человек десять: одни в распахнутых жупанах, другие в одних рубахах. Шляхтич со смуглым лицом, держа в руке кружку, говорил хриплым голосом. Он был так увлечен своей речью, а может быть, так пьян, что на стоявшего в дверях Костюшко даже внимания не обратил. — А я ему говорю: «Мосчи добродею ласкавый, не стану я читать твоего письма. Ко мне никакой протекции не нужно. Если ты дерьмо, то никакой лист тебе не поможет…» — Вдруг он обратился к Костюшке: — Садись же, до лиха, и шляпу положи на стол. Говори, как шляхтич шляхтичу, а не ешь меня глазами. Все головы повернулись к Костюшке. Поднялся с места брат Юзеф. — Ты приехал? — В его вопросе ни радости, ни удивления. — Приехал, как видишь. Что ты празднуешь? — А без праздника нельзя сидеть с друзьями при жбане с медом да при миске с мясом? — Дружески беседуем, — дополнил Юзефа шляхтич с хриплым голосом. — А у шляхты какой разговор? Скажи, кого рубить, и порубим. А потом ставь бочечку и барана на достаток. Прошу пана добродея к нашему жбану! — Спасибо, панове братья, я устал с дороги. Костюшко ушел. Никто его не удерживал. В коридоре он столкнулся с теткой Сусанной — со старушкой, которая была в доме «за хозяйку». Тонкая, проворная, с легкой походкой, в Сехновицах звали ее «наша паненка». — Тадеушку! — вскрикнула она. — Наконец-то ты приехал. — Она поцеловала его, отошла на шаг. — Дай на тебя налюбоваться. Ты ничуть не изменился, Тадеушку, такой же красавчик, как был… Только маленькую чуточку похудел. Но я тебя быстро поправлю. — Опять его обняла, положила голову ему на плечо. — Тадеушку коханый, как хорошо, что ты приехал. — Плохо тут? — Плохо, Тадеушку, очень плохо… Но что мы в коридоре стоим? — Она взяла его под руку. — Идем в горницу, помоешься, я тебя покормлю. — Она вдруг остановилась. — Братца уже видел? — Видел. Кто эти его гости? Соседи? — Как в корчме: кто рядом сел, тот сосед; с кем куфель осушил, тот друг. А таких дружков у нашего Юзефа, что блох у собаки. — Вдруг рассердилась: — Успеется об этом. Идем, Тадеушку. Он помылся, поужинал, а тетушка потчевала его и без умолку говорила. Наконец-то постелила ему постель, пожелала: «Пусть найяснейшая матерь божья тебе сладкий сон пошлет», — и ушла. Костюшко лег. Он не был ни разочарован, ни огорчен, точно заранее знал, что именно «этакое» ждет его в Сехновицах. Планов на будущее никаких. Все дороги оборвались. Он очутился в чаще, куда солнце не заглядывает. Брат Юзеф, его дружки, пьянки — вот его будущее, это и есть «сажать капусту». Но он не выдержит такой жизни и за один стол с этими бражниками и пустобрехами не сядет! Не вернуться ли в Париж? Там, во всяком случае, найдет себе работу по душе, найдет друзей, чьи мысли ему сродни… Но может ли он удовлетвориться только этим? Разве заглохнет в нем тот внутренний голос, который настойчиво зовет к служению отчизне?.. Какой отчизне? Той, которая не желает от него принять службы?
На рассвете, когда все в доме еще спали, Костюшко вышел во двор. Солома на коровнике прогнила; конюшня без дверей; дрова, видимо заготовленные на зиму, не пилены и не сложены в штабеля; на току валяются цепы; посреди двора стоит коляска на трех колесах — вместо четвертого колеса деревянная подпорка. Костюшко направился в поле. На земле лежала белая мгла. Копны сена как бы плавали в воздухе. Далеко-далеко чернел лес. На краю неба показалась розовая тучка, вслед за ней стала пробиваться светлая зелень. Мгла растаяла, и все вокруг заплакало миллионами слезинок росы… — Святая Мария! — сказал Костюшко взволнованно. — Как я люблю тебя, бедный мой Край! Он вернулся домой с ясным планом на будущее: возьмет хозяйство в свои руки, будет работать с таким же упорством, как работал в Париже, сделает из Сехновиц образцовое имение, по которому станут равняться помещики в округе. В приподнятом настроении вошел он в дом и обрадовавшейся ему тетушке сказал: — Зачем висит в коридоре этот рваный хомут? Разве там ему место? — Ты прав, Тадеушку, не место. Скажу девкам, чтоб убрали. Будешь завтракать? Или братца подождем? — Он уже встал? — Какое там встал, Тадеушку, раньше полудня никогда не просыпается. — Тогда будем завтракать вдвоем. Юзеф действительно встал после полудня. Нечесаный, в одном нижнем белье, пришел он к брату. — Не понравилась тебе моя компания, — сказал он раздраженно. — В Париже ты водился с одними герцогами и маркизами. — Ошибаешься, Юзеф, в Париже я не водился ни с герцогами, ни с маркизами. Водился с простыми, но приличными людьми. — Мы, по-твоему, неприличные? — спросил Юзеф задиристо. Тадеуш поднялся, встал лицом к лицу и строго сказал: — Приличные или неприличные, об этом мы с тобой в другой раз поговорим. Но сегодня заруби себе на носу: я тут такой же хозяин, как и ты, и не позволю — слышишь, не позволю! — пропивать мое добро! — Это какое такое твое добро? — издевательски спросил Юзеф. — Тут никакого добра уже нет: ни твоего, ни моего. Есть долги. На тебе долг тридцать девять тысяч, на мне — тридцать девять тысяч. А Сехновицы и пятидесяти не стоят. Того и жди, наедут кредиторы и нас с тобой на паперть выкинут. Тадеуш схватил брата за плечи, потряс. — Подлец! Так ты хозяйничал! Юзеф и не пытался высвободиться, он сказал с наглой ухмылкой: — Как хотел, так хозяйничал, и с твоего благословения, дорогой братец. Ты ведь не забыл, что дал мне полную доверенность? Этой наглости Тадеуш не снес: резким ударом повалил он брата и… Тетушка Сусанна, видимо, караулила за дверью: она ворвалась в комнату и — откуда только у нее силы взялись! — обхватила Тадеуша и бережно, как ребенка, усадила на кровать. — А ты, — обратилась она к Юзефу, — ступай, ступай отсюда. Поезжай к своим дружкам. Мы тут без тебя скучать не будем. Юзеф поднялся с пола. Ногой придвинул к себе табурет, уселся. — Слушай, братец, что я тебе скажу. Если ты приехал, чтобы жить в Польше, то живи, как живут поляки. Хочешь хозяйничать на земле, поклонись Сапеге, и он тебе даст джержаву[10]. Хочешь политыкой заниматься, поезжай в Варшаву, поклонись амбасадору Штакельбергу или нашему пану Понинскому, и они тебе синекуру устроят. Хочешь погоны носить, купи шаржу. Дукатов у тебя нет, ерунда: под большие проценты всегда достанешь. Будут деньги — вернешь долг, не будут — плати проценты до скончания века. Тадеуш вскочил. — Уходи! Немедленно уходи! Юзеф тоже поднялся и вызывающе спросил: — Может, за карабельки схватимся? Тетушка оттолкнула плечом Юзефа. — Постыдился бы так с братом разговаривать. — А он со мной как разговаривает? Ему, видите ли, не нравится, что я не считал крупинок на ложке гостя! Ему в плебании[11] жить, а не в шляхетском доме. Костюшко успокоился: он понял, что этого бурбона ни словом, ни окриком не проймешь и сердиться на него не имеет смысла. — Приготовь счета и документы, я их просмотрю. — Ваше приказание, ясновельможный пан капитан, будет исполнено, — ответил он насмешливо и, сделав комический выпад рукой и ногой, вышел из комнаты.
Старшая сестра Анна была замужем за худородным шляхтичем Петром Эсткой. Он жил в Дололисках, над Бугом, в джержаве от князя Сапеги. Из разоренных Сехновиц Костюшко попал в большой уютный дом, где жили размеренной жизнью, ели сытно, по вечерам музицировали и где частенько собирался серьезный народ. Петр Эстка был шляхтичем дельным, доброжелательным. Он понял, что шурину, образованному человеку, тяжело без дела и к тому же еще на хлебах у сестры! Петр Эстка понял и то, что Тадеушу с его «народолюбством» вдвойне тяжело оттого, что вокруг беднота, темень и какая-то мистическая уверенность, будто ничего нельзя изменить. Чтобы отвлечь шурина от грустных мыслей, Петр Эстка втягивал его в работу по хозяйству, а сестра Анна, по сговору с мужем, упросила Тадеуша заниматься с детьми. И их старания увенчались успехом: Костюшко чувствовал себя не гостем, а членом семьи: работал по хозяйству, занимался с племянниками, выходил с этюдником на берег Буга, принимал участие в застольных беседах, ездил по соседям, где «гостя из Парижа» принимали с почтением и лаской. Чаще всего гостил Костюшко у молодого помещика Юлиана Урсына Немцевича. Это был круглолицый и толстый не по возрасту шляхтич, серьезный, немногословный, прекрасно образованный и поэт, но не из тех, что воспевают «эфир и зефир», — он писал басни, в которых зло высмеивал чванство шляхты, своеволие магнатов и ханжество духовенства. Для него литература была оружием в политической борьбе. Это он несколько лет спустя в содружестве с Мостовским и Вейсенгофом стал выпускать «Национальную газету» — первую политическую газету в Польше. Тоску по общественной деятельности Костюшко с щедрой откровенностью обнажал перед своим другом Урсыном. Они оказались единомышленниками во всем: и в оценке причин, которые тянут Польшу в пропасть, людей, которые позорят Польшу, и в оценке общественных сил, которые могли бы спасти родину от катастрофы. И вот однажды Костюшко возвращался домой, после недельного гостевания у Немцевича. Ехал в роскошной коляске, запряженной парой венгерских, золотистой масти коней, — свою повозку и сивую кобылу он оставил у Урсына: повозка развалилась. Был чудесный весенний день. Благоухала сирень. Придорожные березы опускали долу свои ветки, точно желали дотянуться до земли, где солнце играло в чехарду золотыми кружочками. На небе ни облачка. Из придорожных болот доносилось возбужденное квакание лягушек. Верста за верстой. То мелькнет барский дом с обширными службами, то деревня с разбросанными по косогору халупами, то костел в рамке старых каштанов. Верста за верстой. Застучат балки моста, запрыгают колеса по корневищам в лесу… Вперед, вперед…
 Станислав Сташиц.
Станислав Сташиц.
 Юлиан Урсын Немцевич.
Юлиан Урсын Немцевич.
 Тадеуш Костюшко. Рис. А. Орловского.
Тадеуш Костюшко. Рис. А. Орловского.
Костюшко остановился перед корчмой. Корчмарь, у которого он кормил и поил свою сивую кобылку каждый раз, когда ездил к Немцевичу и возвращался от него, принял вожжи и тихо сказал: — Пане офицер, не ходите в большую комнату, там этот сидит… пан польный писарь Сосновский. Костюшко знал, что тут рядом, на берегу живописной речки Пивония, раскинулось имение Сосновского, и каждый раз, точно крадучись, проезжал мимо. Но сегодня он обрадовался: после стольких лет, наконец, увидит этого польного писаря, спесивого отца Людвики, и поговорит с ним. — Съест меня польный писарь? — рассмеялся Костюшко. — Он пьян, пан офицер. Уже двух панов прогнал из комнаты. — Меня не прогонит. — Пане офицер, не ходите в большую комнату. Костюшко направился именно в большую комнату. За длинным столом сидело человек восемь. Во главе стола, лицом к двери, восседал широкоплечий шляхтич с круглой бритой головой и густыми черными усами. Лицо — приятное, глаза — веселые, один только нос подгулял: крупный, мясистый. Это и был ясновельможный пан польный писарь литовского войска Юзеф Сосновский. Весеннее солнце пригревало, а пан польный писарь — в бархатном кунтуше, отороченном собольим мехом. Сосновский пристально посмотрел на вошедшего и вдруг радостно воскликнул: — Ба! Пан Костюшко! Братья шляхта! Куфли до гуры! Шляхтичи подняли высоко кружки. Понеслись выкрики: — Виват! К нашему корыту просим! Этот прием озадачил Костюшко. — Спасибо, панове, но, к сожалению, не могу доставить себе удовольствия посидеть в таком высоком обществе. Я должен дальше ехать. — Нет уж, пан капитан, — с пьяным благодушием ответил Сосновский. — Эти фражки[12] ты брось! — И сразу посуровел: — Может, брезгаешь нами? Может, не пристало ученому из Парижа пить из одного жбана с грубой польской шляхтой? Костюшко понял, что просчитался. Он хотел поговорить с отцом Людвики, а встретился с хамом, который ищет ссоры, ищет повода, чтобы крикнуть своим пахолкам: «Рубите его!» Надо выбраться отсюда. Костюшко сказал спокойно: — Пить из одного жбана с паном польным писарем — большая честь для польского офицера. — Налить ему куфель! Налили. Костюшко описал куфелем полукруг, приветствуя всех, и выпил до дна. Сосновский подошел к Костюшке, положил ему руку на плечо. — Посмотри мне в глаза, пан капитан. Костюшко посмотрел в веселые глаза пана писаря. — Ты сердит на меня? — За что, пан польный писарь? — Ты не спрашивай, а отвечай: сердит? — Нет. — Тогда жду тебя в Сосновцах. Пропозиция[13] есть у меня. Приглашение обрадовало и взволновало Костюшко, но он и виду не показал, поклонился и кратко ответил: — Приеду.
Мундир с красными отворотами, кружева белые и пушистые, отцовская сабля, звонкие шпоры на сияющих сапогах. — Какой ты красавец, Тадеушку! Анна хотела приободрить брата: она видела, что он волнуется — дрожат пальцы, лицо поминутно меняется. Костюшко действительно волновался: как встретит его Людвика — прежней простой девушкой или гордой ясновельможной панной. Месяцы спокойной жизни у сестры благоприятно сказались на Костюшке: его лицо, обычно с желтинкой, как у кабинетных людей, стало теплым с палевым отливом осеннего клена; длинные волосы чуть выгорели, но стали мягче, шелковистей; его фигура как бы помолодела, стала гибче, и, самое главное, изменилось выражение глаз — они смотрели уверенно, серьезно, даже строго. Когда Костюшко уже сидел в роскошной коляске того же Немцевича, Анна положила ему руку на рукав. — Може, не поедешь? Он поцеловал ее в голову. — Не беспокойся, Ануся, я ни на секунду не забуду, что я Тадеуш Костюшко. Верста за верстой. Мелькают березы, помещичьи дома, костелы, деревни, высокие кресты на перекрестках — резвые венгерские кони мчатся во весь опор, а Костюшке все кажется, что они плетутся шагом. Он потряхивает красными вожжами, причмокивает губами, понукает. Вот и Сосновцы. Узорчатые железные ворота. Аллея столетних лип. Каменный двухэтажный дворец. Костюшко выехал на джеджинец[14] и остановился у широкой лестницы. — Чолем, пан брат! Приветствие донеслось слева, из-за деревьев. Костюшко соскочил на землю. Появился пахолек, он молча перенял вожжи из рук Костюшки. Из-за деревьев вышли несколько человек. Впереди — польный писарь с высокой худой дамой; чуть позади — Людвика в белом легком платье, черные волосы перевязаны синей лентой. Она ведет под руку двух девушек и, склонив голову, смотрит исподлобья на Костюшко. Она не удивлена, не смущена — видно, отец предупредил ее о приезде. Сосновский представил гостя жене, обеим своим дочерям — Людвике и Фелисе — и их кузине Текле Сосновской. Покончив с этой официальностью, Сосновский спросил деловито: — Где, ацан[15], этих коней купил? — Кони не мои, и коляска не моя. Людвика сияющими глазами взглянула на Костюшко. — Юзефе, ты утруждаешь пана капитана ненужными вопросами, — промолвила пани Сосновская басовитым голосом. — Теклюня! Покажи пану капитану его комнату! Костюшко почистился, отдохнул. Он еще не знает, зачем его пригласил Сосновский и что его ждет в этом доме, но все же доволен, что приехал. Наконец-то увидел Людвику! Она повзрослела и так хороша… Любит она его? По всей вероятности, нет: присматривается, приглядывается к нему, словно к незнакомому. Но чем бы ни закончилась эта встреча, все благо: надо дописать очередную главу своей жизни. Обед прошел в приятной беседе. Сосновский успел напиться до обеда и сидел за столом вялый, теребя ус, и не принимал участия в разговоре. Костюшко рассказывал о Париже — рассказывал мягко, образно. Фелися бурными охами и ахами выражала свое восхищение рассказчиком; Текля слушала с умильной улыбкой на устах; хозяйка не отрывала восторженного взора от гостя. Одна только Людвика как будто скучала: она водила пальцем по рисунку скатерти и лишь изредка, и то украдкой, встревоженно поглядывала на Костюшко. После обеда молодежь гуляла в парке. Костюшко по просьбе Фелиси опять говорил о Париже. Людвика — под руку с сестрой и кузиной — слушала рассеянно: посмотрит на Костюшко, посмотрит пристально, как бы ища что-то в его лице, и опять склонит голову набок, точно прислушиваясь к чему-то. Сосновский куда-то уехал. Ужин прошел еще живее. Двумя-тремя вопросами Людвика заставила Костюшко вернуться к своим воспоминаниям о Рыцарской школе. Он увлекся, рассказал о спорах в корпусном парке и о надеждах, с какими ушел из корпуса. В его рассказе было столько светлых красок, словно жизнь после корпуса текла вольно и безмятежно, как Висла в майский день. Сосновский отсутствовал почти целый месяц. Погода стояла мягкая, солнечная. Басовитая пани Сосновская предоставила молодежи полную свободу. Правда, она наказала Фелисе и Текле «не оставлять гостя наедине с Людвикой», что, кстати, обе девушки честно не выполняли. Пятнадцатилетняя Фелися была очарована гостем и шпионить за ним считала подлостью. Текля же — бедная родственница, которой несладко жилось на хлебах у грубияна Сосновского, — считала своим приятным долгом насолить ему. Она понимала, чего тетушка опасается, и задалась целью содействовать сближению Костюшки с Людвикой. Когда они отправлялись в лес, по ягоды или грибы, Текля уводила Фелисю в чащобу, и та охотно подчинялась. Когда ездили на лодке по Пивонии, Текля просила Костюшко высадить ее с Фелисей на берег. — А вы до островка Психеи поезжайте. Только цветочков привезите нам оттуда. Приезд Тадеуша в Сосновцы захватил Людвику врасплох. Когда отец сказал: «Приедет, знаешь, тот офицер, зовут его, кажется, Костюшко», — Людвика не ощутила ни радости, ни волнения. Костюшко был для нее воспоминанием приятным, но очень смутным. Она помнила, что ей было хорошо с ним, что он умный, благородный, какой-то… не такой, как многие ее знакомые. Она и не подозревала, что чувство, которое когда-то влекло ее к этому скромному юноше, и была любовь… Отец ее увез из Варшавы. В первые недели Люд-вике чего-то не хватало. Она тосковала, но постепенно успокаивалась; жизнь наполнилась мелкими радостями и мелкими огорчениями, и образ Костюшки лишь иногда всплывал, как видение из далекого детства. И вот опять перед ней Тадеуш — он, но какой-то другой: такой же умный, такой же благородный, но более мягкий, более чуткий, более заботливый, более нежный. В Варшаве было приятно с ним говорить, поспорить; сейчас ей приятно ходить с ним об руку, слушать, как трепетно звучит его голос, видеть в его глазах свое взволнованное лицо, чувствовать его теплые губы на своей руке. В Варшаве это был умный мальчик; сейчас — серьезный, ученый человек. Людвике сначала казалось, что в ней развивается что-то новое, что она впервые полюбила, но разумная Людвика скоро поняла: это продолжение… Оставаясь наедине с собой, Людвика стала по-взрослому строить планы на будущее: ей хорошо, тепло с Тадеушем, теплее, лучше, чем с теми молодыми людьми, которые числились кандидатами в женихи. В какой-то день вышла Людвика к завтраку возбужденная, в руках она держала картон. Не глядя на Костюшко, она протянула ему картон и скороговоркой спросила: — Плохой рисунок? На картоне была нарисована азалия. Рисунок был сделан старательно, но неумелыми руками. Костюшко попросил краски и тут же прошелся по рисунку — цветок ожил, налился сочностью. Фелися ахала и охала, Текля умилилась, а пани Сосновская заявила своим басовитым голосом: — Вы большой мастер, вач пан Костюшко. За обедом Людвика подала Костюшке второй картон. — А этот рисунок? — спросила она. Опять цветок, на этот раз фиолетовая сирень. — Вач панна одни цветы пишет? — Обецне[16] только цветы! — ответила она возбужденно, нажимая на первое слово. Костюшко рассказал, как нужно писать цветы, и этим была бы исчерпана цветочная тема, если бы Фелися не шепнула Костюшке на ухо, когда они уходили из столовой: — Посмотри, вач пан, в книгу «Флирт цветов». Книжку Костюшко нашел в библиотеке, и панна Текля Сосновская, столкнувшись с гостем, когда он выходил из библиотеки, шарахнулась от него, как от пьяного: серьезный офицер танцует один в коридоре! И было чему радоваться Костюшке: на языке цветов азалия означала: «я счастлива, потому что влюблена», а фиолетовая сирень: «мое сердце принадлежит тебе».
В то время было в Польше много политических деятелей, которые торговали своей родиной. Такие, как маршал сейма Антони Понинский, продавали польскую землю стоверстными кусками, получая за это звонкое золото. Ксаверий Браницкий или Щенсный-Потоцкий не нуждались в чужом золоте: их необозримые земельные угодья тянулись к русской границе, и им, браницким и Потоцким, было выгоднее находиться под властью крепостницы Екатерины, чем под панованием ее слабовольного приказчика Понятовского. Князь Чарторийский хотел отдать Польшу под протекторат России из соображений высшей политики: опыт истории его убедил, что Польша, слабое государство, не устоит в окружении трех сильных держав. В военную мощь лоскутной Австрии Чарторийский не верил, пруссаков он считал жадными и бесчеловечными, а Россию — сильной, богатой и столь обширной, что она не нуждается в чужих землях. Под протекторатом России, верил Чарторийский, Польша возродится и окрепнет. Архиепископы Шимон Коссаковский, Массальский и иже с ними продавали Польшу и из любви к золоту и по приказу Рима: в страхе перед возможной революцией папа римский толкал католическую Польшу в объятия православной России — уж там, в России, революция немыслима. Король Станислав Август Понятовский не продавал Польши. Он лишь не противился ни Австрии, ни Пруссии, когда они посягали на польскую землю. О России и говорить нечего — не мог же он, посаженный на престол Екатериной, отказать своей бывшей любовнице в каких-то клочках польской земли. Понятовский, правда, протестовал против раздела, но свои протесты согласовывал с русским посланником. Польный писарь литовского войска Юзеф Сосновский не мог торговать Польшей: он был мелким винтиком в государственной машине, но такой «деятель», как Сосновский, не мог не участвовать в подлом деле. Он стал агентом русского посланника Штакельберга — мобилизовал крикунов, когда надо было проваливать в сейме неугодный Штакельбергу закон, выставлял бойцов, когда надо было стаскивать с сеймовой трибуны неугодного оратора или брать в кулаки патриотов вроде Корсака, Рейтана, Богушевича, которые осмеливаются протестовать в сейме против ограбления их родины. Польный писарь литовского войска Юзеф Сосновский был мастером грязных дел, и эти дела Штакельберг щедро оплачивал золотом и почестями. Вот недавно Штакельберг порекомендовал королю назначить Юзефа Сосновского воеводой литовским. Такую высокую честь надо отметить праздником, а для праздника пан воевода решил превратить свои Сосновцы в «маленький Версаль». Сосновский вернулся в имение и, отдохнув с дороги, пригласил к себе Костюшко. — Как тебе, вач пан, у нас? Приятно? — Надо справиться у дам, не надоел ли я им. — Справлялся. Говорят, ничего, не надоел. Садись, вач пан, налей себе меду. — Спасибо, до обеда не пью. — Офранцузился, ацан, от польского меда рыло воротишь. — Он налил себе большой куфель золотистого меда, осушил его, не отрываясь, вытер усы. — У меня к тебе, пане браче, пропозиция. Останься жить у меня. — Почему мне такая честь? — Думаешь, у Юзефа Сосновского нет человеческого сердца? Ты, ацан, ученый, разные науки в Париже одолел, а вернулся домой, и дома-то у тебя не оказалось. Вместо того чтобы объедать Эстков, у которых и так не густо, поживи у меня. Но я, вач пан, твой гонор знаю, наслышан, даром чужой хлеб не захочешь есть. Так вот работу тебе выдумал. Ты парк в Версале хорошо знаешь? Костюшко не ответил: огромных усилий стоило ему удержать себя и не плюнуть в рожу этому носатому наглецу, огромных усилий ему стоило усидеть в кресле. — Конечно, знаешь, — спокойно продолжал Сосновский, — вот и распланируй мой парк на манер версальского. И тебе, вач пан, будет приятно: все-таки близкое тебе занятие, и хорошую память в Сосновцах по себе оставишь. А между делом поучи моих дочек акварельки рисовать. Знаешь, ацан, в том обществе, в котором они вращаются, только и хвастают своими акварельками. Состояние у Костюшки такое, словно ему предложили гвозди глотать. Принять предложение, высказанное в такой хамской форме, и не иметь возможности ответить этому хаму ни пощечиной, ни плевком! Но лишиться Людвики? Костюшко поднялся. — Принимаю вашу пропозицию. — И направился к двери. — Куда, вач пан? Я еще не закончил. — У меня голова болит, — ответил Костюшко, не оборачиваясь, и вышел из комнаты.
Лето разгорелось. Людвика с каждым днем все больше убеждалась, что Тадеуш и есть тот «единственный», которого только счастливая женщина встречает на своем жизненном пути, что Тадеуш тот герой, о котором она мечтала. Образование Костюшки, его высокий строй мыслей, его мечта о свободной и вольной родине — все это резко выделяло Тадеуша в кругу пустой бахвальной шляхты, которую она видела у себя дома. Людвика не только полюбила Тадеуша, она преклонялась перед ним: поверила в какую-то мистическую его силу. Людвика боялась грозы, уже дальние раскаты приближающейся грозы ввергали ее в панический ужас. Однажды, когда она с Тадеушем гуляла по парку, набежала гроза; молнии разрывали небо, громыхали громы, а Людвика даже и не подумала укрыться под крышей: одно присутствие Тадеуша отгоняло от нее страх. Шли дни, недели. Чертежи «малого Версаля» и занятия с паннами занимали у Тадеуша три-четыре часа в день, остальное время он проводил с Людвикой. У влюбленных был свой план: закончив чертежи «Версаля», Костюшко поедет к князю Чарторийскому, расскажет ему о своей любви, а князь сумеет уговорить Сосновского дать согласие на брак дочери. Если потребуется, то Чарторийский заручится помощью и короля. В это лето польный писарь редко бывал дома — приезжал на день-два, отсыпался и опять уезжал. Чертежи «малого Версаля» ему понравились, и, конечно, свое одобрение он высказал в свойственной ему грубой форме. Но Костюшко не обиделся — он даже не слышал похвал грубияна. Если это происходило за обедом, Костюшко чувствовал теплое пожатие девичьей руки; если это происходило в парке, Костюшко видел пунцовые пятна стыда на девичьем лице. Людвика была всегда рядом, всегда с ним. Лето догорало. Чертежи закончены. Костюшке не хотелось уезжать, но Людвика настояла: — Надо вырваться отсюда. И Костюшко поехал. Князь Чарторийский и его дочь Мария, будущая княгиня Вюртембергская, приняли его как родного. С «очайдушой»[17] Сосновским князь Чарторийский не захотел разговаривать, но по настоянию дочери в этот же день поехал к королю и уговорил его помочь влюбленным. Кроме того, Чарторийский дружески предложил своему бывшему воспитаннику мешочек с дукатами: «Разживешься, Тадеуш, вернешь, а сейчас тебе нужны будут деньги». В Сосновцах, на джеджинце встретила его Людвика. Она посмотрела ему в лицо, и… с ее щек начали скатываться градинки. Костюшко еще слова не промолвил, но чуткая Людвика — по той радости, что сияла в его глазах, — поняла, что их счастье близко. Вечером этого дня приехал польный писарь. Семья собралась в столовой. Сосновский был уже пьян. — Ну как, ацан, не скучаешь? — обратился он к Костюшке вместо приветствия. — Я никогда не скучаю. — Слыхала, мосчи пани, — повернулся он к жене. — Он никогда не скучает. А, собственно, почему ему скучать? Поят, кормят, ухаживают за ним, как крулева Бона ухаживала за своим итальянским пажем… Людвика, сжимая под столом руку Костюшки, сказала дрожащим голосом: — Пан отец не должен так говорить со своим гостем. Сосновский хихикнул. — Со своим гостем? Кто приглашал этого гостя? — Вы! — зло воскликнула Фелися. — Вы! Вы! — Да, я, мои анёлки, когда я был польным писарем, а теперь я воевода литовский, а воевода никого еще к себе не приглашал. Эта весть никого не поразила — все знали, что номинация будет объявлена со дня на день. Но вдруг произошло непонятное: Сосновский поднялся, в пояс поклонился Костюшке: — Ты прости меня, пан брат, это я спьяну глупостей наговорил. Я люблю тебя, пан брат, и найяснейший наш круль тебя любит. Все тебя любят. Правду говорю, панна воеводзянка? — обратился он к Людвике. — Правда, пан отец, — вырвалось у Людвики. — Люблю, панна воеводзянка, правду. За правду готов душу отдать. А ты, пан брат, прости меня, пьянчугу, язык у меня поганый. Всем было тягостно, всем стало грустно, точно на поминках. После ужина, когда направлялись в зал, к фортепьяно, Людвика задержала Тадеуша в коридоре и, волнуясь, сказала: — Тато что-то задумал. Он нас разлучит. Бежать. Бежать. В Сехновицы. Там обвенчаемся. — Людвика… Ты… — Да. Немедленно поезжай, достань лошадей у Немцевича. В среду, в полночь, я буду ждать тебя у нашего вяза, на берегу… Через час Костюшко выехал из Сосновиц.
В среду, в полночь, Костюшко ждал у вяза на берегу Пивонии, но Людвика не появилась. До утра он просидел в карете. Когда на косогоре показался первый человек, Костюшко помчался к дворцу. Ворота распахнуты. На клумбе штабелями лежат доски, бревна. Десяток крестьян, выстроившись в ряд, копают землю на границе парка. Господин в берете и черном кафтане ходит по джеджинцу с деревянной треногой. — Что тут происходит? — спросил Костюшко. Господин вежливо ответил: — «Версаль» будем строить, пан офицер. Двумя прыжками Костюшко одолел лестницу. В столовой за убранным по-праздничному столом сидела челядь: лакеи, кухарки, горничные, садовники. Стол уставлен жбанами, мисками. Никто из челяди не поднялся, не поклонился вошедшему Костюшке. — Где пан воевода? — А пану учителю зачем это знать? — нагло спросил молодой лакей. Другой лакей, подмигивая своей соседке — толстой кухарке Малгосе, насмешливо сказал: — Пану учителю не пан воевода нужен, а панна воеводзянка. — Ты прав, Ондрей, — согласилась кухарка. — Панна воеводзянка ему нужна. А зачем, спрашиваю, ведь нельзя связывать шелковую нить со шпагатом. Так я говорю, Ондрей? Вместо Ондрея ответил старик Вавжин, садовник: — Пани Малгося умница, она хорошо сказала. Горлица не для воробья. Костюшко шагнул к столу. Он был страшен: рука лежала на эфесе сабли, лицо пылало, в глазах — ярость, того гляди порубит все и всех. Челядь, точно по команде, вскочила с мест. — Пане офицер, — униженно кланяясь, сказал старик Вавжин. — Уехал пан воевода, уехал и всю свою родзину увез. Увез, пан офицер. А мы тут выпили немного. За счастье добродзейки княгини. — Какой княгини? — А пан воевода нам сказал, что нашу паненку Людвишу выдает замуж за князя Любомирского. Вон, пан офицер, как высоко взнеслась наша паненка. А на нас не надо сердиться. Мы, правда, выпили, гембы[18] распустили, но мы не со зла. Не со зла. Мы пана офицера уважаем. Обиды от него не видели… Костюшко не дождался конца пьяной болтовни. Испарилась ярость. В голове, точно шарик в пустой коробке, перекатывалась одна лишь мысль: «Конец…» Как Костюшко добрался до Эстков, не помнит. Приехал, закрылся в своей комнате и не отвечал ни на уговоры зятя, ни на просьбы сестры. В эти дни он даже не думал. Его человеческий разум не мог ни примириться, ни объяснить ту чудовищную несправедливость, с какой столкнулся.
Костюшко обладал счастливой особенностью: переболев, он умел ставить точку, умел зачеркнуть несчастье и не показывать людям свои раны. Он вышел из добровольного заключения и, ни словом не обмолвившись о том, что с ним приключилось, позвал племянников и ушел с ними в поле. Но что-то делать с собой надо: нельзя навеки остаться нахлебником. Костюшко предложил зятю урегулировать с братом Юзефом сехновицкие дела. Зятю это не удалось. Тогда решили созвать семейный совет. В октябре 1775 года съехалась семья в Славинке, под Люблином, на хуторе дяди Яна Непомуцена. Там они проштудировали счета и документы, которые представил Юзеф. Установили: долг Тадеуша не 39 тысяч, а 26 и что при умелом хозяйничании можно в десяток лет очистить имение от долга. Обязанности управляющего Сехновицами возложили на Петра Эстка, как дельного и опытного помещика. Что же Тадеушу делать? Чем ему заняться? Дядя Фаустын был знаком с влиятельным магнатом Мнишек из Дукли. Фаустын написал письмо магнату с «нижайшей просьбой» выхлопотать племяннику службу в «дипломатии», и он же, дядя Фаустын, продиктовал Тадеушу «верноподданное послание», которое надлежало вручить лично самому Мнишку. Тадеуш, вооруженный письмами, поехал в Дуклю — магната не застал: он в Кракове. Тадеуш поехал в Краков — магната и там не оказалось. Глава в жизненной повести дописана. Шестнадцать месяцев прожил Костюшко на родине. Во Франции окрепло в его душе то, что зарождалось еще в Польше, — он вернулся домой с глубокой верой в права человека и народа устраивать свою жизнь по собственному разумению, вернулся домой со страстным желанием послужить человечеству и своему народу. Тут он столкнулся с удручающей действительностью: страной управляет банда сосновских. Для Костюшки, мечтающего о службе родине, не нашлось места на этой родине. Ему идет тридцатый год, и он без крова, без надежды на семейное счастье, без обеспеченного куска хлеба. Людвика? Людвика уже замужем за князем Юзефом Любомирским, сыном того киевского каштеляна [19] Любомирского, который вдвоем с генералом Комашевским выпили на пари бочку вина. Сын достойного отца! И марьяжная сделка в духе «достойных родителей»: киевский каштелян Любомирский проиграл в карты Сосновскому свое родовое имение, а расстаться с наследием предков не хотел; он отдал Сосновскому сына, женил его на Людвике, и проигранное имение осталось в роду Любомирских. Но если этот брак устраивает Людвику, успокаивал себя Костюшко, благо: он готов вечно страдать, лишь бы Людвика была счастлива. Глава дописана. Что дальше? В Кракове Костюшко услышал, что в Северной Америке народ восстал, добивается свободы и независимости. И он решился: если нельзя воевать за свободу, за независимость своего народа, то можно помогать американцам в их благородной борьбе. В Америку! Денег у Костюшки мало: дукаты князя Чарторийского и небольшая сумма, которую родственники собрали между собою. На путешествие дилижансом не хватит. Он сговорился с хозяином баржи — она направлялась по Висле в Гданьск. Путешествие утомительно-долгое, зато дешевое. Баржу вел угрюмый бородач. Он сидел на корме, зажимая под рукой правило, и не то мурлыкал песню, не то разговаривал сам с собой. Матросы — их было четверо — были медлительные, степенные. Плыли мимо оголенных осенью берегов, мимо деревень, местечек и больших городов: Сандомир, окруженный высокой крепостной стеной; Варшава, тянувшаяся по берегу на несколько верст; Плоцк, взобравшийся на высокую Тумскую гору; Влоцлавек, утопающий в садах; Торунь с двумя круглыми башнями у въезда. В тихие вечера команда ужинала на палубе. Усядутся у ног рулевого, жуют ржаные лепешки с луком и беседуют. Иногда пели. Собственно, пел один Миколай — здоровила с длинными жирными волосами,расчесанными на прямой пробор. Остальные только подтягивали. Миколай пел о «калине и дивчине», о Висле, что течет в далекие дали, но чаще всего тянул длинную песню, которую Костюшко до этого не слышал:
Наделю вас реками-реками.
Наделю вас морями широкими,
Наделю вас травами-хлебами.
Наделю вас свинцом-порохом,
Свободой вас наделю.
Знаю я, царь ваш и отец,
Знаю я, истинный друг ваш,
Как вас мучили-угнетали.
И решил я, брат ваш и отец.
Свободу вам вернуть, свободу,
И достатком вас наделить.
Наделить на веки веков.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

 ольше двух месяцев шел корабль из Гавра в Северную Америку. Замедляли ход штормы и частые отклонения от курса в сторону мелких островков, где предприимчивый капитан менял проволоку и гвозди на индиго. В средних числах августа 1776 года окончилось утомительное путешествие.
Филадельфийский порт встретил Костюшко шумом, лязгом, скрежетом. Корабли, баржи, лодки шли к берегу, двигались вдоль берега, уходили в океан, перекликаясь ревом сирен и колокольным перезвоном. Из города возили на телегах связки кожи, кипы табачных листьев, бухты веревок. С кораблей сгружали орудия, ящики с патронами.
Покончив с таможенными формальностями, Костюшко отправился в город. Ему почудилось, что он попал в польское местечко. Одноэтажные и двухэтажные дома стояли вкривь и вкось; ни мостовых, ни тротуаров; громоздкие фургоны на высоких колесах с шестью, а то и с десятью буйволами в упряжке хлюпали по лужам; носились верховые, обдавая пешеходов плевками жирной грязи; негры толкали груженные ящиками двухколесные тележки. Все двигалось, все шумело, точь-в-точь как в польском местечке в день престольного праздника.
Вместе с Костюшкой сошел на берег молодой француз Пьер; он, как и Костюшко, проделал трудный переезд через океан, чтобы поступить волонтером в армию повстанцев. Мастеровой на Парижской обойной фабрике, Пьер зарабатывал неплохо, был влюблен и любим чудесной, по его словам, девушкой, но бросил все, чтобы, опять же по его словам, сразиться с жирными каплунами.
Пьер ненавидел жирных каплунов. Как понял из его рассказов Костюшко, жирные каплуны были для Пьера синонимом всего того, что мешает простому люду жить по-человечески. В деревне — помещик, в городе — хозяин, в столице — король. Американцы, сказал он, хотят жить без жирных каплунов, и его, Пьера, обязанность помочь им в этом святом деле. Костюшко слушал с удовольствием: Пьер напоминал ему матроса Миколая, только без шубеницы.
Они шли долго, из улицы в улицу, и Пьер все время говорил не умолкая. Вокруг билась жизнь: нескончаемой лентой тянулся артиллерийский парк; на рысях прошел эскадрон кавалеристов, среди них были матросы в круглых шапочках, негры в холщовых штанах, рослые немцы в голубых жилетах; тащились фургоны, груженные домашним скарбом; отливали лаком щегольские коляски, в них восседали важные господа в цветных париках.
Перед вывеской, написанной по-французски: «Входи, приятель! У Гастона всегда открыто!», Пьер остановился.
— Мой капитан! Это то, что нам надо.
Они попали в длинное, как сарай, помещение. Столы стояли почти впритык один к другому, и поэтому народ, сидевший за ними, мог показаться одной компанией. Но народ был разный: шотландцы с клетчатым одеялом на плече, вестфальцы в расшитых цветными нитками безрукавках, голландцы в высоких шляпах без полей. Стоял шум, звенели стаканы, а табачный дым перекатывался из угла в угол, словно в поисках выхода из душного помещения.
На Костюшке был кафтан с зелеными отворотами, шляпа с кокардой, сабля в сафьяновых ножнах; в руках — чемодан.
Хозяин, стоявший за стойкой, приветливо спросил:
— Французы?
— Я поляк, а мой друг француз.
— Не только француз, — уточнил Пьер, — но еще и парижанин.
— Тогда располагайтесь, друзья, я угощу вас настоящим анжуйским.
Костюшко устроился рядом с шотландцем, а Пьер подошел к стойке и несколько минут проговорил с хозяином.
— Мой капитан, — сказал Пьер, вернувшись к Костюшке, — месье Гастон достанет вам хорошую комнату. — Он протянул руку. — А пока прощайте, капитан. Ваше общество было мне очень приятно.
— А вы куда отправляетесь?
— Во двор, дрова колоть. Когда еще меня к полковому котлу допустят, а есть-пить надо. Поработаю у Гастона.
— Не чудите, Пьер, будете жить со мной.
— Нет, мой капитан, я не бездельник, чтобы жить на чужой счет.
— А служить со мной не хотите?
— С удовольствием! Я сам хотел вас об этом просить.
— Сюда вам сообщить, когда получу назначение?
— Не беспокойтесь, капитан, я сам к вам наведаюсь.
ольше двух месяцев шел корабль из Гавра в Северную Америку. Замедляли ход штормы и частые отклонения от курса в сторону мелких островков, где предприимчивый капитан менял проволоку и гвозди на индиго. В средних числах августа 1776 года окончилось утомительное путешествие.
Филадельфийский порт встретил Костюшко шумом, лязгом, скрежетом. Корабли, баржи, лодки шли к берегу, двигались вдоль берега, уходили в океан, перекликаясь ревом сирен и колокольным перезвоном. Из города возили на телегах связки кожи, кипы табачных листьев, бухты веревок. С кораблей сгружали орудия, ящики с патронами.
Покончив с таможенными формальностями, Костюшко отправился в город. Ему почудилось, что он попал в польское местечко. Одноэтажные и двухэтажные дома стояли вкривь и вкось; ни мостовых, ни тротуаров; громоздкие фургоны на высоких колесах с шестью, а то и с десятью буйволами в упряжке хлюпали по лужам; носились верховые, обдавая пешеходов плевками жирной грязи; негры толкали груженные ящиками двухколесные тележки. Все двигалось, все шумело, точь-в-точь как в польском местечке в день престольного праздника.
Вместе с Костюшкой сошел на берег молодой француз Пьер; он, как и Костюшко, проделал трудный переезд через океан, чтобы поступить волонтером в армию повстанцев. Мастеровой на Парижской обойной фабрике, Пьер зарабатывал неплохо, был влюблен и любим чудесной, по его словам, девушкой, но бросил все, чтобы, опять же по его словам, сразиться с жирными каплунами.
Пьер ненавидел жирных каплунов. Как понял из его рассказов Костюшко, жирные каплуны были для Пьера синонимом всего того, что мешает простому люду жить по-человечески. В деревне — помещик, в городе — хозяин, в столице — король. Американцы, сказал он, хотят жить без жирных каплунов, и его, Пьера, обязанность помочь им в этом святом деле. Костюшко слушал с удовольствием: Пьер напоминал ему матроса Миколая, только без шубеницы.
Они шли долго, из улицы в улицу, и Пьер все время говорил не умолкая. Вокруг билась жизнь: нескончаемой лентой тянулся артиллерийский парк; на рысях прошел эскадрон кавалеристов, среди них были матросы в круглых шапочках, негры в холщовых штанах, рослые немцы в голубых жилетах; тащились фургоны, груженные домашним скарбом; отливали лаком щегольские коляски, в них восседали важные господа в цветных париках.
Перед вывеской, написанной по-французски: «Входи, приятель! У Гастона всегда открыто!», Пьер остановился.
— Мой капитан! Это то, что нам надо.
Они попали в длинное, как сарай, помещение. Столы стояли почти впритык один к другому, и поэтому народ, сидевший за ними, мог показаться одной компанией. Но народ был разный: шотландцы с клетчатым одеялом на плече, вестфальцы в расшитых цветными нитками безрукавках, голландцы в высоких шляпах без полей. Стоял шум, звенели стаканы, а табачный дым перекатывался из угла в угол, словно в поисках выхода из душного помещения.
На Костюшке был кафтан с зелеными отворотами, шляпа с кокардой, сабля в сафьяновых ножнах; в руках — чемодан.
Хозяин, стоявший за стойкой, приветливо спросил:
— Французы?
— Я поляк, а мой друг француз.
— Не только француз, — уточнил Пьер, — но еще и парижанин.
— Тогда располагайтесь, друзья, я угощу вас настоящим анжуйским.
Костюшко устроился рядом с шотландцем, а Пьер подошел к стойке и несколько минут проговорил с хозяином.
— Мой капитан, — сказал Пьер, вернувшись к Костюшке, — месье Гастон достанет вам хорошую комнату. — Он протянул руку. — А пока прощайте, капитан. Ваше общество было мне очень приятно.
— А вы куда отправляетесь?
— Во двор, дрова колоть. Когда еще меня к полковому котлу допустят, а есть-пить надо. Поработаю у Гастона.
— Не чудите, Пьер, будете жить со мной.
— Нет, мой капитан, я не бездельник, чтобы жить на чужой счет.
— А служить со мной не хотите?
— С удовольствием! Я сам хотел вас об этом просить.
— Сюда вам сообщить, когда получу назначение?
— Не беспокойтесь, капитан, я сам к вам наведаюсь.
Костюшко прибыл в Филадельфию в тяжелое для молодой республики время. Англичане выбили войска генерала Вашингтона из Нью-Йорка. Конгресс, находящийся в Филадельфии, не чувствовал себя в безопасности, — река Делавар, на которой стоит город, проходима для океанских судов, и именно со стороны океана могут напасть англичане. Казалось бы, любой офицер, знакомый с фортификационным делом, должен быть находкой для народной армии, а Костюшко никак не мог договориться о работе. Уже пятый раз приходит он к члену Военной комиссии конгресса, ведающему комплектованием. На этот раз Костюшко один в приемной — в типичной приемной провинциального адвоката, с зеленой плюшевой мебелью, с круглым столиком на тростниковых ножках, с зачитанным до коричневых пятен иллюстрированным журналом. Из кабинета доносились громкие, а подчас и резкие голоса. Костюшко подошел к раскрытому окну. Внизу зеленел парк; на лужайках мальчишки играли в мяч. Старый негр возил коляску, в которой лицом к лицу сидели две златоволосые девочки. От тополей поднимался острый запах. Визжал где-то щенок. С улицы доносились тарахтенье фургонов, цокот копыт… Нерадостные думы. Всего шестнадцать месяцев пробыл он на родине, а сколько горечи принесли они ему! Его знания не нужны отчизне. Его сердце? Кому оно нужно, если у этого сердца нет кармана с золотыми дукатами! Его, Тадеуша Костюшко, выталкивают за грань… А ведь ему всего тридцать лет, в нем клокочут страсти, они ищут выхода. Случайно он поехал за океан? Только ли для того, чтобы хоть где-нибудь поработать с пользой? Нет! Он мог поехать в Англию. Друзья убеждали его: «Ты дворянин, ты должен воевать на стороне законного короля». А он поехал за океан затем, чтобы обнажить шпагу против законного короля, чтобы воевать на стороне народа, который бьется за свою независимость. Ведь все несчастья: и Польши и его личные — проистекают оттого, что Польшу лишают независимости. Отсюда — отсутствие свободы, отсутствие уважения к человеку, отсюда — убеждение, что воевода Сосновский и офицеришка Костюшко — разные виды человеческой породы. Он, Костюшко, не желает с этим мириться. Он переплыл океан, чтобы сразиться за Польшу, за себя, за человечество. Он поверил словам Томаса Пэна: «Сегодня, когда свобода изгнана отовсюду и преследуется во всем земном шаре, вы, американцы, дайте по крайней мере приют этой скиталице и приготовьте временный приют для человечества». Пусть только свобода даст первые побеги в молодой американской республике, убеждал себя Костюшко, впоследствии найдутся мужественные люди, которые перевезут саженцы и в край сосновских и понинских… Дверь из кабинета распахнулась, и оттуда вышел рослый усатый немец в колоритной военной форме. Широкий меч он носил на красной кожаной перевязи. Немец остановился в приемной, взглянул на Костюшко и раздраженно крикнул: «Nein!»[25] На пороге кабинета показался член конгресса — человек средних лет, с красным, обветренным лицом, обрамленным рыжей порослью, в длинном черном сюртуке, из-под которого виднелись брюки в желтую клетку. — Это вы, капитан? — сказал он приветливо. — Пожалуйте ко мне. Немец еще раз крикнул: «Nein!», и рванул выходную дверь. — Видели это ископаемое? — спросил конгрессмен, когда Костюшко сел в кресло возле письменного стола. — Видел и слышал. Должно быть, вы ему сказали все, что о нем думаете. — Ошиблись, капитан Костючэн… — Костюшко. — Простите, my dear[26], трудная у вас фамилия. Вы должны меня понять, капитан Кос-тюш-ко. Я бизнесмен и уважаю бизнесменов, но только тех, кто делает честный бизнес. Этот дворянчик привез из Гессена тридцать шесть здоровенных парней, вот таких, как он сам, и хочет на них сделать бесчестный бизнес. Он требует пять тысяч акров пахотной земли для себя, а моим парням, говорит он, дадите по пять акров, если они выйдут живыми из перепалки. Он требует для себя чин генерала, а моих парней, говорит он, можете поставить гальюны чистить. Бесчестный человек, с такими нельзя делать бизнес. Костюшко знал, что из-за океана понаехало немало авантюристов, но ведь не для того, чтобы услышать это из уст конгрессмена, он вот уже пятый раз является в приемную адвоката. — А со мною можно делать бизнес? — спросил он немного раздраженно. — Документы я вам представил, требования мои также минимальные. — Вот… вот, my dear! Вы подходите к самой сути. Мы внимательно изучили вашу записку. Все в ней олл райт, но ваши личные требования вызывают подозрения у некоторых конгрессменов. Вы дворянин, кадровый офицер, помещик, с опасностью для жизни вы переплыли океан, предлагаете нам свои услуги и ничего не требуете для себя: ни пахотной земли, ни чинов… — А француз Ляфайет? А поляк Пуласский? Они тоже кадровые офицеры, тоже дворяне, тоже помещики, они требовали по пяти тысяч акров земли? — Нет, мистер Костючэн. — Костюшко! — Простите, my dear, никак не запомню, это трудная фамилия. Нет, мистер Кос-тюш-ко, мистер Ляфайэт и мистер Пуласский не требовали земли, но мы знаем, почему они приехали к нам. Маркиз Ляфайэт фрондирует против своего короля, а ваш Пуласский вынужден был бежать из Польши. Но и они, эти джентльмены, все же потребовали генеральские погоны и должности командующих. А вы? Вы жили в ладу со своим королем, были его стипендиатом, из Польши вас никто не гнал, и едете в неустроенную страну, где вас ждут тяготы, опасности, и за это вы ничего не требуете. Вот это, my dear, вызывает подозрение у некоторых членов комиссии. — А эти господа не допускают, что человека могут воодушевить идеи, не генеральские погоны, не высокие посты, а идея, заключенная в основе вашей революции? Вы добиваетесь свободы и независимости, а это именно то, что жизненно необходимо моей стране. Я хочу учиться у вас искусству борьбы за независимость, а для учебы не нужны ни генеральские погоны, ни акры пахотной земли. Конгрессмен достал из ящика письменного стола два бутерброда с паштетом. Один он надкусил, другой пододвинул к Костюшке. — Попробуйте, my dear. Этот паштет приготовила моя жена из фазана, который она же подстрелила. — Он доел бутерброд, вытер бумагой рот и руки. — Так вот, мистер Костючэн… — Все еще Костюшко. — Простите. Так вот, говорю. У нас работает французский инженер Раймонд де Лиль. Вы знакомы с ним? Хотя это неважно. Если не знакомы, познакомитесь. Приятный человек. Вот с ним вы будете работать. Будете укреплять подходы к Филадельфии. Устраивает? — Вполне! Конгрессмен поднялся, протянул руку. — Олл райт! Прошу вас завтра, в это же время. Утром соберется Военная комиссия, и я надеюсь, что мне удастся уладить ваш бизнес. — Он довел Костюшко до двери и, еще раз пожимая ему руку, закончил игриво: — А полковничьи погоны вам все же выхлопочу! Костюшко ответил серьезно: — Если вы убеждены, что я их заслужу. — Вы мне нравитесь, мистер Костючэн, вы честный человек. Но позвольте мне задать вам еще один вопрос: на какое жалованье вы рассчитываете? — Ровно настолько, сколько вы будете платить. — Ответ благородного человека, my dear. Только дело в том, что мы больше шестидесяти долларов вам платить не сможем, а при таком жалованье вам придется отказывать себе не только в шампанском, но и в стакане виски. — Я пью только кофе, только черный кофе. — Тогда олл райт, полковник. Жду вас завтра. Конгрессмен сдержал слово: завтра, 18 октября, он вручил Костюшке приказ о присвоении ему звания полковника и зачислении его в армию в должности инженера с жалованьем 60 долларов. Раймонд де Лиль встретил Костюшко с французской галантностью и после нескольких остроумных каламбуров перешел на деловой язык. Он познакомил своего собрата с черновым наброском плана фортификационных работ. Энтузиаст школы Вобана, Раймонд де Лиль стремился придать полевым укреплениям вокруг Филадельфии монументальность французских крепостей. — Мой друг, — ответил Костюшко на вопрос: «Согласны?», — ваш план хорош, очень хорош, видна школа… — Только? — Только французские крепости строились десятки лет, а мы с вами должны построить свои укрепления в два-три месяца. Перед нами поставили куцую задачу: преградить англичанам путь со стороны океана. — Что вы предлагаете? — Не увлекаться. Делать быстро, и делать из того материала, что у нас под рукой, а не рассчитывать на привозное железо или гранит. — И куцая задача будет выполнена? — Да, мой друг, если вы к тому еще приложите свое умение. — Вы иезуит, мой милый поляк. — Моя мать и предполагала, что я им стану. — Умная у вас матушка, она знала, в чем ваше истинное призвание. — Не вполне, мой друг. Польский король считал, что мое истинное призвание живопись. — Вы и художник? Сколько талантов! — Вот тут вы ошибаетесь, я не стал художником именно потому, что у меня таланта нет. Раймонд де Лиль расхохотался. — Вы или хитрый пройдоха из комедии Бомарше, или святой Августин. Но вы мне нравитесь, хотя считаю, что скромность — удел слабых. Эта первая беседа их сблизила — они работали дружно. По плану Костюшки они вбивали дубовые пали в дно реки, оставляя проходы для легких американских судов; в узких местах они преграждали реку цепями; вблизи городка Биллингпорт они устроили предмостные укрепления для артиллерии. Главный инженер армии генерал Путнэм принял работы без единого замечания и дал конгрессу блестящий отзыв о польском полковнике Костюшке и французском полковнике де Лиле, подчеркнув: «Работа названных полковников должна убедить американских инженеров, что незначительными средствами можно добиться больших результатов».
Костюшко и Раймонд де Лиль сидели в курной избушке на окраине города Биллингпорт. Сидели у раскаленной печурки, в нижнем белье, допивая «последнюю» чашку черного кофе. Они устали, предельно устали. Работы давно закончены, а двигаться с места было нельзя: конгресс только сегодня отпустил деньги для расплаты с повозочниками, с вольнонаемными рабочими и поставщиками. Целую неделю валил снег. Жизнь в палатке стала невмоготу, и народ роптал. Оба они, и Костюшко и Лиль, работали сегодня в качестве кассиров и к полуночи расплатились со всеми повозочниками и всеми рабочими. Счета поставщиков они откладывали в сторону, а самих поставщиков выпроваживали: «Подождете, вы не мерзнете». И вот тогда, когда кофе уже был допит и рассказ Раймонда де Лиля завершился, как обычно, благополучной концовкой, раздался стук в дверь и в избушку вошел Пьер — парижский обойщик, ставший ординарцем Костюшки. — Мой полковник, вам приказ от генерала Путнэма. Костюшко, прочитав приказ, усмехнулся и передал его Раймонду. Пьер ушел. Раймонд де Лиль, прочитав приказ, вдруг преобразился. Он встал по форме, что было очень комично, и серьезным тоном проговорил: — Французский полковник Раймонд де Лиль приносит свои чистосердечные извинения польскому полковнику Андрею Тадеушу Бонавентуре Костюшке! — По какому поводу? — также встав по форме, официально спросил Костюшко. — По поводу присвоения себе половины листьев из лаврового венка польского полковника. — А французскому полковнику мало половины? — Французский полковник считает, что он не вправе претендовать даже на единый лист. Основа инженерных работ — план, а план создал польский полковник. — Овшем! — вырвалось у Костюшки, и он сразу перевел это польское слово: — Да! План составил польский полковник, но с участием французского полковника, уже не говоря о том, что дельные коррективы, внесенные французским полковником, значительно улучшили план польского полковника. Генерал Путнэм это знает из рапортов польского полковника, и генерал Путнэм допустил грубую ошибку, упомянув в своей благодарности фамилии Костюшко и Лиль не в порядке их заслуг, а в их алфавитной последовательности. За эту ошибку польский полковник Костюшко приносит свои искренние извинения французскому полковнику Лилю. Раймонд де Лиль подошел вплотную к Костюшке. — Тадеуш, мне вас жаль. — Меня? Жаль? Почему? — Вам будет трудно в жизни. Я играл ярмарочного шута, а вы играли себя. Вы мне подыгрывали манерой выражаться, но вы говорили серьезно, от имени того средневекового рыцаря, который сидит в вас. Пан Тадеуш, вы чудесный человек, но наивный мечтатель, вы верите, что все люди чудесные. — Раймонд, люди действительно чудесные, только надо раскрывать в них это чудесное. — Вас ждут горькие разочарования. — Я никогда не разочаровываюсь: если одна попытка не удалась, пытаюсь во второй раз, в третий… — Тогда давайте спать: вас не переубедишь. — И не нужно меня переубеждать. А главное, Раймонд, вы не правы в основном. Какие разочарования могут меня ожидать? Я не хочу брать, я хочу давать. — Чтобы давать, надо что-то иметь, а у вас ничего нет. — Есть, Раймонд. Я хочу отдавать себя — и сердце и мозг. В этих словах звучала такая готовность, такая окрыленность, что Раймонд, устыдившись своей прозаической сухости, отошел от Костюшки и, простояв несколько минут у печурки, скороговоркой сказал: — Давайте спать.
Через несколько дней вызвали Костюшко в Военную комиссию к мистеру Кингу. Это был сухопарый, невысокого роста джентльмен с тусклыми глазами. Как только Костюшко переступил порог кабинета, Кинг огорошил его резким вопросом: — Почему по счетам не платите? — Позвольте, сэр, я со всеми рассчитался. — И с поставщиками? — И с поставщиками. Только два расчета задержал. — Почему? — Мистер Барлоу требует за цепи в шестнадцать раз дороже рыночной стоимости, а мистер Олни, который нам поставил две тысячи баранов, требует за каждого барана столько, сколько стоит корова. Сэр, джентльмен, который занимал этот кабинет до вас, сказал мне, что бизнес бывает честный и нечестный. Мистер Барлоу и мистер Олни хотят делать нечестный бизнес. Видимо, люди, которые много имеют, не только не хотят ничем жертвовать для войны, но еще и прибегают к недобросовестным махинациям, чтобы на войне нагреть руки. Сэр, бедный фермер, ремесленник, батрак, мелкий торговец — все они бросают семьи, дом, заработок, чтобы завоевать свободу и независимость. Эти бедные люди по пять-шесть часов стояли в ледяной воде, забивая сваи или протягивая цепи от берега к берегу. Мы им жалованья не платили, плохо кормили, но они не роптали, они работали во имя победы, а такие, как мистер Барлоу и мистер Олни, сытые и в тепле, подсчитывали в это время свои прибыли. Сэр, я уплачу по счетам Барлоу и Олни, но уплачу по справедливой цене. Я за честный бизнес. Кинг захлопнул крышку на чернильнице и сказал лающим голосом: — Я вызвал инженера, производителя работ, а не проповедника. Проповеди у нас читаются по воскресеньям и в молитвенных домах, а не в Военной комиссии конгресса. И, кроме того, вы чушь порете. У нас все воюют: и джентльмены и бедные фермеры. — Простите, сэр, но все воюют по-разному. — Это уже наше внутреннее дело, и мы, американцы, не любим, когда чужеземцы суют свой нос в наши горшки. Занимайтесь своим делом и платите по счетам. — По грабительским ценам? — Советую не употреблять резких выражений. Каждый волен продавать свой товар по своей цене, — он встал. — Прощайте, сэр, и сегодня же погасите задолженность! Костюшко вышел из Военной комиссии огорченный и расстроенный. Или он в чем-то ошибся, или его кто-то обманул. Живя несколько месяцев с солдатами, среди которых были представители многих национальностей и многих профессий, он убедился, что в Америке возник новый, ни на один другой не похожий народ. Из смеси многих национальностей получился чудесный сплав — предприимчивые, свободолюбивые люди, для которых труд не унижение, а доблесть. Этому новому народу тесно стало в рамках бюрократической Англии. Он решил жить по своим законам, не стесняющим и личную свободу и менее обременительным для кармана. Из разговоров с солдатами Костюшко вынес убеждение, что слова декларации: «Мы считаем истинами, не нуждающимися в доказательствах, что все люди созданы равными, что они наделены творцом такими неотъемлемыми правами, как жизнь, свобода и стремление к счастью», — эти слова не пустая риторика, а истина, за которую народ идет в бой. Но после неприятной беседы к Кингом Костюшко увидел и тень от этой истины: не все американцы стремятся к высокой цели. Если бедный фермер, ремесленник или батрак отдает все, вплоть до жизни, то такие, как Барлоу и Олни, — а к ним, видимо, относится и конгрессмен Кинг, — хотят сбросить английское ярмо для достижения иной, сугубо личной цели. Им неплохо жилось и при англичанах, но они хотят жить еще лучше при своем правительстве, зная, что они-то и будут этим новым правительством. «Стоит ли оставаться? — спросил себя Костюшко. — Где гарантия, что и тут власть не попадет в подлые руки понинских?» «Нет! — ответил он себе. — Это исключено. В Польше возможны понинские потому, что для народа — не для единиц, а для всего народа — независимость и свобода еще не стали кислородом, без которого задыхается человек, а тут, в Штатах, весь народ за эту свободу и независимость готов жизнь отдать». — Останусь, — сказал Костюшко. — А счетов Барлоу и Олни не оплачу: получайте по божеским ценам или подавайте на меня в суд. А судиться они не станут: знает кошка, чье мясо съела!
Костюшко не погасил счетов, а Барлоу и Олни не подали в суд на взыскание — все произошло не так, как предполагал Костюшко. Из Военной комиссии затребовали неоплаченные обязательства, и сама комиссия удовлетворила поставщиков полным долларом. Спор между Костюшкой и «грабителями» закончился, но конфликт Костюшко — Кинг только начался. Работы по укреплению Филадельфии были высоко оценены конгрессом. Но влияния на общий ход войны эти работы, конечно, не могли оказать. У Штатов не было постоянной армии — одни добровольцы. Недисциплинированные и необученные, они не могли противостоять кадровым английским войскам. Генерал Вашингтон потребовал от конгресса формирования регулярной армии. Конгресс одобрил предложение и назначил генерала Вашингтона верховным главнокомандующим. Приступили к формированию первой сотни пехотных батальонов. На это требовались деньги. Началась борьба внутри конгресса. Фабриканты, банкиры и крупные землевладельцы не хотели раскрывать кошельков, а чиновники, сторонники англичан, вносили хаос в дело управления. Ударили морозы. Река Делавар, скованная льдом, стала удобной дорогой для английской пехоты. Генерал Вашингтон решил предупредить возможное наступление и внезапным налетом взял город Трентон — столицу штата Нью-Джерси. Английский генерал Гоу двинул свои войска против Вашингтона, но 3 января 1777 года был разбит на марше американцами. Кроме фронта у Филадельфии, действовал еще один фронт — на реке Гудсон. Эта река, берущая начало у границ Канады, была единственно удобной дорогой между северными и центральными штатами. В том месте, где Гудсон, ворвавшись в ущелье, сближает свои берега, стояла небольшая крепость Тикондорога — генерал Вашингтон назвал эту крепость «ключом к северным штатам». И действительно, если бы англичанам удалось захватить Тикондорогу, они бы отрезали север, где оперируют войска повстанцев под командованием генерала Шайлера, от войск Вашингтона под Филадельфией.
 Рисунок Т. Костюшки.
Рисунок Т. Костюшки.
 Людвика Сосновская. Масло. И. Грасси.
Людвика Сосновская. Масло. И. Грасси.
 Восстание в Варшаве 17–18 апреля 1794 года. Рис П. Норблина.
Восстание в Варшаве 17–18 апреля 1794 года. Рис П. Норблина.
Весной конгресс направил на север нового командующего — генерала Гэтса. Это был огромный, широкий в плечах человек. Он сразу оценил стратегическое значение Тикондороги и предложил своему инженеру разработать план подъема артиллерии на так называемую «Сахарную Голову». Инженер нашел затею генерала невыполнимой. Тут всплыла фамилия польского полковника Костюшки — ее назвал один из офицеров филадельфийской группировки. Гэтс затребовал польского инженера. Военная комиссия направила Гэтсу вместо Костюшки французского подполковника Радиера. Этот инженер оказался бойким, красноречивым и на всех в штабе произвел хорошее впечатление. Он немедленно приступил к выполнению плана Гэтса и, проработав восемь дней, доложил: — На «Сахарную Голову» нельзя поднять тяжелую артиллерию. Хорошо обоснованный доклад Радиера одобрил главный инженер армии генерал Дюпортайль. Гэтс, однако, не согласился с инженерами и вторично, в более категорической форме, потребовал полковника Костюшко. Мистер Кинг из Военной комиссии на этот раз удовлетворил просьбу Гэтса, но с одним условием— подполковник Радиер остается заместителем Костюшки. Гэтс согласился. Костюшко прибыл в штаб, и в первый же вечер генерал Гэтс поднялся с ним на «Сахарную Голову». Река Гудсон, широкая и стремительная, с яростью разгневанного хищника врывалась в ущелье, а там, точно исчерпав в натиске всю свою ярость, текла узенькой и тихой струей. Хвойный лес подступал к Тикондороге с севера и юга, но с высоты «Сахарной Головы» видно было, что за лесом лежит равнина, зеленая, с просветами шоссейных дорог. Все это было чуть-чуть подкрашено кармином заката. — Вот, сэр, если вы поднимете сюда тяжелую артиллерию, то никакой дьявол меня отсюда не выкурит. «Красные мундиры» должны двигаться по этой дороге, а я их перестреляю, как фазанов. — Попытаюсь, генерал, — ответил Костюшко. — И мне кажется, что я это сделаю. — Но, почувствовав, что его горячее желание сделать невозможное возможным, может быть истолковано Гэтсом как похвальба или самомнение, Костюшко добавил: — Раз это нужно, то надо сделать. Гэтс ничего не ответил, но Костюшко понял, что генерал ему поверил: он, командующий армией, поднялся в седло после того, как его подчиненный уже сидел на своем коне.
Костюшко принялся за осуществление трудной задачи. Уже в первый вечер, обозревая округу с высоты, Костюшко оценил господствующее положение «Сахарной Головы» и удобство, созданное самой природой тем, что река в ущелье течет узкой и тихой лентой. Реку он перекроет цепями, как сделал под Филадельфией, а сама высота, не зря прозванная остроглазыми охотниками «Сахарной Головой», — идеальный конус, по которому можно проложить серпентинную дорогу. Более трудную задачу — перекрытие реки — Костюшко взял на себя, а прокладку дороги поручил подполковнику Радиеру. Тот охотно принялся за порученное дело, только попросил Костюшко не беспокоить его проверками. — У каждого из нас, инженеров, своя манера работать, — сказал он. — Закончу дорогу и покажу ее вам. Прокладка дороги — вещь не очень сложная для опытного инженера, особенно по детальному чертежу, который Костюшко разработал. — Согласен, подполковник, приступайте к работе.
Костюшко жил с адъютантом Гэтса, лейтенантом Вилькинсоном. Грузный, малоподвижный и немногословный, неряшливо одетый, Вилькинсон ничем не напоминал Раймонда де Лиля, и все же Костюшко чувствовал себя хорошо в его обществе. Вилькинсон был человеком искренним, честным, он, так же как и Костюшко, мечтал о всемирной справедливости, но в отличие от Костюшки он, как и Раймонд де Лиль, был неважного мнения о людях. В первые дни совместной жизни Вилькинсон присматривался к Костюшке и односложно отвечал на все попытки Костюшки втянуть его в разговор. Работы у Костюшки было много, рассвет уже заставал его за чертежной доской, и он работал с увлечением, зная, что за ним следят дружеские глаза, хотя стоило Костюшке повернуть голову в сторону Вилькинсона, как «дружеские глаза» прикидывались спящими. Радовал Костюшко и парижский обойщик Пьер— он стал не только ординарцем, но и другом, и не только заботился о своем начальнике, но, словно тень, сопровождал его повсюду. Он стал его доверенным в сношениях с солдатами. Эту сторону Костюшко, пожалуй, больше всего ценил: успех его смелого инженерного замысла зависел от согласия солдат сделать невозможное возможным, а настроение солдат мог знать только человек, живущий с ними, среди них. Однажды, когда Костюшко с Пьером заночевали на берегу Гудсона, готовясь с рассветом приступить к погрузке первой линии цепей, Пьер, подав Костюшке чашку кофе и усевшись против него на корточки, спросил: — Мой полковник, что такое серпентинная дорога? — Дорога, которая проложена вокруг горы завитками штопора. — И я так думал. — Так зачем спрашиваешь? — Не я спрашиваю, это спрашивают саперы, которые работают с подполковником Радиером. Они говорят, что серпентинная дорога должна подниматься вверх плавно, а не уступами, козлиными прыжками. Едва рассвело, Костюшко поскакал к «Сахарной Голове», и то, что увидел, его обидело, ужаснуло. Радиер ежедневно докладывал: «Сделано сто метров! Сделано сто пятьдесят метров!» Костюшко складывал эти метры. И вдруг видит — метры идут скачками, крутыми подъемами: по такой дороге не только тяжелая артиллерия, но и воз с сеном не пройдет. Костюшко, то присаживаясь на камни, то шагая взад-вперед, дожидался приезда подполковника. В нем закипел гнев. «Подлец! Вот почему он упросил меня не проверять!» Пришли саперы, приступили к работе. Костюшко поздоровался с солдатами, но в разговор с ними не вступил: ему было стыдно, словно он их обманул. Наконец появился Радиер. Он ехал мелкой рысцой, точно на прогулке в Булонском лесу. Увидев Костюшко, он соскочил с коня, поднял руку к шляпе. — Я хотел поговорить с вами, подполковник. — Пожалуйста, — любезно ответил Радиер, свежевыбритый, румяный. Они отошли в сторону, и как только Костюшко остановился, чтобы начать разговор, лицо Радиера сделалось багровым, а голос резким. — Так поляки относятся к своему слову! — Молчать! — оборвал его Костюшко. — Не смейте говорить о поляках! — И сразу остыл: он уже внутренне краснел за свою резкость. — Что вы делаете, подполковник? — спросил он вежливо. — По такой дороге мы тяжелой артиллерии не поднимем. Радиер уже давно готовился к этому столкновению. У него были даже заготовлены ядовитые фразы, стилистически отточенные, которые должны были сразить спокойного Костюшко. Но вежливость Костюшки его обезоружила. Он предложил: — Сядем, коллега, и поговорим. — Когда сели: — Вы хотите, месье Костюшко, жить спокойно? — Если это возможно, да. — Вы, видно, латинист. Я заметил, что вы часто пользуетесь уклончивым латинским предлогом «si». — Это имеет отношение к тому, что вы хотите мне сказать? — Отнюдь нет, коллега. Я хочу вам сделать деловое предложение: давайте поменяемся местами, я буду старшим инженером, вы — моим помощником. Поймите, коллега, вы не инженер, у вас нет диплома, поэтому любой ваш проект, хорош он или плох, будет взят под сомнение главным инженером армии, а под моим крылышком вам будет тепло и удобно. В этих словах была изрядная доля правды, однако в устах дельца Радиера они звучали, как пощечина. Но Костюшко не обиделся: ему было безразлично, как подписываться под работой — старшим или младшим, ему было важно качество работы, а не подпись под ней, и поэтому он спокойно спросил: — Если я соглашусь, — и улыбнулся: опять латинское «si», — если, повторяю, соглашусь, вы выполните работы по моему проекту? — Нет! — решительно заявил Радиер. Костюшко поднялся. — Тогда поедем в штаб. Радиер, оставаясь сидеть, пренебрежительно промолвил: — Не советую, мой друг. Ваш покровитель Гэтс ночью отбыл к Вашингтону, а генерал Шайлер, который его замещает, назвал ваш проект «сумасшедшим». — Поедем! — повторил Костюшко тоном приказа. Радиер не соврал: в штабе их принял генерал Шайлер. Костюшко сдержанно доложил ему сущность спора со своим помощником. И вы хотите… — корректно спросил Шайлер. — Вашего приказания подполковнику Радиеру прокладывать дорогу по утвержденному генералом Гэтсом плану. — А вы, подполковник? — Категорически против. На «Сахарную Голову» не поднять тяжелой артиллерии, а если ее чудом поднимешь, то в случае отступления придется ее там бросить. — Вы слышали, полковник? — Слышал, сэр. — И согласны? — Нет, генерал, я не согласен. На «Сахарную Голову» можно без чуда поднять тяжелую артиллерию и… — он замялся, с языка просилось: «Только трусы думают об отступлении», но эти слова показались ему резкими, оскорбительными, — и… я военный, я думаю о наступлении, а не об отступлении. — Вам и думать не надо, сэр. Вы инженер. О наступлении или отступлении будут думать другие. О вашем споре я напишу главному инженеру армии генералу Дюпортайлю. Он решит. — А пока что прикажете мне делать? — Отдыхайте, полковник. При этом разговоре присутствовал капитан Джон Картери, зять генерала Шайлера. Это был рослый детина с сабельным шрамом во всю щеку. Он подошел к Костюшке и, положив ему руку на плечо, издевательски спросил: — Скажите вы, уондер-бой[27], правда, что у себя в Польше поляки не стригутся, а ходят этакими дикарями, с кустами нечесаных волос на голове? На такую наглость нужно было ответить или пощечиной, или вызовом на дуэль, но Костюшко решил ответить более чувствительным ударом: презрением. Резким движением сбросил он со своего плеча руку наглеца Картери и, ничего не сказав, вышел из комнаты. Костюшко отправился к реке. Мысли текли спокойно. Почему Кинг навязал ему Радиера? Чтобы мешать генералу Гэтсу или ему, Костюшке? Почему Раймонда де Лиля Кинг назначил куда-то главным инженером чуть ли не на следующий день после визита Костюшки в Военную комиссию, а его, Костюшко, держал три месяца без назначения в то время, когда армия нуждалась в инженерах? Таких «почему?» набралось много, и ни на одно из них Костюшко не находил ответа. Однако Костюшко твердо знал: сам он ничем не провинился — ни перед людьми, ни перед делом. Саперы, увидев подъезжающего Костюшко, заголосили: — Сэр! К нам! К нам! У берега стояло несколько лодок, в каждой лодке — по шесть человек: четверо — на веслах, а двое лежа держали на протянутых руках тяжелую железную цепь. Костюшко сел в первую с края лодку. — Начали! Лодка двинулась. Цепь разматывалась и падала на дно. Все лодки шли к другому берегу, и на всех проделывали одно и то же. Но не успели лодки добраться до середины реки, как на берегу появился верховой и, сложив руки рупором, крикнул: — Приказ генерала! Прекратить работу! Костюшко повторил команду. Лодки, выбирая цепи, повернули к берегу. Верховой ускакал. Лодки вытянуты на берег. Солдаты молча уходят в сторону, укладываются на песок. Все головы повернуты к Костюшке. Костюшке стыдно за себя, хотя не он срывает нужную работу, ему стыдно за свою нерешительность. Он понимает, остро чувствует, что вот сейчас надо было бы подойти к солдатам, сказать им, объяснить, что к святой борьбе за свободу примазались разные барлоу и олни и для них, для этих барлоу и олни, война выгодный бизнес. Чем дольше война продлится, тем больше долларов они положат себе в карман. Но в то же время Костюшко понимал, что он не подойдет к солдатам, ничего им не скажет. Ему стыдно; сердце говорит: «Подойди, объясни», а разум удерживает: «Я вижу болезнь, но боюсь сильнодействующих лекарств. Сказать солдатам, что враг не только перед ними, но и за их спиной, равносильно предложению повернуть оружие в тыл. Этого я не сделаю, не могу сделать: жизнь должна подниматься в гору плавно, а не скачками. И в Америке много таких, как мой дружок детства Василь или пугачевец Миколай, — дай им власть, они всю страну покроют шубеницами». И Костюшко ничего не сказал своим солдатам, поднялся в седло и шагом двинулся домой. В палатке было прибрано; чертежный стол был сложен и приставлен к стене. — Пьер! Почему убран мой стол? — А зачем он вам? Работы ведь прекращены. — Приостановлены, а не прекращены. — Мой полковник, в Париже меня звали отчаянным. А знаете почему? Из-за отца. Было мне лет двенадцать. Мы тогда жили во дворце герцога Арно. Конечно, не в самом дворце, а на чердаке конюшни — отец был конюхом. У герцога было два сына: один, как я, другой — чуть постарше. Однажды мы подрались со старшим. Здоров был барчук, но и я не из слабых. Я его на землю… Налетел младший, и они давай меня в четыре руки обрабатывать. Я тогда взвыл и убежал. Прибежал домой. Из носа — кровь, под глазом — фонарь. Отец спрашивает, в чем дело. Я ему рассказал. И как только закончил свой рассказ, отец бросил меня на скамью, прижал коленом, да ремнем; дней десять я ни сесть, ни лечь не мог. А когда поправился, отец меня спросил: «Знаешь, почему трепку получил?» Я ответил: «Не знаю». — «Вот почему, сынок: при рождении забирается в человеческое сердце или орел, или заяц. Ты родился ночью, и я не заметил, кто в твое сердце залез. Первый раз в жизни ты серьезно подрался, и из твоего рассказа я убедился, что в твоем сердце живет заяц. Мерзкая тварь, трусливая, и я попытался выгнать эту тварь из твоего сердца». — И выгнал? — улыбаясь, спросил Костюшко. — Выгнал. В этот же день я так отдубасил обоих барчуков, что… — Почему замолчал? — Стыдно дальше рассказывать. Отец меня вторично обработал ремнем и при этом приговаривал: «Знай меру, знай меру». Стыдно мне, мой полковник, за отца: он хотел, чтобы в моем сердце одновременно жили и орел и заяц. А это уж никуда не годится! Костюшко был поражен: неужели этот парижский рабочий проник в его тайное тайных? Неужели Пьер понимает, какие мысли его сейчас угнетают? — Зачем ты мне все это рассказал? — А так, к слову пришлось. И кстати, мой полковник, лейтенант Вилькинсон оставил вам записку. Она там, на подушке. Вы почитайте записку, а я кофе заварю. Записка лейтенанта Вилькинсона была коротенькая: «Поехал к патрону. Ждите письма».
Наступили дни безделья. Состояние Костюшки, чрезвычайно сложное, можно было бы выразительнее всего отобразить графически — две линии: верхняя — прямая, нижняя — кривая с резкими подъемами и падениями. Внешне Костюшко спокоен: беседует с людьми, изучает английский язык, гуляет, ест, пьет свойлюбимый кофе; внутренне лихорадит: мучается и оттого, что мир управляется несправедливо, оттого, что разум требует применения сильнодействующих средств для установления' более справедливых порядков, и оттого, что он, Костюшко, не находит в себе ни сил, ни желания применять эти сильно-действующие средства. Он ощущает в себе какой-то внутренний тормоз — под давлением ли столетних традиций, или таково уже свойство его характера, но все в нем инстинктивно сопротивляется тому смелому, революционному, что вычитал у французских социологов. А ведь сам считал и продолжает считать их мысли правильными, неоднократно говорил, что все эти барлоу и олни жадны и опасны, но вместо того, чтобы их истреблять как волков, лелеет надежду на их перевоспитание. Утром пятого дня безделья Костюшку вызвали в штаб. Генерал Шайлер, ответив кивком головы на приветствие, протянул Костюшке письмо: «Генерал Дюпортайль выражает почтение генералу Шайлеру и сообщает по существу запроса: «инженерные познания и опыт подполковника Радиера внушают мне больше доверия». — Удовлетворяет вас? — Нет, генерал. Я не беру под сомнение инженерные познания подполковника Радиера, но он отвергает мой проект не потому, что мой проект невыполним с инженерной точки зрения, а потому, что мой проект не укладывается в рамки его трафарета. — Вы самонадеянны, полковник. — Простите, сэр, вы употребили не то слово. Я уверен, а не самонадеян. В серых глазах генерала загорелся недобрый огонек. — Вам кажется, что я недостаточно хорошо знаю свой родной язык? Это уже была грубость — намек на его, Костюшко, плохой английский язык, а от ответа на грубость Костюшко всегда уклонялся. — Что прикажете, генерал, мне делать? — Капитан Картери вам сообщит. Но капитан Картери ничего не сообщил Костюшке. В этот же день вернулся лейтенант Вилькинсон. Он сошел с коня и тут же, перед палаткой, начал раздеваться. Вид у него был раздраженный, обиженный. — Вы устали, Дэв? — спросил Костюшко. — Спешил, — ответил Вилькинсон унылым голосом. — Сол, дай воды. Негр принес ведро воды. Вилькинсон умывался долго, основательно. — Неприятные новости? — забеспокоился Костюшко. Вилькинсон не ответил; вымылся, вяло вытерся и, бросив полотенце на плечо негру, неприветливо сказал: — Идем, Тэд. Они вошли в палатку. Вилькинсон сел на свою кровать. Несколько минут он пристально смотрел на Костюшко, потом спросил: — Давно знакомы с Кингом? — Я его всего один раз видел. — И Костюшко рассказал, для чего его Кинг вызывал и о чем они тогда говорили. Вилькинсон лег под одеяло, вытянулся, закрыл глаза. — Тэд, — сказал он тихо, словно спросонья. — Меня однажды били в колледже, и знаете почему? Старшеклассники играли в мяч, а я стоял в стороне и советы давал. «Что с Вилькинсоном? — думал Костюшко. — От него обычно и клещами слова не вытянешь, а тут целой повестью разродился». — Тэд, люди не любят, когда их поучают. — Он приподнялся и закончил раздраженно: — Какого дьявола вы пустились в спор с Кингом! Ведь Олни зять Кинга. Он продавал вам баранов с фермы Кинга, а вы этому Кингу проповедь читаете. Возьмите из моей сумки письмо, — закончил он неожиданно. Письмо генерала Гэтса сразу покончило с бездельем: «Полковник! Продолжай работы по своему проекту. Гэтс». Захватив письмо, Костюшко помчался в штаб. Шайлера там не было, но его ждали с минуты на минуту. И действительно, генерал вскоре приехал вместе с подполковником Радиером. — Сэр, — обратился к нему Костюшко, — я получил приказ от генерала Гэтса продолжать работы. — Продолжайте, полковник, но с коррективами, которые внес в ваш проект подполковник Радиер. — Сэр, генерал Гэтс распорядился производить работы по моему проекту. — Генерал Гэтс далеко, а «Сахарная Голова» перед моими глазами. Радиер стоял тут же, смотрел вдаль и прутиком бил себя по сапогу. — Какие коррективы вы внесли? — обратился к нему Костюшко. — Незначительные. Весь ваш проект я принял. Исключил из него только «Сахарную Голову». Дорогу строить не будем. Выпало основное звено из обороны — без артиллерии на «Сахарной Голове» крепость беззащитна. Какой смысл создавать запоры на реке, если враг может подойти с суши? А протестовать против ублюдочного проекта Радиера не имело смысла: командующий армией и главный инженер армии на стороне Радиера. Костюшко поехал к себе домой и написал Гэтсу: «Генерал, прошу тебя… не приказывай мне что-либо делать до твоего приезда. И вот почему: люблю согласие и хочу быть в дружбе со всеми, если это возможно; если будут упорствовать, не делать по моему плану, который, возможно, и лучше, я предоставил бы им свободу, тем более что я иностранец… Говорю тебе откровенно: я человек чувствительный и люблю единодушие. Предпочитаю все бросить и вернуться домой сажать капусту».
Костюшко не поехал домой «сажать капусту». В июне англичане пошли в наступление: с севера — генерал Бергойн, с юга — генерал Клейтон. Бергойн захватил один из наружных фортов Тикондороги и, словно по плану Костюшки, установил тяжелую артиллерию на вершине «Сахарной Головы». Шайлеру осталось только сдать беззащитную крепость и отступить. Но Бергойн не отставал от него: шел по следу. Тут Шайлер вспомнил о польском инженере, вызвал его к себе: — Делайте что хотите, сэр, лишь бы замедлить движение англичан. Армия двигалась по лесистой местности. Костюшко валил деревья, строил палисады, хитроумные ловушки, засеки — делал все, чтобы дать возможность генералу Шайлеру отвести свои войска к острову Ван Шик. И достиг цели: с небольшими потерями Шайлер дошел до острова, а там… его сместили за сдачу врагу крепости Тикондорога. Командование армией опять принял генерал Гэтс. Настроение солдат подавленное: народ собирается в кучки, шушукается, на офицеров смотрят исподлобья. Гэтс понял: выход из положения надо искать в победе. Он решил предпринять наступление. Выслал вперед полковника Костюшко с заданием выбрать удобную позицию на западном берегу реки Гудсон, к югу от Тикондороги. Костюшко точно подменили. Деятельным был он всегда, но сейчас, выполняя приказ Гэтса, он проявлял не только деятельность, а еще и настойчивость, упорство, подчас даже резкость. В эту рекогносцировку его сопровождали три штабных офицера. Много долин и взгорий казались ему удобными для замысла генерала Гэтса, но Костюшко искал такое место, которое позволяло бы создать идеальные условия как для наступления, так и для обороны. Он понимал, что на карту поставлена не только судьба армии Гэтса, но, возможно, тут решится судьба американской революции. А эта революция была слишком дорога сердцу Костюшки, чтобы ею рисковать. Враг силен, и враг хорошо вооружен; Гэтс же силен идеей, волей народа к победе. Но эту идею, эту волю надо подкрепить умением — нужно, чтобы река, лес, земля давали дополнительные силы американской армии. И он, Костюшко, добудет эти дополнительные силы. Костюшко браковал позицию за позицией — во всех он находил изъяны, подчас такие, которые ему самому не удавалось выразить словами. Он видел предметы не такими, какими они есть, а какими они могут стать, а об этом как расскажешь? Его спутники сначала брюзжали, потом возмущались, но Костюшко их одергивал или не обращал внимания на воркотню, он упорно продолжал свои поиски. И Костюшко нашел то, что искал. Деревушка Сарагота. Она стоит на взгорье. Река Гудсон обтекает ее широким поясом. Лес по обоим берегам, на подступах к деревне раскинулось болото, затянутое зеленой ряской. Спутники Костюшки были так измотаны трудной дорогой, что даже в спор не вступили с «польским упрямцем», хотя эта позиция казалась им хуже тех, которые он же забраковал. Они ввалились в корчму к толстому Беймусу и завалились спать, а Костюшко дотемна носился верхом по округе. Он уже видел артиллерию на флангах — артиллерию, которая будет держать под обстрелом оба берега Гудсона; видел ряды глубоких окопов — окопов, которые гигантскими ужами змеятся вдоль фронта, видел «бобровьи домики» для остроглазых охотников — эти домики он соорудит на болоте, чтобы завлечь туда англичан; видел «волчьи ямы» в тех местах, где лес окажется проходимым для вражеской кавалерии… И все это он видел не мертвым инженерным чертежом, а ожившей батальной картиной: с флангов рвутся снаряды, молниями чертят воздух мушкетные пули, среди сосен мелькают красные мундиры английской кавалерии. Он, Костюшко, вобьет огненный клин между армиями Бергойна и Клейтона, он не даст им соединиться, а с каждым из них в отдельности американцы справятся. Этот свой план Костюшко представил Гэтсу. — Полковник, я тебе верил и верю. Приступай. Английские генералы поняли опасность и решили оттеснить Гэтса от Сараготы. Они двинули свои войска навстречу друг другу. Первым пришел под Сараготу генерал Бергойн и, не дожидаясь застрявшего в пути Клейтона, начал наступление. Бергойн бросал в бой роту за ротой, батальон за батальоном — шел в лоб, шел в обход, но всюду натыкался на ловко замаскированные преграды. Усилия Бергойна были похожи на попытки медведя залезть лапой в дупло за медом — в дупло, которое пасечник загородил пружинистым бревном: бревно, отодвинутое лапой, открывает на миг вход в дупло, но тут же, возвращаясь, наносит медведю чувствительные удары. Десять дней рвал Бергойн укрепления, но прорваться сквозь них ему не удалось. Осень разлилась обильными дождями. Дороги стали непроходимы. Тяжелые английские фургоны, груженные продуктами, застревали почти при выезде из интендантских складов. В стане Бергойна воцарился голод, началась дизентерия. А Клейтон все не появлялся. Бергойн решил отступить. Гэтс, зная, что делается в лагере англичан, предпринял ряд коротких набегов и прижал английский корпус к болотам. Бергойн капитулировал. В плен к американцам попали, кроме Бергойна, генералы Гамильтон и Филипс, немецкий генерал Ридезель, лорд Питергэм, граф Балакаррский и несколько членов парламента. 5 800 англичан, 2 400 гэссенцев, орудия, мушкеты, обозы. Это была первая значительная победа молодой американской армии. Она отдалась похоронным звоном в Англии и небывалым ликованием в Штатах. Она склонила королевское французское правительство заключить военный союз с «американскими бунтовщиками» и предоставить им шестимиллионный заем. Она сделала генерала Гэтса национальным героем. На «высокопарное» поздравительное послание конгресса генерал Гэтс ответил: «Будем честны: на войне много значат средства, которые сотворила природа. В данном случае это были возвышенности и леса, а молодой польский инженер, устраивая лагерь, умел так ловко все это использовать, что именно это обеспечило нам победу». Это было больше, чем простое признание заслуг своего подчиненного, — этим письмом генерал Гэтс поставил имя «молодого польского инженера» рядом со своим, с именем национального героя. Главнокомандующий американской армии Георг Вашингтон так и понял письмо генерала Гэтса. Он тут же сообщил председателю конгресса: «Разрешаю себе упомянуть, что по полученным мной донесениям инженер северной армии — кажется, по фамилии Костюшко — является человеком науки и высших достоинств. В соответствии со сведениями, которые я имею о нем, очень заслуживает, чтобы помнить о нем». Ни председатель конгресса, ни генерал Вашингтон не успели воздать «молодому польскому инженеру» по заслугам. Им было не до него. Вслед за блестящей победой под Сараготой южная армия генерала Вашингтона потерпела жестокое поражение. Конгресс уехал из Филадельфии; город заняли англичане. Однако военный союз с Францией уже вступил в действие. У берегов Америки появилась французская эскадра, и англичане вынуждены были оставить Филадельфию. Генерал Вашингтон, желая удержать водный путь по Гудсону, решил построить крепость в том месте, где река описывает луку под холмами Вест Пойнт. Приступили к работам. Руководил ими подполковник Радиер. Был ли генерал Вашингтон недоволен его проектом или вспомнил «о молодом польском инженере», но в марте 1778 года Вашингтон распорядился направить в Вест Пойнт полковника Костюшко в качестве главного инженера. Радиер не пожелал сдать ему свою должность. Командующий группировкой генерал Мак Дугэл, который до этого служил в штабе Гэтса, сообщил Вашингтону о сопротивлении Радиера, а со своей стороны рекомендовал: «у мистера Костюшки больше практики, чем у полковника Радиера, а манера его обращения с людьми более приятна». Генерал Вашингтон на это ответил: «Так как полковник Радиер и полковник Костюшко, как вижу, никогда не столкуются, полагаю, что будет целесообразнее приказать Радиеру уехать, в особенности, как мне известно, Костюшко лучше подходит к характеру и духу нашего народа». Костюшко стал главным строителем крепости Вест Пойнт: он производил работы по своему плану, по тому нелегкому плану, который должен был при минимальных затратах дать максимальный эффект. В его распоряжении были горы и столетние дубы, и из них — из земли и дерева — саперы должны будут создать шедевр инженерного искусства. Костюшко жил в комнатенке у вдовы Варен — старушки, которая потеряла на войне двух сыновей. Все свое горе она переплавила в заботу о своем постояльце. Но постоялец вместо радости доставлял ей одни огорчения: уезжал из дому с первыми петухами, возвращался при звездах и даже не притрагивался к вкусным яствам, которые она для него готовила. — Я сыт, милая мадам Варен. Только такие ответы слышала старушка от своего постояльца. А она, мадам Варен, знала, чем питается Костюшко. Такой ученый, такой благородный джентльмен, а ест из одного котелка со своими солдатами и даже… с неграми, с рабами. И слыхано ли, чтобы офицер на свои деньги кормил пленных? Золотое сердце у этого поляка, но почему он не бережет себя? Ведь здоровье у него слабое: долго ли до беды? Днем работает, ночью работает и одной овсянкой да черным кофе питается. Огорчает постоялец добрую старушку. Она видит, как у Костюшки последнее время стали бугриться скулы, как под глазами появилась синяя тень, как он, сойдя с коня, направляется к дому нетвердым шагом усталого человека. И доволен! Человек работает сверх сил, питается черт знает чем и еще доволен: поет! Чудной народ эти поляки, но хороший народ, благородный. А Костюшко действительно был доволен: получилось то, что он задумал. Вест Пойнт стал не только крепостью, сильной, неприступной, но и стилистически законченным инженерным творением, как бы вписанным в суровый пейзаж, — его бастионы и вынесенные далеко вперед форты казались природными закруглениями, подъемами и уклонами в хаотическом нагромождении скалистых гор. Костюшко доволен, однако нередко одолевает его тоска по польскому небу, по колокольному звону, по деревянным крестам на перекрестках дорог. Он заглушает нерадостные мысли своей любимой песней:
В поле липонька, в поле зеленая
Листочки распустила,
А под липой дивчина, под липой единая…
Осенью 1779 года приехал в Вест Пойнт генерал Вашингтон. Он познакомился, наконец, с «молодым польским инженером» и с делом его рук. И остался доволен. Из Вест Пойнта он написал о Костюшке генералу Гэтсу: «Я испытываю большое удовлетворение как от общего поведения, так, в частности, и от внимания и усердия, с каким он выполнил долг, порученный ему в Вест Пойнте». Благоволение генерала Вашингтона скоро сказалось— в плен к англичанам попал главный инженер американской армии генерал Дюпортайль: на эту высокую должность был неожиданно для многих назначен Костюшко. Костюшко не принял «высокого назначения»: его не прельщала кабинетная работа. Он попросился во вновь сформированную южную армию, к генералу Гэтсу, на должность рядового инженера. Летом 1780 года Костюшко прибыл в штаб южной армии. Но ему не повезло: за несколько дней до его прибытия генерал Гэтс был смещен с должности командующего. Вместо него уже распоряжался генерал Грин. Новая южная армия была плохо оснащена, поэтому генерал Вашингтон поручал Грину лишь мелкие операции в тылу у врага — в сущности, генерал Вашингтон перевел армию Грина на положение партизанского соединения. Местность благоприятствовала такому способу ведения войны. Штат Каролина изрезан мелкими речками; начинаясь в горах, они текли к океану среди густых лесов. Костюшко сначала выбрал удобное место для лагеря с таким расчетом, чтобы держать под контролем все коммуникации англичан. Потом Костюшко принялся строить плоскодонные секционные понтоны для внезапной переброски через реки небольших отрядов, направляемых в тыл врага. Война в Америке вступила в новую и трудную для генерала Вашингтона фазу. В южных штатах жили богатые плантаторы, они щедро снабжали англичан всем, вплоть до шпионской информации, в то время как солдатам Грина они отказывали в хлебе даже за наличные деньги. Но ни Грин, ни его полуголодные солдаты не падали духом. Из лагеря, как птица из хорошо укрытого гнезда, они совершали налеты на деревни и имения, где англичане переформировывали свои части и накапливали силы для наступления. На первых порах генералу Грину сопутствовала военная удача — в одной из коротких стычек он даже захватил в плен больше 500 англичан. Но уже к концу месяца лорд Корнвалис окружил армию Грина, изгнал ее из надежного убежища и прижал к бурной реке Яткин. Приказом по своему корпусу лорд Корнвалис объявил: «Завтра на рассвете мы сбросим бунтовщиков в реку». Каково же было удивление англичан, когда «завтра на рассвете» бунтовщиков не оказалось на месте! Это Костюшко за одну ночь сумел на своих понтонах перевезти всю армию Грина на другой берег. Лорд Корнвалис потратил двое суток на переправу и, переправившись на другой берег, погнался за «бунтовщиками» с такой быстротой, что вскоре опять прижал их к широкой реке Дэн. Лорд Корнвалис был так уверен в победе, что специальным курьером донес своему начальству: «Грин капитулировал». Однако и тут Костюшко спутал все расчеты самоуверенного лорда: он и на этот раз перевез армию на другой берег и за три дня окружил свой лагерь разветвленной системой окопов. Лорд Корнвалис, убедившись в неприступности американской обороны, отказался от своей затеи и отступил. Переправу через реку Дэн и укрепления, возведенные в такой короткий срок, генерал Вашингтон назвал «одним из самых славных подвигов американской армии в эту войну». Генерал Грин, получив подкрепление, решил из преследуемого обернуться преследователем. В первую очередь он поручил Костюшке укрепить городок Галифакс — сделать его опорным пунктом для широко задуманной операции. С обычной для него основательностью и деловой находчивостью Костюшко выполнил это поручение. Но выйти на стратегический простор генерал Грин все еще не мог: ему преграждал путь английский гарнизон, засевший в крепости Найти Сикс. Для штурма крепости у Грина не было сил, надо было обложить Найти Сикс, окружить сетью подземных ходов и комбинированным ударом — в лоб и из-под земли — овладеть крепостью.. Руководство осадными работами генерал Грин опять же возложил на Костюшко. Это задание было, пожалуй, самым серьезным из всех, выпавших на долю Костюшки. Работать приходилось под артиллерийским и мушкетным огнем неприятеля да вдобавок при беспрерывной склоке, которую затеял в штабе полковник Ли, приведший своих партизан в помощь генералу Грину. Ли был до войны барышником, торговал лошадьми. Храбрый, дерзкий, имевший на своем счету несколько удачных операций, Ли возомнил себя полководцем «божьей милостью» и грубо вмешивался во все распоряжения генерала Грина. В «чертову науку» он не верил, он предложил свой план: отрезать англичанам путь к реке, и они сдадутся. Полковника Ли невозможно было переубедить даже тем, что в крепости имелось достаточно колодцев и что у осажденных хватит воды «до второго пришествия». Ли был самолюбив и злопамятен, а так как виновником провала своего плана он считал «чертова поляка», то вся необузданная злоба бывшего барышника обратилась именно против Костюшки. Он не давал ему людей на строительные работы, а когда посылал несколько десятков, то его партизаны, такие же недисциплинированные, как и их командир, поднимали на виду неприятеля беспричинную стрельбу, на которую англичане отвечали артиллерийским огнем. Часто Ли являлся на какой-нибудь участок работы и, пользуясь отсутствием «чертова поляка», отменял его распоряжения. Костюшко эпохи Тикондороги отказался бы от борьбы с прославленным партизаном, но уже прошло то время, когда во имя «единодушия» Костюшко «предпочитал бросить все и вернуться домой «сажать капусту». Необузданности партизана Костюшко противопоставлял спокойное и твердое руководство; на грубости партизана отвечал вежливой насмешкой; он продолжал свое дело с еще большим рвением, но и с большей осмотрительностью. Выходки барышника Ли привели к тому, что англичане все чаще и чаще делали вылазки из крепости и дерзкими налетами вынуждали саперов прекращать работы, и чем ближе траншеи подходили к крепости, тем ожесточеннее становились эти налеты. В такие дни саперы больше работали мушкетами, чем лопатой. В одной такой стычке Костюшко был ранен, но, и раненный, он продолжал руководить работами — сначала из своей палатки через помощника, потом, с рукой на перевязи, у самых стен Найти Сикс.
Работы закончены, генерал Грин уже подготовился к штурму, но до штурма не дошло: на помощь осажденным спешил свежий английский корпус. Грин отступил, а в рапорте генералу Вашингтону написал: «К числу самых полезных и самых симпатичных для меня товарищей по оружию принадлежит полковник Костюшко. Ни с чем нельзя сравнить его усердие к общественной службе, а в решении серьезных задач, которые перед нами стояли в этой «малой», но подвижной войне, не было ничего более полезного, чем его советы, деятельность и его аккуратность. Не уставая ни от какой работы, не страшась никакой опасности, выделялся беспримерной скромностью в убеждении, что не совершил ничего особенного. Не требовал никогда ничего для себя, но никогда не упускал случая отличить и рекомендовать к награде чужие заслуги».
19 октября 1781 года лорд Корнвалис капитулировал. От этого удара англичане уже не могли оправиться. В январе начались в Версале мирные переговоры. И, как всегда, на первый план выдвинулись дипломаты, генералы и штабные офицеры. Инженерной работы для Костюшки уже не было, и он, чтобы не сидеть сложа руки, перешел в строй. Шли бои местного характера. Англичане укрепились в городе Чарльстоне. Можно было их там оставить в покое: стратегического значения этот город не имел, но, желая лишней победой повлиять на ход мирных переговоров, генерал Вашингтон поручил Грину занять этот последний опорный пункт врага. 14 декабря 1782 года после короткого и яростного штурма американцы овладели городом. В этом штурме особенно отличилась часть, которой командовал Костюшко, и поэтому генерал Грин приказал ему войти в освобожденный Чарльстон во главе американских войск. Для иностранца это была большая честь, а для Костюшки не только честь, но и символическая перекличка с тем будущим, которое он видел в мечтах. В своем скромном мундире, на высоком рыжем гюнтере, во главе целой воинской части входит Костюшко в город, где народ его приветствует возгласами: «Liberty! Liberty»[28]. Костюшко прикладывал руку к шляпе, улыбался. Перед глазами туман; сердце лихорадочно бьется. Он долго и утомительно шел к цели, однако цели не достиг. Он входит победителем в захваченный город, но в этом городе нет человека, который ожидал бы его возвращения, нет человека, который с радостью в голосе скажет: «Тадеушку!» Он входит освободителем в город, где освобожденные считают его чужаком, в город, где у него нет ни своего очага, ни своих могил. Он похож на знамя, которое гордо реет впереди праздничной процессии — кончится процессия, и знамя поставят в темный угол темного чулана… Но процессия идет, народ ликует. Американцы добыли свободу и независимость. В этой благородной победе есть и его умение и много капель его крови — неужели у него не хватит умения или он пожалеет отдать всю свою кровь для польского народа? Чтобы варшавяне так же восторженно, как и жители Чарльстона, кричали: «Wolnosc! Wolnosc!»[29] Он, Тадеуш Костюшко, — сейчас один-одинешенек, — он уже освободился от той мистической нити, которая связывала его с Людвикой, с «единой», которая стала женой другого, и нить оборвало письмо Людвики. До получения этого письма Костюшко примирился с мыслью, что Людвика полюбила своего мужа, открыв в нем какие-то качества, и вот она написала: «Мыслью я стремилась к тебе — как моя душа была с тобой, так мое сердце принадлежит тебе, и только мое тело я отдала князю. Я это сказала ему перед венчанием, а тебе, Тадеуш, говорю после свадьбы… И спешу тебя заверить, что сердцем я неизменно и до гроба твоя. 5 мая 1781». Любить одного и рожать детей другому — этого не мог постичь чистый сердцем Костюшко. Людвика перестала жить в его сознании как символическая «единая». Правда, он хранит письмо Людвики на своей груди, но письмо уже не вызывает боли — оно лишь навевает приятно-грустные мысли, подобно семейной реликвии, случайно обнаруженной в старом комоде… Костюшко подъехал к дому губернатора, где его ждали представители чарльстонской общественности. Красно-кирпичное здание с башенками по углам было украшено флагами и коврами. На тротуаре дежурила стайка девочек в белых платьицах — они держали цветы на вытянутых руках. Костюшко соскочил с коня. Детвора бросилась к нему. Костюшко был взволнован. — Drodzy… Anioxki…[30] — шептал он, прижимая к себе почти всю стайку. Девочки что-то говорили, но Костюшко не разобрал их слов — он был счастлив от одного вида счастливых детей. Восторженные крики народа вывели Костюшко из блаженного состояния: он развязал один букет, роздал девочкам по цветку, а с остальными букетами, пряча в них лицо, направился в красный дом. Первый человек, который встретился ему на лестнице, был джентльмен в клетчатых брюках, его доброжелатель из Военной комиссии. — Му dear, — обратился он к Костюшко. — Я знал, что вы далеко шагнете. — С вашей помощью, сэр. — Помощь на грош, мистер… — Костючэн! — подсказал Костюшко. — Дудки! Теперь помню, мистер Костюшко. Так вот, говорю, помощь на грош. Начали полковником и кончаете полковником. Но не унывайте, my dear. Вашего недруга Кинга уже выставили из Военной комиссии. Теперь будет олл райт. Смените погоны. Отложите цветы и пойдем, познакомлю вас с губернатором. Они вошли в зал. Военные и штатские, дамы и барышни стояли, сидели, прогуливались, беседовали, смеялись, курили. На столах и столиках — цветы, фрукты. Каково было удивление Костюшки, когда джентльмен в клетчатых брюках, подведя его к толстяку, который когда-то продал ему, Костюшке, две тысячи баранов по грабительским ценам, сказал: — Олни, познакомься с полковником, который завоевал город, чтобы ты мог сделаться губернатором, И Олни и Костюшко сразу узнали друг друга. Но на Костюшко эта встреча произвела удручающее, даже гадливое впечатление, на Олни — никакого. — Я знаком с полковником, — сказал он, улыбаясь. — Как вам Чарльстон понравился? Правда, хороший город? И погода сегодня чудесная. — Погода чудесная, — подтвердил Костюшко. — А как поживает ваш тесть мистер Кинг? — добавил он, желая смутить «грабителя». — Благодарю. Хорошо. Он перешел в законодательную комиссию, а вы, мистер Костюшко, что собираетесь делать? У нас останетесь или домой? — Ты ему посоветуй, — предложил джентльмен в клетчатых брюках. — А полковник примет мой совет? — Охотно, — улыбнулся Костюшко, — ведь я имел случай убедиться, что вы неплохо разбираетесь в житейских делах. — Оставайтесь. — И что мне делать? — Ко мне в имение. Управляющим. Мне нужен военный, с характером. У меня сто шестнадцать рабов — разбойники, их надо держать под арапником. — Думаю, что это не во вкусе полковника, — сказал джентльмен из Военной комиссии. — Ошибаетесь, сэр, — серьезно возразил Костюшко. — Я бы принял эту должность, но у вас, мистер Олни, мало разбойников. — Сколько бы вас устроило? — Сто семнадцать. Джентльмен в клетчатых брюках расхохотался. — Почему ты хохочешь, Ральф? Я куплю еще одного разбойника. Значит, олл райт, полковник? — Нет, губернатор, не будет олл райт. — Почему? — Потому что вы не того разбойника купите. — И, качнув головой, отошел. За ним последовал джентльмен из Военной комиссии. — Думаете, Олни не понял? Ошибаетесь, шу dear, он пройдоха, но умница, он не хотел показать, что понял. А теперь расскажите мне, откуда вы знаете Олни и почему вы его назвали разбойником?
Конгресс наградил Тадеуша Костюшко чином бригадного генерала и признал за ним «право получения» 12 280 долларов. Однако, учитывая «временные трудности», как было сказано в приказе, Костюшке надлежит получать «только проценты с этой суммы, то есть 736 долларов ежегодно». Передовые американские офицеры, не вполне уверенные в том, что революция в их стране пойдет по пути, начертанному «Декларацией», учредили орден Цинцинатов. Этот орден ставил своей целью «крепить свободу среди людей». Одним из первых в члены этого ордена избрали Костюшко, на его грудь был возложен орденский знак — одноглазый орел с надписью: «Omnia reliquit servare Rempubl cam»[31]. Закончился шестой этап, самый длительный. Что дальше делать? Ему, Костюшке, уже тридцать восемь лет. У него пенсия, на которую жить трудно, но и умереть с голода нельзя; у него орден, который скрасит даже заплатанный кафтан. Благожелатель из Военной комиссии предлагает ему инженерную работу с высокой оплатой. «Зачем мне эта высокооплачиваемая должность? Чтобы иметь возможность выпить лишнюю чашку кофе? Сшить новый кафтан под орден? Или снять квартиру и одиноко сидеть за собственным столом? Одиночество всюду тягостно, но на чужбине вдвойне. Значит, вернуться домой… А там кому я нужен? Никому! Но дышать польским воздухом я могу только в Польше, пытаться служить своему народу я могу только в Польше!»
ГЛАВА ПЯТАЯ ПРОСВЕТ В ТУЧАХ

 октябрьское утро 1784 года должен был подняться в небо воздушный шар. Варшавяне собрались на лужайку Ботанического сада задолго до пуска и шумно обсуждали: полетит шар или не полетит, а если полетит, достигнет он престола божьего или не достигнет?
У каната, который был протянут вдоль лужайки, стоял Костюшко. Пепельные волосы падали ему на плечи, лицо сухое, обветренное. Мундир на нем необычный: светло-зеленый с белыми отворотами; с шеи свисает странный орден: золотой одноглазый орел, Костюшке можно было дать и сорок и пятьдесят лет — виски с проседью, взгляд спокойный.
Профессор Шнядецкий, специально приехавший из Кракова, чтобы присутствовать при запуске шара, заинтересовался своим соседом, и не столько его необычным мундиром, сколько необычным спокойствием, точно предстоящий пуск шара вовсе не событие для него.
— Вы, месье, уже имели случай наблюдать полет воздушного шара? — спросил профессор по-французски, не будучи полностью уверен, что имеет дело с поляком.
— Овшем, имел, — ответил офицер по-польски.
— Где, если позволено мне знать.
— В Америке.
— Пане добродею! — обрадовался почему-то профессор. — Как там, в той Америке? Независимость отвоевали, и сам народ собой управляет?
— Не совсем так. И там правят паны, только не такие, как у нас. Жизнь там построена на иных началах. Деньги — вот что главное. Сумел приобрести деньги, ты пан, и никто тебя не спросит, чем ты был вчера и кто тебя родил.
— Но перед законом все равны: и пан и хлоп?
— Теоретически — да, а практически — у кого больше денег, у того больше прав. И о каком равенстве может вообще идти речь, если там существует рабство?
— Но ведь только для негров! Белые все равны!
— А черные не люди?
— Люди. Люди! Но и Варшава не в один год построена. Поверьте мне, пане добродею, и негры своего добьются. Свобода, как река в половодье, смывает всю грязь с берегов. И хорошо, что в этом благородном деле участвовали и поляки, и они помогали американцам добывать свободу. Генерал Костюшко, генерал Пуласский — шляхтичи, а как воевали за свободу! Удивительное дело, пане добродею, про генерала Костюшко говорят, что он долго жил во Франции, надышался там воздухом Руссо, такой человек, конечно, может воевать за свободу, а вот Пуласский, который в месяцы Барской конфедерации сражался за крест и за кнут…
На этом оборвался разговор: вдали показались люди, удерживающие тросами рвущийся в небо огромный, причудливо разрисованный шар. Народ зашумел, стал напирать на Костюшко и оттеснил его от собеседника.
В корзину воздушного шара поднялся человек, закутанный в серый бурнус. Он что-то говорил, но из-за шума его не было слышно… Вдруг шар рванулся и, болтая стропами, точно хвостом, плавно ушел в сторону Праги.
Народ прорвался через ограждение, побежал за шаром. Костюшко еле выбрался из толпы.
Восемь дней он в Варшаве — ни одного знакомого. Ходил по улицам, гулял в парках, часто просиживал в подвале Фукера за кружкой английского пива. Им интересовались — собственно, не им, а его мундиром. Один пьяный шляхтич даже ткнул пальцем в орден.
— Зачем ты, ацан, петуха на шею повесил?
— Чтобы тебя, болвана, удивить.
И странное дело: шляхтич не обиделся, не схватился за карабельку — отошел от столика, как побитая собачонка. Это огорчило Костюшко, и не потому, что он искал ссоры, а потому, что трусость шляхтича показалась ему следствием всеобщего страха перед иностранными офицерами.
Но и в подвале Фукера и на прогулках в Лазенковском парке он несколько раз слышал свою фамилию. Вслушиваться в разговоры было неудобно, хотя очень хотелось узнать, в связи с чем его поминают. И только сейчас, на лужайке Ботанического сада, понял Костюшко, что слух о его службе в американской армии волнует соотечественников. Сначала Костюшко подумал, что полякам льстит сам факт: вот, мол, наши польские генералы прославились на весь мир. Но, восстановив ход мыслей своего случайного собеседника, он понял, что дело не только в гордости за своего соотечественника, а еще и в том, из каких побуждений воевали эти два польских генерала. Костюшко они не знают, однако его участие в войне за независимость американского народа считают естественным: он жил во Франции и «надышался воздухом Руссо», а вот Пуласский?.. Костюшко жил в Варшаве всего восемь дней и за этот короткий срок смог убедиться, что в Польше произошли значительные перемены. Повсюду толкуют о мануфактурах, говорят о магнатах замойских и сапегах, которые занялись коммерцией, рассуждают о том, что рабочих рук не хватает, что власти устраивают облавы на нищих и бродяг, а затем передают их на мануфактуры.
Костюшко убедился, что за годы его пребывания в Америке Варшава разрослась, разбогатевшие мещане и цеховики — разные рафаловичи, кабриды, декреты, тепперы — начали воздвигать каменные хоромы, вторгаясь даже в те районы, которые спокон веков считались крепостью шляхты.
Новь входит в жизнь. Итальянец Антоний Махио показывает в Краковском Предместье машину, которая воспроизводит молнию; у этого же Махио можно увидеть через круглую трубку, как в капле болотной воды копошатся тысячи живых существ, и почтенный синьор Махио убеждает своих посетителей, что эти крохотные существа вызывают болезни. Сквозь мрак средневековья прорывается свет человеческого разума.
Костюшко видел и борьбу с новым. В костеле он слышал, как ксендз с амвона угрожал «карающей десницей милосердного бога» всем, кто не верит, что в трубках итальянца Махио мелькает рожа дьявола; ксендз пригрозил проклятием тем, кто прививает своим детям коровий гной, поганя этим ребенка, созданного по образу божьему.
Костюшко за эти дни убедился, что на политической арене появились люди, проникнутые духом нового времени. Они пишут книги, брошюры, прокламации. Говорят вслух о том, о чем раньше только шептались.
Все это радовало Костюшко. Он понимал, что после долгого периода упадка и застоя в Польше наступает подъем патриотического духа. Прошло одиннадцать лет со дня позора, и в недрах народа, по-видимому, уже созрели силы, которые должны будут его спасти.
Неужели для него не найдется места в этой новой жизни?
В первый же день приезда он послал королю учтивое деловое письмо, предложил свои услуги, заранее дав согласие на занятие любой должности, лишь бы служить родине. Король на письмо не ответил, и Костюшко понял почему: король считает его «человеком Чарторийского». Ведь он, Костюшко, по дороге в Варшаву заехал в Пулавы, к своему бывшему директору и покровителю. Костюшко написал в Военную комиссию сейма, и та также не откликнулась.
К кому обратиться? Разговор со случайным собеседником на лужайке Ботанического сада придал мыслям Костюшко иное направление. О нем говорят, слава о его «подвигах», видимо раздутых молвой, переплыла океан вслед за ним, а может быть, даже опередила его — так неужели такому «герою» не доверят полк?
И прямо из Ботанического сада Костюшко отправился в Военную комиссию. Он поднялся по белой мраморной лестнице. Длинный коридор скупо освещен круглым окном. Тихо и безлюдно.
Костюшко постучался и вошел в крайнюю комнату. Два молодых офицера стоя о чем-то оживленно беседовали.
— Где бы мне увидеть пана гетмана Браницкого? — спросил Костюшко, остановившись на пороге.
Офицеры повернули головы. Их удивил незнакомый мундир, одноглазый орел на шее.
— Имч пан поляк?
— Такой же, как и вы, панове поручики.
— А в какой армии вы служите?
— Служил. В американской.
Офицеры подступили к Костюшке, заговорили в два голоса:
— Не встречали вы там наших славных родаков? Пуласского и Костюшко?
— Пуласского видел. Незадолго до его смерти.
— Как он погиб?
— Как герой, в конной атаке.
— Расскажите подробнее!
— Не знаю подробностей, я в то время был в другой армии.
— А генерала Костюшко вы видели?
— Я Костюшко.
Два слова, но они произвели на офицеров ошеломляющее впечатление. Оба отодвинулись от Костюшки и смотрели на него с немым благоговением.
Эта немая сцена еще больше убедила Костюшко, что никто не откажет ему в праве служить своей отчизне.
— А теперь скажите мне, где я могу увидеть гетмана?
Один из офицеров взял Костюшко под руку, другой распахнул перед ним дверь. Они вышли в коридор. Офицер, идущий впереди, торжественным голосом герольда объявлял всем встречным: «Генерал Костюшко!»
Вместо гетмана, председателя Военной комиссии, Костюшко принял его помощник — человек маленького роста, с небольшим коком седых волос, упругими и мясистыми щеками и носом в мелких красноватых жилках. Он поднялся навстречу входившему в кабинет Костюшке и, дойдя до него, остановился, пристально вгляделся в его лицо, деловито спросил:
— Так это вы и есть пан Костюшко? Приятно, очень приятно. Садитесь, пан Костюшко, расскажите, как это удалось американским фермерам и купцам справиться с англичанами, с такой могущественной державой?
— У американцев было большое преимущество: они воевали за свою свободу, за свою независимость.
— Свобода… Независимость… — произнес старичок четко, деля слова на отдельные слоги. — А вы, польский шляхтич, за что воевали? Американцы ведь против королей вообще, против дворян вообще.
— Вы правы, американцы и против королей и против дворян. Но каждый, кто вытаскивает саблю из ножен, должен задать себе вопрос: «За что? За кого? Против кого?» И я спросил себя: за что воюют американцы? За свободу человека. А англичане? За хомут на шее человека. Может честный человек воевать за хомут, против свободы?
октябрьское утро 1784 года должен был подняться в небо воздушный шар. Варшавяне собрались на лужайку Ботанического сада задолго до пуска и шумно обсуждали: полетит шар или не полетит, а если полетит, достигнет он престола божьего или не достигнет?
У каната, который был протянут вдоль лужайки, стоял Костюшко. Пепельные волосы падали ему на плечи, лицо сухое, обветренное. Мундир на нем необычный: светло-зеленый с белыми отворотами; с шеи свисает странный орден: золотой одноглазый орел, Костюшке можно было дать и сорок и пятьдесят лет — виски с проседью, взгляд спокойный.
Профессор Шнядецкий, специально приехавший из Кракова, чтобы присутствовать при запуске шара, заинтересовался своим соседом, и не столько его необычным мундиром, сколько необычным спокойствием, точно предстоящий пуск шара вовсе не событие для него.
— Вы, месье, уже имели случай наблюдать полет воздушного шара? — спросил профессор по-французски, не будучи полностью уверен, что имеет дело с поляком.
— Овшем, имел, — ответил офицер по-польски.
— Где, если позволено мне знать.
— В Америке.
— Пане добродею! — обрадовался почему-то профессор. — Как там, в той Америке? Независимость отвоевали, и сам народ собой управляет?
— Не совсем так. И там правят паны, только не такие, как у нас. Жизнь там построена на иных началах. Деньги — вот что главное. Сумел приобрести деньги, ты пан, и никто тебя не спросит, чем ты был вчера и кто тебя родил.
— Но перед законом все равны: и пан и хлоп?
— Теоретически — да, а практически — у кого больше денег, у того больше прав. И о каком равенстве может вообще идти речь, если там существует рабство?
— Но ведь только для негров! Белые все равны!
— А черные не люди?
— Люди. Люди! Но и Варшава не в один год построена. Поверьте мне, пане добродею, и негры своего добьются. Свобода, как река в половодье, смывает всю грязь с берегов. И хорошо, что в этом благородном деле участвовали и поляки, и они помогали американцам добывать свободу. Генерал Костюшко, генерал Пуласский — шляхтичи, а как воевали за свободу! Удивительное дело, пане добродею, про генерала Костюшко говорят, что он долго жил во Франции, надышался там воздухом Руссо, такой человек, конечно, может воевать за свободу, а вот Пуласский, который в месяцы Барской конфедерации сражался за крест и за кнут…
На этом оборвался разговор: вдали показались люди, удерживающие тросами рвущийся в небо огромный, причудливо разрисованный шар. Народ зашумел, стал напирать на Костюшко и оттеснил его от собеседника.
В корзину воздушного шара поднялся человек, закутанный в серый бурнус. Он что-то говорил, но из-за шума его не было слышно… Вдруг шар рванулся и, болтая стропами, точно хвостом, плавно ушел в сторону Праги.
Народ прорвался через ограждение, побежал за шаром. Костюшко еле выбрался из толпы.
Восемь дней он в Варшаве — ни одного знакомого. Ходил по улицам, гулял в парках, часто просиживал в подвале Фукера за кружкой английского пива. Им интересовались — собственно, не им, а его мундиром. Один пьяный шляхтич даже ткнул пальцем в орден.
— Зачем ты, ацан, петуха на шею повесил?
— Чтобы тебя, болвана, удивить.
И странное дело: шляхтич не обиделся, не схватился за карабельку — отошел от столика, как побитая собачонка. Это огорчило Костюшко, и не потому, что он искал ссоры, а потому, что трусость шляхтича показалась ему следствием всеобщего страха перед иностранными офицерами.
Но и в подвале Фукера и на прогулках в Лазенковском парке он несколько раз слышал свою фамилию. Вслушиваться в разговоры было неудобно, хотя очень хотелось узнать, в связи с чем его поминают. И только сейчас, на лужайке Ботанического сада, понял Костюшко, что слух о его службе в американской армии волнует соотечественников. Сначала Костюшко подумал, что полякам льстит сам факт: вот, мол, наши польские генералы прославились на весь мир. Но, восстановив ход мыслей своего случайного собеседника, он понял, что дело не только в гордости за своего соотечественника, а еще и в том, из каких побуждений воевали эти два польских генерала. Костюшко они не знают, однако его участие в войне за независимость американского народа считают естественным: он жил во Франции и «надышался воздухом Руссо», а вот Пуласский?.. Костюшко жил в Варшаве всего восемь дней и за этот короткий срок смог убедиться, что в Польше произошли значительные перемены. Повсюду толкуют о мануфактурах, говорят о магнатах замойских и сапегах, которые занялись коммерцией, рассуждают о том, что рабочих рук не хватает, что власти устраивают облавы на нищих и бродяг, а затем передают их на мануфактуры.
Костюшко убедился, что за годы его пребывания в Америке Варшава разрослась, разбогатевшие мещане и цеховики — разные рафаловичи, кабриды, декреты, тепперы — начали воздвигать каменные хоромы, вторгаясь даже в те районы, которые спокон веков считались крепостью шляхты.
Новь входит в жизнь. Итальянец Антоний Махио показывает в Краковском Предместье машину, которая воспроизводит молнию; у этого же Махио можно увидеть через круглую трубку, как в капле болотной воды копошатся тысячи живых существ, и почтенный синьор Махио убеждает своих посетителей, что эти крохотные существа вызывают болезни. Сквозь мрак средневековья прорывается свет человеческого разума.
Костюшко видел и борьбу с новым. В костеле он слышал, как ксендз с амвона угрожал «карающей десницей милосердного бога» всем, кто не верит, что в трубках итальянца Махио мелькает рожа дьявола; ксендз пригрозил проклятием тем, кто прививает своим детям коровий гной, поганя этим ребенка, созданного по образу божьему.
Костюшко за эти дни убедился, что на политической арене появились люди, проникнутые духом нового времени. Они пишут книги, брошюры, прокламации. Говорят вслух о том, о чем раньше только шептались.
Все это радовало Костюшко. Он понимал, что после долгого периода упадка и застоя в Польше наступает подъем патриотического духа. Прошло одиннадцать лет со дня позора, и в недрах народа, по-видимому, уже созрели силы, которые должны будут его спасти.
Неужели для него не найдется места в этой новой жизни?
В первый же день приезда он послал королю учтивое деловое письмо, предложил свои услуги, заранее дав согласие на занятие любой должности, лишь бы служить родине. Король на письмо не ответил, и Костюшко понял почему: король считает его «человеком Чарторийского». Ведь он, Костюшко, по дороге в Варшаву заехал в Пулавы, к своему бывшему директору и покровителю. Костюшко написал в Военную комиссию сейма, и та также не откликнулась.
К кому обратиться? Разговор со случайным собеседником на лужайке Ботанического сада придал мыслям Костюшко иное направление. О нем говорят, слава о его «подвигах», видимо раздутых молвой, переплыла океан вслед за ним, а может быть, даже опередила его — так неужели такому «герою» не доверят полк?
И прямо из Ботанического сада Костюшко отправился в Военную комиссию. Он поднялся по белой мраморной лестнице. Длинный коридор скупо освещен круглым окном. Тихо и безлюдно.
Костюшко постучался и вошел в крайнюю комнату. Два молодых офицера стоя о чем-то оживленно беседовали.
— Где бы мне увидеть пана гетмана Браницкого? — спросил Костюшко, остановившись на пороге.
Офицеры повернули головы. Их удивил незнакомый мундир, одноглазый орел на шее.
— Имч пан поляк?
— Такой же, как и вы, панове поручики.
— А в какой армии вы служите?
— Служил. В американской.
Офицеры подступили к Костюшке, заговорили в два голоса:
— Не встречали вы там наших славных родаков? Пуласского и Костюшко?
— Пуласского видел. Незадолго до его смерти.
— Как он погиб?
— Как герой, в конной атаке.
— Расскажите подробнее!
— Не знаю подробностей, я в то время был в другой армии.
— А генерала Костюшко вы видели?
— Я Костюшко.
Два слова, но они произвели на офицеров ошеломляющее впечатление. Оба отодвинулись от Костюшки и смотрели на него с немым благоговением.
Эта немая сцена еще больше убедила Костюшко, что никто не откажет ему в праве служить своей отчизне.
— А теперь скажите мне, где я могу увидеть гетмана?
Один из офицеров взял Костюшко под руку, другой распахнул перед ним дверь. Они вышли в коридор. Офицер, идущий впереди, торжественным голосом герольда объявлял всем встречным: «Генерал Костюшко!»
Вместо гетмана, председателя Военной комиссии, Костюшко принял его помощник — человек маленького роста, с небольшим коком седых волос, упругими и мясистыми щеками и носом в мелких красноватых жилках. Он поднялся навстречу входившему в кабинет Костюшке и, дойдя до него, остановился, пристально вгляделся в его лицо, деловито спросил:
— Так это вы и есть пан Костюшко? Приятно, очень приятно. Садитесь, пан Костюшко, расскажите, как это удалось американским фермерам и купцам справиться с англичанами, с такой могущественной державой?
— У американцев было большое преимущество: они воевали за свою свободу, за свою независимость.
— Свобода… Независимость… — произнес старичок четко, деля слова на отдельные слоги. — А вы, польский шляхтич, за что воевали? Американцы ведь против королей вообще, против дворян вообще.
— Вы правы, американцы и против королей и против дворян. Но каждый, кто вытаскивает саблю из ножен, должен задать себе вопрос: «За что? За кого? Против кого?» И я спросил себя: за что воюют американцы? За свободу человека. А англичане? За хомут на шее человека. Может честный человек воевать за хомут, против свободы?
 Битва под Рацлавицами. Рис. А. Орловского.
Битва под Рацлавицами. Рис. А. Орловского.
 После победы под Рацлавицами. Рис. П. Норблина.
После победы под Рацлавицами. Рис. П. Норблина.
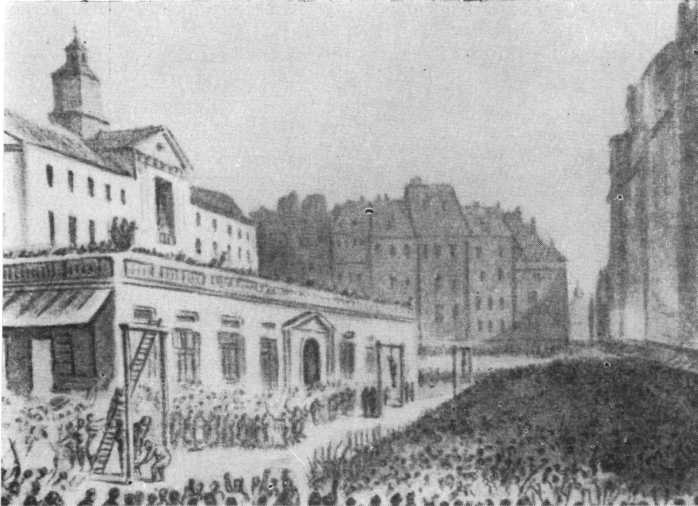 Казнь изменников в Варшаве 28 июля 1794 года. Рис. П. Норблина.
Казнь изменников в Варшаве 28 июля 1794 года. Рис. П. Норблина.
Старичок сразу потерял интерес к беседе. Уселся на свое место, отодвинул в сторону лежавшую перед ним бумагу. — Вы писали его милости королю. Какой вы ответ получили? — Никакого. — И вы недовольны? В Америке к вам лучше относились? Так почему вы уехали оттуда? Вы забыли мудрую поговорку римлян: «Ubi bene, ibi patria»?[32]. — Не забыл. Но я по-иному произношу эту мудрую поговорку: «Ubi patria, ibi bene». Я поляк, и мое место здесь, в Польше. За океаном я приобрел кое-какой опыт, и этот опыт я хочу отдать своей родине. — Похвально, пан Костюшко, отдавайте. — Но я военный! Мое место в армии! — А в армии, пан Костюшко, нет места. Прискорбно, но что поделаешь. Все вакансии заняты. Армия-то у нас небольшая, а достойных кандидатов много. — Старичок поднялся, протянул руку. — Весьма сожалею, пан Костюшко, рад бы, да. сами понимаете, на занятое место вас не назначишь. Костюшко ушел. Очутившись на улице, он сказал вслух: «Вот и все». Поведение старичка его не очень удивило: очередной Сосновский. Для него, как и для Сосновского, Костюшко всего только худородный шляхтич, который просит шаржу потому, что не в состоянии ее купить. А с нищим шляхтичем нечего церемониться, в особенности когда этот нищий еще болтает о хомутах и свободах. Счеты с Варшавой были покончены. Домой! В Сехновцы. Будет крыша над головой, кусок поля, где можно сажать капусту. Брат Юзеф умер; имение почти очищено от долга. Имение, правда, крохотное, всего 18 подданных, но доход с него да американская пенсия позволят ему жить, не прибегая к чужой помощи. Костюшко поехал в Сехновицы. Та же жизнерадостная тетушка Сусанна, та же дворня: лакей и кучер, та же сивая кобылка. Скромный в своих привычках, Костюшко довольствовался немногим. В маленьком домике была столовая, спальня и даже место для токарного станка. За домом — огород,несколько фруктовых деревьев, орешник. Костюшко жил жизнью мелкого шляхтича: хозяйничал, своими руками построил беседку, работал на станке. В простом, скромном и обходительном помещике трудно — было даже угадать славного генерала американской армии. Но люди угадывали, и вокруг него шелестело: «Он», «Этот», «Тот самый»… Стоило ему показаться в Бресте или даже на празднике у кого-нибудь из соседей, тотчас его имя то шепотом, то вслух передавалось из уст в уста… Часто навещал Костюшко сосед по имению депутат сейма Михаил Залесский. Усядутся они летом в беседке, зимой — у печки, задымят трубками и ведут нескончаемые споры. Залесский был человеком умным, обстоятельным. Он видел истоки польских бед, но считал, что патриоты должны действовать исподволь, в духе старопольских традиций. — Пане Михале! — возражал ему Костюшко. — Если действовать так, как ты предлагаешь, то пройдут века, пока мы выберемся из болота. Наш хлоп еле дышит под пятой пана, он лишен всяческих прав. А хлопы — большинство народа. Надо облегчить его судьбу, сделать из него полезного гражданина. Какая сила может быть у государства, если большая часть населения не заинтересована в его судьбе? Такое государство обречено на гибель! Часто, очень часто Костюшко возвращался в разговоре с Залесским к крестьянскому вопросу. — Крепостной! Это проклятое слово должно исчезнуть! Ты, пане Михале, не подумал о том, что хлопы — чистейшие рабы, хотя рабства у нас нет? — А что ты предлагаешь, генерал? Освободишь хлопов, они разбредутся, а кто будет землю обрабатывать? Негров из Амёрики прикажешь выписать? И вообще, дорогой мой генерал, не понимаю тебя. Ты не похож на тех крикунов, которые хотят пересадить на нашу землю французские цветочки. Ты поляк с крови и кости, а подчас рассуждаешь, как какой-нибудь Руссо. И жизнь тебя, как видно, ничему не научила. Ты добыл свободу целому народу, а сам сидишь на хуторе чуть больше носового платка, сам себе сапоги чистишь и даже восемнадцать тысяч злотых не можешь сколотить, чтобы купить шаржу на командование ротой! Не просчитался ли ты, генерал, в основном? Ты хотел добыть свободу для американского народа, а добыл ее для кого? Для банкиров и работорговцев! — Нет, пане Михале, не просчитался. И мой хутор и мои сапоги тут ни при чем. В этой войне окреп американский народ, он создал свою национальную армию! — И мы, генерал, собираемся создать армию. Вот соберется сейм восемьдесят восьмого года, и он одобрит нашу программу. Депутат Линовский предлагает довести армию до ста тысяч человек. — Стотысячная армия? Из кого? — Из шляхты, мещан и хлопов. — Из людей, которые лишены человеческих прав? — возмутился Костюшко. — Какая это армия? Воевать за отчизну могут люди, для которых эта отчизна мать, а не мачеха! Надо сначала усыновить мещан и хлопов, вернуть им человеческое достоинство, а потом создавать из них армию! С этого дня Костюшко потерял покой: его место там, в Варшаве. На его глазах создавалась американская народная армия, он помогал ее создавать, его опыт нужен Польше. Костюшко написал князю Чарторийскому, пусть ему дадут роту, эскадрон: его место среди тех, кто с оружием в руках будет отстаивать достоинство родины. В один из таких дней, когда Костюшке казалось, что вот-вот решится судьба Польши, приехал из Варшавы Михаил Залесский. Он зашел в горницу, уселся и устало сказал: — Знаешь, мосчи генерале, хочу освободиться от обязанностей депутата. Надоело участвовать в цирке, который у нас почему-то называется сеймом. — Не греши, пане Михале! — взволновался Костюшко. — Сейм, наконец, понял, что без народной армии Польша погибнет! Пане Михале! Речь идет о нашей родине! Если мы сами не будем заботиться о ее благе, то достойны того, чтобы нам накинули петлю на шею! А ты в сторону уходишь! Такие, как ты, которых бог наделил ораторским талантом! Хочешь оставить поле боя сосновским? Ведь они в последнюю минуту погубят святое дело. Залесский лучше, чем Костюшко, разбирался в политических сложностях. — Генерал, — сказал он, — сердцем я понимаю твой энтузиазм. Ты напоминаешь мне экзальтированного Ромео, готового похитить лучи у солнца, чтобы сплести из них венок для своей милой. Не обижайся, дорогой генерал, на мои слова, я скажу ересь, но в ней есть и здоровое зерно: ты слишком любишь Польшу. Тебе кажется, что не будь понинских и сосновских, Польша сразу обернется раем для народа. Увы, генерал, заблуждаешься, глубоко заблуждаешься. Польша уже давно потеряла свою независимость. Она перестала быть независимым государством еще семьдесят лет тому назад, от сейма семнадцатого года, когда согласилась на уменьшение своей армии, на утверждение «либерум вето». Все, что произошло с нами после семнадцатого года, только круги по воде от брошенного камня. Какие наши болезни? Вот Гуго Коллонтай пишет: притеснение хлопов, ущемление среднего сословия, привилегированное положение шляхты, религиозная нетерпимость. Чушь! Разве этими болезнями не болеют и другие европейские государства? Болеют, но для них они не смертельны. Спросишь почему? Потому что в этих государствах имеются сильные правительства, которые стоят на страже государственных интересов. А у нас? Ни сильного правительства, ни сильного войска, ни богатой казны, ни политики внутренней, ни политики внешней. Гуго Коллонтай на весь мир кричит, что мы эту долю сами себе уготовили, будто мы верим, что Польша «держится беспорядком». — Пане Михале! — вскрикнул Костюшко. Все в нем возмущалось: он не мог согласиться с той похоронной оценкой, что слышалась в словах Залесского. Но Залесский не дал ему высказаться: — Нет уж, дорогой генерал, раз мы затронули эту тему, так выслушай меня до конца. Неприятно? Знаю, Но я скажу еще более неприятную вещь. Польша, такая, какая она есть, нежизнеспособна. И крики Коллонтая ее не спасут. Она должна пасть жертвой своих соседей. Спросишь почему? Потому, дорогой генерал, что наше солнце клонится к закату, их солнце двигается к зениту. Пруссия выдвинулась во главе германских княжеств, а Россия стала одной из самых могущественных держав в Европе. И я тебя, дорогой генерал, еще больше огорчу: если Пруссия и Россия не проглотят Польшу, то она сама распадется, как изъеденный червями плод… — Пане Михале! — Успокойся, генерал, от нашей болезни все же есть лекарство: укрепить финансы, увеличить армию, усилить власть короля… Ты улыбаешься? Не веришь? — Не твоим словам, а твоему анализу. Если ты прав, то не только король, но и Ченстоховская божья матерь нас не спасет. Залесский набил трубку, раскурил ее и добродушно сказал: — Как Ченстоховская божья матерь относится к этому вопросу, не знаю, но я убежден, что всякие бредни о крепостничестве и свободах нас не вывезут из болота. Залесский уехал. Тетушка Сусанна убрала посуду со стола. — Ты бы спать лег, Тадеушку, усталый у тебя вид. Костюшко промолчал. До него не дошли слова тетушки. «Неужели мы обречены? — думал он. — Неужели стоим перед дилеммой «или-или»? А что, если патриотам не удастся осуществить реформы? Ведь спасение только в быстрых реформах. Нет, пане Михале: Польша не распадется, как плод, изъеденный червями! Армия! Скорее стотысячную армию! Но ее надо построить не по старому принципу: палочная дисциплина, голодный и в отрепьях солдат, шляхтич-офицер, который хозяйничает в своей роте, как у себя в именин. Нет, такая армия рассыплется при первом столкновении с регулярными войсками. Армия сильна идеей, благородной целью. А какая идея у офицера-шляхтича? Заработать на солдатах, поскорее вернуть себе тысячи, которые он уплатил за шаржу… Такая армия нас не спасет. Нужна народная милиция. Не шляхетская кавалерия, а пехота — из хлопов и из мещан! И в такое ужасное время я сажаю березки и строю беседку! В такое время, когда каждый патриот должен отдавать родине всю кровь своего сердца!» Костюшко вышел во двор. Высокое безоблачное небо. Ели в ближнем лесу стояли ровными шеренгами, держа «на караул» казацкие пики. Тихо. Душно и мертво. Мертво… Хоть бы где-нибудь собака затявкала… В этой мертвой тишине созрело решение: надо немедленно вмешаться. Он вернулся домой. Писал, зачеркивал, переписывал. Только к утру был готов, «мемориал». «…Необходимо, чтобы сами граждане, создавая милицию, видели в ней свое спасение… Во всех воеводствах, землях, поветах — один полк пехоты и полк кавалерии. Офицеры должны назначаться на сеймиках…» С этим проектом Костюшко поехал в Варшаву.
Костюшко не только говорил о позоре крепостничества. Ему жилось очень трудно: имение приносило не больше тысячи злотых в год, из Америки — ни денег, ни писем. И, несмотря на это, Костюшко низвел в Сехновицах барщину до минимума: женщин полностью освободил от панщизны, а от мужчин требовал два дня в неделю вместо шести. Кнут, колодки, цепи — эти почти обязательные орудия пытки в любом польском имении — Костюшко уничтожил в первые же дни своего хозяйничания. Наступил, наконец, знаменательный день: сейм 1788 года одобрил закон о стотысячной армии. На очереди — вопрос о командном составе. У Костюшки много друзей: его рекомендовали князь Чарторийский, Фридерик Мошинский, князь Сапега, Северин Потоцкий. И Людвика Любомирская приложила свою заботливую руку: «21 мая 1789 в Сосновцах. Взгляни, друг дорогой, на первую строчку и убедишься, что нахожусь в месте наших воспоминаний. И уехать отсюда не могу без того, чтобы не сообщить тебе о себе и не высказать желания узнать о тебе… Перед моим выездом из Варшавы был разговор о тебе, друг дорогой, и король, вспомнив касторку, которой ты его угостил, расчувствовался (а ты знаешь, что это ему дается легко), похвалил твое поведение в Америке и сказал, что, конечно, надо тебе обеспечить место в армии». 1 октября 1789 года король назначил Костюшко командиром бригады. Он получил должность, за которую надо было заплатить 100 тысяч злотых, он будет получать жалованье 12 тысяч злотых! Но не это радовало Тадеуша Костюшко — после стольких неудач он наконец-то добился главной своей цели: служить родине! Опять голубой мундир с красными отворотами, опять серебром шитый воротник. 3 февраля 1790 года генерал-майор Костюшко представлялся в Сохачеве своему начальнику, командиру дивизии генерал-лейтенанту Каролю Мальчевскому, старому кадровому офицеру. Тот принял его сухо, даже неприязненно. Ему не нравился энтузиазм, с каким молодые офицеры встретили нового бригадира. Эту свою неприязнь Мальчевский проявил на первом же товарищеском обеде. Бригадному генералу полагалось сидеть по правую руку командира дивизии, но на это место Мальчевский пригласил двадцатилетнего полковника князя Огинского, находящегося в Сохачеве проездом. После первого блюда, вытирая губы салфеткой, Мальчевский обратился к Костюшке: — В Америке вы командовали армией или корпусом? — Нет, генерал, я командовал значительно меньшим подразделением, но мое подразделение ни разу не бежало с поля боя. Мальчевский помрачнел — он понял намек: это он, Мальчевский, командуя уланским эскадроном, бежал с поля боя в битве под Тульчином. Но вместо того чтобы замять разговор, Мальчевский вздумал проучить «демократа». — Сразу видно, что вы инженер, что плохо разбираетесь в чисто военном искусстве. Позвольте вам заметить, что своевременное отступление подчас равно победе. — А мне, генерал, почему-то казалось, что есть разница между отступлением и бегством. Отступление— это военный маневр, отступление может быть вызвано стратегическими соображениями, но бегство всегда результат трусости. Офицеры прислушивались к диалогу между генералами, и по их лицам Костюшко видел, кто из них против него и кто ему сочувствует. Молодой князь Огинский, понимая, что хозяин попал в трудное положение, решил его выручить: — Генерал Костюшко, вы много лет жили в Париже, объясните мне, что там происходит. — Революция, — кратко ответил Костюшко. — Это я знаю, но мне казалось, что и в действиях революционеров должна быть какая-то логика. Они объявили, что люди рождаются и остаются свободными и равными в правах, и вдруг убивают «свободных и равных в правах» французов, которые по воле судеб оказались владельцами имений. Костюшко удивленно взглянул на Огинского. — Вы это серьезно? Ведь революция именно направлена против этих французов, которые, как вы изволили выразиться, оказались по воле судеб владельцами больших имений. Большие имения нескольких тысяч дворян стали причиной хронического голода миллионов крестьян. — И вы, генерал Костюшко, одобряете поведение этих разбойников? — раздраженно спросил Мальчевский. — Это, генерал, уже к делу не относится, — спокойно ответил Костюшко. — Но я все же скажу вам: понимаю французского крестьянина и разбойником его не назову. — Где вы набрались таких идей? — с прежней резкостью спросил Мальчевский. — Во Франции? В Америке? — Нет, генерал, в Варшаве. В Рыцарской школе. Огинский положил руку на руку Мальчевского. — Не стоит волноваться, генерал. У нас, слава богу, не будет революции. — Если вы ее не сделаете, — подхватил Костюшко. Огинский опешил: — Я… революцию… сделаю? — Не понимайте меня буквально. Не вы, князь Огинский, а все вы, владельцы больших имений. Вы не думаете о том, что наш хлоп тоже человек, что и он есть-пить хочет, что он предпочитает работать на себя, на свою семью, а не на пана. Вы об этом не думаете, а ваше недомыслие может вызвать революцию. Этой наглости генерал Мальчевский уже не мог стерпеть. Два-три года назад он прямо с обеда поехал бы в Варшаву с требованием «убрать из дивизии бунтовщика». Но… времена изменились, в стране происходит что-то непонятное. В Варшаву съехались представители буржуазии со всей Польши, и какой-то ксендз Гуго Коллонтай требует от их имени предоставления мещанам права личной неприкосновенности, права приобретения земельной собственности, права занимать высшие духовные и светские должности и даже представительства в сейме. Этот же Гуго Коллонтай не ограничивается одной только выработкой требований — он организовал делегацию. Одетые во все черное представители буржуазии направились к королю и вручили ему эти наглые требования. «Черная процессия» направилась и в сейм. Это было в конце прошлого года… Князь Огинский, один из самых крупных польских помещиков, задавал Костюшке вопросы не из праздного любопытства: он не понимал, что творится в мире. Революционные события во Франции, крестьянское движение на Украине и выступление польских мещан заставили сейм поторопиться с проведением реформ. Он утвердил предложения Коллонтая в защиту мещанства и «Принципы реформы правления», подготовленные Игнатием Потоцким. Все эти предложения и «Принципы», правда, не затрагивали осноз государственного строя, однако пользование «либерум вето» было ограничено. Огинский почувствовал беспокойство за завтрашний день… Мальчевский хотел стукнуть кулаком по столу, но Огинский перехватил его руку. — Генерал, не стоит волноваться и уж, во всяком случае, нечего портить себе аппетит из-за политики. Лучше скажите, уже получили новое обмундирование? — Крохи! — сердито ответил Мальчевский. — Панове депутаты наобещали с три короба, а мои уланы в холщовых портках щеголяют. Застольная беседа получила иное направление. В военных делах неразбериха. Решили создать стотысячную армию, а набрали не больше 30 тысяч. Поэт Заболоцкий по этому поводу даже песенку сочинил:
Армия в сто тысяч! Хвала богу!
Только и слышишь о нашей отваге:
Сто тысяч солдат! Хвала богу!
Но где же солдаты? Пока на бумаге!
Костюшко вызвали в Варшаву. Была весна 1790 года. Эхо революционных событий во Франции громом докатывалось до Польши. Французское национальное собрание приняло решение по крестьянскому вопросу, и хотя это решение лишь незначительно улучшало положение крестьян, но шумиха, поднятая в самой Франции, взбудоражила польскую общественность. Патриоты развернули работу в полную силу, а магнаты под влиянием «великого страха» стали изобретать авантюристические комбинации, чтобы задержать рождение новой жизни. Момент для своей политической авантюры магнаты выбрали удачно: Россия, воевавшая в это время с Турцией, была вынуждена вывести из Речи Посполитой большую часть своих войск, а Пруссия, беспрерывно интригующая против России, побуждала антирусски настроенных магнатов выступить против Екатерины, обещая им всемерную помощь в этой борьбе — вплоть до объявления войны Австрии, чтобы освободить захваченные ею польские земли и вернуть их Речи Посполитой. Предстояли большие передвижения воинских частей, в связи с этим и был вызван генерал Костюшко в Варшаву. Он туда прибыл рано утром, а совещание в Военной комиссии было назначено на вечер. Отдохнул в гостинице, переоделся и направился к своему другу Юлиану Урсыну Немцевичу на Медовую улицу. Предстоящая встреча его волновала: Немцевич готовился к выпуску первой в Польше политической газеты и, конечно, хорошо знал, что творится не только в Крае, но и во Франции. День был солнечный, но после утреннего ливня на тротуарах стояли еще лужи. Народу на улицах много, и Костюшке показалось, что все чем-то встревожены, будто спешат в одно место. Возможно, что впечатление тревоги создавали мчавшиеся на галопе уланы с почтовыми сумками у бедра. Когда до дома Немцевича осталось шагов тридцать, Костюшко вдруг остановился. Ведь не для свидания с Урсыном он гнал лошадей: Урсын — это луч, а не само светило, Урсын — это эхо, а не звук, рождающий это эхо. Костюшко гнал лошадей, чтобы успеть до совещания познакомиться и поговорить с Гуго Коллонтаем — с человеком, который вызывает ненависть у сторонников старых порядков и восхищение у приверженцев правды и справедливости. Коллонтай уже давно жил в сознании Костюшки бескорыстным Тимолеоном, для которого служба родине — единственная жизненная цель. И Костюшко отправился на Солец. Чем дальше от центра, тем лужи становились шире и глубже, а дома— ниже. Тянулись заборы — решетчатые и глухие, а поверх них деревья перебрасывали на улицу ветви с яркой молодой листвой. За заборами, склонившись, работали женщины на огородных грядках; мужчины покрывали крыши свежей соломой; дети вели хороводы, копались в песке. Часто на поворотах сверкала Висла, бурая, полноводная. Усадьба Коллонтая называлась почему-то «Паштет». Глухой забор охватывал несколько каменных и деревянных домиков. Рядом с калиткой висел почтовый ящик, поверх него — надпись: «Сюда опускайте свои просьбы». Костюшко ударил несколько раз по деревянному щитку висевшим тут же молотком. Из сторожки вышел пожилой человек, длинноволосый, длиннобородый. Он испытующе взглянул на генерала и сухо спросил: — Пану войсковому что нужно? — Хотел бы видеть пана подканцлера. — Как замельдовать? — Костюшко. Фамилия без всяких титулов не произвела впечатления на сторожа. Ничего не сказав, он захлопнул калитку. Выждав минут десять, Костюшко еще раз ударил по щитку — никакого ответа. А уйти, не повидав Коллонтая, не хотелось. Костюшко решил обойти забор: авось есть еще один вход. Тут раскрылась калитка, и молодой человек без шапки, в пышном черном галстуке, выступивший из-за спины сторожа, приветливо сказал: — До услуг пана генерала. Казимир Конопка, секретарь пана подканцлера. — Очень приятно, пан Казимир, — Костюшко протянул руку. — Могу я видеть пана подканцлера? — К сожалению, пан канцлер еще не приехал. Но скоро будет. Пан подканцлер будет очень огорчен. — Подожду, если разрешите. Липовая аллея вела к каменному дому с широким крыльцом. На верхней ступеньке крыльца стоял тонкий и длинный ксендз в черной сутане до пят. Он держал в руке пачку брошюр. Перед крыльцом шумела ватага мальчишек — босоногих, в холщовых рубахах, а то и без рубах. — Проповедь читает? — спросил Костюшко своего провожатого. — Ксендз Мейер, пожалуй, уже разучился проповеди читать. Он теперь пером проповедует. — Так это ксендз Юзеф Мейер? А хлопцы что тут делают? — Это они разносят по Варшаве искры из нашей кузницы. Мейер раздает им новый памфлет, и хлопцы разлетятся по городу, подбросят искру в карету ясновельможного, закинут в окно магнатского дворца, дадут на прочтение ремесленнику, в казармы проникнут… Костюшко только теперь понял, почему коллонтаевскую канцелярию зовут в народе «кузницей». Они поднялись на крыльцо. Ксендз Мейер кивнул генералу головой, но от своего дела не оторвался. Конопка ввел Костюшко в большую комнату. Вдоль стен — книжные шкафы; за столами — люди. — Генерал Костюшко! — торжественно объявил Конопка. Все поднялись из-за столов, подошли к гостю. — Генерал позволит мне представить ему кузнецов из коллонтаевской кузницы. — Конопка указал на стройного молодого человека с умным и приятным лицом. — Франтишек Езерский, славный автор «Катехизиса о тайнах польского правительства». — Вы автор этого шедевра? — удивился Костюшко, крепко пожимая тонкую руку молодого ксендза. — Пан Казимир не совсем точен, — ответил Езерский, не выпуская из своей руку Костюшки. — На книжке нет фамилии автора. Там указано, что книжка переведена с английского. — Понимаю, — сказал Костюшко, — опасаетесь, как бы я не выдал секрета? — Генерала Костюшко я в этом не подозреваю, — любезно промолвил Езерский. Конопка представил по очереди Марушевского, Трембицкого, Дмоховского и о каждом из них сказал несколько лестных слов, хотя и в ироническом тоне. Но нужды в рекомендации не было: Костюшко знал их работы. После этого они уселись. — Пан генерал рассказал бы нам об Америке, — попросил Конопка. Но рассказывать не пришлось: в коридоре послышались торопливые шаги. Конопка вскочил: — Пан подканцлер приехал! Прошу генерала! Кабинет был светлый; мебели — немного. Два человека, только что сбросившие плащи, стояли посреди комнаты. Один из них — Гуго Коллонтай, другой — главный маршалек литовский Игнатий Потоцкий. Два друга, а какие разные. Коллонтай — крупный, широкоплечий, резко очерченный подбородок круто выступает вперед. Из-под тяжелых век блестит живой, быстрый, властный взгляд. Он в черной сутане ксендза, но похож на воина, который поверх тяжелых доспехов надел легкий халат. Костюшко догадывался, почему этот человек с темпераментом бойца облачился в смиренную сутану: только она в тогдашней Польше давала возможность пробиться к рычагам управления. Коллонтай добился влияния в государственных делах — он сейчас занимает высокий пост коронного подканцлера и свой огромный авторитет обращает на благо народа. Еще трудясь в Эдукационной комиссии, Коллонтай писал, что молодой поляк должен получить такое воспитание, которое подготовило бы его стать спасителем отечества. Благо родины — его жизненная цель, и это привлекало Костюшко к Коллонтаю. Игнатий Потоцкий — ниже ростом, мельче и какой-то кукольный. Аккуратный парик обрамляет красивое лицо. Нос, губы, подбородок — все тонко отработано. Глаза — ясные и немного удивленные, как у девушки, впервые переступавшей порог бальной залы. И одет он точно для официального портрета: в светлом шелковом кафтане, с воланами кружев вокруг шеи… — Рад пожать руку мужественному генералу, — тепло сказал Коллонтай, узнав, кто его гость. — И я рад. Давно собирался к вам. Коллонтай усадил Костюшко на диван, сам устроился рядом с ним. — Скажите, генерал, почему ваши американцы так долго колдовали, прежде чем утвердить конституцию? Что они, решить не могли: республика или монархия? — Уверен, что все они за республику. —. Откуда такая уверенность? — Американцы не нация, это еще не оформившийся сплав из разных наций. Люди туда бежали от королей и навряд ли захотят посадить себе на шею короля. — Слышал, пан Игнатий? — обратился Коллонтай к Потоцкому. Потоцкий пододвинул кресло к дивану, уселся. — Вы правы, генерал, — сказал он, — воспоминания, особенно неприятные, оказывают психическое давление при решении политических вопросов. Но мы, поляки, оформившаяся нация. У нас имеются неприятные воспоминания, но они связаны с нашим историческим прошлым. Наши воспоминания постоянный фактор, и он не оказывает на нас психического давления. Кроме того перед нами не стоит выбор: король или республика. Мы — с королем, против анархии… — Подписываюсь обеими руками, — чуть громче, чем хотел, проговорил Костюшко. — Но, пане маршалек, достаточно ли у вас времени для того, чтобы двигаться к цели черепашьим шагом? На нас наседают справа и слева. Коллонтай пристально приглядывался к Костюшке. Он, видимо, решил не принимать участия в споре. — А вы за союз с кем? С правым соседом или с левым? — спросил Потоцкий. — Ни с правым, ни с левым, — ответил Костюшко. — Я за союз с польским народом. — Это уже не черепаший шаг, милый генерал, — добродушно сказал Потоцкий. — Это бег на месте. — Тем настоятельнее нужны реформы, — подхватил Костюшко. — Ведь и вы, пан маршалек, не сомневаетесь, что любой союз овцы с волком кончается плачевно для слабой овцы. — Уж такие мы слабые овцы? — Да, пан маршалек! Армия сильна народом, а польский народ — в кулаке у помещиков. Если не разжать этот кулак, не будет у нас сильной армии. — Слышал, пан Игнатий? — опять спросил Коллонтай. — Слышал, пан Гуго, — мягко промолвил Потоцкий, — но мне кажется, что наш милый генерал слишком долго жил в Америке. Коллонтай поднялся, распахнул окно. Комната сразу наполнилась шумом листвы. Постояв немного у окна, Коллонтай снова сел на свое место, достал из кармана платок, вытер им руки. — Генерал, в прошлом году ворвалась в мир новая сила, — сказал он громко, точно и за окном собрались слушатели, — и эта сила заставит наших соседей задуматься, прежде чем броситься на нас. Дело идет к всеобщей войне народа против господ и всеобщему союзу господ против народа. К этой войне должны готовиться и мы. Когда революция во Франции победит, — добавил он, ударив себя кулаком по колену, — ураган ворвется и во дворцы наших соседей! — Он поднялся. — Рад был с вами познакомиться, генерал. И приятно, что вы оказались именно таким, каким я себе вас представлял. Надеюсь, что это не последняя наша встреча. — И я надеюсь!
Генерала Мальчевского убрали. Командующим дивизией был назначен племянник короля двадцатидвухлетний князь Юзеф Понятовский, бывший австрийский полковник, произведенный дядей в генерал-лейтенанты. Юзеф Понятовский, несмотря на свою молодость, прекрасно разбирался в людях. Своего заместителя, генерала Костюшко, он оценил сразу. Предстояли большие маневры, а красавца Понятовского настойчиво звали в Варшаву две хорошенькие женщины: француженка Зеле и польская актриса Ситаньска. В июльское утро был получен приказ: выступить к Люблину. Костюшко поднял дивизию по тревоге, и, чего раньше не бывало, всего три часа потребовалось на то, чтобы многотысячное войско, со складами и обозами, двинулось в путь. Костюшко подъехал верхом к дому Понятовского, чтобы вместе с ним возглавить поход. Понятовский поджидал его на улице. — Поехали, князь. — Поехали, генерал, но в разные стороны. Я — в Варшаву, а ты веди дивизию. — Князь… — Не надо морали, Костюшко. Я знаю: молодость, легкомыслие… Знаю, что ты хочешь сказать. Свой отъезд я согласовал с королем, приказ подписан, ты полный хозяин дивизии. И лучшего хозяина сам безгрешный. папа римский не найдет. В Люблине Костюшко поступил в распоряжение князя Людвика Вюртембергского, зятя князя Чарторийского. Знойные месяцы, но Костюшко, не считаясь с солнцем, проводил изнурительные учения. В эти месяцы получила широкое распространение книга Станислава Сташица «Предостережения Польше». Сташиц как бы высказал вслух мысль Костюшки: «Делайте из шляхетской и мещанской молодежи один народ… Давайте им почувствовать, что если они будут держаться друг друга, то Польша сделается свободной, могучей и славной». В эти месяцы еще резче и активнее выступали Гуго Коллонтай и его «кузнецы». В стране четко обозначились границы между борющимися группами. Патриотическая партия стремилась к реформе государственного строя. Эта партия была неоднородна по своему составу: правое крыло (Игнатий Потоцкий, князь Чарторийский, Станислав Малаховский) представляло интересы прогрессивной части шляхты; левое крыло, возглавляемое Гуго Коллонтаем, выражало интересы третьего сословия. Старошляхетская партия (великий коронный гетман Ксаверий Браницкий, гетман Жевусский, Щенсный-Потоцкий) решительно выступала против каких бы то ни было реформ. Кроме этих двух основных партий, была еще небольшая «партийка короля». В состав этой «партийки» входили люди, находящиеся на иждивении русского посланника Штакельберга. Они добивались усиления королевской власти. Каждая группа старалась привлечь на свою сторону одно из соседних государств, и все они, за исключением «партийки короля», воевали с Постоянным советом — влиятельным органом высшей власти, где безраздельно властвовал Штакельберг. В январе 1789 года сейм принял решение об упразднении Постоянного совета. Штакельберг ответил на это резкой нотой; решение сейма, писал он, является нарушением договоров с Россией. На эту ноту отозвался прусский король, он провокационно заявил, что готов защищать независимость Польши, и торжественно обещал не вмешиваться в ее внутренние дела. Влияние Штакельберга было подорвано: царская Россия предстала перед польским народом как враг польской независимости. Можно было ожидать, что Польша перейдет во враждебную России группировку держав. Уже делались первые попытки к обострению польско-русских отношений: сейм вынудил Штакельберга вывести из Польши провиантские магазины; настоял сейм и на том, чтобы русские войска, двигаясь на турецкий фронт, не проходили через польскую территорию. Русско-турецкая война приняла затяжной характер, и враждебные действия со стороны Польши могли еще больше усложнить обстановку. Прусский король, этот хищник, рвущийся к добыче, был достаточно умен, чтобы не показать своих когтей, и достаточно изворотлив, чтобы «урвать кус» при любом исходе своей дипломатической игры. От провокационных заявлений он перешел к провокационным действиям. В январе 1890 года Пруссия подписала в Константинополе договор, по которому обязалась объявить России войну и не прекращать ее до тех пор, пока Россия не уступит Турции Крыма. В эту сделку прусский король втянул и Польшу — от ее имени он обязался послать в помощь Турции 24 тысячи польских солдат. Россия ответила на константинопольский договор заключением мира со Швецией, а решительные победы Суворова при Фокшанах и Рымнике ускорили победу над турками. Вся коварная интрига Пруссии потерпела фиаско. Бесконечно тянулись заседания Четырехлетнего сейма. 3 мая 1791 года опять собрались в Варшаве депутаты. Огромная толпа мещан, ремесленников и интеллигенции заняла всю Замковую площадь. Много народа проникло и в зал заседаний. На повестке дня стоял тогда один вопрос: утверждение конституции. Ораторов, выступавших за утверждение новой конституции, награждали бурными аплодисментами, забрасывали цветами. Выступавших против освистывали, ругали, поносили. Новая конституция была принята почти единогласно. Сословные начала сохранились полностью, но безземельная шляхта — именно та ее часть, которая была игрушкой в руках магнатов, — отстранялась впредь от участия в политической жизни: оружие мелкой шляхты «либерум вето» (знаменитое «Не позвалям!») было уничтожено. Горожане получили гражданские права. Только для крестьян ничего не изменилось: они, правда, перешли «под опеку закона», но как были крепостными, так и остались. «Конституция 3 мая» была встречена народом с огромным воодушевлением. Для национального возрождения открылся широкий простор. Но магнаты, справедливо видя в конституции угрозу своей власти, вернее своему своеволию, собрались в Тарговицах на конфедерацию. Возглавляли эту конфедерацию Щенсный-Потоцкий, Жевусский, Браницкий, литовский архиепископ Шимон Косаковский и папский агент кавалер Нани. Щенсный-Потоцкий и Жевусский выехали в Петербург с поручением упросить Екатерину ввести свои войска в Польшу, эти же польские магнаты разработали вместе с русскими генералами планы военной кампании против своей родины. Руки России были тогда развязаны. В Яссах уже велись мирные переговоры с турками. Австрию отвлекала борьба с революционной Францией. Пруссия состояла в союзе с Австрией. Екатерина II в страхе перед польской «пугачевщиной» приняла предложение тарговичан. На ослабленную внутренними раздорами Польшу надвигалась катастрофа, но польских магнатов это не смущало: они уже давно выродились в паразитическую клику, враждебную интересам своего народа. Они, польские магнаты, не только не пытались предотвратить национальную гибель — они сами толкали свою страну в пропасть. Тут опять вмешался коварный прусский хищник. Потерпев поражение в своей подлой дипломатической игре, Фридрих Вильгельм решил заключить договор с Екатериной и, разумеется, за счет Польши. Пруссия предложила новый раздел Речи Посполитой. Екатерина согласилась, хотя новый раздел Польши знаменовал провал русской политики в польском вопросе: царская Россия хотела превратить Польшу в слабую, зависимую от нее страну, и Екатерина согласилась на раздел только потому, что страх перед Французской революцией толкал ее на сближение с реакционной и милитаристской Пруссией. Русские войска, а с ними и войска тарговичан вступили в Польшу.
Костюшко получил приказ срочно выступить к русской границе. Форсированным маршем повел он свою дивизию через Холм, Луцк, Дубно. Новый приказ остановил его в Меджибоже. Сияло солнце, сияли белые хаты, сады были полны певучей жизни, но в глазах крестьян, жавшихся к своим халупам и наблюдавших, как офицеры размещают солдат, светилась печаль. Для них каждое войско означало постои, кражи, насилие. Они еще не забыли жестокости гетмана Браницкого в недели Барской конфедерации. Жизнь в дивизии текла по заведенному порядку: беседы, учения, рытье окопов, маневры. Бригада Костюшки входила в состав брацлавско-киевской дивизии князя Юзефа Понятовского. Бригада состояла из нескольких кавалерийских эскадронов, трех батальонов пехоты и двух артиллерийских батарей. Молодой князь Понятовский часто уезжал в Варшаву, и вместо него командовал дивизией Костюшко. У польской армии были свои сложившиеся веками традиции. Дисциплина существовала только для солдат; офицер — гость в полку, а генерал признавал только одного начальника: самого себя. Единого воинского устава не существовало: в армии служили офицеры из Австрии, Пруссии, Франции, и каждый из них обучал солдат по своему уставу. Костюшко, приняв командование дивизией, сразу внес в нее новый ритм и новый дух. Он выработал единую программу занятий, сам беседовал с солдатами и заставлял офицеров сблизиться со своими подчиненными, а генерала Чапского, не желавшего подчиниться новому порядку, отчитал перед строем, не щадя его ясновельможного гонора. Костюшко сделал с брацлавско-киевской дивизией то, что он сделал со своими мархевками: сделал ее боеспособной. Костюшко жил в Меджибоже — бойком торговом местечке. Одноэтажные домики кольцом окружали базарную площадь, а от площади, как спицы в колесе, отходили тихие переулки. В одной из этих спиц, в Костельном переулке, поселился Костюшко со своими двумя адъютантами: Княжевичем и Фишером. Рано утром к крыльцу подавали лошадей. Костюшко ловко вскакивал на своего коня, серого, с черной полосой во всю спину, и в сопровождении адъютантов уезжал в поле, где уже шли учения. С первых чисел мая дули ветры, отгоняя дождевые тучи, потому и колос в поле стоял желтый и сухой. Листья на деревьях казались покрытыми пылью. Княжевич и Фишер смотрели на посевы глазами помещиков: пустой колос — пустые закрома, а пустые закрома — пустой кошелек. Мысли Костюшки текли по иному руслу: засуха охватила не только Подолье, но и всю Волынь. Надвигается народное бедствие. Выстоит ли голодный народ именно сейчас, когда предстоит война? И к тому еще народ обиженный, обманутый. Костюшко видел, с какими каменными, замкнутыми лицами солдаты слушали текст «Конституции 3 мая». Они произносили слова присяги глухими, невнятными голосами, они не ликовали, да и повода для ликования у них не было: новая конституция ничего им не дала. Где же силы, которые помогут Польше победить? Армия? Американский солдат шел в бой с кличем: «Liberty!» В этом слове цвела его мечта о счастливом будущем. Это слово наделяло его отвагой. А наш солдат? С каким кличем пойдет он в бой? Для него слово «Wolnosc» лишь горькое напоминание о рабстве. Костюшко примирился бы с этим — он верил, что в конце концов польский хлоп получит свободу, но то, что он слышал у себя в полках, вселяло тревогу за судьбы родины. Часто вечерами, закутавшись в плащ, ходил Костюшко мимо халуп, где были расквартированы его солдаты. Слышал обрывки разговоров, вслушивался в песни. Солдаты недовольны. Это естественно: хлоп, одетый в военный мундир, продолжает жить интересами своей семьи, своей деревни. Но в отличие от прежних лет солдат уже не жалуется на свою горькую долю, он уже не поет жалостливых песен. Одна из новых песен особенно растревожила Костюшко:
Сегодня народ уж требует.
Сегодня народ уж требует,
Железа, пороха и хлеба требует.
Железа, пороха и хлеба требует.
Железо нужно для работы,
Порох нужен для борьбы,
А хлеб — голодным братьям.
Трепещет враг, ждет беды!
А хлеб — голодным братьям.
«Ура!» — гремит. «В могилу бар!»
Гей, вперед! Вперед! Вперед!
«Аристократов на фонарь!»
Гей, вперед! Вперед! Вперед!
6 мая 1792 года король назначил Юзефа Понятовского командующим коронными войсками, а князя Людвика Вюртембергского — литовскими. Обе армии должны были отступать от границ, сосредоточиться в центральной Польше и соединиться с тридцатитысячным корпусом пруссаков, который Фридрих Вильгельм обещал послать в помощь своему польскому союзнику. 10 мая прибыл Юзеф Понятовский на Подолье и обосновался со своим штабом в Тульчине, во владении Щенсного-Потоцкого, в то время когда сам Щенсный-Потоцкий вместе с гетманами Браницким и Жевусским находились в главной квартире царской армии, уже выступающей к польским границам. К польским границам двигались две русские армии: шестидесятичетырехтысячная северная, под командованием генерала Кречетникова, должна была через Литву идти к Варшаве, а тридцатидвухтысячная южная, под командованием генерала Каховского, направлялась также к Варшаве через Подолье. Вместе с армией Каховского шли войска польских магнатов: Браницкого, Жевусского, Щенсного-Потоцкого, — они шли, чтобы вернуть золотое время шляхетской анархии. Они, тарговичане, предатели, несли своей родине подлую братоубийственную войну во имя сохранения тех порядков, которые довели Польшу до катастрофы. Но Юзеф Понятовский и его штабные офицеры смело смотрели в будущее. В обеих русских армиях насчитывалось 96 тысяч солдат, в польской — 65 тысяч и обещанный пруссаками корпус. Силы равные. Началась война. Началась она с измены командующего литовской армией князя Вюртембергского. Он выдал генералу Кречетникову планы кампании и сам перешел на сторону русских. Литовская армия отошла к Бугу, оставив неприятелю Вильнюс, Каунас, Гродно.
Заиграли трубы, забили барабаны. Дивизия выступает. Впереди — Костюшко, строгий, замкнутый. Все местечко на улице. Народ, который в прошлом году встретил прибывшее войско молча и напряженно, сегодня искренне огорчен: дивизия уходит, уходят хорошие люди: солдаты не рыскали по домам, не озорничали. Уходят хорошие люди, уходят на войну. Навстречу Каховскому двинулось семнадцатитысячное войско Юзефа Понятовского. 17 тысяч! Горсточка по сравнению с армией Каховского, но эта горсточка смело пошла на сближение с противником, воодушевленная не только любовью к родине и ненавистью к предателям тарговичанам, но и с надеждой, что король Пруссии окажет им военную помощь согласно трактату 1790 года. Понятовский разделил свою армию на пять дивизий: генерала Михаила Любомирского послал в Дубно, генерала Вьельгорского — под Чечельник, полковника Гроховского — в Могилев, генерала Костюшко — в Фастов, а сам с 3 тысячами кавалеристов ушел под Брацлав. Костюшко, получив приказ о расчленении армии, написал Понятовскому протест: «Нам надо сначала сбить хотя бы одну неприятельскую колонну до того, как все они соберутся вместе… Как может каждый наш отряд действовать против какой-нибудь дивизии неприятеля, если численность каждой неприятельской дивизии больше, чем все польское войско». План Костюшки — всем войском последовательно атаковывать отдельные неприятельские колонны — не был принят. Началось движение частей по плану Понятовского. 30 мая сошлись возле Любара дивизии Понятовского, Костюшки, Вьельгорского и Гроховского. Но не успели солдаты отдохнуть после форсированного марша, как появились перед ними войска Каховского, а одна из его дивизий, генерала Леванидова, шла наперехват дороги в Полонное — там были размещены польские обозы и склады. Понятовский послал Костюшко против Леванидова, а сам со своей армией отэшел от Любара. Поляки отступили так стремительно, что Каховский, бросив в атаку Олонецкий полк, столкнулся только с арьергардом дивизии Вьельгорского. Костюшко пришел в Полонное раньше Леванидова. Туда же, в Полонное, прибыл и Понятовский. Он отправил в тыл интендантское имущество, а сам со своей кавалерией двинулся к Заславу; Любомирскому же приказал выслать заслон к деревне Зеленцы. Под Заславом поляки натолкнулись на отряд генерала Маркова и после короткой стычки отступили до Острога. Там Понятовский хотел закрепиться, но русские, идущие по следу, вынудили его оставить город. Отступление армии Понятовского прикрывала дивизия Костюшки. Она шла вслед Леванидову и короткими стычками сдерживала русских, мешая им соединиться с генералом Марковым. Узнав, что Понятовский дошел уже до Шепетовки, Костюшко оторвался от Леванидова и форсированным маршем поспешил к Понятовскому. Князь Любомирский выполнил приказ Понятовского — выслал кавалерийский отряд к Зеленцам. Вечером этого дня туда же прибыли части генералов Зайончека и Трокина. Каховский направил Маркова наперехват эвакуированных из Полонного польских обозов, а сам отправился к Шепетовке. У деревни Зеленцы Марков неожиданно натолкнулся на отряды Любомирского, Зайончека и Трокина. Зная, что параллельно ему двигается дивизия Леванидова, генерал Марков принял бой, не считаясь с численным превосходством неприятеля. Но Леванидов не мог оказать помощи Маркову: между ним и Марковым вклинился Костюшко, который силами всей своей дивизии предпринимал короткие атаки. Марков сражался в тяжелых условиях — он очутился в кольце, которое с часу на час смыкалось все теснее. Его положение стало еще более трагическим, когда на поле боя неожиданно выскочил Понятовский со своими кавалеристами. Только случай выручил Маркова: генерал Чапский не выполнил распоряжения Понятовского и не двинул своей бригады в Зеленцы, — это дало возможность Маркову вывести остатки своей дивизии и уйти от разгрома. Бой закончился к полудню. Генерал Марков спешно отступил. Понятовский его не преследовал: ускакал со своими кавалеристами обратно в Шепетовку, ускакал так же внезапно, как и появился у Зеленцов. Над дивизией Костюшки нависла угроза: с одного фланга наседал на него Леванидов, с другого — генерал Марков, вышедший из-под удара Понятовского. Пробиться через сильного неприятеля Костюшке не удалось. Он бился дотемна и только под покровом ночи выскользнул из окружения. Утром 19 июня Костюшко уже был в Заславе. Армия Понятовского опять соединилась. Тут вмешался новый предатель — князь Михаил Любомирский. Он должен был заготовить для армии провиант и фураж. Этого он не сделал — не только не заготовил, но и тот, который был заготовлен до него, разбазарил. Свое подлое дело сделал князь Любомирский по сговору с генералом Каховским: этим он спасал свои имения от конфискации. Армия осталась без хлеба и без фуража. Понятовский решил отступить к Бугу, чтобы, перебравшись через реку, вступить в хлебные районы. Но помешал Каховский — его казаки появились на берегу реки до прихода туда польской кавалерии. Понятовский закрепился на высоком берегу Буга, чтобы, сдерживая неприятеля частью своих сил, дать возможность остальным дивизиям переправиться на другой берег. Оборону моста у деревни Дубенка он поручил генералу Костюшке. У поляков в трех дивизиях: Понятовского, Вьельгорского и Костюшки — было 6 тысяч солдат и 10 орудий, у русских — 18 тысяч бойцов и 60 орудий. Позиция у Дубенки почти дублировала позицию у американской деревушки Сарагота: река, болото, лес на крыльях. В мыслях Костюшки всплыло героическое прошлое, и вместе с гордостью за былой успех родилось у Костюшки желание повторить Сараготу. Костюшко не обманывал себя: он понимал, что бой у Дубенки не может привести к таким историческим последствиям, к каким привел бой у Сараготы, — для этого у Костюшки и недостаточно живой силы и недостаточно времени для подготовки позиции. Однако, решил Костюшко, бой у Дубенки при благоприятном его исходе может стать переломным моментом в этой несчастной войне. Костюшко собрал своих офицеров, рассказал им, чего добились американцы, выиграв сражение у Сараготы, и тут же мастерски сделанными чертежами убедил своих слушателей, что позиция у Дубенки таит в себе надежду на успех. — Враг, — сказал Костюшко, — идет по нашему следу, мы сами ведем его к Варшаве, к сердцу нашей страны, и не пытаться задержать врага, замедлить его движение — преступление перед родиной. Офицеры с энтузиазмом одобрили идею своего начальника: не отступать, а принять бой. Костюшко сжег мост через Буг и свой лагерь расположил таким образом, чтобы, опираясь левым крылом на лес и на австрийскую границу, правым крылом — на деревню Уханку, а перед собой иметь болото как естественную преграду. Флешами, батареями, засеками он загородил правое и левое крыло, а пехоту посадил в тройной ряд окопов, лицом к болоту. Если неприятелю удастся переправиться через Буг выше Дубенки, он натолкнется на дивизию Понятовского, усиленную частями полковника Гроховского и майора Красицкого. 17 июля Костюшко узнал, что главные силы Каховского перешли Буг у Кладнева, так что они должны пройти мимо Дубенки. Он тут же сообщил Понятовскому: «Завтра я буду атакован. Прошу, чтобы его светлость князь добродей приблизился ко мне для поддержки в случае нужды, а Вьельгорский пусть охраняет Опалино. Если он дрогнет, неприятель легко победит другие колонны…
Т. К., г-м 17 июля 1792».Но 18 июля появились в тылу Понятовского казачьи разъезды; полагая, что на него надвигаются главные силы русских, Понятовский сам отступил и приказал отступить Вьельгорскому. Но план Костюшки он одобрил и заклинал его держаться как можно дольше, чтобы дать возможность другим дивизиям переправить свои обозы за Буг. Передовые части Каховского двигались к Дубенке. На рассвете — в тихий июльский рассвет — полетели в лагерь Костюшки сотни снарядов. Вслед за артиллерийским огнем пошла в наступление русская пехота. Конные кирасиры бросились на правое крыло, чтобы выйти в тыл Костюшке, а две казачьи сотни лавой мчались к деревне Уханка. Русские уже теснили поляков на обоих флангах, но к центру добраться не могли — не могли преодолеть болото. Костюшко наблюдал за ходом боя с невысокой насыпи. Его ожидания оправдались. Каховский действовал точно так, как действовал английский генерал Бергойн: пехоту он пустил в центр, кавалерию — на фланги. Русская пехота топчется на месте, а кавалерия с трудом преодолевает засеки и ловушки. Небо как бы запорошило мутной пылью — жарко и душно. Люди двигаются, точно нехотя, даже артиллерия бьет с большими перерывами. Вот опять пошла в наступление русская пехота. Костюшко насторожился: пехотинцы несут вязанки хворосту. Этим хворостом они мостят болото. — Фишерек! Скачи к Чапскому! Костюшко не закончил приказа: в эту минуту сам Чапский выслал из первого окопа человек пятьдесят, они рассыпались цепью и ружейным огнем задержали русских пехотинцев. Каховский, впервые столкнувшись с хорошо организованным сопротивлением, решил изменить фронт наступления. Он переправил полк елизаветградских гусар через Буг, чтобы со стороны Австрии, в обход укрепленной позиции Костюшки, ударить в тыл полякам — ударить с той стороны, откуда Костюшко не ждал нападения. Вся эта операция была произведена скрытно и так успешно, что Костюшко разгадал маневр врага только тогда, когда елизаветградцы уже находились в его расположении. Полковник Палембах, командир елизаветградцев, ворвался в лагерь и с ходу захватил две батареи. На подступах к третьей он наскочил на пехотное каре, построенное Княжевичем. Полковник Палембах был убит. Гусары повернули коней, но не обратно к реке, а, выписав полукруг, ринулись в тыл польским окопам. В это же время пошла в наступление и русская пехота, а из лесов на флангах, преодолев засеки и ловушки, появились казаки. Темп боя сразу ускорился. На поле вышли свежие русские роты. Стреляя на ходу, они все глубже проникали в польскую оборону. Солдаты Костюшки дрались с ожесточением. Они видели своего командира впереди себя и рядом с собой; они, точно проникнув в патриотическую идею своего начальника, напрягали силы, чтобы стать достойными этой высокой идеи. Уже полегло девятьсот человек — большая часть дивизии, а бой все не затихал. Костюшко все еще формировал летучие отряды, все еще бросался в контратаки, все еще слышали его клич: «За мной, зухы!» Костюшко достиг своей цели: он удержал поле боя до заката. И убедился, что с таким народом можно победить.
Юзеф Понятовский увел свои части в глубь страны, под Люблин. Он уже знал, что король прусский, на помощь которого Польша рассчитывала, вероломно расторг договор о дружбе под наглым предлогом, что «Конституция 3 мая» была принята без его ведома. Но под Люблином ждал Понятовского новый удар: его дядя, король Станислав Август, перешел на сторону Тарговицы. Эта весть прозвучала, как похоронный звон. Ведь еще недавно, на сейме 22 мая, Станислав Август торжественно заявил: «Верьте, когда наше дело потребует мою жизнь, я ее отдам». Он же всего несколько дней тому назад призывал «к борьбе, к спасению отечества» — и вдруг связался с предателями. Король-предатель! Эти слова были у всех на устах: у солдат и у офицеров. Юзеф Понятовский не поверил постыдным слухам; 25 июля он написал королю: «Ходят по армии слухи, которые, по всей вероятности, распространяются людьми, недоброжелательно относящимися к Вашему Королевскому Величеству, будто Ваше Королевское Величество вошло в сговор с предателями отчизны… Подлость сближения с ними была бы нашим гробом. Эти чувства, Найяснейший Пан, имею честь довести до Вашего сведения». Но это была правда: король действительно оказался предателем. Он предал государство, отдав себя под опеку чужеземных войск, он предал справедливость, вручив власть изменникам-тарговичанам, он предал польский народ, перед которым «Конституция 3 мая» открывала путь к лучшему будущему. Юзеф Понятовский и почти все офицеры его армии подали в отставку — они не хотели служить предателям. 30 июля 1792 года Костюшко написал королю: «Ввиду того, что перемена обстоятельств в стране противоречит моей присяге и внутреннему убеждению, имею честь просить В. К. В. подписать мою отставку.
Тадеуш Костюшко, ген. — майор».Король-предатель не хотел принять отставки Костюшки: он наградил его высшим орденом и личным письмом пригласил в Варшаву.
Костюшко поехал в Варшаву с адъютантом Фишером. Он хотел высказать королю все те горькие мысли, что теснились в его голове. Офицеры, и именно те, которые могли бы принести Польше обновление, уходят из армии. А солдаты? Тем ведь некуда уходить: они останутся со своими тяжелыми думами. В стране будут хозяйничать предатели-тарговичане, будут хозяйничать русские и пруссаки. А народ? С отчаяния не схватится ли он за вилы, за веревку, за французскую гильотину? Костюшко спешил: он хотел приехать в Варшаву до того, как генерал Каховский войдет в город с развернутыми знаменами; до того, как предатели-тарговичане начнут распоряжаться в столице. Варшава встретила Костюшко обычным столичным шумом, но в этом шуме было и что-то новое: тарахтели телеги, повозки, фургоны, груженные домашним скарбом, носились верховые, мчались кареты, и все двигалось в одну сторону — к Люблинскому тракту. Лавки, рундуки — на запоре, а перед ними толпы народа: галдят, спорят, возбужденно размахивают руками. На площади перед костелом св. Креста черными холмиками лежали сотни женщин — их молитва звучала тревожно и тоскливо, как рокот Вислы в непогоду. Даже в аристократической части города — Краковском Предместье, Маршалковской, Новом Свете — необычное оживление, и тут перед домами стояли кареты, и тут грузили домашний скарб на телеги. Лазенки. Дворец на берегу озера. Густой парк. Цветочные клумбы. Костюшко приподнялся… Вон там, в той аллее, он ждал прихода Людвики. — Что вас заинтересовало, генерал? — спросил Фишер. Костюшко опустился на сиденье и спокойно ответил: — Она не пришла, мой Фишерек. Поручик Фишер, этот умный и чуткий юноша, понял, что Костюшко отвечает не ему, а каким-то своим мыслям, и больше вопросов не задавал. Всю дорогу Костюшко сидел с закрытыми глазами, но Фишер знал, что его начальник не спит, что он весь во власти тревожных мыслей. Но вот уже Лазенки — пора дать его мыслям иное направление, однако Костюшко своим спокойным и непонятным ответом захлопнул дверь перед самым носом адъютанта. Во дворце их ждали. Отвели комнаты, где они почистились, отдохнули. Фишер ухаживал за своим начальником, как за ребенком. Костюшко ему подчинялся, ел, пил, но все молча. В пять часов их пригласили на террасу. Им навстречу с протянутыми руками шел король в парчовом кафтане, в белых высоких чулках, в черных лакированных туфлях. Шел на толстых подагрических ногах. Лицо одутловатое, под глазами мешки. На висках бьются синие жилки. Бывший красавец, бывший любовник разборчивой императрицы сейчас напоминал Костюшке футляр из-под духов: футляр сохранил форму лежавшего в нем флакона, сохранил воспоминание о тонком запахе, но футляр пуст… пуст… — Дорогой Костюшко, рад приветствовать тебя в своем доме. Я счастлив, что наконец-то вижу на твоей груди высокий орден. Ты эту награду давно заслужил. — Он взял с круглого столика лист твердой бумаги. — Позволь мне, дорогой гость, в знак моей признательности за храбрость и верную службу вручить тебе патент на звание генерал-лейтенанта и шефство над четвертым полком Польской коронной булавы. Король говорил быстро, словно опасался, что Костюшко не даст ему закончить. Костюшко немного растерялся: в прежнее время этот же король говорил с ним одними глаголами, а бывало, и одними междометиями, а тут он строит фразы по всем правилам грамматики. И сколько патоки в каждой фразе! Костюшко принял патент, сдержанно поблагодарил и закончил спокойным голосом: — Прошу вашу королевскую милость освободить князя Юзефа Понятовского, меня и моих коллег-офицеров от службы вашему величеству. — И, взяв у Фишера папку с рапортами, положил ее на круглый столик. — Костюшко, дорогой мой Костюшко, ты ведь знаешь, как я ценю мужество моих офицеров. Ты ведь знаешь, что я люблю князя Юзефа, как сына. Произошло недоразумение, дорогие мои, досадное недоразумение. Князь Юзеф и ты, дорогой мой Костюшко, не знаете, что предо мной стоял выбор: или Тарговица, или поспульство[35] с этим якобинцем Коллонтаем. — Тарговица — это неволя, ваша королевская милость. — Так останьтесь в армии. Вас много, и вы поставите Тарговицу под себя. — Ваше величество, ни князь Юзеф, ни офицеры, ни я не пойдем на аксес[36]. Король опустился в глубокое кресло, достал из жилетного кармана хрустальный флакон, откупорил его, натер себе виски каплей эссенции. — Аксес… Аксес, — сказал он усталым голосом. — Со стороны все кажется страшнее. — Он поднялся, положил хрустальный флакон на папку с офицерскими рапортами. — Скажи, Костюшко, князю Юзефу, что я его прошу приехать в Варшаву. Он меня поймет. — Передам, ваше величество. Я выеду сейчас же, как только ваше величество подпишет нашу отставку. — А если не подпишу? — вскинув голову, строго спросил король. — С изменниками служить не будем! Костюшко произнес эту фразу резко, почти грубо: Станислав Август Понятовский уже не казался ему символом величия Польши. В эту минуту вышли на террасу дамы — впереди пани Грабовская, сохранившая, несмотря на преклонный возраст, тонкий стан и кукольное личико. Король оживился: танцующим шагом подошел он к Грабовской, взял ее за руку, подвел к Костюшке. — Вот он, ласкава пани, это и есть наш славный генерал Костюшко. Он окажет нам честь и сегодня поужинает с нами. А это его адъютант, пан поручник… — Фишер, — подсказал Костюшко. — Пане генерале, — приветливо сказала Грабовская. — Чем вы обворожили его милость короля? Он влюблен в вас. — А он меня огорчает, — капризно промолвил Станислав Август. — Пане генерале, что я слышу? Немедленно поклянитесь, что больше не будете! Нельзя огорчать своего короля! Костюшко поднял руку. — Клянусь, ласкава пани, как только его величество подпишет несколько бумажек, я, Тадеуш Костюшко, больше не стану огорчать его королевское величество. — Ваше величество, — обратилась Грабовская к королю. — Ему можно верить, у него честные глаза. Он вас больше огорчать не станет.
Костюшко и Фишер выехали из Варшавы на рассвете. Улицы были оживленны, и сотни телег, повозок, фургонов и карет двигались, как и накануне, в сторону Люблинского тракта. Могло казаться, что все население бежит из города. — Неужели конец? — с тоской спросил Фишер. — Наоборот, мой Фишерек, только начало. — Не понимаю. — А я тебе объясню. Панове магнаты своей подлостью разбудят национальную гордость даже у таких, у кого она спала непробудным сном. — Значит… — Ничего не значит, мой Фишерек. Важно лишь, где народ остановится. Если у нас произойдет то, что во Франции, то в Польше не хватит ни фонарей, ни веревок. В народе накопилось слишком много злобы против панов. — В таком случае, выходит, прав был король. — Нет, мой Фишерек, король не прав. Тарговица — позор, а революция — катастрофа. Если бы мне предложили выбор, я выбрал бы катастрофу. И к тому же, мой Фишерек, у короля был еще и третий выход: кликнуть клич «Польша в опасности», стать во главе армии, а во имя спасения Польши народ прекратил бы внутреннюю свару.
17 августа вошли в Варшаву войска генерала Каховского. Вскоре появились и тарговичане. Праздничным звоном встретили их колокола всех костелов, с окон свисали ковры, в домовых нишах были установлены алтари, и, как в «день божьего тела», горели там свечи, и ксендзы в кружевных накидках беспрерывно правили службу. Потом началась «варфоломеевская ночь», но в отличие от французской польская варфоломеевская ночь длилась недели. Тарговичане вешали, жгли, пытали — они вытравляли дух «Конституции 3 мая», они расправлялись со всеми, кто так или иначе был причастен к идее создания Новой Польши. Народу было не до воспоминаний о недавних военных событиях. Зато заговорила о них Европа, в первую очередь Франция. Официальная газета «Монитор» 25 июля посвятила статью победителю под Дубенкой, а Законодательная ассамблея 26 августа даровала Костюшке звание «почетного гражданина Франции» за Дубенку и за его участие в североамериканской революции. О Костюшке писали, что он «посвятил свое время и силы борьбе народов против деспотизма». Имя Костюшки стало символом мужества и преданности народному делу.
ГЛАВА ШЕСТАЯ СУДЬБЕ НАПЕРЕКОР
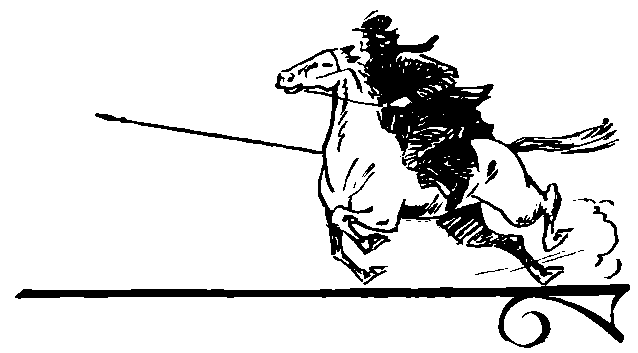
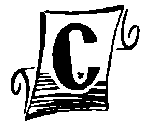 амые активные деятели освободительного движения эмигрировали в Лейпциг, они там организовали эмигрантский центр. В этом центре существовали те же разногласия, что и среди патриотов в Польше: руководитель левого крыла Гуго Коллонтай приветствовал успехи Французской революции и призывал поляков учиться на ее примере; руководитель правого крыла Игнатий Потоцкий пугал своих соратников ужасами Французской революции, но он же предложил связать действия эмиграции с внешней политикой революционной Франции.
Повод для такого предложения дал Потоцкому француз Парандьер, его давнишний знакомый по Варшаве. Парандьер в то время жил в Лейпциге. По дороге в Париж остановился в Лейпциге французский посол Декорш, высланный королем Понятовским из Варшавы по требованию русского и прусского правительств.
Парандьер сначала от своего имени, потом с согласия Коллонтая и Потоцкого уговаривал Декорша признать эмигрантский центр «полномочным представителем Речи Посполитой». Декорш снесся со своим правительством и добился назначения Парандьера политическим агентом Франции при эмигрантском центре.
Кого послать в Париж для непосредственных переговоров?
Тут всплыло имя Тадеуша Костюшки.
Народ в Польше был подавлен. Мелкая шляхта, которая в силу традиции тянулась к магнатам, была возмущена жадностью тарговичан: они захватывали силой или приговорами услужливых судей — имение за имением. Мещане и ремесленники, которым «Конституция 3 мая» впервые даровала гражданские права, чувствовали себя осиротелыми после отъезда Гуго Коллонтая. И крестьянам палка тарговичан показалась слишком тяжелой. «Конституция 3 мая» не дала крестьянам свободы, но по крайней мере сулила надежду на свободу. Тарговичане же, придя к власти, лишили их и того крохотного просвета в тучах, что раскрылся перед ними: опять кнут, опять панское своеволие.
И неудивительно, что в сердца многих и многих закрадывалось сомнение: а не мы ли сами виноваты в своих бедах? Ведь войско Юзефа Понятовского хотело преградить путь тарговичанам. А что мы сделали для этого войска?
Мелкие удачи Юзефа Понятовского вырастали в крупные победы, и эти победы льстили народному сознанию, будоражили народную совесть.
Постепенно, по мере того как народ узнавал подробности трехмесячной кампании, всплывало имя генерала Тадеуша Костюшки. Ведь с этим именем были связаны победы под Зеленцами и под Дубенкой.
Незначительные бои перерастали в крупные сражения, и имя победителя в этих сражениях стало символом народной славы.
Костюшко также эмигрировал. Счеты с Краем покончены — под польским солнцем для него не оказалось места. Надо проситься к чужому очагу, надо греться под чужим солнцем. Опять одинокая, улиточная жизнь. На этот раз, правда, его ждет обеспеченный покой. Французская Законодательная ассамблея даровала ему почетное звание французского гражданина…
Какая издевка судьбы! Поляк Костюшко удостоился французского гражданства за участие в американской революции, а поляк Костюшко лишился польского гражданства за желание участвовать в польской революции!
«Но разве все, что случалось со мной, — думал Костюшко, — не издевка судьбы? Я мечтал стать солдатом — меня толкали на путь художника; я мечтал об общественной деятельности — был вынужден прозябать в Сехновицах; Людвика, которая действительно меня любила, вышла замуж за хлыща Любомирского; Теклюня, которая так тяжело (трехмесячная горячка) пережила вынужденный разрыв со мной, вышла замуж за капитана Княжевича, за посла моей любви. А разве мой высокий орден и высокое звание генерал-лейтенанта не напоминают цветы, возложенные на гроб? Ведь я получил эти высокие награды лишь тогда, когда они потеряли всяческий смысл, когда они стали только декорацией для семейного портрета».
Костюшко и не догадывался, что его имя приобрело всепольское звучание, что оно стало символом польского сопротивления, лозунгом, зовущим в бой за освобождение родины. И поэтому он растерялся, когда княгиня Мария Вюртембергская, дочь князя Чарторийского, устроила в Сеняве, в австрийской части Польши, праздник в честь приезда героя. Пели песни, сложенные в честь героя, его короновали венком из листьев исторического дуба, посаженного королем Яном Собесским, дамы приседали перед ним «в большом реверансе», точно перед королем, а мужчины, звеня саблями, выкликали в радостном возбуждении:
— Костюшко с нами!
Пребывание Костюшки в Австрии вылилось в грандиозную патриотическую демонстрацию, неожиданную не только для самого Костюшки, но и для властей: австрийский генерал Вюрмсер предложил Костюшке покинуть Австрию «в двадцать четыре часа».
К рождеству приехал Костюшко в Лейпциг.
Можно ли найти более подходящего человека для дипломатической миссии? Национальный герой, славный генерал американской революционной армии и почетный гражданин Франции!
Эмигранты устроили торжественный прием. Бывшие депутаты сейма: Забелло, Веселовский и Волицкий — произнесли панегирики, — они сравнивали Тадеуша Костюшко почти со всеми героями античной Греции. Гуго Коллонтай поведал гостям, что Тадеуш Костюшко еще в молодости мечтал о роли Тимолеона и что счастливая судьба именно сейчас предоставляет ему возможность стать польским Тимолеоном. Игнатий Потоцкий от имени эмиграции преподнес Тадеушу Костюшке адрес: «Тебе одному отечество еще доверяет».
После торжественной части Гуго Коллонтай взял под одну руку Костюшко, под другую Игнатия Потоцкого и удалился с ними в небольшую комнату. На столе стоял подсвечник с тремя рожками, в них горели толстые желтые свечи.
Они уселись у камина. Три разных человека. Гуго Коллонтай — с топорным лицом, в скромной черной сутане, даже без обычного воротника с белой оторочкой. Он сидел спокойно, уверенно, как человек, вернувшийся к себе домой после удачно законченных дел. Тадеуш Костюшко — в коричневом сюртуке, собранном в талии, и в высоких сапогах — так одевались шляхтичи для верховой езды. Он сидел вполоборота к камину, словно грел раненую руку, и грустно, задумчиво смотрел в огонь. Игнатий Потоцкий— в парике, в атласе, в кружевах.
— Во Франции создалась благоприятная для нас обстановка, — сказал Коллонтай сразу, точно продолжал прерванный разговор. — После победы над пруссаками под Вальми и после триумфального марша генерала Дюмурье наступила тревожная пауза. К австро-прусской интервенции присоединились Англия, Испания и Голландия. Военное кольцо вокруг Франции уплотняется. Франции нужны союзники. Кто они, эти возможные союзники? Венгры и чехи — против Австрии, турки — против России, и мы, поляки, — против Пруссии. Французское правительство, видимо, из этих соображений и признало наш центр полномочным представителем Речи Посполитой. Это большая дипломатическая победа. Но этого мало: мы должны заключить союз с Францией, дабы использовать ее мощь для нашего национального дела. И вот прошу вас, генерал, поехать в Париж и договориться с министром иностранных дел Лебреном об этом союзе.
Тадеуша Костюшко природа наделила счастливой особенностью: он никогда не действовал сгоряча — все его поступки были заранее обдуманы, взвешены. Романтик в мышлении, он был реалистом в действиях.
Предложение Коллонтая пришлось ему по душе, и ему казалось, что революционная Франция, скорее чем какое-либо другое государство в Европе, протянет руку помощи несчастной Польше. Но Костюшко опасался, как бы надежда на чужую помощь не снизила усилий самих поляков.
— Обывателе[37], — сказал он. — Народ, желающий отстоять свою независимость, должен в первую очередь верить в свои силы. Если у него нет этой веры, если для своего освобождения не надеется на собственные усилия, а уповает на чужую помощь, можно смело предсказать, что не дождется ни счастья, ни славы. Можете ли вы вспомнить, чтобы какой-либо край дошел до высокой славы с чужой помощью?
Ничего оригинального, самобытного Гуго Коллонтай в словах Костюшки не усмотрел, но одно то, что боевой генерал мыслит как общественный деятель,
убедило Коллонтая в том, что Костюшко именно тот человек, который в эту трудную минуту нужен польскому народу.
— Гражданин генерал, — обратился Потоцкий к Костюшке, — о каких, собственно, усилиях вы говорите?
— О военных! — жестко ответил Костюшко.
Потоцкий прижался к спинке кресла и стал оглядывать потолок.
Коллонтай положил руку на колено Костюшки.
— Генерал, вы озадачили меня. Если я вас правильно понял, вы говорите о восстании.
— Именно!
— Это мечта, — вздохнув, сказал Коллонтай. — Дорогой мой Костюшко, восстание требует длительной подготовки, и дипломатической, и военной, и финансовой. Сегодня говорить о восстании рано. Опыт прошлогодней войны показал, что народ еще не подготовлен к восстанию.
— Но так дальше продолжаться не может! — резко произнес Костюшко. — Шляхта оттолкнула народ от управления, она держала и держит народ в темноте, палкой и словом убеждает шляхта народ, что он быдло. А если мы хлопу скажем, что он не быдло, а человек, полноправный гражданин в своем отечестве, то он валом повалит под наши знамена. Обывателе! Швейцарцы и голландцы, живя между скал и в болотах, в десять крат количеством меньше своих могущественных врагов, сумели в боях отстоять свою независимость. Мы же, шестнадцатимиллионный народ, с огромным природным богатством, неужели мы сами осудили себя на позорное рабство? Свобода — это сладчайшее добро, которым человек на земле может пользоваться, но эту свободу можем добыть лишь в бою!
Сколько раз вспоминал Коллонтай эти слова Костюшки! Они были произнесены со взволнованной искренностью, и Коллонтай понял, что Костюшко высказал свои заветные мысли, что эти мысли не родились у него в торжественной обстановке парадной встречи, — эти мысли давние, выстраданные, и он, видимо, готов ценой жизни добиваться их осуществления.
— Ты знаешь, генерал, что за эти же идеи боролись сотни патриотов, и тогда, когда нам казалось, что уже осуществляются наши цели, появились подлые тарговичане. Они вырвали победу из наших рук и отбросили Польшу лет на двадцать назад. Надо дать замкнуться кругу событий. Тарговичане изобличат себя в глазах народа, и тогда, дорогой генерал, сама жизнь поставит вопрос о восстании. Сейчас перед нами более скромная дипломатическая задача: заключить союз с Францией.
Тут поднялся Игнатий Потоцкий. Он приблизил лицо к лицу Костюшки и, глядя ему в глаза, сказал:
— И заключить этот союз сможет только такой человек, как вы, славный генерал и почетный гражданин Франции.
Костюшко поехал в Париж через Голландию. Там он встретился с Дюмурье, популярнейшим в то время революционным генералом, одержавшим блестящую победу над австрийцами. Он рассказал Дюмурье, с какой миссией направляется во Францию.
Опять Париж. Прежде чем отправиться к министру Лебрену, Костюшко несколько дней ходил по городу. Облик улиц изменился — кварталы потеряли свой замкнутый характер. В аристократических предместьях — толпы рабочих, студентов, солдат; в рабочих кварталах — люди в шелковых плащах, с золотыми пряжками на туфлях. Всюду сборища, ораторы. Впечатление — никто не работает. Все к чему-то готовятся, убеждают в чем-то друг друга. Перед ратушей вечный митинг, и тут же, за спиной толпы, старик офицер обучает новобранцев.
17 январяКостюшко отправился к министру. Его принял молодой человек с высоким лбом, горящими глазами и тонкими губами; парик заканчивается двумя кокетливыми валиками; белый пышный бант поверх широких отворотов черного кафтана. Это и был министр иностранных дел Лебрен. Он усадил Костюшко на маленький диван с хрупкими ножками.
— Я вас ждал, генерал. У нас общие враги…
— И общие интересы, — подхватил Костюшко.
— Верно, генерал, и общие интересы. Но мое правительство интересуется, как далеко простирается влияние эмигрантского центра? Имеется ли у вас реальная сила в Польше? И сумеете ли вы в короткий срок направить эту силу против Пруссии?
— С вашей помощью — да.
— О какой помощи вы говорите?
— Начнем с денег. Двенадцать миллионов ливров. — Костюшко протянул министру пакет. — Тут мы подробно изложили условия займа. Гражданин министр, королевская Франция, оказывая помощь американским бунтовщикам, как их тогда называли у вас, руководствовалась исключительно желанием ослабить Англию; революционная же Франция, предоставляя нам заем, будет способствовать перенесению идей Французской революции на деспотический Восток. В своем меморандуме мы излагаем программу будущего польского правительства: упразднение королевской власти, ликвидация влияния высшего духовенства, право всех без различия происхождения и религии владеть земельной собственностью, полное уничтожение крепостного права, свобода и равноправие для всех граждан. Если это не копия ваших далеко идущих общественных преобразований, то согласитесь, мой министр, что и этой нашей программы вполне достаточно, чтобы вызвать народные волнения у наших соседей. В первую очередь это затруднит Пруссии и России отправку экспедиционных корпусов во Францию. Мы пока не говорим о восстании, но…
Костюшке показалось, что министр его не слушает, что он думает о чем-то постороннем: часто поглядывал на дверь, нервно перебирал пальцами или оттягивал галстук, будто ворот рубахи вдруг стал тесен.
Костюшко поднялся.
— Убедили вас мои доводы?
— Мой генерал, меня и убеждать не надо. В пользу союза с вами я приведу еще больше доводов. Но решать будет правительство.
В последних словах Костюшке послышалась не то горечь, не то упрек, не то безнадежность.
— Когда могу ждать ответа?
— Завтра… Завтра… — быстро ответил министр.
Но ни завтра, ни послезавтра Лебрен ответа не дал. Он говорил о своих симпатиях к полякам, о необходимости предоставить им заем, говорил даже о том, что дома у него неблагополучно: заболел ребенок, жена в отчаянии…
На улицах Парижа было неспокойно. Война требовала больших средств, материалов. Пришлось перестроить промышленность. Свертывались или закрывались мирные отрасли производства. Появились миллионы безработных. Ораторы в кафе и на площадях требовали обуздания спекулянтов, таксации цен. В Конвенте шла острая, насмерть борьба между монтаньярами и жирондистами. Жирондистские, то есть правительственные, газеты писали в барабанном тоне об успехах Дюмурье, а в кафе и клубах говорили, что этот авантюрист ведет подозрительные переговоры с австрийцами.
21 января Костюшко отправился к министру Лебрену: за окончательным ответом. Он вышел из дому рано, около восьми часов, а народу на улицах уже много. Все возбуждены, спешат куда-то. На улице Сент-Оноре людской поток сделался гуще, и Костюшко, словно несомый толпой, оказался на площади перед эшафотом.
К эшафоту подъехала повозка, окруженная верховыми. С повозки сошел грузный человек.
Костюшко прорвался вперед. Неужели король? Да, король!
С большим усилием, словно на перебитых ногах, сошел король с повозки; позади него — священник. Они поднялись на эшафот.
Костюшко отвернулся. Он услышал стук упавшего ножа гильотины, крик народа: «Да здравствует республика! Да здравствует нация!»
Костюшко повернулся лишь на одно мгновение: на вытянутой руке держит палач отрубленную голову; глаза раскрыты, двумя струйками течет кровь…
В этот день Костюшко не пошел к министру: он выбрался из толпы, заперся у себя в комнате и просидел взаперти до следующего дня.
В эти тягостные часы раздумья Костюшко убедил себя, что лозунг «Аристократов на фонарь!» — лозунг, который он лишь инстинктивно считал вредным, на самом деле чреват для Польши огромными бедствиями. У Польши должен быть иной путь — без «фонарей».
Переговоры продолжались: Лебрен заверял Костюшко, что «при первой возможности Франция поможет Польше».
А в феврале осложнилось положение: Лебрен сложил голову на эшафоте, а генерал Дюмурье, этот карьерист и изменник, выдал Австрии секрет, доверенный ему Костюшко. Началась дипломатическая война. Костюшко вынужден был скрыться. Хотел поехать в Англию, но Коллонтай вызвал его обратно в Лейпциг.
амые активные деятели освободительного движения эмигрировали в Лейпциг, они там организовали эмигрантский центр. В этом центре существовали те же разногласия, что и среди патриотов в Польше: руководитель левого крыла Гуго Коллонтай приветствовал успехи Французской революции и призывал поляков учиться на ее примере; руководитель правого крыла Игнатий Потоцкий пугал своих соратников ужасами Французской революции, но он же предложил связать действия эмиграции с внешней политикой революционной Франции.
Повод для такого предложения дал Потоцкому француз Парандьер, его давнишний знакомый по Варшаве. Парандьер в то время жил в Лейпциге. По дороге в Париж остановился в Лейпциге французский посол Декорш, высланный королем Понятовским из Варшавы по требованию русского и прусского правительств.
Парандьер сначала от своего имени, потом с согласия Коллонтая и Потоцкого уговаривал Декорша признать эмигрантский центр «полномочным представителем Речи Посполитой». Декорш снесся со своим правительством и добился назначения Парандьера политическим агентом Франции при эмигрантском центре.
Кого послать в Париж для непосредственных переговоров?
Тут всплыло имя Тадеуша Костюшки.
Народ в Польше был подавлен. Мелкая шляхта, которая в силу традиции тянулась к магнатам, была возмущена жадностью тарговичан: они захватывали силой или приговорами услужливых судей — имение за имением. Мещане и ремесленники, которым «Конституция 3 мая» впервые даровала гражданские права, чувствовали себя осиротелыми после отъезда Гуго Коллонтая. И крестьянам палка тарговичан показалась слишком тяжелой. «Конституция 3 мая» не дала крестьянам свободы, но по крайней мере сулила надежду на свободу. Тарговичане же, придя к власти, лишили их и того крохотного просвета в тучах, что раскрылся перед ними: опять кнут, опять панское своеволие.
И неудивительно, что в сердца многих и многих закрадывалось сомнение: а не мы ли сами виноваты в своих бедах? Ведь войско Юзефа Понятовского хотело преградить путь тарговичанам. А что мы сделали для этого войска?
Мелкие удачи Юзефа Понятовского вырастали в крупные победы, и эти победы льстили народному сознанию, будоражили народную совесть.
Постепенно, по мере того как народ узнавал подробности трехмесячной кампании, всплывало имя генерала Тадеуша Костюшки. Ведь с этим именем были связаны победы под Зеленцами и под Дубенкой.
Незначительные бои перерастали в крупные сражения, и имя победителя в этих сражениях стало символом народной славы.
Костюшко также эмигрировал. Счеты с Краем покончены — под польским солнцем для него не оказалось места. Надо проситься к чужому очагу, надо греться под чужим солнцем. Опять одинокая, улиточная жизнь. На этот раз, правда, его ждет обеспеченный покой. Французская Законодательная ассамблея даровала ему почетное звание французского гражданина…
Какая издевка судьбы! Поляк Костюшко удостоился французского гражданства за участие в американской революции, а поляк Костюшко лишился польского гражданства за желание участвовать в польской революции!
«Но разве все, что случалось со мной, — думал Костюшко, — не издевка судьбы? Я мечтал стать солдатом — меня толкали на путь художника; я мечтал об общественной деятельности — был вынужден прозябать в Сехновицах; Людвика, которая действительно меня любила, вышла замуж за хлыща Любомирского; Теклюня, которая так тяжело (трехмесячная горячка) пережила вынужденный разрыв со мной, вышла замуж за капитана Княжевича, за посла моей любви. А разве мой высокий орден и высокое звание генерал-лейтенанта не напоминают цветы, возложенные на гроб? Ведь я получил эти высокие награды лишь тогда, когда они потеряли всяческий смысл, когда они стали только декорацией для семейного портрета».
Костюшко и не догадывался, что его имя приобрело всепольское звучание, что оно стало символом польского сопротивления, лозунгом, зовущим в бой за освобождение родины. И поэтому он растерялся, когда княгиня Мария Вюртембергская, дочь князя Чарторийского, устроила в Сеняве, в австрийской части Польши, праздник в честь приезда героя. Пели песни, сложенные в честь героя, его короновали венком из листьев исторического дуба, посаженного королем Яном Собесским, дамы приседали перед ним «в большом реверансе», точно перед королем, а мужчины, звеня саблями, выкликали в радостном возбуждении:
— Костюшко с нами!
Пребывание Костюшки в Австрии вылилось в грандиозную патриотическую демонстрацию, неожиданную не только для самого Костюшки, но и для властей: австрийский генерал Вюрмсер предложил Костюшке покинуть Австрию «в двадцать четыре часа».
К рождеству приехал Костюшко в Лейпциг.
Можно ли найти более подходящего человека для дипломатической миссии? Национальный герой, славный генерал американской революционной армии и почетный гражданин Франции!
Эмигранты устроили торжественный прием. Бывшие депутаты сейма: Забелло, Веселовский и Волицкий — произнесли панегирики, — они сравнивали Тадеуша Костюшко почти со всеми героями античной Греции. Гуго Коллонтай поведал гостям, что Тадеуш Костюшко еще в молодости мечтал о роли Тимолеона и что счастливая судьба именно сейчас предоставляет ему возможность стать польским Тимолеоном. Игнатий Потоцкий от имени эмиграции преподнес Тадеушу Костюшке адрес: «Тебе одному отечество еще доверяет».
После торжественной части Гуго Коллонтай взял под одну руку Костюшко, под другую Игнатия Потоцкого и удалился с ними в небольшую комнату. На столе стоял подсвечник с тремя рожками, в них горели толстые желтые свечи.
Они уселись у камина. Три разных человека. Гуго Коллонтай — с топорным лицом, в скромной черной сутане, даже без обычного воротника с белой оторочкой. Он сидел спокойно, уверенно, как человек, вернувшийся к себе домой после удачно законченных дел. Тадеуш Костюшко — в коричневом сюртуке, собранном в талии, и в высоких сапогах — так одевались шляхтичи для верховой езды. Он сидел вполоборота к камину, словно грел раненую руку, и грустно, задумчиво смотрел в огонь. Игнатий Потоцкий— в парике, в атласе, в кружевах.
— Во Франции создалась благоприятная для нас обстановка, — сказал Коллонтай сразу, точно продолжал прерванный разговор. — После победы над пруссаками под Вальми и после триумфального марша генерала Дюмурье наступила тревожная пауза. К австро-прусской интервенции присоединились Англия, Испания и Голландия. Военное кольцо вокруг Франции уплотняется. Франции нужны союзники. Кто они, эти возможные союзники? Венгры и чехи — против Австрии, турки — против России, и мы, поляки, — против Пруссии. Французское правительство, видимо, из этих соображений и признало наш центр полномочным представителем Речи Посполитой. Это большая дипломатическая победа. Но этого мало: мы должны заключить союз с Францией, дабы использовать ее мощь для нашего национального дела. И вот прошу вас, генерал, поехать в Париж и договориться с министром иностранных дел Лебреном об этом союзе.
Тадеуша Костюшко природа наделила счастливой особенностью: он никогда не действовал сгоряча — все его поступки были заранее обдуманы, взвешены. Романтик в мышлении, он был реалистом в действиях.
Предложение Коллонтая пришлось ему по душе, и ему казалось, что революционная Франция, скорее чем какое-либо другое государство в Европе, протянет руку помощи несчастной Польше. Но Костюшко опасался, как бы надежда на чужую помощь не снизила усилий самих поляков.
— Обывателе[37], — сказал он. — Народ, желающий отстоять свою независимость, должен в первую очередь верить в свои силы. Если у него нет этой веры, если для своего освобождения не надеется на собственные усилия, а уповает на чужую помощь, можно смело предсказать, что не дождется ни счастья, ни славы. Можете ли вы вспомнить, чтобы какой-либо край дошел до высокой славы с чужой помощью?
Ничего оригинального, самобытного Гуго Коллонтай в словах Костюшки не усмотрел, но одно то, что боевой генерал мыслит как общественный деятель,
убедило Коллонтая в том, что Костюшко именно тот человек, который в эту трудную минуту нужен польскому народу.
— Гражданин генерал, — обратился Потоцкий к Костюшке, — о каких, собственно, усилиях вы говорите?
— О военных! — жестко ответил Костюшко.
Потоцкий прижался к спинке кресла и стал оглядывать потолок.
Коллонтай положил руку на колено Костюшки.
— Генерал, вы озадачили меня. Если я вас правильно понял, вы говорите о восстании.
— Именно!
— Это мечта, — вздохнув, сказал Коллонтай. — Дорогой мой Костюшко, восстание требует длительной подготовки, и дипломатической, и военной, и финансовой. Сегодня говорить о восстании рано. Опыт прошлогодней войны показал, что народ еще не подготовлен к восстанию.
— Но так дальше продолжаться не может! — резко произнес Костюшко. — Шляхта оттолкнула народ от управления, она держала и держит народ в темноте, палкой и словом убеждает шляхта народ, что он быдло. А если мы хлопу скажем, что он не быдло, а человек, полноправный гражданин в своем отечестве, то он валом повалит под наши знамена. Обывателе! Швейцарцы и голландцы, живя между скал и в болотах, в десять крат количеством меньше своих могущественных врагов, сумели в боях отстоять свою независимость. Мы же, шестнадцатимиллионный народ, с огромным природным богатством, неужели мы сами осудили себя на позорное рабство? Свобода — это сладчайшее добро, которым человек на земле может пользоваться, но эту свободу можем добыть лишь в бою!
Сколько раз вспоминал Коллонтай эти слова Костюшки! Они были произнесены со взволнованной искренностью, и Коллонтай понял, что Костюшко высказал свои заветные мысли, что эти мысли не родились у него в торжественной обстановке парадной встречи, — эти мысли давние, выстраданные, и он, видимо, готов ценой жизни добиваться их осуществления.
— Ты знаешь, генерал, что за эти же идеи боролись сотни патриотов, и тогда, когда нам казалось, что уже осуществляются наши цели, появились подлые тарговичане. Они вырвали победу из наших рук и отбросили Польшу лет на двадцать назад. Надо дать замкнуться кругу событий. Тарговичане изобличат себя в глазах народа, и тогда, дорогой генерал, сама жизнь поставит вопрос о восстании. Сейчас перед нами более скромная дипломатическая задача: заключить союз с Францией.
Тут поднялся Игнатий Потоцкий. Он приблизил лицо к лицу Костюшки и, глядя ему в глаза, сказал:
— И заключить этот союз сможет только такой человек, как вы, славный генерал и почетный гражданин Франции.
Костюшко поехал в Париж через Голландию. Там он встретился с Дюмурье, популярнейшим в то время революционным генералом, одержавшим блестящую победу над австрийцами. Он рассказал Дюмурье, с какой миссией направляется во Францию.
Опять Париж. Прежде чем отправиться к министру Лебрену, Костюшко несколько дней ходил по городу. Облик улиц изменился — кварталы потеряли свой замкнутый характер. В аристократических предместьях — толпы рабочих, студентов, солдат; в рабочих кварталах — люди в шелковых плащах, с золотыми пряжками на туфлях. Всюду сборища, ораторы. Впечатление — никто не работает. Все к чему-то готовятся, убеждают в чем-то друг друга. Перед ратушей вечный митинг, и тут же, за спиной толпы, старик офицер обучает новобранцев.
17 январяКостюшко отправился к министру. Его принял молодой человек с высоким лбом, горящими глазами и тонкими губами; парик заканчивается двумя кокетливыми валиками; белый пышный бант поверх широких отворотов черного кафтана. Это и был министр иностранных дел Лебрен. Он усадил Костюшко на маленький диван с хрупкими ножками.
— Я вас ждал, генерал. У нас общие враги…
— И общие интересы, — подхватил Костюшко.
— Верно, генерал, и общие интересы. Но мое правительство интересуется, как далеко простирается влияние эмигрантского центра? Имеется ли у вас реальная сила в Польше? И сумеете ли вы в короткий срок направить эту силу против Пруссии?
— С вашей помощью — да.
— О какой помощи вы говорите?
— Начнем с денег. Двенадцать миллионов ливров. — Костюшко протянул министру пакет. — Тут мы подробно изложили условия займа. Гражданин министр, королевская Франция, оказывая помощь американским бунтовщикам, как их тогда называли у вас, руководствовалась исключительно желанием ослабить Англию; революционная же Франция, предоставляя нам заем, будет способствовать перенесению идей Французской революции на деспотический Восток. В своем меморандуме мы излагаем программу будущего польского правительства: упразднение королевской власти, ликвидация влияния высшего духовенства, право всех без различия происхождения и религии владеть земельной собственностью, полное уничтожение крепостного права, свобода и равноправие для всех граждан. Если это не копия ваших далеко идущих общественных преобразований, то согласитесь, мой министр, что и этой нашей программы вполне достаточно, чтобы вызвать народные волнения у наших соседей. В первую очередь это затруднит Пруссии и России отправку экспедиционных корпусов во Францию. Мы пока не говорим о восстании, но…
Костюшке показалось, что министр его не слушает, что он думает о чем-то постороннем: часто поглядывал на дверь, нервно перебирал пальцами или оттягивал галстук, будто ворот рубахи вдруг стал тесен.
Костюшко поднялся.
— Убедили вас мои доводы?
— Мой генерал, меня и убеждать не надо. В пользу союза с вами я приведу еще больше доводов. Но решать будет правительство.
В последних словах Костюшке послышалась не то горечь, не то упрек, не то безнадежность.
— Когда могу ждать ответа?
— Завтра… Завтра… — быстро ответил министр.
Но ни завтра, ни послезавтра Лебрен ответа не дал. Он говорил о своих симпатиях к полякам, о необходимости предоставить им заем, говорил даже о том, что дома у него неблагополучно: заболел ребенок, жена в отчаянии…
На улицах Парижа было неспокойно. Война требовала больших средств, материалов. Пришлось перестроить промышленность. Свертывались или закрывались мирные отрасли производства. Появились миллионы безработных. Ораторы в кафе и на площадях требовали обуздания спекулянтов, таксации цен. В Конвенте шла острая, насмерть борьба между монтаньярами и жирондистами. Жирондистские, то есть правительственные, газеты писали в барабанном тоне об успехах Дюмурье, а в кафе и клубах говорили, что этот авантюрист ведет подозрительные переговоры с австрийцами.
21 января Костюшко отправился к министру Лебрену: за окончательным ответом. Он вышел из дому рано, около восьми часов, а народу на улицах уже много. Все возбуждены, спешат куда-то. На улице Сент-Оноре людской поток сделался гуще, и Костюшко, словно несомый толпой, оказался на площади перед эшафотом.
К эшафоту подъехала повозка, окруженная верховыми. С повозки сошел грузный человек.
Костюшко прорвался вперед. Неужели король? Да, король!
С большим усилием, словно на перебитых ногах, сошел король с повозки; позади него — священник. Они поднялись на эшафот.
Костюшко отвернулся. Он услышал стук упавшего ножа гильотины, крик народа: «Да здравствует республика! Да здравствует нация!»
Костюшко повернулся лишь на одно мгновение: на вытянутой руке держит палач отрубленную голову; глаза раскрыты, двумя струйками течет кровь…
В этот день Костюшко не пошел к министру: он выбрался из толпы, заперся у себя в комнате и просидел взаперти до следующего дня.
В эти тягостные часы раздумья Костюшко убедил себя, что лозунг «Аристократов на фонарь!» — лозунг, который он лишь инстинктивно считал вредным, на самом деле чреват для Польши огромными бедствиями. У Польши должен быть иной путь — без «фонарей».
Переговоры продолжались: Лебрен заверял Костюшко, что «при первой возможности Франция поможет Польше».
А в феврале осложнилось положение: Лебрен сложил голову на эшафоте, а генерал Дюмурье, этот карьерист и изменник, выдал Австрии секрет, доверенный ему Костюшко. Началась дипломатическая война. Костюшко вынужден был скрыться. Хотел поехать в Англию, но Коллонтай вызвал его обратно в Лейпциг.
17 июня 1793 года собрался в Гродне сейм. На повестке один вопрос — утверждение договора второго раздела. Уже прочитан договор, уже председатель сказал свое слово, он уже два раза спросил: «Как, панове делегаты, утверждаете договор?», а делегаты сидели молча, с поникшими головами, словно прятали лица от щедрых лучей летнего солнца. Случилось непонятное: никто из делегатов не хотел высказываться. Председатель недоумевал: ведь большинство делегатов обещали представителю Екатерины графу Сиверсу (конечно, за дукаты!) сказать безоговорочно: «Утверждаю!» А сейчас молчат: и те, что деньги взяли, и те, что не приняли взятку. Граф Сиверс нервничает: он сидит за спиной председателя и бьет себя по колену большим засургученным пакетом. Председатель знает, что в этом пакете рапорт Сиверса Екатерине об утверждении договора; председатель знает, что за дверью дежурит русский офицер, — он подхватит засургученный пакет, в несколько прыжков одолеет лестницу и прыгнет в стоявшую у ворот курьерскую тройку… А делегаты молчат. Возникла ли перед их глазами карта Речи Посполитой? К России отойдет часть Белоруссии и часть Украины — земли, населенные православным людом; к Пруссии — исконные польские области: Гданьск, Торунь, часть Куявии и часть Мазовии… И это их ужаснуло… Или поняли, что, кроме земель, Польша окончательно потеряла и свою политическую независимость? Сказали бы об этом! Уж делегат Михаил Залесский нашелся бы, что ответить. Но они молчат — угрожающе молчат, хотя ни один из них не набрался храбрости крикнуть: «Не позвалям!» Может, русские и пруссаки мало дукатов роздали? Или вдруг вспомнили слова из универсала Пирамовича и Коллонтая, принятого в мае прошлого года на сессии сейма: «Войско, которое является с целью изменения вашего режима, несет вам не свободу, а рабство». Граф Сиверс решился, он шепнул председателю: — Скажите, что молчание — знак согласия. И, раскрыв дверь щелочкой, Сиверс протянул пакет дежурившему в коридоре офицеру.
Однако в Польше осталось достаточно патриотов, чтобы не дать заглохнуть национально-освободительной идее. Росло недовольство среди мещан. Из практики Французской революции они усвоили тот очевидный факт, что третье сословие призвано играть решающую роль в деле освобождения своей родины от феодальных порядков. Среди варшавских мещан с успехом вели пропаганду бывшие сотрудники Гуго Коллонтая: Юзеф Мейер, Ельский и Конопка. Среди цеховиков-ремесленников — Сераковский, сапожник Ян Килинский и мясник Марьянский. Возникли также кружки среди офицеров, им угрожало увольнение из армии: по постановлению Гродненского сейма польская армия должна быть низведена до 15 тысяч. Генерал Игнатий Дзялынский числился у тарговичан благонадежным — его назначили на высокий пост заместителя командующего варшавским гарнизоном. Молодежь его любила, старики уважали, и даже мерзавцы типа Сосновского верили, что он неподкупный, что его нельзя соблазнить дукатами. Дзялынский не примыкал ни к одной из политических группировок. Это был патриот, остро переживающий подневольное положение своей родины. И генерал Дзялынский решил действовать. Он знал, что в подполье работают революционные кружки мещан, офицеров и ремесленников. В майский день генерал пригласил к себе Павликовского. Сам открыл ему дверь и увел в кабинет. Там уже сидели Ян Чиж и Эльаш Алое. После безобидной беседы за первой трубкой Дзялынский закрыл дверь на ключ и сразу перешел на деловой тон: — На помощь извне, видимо, рассчитывать не приходится. Прибывший из Лейпцига адвокат Брасс сказал мне, что эмигрантский центр не занимается вопросом восстания, этот центр считает восстание делом далекого будущего. А петля на нашей шее затягивается. Панове из Саксонии этого не видят. Мещане и ремесленники что-то делают. А ведь единственная реальная сила — это армия. Но если мы будем медлить, то лишимся этой силы. Уже разработаны планы редукции[38]. — Он поднял руку. — Присягнем друг другу и примемся за дело! — Он говорил спокойно, четко выговаривая слова, и эта его убежденность произвела впечатление. Пожали друг другу руки, присягнули, разработали план действий. Дзялынский обеспечит своевременное выступление варшавских полков, Чиж направится в провинциальные гарнизоны — там ждут только сигнала, а Павликовский и Алое будут держать связь с эмигрантским центром. Дзялынский связался с бургомистром Капостасом, тот стоял во главе подпольной организации мещан. В нее входили: Закржевский, Брасс, Выбицкий, Кохановский. Эта организация была уже связана с ремесленниками, в которой верховодили Мейер, Конопка и сапожник Ян Килинский. На совместном совещании была разработана политическая программа: основа — «Конституция 3 мая». Павликовский и Алое поехали за границу. Они доложили эмигрантскому центру о целях и задачах новой организации. Коллонтай, шагая из угла в угол, говорил размеренным тоном профессора, читающего лекцию студентам: — «Конституция 3 мая» была великим актом для своего времени, для того времени, когда мы впервые осмелились вырваться из вековой анархии. В «Конституции третьего мая» еще проявляется дух правящей шляхты, ее привилегии, в особенности ее первенство в частной и общественной жизни… — За одну шляхту я биться не буду! — сказал Костюшко возмущенно. — Генерал, я еще не закончил. Мы, политики, должны трезво смотреть на вещи. Нельзя начать движения с радикальных лозунгов, и нельзя по двум причинам. Первая — радикальные лозунги оттолкнут от движения даже патриотически настроенную часть шляхты. Вторая — с разворотом событий народное движение само революционизируется. Наша задача— следить за настроением масс. Вот наша тактика. Мы должны предоставить последнее слово народу. А народ, войдя в будущий сейм, сам выберет путь к счастью.
На Литве, в Вильнюсе, действовал инженер-полковник Якуб Ясинский, бывший воспитанник Рыцарской школы, один из учеников Костюшки. Кадет стал за эти годы ярым якобинцем, сторонником радикальных методов борьбы и самым революционным поэтом эпохи польского Просвещения. Стихи Якуба Ясинского, его сатиры и комические поэмы расходились в сотнях списков, разнося по Польше вольнодумные идеи. Якуб Ясинский организовал в Вильнюсе крепкий и хорошо законспирированный кружок из офицеров. Независимо от военного кружка возникли кружки прогрессивной части шляхты и интеллигенции: Кароля Прозора, Солтана, Бржостовского, Богуша. Для связи с Литвой варшавский кружок Дзялынского выделил Ельского. Включилось в борьбу и крестьянство. Еще до то-го, как родилась идея всенародного восстания, крестьяне выступили в Паланге, на Брацлавщине, в районе Пинска. В душный сентябрьский вечер 1793 года шло совещание эмигрантского центра. Окна в комнате зашторены. На длинном столе в высоких канделябрах горели свечи. Присутствующие внимательно слушали Гуго Коллонтая. — Посланцы из варшавского подполья привели убедительные доводы. Русский посланник Игельстром хозяйничает в Варшаве не менее нагло, чем его предшественник Штакельберг. Все свободы уничтожены. Армия сокращается. Мещан, крестьян, военных — всех охватила ненависть к оккупантам и тарговичанам. Но разве этого достаточно для того, чтобы завтра-послезавтра начать восстание? Ненависть — грозное оружие, но это оружие не стреляет. Военные рвутся в бой — верю, мещан вы увлечете за собой — также верю, — а чем вы привлечете на свою сторону хлопов? А без вовлечения в борьбу крестьянства нельзя и мечтать о победе. Крестьяне требуют отмены панщизны, требуют воли. Пойдете на это? Десятки раз обсуждали эмигранты тезис об отмене панщизны, но не решались ни принять его, ни отвергнуть. Все понимали, что принятие тезиса привлечет к восстанию сотни тысяч обездоленных крестьян, но именно этих крестьян эмигранты боялись: по опыту Французской революции они знали, что народ, почувствовав свою силу, не останавливается на полпути. Каждому из членов эмигрантского центра было что терять. По правую руку Коллонтая сидел Игнатий Потоцкий, короткий, так называемый домашний парик обрамлял прекрасно вылепленное лицо со спокойными приветливыми глазами, округлый подбородок прятался в пене белых кружев. Игнатий Потоцкий владел не одним десятком имений — освободи он крестьян, кто будет обрабатывать его земли? По левую руку Коллонтая сидел Капостас — тонкие губы сжаты, взгляд тяжелый, настороженный. У него много денег, очень много, но ведь восставшие парижане в первую очередь лишили богачей их денег. Депутат Забелло, широкоплечий гигант с усами как метелки, был не так богат, как Игнатий Потоцкий или бургомистр Капостас, но и его имения тянутся на версты. Тщедушный Волицкий и хмурый Веселовский также не хотели потерять свои «хуторки». Тадеушу Костюшке не жаль было Сехновиц — для народного блага он отдал бы сотни имений, даже больше, он считал тезис разумным и благородным, но… — Польша не выдержит крутых поворотов, — сказал он взволнованно. — Хлопов надо освободить, непременно надо, мы должны покончить с позорным крепостничеством, но наши хлопы из-за своей темноты еще не готовы к полной свободе. Их надо подготовить. В первую очередь должны мы снизить панщизну: там, где ее было два дня, — один день, там где было три дня, — полтора. Мы должны уговорить помещиков, дабы они приказали экономам, подстаростам обращаться с народом справедливо и отказываться от суровых наказаний. — Такая программа навряд ли привлечет на нашу сторону крестьянство, — возразил Коллонтай. — Привлечет, — настаивал Костюшко. — Наш хлоп будет нам благодарен уже за то, что мы думаем о нем, что мы на первых шагах своей деятельности сбрасываем с его плеч какую-то часть ноши. Посланцы из варшавского подполья Валихновский и Алое, люди военные, не понимали, почему их старшие товарищи придают такое большое значение лозунгам: их, военных заговорщиков, не интересовали лозунги — драться надо. — Мы не за этим приехали! — жестко промолвил Алое. — Восстание стучится в наши ворота, и если вы эти ворота не раскроете, то народ сам их распахнет! Для народной ярости нет преград! Встал с места Гуго Коллонтай. Он уперся кулаками в стол. Только сегодня он вернулся из Карлсбада, где лечил подагру и, видно, не вылечился: ему трудно стоять. Выступление Костюшки его огорчило. Несколько недель назад, когда они говорили о народном движении, Коллонтай убеждал Костюшко, что нельзя начинать с радикальных лозунгов, но если восстание действительно стучится в ворота, то без крестьян не добьемся победы, а привлечь крестьян можно, только обещав им волю и землю. Коллонтая огорчает еще и другое. Варшавские посланцы, а с ними и Костюшко говорят о восстании, как о факте завтрашнего дня. Где силы, где деньги, где дипломатическая подготовка? Неужели они считают, что достаточно нескольких полков Дзялынского, Зайончека и Мадалинского, дабы изгнать из страны русские и прусские войска? Неужели они не понимают, что нужны месяцы кропотливой подготовки? Об этом хотел сказать Коллонтай, но ему помешали. — У нас все готово! — решительно заявил в эту минуту Алое. — Мы приехали не обсуждать политическую программу, мы приехали просить генерала Костюшко возглавить восстание. Оно вспыхнет со дня на день, и ни в нашей, ни в вашей власти остановить это движение! Костюшко поднялся со своего места с сомкнутыми ногами, с руками вдоль тела. Его лицо пылало. — Хочу собственными глазами убедиться, действительно ли все готово, — сказал он твердым голосом. Коллонтай сразу успокоился: умный Костюшко спас положение. Конечно, он убедится, что народ не готов к восстанию, и «горячие головы из Варшавы» прекратят свои атаки на эмигрантский центр. О том, что будущее восстание возглавит Костюшко, договорились уже давно: лучшего кандидата, чем он, никто не видел среди патриотов. — Обывателе, — начал Коллонтай тихим голосом. — Раз мы уже коснулись этого вопроса, то давайте его решать окончательно. Недостаточно выбрать вождя восстания, нужно наделить его еще полномочиями диктатора. В польских условиях это необходимо. Предложение Коллонтая прозвучало неожиданно только для одного Костюшки — затуманились глаза, заныла раненая рука. Всей своей прошлой жизнью был Костюшко подготовлен к восхождению на большую высоту, но, очутившись на высоте, он вдруг усомнился: «Достоин я такой чести? По плечу мне эта власть? Во всех прошлых поворотах в моей судьбе шел спор о моем личном благополучии, а сейчас— о будущем польского народа. Все сидящие здесь вносят в общее дело имения, деньги, судьбу своих детей, а я? Одну только жизнь, свою одинокую жизнь». — Костюшко! Костюшко! — вырвал его из задумчивости взрыв разволновавшихся товарищей. Гигант Забелло поднял Костюшко на ноги. — Vincere scis, Hannibal![39] — сказал он, прижимая Костюшко к своей груди. — Братья, — сказал Костюшко прерывающимся голосом, — я принимаю эту высокую честь, если вы считаете, что я ее достоин. — И он повторил уже однажды сказанные им слова: — Только знайте, братья, за одну шляхту биться не буду. Хочу свободы всего народа и только за него, за польский народ, буду жертвовать своей жизнью. Этими скупыми словами, рожденными в его взволнованном сердце, Костюшко сумел высказать все свои затаенные мысли, все, что в нем созревало в течение долгих лет раздумий. Он согласился и на титул «диктатор», хотя этот титул вызывал у него гадливое отвращение, и согласился он потому, что помнил, какие трудности выпали на долю генерала Вашингтона из-за трений с гражданскими властями — в польских условиях, знал Костюшко, такой разлад между военным и гражданской администрацией пагубно отзовется на всем восстании. Не жажда власти толкнула Костюшко на этот шаг. Его натуре было противно само понятие «властвовать», но он согласился на диктаторство для того, чтобы добиться победы, а потом «бросить оружие к ногам сейма» и уехать в деревню «насладиться покоем в маленьком домике».
Костюшко разработал детальный план подготовки к восстанию. В каждом воеводстве, земле и уезде патриоты возлагают на одного из своей среды секретный набор людей, а остальные накапливают оружие, снаряжение, продовольствие. Осенью 1793 года Костюшко вместе с генералом Зайончеком и Рафаилом, братом Гуго Коллонтая, отправился в окрестности Кракова, чтобы на месте наблюдать за ходом подготовки к восстанию. Они убедились, что сроки для инсурекции[40] еще не наступили, что «на столь слабых основаниях, какие теперь имеются, ничего не построишь». Костюшко донес эмигрантскому центру: «Грешно, легкомысленно и необдуманно начинать», и по совету Коллонтая уехал в Италию.
В Варшаве было душно и неспокойно. Главари Тарговицы интриговали и развлекались в Петербурге, а их подручные: Анквич, Сулковский, Рачинский, Михал Залесский, Ожаровский и другие — с большим рвением, чем их «хозяева», расправлялись с инакомыслящими. В первую очередь они приступили к срочной ликвидации польской армии, а ведь она, по плану заговорщиков, должна была составить ядро повстанческого войска. Генерал Дзялынский собрал своих друзей: каштеляна Петра Потоцкого, подкоморного Зелинского, Станислава Ледуховского, Юзефа Павликовского, Франчишека Орсетти и бывшего секретаря Игнатия Потоцкого Яна Дембовского. — Братья, — сказал Дзялынский, — редукция идет таким быстрым темпом, что через три-четыре месяца останемся без армии Костюшко, видимо, не верит в наши силы и в наши возможности. Он не приближается к границам Польши, а удаляется от нее, он уехал в Италию. Коллонтай пишет письма, воззвания, даже разработал «акт восстания», но в самое восстание не верит… Тут раздался стук в дверь. Заговорщики отдернули занавеси, распахнули окна. Дембовский уселся за клавесин… Дзялынский открыл дверь и удивился: — Пан бургомистр? Капостас, небрежно одетый, вошел в комнату, уселся, отдышался и еле вымолвил: — Беда… Нас предали… Какой-то подлец отдал нас в руки полиции. — Он поднялся и направился к двери. — Куда, пан Капостас? — Уезжаю. Уезжаю из Варшавы. И вам советую. Его не удерживали. Шумели деревья за окном. Доносился мягкий рокот Вислы. Гулко протарахтела повозка. — Братья, — сказал Дзялынский. — Дольше откладывать нельзя. Или с Костюшкой, или без него! — С Костюшкой! — крикнул Дембовский. — Уговорить Костюшко! — подхватил Ледуховский. — Согласен, — заявил Дзялынский. — Тогда предлагаю: пусть Орсетти и Зелинский отправятся сегодня же ночью в наши гарнизоны и соберут там подписи офицеров. Павликовский отвезет эти подписи Костюшко. Сегодня же ночью пусть Ельский от гражданского кружка и Гушковский от нашего военного выедут в Италию к Костюшке. Они должны убедить его, что откладывать нельзя, что армию распускают, лучшие офицеры разбредутся, и мы останемся без военного ядра. Пусть они убедят его: или сейчас, или никогда! Пусть они ему скажут: народ готов, народ требует. Или он поведет народ, или народ пойдет без него! Все согласились с Дзялынским, и все было сделано так, как он предложил. Но сам генерал Дзялынский уже не принимал участия в осуществлении своего плана. Какой-то подлец действительно выдал тарговичанам имена заговорщиков. Начались аресты в Варшаве и Вильнюсе. Одним из первых был арестован генерал Дзялынский.
В эту же ночь совещались руководители гражданских кружков. Ремесленники настаивали: выступить немедленно, овладеть королевским Замком, обезоружить русский и прусский гарнизоны. Бургомистр Капостас, собирающийся тут же после совета бежать из Варшавы, разразился такой трусливой речью, что ксендз Мейер бросился на него с кулаками. После споров, криков и ругани все же пришли к единому решению: не Прозора и не князя Юзефа Понятовского поставить во главе восстания, а только генерала Костюшко и к нему для переговоров направить Мейера. Это решение было также осуществлено.
В марте 1794 года Костюшко выехал в Польшу. Он решился начать восстание не потому, что Эльаш Алое упал перед ним на колени и именем родины умолял его принять командование. Костюшко знал, что народ не готов к выступлению, но из сотен донесений убедился, что восстание неминуемо вспыхнет, без единого руководства, без направляющего центра. Костюшко направил в Польшу Марушевского с воззванием к польским офицерам и солдатам, а сам, вооруженный «Актом восстания», выработанным им совместно с Коллонтаем и Игнатием Потоцким, двинулся к Кракову. Этот город он выбрал не случайно. Генерал Мадалинский, командир кавалерийской бригады, сообщил ему: «Не подчинюсь приказу о роспуске бригады и пойду в Краков». Оком полководца Костюшко предвидел, какая создастся обстановка. В Кракове находится всего один русский батальон подполковника Лукошина, и этот батальон, конечно, власти направят против Мадалинского. В городе останется польский гарнизон генерала Водзицкого, члена военной организации. Костюшко избрал Краков еще и потому, что решил договориться с Вебером, «командующим пограничных областей его императорского величества», о нейтралитете Австрии, обещав ему, что повстанцы не будут нарушать австрийской границы. Это Костюшке удалось впоследствии сделать.
Ночь с 23 на 24 марта Костюшко провел в лесу недалеко от Кракова. В лесу хозяйничал ветер. Голые деревья, влажные после недавнего дождя, таинственно поблескивали. Вокруг Костюшки, прислонившись спиной к деревьям, сидело человек двадцать. Рядом паслись стреноженные кони. Костюшко лежал на земле, головой к Кракову. Сейчас, в эту ночь, решается судьба восстания. Генерал Мадалинский должен подойти со своей кавалерийской бригадой, если он прорвется сквозь русский заслон. Должен прибыть и Ян Шляский с двумя тысячами крестьян, кракусами. Но нет ни гонца от Мадалинского, нет и Шляского. Не радостны мысли Тадеуша Костюшки, главного начальника восстания. Он знал, что лучшая часть польского народа идет в бой, как шли фермеры и ремесленники в Северной Америке, что лучшая часть польского народа живет теми же помыслами и теми же идеями, какими жили американские солдаты в войне за независимость. Всеми своими помыслами был Костюшко готов к такой войне. Для себя он ничего не ищет. Как Тимолеон, добыв свободу для своего народа, ушел в тень, предоставив народу воспользоваться плодами победы, так и он, Костюшко, вырвав Польшу из лап иезуитских мракобесов и жадных магнатов, уйдет в сторону, дабы сам народ стал полновластным вершителем своей судьбы.
 Генерал Ян Генрих Домбровский.
Генерал Ян Генрих Домбровский.
 Генерал Якуб Ясинский.
Генерал Якуб Ясинский.
Вступив на родную землю, вступив как призванный вождь восстания, он писал: «Пусть никто, кто добродетельный, не жаждет власти. Мне ее вручили в критический момент. Не знаю, заслужил ли я это доверие, но знаю то, что врученная мне власть есть только инструмент для успешной защиты моей родины». Неограниченная военная власть, всенародная популярность не вскружили голову Костюшке. Наоборот, чем шире распространялась его слава, чем гуще стал фимиам льстецов, тем сдержаннее, тем скромнее становились речи и высказывания Костюшки. Он знал, на что способен, но не только сердцем, но и умом понимал, что в эту грозную минуту руль управления должен находиться в руках спокойного, рассудительного, трезвого человека, не поддающегося ни на лесть, ни на угрозы.
Случилось так, как предвидел Костюшко, — прискакал гонец: — Лукошин ушел со своим батальоном! Костюшко поднялся. — В Краков! Все вскочили на ноги, бросились ловить коней. На карьере, возглавляя небольшой отряд, Костюшко ворвался в ночной город и, не сбавляя бега, подскакал к дому генерала Водзицкого. Там его уже ждали депутат Линовский, Стефан Дембский, Тадеуш Чацкий и другие члены патриотических организаций. Они проговорили до рассвета и выработали план ближайших действий. В марте выпадают иногда такие дни, когда природа, точно хвастливая хозяйка, показывает людям, какие чудесные весенние дары она для них приготовила. Таким днем было 24 марта. Над Краковом голубое небо. Улицы залиты солнцем. Шпили костелов горят. Огромная Рыночная площадь запружена народом, все в праздничном одеянии. Против костела Капуцинов выстроен ротными колоннами местный гарнизон. Впереди, в парадной форме, генерал Вод-зицкий. Правее, ближе к Кажмержу, городские ратманы с президентом Лихоцким во главе. От Шевцкой улицы до щели Флориянского переулка стоят ремесленники. Реют цеховые знамена, шелестят полотнища с надписями: «Свобода или смерть», «За право и свободу». Когда трубач на башне Марияцкого костела протрубил полуденный час, выехал Костюшко из узкой улочки Святой Анны. По обеим сторонам — Рафаил Коллонтай и генерал Зайончек; за ними, по трое в ряд, штабные офицеры и патриоты в штатском. Появление Костюшки на площади было встречено кличами: «Виват!», «Нех жие!», «Костюшко с нами!» Генерал Водзицкий подошел с рапортом. Началась присяга — присягали солдаты и офицеры местного гарнизона: «Присягаю, что буду верен польскому народу и повиноваться Тадеушу Костюшке, наивысшему начальнику, призванному народом для защиты вольности, свобод и независимости ойчизны». Наступила тишина. Костюшко поднялся на возвышение. Он был виден от края до края. Его густые и длинные пепельные волосы, пронизанные солнцем, сияли, точно золотая корона. В тишину ворвался звонкий голос: «Я, Тадеуш Костюшко, присягаю перед лицом бога всему народу польскому, что вверенную мне власть я не употреблю на угнетение, а исключительно для защиты наших границ, для восстановления самодержавия народа и укрепления всеобщей свободы употреблять буду…» Тишина стояла такая, что каждое слово присяги, дойдя до стен высоких домов, возвращалось на площадь ясным эхом. Народ рванулся с места: все хотели оказаться как можно ближе к человеку, с именем которого связаны надежды на счастливое будущее; к человеку, которому он поверил и сердцем и разумом. В ратуше продолжались торжества: президент Лихоцкий зачитал «Акт восстания граждан — жителей воеводства Краковского»: «Всему свету известно теперешнее состояние несчастной Польши. Подлость двух соседних государств и преступления предателей ойчизны столкнули ее в эту пропасть. Желая уничтожить само имя Польши, Екатерина II в сговоре с вероломным Фридрихом Вильгельмом осуществила свой беззаконный замысел…» Народ подписывает этот акт, и слезы текут по лицам. Впервые в Польше мещане и крестьяне призваны вершить государственные дела; впервые в Польше появятся на важнейшем государственном акте подписи тех, которые до этого дня были лишены всяческих прав; впервые в государственный акт включены не одни только ясновельможные шляхтичи, но и мещане, ремесленники, крестьяне; впервые в государственном акте ясно сказано, что все поляки «граждане одной земли». Именно от их имени начальник вооруженных сил Тадеуш Костюшко получил власть, получил права диктатора. Мещане, ремесленники, рыбаки, купцы, крестьяне, подписав акт, подходили к соседнему столу и клали на тарелки золото, серебро и даже медные кольца. Каждый давал сколько мог, но давали от всего сердца, со слезами радости. Когда рыбак Ян Гржива положил на тарелку двадцать злотых, а видно было, что это все его состояние, Костюшко обнял его, прижал к своему сердцу.
Прошла неделя в трудах, в заботах, в совещаниях и собраниях. Костюшко рассылал воззвания, письма: войскам, духовенству, шляхте, польским женщинам. Кузнецы ковали оружие, портные шили обмундирование, сапожники тачали сапоги, мещане на дому и во вновь организованных мастерских готовили белье, купцы собирали деньги, продукты, ценности. Костюшко вызвал из Саксонии Гуго Коллонтая и Игнатия Потоцкого. Коллонтай, несмотря на приступ подагры, немедленно собрался в путь, и это удивило Потоцкого. «Неужели он испугался, — подумал Потоцкий, — угрозы, которая слышалась в письме Костюшки?» Потоцкий присутствовал при прощальной беседе Костюшки с Коллонтаем. — Остерегаю и заклинаю вас, генерал, не начинайте восстания до тех пор, пока не будете уверены, что к вам примкнут хотя бы три воеводства: Краковское, Сандомирское и Люблинское. Вспомните кампанию девяносто второго года: энтузиазма было много, а пользы почти никакой. Лучше не начинать, чем вовсе погубить дело. Потоцкий получил донесение, что, кроме Кракова и какой-то части его округи, ни одно воеводство не пристало к восстанию. Об этом он сказал Коллонтаю. — Дорогой Игнатий, — ответил Коллонтай, поглаживая больное колено. — Надо решиться на любое усилие, которое способно стереть позор нашего поколения. Вместе с Костюшкой начали, вместе с ним и должны продолжать. В перспективе? Все зависит от народа. А разве польский народ не способен подняться до таких вершин и побеждать логике вопреки, подобно французам? Способен, дорогой Игнатий! К тому еще учтите время. Французская революция подложила мины под все европейские деспотии. Нам еще трудно оценить все значение этой революции, но произошло что-то грандиозное, и оно работает на нас. Едем, дорогой Игнатий! Потоцкий вел в эти дни переговоры с французским правительством через своего представителя Брасса. Робеспьер сказал Брассу: «Пусть поляки начинают, а французы сделают все, чтобы потоки всяческой помощи поплыли в их страну». Кроме всего этого, Берлин и Петербург настойчиво потребовали от саксонских властей ареста Коллонтая и Потоцкого как зачинщиков восстания. — Вы правы, пан Гуго. Едем, — подвел Игнатий Потоцкий итог своим мыслям.
17 апреля они уже были в Кракове. Гуго Коллонтая вынесли из кареты на руках: не мог из-за подагры передвигаться. Несмотря на это, он тут же принялся за дело. Лихоцкий, президент Кракова и тарговичанин, перешедший к Костюшке из трусости, пишет в своем дневнике: «Прибыл в Краков имч Гуго Коллонтай, каноник краковский и коронный подканцлер, около которого немедленно зароились, словно слепни или мухи, мнимые патриоты… Он составил уголовный суд для устрашения людей… Эти деятельные патриоты бросились с благословения прелата Коллонтая в костелы, изъяли оттуда серебро, сосуды, из святых реликвий вылущивали ножами серебро…» Конечно, тарговичанин и трус Лихоцкий клевещет, но из его дневника видно, какую деятельность развернул Коллонтай в первые же дни восстания.
Генерал Мадалинский вырвался, наконец, из окружения и двигался к Кракову. Явился и Ян Шляский со своими кракусами. Они выстроились для смотра. Костюшко видел в Америке немецких наемников в ярких камзолах, шотландцев с клетчатыми одеялами через плечо, негров, босых и в мешковине, фермеров с Запада в кожаных штанах и широких шляпах, но такого войска, как кракусы, Костюшко никогда еще не видел. В сермягах, на голове войлочные каптуры, в широких штанах из домотканой холстины, а в руках толстые колья с расточенными косами, насаженными на них торчком. Все кряжистые, широкоспинные, с лицами, точно высеченными из камня. «Это зухы[41],— подумал Костюшко, — они будут драться точно так, как работали: со всего плеча». Вслед за кракусами пришли гурали из-под Закопане — пятьсот человек. Но можно ли в несколько дней собрать, снарядить и обучить армию? Это не дано никому. А неприятель уже приближался. 1 апреля пришлось Костюшке выступить из Кракова, выступить с тем, что было у него под рукой: тысяча солдат Краковского гарнизона, две тысячи плохо вооруженных добровольцев, бригада Мадалинского и отряд Мангета — всего тысяча шестьсот сабель и две тысячи кракусов. Костюшко двигался на север в сторону Радома, где русский посол Игельстром накапливал силы для разгрома повстанцев. В верстах шестидесяти от Кракова, возле деревни Рацлавицы, Костюшко решил закрепиться: его инженерный глаз нашел позицию, удобную и для боя и для обороны. Поле, перерезанное глубоким и длинным оврагом, горка, а по другую сторону поля, откуда придут русские, густой лес. Костюшко велел окапываться лицом к лесу. Сам занял центр, справа поставил генерала Мадалинского и Мангета с кавалерией, слева — генерала Зайончека с пехотой. Кракусов он оставил в резерве за горкой. Костюшко знал, что из-за леса появится шеститысячный авангард русского генерала Тормасова. Встретятся крестьяне с крестьянами: русские мужики, которые знают, что ни поражение, ни победа не повлияют на их рабскую долю, и польские хлопы, которые верят, что победа раскроет перед ними путь к вольной жизни. Этот моральный перевес, верил Костюшко, скажется на стойкости необученных повстанцев. Около трех часов выскочил из леса казачий разъезд, он проскакал вдоль польских окопов и исчез. Наступила тишина. Вдруг заурчало вдали, глухо, словно дальний гром, и из-за леса прилетел первый снаряд. Опять тишина. Костюшко с одним только адъютантом Фишером отправился вдоль фронта проведать окопы, а когда вернулся на горку, увидел: русские уже выкатили орудия впереди леса, уже окружили батареи земляными валами. Тут же, под заслоном артиллерийского огня, русская пехота двинулась против Зайончека. У генерала Зайончека были одни необученные добровольцы. Натиск русских был стремительный: добровольцы дрогнули, попятились. — Мадалинского налево! — распорядился Костюшко. Кавалерия Мадалинского на карьере поспешила на выручку Зайончека.
 Битва под Рацлавицами.
Битва под Рацлавицами.
Тем временем из лесу вышли еще две колонны. Одна, самая большая, под командой генерала Тормасова, двигалась к центру, на Костюшко, другая — на правое крыло, где стоял одинокий отряд Мангета. Костюшко перестроил фронт своей артиллерии: весь ее огонь он направил на колонну, двигающуюся к Мангету. Русские пехотинцы залегли. Колонна же Тормасова натолкнулась на овраг, и этот овраг замедлил ее движение. Костюшко мгновенно воспользовался затруднением, в которое попал его противник. Он отправился к кракусам: — Заберем, зухы, русские орудия! Вперед! Бог и ойчизна! Костюшко спешился, взял карабин наперевес и впереди своих кракусов побежал в сторону русской артиллерии. Кракусы вихрем налетели на артиллеристов. Они работали своими остро отточенными косами неистово и с остервенением, как привыкли работать на панщизне, под батогом управителя. Русские пули выбивали из их рядов то одного, то другого, но подбадривающие зовы самого главного начальника удваивали, утраивали их стойкость. Кракусы и в бою держались семьями, они геройствовали на глазах свата, тестя, брата; в пылу боя только и слышно было: — Мацей! Не отставай! Шимек! Налегай! Крестьянин Войчех Бартос первым ворвался на батарею и колпаком прикрыл фитиль, который русский артиллерист в эту минуту подносил к орудию. За Бартосом, отбрасывая косами охрану, приближались мацей и шимки — вскоре трехорудийная батарея была в руках кракусов. Костюшко тут же поворачивает орудия против колонны Тормасова. Но уже идет в атаку свежая колонна — генерала Денисова: она спешит на помощь артиллеристам. Наперерез этой колонне вырвался Зайончек со своими гуралями, а конники генерала Мадалинского налетают на эту же колонну с фронта. Костюшко, видя, что с флангов минула угроза, бросается со своими кракусами на следующие батареи, отбивает у русских еще восемь орудий, и эти орудия он поворачивает на колонну Денисова. Генерал Тормасов к этому времени уже вывел свой батальон из оврага и направился в тыл Костюшке. Кракусы повернули фронт; дрались с яростью людей, которые рвутся из тьмы к солнцу. Русские отступили. Вечереет. Поле, обильно усеянное трупами, осталось за поляками. Костюшко прижал к груди пожилого кракуса и сквозь слезы, сквозь волнение, сжимавшее горло, шептал: — Чтоб вы были свободны… Успокоившись, Костюшко взобрался на пригорок и вызвал к себе Войчеха Бартоса. Последние лучи солнца окропили румянцем усталое лицо Костюшки. Он снял шляпу и сказал громко, на все поле: — От имени ойчизны благодарю тебя за мужество в первом бою за нашу свободу! От имени ойчизны награждаю тебя офицерскими погонами и дарую тебе дворянское звание. Отныне ты будешь не краковским хлопом Бартосом, а польским шляхтичем Гловацким! Заиграли трубы, забили барабаны, и под вечерним небом перекатывался торжественный клич: — Виват Костюшко! Когда стихли радостные клики, Костюшко поблагодарил особо отличившихся офицеров, а потом скинул с себя генеральский мундир и облачился в сермягу кракуса, подчеркивая этим свою неразрывную связь с простым людом. В простоте этого поступка, вызванного велением сердца, больше славы для имени Костюшки, чем его победа под Рацлавицами. В этом поступке сказался и разум политика, и любовь к обездоленному хлопу, и призыв шляхты не только сблизиться с хлопом, но и понять, что польский хлоп, свободный и равноправный, будет служить своей отчизне верно, мужественно, как он это делал на поле боя под Рацлавицами. В этом простом поступке и кроется заветная идея Тадеуша Костюшки: возрождение родины надо искать в единении всех слоев польского народа.
В Варшаве бурлило. Король Понятовский выпустил 2 апреля воззвание к народу: «…Франция, которая гибнет от беспорядков, вводит вас в обман, будто восстание покончит с беспорядками… Восстание — интрига чужеземцев, интрига, которая является орудием в руках продажных людей…» Король Станислав Август Понятовский осуждает интриги и продажность! В кафе Дзерковского и Метки собирались патриоты. Там они вырабатывали планы совместных действий и составляли списки будущих боевых отрядов, там же зачитывались письма от Костюшки. В Старом Мясте, то в одной, то в другой ресторации, собирались ремесленники: сапожники, мясники. Их поводыри — Юзеф Мейер и Казимир Конопка — звали в- бой не только за «свободу ойчизны», но и за «свободу, равенство и братство», за методы Французской революции, за «аристократов на фонарь». Шляхта выжидала. Даже лучшая ее часть колебалась между возможностью завоевать независимость родины и опасением потерять свои земли и привилегии. Почти все они желали успеха Костюшке, но помогать ему не хотели. Победа Костюшки под Рацлавицами повлияла и на шляхту и на патриотов. Первые перестали даже мысленно поддерживать Костюшку, вторые воспрянули духом и готовили Костюшке достойную встречу.
Перед заседанием военного совета Костюшко написал письмо Шуйскому, помещику, чьим крепостным был Войчех Бартос: «Войчех Гловацкий, гренадер краковской милиции, родом из деревни Жендовиц старосты Шуйского, в схватке дня 4-го текущего месяца и года проявил мужество, первым ворвавшись на неприятельскую батарею. Награждая его за отвагу, я возвел его в хорунжии этого же полка краковских гренадеров… Я возношу просьбу к старосте Шуйскому за Гловацкого, дабы он соизволил облегчить труд его семьи, стал ей отцом в его отсутствие…». Это письмо послужило поводом для острого разговора. Гуго Коллонтай, всегда спокойный, сдержанный, прочитав письмо, бросил его на стол. — Я поражен… Поражен, имч пан Костюшко! — Что вас поразило? — Вы вождь, вы диктатор, вы должны приказывать, а не униженно просить! — возмущенно ответил Коллонтай. — Кого вы просите? Шляхтича, который живет в районе, где вся власть принадлежит вам. Какой авторитет может быть у власти, если глава этой власти обращается к своему подданному не с приказом, а с униженной просьбой? Ведь успех нашего святого дела зависит от этих шуйских. Дадут они своих хлопов — победим, не дадут — что тогда? А шуйские уж так воспитаны: перед сильным спину гнут, перед ’слабым нос задирают. А какая сила кроется в униженной просьбе? — Но ведь Гловацкийсобственность Шуйского, — пытался Костюшко оправдываться, хотя понимал, что Коллонтай прав. — Как я могу распоряжаться чужой собственностью? — Во время войны нет чужой собственности! Высшая власть может конфисковать для блага родины любую собственность. Даже если эта собственность не вещь, а человек. — Не согласен, имч пан Коллонтай. Не согласен. Так мы можем до гильотины докатиться. — Это, имч пан Костюшко, от нас не зависит. У истории свои законы. Мы же, люди, обязаны руководствоваться теми законами, которые действуют сегодня. А сегодня действует у нас один-единственный закон — закон войны. Приятно это нам или неприятно, но любая война идет об руку с насилием. — Тогда, ваша эминенция, вынужден заявить вам, что я буду действовать без насилия и я насилия не допущу. — Тогда… — Что бы ни случилось тогда. — Костюшко вызвал адъютанта и приказал ему отправить письмо старосте Шуйскому. На плечи Костюшки история взвалила непосильный для него труд. Чистый сердцем, он не хотел быть деспотом, он не хотел карать своих противников, а предпочитал взывать к их гражданской совести.
В конце апреля Костюшко перешел в Сандомирское воеводство и расположился лагерем под Поланцем, на Висле, чуть выше Кракова. Весть о победе под Рацлавицами вихрем пронеслась по стране. Не расформированные еще части, те, что были размещены между Вислой и Бугом, ушли к Костюшке, не считаясь с угрозами своих начальников. Из-под Бердичева выступил на помощь повстанцам кавалерийский полк Вышковского. К повстанцам поспешили кавалерийские части Лажнинского и Копец. Полковник Држевицкий собрал в радзивилловских лесах две тысячи лесорубов и вступил с ними в Волынь. Восстала Варшава. Там хозяйничали изменники-тарговичане, там хозяйничал русский посол Игельстром. Они объявили Костюшко бунтовщиком, а король добавил еще и от себя, что восстание, связанное с Французской революцией, является позором, «наивысшим поражением и предательством польских свобод». Во всех костелах, со всех амвонов иезуиты и их ставленники предавали повстанцев анафеме. Игельстром не довольствовался одним колокольным звоном и анафемами, он выслал навстречу Костюшке три дивизии, а его квартирмейстер генерал Пристор разработал дьявольский план захвата варшавского арсенала и разоружения польского гарнизона. 18 апреля, в страстную неделю, когда весь столичный люд будет находиться в костелах, русские войска, по плану Пристора, должны были окружить молитвенные дома, закрыть народу выход на улицы, а в это время казаки займут арсенал и разоружат польский гарнизон. Но Варшава была уже не та, какой была несколько месяцев тому назад. Подпольные революционные кружки уже были связаны друг с другом. Военной организацией руководил полковник Гауман, командир образцового полка. Ему помогали генерал Чиховский, комендант арсенала, и Войчеховский, командир королевских улан. У них под ружьем состояло 2 300 человек. Революционеры узнали о подлом плане генерала Пристора. На объединенном делегатском собрании мещан, ремесленников и военных было решено: поднять восстание в ночь с 17-го на 18-е. На рассвете выступили уланы. У Желязной Брамы они сбили первый русский пикет. Мещане под водительством Мейера и Конопки бросились к арсеналу, где их уже ждали солдаты Чиховского. Оружие было роздано в течение получаса. Полковник Гауман во главе 400 солдат шел с Уяздовских Аллей через Краковское Предместье, а ему навстречу двигались ремесленники под командой сапожника Яна Килинского. Ремесленникам пришлось прорываться сквозь кольцо драгун и казаков, охранявших Медовую улицу, — там находилась резиденция посла Игельстрома. В боях с русскими конниками сапожник Килинский проявил себя не только храбрым воином, но и тонким стратегом. Он умно использовал приусадебные сады. Русские кавалеристы были стеснены в своих действиях заборами и домами, а Килинский, зная все калитки и пролазы, появлялся то в тылу казаков, то в их центре. Игельстром ждал подхода двухтысячного отряда пруссаков, чтобы, объединившись с ними, задушить восстание в зародыше. Но пруссаки не спешили на помощь своему русскому союзнику: им было выгодно его поражение. Кольцо повстанцев смыкалось вокруг Медовой. Отдельные русские отряды, не сумев пробиться к Игельстрому, отступили к Праге. Отдельные роты закреплялись во дворце Игельстрома и в ближайшие домах польских магнатов. Разнеслась весть: «Игельстром бежал!» Повстанцы пошли на штурм. Из окон дворца и магнатских домов косили их пули, падали скамьи и шкафы, но ярость нападавших была так велика, что даже раненые не уходили из строя. Ни один из дворцов не устоял. Повстанцы врывались в них, как смерч, уничтожая все на своем пути: людей, мебель, утварь, картины. Из дворца Игельстрома Килинскому удалось спасти один только архив, а в архиве — списки платных агентов русского посла. К утру улицы Варшавы были усеяны трупами: русских и поляков. Сеча еще продолжалась, а отряды Мейера и Выбицкого уже вели на арканах главных тарговичан: епископа Юзефа Коссаковского, великого коронного гетмана Ожаровского, литовского польного гетмана Забелло и маршалка Анквича… Около пяти часов Варшава оказалась в руках повстанцев. Но победой воспользовались не те, что шли в бой за «свободу, равенство и братство», — власть захватил шляхетско-буржуазный блок. Он учредил Временный замещающий совет и комендантом города назначил своего человека — генерала Мокроновского. Сапожнику Яну Килинскому присвоили звание полковника. Наступила пасха. Под напором народа ксендзы были вынуждены служить в костелах благодарственный молебен «по случаю освобождения Варшавы». Король направил Костюшке письмо, в котором писал, что он, король, будет довольствоваться властью в таком объеме, в каком Костюшко найдет нужным ему предоставить.
В ночь с 22 на 23 апреля вспыхнуло восстание в Вильнюсе. Вся ярость повстанцев, вся их ненависть была обращена не против русского гарнизона, а против своих польских предателей и самого подлого из них — великого гетмана литовского Шимона Коссаковского. 25 апреля он уже висел на Торговой площади. Вслед за Вильнюсом восстали и другие города: Либава, Гродно. Деревни под Вильнюсом выставили двести крестьян, среди них впоследствии отличившийся Лукаш Калиновский, которому, подобно кракусу Гловацкому, было присвоено офицерское звание; Гродненский уезд снарядил 5 тысяч рекрутов; генерал Ельский собрал кавалерийский полк в 1 200 сабель, восьмитысячный отряд сформировался в Жмуди. Но не о таких крохах мечтал Костюшко. «Наша война, — писал он 12 мая, — война особого характера, которую надо понять. Ее успех основан в первую очередь на распространении энтузиазма и на всеобщем вооружении всех живущих на нашей земле. Кроме того, надо пробудить любовь к ойчизне в тех, которые даже не знали, что имеют ойчизну. Выставить сразу 100 тысяч войск трудно в наших условиях, но собрать 300-тысячную массу легко, если этого искренне захотят помещики и ксендзы, которым народ позволяет собой руководить». Но помещики, за незначительным исключением, не понимали или, правильнее, не хотели понимать своего вождя. Помещиков кормила земля, а землю обрабатывали хлопы. Приближается жатва, и польский помещик, спокон веков живший трудом своих подданных, даже вообразить себе не мог, независимо от того, сочувствует или не сочувствует восстанию, что он вдруг окажется без своих хлопов. Тут, кроме классового инстинкта, на сознание помещиков еще влияла и историческая традиция: моя земля, мой хлоп. К сожалению, и сам Костюшко, идущий в бой за тех, которые даже не знали, что у них есть отчизна, — сам Костюшко, движимый благородными целями освободить крестьян из панской неволи, очень мало сделал для того, чтобы осуществить свои цели. Вместо того чтобы во всеуслышание заявить о своей заветной цели, он, наделенный полнотой власти, сам отодвинул решение крестьянского вопроса до полной победы восстания. 7 мая он издал «Поланецкий универсал». Составил его Костюшко в содружестве с Гуго Коллонтаем. Универсал предоставлял крепостным личную свободу, но уйти от своего помещика они могли только после того, как полностью рассчитаются с ним и внесут налоги государству. На время восстания размеры барщины сокращались почти наполовину. Для крестьян, участвовавших в восстании, барщина вовсе отменялась, а их хозяйство поручалось заботам и попечению помещиков и гмин. За крепостными признавалось наследственное право на обрабатываемую ими землю. Особыми параграфами Костюшко предупреждал о том, что нарушение постановлений универсала будет преследоваться судом и караться. Универсал не создал необходимых условий для массового участия крестьян в восстании, но предоставление личной свободы крепостным и уменьшение феодальных повинностей уже являются значительным шагом вперед по сравнению с «Конституцией 3 мая». Костюшко понимал, что этот акт не удовлетворит крестьян, однако общественную пользу универсала он видел в том, что впервые в государственном акте проявляется забота о крестьянине. Костюшко радовался уже тому, что универсал призывает хлопов отвечать наряду со шляхтой за благополучие своей родины. Правда, к концу восстания Костюшко заготовил «Новый универсал»: наделить землей тех крестьян, которые мужественно выполняли свой воинский долг, но… восстание было подавлено, «Новый универсал» не был обнародован. Опасения Коллонтая оправдались: крестьяне поняли, что даже победа в войне не принесет им освобождения от помещичьего рабства. Они не бежали с поля боя, не покидали своих знамен, но героев гловацких среди них уже не находилось. А ведь только сейчас начинали развиваться военные действия, и от стойкости крестьян, от их желания геройствовать зависела судьба восстания. Май был жаркий, душный. Гроза нагоняла грозу. Набегали стремительные ливни, и не успевала высохнуть земля, как начинался свежий дождь. Однако в лагере Костюшки жизнь шла по заведенному порядку: стрельбища, рубка, рытье окопов.
 Полковник Ян Килинский.
Полковник Ян Килинский.
 Полковник Берек Иоселевич.
Полковник Берек Иоселевич.
 Т. Костюшко в старости. С картины Кс. Цельтнера.
Т. Костюшко в старости. С картины Кс. Цельтнера.
Штаб был расположен в аббатстве. С утра дотемна Костюшко составлял послания, писал приказы, изучал рапорты командиров отдельных частей и тут же отвечал на них. Юлиан Урсын Немцевич, начальник канцелярии, едва поспевал оформлять эти резолюции. Костюшко был суров и серьезен. На его лице, высохшем, с заострившимися скулами, отражалось внутреннее напряжение. Поздно вечером он ужинал: кислой капустой, черным хлебом, запивая стаканом пива, но тяжелые думы не покидали его и за едой: поднесет кусок хлеба ко рту, и рука повисает в воздухе, взгляд устремлен вдаль, а на лице застыло выражение упорства и страдания. 28 мая поголубело небо, засияло солнце — все вокруг заискрилось, оживилось. Костюшко работал. Вдруг около полудня донесся со двора взрыв буйной радости: «Виват Понятовский!» Мелькнула мысль: неужели король? Костюшко подошел к окну. Из открытой коляски сошел на землю стройный молодой человек в штатском. Солдаты и штабные офицеры окружили его, их лица сияют. — Юзеф Понятовский, — тихо сказал Костюшко, — он-то откуда взялся? В эту минуту вошел в комнату Немцевич. — Письмо от имч пана Коллонтая. Спешное. — Посмотри, Урсын, как встречают князя Юзефа. Немцевич встал рядом с Костюшкой. — Обрадовались панове офицеры. — И солдаты, — грустно добавил Костюшко. — Видно, те, что воевали с ним. — Не только. — Красавец, племянник короля, храбрый солдат — все это импонирует. — Немцевич протянул письмо. — Курьер предупредил, что имч пан Коллонтай просил немедленно вручить вам этот пакет. Вскрыть? Явился адъютант. — Его светлость князь Юзеф Понятовский просит имч пана главного начальника принять его. — Пусть войдет. Юзеф Понятовский был во фраке, с австрийским орденом на шее. Он огляделся в комнате: стол, несколько табуреток, кровать с соломенным тюфяком. Костюшко в полотняной куртке без погон. Понятовский смутился. И хозяин и обстановка показались ему необычными. — Что князю угодно? — услышал он сухие слова. — Служить хочу. — Дяде или народу? — Полагаю, что это одно и то же. — Сегодня это не одно и то же. — Костюшко указал на табурет. — Прошу. Ты, князь, засиделся в Бельгии. Что-то задерживало? Но ты все же приехал, и это хорошо. Можешь, князь, сейчас принять команду? — Сначала хочу в Варшаву. — Что ж, поезжай, князь. Понятовский не ушел. Немым укором смотрели его глаза. Костюшко понял, что беспокоит нежданного гостя, он подошел к нему и торжественно сказал: — Я не забыл, князь, кто ты, и знаю, что ты хочешь от меня. Знай, князь, что революция эта, как бы успешна она ни была, не будет направлена против особы короля. — Верю тебе, честный Костюшко, — и, щелкнув по-военному каблуками, удалился. Костюшко и Немцевич подошли к окну. Солдаты и офицеры опять встретили князя радостным «виват». Костюшко грустно взглянул на Немцевича. — Знаешь, Урсын, как началась Вандея? Немцевич понял, что волнует Костюшко. — Дорогой Тадеуш, — ответил он мягко, — у нас Вандеи не будет, потому что не было революции, — А как ты называешь то, что у нас есть? — Инсурекцией. — Заблуждаешься, Урсын. Висла у истоков тоже течет узенькой струйкой. Инсурекция — это начало. Набравшись сил, она становится революцией. — Тогда не понимаю, Тадеуш. Почему ты предложил ему команду? Почему пускаешь волка в овчарню? Если король вызвал его из Бельгии для того, чтобы начать Вандею, то проще всего не пускать в армию. Ведь князь Юзеф опаснее своего дядюшки: он умен и энергичен, в месяц сплотит Вандею. — Опять, Урсын, заблуждаешься, — ответил Костюшко спокойным голосом. — Враг, что на виду, не опасен. И кроме того, Урсын, я не верю, что князь Юзеф враг, он честный человек. И как ты сказал, еще и умен, да еще и честолюбив. В Польше он князь Понятовский, а на чужбине — кавалерийский офицеришка. Он эту разницу понимает. Но об этом в другой раз. Читай письмо. Письмо было пространное, написанное тем точным и строгим языком, каким Коллонтай обычно писал свои статьи. Прослушав письмо, Костюшко молча вернулся к своему столу и принялся за прерванную работу. Но работать, видимо, не смог: не то мешал стоявший рядом Немцевич, не то думал о письме Коллонтая. — Что ты скажешь? Это осторожность обывателя или прозорливость политика? — спросил он. — Со стороны Коллонтая? — Да. Со стороны Коллонтая, — ответил Костюшко раздраженно. — Неужели он полагает, что Пруссия собирается с нами воевать? — А зачем прусский корпус генерала Фаврата вступил в пределы Краковского воеводства? — Затем, чтобы Австрия не заняла это воеводство. — Но ведь с Австрией у нас хорошие отношения, — возразил Немцевич. — Зачем бы она стала занимать Краковское воеводство? — Прусский король не верит в длительность наших хороших отношений с Австрией. Поэтому он послал корпус туда, чтобы в случае осложнения оказаться на месте. — Дай бог, чтобы было так. — А по-твоему, Урсын, не так? — Так и не так. Тадеуш, ты прекрасно знаешь, что прусский король — существо коварное и подлое. Он держал корпус у ворот Варшавы… — Но в город не вошел, в нашу свару не вмешался… — Да, Тадеуш, не вмешался. И Коллонтай в своем письме объясняет почему. Им тогда было не до нас. Бунтовали рабочие в Силезии. В самом Берлине происходили беспорядки. Австрия тогда тоже не вмешивалась в нашу борьбу. Коллонтай и это объясняет: Австрия была занята войной с Францией. Теперь, пишет Коллонтай, эти сдерживающие причины отпали. Костюшко поднялся. Он видел, что Немцевич волнуется — его круглое лицо было влажно, его полные мягкие губы дрожали. — Успокойся, Урсын. Я не полезу в болото с завязанными глазами. 29 мая была создана в Варшаве Наивысшая народная рада, к ней перешла полнота государственной власти. Членами рады были Гуго Коллонтай, Игнатий Потоцкий, Ян Килинский, Эльаш Алое, Линовский, Зайончек, Сераковский, Капостас и другие патриоты, готовившие восстание. Коллонтай ведал финансами и управленческим аппаратом, Игнатий Потоцкий — внешними сношениями. Рада освободила Костюшко от кропотливых дел по управлению страной и дала ему возможность сосредоточиться на вопросах, связанных с ведением войны. Костюшко так доверял Коллонтаю, что «подписывал на барабане в походе» все, что Коллонтай советовал ему подписывать. Костюшко утвердил законопроект об изъятии церковных ценностей, утвердил новый налоговый закон и проект чеканки монеты с надписью: «Свобода. Единство. Независимость». Все эти проекты были составлены Гуго Коллонтаем. Коллонтай оказался блестящим финансистом, блестящим политиком. Но когда дело касалось взаимоотношений с иностранными государствами, Костюшко прислушивался к советам Игнатия Потоцкого: Костюшко знал, что у Потоцкого имеются чуткие уши при русском, прусском, австрийском и французском правительствах. Вечером этого же дня Костюшко запросил Потоцкого, произошли ли изменения в польско-прусских отношениях или предвидятся такие изменения. Потоцкий ответил категорически: «Нет!» Костюшко двинулся на северо-запад и 6 июня натолкнулся на объединенную русско-прусскую армию возле деревни Щекочины, верст пятьдесят от Рацлавиц. У Костюшки было 14 тысяч солдат, у неприятеля — 26 тысяч. Но Костюшко верил, что пруссаки, стоявшие лагерем в восьми верстах справа от русских, не примут участия в сражении. Времени для возведения фортификационных сооружений не было, и Костюшко принял бой в открытом поле. Как только русская артиллерия закончила подготовку и русские кирасиры пошли в наступление, прискакал к Костюшке гонец из резервного корпуса генерала Водзицкого с известием, что с тыла их атакуют казаки. Армия Костюшки оказалась в кольце. Исчезло понятие «фронт, тыл»: дрались ротными колоннами, дрались среди обозных повозок. Исход боя могло решить количество, ибо по мужеству польские повстанцы не уступали опытным русским кирасирам. Костюшко решил держаться до заката. Его армия таяла. Уже погиб генерал Водзицкий, уже убиты командиры полков Насельский и Гроховский, проткнутый штыком, свалился Войчех Гловацкий — первый хлоп, добывший офицерские погоны, уже ранен под Костюшкой второй конь, а сражение все ширится, растекается на отдельные островки. И тогда, когда Костюшке казалось, что его солдаты все же выстоят, что близкие сумерки спасут его армию от разгрома, когда, собрав уцелевших кракусов, бросился с ними в контратаку против русского батальона, в это время выскочили на поле прусские уланы и с остервенением пьяных мясников рубили палашами и тех, что еще держали в руках оружие, и тех, что в плен сдавались, и тех, что брели на перевязочные пункты, обагряя свои следы собственной кровью. Повстанцы отступили, оставив на поле около тысячи трупов, отступили спешно, в беспорядке. Налетали свежие эскадроны прусских улан, завязывались короткие схватки, и опять дальше, дальше. Утром Костюшко очутился в лесу. Один. Он сошел с коня. Сияет солнце, поют птицы, а в его ушах звучат стоны, перед его глазами — реки крови. Он обманул своих солдат. Они верили в него, верили в его опыт, а он, Костюшко, бросил их в бой, поверив Потоцкому, что пруссаки останутся только зрителями. Обманул! Ведь Коллонтай предупредил его, что вероломные пруссаки опять выпускают когти. Значит, и Австрия скоро появится на поле боя. Выстоит ли крохотная польская армия? Должна выстоять! Костюшко собрал всю свою душевную силу, всю свою энергию. В походе он приводил в порядок остатки армии, в походе он написал воззвание: «Народ, настал час испытания стойкости твоего духа, первый день со времени восстания, когда ты можешь печалиться, но не имеешь права отчаиваться. Разве ты был бы достоин свободы и независимости, если бы не сумел перенести переменчивость судьбы?» И, сославшись на «древние и новые примеры, когда народы, будучи на краю гибели, не теряли мужества и, близкие к падению, побеждали неприятеля», Костюшко призывал поляков верить в конечную победу польского оружия. Но судьба готовила новые удары. 8 июня русские разбили отряд генерала Зайончека у Холма, а через неделю генерал Венявский позорно, без единого выстрела, сдал пруссакам Краков. Падение Кракова, хотя и не имело для Костюшки стратегического значения, нанесло восстанию огромный моральный удар: отдана врагу древняя столица — хранительница национальных сокровищ, город, первый выступивший с призывом к борьбе за «свободу, равенство и независимость». В эти дни Костюшко еще больше сблизился с Гуго Коллонтаем. По его совету Костюшко предложил командирам дивизии, буде они окажутся в Пруссии или России, объявить тамошним крестьянам, что они отныне свободны и в качестве свободных граждан могут вместе с польскими повстанцами продолжать борьбу за полное свое освобождение. Но этот коллонтаевский совет не принес пользы восстанию: польские дивизии не вторглись ни в Пруссию, ни в Россию. Он дал согласие Коллонтаю на посылку к донским казакам опытных агитаторов (и, конечно, денег) с целью убедить их единым фронтом выступить против крепостницы Екатерины. Зато шляхта из окружения Костюшки, боясь влияния Коллонтая, делала все, чтобы их поссорить. Ссоры они не добились, но нажим шляхты вскоре сказался. Приказы Костюшки стали менее категорическими. Он хотел сделать армию всенародной, но, касаясь набора крестьян, он не приказывал помещикам доставлять рекрутов, а обращался к их «благородным побуждениям». Даже тогда, когда Сандомирское воеводство отказалось выставить хотя бы одного рекрута, Костюшко не нашел возможным воспользоваться своими диктаторскими полномочиями. Костюшко-диктатор не сделал того, что считал нужным сделать Костюшко-гражданин. Между его желанием и исполнением стояла непреодолимая стена — эгоизм польской шляхты. Почему же Костюшко мирился с саботажем помещиков, прекрасно зная, что без большой армии задохнется восстание? Почему в его приказах звучат просьбы и заклинания, но нет в них грозных слов? Почему Костюшко ни разу, пусть даже для острастки, не покарал одного из тех, которые явно и нагло не выполняли его приказов — приказов высшей власти борющегося народа? Причин много — тут и мягкосердечие, и исторические традиции, и отсеченная голова в руках палача, а главное то, что он не мыслил себе народной армии без руководства шляхты, без той просвещенной прослойки, которая много веков руководила простым людом. Костюшко расходился с Гуго Коллонтаем в основном: он не верил, что польский хлоп, темный, забитый, сможет без руководства шляхты противостоять сильному внутреннему и еще более мощному внешнему врагу. Костюшко предлагал сначала освободить родину от внешних врагов, а уж потом приступить к реформам. Но одновременно вести войну и проводить реформы было Костюшке не под силу. Лишь впоследствии, в 1800 году, осмыслив уроки истории, Тадеуш Костюшко написал: «Желая просветить народ, необходимо его сначала освободить».
Повстанческая армия, хотя и оправилась после Щекочин и Холма, все же оказалась слишком слабой, чтобы оставаться в пределах Краковского воеводства. Костюшко решил двигаться к Варшаве. Не дойдя еще до Варшавы, Костюшко неприятно был поражен известием о новых волнениях в столице. 8 мая варшавские патриоты вынудили Временную раду осудить и повесить арестованных руководителей Тарговицы: епископа Коссаковского, гетманов Ожаровского, Забелло и маршалка Анквича. Расправившись с главнейшими предателями, варшавские патриоты приступили к рытью окопов вокруг города, к сбору оружия, вещей и денег в фонд восстания, надеясь, что восстание скоро перерастет в общенародную войну. И вдруг — поражение под Щекочинами, под Холмом и предательство генерала Венявского, сдавшего без боя древний Краков. Возмущенный, озлобленный народ вышел 28 июня на улицу и сам начал расправляться со всеми, кто известен был как враг обновления. Убивали тарговичан, вешали предателей, ловили шпионов. Они извлекли из тюрьмы епископа Массальского, князя Четвертинского, Бокампа, Вульферса — изменников, состоявших на жалованье у русского или прусского послов. Массальского и Четвертинского народ повесил на Сенаторской улице, перед дворцом брата короля, примаса польской церкви Михаила Понятовского, кстати тоже изменника, который два месяца спустя, когда раскрылась его измена, покончил жизнь самоубийством. Король, шляхта и буржуазия — в панике. Они потребовали от Костюшки принятия решительных мер против «бунтовщиков». Костюшко выполнил это требование. «Бунтовщиков» арестовали, и «скорый суд» вынес им суровые приговоры. Как ни странно, но в подавлении восстания варшавских ремесленников принимал деятельное участие полковник-сапожник Ян Килинский. Семь зачинщиков восстания были повешены, а около шести тысяч человек схвачены сапожником Килинским и отосланы в лагерь Костюшки, из них был впоследствии сформирован ударный полк. Строгий приговор восстановил против Костюшки не только прогрессивно настроенных людей в Польше, но даже вызвал недовольство в Париже. Представитель Польши в Париже Брасс получил от французского правительства официальный запрос: «Как это случилось, что генерал Костюшко, который заверяет, будто для спасения Польши пользуется истинно революционными средствами, на практике поступает иначе? Как это случилось, что он щадит изменника Станислава Августа, а сам, будучи диктатором, признает его монархом? Что он поступает немилосердно строго с теми, которые справедливо заявляли, что, карая предателей, они служат интересам отчизны? Что, щадя интересы и привилегии шляхты, он боится объявить немедленное освобождение крестьян?» Брасс не мог ответить на эти вопросы, а Костюшко не нашел времени для переписки с французским правительством.
Варшавский люд, лишившись таких главарей, как Мейер и Конопка, притих, зато усилилась борьба между якобинцами (Гуго Коллонтай, генерал Якуб Ясинский, генерал Зайончек) и шляхетскими консерваторами. Якобинцы требовали применения энергичных мер для подавления реакции. Они даже составили проскрипционные списки, — в эти списки были внесены король и его родня, президент Закржевский и даже Костюшко. Шляхта, проникшая в Национальную раду, стремилась ликвидировать восстание. Дворцовая партия ставила ставку на князя Юзефа Понятовского. И в литовском войске назревала контрреволюция: группа офицеров писала королю, что они «не хотят быть подданными человека, который без королевского титула является наихудшим и наиболее кровавым деспотом и, быть может, в ближайший день покинет, обогатившись, страну». Это о Костюшке! Король приветил бунтующих офицеров и обещал им «не оставить их своей благодарностью». Интриги, козни и заговоры все же не отвлекли Костюшко от непосредственных обязанностей главнокомандующего. Он работал за многих, которые не делали своего дела, он работал почти круглые сутки.
Июньская жара сменилась июльским зноем. После трудного рабочего дня Костюшко вышел из накуренной комнаты. Солнце уже клонилось к закату. Солдаты группами сидели возле палаток, беседовали, пели пески. Горели костры, на треногах были подвешены котелки. Солдаты привыкли к вечерним прогулкам своего начальника, нелегко ему, ой, нелегко, не надо ему мешать. Вдруг Костюшко остановился: услышал знакомую песню. Он подошел к костру. Человек шесть, босые, в одном белье, лежали на земле, слушали певца.
Наделю вас реками-реками,
Наделю вас морем широким…
Немцевич любил своего друга начальника, поэтому-то и беспокоился за него. Не нравился ему Тадеуш, очень не нравился. Обычно мягкий, словоохотливый, склонный к шутке, Костюшко, как вернулся из Гродно, замкнулся, ушел в себя. Что и говорить, дела неважные. Русские заняли Вильнюс, не сегодня-завтра займут и Гродно. Но и в более трудные дни Тадеуш не терял бодрости. Вот он ходит взад-вперед по комнате, а в глазах такая тоска, что и Немцевича душат слезы. Спросить, в чем дело, — страшно: как бы еще больше не растревожить друга. Ночью Немцевич проснулся, его разбудил не то вскрик, не то стон. Он подошел к Тадеушу. Костюшко сидел на кровати, смотрел в окно. — Что с тобой, брат? — Странно, Урсын, — ответил Костюшко, не поворачивая головы, — второй раз вижу один и тот же сон. Мне душно, задыхаюсь, и нет у меня сил дотянуться до окна, распахнуть, впустить в комнату свежий воздух. Зову, кричу — никто не является. Умираю. И тут входит девочка, лет шести-семи, ножки пухленькие, личико румяное. Она распахивает окно, оправляет подушки под моей головой и серьезно, по-взрослому, с укором говорит: «Опять ты, дедушка, окно не раскрыл. Ведь ты старенький, тебе нельзя спать с закрытым окном». Немцевичу стало вдвойне больно: за человека, который тоскует по тому, чего у него нет, но что могло быть, и за диктатора, который в эти трагические часы находится во власти отнюдь не военных переживаний. День выдался трудный, работа не ладилась. Ремонт орудий задерживается, продовольствие не подвозят, воеводства не присылают рекрутов. В самом штабе — свара: одни тянут влево, другие — вправо. Костюшко устал, но, вместо того чтобы прилечь, он вышел на крыльцо. Точно змеи, петляют межи среди полей. Песчаная дорога взбирается на холм. По холму разбросаны крестьянские хаты. Белая колокольня вытягивает тонкую шею из кольца каштанов. К хате, где расположена хозяйственная часть, подъехал длинный обоз. С первой телеги сошли два человека и направились в сторону Костюшки. «Странная пара», — подумал Костюшко. Один — высокий, степенный, медлительный. По одежде — еврей: в длинной капоте, в высоких белых чулках и туфлях, на голове — в июльскую жару — круглая бархатная шапка, отороченная лисьим мехом. Другой — маленький, коренастый, подвижной. По одежде — хлоп: в коричневой сермяге, перехваченной цветным кушаком. На голове — суконный колпак. В руке — кнут. По лицу — тоже еврей. И шли они странно: пройдут несколько шагов, остановятся, поговорят, потом, сделав несколько шагов, опять останавливаются. Так они дошли до часового. Высокий снял меховую шапку, поклонился, а маленький отдал честь, по-военному и требовательно спросил: — Пан найвысший начальник у себя? Отозвался Костюшко: — У себя. Пропусти их. Маленький остановился перед Костюшкой по стойке «смирно»; его спутник достал из рукава капоты конверт, опечатанный сургучными печатями, и, склонившись, протянул его Костюшке. — Кто вы такие? — спросил Костюшко, принимая конверт. Маленький ответил четким голосом: — Пан найвысший начальник! Я, Берек Иоселевич, и рабби Иосиф Аронович явились к тебе с поручением от Варшавской еврейской общины. Костюшко вскрыл конверт: послание на четырех страницах, написанное четким каллиграфическим почерком: «Мудрейшему, достойнейшему, благороднейшему…» Костюшко поморщился: какая грубая лесть! Он не знал, что польские евреи в своих официальных документах сохранили стиль своих далеких-далеких предков, стиль дипломатических нот, адресованных какому-нибудь идумейскому или моавитянскому царьку, который считал себя если не сыном божьим, то по крайней мере его родственником. — О чем послание? — спросил Костюшко. — Община просит найвысшего начальника позволить евреям принять участие в войне за свободу, — по-военному отрапортовал Берек Иоселевич. Тут выдвинулся вперед рабби Иосиф. — Найвысший начальник! Ты произнес мудрые слова. Ты сказал, что свобода — моральная потребность души, что свобода нужна человеку, как свежий воздух для здоровья. За эти твои слова мы готовы отдать и свое имущество и свою жизнь. — Благородное желание, — сказал Костюшко растроганно. — Садитесь, друзья. — Когда уселись — С какими предложениями направила вас община ко мне? Берек Иоселевич поднялся и опять тоном военного рапорта доложил: — Община просит позволить нам сформировать из наших сынов полк легкой кавалерии.
17 июля Тадеуш Костюшко подписал приказ: «Нет человека на польской земле, который, видя, что народное восстание ведет к свободе и счастью, не пожелал бы присоединить к нему и свои усилия. Проникнутые этими побуждениями, Берек Иоселевич и Иосиф Аронович, евреи, помня о земле, на которой родились, помня, что они будут наравне с другими пользоваться добытой свободой, передали мне требование и свое желание сформировать из евреев полк легкой кавалерии. Похвалив их рвение, даю им разрешение вербовать людей для означенной части, снабдить их военным снаряжением и всем необходимым, дабы она, как можно скорее поступила под управление Речи Посполитой и как можно лучше дралась с неприятелем». Прошло пять дней, и на улицах Варшавы появилось воззвание: «Наш опекун и начальник войск Тадеуш Костюшко… решил употребить все усилия, чтобы создать из сынов Израиля отечественный отряд… Почему же нам, живущим в неволе, почему же нам не рваться к оружию и не добиться достойной человека свободы, нам, наиболее угнетенным из всех людей, на земле… Я удостоился счастья получить звание полковника от найвысшего начальника вооруженных сил. Восстаньте и идите за мной! Верные братья! Будем бороться за отечество до последней капли крови в наших жилах…» На воззвание Берека Иоселевича откликнулось столько добровольцев, что из них можно было сформировать две дивизии, но многим шляхтичам из Национальной рады показалось опасным неожиданное превращение ubogich zydkow[42] в молодцеватых кавалеристов. Доводы Костюшки не смогли перебороть столетнюю традицию. Решили ограничиться пока одним полком — полком Берека Иоселевича. На этом же заседании рады докладывал министр иностранных дел Игнатий Потоцкий о своих переговорах с английским правительством. Переговоры никого не заинтересовали: все понимали, что англичане преследуют какую-то свою дипломатическую цель и вовсе не собираются помогать восставшей Польше. Костюшко занимался арифметическими расчетами: складывал, вычитал, делил. Гуго Коллонтай, сидевший рядом с Костюшко, заинтересовался: — Что вы делаете, генерал? — Я лишился двух дивизий. Ищу, чем их заменить. — Каких дивизий вы лишились? — Вы ведь слышали. Из-за предрассудков шляхты армия получит один полк вместо двух дивизий. — Вот вы о чем. — Коллонтай придвинулся к Костюшке и сказал ему на ухо: — А я знаю умного человека, который из-за предрассудков лишает нашу армию десятка дивизий. Костюшко вспыхнул: — Неправда! Тут дело не в предрассудках. Сначала научите хлопа читать «Отче наш», а потом дайте ему в руки мушкет.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ ПОРАЖЕНИЕ

 июля подошли к Варшаве прусские войска, а вслед за ними и русский корпус генерала Ферзена. Население столицы вышло за город — рыть окопы, строить укрепления.
Вместе с поляками работали и русские, примкнувшие к восстанию. Варшавяне от всей души приняли в свою среду русских товарищей, понимая, что не они, простые люди, хотят поработить Польшу.
Тадеуш Костюшко, борясь с царским деспотизмом, относился с искренней симпатией к русскому народу. Духом братства и гуманизма были проникнуты его призывы.
«Русские солдаты! Не вас, служивые, справедливый рассудок поляка почитает сих бедствий виновниками… Мы вас почитаем за братьев, за ближних и сожалеем над вашей долей, что вы, желая вольности, под варварским правлением оной ни получить, ни пользоваться не можете».
Для обороны Варшавы Костюшко устроил и укрепил на левом берегу Вислы три лагеря: под Мокотовом, под Волей и под Маримонтом. Первым командовал он сам, вторым — генерал Зайончек, третьим — князь Юзеф Понятовский. На правом берегу Вислы, под Прагой, Костюшко поставил трехтысячный заслон.
Всего у Костюшки было 26 тысяч солдат и 10 тысяч вооруженных варшавян. Орудий — 200. Силы неприятеля — 41 тысяча: 25 тысяч пруссаков и 16 тысяч русских. Орудий — 253.
В боях за Варшаву проявился полководческий талант Костюшки во всем своем блеске. Он был главным инженером, проектирующим фортификационные сооружения; он был начальником штаба, разрабатывающим боевые операции; он был строевым офицером, ведущим в бой то полк, то роту; он был связным между отдельными частями, ибо многие офицеры, которых он посылал со срочными распоряжениями, по пути заезжали на несколько дней в Варшаву; он же, Костюшко, проводил ежедневно много часов среди солдат, ободряя их, воодушевляя. И он же должен был следить за работой варшавских кузнецов, что ковали оружие, за работой варшавских плотников, которые готовили транспорт для армии, за работой варшавских портных, что шили обмундирование. Все прибегали к его совету, его помощи.
В те дни, когда неприятельские атаки, начинаясь утром, затихали только ночью, чтобы с рассветом вновь разгореться, Костюшко находил время даже для мелочей. Он писал коменданту Варшавы:
июля подошли к Варшаве прусские войска, а вслед за ними и русский корпус генерала Ферзена. Население столицы вышло за город — рыть окопы, строить укрепления.
Вместе с поляками работали и русские, примкнувшие к восстанию. Варшавяне от всей души приняли в свою среду русских товарищей, понимая, что не они, простые люди, хотят поработить Польшу.
Тадеуш Костюшко, борясь с царским деспотизмом, относился с искренней симпатией к русскому народу. Духом братства и гуманизма были проникнуты его призывы.
«Русские солдаты! Не вас, служивые, справедливый рассудок поляка почитает сих бедствий виновниками… Мы вас почитаем за братьев, за ближних и сожалеем над вашей долей, что вы, желая вольности, под варварским правлением оной ни получить, ни пользоваться не можете».
Для обороны Варшавы Костюшко устроил и укрепил на левом берегу Вислы три лагеря: под Мокотовом, под Волей и под Маримонтом. Первым командовал он сам, вторым — генерал Зайончек, третьим — князь Юзеф Понятовский. На правом берегу Вислы, под Прагой, Костюшко поставил трехтысячный заслон.
Всего у Костюшки было 26 тысяч солдат и 10 тысяч вооруженных варшавян. Орудий — 200. Силы неприятеля — 41 тысяча: 25 тысяч пруссаков и 16 тысяч русских. Орудий — 253.
В боях за Варшаву проявился полководческий талант Костюшки во всем своем блеске. Он был главным инженером, проектирующим фортификационные сооружения; он был начальником штаба, разрабатывающим боевые операции; он был строевым офицером, ведущим в бой то полк, то роту; он был связным между отдельными частями, ибо многие офицеры, которых он посылал со срочными распоряжениями, по пути заезжали на несколько дней в Варшаву; он же, Костюшко, проводил ежедневно много часов среди солдат, ободряя их, воодушевляя. И он же должен был следить за работой варшавских кузнецов, что ковали оружие, за работой варшавских плотников, которые готовили транспорт для армии, за работой варшавских портных, что шили обмундирование. Все прибегали к его совету, его помощи.
В те дни, когда неприятельские атаки, начинаясь утром, затихали только ночью, чтобы с рассветом вновь разгореться, Костюшко находил время даже для мелочей. Он писал коменданту Варшавы:
«9 июля Орловский коханый, Килинский жалуется, дай ему какого-нибудь оружия сколько можешь, старья или то, что я послал ремонтировать, посылай ему хотя бы малыми порциями и окажи ему немного уважения и хоть чуточку помощи; я ему порекомендовал не брать силой людей оседлых, служащих, бывай здоров.
Т. К.»«15 июля 1794 Генерал, пошли в армию Мокроновского два орудия 12-фунтовых. Княгиня Радзивилл явилась ко мне с жалобой, что у нее забрали лошадей в артиллерию; прикажи расследовать и, если это так, вели вернуть ей пару лошадей для езды. Если у тебя нет лошадей под орудия для пересылки их Язвинскому, купи, я заплачу, но надо это делать спешно…
Т. К.».«19 июля Прошу тебя, во имя любви к ойчизне обуздай нетерпимое обхождение с пленными и сам вмешайся в это и наказывай…
Т. К».«4 августа 1794 Мой дорогой генерал, офицеры батальона майора Обремского из бригады Ржевуского почти все удрали в Варшаву, дело зашло так далеко, что во всем батальоне их не больше двух, оттуда большие упущения по службе. Прошу тебя, немедленно и сурово прикажи этим всем благородиям немедленно вернуться в свой корпус. Само собой разумеется, что это же относится и к офицерам из других корпусов, которые отсиживаются без пользы в Варшаве. Вели их разыскать и пришли сюда. Дай приказ, генерал, хорунжим конной гвардии Франковскому и Савицкому, чтобы продолжали адъютантскую службу при особе короля.
Т. К.».Генералу артиллерии Сапеге он писал: «Заботься о солдате, о его питании, о его удобствах. Дай своим подчиненным пример бережливости, работы, старательности. «8 сентября. Орловскому Генерал, большой беспорядок, когда не знаешь, есть ли у тебя лошади и сколько их; есть ли у солдат оружие и сколько. Что, к черту, делают офицеры, подают они тебе рапорты или нет.
Т. К.».«9 сентября. Орловскому Бригадир Ржевуский повинен в том, что ему был дан приказ собрать свою бригаду из Чернякова и из моего лагеря и должен был направиться с ней в распоряжение князя Понятовского. Он этого не выполнил, и я сам должен был ругаться всю ночь, уже ночью прибыл твой адъютант и спросил, должен ли ехать пан Ржевуский. Я ответил: неважно, пусть сам останется, но пусть отправит бригаду, а он и этого ие выполнил и помешал моему распоряжению…
Т. К.».За такое невыполнение боевого приказа в боевой обстановке генерал-лейтенант Орловский 10 сентября арестовал бригадира Ржевуского, а 12 сентября он получил приказ Костюшки: «Прикажи, генерал, освободить бригадира Ржевуского из-под ареста.
К.».
В самой Варшаве готовилась измена: брат короля, примас Михаил Понятовский, договаривался с пруссаками о сдаче им города. О заговоре узнал народ — он бросился на Сенаторскую улицу и тут же принялся строить виселицу перед окнами Понятовского. Виселица не понадобилась: примас отравился. Не улеглось еще волнение после заговора примаса Понятовского, как «Правительственная газета» обнародовала документ, захваченный Яном Килинским во дворце Игельстрома. В документе были названы лица, находившиеся на службе русского двора; были указаны суммы, которые им выплачивались. Среди «платных» агентов русской императрицы числился и Станислав Август Понятовский. Опять возбуждение и волнение — народ требовал сурового суда. Костюшко этот суд назначил. В таких сложных условиях готовился Костюшко к решительным действиям. Неприятель стоял у ворот. Над Варшавой рвались снаряды. Горели дома. И смерть, несущаяся из-за города, отвлекла варшавян от борьбы с внутренним врагом. Они вооружались рогатинами, косами, топорами и целыми улицами, кварталами отправлялись в лагерь Костюшки. Подносили снаряды к орудиям, ходили в разведку, участвовали в дерзких вылазках косиньеров. Женщины готовили бинты, ухаживали за ранеными. Это были героические дни — дни наивысшего подъема. Грело летнее солнце, но еще жарче, чем солнце, жгла ненависть к врагу. Все в эти дни удавалось: славой покрыли себя полк Дзялынского, стрелки Дембовского, кавалеристыКопеца и Вышковского, артиллеристы Костюшки. Удача ширилась: польские войска теснили неприятеля под Волей, возле Чернякова, у Млочина. Эти удачи, правда, были чуточку омрачены: в ночном бою, в бою, который закончился победой генерала Зайончека, Юзеф Понятовский — левый сосед Зайончека — вдруг отступил и отдал пруссакам ключевые позиции у Вавжишева и у Шведских горок. Костюшко тут же поспешил на фронт, восстановил линию обороны, но вернулся в штаб мрачный. Немцевич долго наблюдал за шагающим по комнате начальником, наконец, не сдержавшись, спросил: — Готовить приказ? — По поводу чего? Чего?! — вдруг сердито обрушился Костюшко на своего любимца. — По поводу князя Юзефа, — спокойно ответил Немцевич. — Кого назначить вместо него? — Никого! Он остается на своем месте! — Костюшко вдруг точно подменили: его лицо, до этой минуты сердитое, стало грустным. — Урсын, дорогой мой Урсын, неужели и ты не понимаешь? Сменю Понятовского, кого назначить? Такого же Понятовского? Неужели ты не видишь, что кругом нас творится? Король, который является главой государства, только то и делает, что вредит этому государству. Диктатор, который должен управлять, зависит от Национального совета, который только то и делает, что ставит мне палки в колеса. Гуго Коллонтай, который должен был мне помогать, усложняет… усложняет… — Гуго Коллонтай?! — ужаснулся Немцевич. — Это невероятно, Тадеуш! Каждое предложение Кол-лонтая направлено на добро восстания, на его расширение. Костюшко прошелся несколько раз по комнате, потом залпом выпил свой кофе. — Урсын, запомни, Гуго Коллонтай — государственный муж, каких у нас мало. Он выдающийся политик. Он прекрасный практик. Только такой человек, как Коллонтай, мог собрать в фонд восстания двадцать пять миллионов злотых — сумму, которая мне кажется фантастической. Но вчитайся во все, что писал и пишет Коллонтай, и убедишься, что он сторонник «мелких шагов». Вся его программа, все его благородные проекты — только полшага, иногда четверть шага вперед от старого. Он не ломает, он улучшает. Вдруг революция во Франции. Будь Коллонтай в Париже, я убежден, он пошел бы вместе с парижанами на штурм Бастилии. Но предложи ему повторить в Варшаве французские события, Коллонтай ужаснется. Он реальный политик, он знает, что практика Французской революции неприменима в Польше. Разразилось наше восстание, и Коллонтая подменили— он стал ультрарадикалом. Урсын, я хочу, чтобы ты меня понял. Кто сделал революцию во Франции? Третье сословие. Я знаю французских мещан. Они сильны культурой, богатством, они созрели для управления государством. К тому еще стена, отделяющая дворян от мещан, не так уж велика. Много, очень много мещан уже проникло в дворянство. Какие классы стоят теперь во Франции друг против друга? Дворянство и мещанство. Крестьяне почти не участвуют в борьбе. Как у нас обстоит? Третье сословие только пробивает яичную скорлупу, оно еще не созрело для борьбы за власть. На поле — два лагеря: шляхта и хлопы. Между ними такая высокая стена, что ее так легко, как Бастилию, не возьмешь. Наша шляхта сильна и жадна. Крестьянство — темное, нищее, разрозненное. Чтобы удержать в своих руках власть и землю, шляхта зальет Польшу морем крови. А если сами не справятся со своими хлопами, то им на помощь придет деспот прусский или деспот русский. Понимает это Коллонтай? Понимает. Но он почему-то убежден, что шляхта поверит, будто для их же добра у них забирают землю и хлопов. Ведь если шляхта в это не поверит, она своих хлопов и своей земли не отдаст. А если правительство все же им прикажет это сделать, то в тот же день начнется резня. И получается: Гуго Коллонтаю, мастеру «мелких шагов» в политике, вдруг изменило его политическое чутье… — Но от хлопов действительно зависит судьба восстания! — воскликнул Немцевич. — Что делать? — Уговаривать помещиков, убеждать их, пробиваться через их эгоизм, а главное — драться, драться… — И нас сомнут, уничтожат! Костюшко налил себе свежего кофе, но не стал его пить. — Как ты плохо знаешь польский характер. Поляк не потерпит ярма на своей шее. Он будет драться до тех пор, пока не победит. С перерывом на десять лет, на двадцать, но будем драться. То, чего не сделали мы с тобой, сделают наши потомки. Но час победы наступит, и он наступит тем скорее, чем скорее поляки будут жить между собою в ладу, чем скорее они осознают свою силу и сумеют ее пользоваться… Сказав это, Костюшко лег на кровать лицом в подушку. Немцевичу показалось, что плечи Костюшки вздрагивают.
Два месяца беспрерывных боев Костюшко ни разу не раздевался. Вот и сейчас, в ночь на 6 сентября, сидит он за рабочим столом перед картой. Его беспокоит участок генерала Зайончека. Пруссаки вчера пытались вновь захватить Шведские горки.. Кого послать в помощь Зайончеку? Адам Понинский не надежен, Дембовского нельзя отвлечь от Чернякова… Вбегает Немцевич. — Победа! Пруссаки убрались псу под хвост! Русские — дяблу в пасть! Всегда спокойный Немцевич на этот раз задыхался от волнения; он, поэт, который всегда облекал свои мысли в литературную оболочку, сейчас выкрикивал слова, заимствованные из солдатского жаргона. Костюшко вскинул на Немцевича усталый взгляд. — Разгулялась у тебя, Урсын, поэтическая фантазия. Враг снял осаду… Варшава свободна… Загудят колокола… Рано, рано, дорогой мой Урсын, ликовать. Враг отошел, но не ушел. Горечь, что слышалась в словах Костюшки, поразила Немцевича. Кончился двухмесячный кошмар; смерть, нависшая над Варшавой, отступила; сильный враг показал спину, и вдруг такая горечь! Костюшко понимал, о чем думает его друг. — Урсын, не наша сила сломила врага. Наша сегодняшняя победа — случайность… — Случайность?! — Да, дорогой Урсын, случайность. Помнишь двадцать первое августа? Дионисий Мневский захватил на Висле одиннадцать прусских барж. Помнишь, как панове генералы потешались, читая рапорт Мневского? «Подумаешь, мировое событие!» А Понинский даже издевательски предложил по этому поводу отслужить торжественную мессу… — Помню. — А на баржах был порох, боеприпасы. Вот и вся наша победа. Пруссаки оказались без пороха, и они отошли от Варшавы, с ними ушли и русские. Но, увы, Урсын, они вернутся. Несколько дней спустя, выходя из зала, где председатель Найвысшего национального совета вручил Костюшке почетную саблю с выразительной надписью: «Ойчизна — Защитнику Своему», Костюшко шепотом сказал Немцевичу: — Пойду к тебе, мой Урсын, хочу выспаться. Эти будничные слова странно прозвучали в устах Найвысшего начальника вооруженной силы народной, который только что с молитвенно поднятыми горе очами прижимал к груди награду отчизны. Немцевич жил у родственницы на Медовой улице. Туда можно было дойти пешком. Но как только Костюшко показался на улице, его встретил ликующий рев многотысячной толпы. — Виват Освободитель! Виват Защитник! Виват Костюшко! Мещане подбрасывали шапки к небу, шляхтичи размахивали в воздухе саблями. На звоннице костела Св. Яна гнездились ласточки. Вспугнутые внезапными кличами толпы, они поднялись стаей, и от ветра, поднятого их крыльями, зазвонили маленькие колокола. Тут же откликнулась колокольня бернардинов, и, словно огонь по восковой ниточке, начал перебрасываться звон с колокольни на колокольню. Уже благовестят все костелы — звонят истово, с пасхальной торжественностью. Костюшко распростер руки и сделал движение вперед, точно хотел броситься в толпу, крикнув: — Ойчизна! Вольность! Тысячное «виват!» понеслось ему в ответ, а медь колоколов, усилив человеческие голоса, разнесла ликование по улицам и закоулкам Варшавы. У Немцевича сложились в уме стихи. Костюшко, взволнованный не меньше, чем поэт, выслушав первые две строчки, только что рожденного стихотворения, грустно промолвил: — Ты ничего не понимаешь, мой Урсын. Не меня они приветствуют, а свободу, свободу… Немцевич подметил, что Костюшко с большим нетерпением, чем обычно, выслушивает доклады курьеров, что Костюшко придает какое-то особое значение незначительным стычкам в той части Великой Польши, которая отошла после раздела к Пруссии. Немцевич подметил, что Костюшко возлагает какие-то надежды на молодого генерала Яна Генриха Домбровского, и до того серьезные надежды, что ему, генерал-майору Домбровскому, подчинил старшего чином и возрастом Мадалинского. Неужели эти события, думал Немцевич, незначительные по мнению всех офицеров штаба, должны стать продолжением того «начала», о котором Костюшко говорил в ночь на 6 сентября? Костюшко видел то, чего не видели офицеры его штаба, он умел в напластовании мелких фактов выискивать основной, ведущий, который подобно крохотному бутону распустится пышным цветком.
 Битва под Варшавой.
Битва под Варшавой.
Костюшко знал, что пруссаки сняли осаду не только потому, что Мневский лишил их боеприпасов, — боеприпасы можно было подвезти, пруссаки отступили потому, что у них в тылу создалась обстановка для подвига Мневского. В Великой Польше началось движение против оккупантов. Костюшко тут же послал в Великую Польшу молодого генерала Домбровского с двухтысячным отрядом, подчинил ему кавалерийский полк Мадалинского, а Мневскому и Немоевскому предложил собрать партизанские отряды. Эти новые силы, руководимые истинными патриотами, действовали смело: выбивали прусские гарнизоны из городов, перерезали коммуникации, перехватывали курьеров из армии, а Домбровский, увеличив армию до семи тысяч, уже подходил к Торуню… Вот «начало», которое должно было дать хорошее продолжение.
«Хорошего продолжения» не получилось: в дело вступил Суворов. Он двигался из Волыни к Варшаве — двигался быстро, уничтожая на марше мелкие отряды повстанцев. Единственная крупная часть, которая могла бы задержать Суворова, — дивизия генерала Сераковского — не устояла против натиска русских, отступила. Но, вместо того чтобы закрепиться на новом рубеже, Сераковский увел свою дивизию в сторону от столбовой дороги. Суворов не удовлетворился тем, что перед ним очистился путь к польской столице, — он свернул в сторону и вторично напал на Сераковского. В это время Костюшко спешил к Сераковскому, чтобы стать во главе его дивизии, но уже в пути дошла до него весть о поражении Сераковского. Костюшко вернулся в Варшаву. Пруссаки двигались с севера, австрийцы — с юга, а войсковые группировки Суворова и Ферзена — с востока. В эти трудные дни опять сказался полководческий талант Костюшки. Немцевич записал в своем дневнике: «Как уж, придавленный ногой путника, извивается во все стороны и силится кусать давящую его ногу, так Костюшко бросался во все стороны и отбивал атаки». Костюшко помчался в Литву: там он формировал новые части, проводил смотры, воодушевлял солдат. Он попадал под огонь неприятельских батарей, отстреливаясь, уходил от казачьих разъездов. Он был неутомим и спокоен. Когда Костюшко вернулся в лагерь под Мокотов, его там встретили горькой вестью: генерал Ферзен с шестнадцатитысячным корпусом переправляется через Вислу верст девяносто от Варшавы. Под рукой у Костюшки был один всего пятитысячный корпус генерала Адама Понинского. Имя отца этого молодого генерала — имя канцлера Антони Понинского — было в Польше синонимом измены и предательства. Можно ли доверить сыну такого отца? Но угроза, нависшая над Варшавой, была слишком велика, чтобы медлить с решением, и Костюшко послал Понинского с наказом не дать Ферзену переправиться через Вислу. Сын оправдал позорную славу своего отца: три дня переправлял Ферзен свой корпус через Вислу, а Понинский ни одного снаряда не выпустил из своих орудий и ни одного ружейного выстрела не сделал по неприятелю. Ферзен оказался на правом берегу. К нему на соединение спешил Суворов. Надо было Костюшке действовать немедленно — отогнать Ферзена, не дать ему соединиться с Суворовым. Костюшко собрал все свои силы и выступил наперерез Ферзену. В двенадцати часах езды от Варшавы, возле деревни Мацеёвичи, встретились обе армии. У Костюшко было 7 тысяч бойцов, а в пяти милях от Мацеёвичей стоял Понинский со своим пятитысячным корпусом. У Ферзена было 12 тысяч солдат. Силы были равные. Костюшко закрепился на взгорье между речкой Пилицей и лесом. Правым крылом командовал генерал Каминский, центром — генерал Сераковский, левым — генерал Княжевич. В два часа ночи Костюшко направил курьера к Понинскому с приказом немедленно выступить и ударить в тыл Ферзену. Занялся мглистый осенний день. Русская артиллерия открыла огонь из всех своих орудий, и вслед за артиллерийским огнем пошла пехота в наступление. Костюшко верхом несется с фланга на фланг: то он корректирует стрельбу артиллеристов, то ведет в бой батальон, оставшийся без командира, то он среди своих кракусов, расчищающих себе путь косами, и всюду он говорит о том, что «вот-вот подойдут свежие войска Понинского». Положение с минуты на минуту становилось все более трагическим. Уже нет ни правого крыла, ни центра, ни левого крыла. Уже скучились остатки всех польских полков, смолкла артиллерия, затихли мушкеты, идет рукопашный бой, лицом к лицу. Две лошади пали под Костюшкой, вот он в пешем строю С окровавленной саблей в руке сражается вместе с последними кракусами… Небо затянулось свинцовой тучей, со стороны Вислы надвинулся туман, и из тумана вылетела русская кавалерия. Она сначала прошлась по тылам, потом ворвалась на поле боя… К часу дня все было закончено, Понинский не прибыл со своим корпусом. Это было 10 октября 1794 года. Ровно в два часа дня, как записал в свой дневник Немцевич, полил дождь, обильный, стремительный, совсем не по-осеннему. На площадке перед домом, кутаясь в красный плащ, стоял генерал Ферзен. К нему водили пленных польских генералов: Княжевича, Сераковского, Каминского, Копеца; привели и раненного в руку Немцевича — весь польский штаб, только без Костюшки. По неписаному закону войны был генерал Ферзен изысканно вежлив со своими пленными, говорил им о переменчивости военного счастья и пригласил их в дом «отобедать чем бог послал». Польские генералы приняли приглашение Ферзена, но за столом сидели скбванные, угрюмые. Однако чем дальше солнце уходило на запад, тем свободнее становилась речь «гостей», тем светлее становились их лица. Они внутренне ликовали: Костюшко ушел, не попал в руки врага. Увы, обманула их надежда: около пяти часов казаки принесли на пиках залитого кровью Тадеуша Костюшко. Он был без сознания, с лицом сизо-серым, с запавшими глазами. Немцевич опустился на колени, хотел приложиться губами к холодному лбу своего друга, и вдруг пронзила его страшная мысль: а не сам ли Тадеуш искал смерти? Здоровой рукой обнял Немцевич безжизненное тело начальника, прижался щекой к его жесткой щеке и заплакал тихо, жалостливо, как плачет ребенок, который знает, что его никто не слышит.
Битва под Мацеёвичами стала роковым эпилогом, трагическим концом восстания. Гуго Коллонтай, как и многие деятели того времени, сначала предполагал, что Костюшко задумал эту битву как пролог к целой серии боев и сражений, в ходе которых должна была мужать и крепнуть армия повстанцев. Но впоследствии стало всем ясно, что сражение под Мацеёвичами было неожиданностью и для Костюшки. Но почему это сражение стало лебединой песней восстания? У Костюшки было 11 500 активных штыков и сабель, у генерала Ферзена — 12 тысяч. Однако в то время когда Ферзен мог распоряжаться всеми своими силами, Костюшко был лишен возможности распоряжаться половиной своих войск. Костюшко знал, что на Понинского нельзя положиться не только потому, что его отец был предателем, но и потому, что он сам, Адам Понинский, уже однажды вел себя предательски. И, зная это, Костюшко все же был вынужден обстоятельствами рассчитывать на его помощь. Битва под Мацеёвичами длилась семь часов, и все время шла она в разгромном для поляков темпе. Возможно, что в начале боя Костюшко переоценил энтузиазм повстанцев и недооценил выучку, стойкость и храбрость русского солдата, однако равенство сил внушало ему надежду на победу. Он посылал к Ионинскому курьера за курьером — сам отправиться к предателю не мог: в этот день был Костюшко душой боя, его личная храбрость ободряла, воодушевляла, отгоняла страх, скрывала обреченность… Понинский со своим пятитысячным корпусом не явился. Но самое роковое заключается в том, что Костюшко, прекрасно зная, что его имя стало знаменем восстания, что его имя для поляков стало символом свободы и независимости, что его смерть равносильна концу восстания, ибо другого человека с таким ореолом армия не выдвинула, — все это зная, Костюшко в этот день сражался как рядовой боец: бросался в самые опасные места, ходил в атаку с винтовкой, становился в каре против кавалерии. Высший национальный совет назначил начальником вооруженной силы генерала Вавжицкого, человека честного и храброго, но без славы Костюшки, без той притягательной силы, которая влекла сердца поляков к Костюшке. Вавжицкий отвел войска к Варшаве. По следу разбитой армии шел Суворов. 2 ноября он подступил к Праге. Польские войска сражались с отчаянием обреченных, стояли насмерть. Ремесленники под командованием полковника Яна Килинского защищали мост через Вислу. Якуб Ясинский, этот якобинец и поэт, потерял всех своих людей и сам пал, бросившись в контратаку во главе двух десятков последних своих солдат. Накануне этого рокового дня генерал Ясинский написал стихотворение «К нации» — призыв к борьбе с деспотизмом, к борьбе за свободу и братство всех народов. Полк легкой кавалерии полковника Берека Иоселевича три раза отбивал атаки, прикрывая фланг раненого генерала Зайончека; к концу дня от полка Иоселевича осталось в живых всего шесть человек. Пала Прага. 9 ноября, через месяц после Мацеёвичей, Суворов вошел в Варшаву.
Восстание подавлено. Величайшей трагедией для польского народа было то, что в дни восстания не было в Польше политической силы, которая могла бы возглавить борьбу трудящихся масс за свое национальное освобождение, против феодального строя. Трагедия польского народа стала личной трагедией Костюшки. Но кровь повстанцев не ушла в песок. Восстание отвлекло на себя все силы Пруссии: с весны 1794 года Пруссия уже не принимала участия в борьбе против революционной Франции. Восставшая Польша приковала к себе часть военных сил Австрии и затормозила подготовку русского царизма к интервенции против Франции. «Польша пала, но ее сопротивление спасло французскую революцию». В разговоре с Немцевичем Костюшко верно предвидел будущее. Восстание 94-го года стало началом национально-освободительного движения первой половины XIX века. Самые яркие страницы истории польского народа связаны с этим движением. От Тадеуша Костюшки и его соратников из радикального крыла (Гуго Коллонтай, Якуб Ясинский, Юзеф Мейер, Казимир Конопка) идет та славная традиция, которая вдохновляла польских революционеров позднейших поколений. Борьба, начатая ими в 94-м году, завершилась полной победой в 1944 году. Польские войска под знаменем Тадеуша Костюшки плечом к плечу с победоносной Советской Армией изгнали из своей страны коричневых захватчиков и осуществили мечту лучших своих сынов: Польша стала свободной, независимой, народной.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ «ПУСТЬ ЖИВЫЕ НЕ ТЕРЯЮТ НАДЕЖДУ»

 остюшко был ранен в голову и в левое бедро. Хирург, вызванный генералом Ферзеном, раны перевязал, а после перевязки доверительно сообщил Немцевичу.
— Навряд ли выживет.
Костюшко, однако, выжил. Первые два дня он находился в обморочном состоянии, бредил, порывался вставать, говорил, что в Сехновицах ждут его жена и дети, а к утру третьего дня он осмысленными глазами поглядел вокруг и, встретившись взглядом с Немцевичем, встревоженно спросил:
— Где мы?
— Тадеуш, — обрадованно ответил Немцевич, — все хорошо, все хорошо.
— Где мы? — повторил Костюшко более настойчиво.
По тону, по огоньку в глазах понял Немцевич, что лукавить с Костюшкой нельзя.
— Тадеуш, мы в плену.
— Только мы с тобой? — быстро, не переводя дыхания, спросил Костюшко.
— Нет, Тадеуш, не только мы с тобой.
Весь этот день Костюшко лежал с закрытыми глазами, но Немцевич видел, что он не спит. Дважды заходил генерал Ферзен: постоит у кровати, покачает головой и уходит.
Под вечер Костюшко спросил:
— Много пленных?
— Больше десяти тысяч.
— Есть у нас деньги?
— Из Варшавы прислали четыре тысячи дукатов.
После длительного молчания Костюшко сказал:
— Передай деньги пленным.
— Сколько?
— Все! Все!
— Тадеуш, нам предстоит дальняя дорога.
— А им?
— Мы еще потребуем денег из Варшавы.
— Хорошо. Передай им пока две тысячи… Урсын, а Понинский тоже в плену?
— Нет, Тадеуш, он ушел до конца боя.
Их разговор прервал остановившийся на пороге русский офицер.
— Собирайтесь, господа, выступаем.
Костюшко не знал русского языка.
— Что он говорит?
— Уезжаем отсюда, — пояснил Немцевич.
— Урсын, ступай к генералу Ферзену, пусть повременит с отъездом. Скажи ему, что польское правительство обменяет нас на русских пленных.
Офицер, видимо, понял смысл предложения Костюшки.
— Не утруждайтесь, господа, генерал Ферзен уже отбыл.
Явился хирург с санитарами, Костюшко одели и на носилках вынесли во двор. Там уже ждала их повозка.
— А Немцевич? Немцевич? — взволновался Костюшко.
Из дома выбежал Фишер, без шинели, без, шапки. Он кинулся к Костюшке, обнял его, смеялся и плакал.
— Живы! Живы!
— Фишерек… Фишерек… И ты со мной.
— До згона![43]
Подошел русский офицер.
— Зачем вы, господа, прощаетесь, — сказал он укоризненно, — все едем в одну сторону.
Хирург, огромный и грузный, сначала проверил, достаточно ли сена под раненой ногой Костюшки, потом взобрался на повозку, накрыл раненого попоной и, устроившись спиной к кучеру, сказал казачьему уряднику, прискакавшему с десятком бородатых конников:
— С богом!
Выехали со двора. Был тихий вечер. Деревья простирали к небу голые ветви. Соломенные крыши крестьянских халуп были подернуты инеем. В сторону Мацеёвичей тянули вороньи стаи.
Но Костюшко всего этого не видел: он был в обмороке.
Вслед за Костюшкой выехала со двора крестьянская телега: в ней разместились Княжевич, Сераковский, Копец, Немцевич, Фишер и русский офицер.
остюшко был ранен в голову и в левое бедро. Хирург, вызванный генералом Ферзеном, раны перевязал, а после перевязки доверительно сообщил Немцевичу.
— Навряд ли выживет.
Костюшко, однако, выжил. Первые два дня он находился в обморочном состоянии, бредил, порывался вставать, говорил, что в Сехновицах ждут его жена и дети, а к утру третьего дня он осмысленными глазами поглядел вокруг и, встретившись взглядом с Немцевичем, встревоженно спросил:
— Где мы?
— Тадеуш, — обрадованно ответил Немцевич, — все хорошо, все хорошо.
— Где мы? — повторил Костюшко более настойчиво.
По тону, по огоньку в глазах понял Немцевич, что лукавить с Костюшкой нельзя.
— Тадеуш, мы в плену.
— Только мы с тобой? — быстро, не переводя дыхания, спросил Костюшко.
— Нет, Тадеуш, не только мы с тобой.
Весь этот день Костюшко лежал с закрытыми глазами, но Немцевич видел, что он не спит. Дважды заходил генерал Ферзен: постоит у кровати, покачает головой и уходит.
Под вечер Костюшко спросил:
— Много пленных?
— Больше десяти тысяч.
— Есть у нас деньги?
— Из Варшавы прислали четыре тысячи дукатов.
После длительного молчания Костюшко сказал:
— Передай деньги пленным.
— Сколько?
— Все! Все!
— Тадеуш, нам предстоит дальняя дорога.
— А им?
— Мы еще потребуем денег из Варшавы.
— Хорошо. Передай им пока две тысячи… Урсын, а Понинский тоже в плену?
— Нет, Тадеуш, он ушел до конца боя.
Их разговор прервал остановившийся на пороге русский офицер.
— Собирайтесь, господа, выступаем.
Костюшко не знал русского языка.
— Что он говорит?
— Уезжаем отсюда, — пояснил Немцевич.
— Урсын, ступай к генералу Ферзену, пусть повременит с отъездом. Скажи ему, что польское правительство обменяет нас на русских пленных.
Офицер, видимо, понял смысл предложения Костюшки.
— Не утруждайтесь, господа, генерал Ферзен уже отбыл.
Явился хирург с санитарами, Костюшко одели и на носилках вынесли во двор. Там уже ждала их повозка.
— А Немцевич? Немцевич? — взволновался Костюшко.
Из дома выбежал Фишер, без шинели, без, шапки. Он кинулся к Костюшке, обнял его, смеялся и плакал.
— Живы! Живы!
— Фишерек… Фишерек… И ты со мной.
— До згона![43]
Подошел русский офицер.
— Зачем вы, господа, прощаетесь, — сказал он укоризненно, — все едем в одну сторону.
Хирург, огромный и грузный, сначала проверил, достаточно ли сена под раненой ногой Костюшки, потом взобрался на повозку, накрыл раненого попоной и, устроившись спиной к кучеру, сказал казачьему уряднику, прискакавшему с десятком бородатых конников:
— С богом!
Выехали со двора. Был тихий вечер. Деревья простирали к небу голые ветви. Соломенные крыши крестьянских халуп были подернуты инеем. В сторону Мацеёвичей тянули вороньи стаи.
Но Костюшко всего этого не видел: он был в обмороке.
Вслед за Костюшкой выехала со двора крестьянская телега: в ней разместились Княжевич, Сераковский, Копец, Немцевич, Фишер и русский офицер.
Первый снег. Русский офицер добыл розвальни и усадил в них, кроме Костюшки с хирургом, Немцевича и Фишера. Рана на голове затягивалась, Костюшко уже так часто не впадал в обморок, но все же чувствовал себя очень слабым. Всю дорогу он дремал. В таком безучастном состоянии он проехал Чернигов, Могилев, Витебск, Великие Луки, Псков, Гатчину, и только 29 ноября, когда сани въехали в широкие и приземистые ворота Петропавловской крепости, Костюшко впервые за всю дорогу обратился к сопровождающему офицеру по-русски: — Почему? Офицера смутил этот вопрос: он также не понимал, почему генерала, взятого в плен на поле боя, везут в Петропавловскую крепость, — ведь в ней содержат только русских подданных, нарушивших законы Российской империи. — Пути господа неисповедимы, — ответил он дипломатично. Костюшко ответа не понял.
Костюшке показалось, что его опустили в глубокий колодец, куда ни шумы жизни, ни солнечный луч не долетают. Больная нога приковала его к койке, он лежал на спине и дни, недели видел один только потолок, мглисто-серый, который лишь к закату чуточку теплел. Первые дни вел Костюшко внутренний спор со своим прошлым. Бесстрастно, как историк, изучал он важнейшие этапы восстания и каждый этап рассматривал с двух точек: как это событие протекало в действительности и как бы оно протекало, если б он, Костюшко, проводил в жизнь те радикальные реформы, которые сам считал нужным проводить. Гуго Коллонтай был основательнее, чем он, подготовлен к политической деятельности, но роль Робеспьера или Марата, роли, которые Коллонтай ему навязывал, Костюшко играть не мог по своим душевным качествам. И на кого из своих генералов мог он опираться? Почти все они были лично заинтересованы в поражении восстания, ибо победа народа лишила бы их шляхетских привилегий. Захотят ли потомки считаться с тем, что исторические события имеют свою внутреннюю логику и что эти события в силу своей внутренней логики развиваются независимо от доброй или злой воли отдельной личности? Костюшко был изъят из жизни, он не знал, что происходит за стенами мертвого каземата. Но ведь жизнь все же не остановилась: в Польше остался народ, осталась армия, а жестокость, с какой победители расправляются с ним, с побежденным военачальником, говорила о том, что Польша борется, что враг мстит ему, Костюшке, за какие-то свои неудачи. Вскоре к нравственным мукам присоединились и физические. Генерал-прокурор Самойлов стал являться ежедневно, и его вопросы обижали, утомляли, изматывали. Сначала был Самойлов вежлив, предупредителен; на изысканном французском языке выражал он свое сочувствие побежденному врагу. Однако постепенно грубел его французский язык, голос делался резче, и вместо обращения «генерал» появились «главный польский бунтовщик» и «начальник бунтовщиков» — эпитеты, звучащие, как удары бича. Самойлов требовал, чтобы Костюшко «называл имена сочувствующих восстанию, требовал летопись переговоров с французскими политическими деятелями и подробной характеристики этих деятелей. А Костюшко имен не называл, характеристик не давал: он говорил о естественном праве любого народа на независимое существование, о естественном праве любого человека на свободную жизнь. — Начальнику бунтовщиков хочется продлить свое приятное пребывание в этих уютных апартаментах. — Такова, видно, воля божья. — Бог не сочувствует бунтовщикам! Какую сумму внесла княгиня Чарторийская в фонд восстания? — Не очень большую, и то не в фонд восстания, а в виде подарка лично мне. — Какую сумму? — Я уже сказал, не очень большую. Она подарила мне трость с золотым набалдашником. — А госпожа Дембинская? А госпожа Коссаковская? Они также дарили вам трости? — Увы, граф, эти дамы ограничились только цветами. — Странно. Главный бунтовщик состояния не имел, богатые поляки жертвовали одни лишь трости да цветы, так откуда повстанцы черпали средства? Французская революция, значит, вас щедро субсидировала. — Нет, граф, не Французская революция, а польский народ. Он воевал, он и средства давал. — Неправда! — Правда. И мы видели эту правду в жизни многих свободных народов, которые после длительной борьбы, после тяжелых страданий живут сегодня спокойно и счастливо, наслаждаясь плодами своего мужества. — Опять бредни! — возмутился Самойлов. — Как может государыня проявить свое милосердие к человеку, который сам в петлю лезет! — Вы, граф, не печальтесь за меня. Моя судьба уже давно решена. Она была решена еще до злосчастного десятого октября. — Не понимаю. — И не поймете, граф. Я тоже не понимаю. Бывает с человеком — он хочет сказать одно, а говорит другое. В человеке таятся какие-то силы, над которыми он не властен. А теперь, граф, прошу освободить меня от дальнейшей беседы: голова кружится. Царица Екатерина, читая протоколы допроса, возмущалась стойкостью и умилялась наивностью «главного бунтовщика», — она прозвала его sot dans toute la valeur du terme[44]. Прошел декабрь, январь, февраль, март, апрель. Ежедневные допросы ввергли Костюшко в уныние, и уныние перешло в отчаяние. Наблюдавший за ним коллежский советник Макаров докладывал генерал-прокурору Самойлову, что заключенный находится «в превеликой задумчивости» и «в грусти», что он «беспрерывно плачет», что арестант «чрезвычайно похудел и переменился», «весьма нездоров от головной боли» и «есть опасение в рассуждение его жизни». Лейб-медик Роджерс, посетивший Костюшко, донес Екатерине: «Он столько выстрадал телом и душой, что организм его совсем подорван и вся нервная система безвозвратно расшатана. Все это предсказывает очень тяжелую будущность… Боюсь, что у него останется навсегда полная душевная прострация». Екатерина к тому времени уже переменила мнение о «начальнике польских бунтовщиков»: из показаний Игнатия Потоцкого, Вавжицкого, Килинского, Капостаса и других она убедилась, что Костюшко est doux comme un agneau[45]. В мае 1796 года Костюшко перевели в Штейгельманов дом, а оттуда в Мраморный дворец. Окна — без решеток, кругом — красивые вещи, заботливая услуга, но все это не радовало, а угнетало больного Костюшко: он продолжал смотреть на мир глазами человека, погруженного в глубокий колодец.
В осенний пасмурный день Костюшко проснулся от резкого стука за стеной. Он вызвал звонком лакея: — Кто стучит? — Идет уборка, — ответил лакей. — Почему так рано? — Не могу знать. Убирают не наши люди. После обеда, когда Костюшко, лежа на диване, трудился над карандашным рисунком Краковской рыночной площади, опять послышался шум и топот многих ног. Распахнулась дверь. Быстрые шаги. В комнату вошел невысокий ростом военный, большеголовый, курносый, одетый в какой-то странный мундир. За ним — генералы, сановники. — Vous êtes libre![46] — сказал военный скороговоркой, остановившись с сомкнутыми ногами перед Костюшкой. Костюшко хотел приподняться, но не смог: закружилась голова. — Je voulais moi-même vous apporter sette bonne nouvelle[47]. Костюшко понял, что перед ним Павел, новый царь. Он заплакал и, давясь слезами, сказал: — Сир, я болен, раздавлен. Я думаю о судьбе моей несчастной ойчизны. — И о своем здоровье надо думать. Я твой друг, генерал. Какие у тебя желания? — Польские пленные, сир, мои товарищи, солдаты и офицеры. Освободите их, ваше величество. — Будут свободны. Верь моему слову. Император ушел так же внезапно, как и появился. За ним последовала свита. Костюшко попросил раскрыть окна. В комнату ворвался свежий, влажный ветер. Костюшко дышал глубоко, полной грудью, наслаждаясь свободой, запаха которой давно не ощущал. В темень его жизни ворвался яркий луч, и этот луч волновал, ослеплял. Костюшко плакал, но не от счастья, а от отчаяния. Кончился кошмар, «начинается новая жизнь, а у него нет сил для этой новой жизни… И какова она, эта новая жизнь? Что сохранилось в Польше от старого и какие формы примет новое?
Продолжая оставаться в Мраморном дворце, Костюшко все же чувствовал себя свободным. Его часто навещал коллежский советник Макаров, ставший сразу сенатором и начальником Тайной экспедиции. Он рассказывал дворцовые новости, а сегодня передал Костюшке письмо от Игнатия Потоцкого. И его, Потоцкого, посетил новый царь, он сказал Потоцкому: «Вы свободны, но обещайте мне оставаться спокойным. Я всегда был против раздела Польши, признавая его делом настолько же несправедливым, как и неполитическим. Но теперь это совершившийся факт. Для восстановления Польши необходимо содействие и согласие со стороны трех держав на возвращение отобранных частей, но представляется ли вероятным, чтобы Австрия и в особенности король прусский отдали свои доли? Не могу же я один отдать принадлежавшую мне часть и ослабить себя в то самое время, когда они усилились… Разве я один могу объявить им войну, чтобы их к тому принудить? Империя моя крайне нуждается в мире!» В совете «оставаться спокойным» не было ничего унизительного ни для Потоцкого, ни для Костюшки, ни для чести любого патриота: ведь польскому народу волей-неволей придется «оставаться спокойным», пока не созреют силы и условия для нового восстания. Сейчас надо спасать то, что великодушие нового царя может спасти, — 12 тысяч пленных. Но тут вмешались польские предатели. Любой подлец стремится оподлить как можно больше людей, а сановные подлецы, для которых подлость является государственным принципом, умеют придавать своим подлым деяниям видимость благородства. Император Павел хотел освободить пленных поляков без всяких оговорок, движимый лишь желанием исправить «политическую и человеческую» ошибку своей матери. Двойственность — в хорошем или дурном — была чужда характеру Павла. Но поляки Ильинский и Вьельгорский, делающие карьеру при русском дворе, желая услужить и выслужиться перед всесильным Самойловым, убеждали Костюшко, что освобождение 12 тысяч пленных зависит от согласия Костюшки принести царю верноподданническую присягу. Костюшко не знал, что уже в прошлом году был произведен третий раздел Польши, что Россия, Австрия и Пруссия уже поделили между собой последние польские земли, что Польша как самостоятельное государство перестало существовать. Костюшко не знал, что по трактату третьего раздела полякам предоставлен свободный выбор подданства, так что нужды в «верноподданной присяге» не было. Костюшко мучился: как это он, вождь восстания, откажется от Польши, от своего прошлого, от всего того, чем жил? Но, думал он, имеет ли он моральное право жертвовать благополучием и жизнью 12 тысяч поляков только для того, чтобы сохранить свою честь незапятнанной? Свою личную честь! Не перетянет ли на весах истории реальная ценность 12 тысяч человеческих жизней само понятие «честь»? Костюшко вспомнил: а ведь и от верноподданнической присяги можно освободиться, когда эта присяга становится обременительной для чести! Именно так он, Костюшко, поступил, когда честь не позволила ему служить своему королю. И Костюшко, не зная подлой игры вокруг его имени, согласился принести верноподданную присягу, и эту присягу принял от него тарговичанин Вьельгорский. Одну лишь утеху обрел Костюшко в эти горестные дни: Немцевич опять с ним! Он явился рано утром: объятия, слезы. Они смотрели друг другу в лицо, искали знакомые черты, знакомые приметы — тщетно: оба они не были похожи на тех, которые расстались всего два года тому назад в кордегардии Петропавловской крепости. Когда немного успокоились, Немцевич рассказал: — Слово «Польша» исчезло с географических карт. Польский народ, народ, который в тяжелых боях с сильными соседями построил свое государство почти девять веков тому назад, лишился этой государственности только потому, что поляки больше интересовались местными, областными делами, чем общегосударственными… Сердце Костюшки так изболелось, что для нового горя там просто уже места не было. Кроме того, Костюшко и до сообщения Немцевича догадывался, что Польша удушена: генерал-прокурор Самойлов был приторно любезен и изъяснялся на слишком изысканном французском языке. — Где Гуго Коллонтай? — В австрийской тюрьме. Костюшко уронил голову на грудь. — Поеду в Новый Свет, в чужую ойчизну, которая меня примет. Там буду я просить бога, дабы он даровал Польше твердых и добрых правителей, дабы он даровал независимость нашему народу и чтобы народ наш стал просвещенным и свободным. И ты, Урсын, поедешь со мной. Ты у меня один остался, и ты меня не оставишь.
Ильинский и Вьельгорский были щедро награждены Самойловым, а присяга горько отразилась на душевном состоянии Костюшки, она угнетала его чистую, благородную душу. С императором Павлом Костюшко прощался сдержанно, с внутренним возмущением, полагая, что его личная свобода и свобода 12 тысяч пленных куплены слишком дорогой ценой. Костюшко и не подозревал, что в его злоключениях меньше всего виноват Павел, который приветил его в дни горя и по-царски одарил на прощание: соболью шубу, карету с лошадьми, походную кухню, столовое белье и тысячу крестьянских душ. Правда, душ Костюшко не принял, вместо душ ему выдали 12 тысяч рублей. Дешевые были крестьянские души в России! 19 декабря 1796 года Костюшко выехал из Петербурга вместе с Немцевичем. Перед выездом Костюшко написал сестре: «Позволь мне, моя сестра, обнять тебя, возможно, в последний раз… Хотел бы, чтобы ты знала мою волю, что отдаю тебе имение Сехновицы, а ты имеешь право отписать его одному из твоих сыновей или всем, однако под условием: чтобы хозяева во всей деревне с каждого дома не работали больше двух дней на панщине, а женщины вовсе не работали. В иной стране, где государство обеспечило бы мою волю, я бы вовсе освободил бы их от крепостной зависимости, но в Польше надо делать только то, что действительно облегчает немного судьбу людей, и на до всегда помнить, что все мы по природе равны, что только богатство и образование вносят какую-то разницу, что мы обязаны заботиться о бедных и просвещать темных…»
Путь в Америку лежал через Финляндию, Швецию, Англию, и всюду, где появлялся Костюшко, его встречали как борца за независимость своего народа. В его лице финны, шведы и англичане отдавали дань уважения покоренной, но непреклонной доблести. Это всеобщее сочувствие трогало и поддерживало Костюшко. Скромный и застенчивый, он уклонялся от парадных приемов, но охотно появлялся в своей черной головной повязке среди простого люда в Або, в Стокгольме, в Бристоле и Лондоне. 12 августа 1797 года Костюшко и Немцевич прибыли в Филадельфию. Город, в который двадцать один год тому назад Костюшко приехал скромным капитаном, встретил его сегодня пушечным салютом, почетным караулом и ликующим «ура!» многотысячной толпы. Вашингтон прислал письмо: «…Никто не питает большего почтения и большего уважения к Вашей особе, чем я, и никто искренней, чем я, не желал, чтобы трудная борьба за свободу Вашей отчизны закончилась бы успехом…» Костюшко вернулся в свое прошлое: он опять почувствовал себя капитаном, готовым вступить в армию «бунтовщиков». Но вскоре убедился Костюшко, что Америка уже не та, какой он ее знал. Почти все, с кем он боролся в прошлом за свободу, сдали в ломбард благородные идеалы своей юности. Революционные лозунги заменены пошлым призывом: «Делай доллары!» Негры, которые кровью добывали свободу и независимость, остались рабами даже в имениях Вашингтона. Орден Цинцинатов превратился в собрание консервативных аристократов. С одним только Томасом Джефферсоном Костюшко чувствовал себя в Америке времен гражданской войны. Джефферсон, который когда-то писал генералу Гэтсу: «Костюшко — это наичистейший сын свободы, какого я когда-либо видел, и то той свободы, которая включает всех, не только горсточку избранных или богатых», — этот Джефферсон дружески, любовно указывал Костюшке на его ошибки и вдохновлял к дальнейшей борьбе. А в Польше уже завязывались первые бои. Реакционный публицист Козьмян писал: «С известной точки зрения нам живется лучше, чем во время Речи Посполитой; мы в значительной мере сохранили то, что дала нам родина. Теперь нам не приходится бояться уманьской резни; хотя Польши нет, мы живем в Польше». Но Козьмян лгал: Польша была, и были в ней силы, готовые в бой за освобождение, были силы в самой Польше и за ее пределами. В Польше развернули подпольную работу бывшие члены Четырехлетнего сейма, за пределами Польши — многочисленные эмигранты. Центром эмиграции стал Париж. В марте 1798 года Костюшко получил письмо из Парижа от бывших участников восстания. Они организовали «Польскую депутацию», ее цель — освобождение Родины. Но в депутации, писали авторы письма, возникли раздоры между умеренными и радикалами — повторение борьбы в Лейпцигском эмигрантском центре. Уладить эти раздоры, по мнению авторов письма, мог только Костюшко, человек его славы, человек его опыта, его политического такта. Эмигранты еще писали, что центр тяжести европейской политики переместился во Францию, что на историческую арену выступил генерал Наполеон Бонапарт и что с его победоносным именем эмиграция увязывает надежды на освобождение. Получил Костюшко письмо и от генерала Яна Генриха Домбровского. Не щадя розовой краски, Домбровский описывал энтузиазм, охвативший поляков при известии о том, что Наполеон Бонапарт разрешил организовать польские легионы. Мог ли Костюшко остаться в стороне от этого святого дела? Мог ли он отсиживаться в торгашеской Америке, когда его соратники идут в бой за свободу и независимость родины? Но… присяга, то проклятие, которое камнем лежит на сердце! Как быть? Ведь он обязался стать верноподданным русского царя! «Поступлю так, как поступил когда-то со своим королем, — решил Костюшко. — Верну царю и подарки и присягу». Деньги у Костюшки появились: американский конгресс выплатил ему 12 тысяч долларов и передал ему в собственность 500 акров пахотной земли в штате Огайо. Эту землю он поручил Томасу Джефферсону продать и вырученные деньги употребить на выкуп негритянских детей и на их обучение ремеслу, дабы они стали «защитниками своей свободы и своей родины». Костюшко помолодел, даже нога перестала беспокоить. В кармане паспорт на имя Томаса Канберга. Костюшко уже видит себя в кругу друзей, соратников, он уже видит себя в лесу под Краковом, в том лесу, откуда он начал поход за освобождение отчизны. Но вот беда: Немцевич сам ехать не желает и его отговаривает! Неужели Урсын не понимает, что наступили исторические сроки? А возможно, понимает, но не хочет уехать из Америки? Приворожили его лукавые глазки Жермены Кейн! Костюшко уехал без Немцевича и уже 14 июля был в Париже. В первую очередь надо сбросить камень с сердца, очиститься от проклятой присяги. Через графа Разумовского, русского посла в Вене, Костюшко передал на имя царя Павла 12 тысяч рублей при письме: «Париж, 4 августа 1798 г. Ваше Величество. Пользуюсь первыми минутами свободы, которую я вкушаю под охраной законов величайшей и великодушнейшей нации в мире, чтобы возвратить Вам подарок, который мнимая доброта Ваша и вероломное поведение Ваших министров заставили меня принять. Будьте уверены, Ваше Величество, что я согласился на это единственно из глубокой привязанности к моим соотечественникам, к товарищам моим по несчастью и в надежде, что мне удастся, быть может, еще послужить моей родине. Да, с удовольствием говорю и повторяю Вам, государь, мне показалось, что Вы были тронуты моим отчаянным положением, но министры Ваши и их прислужники поступили со мной совершенно противно Вашему желанию; поэтому если бы они посмели приписать лично моей воле тот поступок, который они вынудили меня сделать, то я обнаружу перед Вами и перед всеми людьми, дорожащими честью, их насилье, жестокость и коварство…» Заносчивый тон письма ижесткие слова были отнюдь не в характере Костюшки. Возможно, его рукой водил гнев, рожденный присягой, возможно, прав польский историк Скалковский: он предполагает, что дерзкий тон был внушен Костюшке членом Директории Ляревельер-Лепо, ибо форма письма «соответствовала принципам революции, стремившейся унизить тиранов, но противоречила элементарным расчетам политических вероятностей». Сразу сказался необузданный, деспотический характер Павла I. Он, по чьему слову фельдъегерская тройка увозит в Сибирь министров, по чьему слову маршируют в Сибирь целые роты солдат за недостаточно ярко начищенные пуговицы, должен выслушивать упреки от какого-то Костюшки! Павел «с неудовольствием» отослал Разумовскому письмо Костюшки и деньги: «Каким вы хотите способом возвратите ему письмо, дав знать, что я от изменников ничего не принимаю». Но это показалось Павлу недостаточным: поймать злодея, уничтожить! В рескрипте на имя графа Разумовского он пишет: «На случай, если известный Костюшко пойман будет на границах австрийской монархии или там, где войска союзника нашего императора римского будут оставаться, мы поручаем вам требовать у австрийского министерства, чтобы он выдан был для препровождения в границы наши, как нарушитель присяги, учиненной им на верное нам подданство». Полицейские меры были приняты и в России. Российский посланник в Берлине, граф Н. П. Панин, послал рижскому военному губернатору Бенкендорфу «довольно похожий на Костюшко эстамп, по которому скорее можно узнать его, если он появится». С этого эстампа были сняты сотни копий. Поскакали курьеры, посылались отношения, объявления, циркуляры генерал-прокурора Лопухина, лифляндского губернатора Рихтера, начальника литовской инспекции Ласси, управляющего литовской губернией Репнина, воейного губернатора Каменец-Подольска графа Гудовича. В этих отношениях, объявлениях, циркулярах предписывалось «ловить Костюшко», когда он появится в пределах России, и представлять жителям «в омерзительном и гнусном виде клятвопреступный поступок их бывшего вождя». Началась охота. Усердные чиновники, прельщенные Репниным «особым воздаянием», поймали несколько десятков «Костюшек», которые даже под кнутом не признавали себя Костюшками, а один из двойников, изловленный в местечке Борунах Ошмянского уезда, оказался так похожим на «оригинал», что его, мужичка, прямо с базара под усиленным конвоем препроводили в Петербург и водворили в Петропавловскую крепость — в ту же камеру, где сидел Тадеуш Костюшко.
К Костюшке явился гонец от генерала Домбровского, командующего польскими легионами, — к тому времени уже было их два, 7 тысяч сабель, и формировался третий. От своего имени и от имени эмигрантов Домбровский просил Костюшко принять командование над польскими вооруженными силами. Предложение Домбровского взволновало, но не обрадовало Костюшко — он не забыл не только того, что пережил, но и того, что передумал в затхлой камере Петропавловской крепости. 7 тысяч сабель! С этой горстью можно начать, но ведь эти 7 тысяч солдат подчинены чужой, французской воле, и где гарантия, что кровь этих солдат будет пролита за Польшу? И сила ли в одних солдатах? Польше нужны союзники — союзники, которые могли бы противостоять мощным соседям. А этим союзником должна стать Франция. Перед ним, перед Тадеушем Костюшкой, стоит более сложная задача: привлечь Францию к польскому делу. В сегодняшней Франции первое лицо — Наполеон Бонапарт, и для того, чтобы достойно трактовать с Наполеоном, надо говорить с ним как представитель польского народа, а не как подчиненный ему командующий польскими легионами. Костюшко отказался от высокой чести. Домбровскому он написал: «Ты, генерал, объедини свои усилия с усилиями своих коллег, чтобы согласие, единение и истинные республиканские принципы царили в легионах…» И потребовал приведения легионеров к присяге «в ненависти королям и аристократии, верности принципам Французской революции и вечным принципам свободы и равенства». В нем проснулся молодой Костюшко — тот, который мечтал о коринфянине Тимолеоне, но этот «помолодевший» Костюшко обладал горьким опытом восстания 94-го года. Домбровский и его легионеры верили, что, сражаясь под французским знаменем, они сражаются за свою родину, за ее свободу. Из далекой Франции, из далекой Италии они перекликались со своими сородичами в Польше: они их ободряли, внушали им надежду на скорое освобождение, и песня легионеров, в которой, словно клятва, звучали слова:
Еще Польша не погибла.
Пока мы живы, —
Шло время. Костюшко видел, как Наполеон шагает через горы трупов. Костюшко понял, что для Наполеона лозунги Французской революции только ступеньки к королевскому трону. Костюшке, поборнику «республиканских принципов и добродетелей», стал неприятен, враждебен человек, который пользуется властью, врученной ему народом, для осуществления своих честолюбивых замыслов. И политическое чутье не обмануло Костюшко. Хотя консул Наполеон пел дифирамбы генералу Домбровскому и писал ему: «Скажите своим доблестным соратникам, что они всегда у меня на уме, что я рассчитываю на них, ценю их самопожертвование на пользу защищаемого нами дела и всегда буду их другом и товарищем…» Но когда это было ему выгодно, он подписал в 1801 году Люневильский мир \, вынесший смертный приговор польским легионам. Легионы были переформированы: два из них Наполеон передал итальянцам, а личный состав третьего, Дунайского, Наполеон включил во французскую армию. Польские легионы перестали существовать. Хотя консул Наполеон сам искал связи с Костюшкой, однако увиливал от конкретных переговоров, не желая брать на себя никаких обязательств по отношению к Польше. Эти неудачи сломили Костюшко, он сразу почувствовал себя немощным стариком: возобновились головные боли, изнуряла бессонница, на свежем воздухе не хватало воздуха для легких. Он переехал в Бервиль, близ Фонтенбло, в усадьбу своего друга, швейцарца Цельтнера, — он ушел в добровольное изгнание, не чувствуя себя в силах поспевать за скачками истории. Ни победа Наполеона при Иене, ни занятие им Берлина, ни движение французов к Висле, ни настойчивые просьбы эмигрантов не смогли вывести Костюшко из его пасмурного состояния. Его обижали, его возмущали высокомерные высказывания Наполеона: в прокламации к полякам (1806 г.) было сказано, что Наполеон хочет убедиться, «заслуживают ли поляки быть независимым народом». Костюшко ушел в тень, но, устранившись от активного участия в жизни, он продолжал работать над общественными проблемами. Слабый, немощный, он допоздна сидел за письменным столом: писал статьи, письма. Князю Адаму Чарторийскому он доказывал необходимость улучшения положения крестьян и уничтожения панщизны, «так милой помещику и так ненавистной хлопу». В большой статье он предостерегал, как бы у поляков вследствие потери государственности не выработалась «раболепная душа», как бы не появилось поколение «всезнаек», которое, «разжигая страсти, само ничего не творит». В этой статье Костюшко убеждал, что свобода — «сладчайшее добро, которым человек может насладиться на земле», что «свободу надо ставить превыше всего — ей надо служить грудью и помыслами». В другой статье он писал: «И из малого может родиться великое. Ведь всего трое крестьян — Вальтер Фюрст, Вернер Штауфехер и Арнольд из Мельхтале — основали в XIV веке «Союз освобождения», который в конечном счете привел к освобождению Швейцарии от австрийского ига. Напомню вам еще, что американские революционеры не имели за собой и четвертой части населения, а их идеи, их чистые помыслы, великие слова «свобода и равенство» увлекли за собой весь народ. Только народ решает судьбу своей родины. Армия французов, когда она стала действительно народной армией, оказавшись без офицеров, ибо все они почти эмигрировали, вот эта народная армия, окрыленная величием лозунгов революции, не только выгнала неприятеля из своей страны, но сама пошла в соседние страны, чтобы согнать тиранов с их тронов. Человеческая мысль восприимчива к правде, человеческое сердце чует обаяние справедливости, а когда подъем унесет и душу, тогда перед человеческим напором ничего не устоит. Америка в начале революции насчитывала меньше двух миллионов жителей, без запасов, без уменья воевать, и она победила англичан мужеством, упорством, верой в справедливость. Энергия, любовь к свободе, народный подъем — все победит». За пять лет, которые Костюшко провел в добровольном изгнании, изменилось многое во Франции. Наполеон стал императором. Его гению уже тесно стало в границах Центральной Европы. Он собирается в Московию, а путь в Московию лежит через Польшу, где можно набрать много солдат, где на полях зреет крутая рожь, где на лугах косят фураж для лошадей. Тут опять Наполеон вспомнил о Костюшке, о человеке, чье славное имя, подобно волшебному ключу, раскроет дверцу к сердцу поляков. В 1806 году явился в Бервиль наполеоновский министр Фуше. Он был крайне почтителен и крайне откровенен: он изложил план будущего похода в Россию и в лестных для польского уха выражениях сообщил, что император рассчитывает на помощь храбрых поляков, а что касается лично Костюшки, то великий император желал бы его видеть в походе рядом с собой, конечно, в ранге соответственно его высокому значению. Костюшко нахмурился: лесть, высказанная в галантных выражениях, его покоробила, но он мгновенно подобрался и деловито спросил: — А что император намеревается сделать для Польши? Голос Фуше дрогнул: — Генерал, ваш вопрос меня удивляет. Разрешите напомнить вам, что малейшее желание моего повелителя равносильно приказу даже для монархов. Его императорское величество может приказать вам сопровождать его всюду, куда ему будет угодно, он может всячески, как найдет нужным, использовать ваши услуги, а в сопротивлении желаниям моего великого повелителя я не предвижу ничего хорошего ни для вас, ни для ваших земляков. — Ваше превосходительство, — спокойно ответил, вставая, Костюшко, — прошу заверить его величество, что прекрасно понимаю свое положение. Я живу в стране его императорского величества, и его императорское величество может распоряжаться мною как ему угодно, может даже волочить меня с собой на аркане. Но сомневаюсь, чтоб мой народ в этом случае оказывал ему какие-либо услуги. И еще передайте его величеству, что Костюшке лично для себя ничего не нужно: будет счастлива отчизна, будет счастлив и он; нет — то ему и жизнь не нужна. — Хорошо, генерал, предположим, что я вас понял. Какие условия вы выдвигаете? — Только такие, которые согласны с духом Французской революции: возрождение Польши, форма правления конституционная, передача крестьянам земли в собственность… Наполеон не отозвался на предложение Костюшки: он нашел более сговорчивых польских деятелей, которые без ультиматумов отдали ему и свою землю и свой народ. А Костюшко, общепризнанный вождь поляков, копался в это время в садике или работал за токарным станком в Бервиле.
Поход в Россию оказался для Наполеона роковым: в 1814 году он лишился трона. Победители торжественно вступили в Париж. Костюшко преобразился. Он скинул с плеч груз шестидесяти восьми лет, вытравил из сердца горечь пережитого и всю свою славу, весь свой опыт опять поставил на службу родине. Он написал письмо Александру I, «самому популярному политическому деятелю», могущественному монарху, от которого больше чем от кого-либо другого зависела будущая судьба Польши. «Бервиль, близ Фонтенбло, 9 апреля 1814 г. Государь! Я осмеливаюсь обратиться из моего скромного убежища с просьбой к великому монарху, великому полководцу и в особенности к защитнику всего человечества — качество, единственное в своем роде, ибо мне известно все величие его души. Да, государь, мне хорошо знакома Ваша доброта, Ваша щедрость и великодушие. Я прошу у Вас трех милостей: даровать полякам всеобщую амнистию, без всяких ограничений, так, чтобы крестьяне, рассеянные за границей, считались свободными, если они возвратятся к своим очагам. Вторую: чтобы Ваше Величество провозгласило себя королем польским со свободной конституцией, подходящей к английской конституции; учредило бы в Польше народную школу для крестьян, где воспитанники содержались бы за счет правительства, и уничтожило бы по прошествии десяти лет крепостное право с наделом крестьян землею. Если мои просьбы будут уважены, то, несмотря на свою болезнь, я отправлюсь лично с тем, чтобы повергнуться к стопам Вашего Величества, поблагодарить Вас и чтобы первому воздать Вам должный почет, как моему монарху. Если бы мои ничтожные способности могли еще принести малейшую пользу, то я немедля отправился бы отсюда с тем, чтобы присоединиться к моим соотечественникам и с честью и преданностью служить моей родине и моему монарху. Третья просьба моя, государь, хотя имеет вполне частный характер, но тем не менее весьма живо интересует меня: вот уже 14 лет, как я живу в почтенном доме г. Цельтнера, родом швейцарца, бывшего некогда швейцарским послом во Франции. Я многим обязан ему, но мы оба бедны, а он обременен многочисленной семьей, поэтому я убедительно прошу дать ему приличное место при новом французском правительстве или в Польше; он человек образованный, и я ручаюсь за его неподкупную честность. С глубочайшим уважением имею честь быть Вашего Величества покорнейший слуга.
Костюшко».Неужели такое раболепное письмо написал тог самый человек, который еще так недавно в послании к генералу Домбровскому настаивал на включении в легионерскую присягу пункта о ненависти королям? Если эти два документа действительно написал Костюшко, то когда он слукавил? Костюшко не лукавил: и в одном и в другом документе был он предельно искренен. Он проник в честолюбивые замыслы Наполеона и не доверял ему, а для того, чтобы обезопасить Польшу от будущего наполеоновского ставленника, обезопасить Польшу от нового Понятовского, Костюшко настаивал на внесении в легионерскую присягу пункта о ненависти королям. Когда же появилась реальная надежда на возрождение Польши и эта надежда была связана с личностью Александра I, он, больной, пришел в такое умиление, что готов был поступиться не только своей гордостью, но и жизнью, лишь бы жила Польша. Надежда Костюшки на русского царя была основана на бесспорных фактах. Александр I выступал по польскому вопросу в очень благожелательном тоне, он амнистировал офицеров и солдат, сражавшихся против России, он разрешил вернуться на родину польским войскам из Франции — эти жесты и высказывания давали Костюшке (да и не только ему!) повод думать, что русский царь решил восстановить польское государство. Костюшко тогда еще не знал, что лицемер Александр преследует эгоистические цели, что его заигрывания с поляками рассчитаны на то, чтобы заручиться их расположением, дабы упрочить свои позиции на предстоящем Венском конгрессе. Костюшко не ограничился письмом. Он поехал в Париж, был принят Александром I, который закрепил свой разговор с ним в следующем послании: «Париж, 3 мая 1814 г. С особым удовольствием, генерал, отвечаю на Ваше письмо. Самые сокровенные желания мои исполнились, и с помощью Всевышнего я надеюсь осуществить возрождение храброй и почтенной нации, к которой Вы принадлежите. Я дал в этом торжественную клятву, и благосостояние польского народа всегда было предметом моих забот. Одни лишь политические обстоятельства послужили преградою к осуществлению моих намерений. Ныне препятствия эти уже не существуют, они устранены страшною, но в то же время и славною двухлетнею войною. Пройдет еще несколько времени, и при мудром управлении поляки будут снова иметь отечество и имя, и мне будет отрадно доказать им, что человек, которого они считают своим врагом, забыв прошедшее, осуществит все их желания. Как отрадно было бы мне, генерал, иметь Вас помощником при этих благотворных трудах. Ваше имя, Ваш характер, Ваши способности будут мне лучшею поддержкою. Примите, генерал, уверение в совершенном моем уважении.
Александр».Этой перепиской не закончилась политическая деятельность Костюшки. Осенью 1814 года в Вене собрался конгресс. В то время, когда императоры и короли обменивались орденами и мундирами, дипломаты перекраивали карты Европы. Польский вопрос был самым острым: Александр I хотел создать, конечно под своей властью, единое польское конституционное государство; Австрия и Пруссия настаивали на окончательном разделе Польши. Английский делегат Кестльри упорно возражал против конституционного устройства польских земель, он заявил, что это «искра, от которой может заняться горючий материал, накопленный в Европе распространением либеральных лозунгов». Наполеон бежал с острова Эльбы. Работы конгресса были прерваны и вновь возобновились только 3 мая 1815 года. Россия, Австрия, Пруссия быстро договорились: Польша, как единое целое, перестала существовать. Александр I собрал воедино отошедшие к России польские земли и образовал из них Царство Польское. Царство Польское! Ведь не об этом говорил Костюшко с императором Александром! Костюшко поехал в Вену, там не было Александра: «кочующий деспот» носился из города в город. Костюшко отправился в Браунау. 27 мая 1815 года состоялась встреча; она продолжалась 15 минут. С чарующей улыбкой перезрелой кокетки объяснил Александр «милому генералу», что он в отчаянии, что Пруссия и Австрия воспротивились его желанию создать единую Польшу. Костюшко не удовлетворили доводы Александра I: он мечтал о воскрешении всей Польши, а не о «клочке, громко названном Царством Польским». Кому верить? Чем жить? «Как отрадно было бы мне, генерал иметь Вас помощником… Ваше имя, Ваш характер, Ваши способности…» «Что он предлагает мне? Участвовать в триумфальном шествии победителя? Освятить своим именем позор неволи?» Для Тадеуша Костюшки замкнулся круг, нет уж сил для борьбы, но придут другие Костюшки, и они сделают то, что он сделать не сумел: поляки не потерпят аркана на своей шее. Костюшко отказался стать «помощником» Александра I: «своим именем, своим характером, своими способностями» он мог служить только польской Польше, а не русскому Царству Польскому.
Костюшко переехал в швейцарский городок Золотурн. В скромном домике с крохотным садиком перед окнами он коротал старческие дни в обществе своего друга Цельтнера или в игре с детьми, которые привязались к «доброму дедушке». Навещали Костюшко бывшие соратники — они приезжали за советом или за словом утешения. Жители Золотурна при встрече со старцем в поношенном черном сюртуке, с львиной белой гривой и мохнатыми бровями снимали шляпы: «Дай вам боже долгой жизни». В ясные дни Костюшко ездил верхом в горы. Со снежных вершин стекали звонкие ручьи, и эти ручьи казались Костюшке олицетворением вечной жизни — она таится даже в тысячелетних ледниках. Часто поднимался Костюшко на какую-нибудь вершину и часами смотрел на снежные пики Бернского Оберланда: там за ними Краков, площадь перед Марьяцким костелом, а еще дальше поле, усеянное трупами, дальше — сумрачный каземат Петропавловской крепости… — Боже, неужели все это было? В осенние и зимние дни, когда с гор дул свежий ветер, можно было видеть Костюшко в квартале бедноты. Шел медленно, припечатывая левой ногой, он разносил в эти дни дружеское слово, а после его ухода хозяева находили на подоконнике или в цветочном горшочке зеленую десятифранковую ассигнацию. Много часов проводил Костюшко за письменным столом: он писал письма — изливал свою тоску по родине, по польским людям. «Прошу тебя, — писал он своему другу Сераковскому, — сообщать мне частые сведения о себе и о том, что происходит на свете, а особенно о нашей дорогой родине; не бывает ночи, чтобы она не пришла мне на память…» Или: «Я хотел бы незримо прилететь к вам на воздушном шаре и расцеловать каждого из вас в отдельности». А вспоминая прошлое, оправдывался: «Я от души желал служить отечеству, но не сумел этого сделать, и очень скорблю об этом». 2 апреля 1817 года Костюшко раньше обычного подсел к письменному столу. В последние годы он много думал о прошлом, но не о событиях, которые, словно волны в разбушевавшемся море, нагоняли одно другое, а об идеях, что влияли на эти события. Он по-новому пересмотрел свое поведение и пришел к выводу, что психологический барьер, преграждавший ему путь к заветной цели, вовсе не был так непреодолим, как ему в свое время казалось. Он ведь был убежден, что крепостничество находится в противоречии с законами природы, но вместо того, чтобы согласиться с Коллонтаем, который, в сущности, исходил из этого же убеждения, он, Костюшко, пытался примирить непримиримое. Костюшко, понял, что в дни социальных потрясений нельзя говорить шепотом, нужно в полный голос говорить «да» или «нет». И это «да» в полный голос решил Костюшко сказать сегодня. Он записал: «Завещание. Глубоко сознавая, что крепостничество находится в противоречии с законами природы и благополучием народов, сим свидетельствую, что уничтожаю его совсем и на вечные времена в моем имении Сехновицы, расположенном в Брестско-Литовском воеводстве, как от имени своего, так и будущих владельцев. Признаю, таким образом, всех жителей деревни, принадлежащей к имению, свободными гражданами и неограниченными хозяевами угодьев. Освобождаю их от всех без исключения поборов, панщизны и личных повинностей, которыми они были до сего дня обязаны владельцу имения. Призываю их лишь к тому, чтобы для пользы собственной и Края старались открывать школы и распространять просвещение…» На первый взгляд кажется странным: как мог Костюшко завещать кому-то ценность, которая ему не принадлежит? Ведь, уезжая из Петербурга, он передал имение Сехновицы в полную собственность сестре с правом «отказать его одному из сыновей или всем». Без уничтожения этой дарственной записи «Завещание» не имело юридической силы. И Костюшко не мог этого не знать! Так зачем он написал свое «Завещание»? Для кого оно было предназначено? Для потомков! И в первую очередь для того будущего «Костюшки», которого польский народ поставит во главе нового восстания. Этому будущему вождю Тадеуш Костюшко хотел сказать, что новый «Поланецкий универсал» должен быть вдохновлен идеей, заложенной в основу «Завещания», и что только такой универсал принесет победу восставшему народу. Утро первого октября тысяча восемьсот семнадцатого года было теплое, снег на горах искрился, но Костюшко до срока вернулся домой с прогулки. Цельтнер, встретивший его в садике, забеспокоился: — Почему так рано? — Знобит. Посижу у камина. В камине ярко горел огонь, а Костюшко, сидя в кресле у самого пламени, никак не мог согреться. Рядом, на скамеечке, устроилась Эмилия, дочурка Цельтнеров. Высоким звонким голосом рассказывала она о проделках кота Шпигеля, но Костюшке казалось, что девочка говорит шепотом. — Громче, дитя. Я не слышу. Эмилия пересела на подлокотник кресла, прижалась к «дедушке» и, напрягая голос, продолжала свой рассказ. До сознания Костюшки доходили не все слова, — часть из них проваливалась, и терялся смысл рассказа. — Я лягу, Эмилия, а ты попроси маму сварить мне кофе. Горячий напиток помог: Костюшко почувствовал, как по телу разливается благодатное тепло. Однако его хватило ненадолго: опять озноб. Костюшке чудилось, что его погружают в воду и чем глубже его погружают, тем холоднее становится вода. Вечером явился доктор Шиллер. Диагноз он поставил грозный, хотя и непонятный: нервная горячка. Супруги Цельтнеры не отходили от больного: то отогревали его грелками, то растирали уксусом пышущее жаром тело. На восьмой день наступило улучшение: ни озноба, ни жара, однако доктор Шиллер предостерег Цельтнеров: — Не спускайте с него глаз. Генерал очень плох. Десятого октября утром, когда Цельтнер раскрыл дверь в комнату больного, он остановился на пороге и растерянно спросил: — Куда вы собрались? Костюшко, одетый в праздничный костюм, оправлял перед зеркалом черный шарф. Он повернул голову к Цельтнеру: — Дорогой друг, вы забыли, какой сегодня день. — Не забыл. Но вы ведь больны! — Молитва больного скорее достигнет ушей господа нашего. Цельтнер понял, что его постоялец не откажется от своего намерения. — Тогда подождите, переоденусь и пойду с вами. Ежегодно в этот день Костюшко заказывал заупокойную мессу и под звуки моцартовского «Реквиема» оплакивал павших под Мацеёвичами. Цельтнер явился в цилиндре, перехваченном траурным крепом, и в черных перчатках. Они отправились в костел. Костюшко шел размеренной походкой военного: прямо, с приподнятой головой. Больная нога легко отрывалась от земли. Лицо — ясное, одухотворенное. — Рад видеть вас таким бодрым, — сказал Цельтнер. — Но вас удивляет, почему без траура. — Честно говоря, удивляет. — Мой друг, силы мои на исходе. Возможно, иду к богу с последней молитвой, и эту свою последнюю молитву хочу вознести не за прошлое, а за будущее, не за мертвых, а за живых. Хочу упросить бога внушить живым не терять надежды. Предчувствие не обмануло Костюшко. После костела Костюшко преобразился: он как бы ушел в себя. За столом не принимал участия в разговоре, в саду сидел один, думая о чем-то, подолгу оставался в своей комнате, но не работал, не писал и не читал, а просиживал у окна и смотрел на восток, где ледяные вершины гор, словно пики, впивались в голубую сочность неба. Даже его любимице Эмилии не удавалось пробиться сквозь его молчание. Четырнадцатого Костюшко слег. Доктор Шиллер никакого диагноза не поставил, только, уходя, сказал Цельтнеру: — Все в руках божьих. Пятнадцатого, рано утром, когда в доме еще спали, раздался резкий звонок. Цельтнер, накинув на плечи пальто, бросился к входной двери. Перед ним — доктор Шиллер. — Что случилось? — спросил Цельтнер всполошенно. — Генерал… Как генерал? — Слава богу… уснул. Доктор извинился, ушел. Костюшко проснулся около одиннадцати. После четырехдневного молчания он вдруг стал многоречив. Цельтнеру он рассказывал о порядках в Любашевской бурсе, а когда мадам Цельтнер сменила мужа у постели больного, он поведал ей историю одной трагической любви, и хотя Костюшко имен не называл, но его слушательница знала, что он говорит о себе и Людвике. Наступил вечер. У кровати больного собрались все Цельтнеры. Костюшко, как бы продолжая прерванный рассказ, обратился к мадам Цельтнер: — А вы как бы поступили? И, не дожидаясь ее ответа, продолжал: — Люди не вольны в своих поступках. Костюшко протянул руку; ее перехватил Цельтнер. — Люди не вольны в своих поступках, — повторил Костюшко. — Но иногда бывает… — Он попытался приподняться, но тут же упал на подушки. Дыхание становилось все чаще и прерывистее. Все сильнее сжимал руку Цельтнера, а взгляд его — недоуменный — перебегал с лица на лицо. Вдруг он выгнулся и замер. Голова глубже ушла в подушку. Губы улыбались, а в глазах застыла тревога.
Голицыно, 1960.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАДЕУША КОСТЮШКИ
1746, февраль — В Мерцовщизне, на Литве, в семье мечника Людвика Костюшки родился сын Андрей Тадеуш Бонавентура. 1755—Тадеуш поступил в Любашевскую бурсу отцов-пиаров. 1765 — Тадеуш поступил в Варшавскую Рыцарскую школу (кадетский корпус). 1766, 20 декабря — Костюшко произведен в хорунжии. 1768 — Костюшко произведен в капитаны. 1769, осень — Костюшко отправлен в Парижскую Академию живописи и ваяния. 1770 — Костюшко оставил академию. 1774, осень — Костюшко вернулся в Польшу. 1776, август — Костюшко прибыл в Филадельфию. 1776, октябрь — Костюшко поступил в американскую армию в чине полковника. 1783, октябрь — Костюшко произведен в бригадные генералы. 1784, июль — Костюшко вернулся в Европу. 1789, октябрь — Костюшко поступил в польскую армию. 1792, 19 июля — Бой под Дубенкой. 1792, июль — Костюшко произведен в генерал-лейтенанты. 1792, июль — Костюшко ушел из армии. 1792, октябрь — Костюшко уехал из Польши. 1794, 23 марта — Костюшко прибыл в Польшу. 1794, 24 марта — Начало восстания. 1794, 4 апреля — Бой под Рацлавицами. 1794, 16 апреля — Восстание в Варшаве. 1794, 23 апреля—Восстание в Вильнюсе. 1794, 7 мая — «Поланецкий универсал». 1794, 6 июня—Бой под Щекочинами. 1794, 28 июня — Казнь изменников в Варшаве. 1794, 13 июля — Осада Варшавы. 1794, 10 октября — Бой под Мацеёвичами. 1794, 10 октября — Костюшко попал в плен. 1794, 29 ноября — Костюшко заточен в Петропавловскую крепость. 1796, май — Костюшко переведен в Мраморный дворец. 1796, 12 декабря — Император Павел освободил Костюшко. 1796, 19 декабря — Костюшко уехал из Петербурга. 1797, 12 августа — Костюшко прибыл в Филадельфию. 1798, 14 июля — Костюшко прибыл в Париж. 1798, 4 августа — Письмо императору Павлу. 1801 — Костюшко переезжает на жительство в Бервиль. 1814, 9 апреля — Письмо императору Александру. 1814, май — Свидание Костюшки с императором Александром в Париже. 1815, 27 мая — Свидание Костюшки с императором Александром в Браунау. 1817, 15 октября — Смерть Костюшки.
Последние комментарии
30 минут 35 секунд назад
16 часов 34 минут назад
1 день 1 час назад
1 день 1 час назад
3 дней 7 часов назад
3 дней 12 часов назад