Семен Адольфович Трегуб НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ


«Мы, коммунисты, — люди особого склада. Мы скроены из особого материала».И. В. Сталин
«Наше время преклонит колени только перед художником, которого жизнь есть лучший комментарий на его творения, а творения — лучшее оправдание его жизни».В. Г Белинский
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Николай Алексеевич Островский родился 29 сентября 1904 года и умер 22 декабря 1936 года. Прожил он всего лишь 32 года. Но след, оставленный им, столь глубок, значение его труда и всей его жизни так велико, что и сейчас мы все еще продолжаем подводить итоги им свершенного. «Самое прекрасное для человека, — говорил Островский, — всем созданным служить людям и тогда, когда ты перестанешь существовать». Мы хорошо знаем, что и после своей физической смерти он не перестает служить нашему народу возвышающим примером своей жизни и своим героическим творчеством. Он помогал и помогает воспитывать новые поколения советских людей — бодрых, верящих в свое дело, не боящихся трудностей и готовых преодолеть любые трудности на пути к коммунизму. Большая и удивительная судьба выпала на долю его книг. Первая часть романа «Как закалялась сталь» увидела свет в 1932 году, вторая — два года спустя. Тираж книги составлял 10 тысяч экземпляров. А в 1936 году, в год смерти писателя, вышло уже 62-е издание и общий тираж достиг двух миллионов экземпляров. К 1950 году тираж «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей» приближался к шести миллионам. По количеству изданий «Как закалялась сталь» занимает место в ряду таких книг, как «Мать» Горького, «Тихий Дон» Шолохова, «Чапаев» Фурманова, «Разгром» Фадеева. Нельзя, однако, только цифрами измерить значение романа Н. Островского в жизни советского народа. М. И. Калинин, отметив в одном из своих выступлений, что «в современной, т. е. советской, литературе есть уже не мало героев, достойных подражания», назвал прежде всего книгу «Как закалялась сталь». Павел Корчагин не стареет, не тускнеет его образ, не отходит в прошлое. Напротив! Прошли годы, и перед нами предстали поколения живых Корчагиных — людей, обладающих теми же чертами, какими обладает герой книги Н. Островского. Едва родившись, Корчагин шагнул в нашу жизнь и занял свое место на переднем крае борьбы за торжество коммунизма. Он был с нами на лесах социалистической стройки в годы предвоенных сталинских пятилеток. С новой и удивительной силой засияла его звезда в пору самых тяжелых испытаний народа — в годы Великой Отечественной войны. Корчагин был участником всех сражений — от Черного до Баренцова моря. Он шел в атаку с пехотинцем, был в боевом походе рядом с моряком, воодушевлял летчика, сопутствовал танкисту, обострял яростную зоркость артиллериста… Он защищал Севастополь и Одессу, стоял насмерть под Ленинградом и Сталинградом. Нравственной красотой своего подвига во имя родины он увлекал за собой тысячи родных ему братьев и сестер. С ним дружили и Зоя Космодемьянская, и Олег Кошевой, и Александр Матросов, и бойцы, водрузившие знамя Победы над берлинским рейхстагом. Потому-то возвратившийся с войны юноша оставил в книге отзывов Московского музея Николая Островского следующую запись: «Уходя на фронт, я прощался с тобой, Коля! И когда вернулся победителем над фашистской Германией, я счел своим долгом зайти в музей повидаться с моим вдохновителем в борьбе с трудностями, борьбе за победу! Всегда Николай Островский становился во главе нас, коммунистов и комсомольцев, и вел в атаку! Мы питались твоими прекрасными мыслями и каждый раз радовались: твои труды — писателя! — так же убивали врагов, как и «катюша». Кто не читал в эти грозные дни «Как закалялась сталь»? И молодежь и старики читали. А это значит, что гы участвовал в борьбе с врагами после своей физической смерти. Поэтому, мой друг, ты бессмертен для нас, живых». Островский — его творчество и пример его жизни — восхищает и вдохновляет не только советских людей. Рядом с приведенными словами советского юноши оставил свою запись один из строителей нового демократического Китая, писатель и ученый Го Мо-жо: «Хотя жизнь Островского была чрезвычайно тяжелой, однако воля его, дух его были крепки как сталь. Хотя ты очень рано лишился зрения, но ты лучше других видел происходящие вокруг события и глубоко созерцал их внутренним своим миром. Хотя ты и был тяжело болен, но твоя творческая энергия, работоспособность во много раз превосходила энергию и работоспособность здоровых людей. Хотя ты и умер, но твой дух живет в сердце каждого честного человека и воодушевляет его на борьбу и работу». А в те годы, когда книга о Павле Корчагине еще только начинала свою большую жизнь, французский писатель Ромэн Роллан говорил: «Все в Островском — пламя действия и борьбы, — и это пламя росло и ширилось по мере того, как ночь и смерть все теснее окружали его. Неустанная живость и оптимизм переполняли его. И эта радость связывала его со всеми народами земли, борющимися и идущими вперед». Так оно было и есть в действительности! Таким все больше и больше узнают Островского и за рубежами нашей родной страны, узнают преимущественно по Корчагину, — в единстве жизненного пути писателя и героя, в единстве их нравственной сути. Бурной овацией откликнулись делегаты IV конгресса Коммунистического Интернационала молодежи, когда докладчик назвал имя Николая Островского. Весь конгресс встал, как один человек. Духовный брат Островского, казненный гитлеровцами национальный герой чехословацкого народа коммунист Юлиус Фучик уже в 1934 году прочитал «Как закалялась сталь». Он отозвался о ней с восторгом: «Ничто не страшно коммунисту — вот вывод из книги, вот итог жизни автора». Еще при жизни Островского прибыло письмо из далекого австралийского штата Квинсленд. Незнакомый корреспондент обращался к писателю: «Посылая Вам это письмо, я хочу только выразить Вам свою глубокую радость по поводу того, что в мире есть такой человек, как Вы. Невзирая на Ваш недуг, Вы можете иметь от жизни гораздо больше счастья, чем многие здоровые люди. Я так хочу, чтобы Вы были счастливы. У нас в Квинсленде прекрасный климат, если бы только социальный режим был иной…» Австралиец рассказывал о том, как потерял глаз в результате несчастного случая, как затем его искалечила шедшая с недозволенной скоростью машина полковника Чизхольма, старшего офицера в городе Рохэмптоне. И письмо свое он заканчивал так: «Если бы не повреждение ноги, я бы работал, зарабатывал бы и отложил бы деньги на поездку в СССР, к Вам, моему русскому другу, с которым я хотел бы потолковать и повидаться». Позже пришло письмо из Болгарии, от «старого узника», политзаключенного тюрьмы города Стара Загора: «После долгих мытарств Ваш подарок, 1 экземпляр книги «Как закалялась сталь», наконец, получен… Уже двое из нас ее прочли, а предстоит прочесть всем 250 политзаключенным, находящимся в этой тюрьме. Сделаем все возможное, чтобы все ее прочитали в самый короткий срок. Те товарищи, которые знают русский язык, прочтут ее в оригинале, для остальных переведем на болгарский… Я в восторге от книги, а товарищ, который сейчас ее читает, ни на момент не отрывается от нее… Мы ее используем не только как ценное высокохудожественное произведение, от которого могут многому научиться и наши литераторы, но используем ее и в практической своей деятельности — в своей политико-просветительной работе, на которую в последнее время обращаем самое большое внимание». В 1937 году, уже после смерти Островского, «Известия» опубликовали такое же письмо от коллектива политзаключенных рижской тюрьмы. Нелегальным путем проник к ним в тюрьму экземпляр романа Островского. Книга была тщательно и надежно спрятана в камере. Русский язык знали немногие. Заключенные сами переводили роман на латышский. Убористо, микроскопическими буквами записывался перевод на крохотных бумажках от папиросных гильз. Бумажки незаметно клали в условленный угол мусорного ящика; оттуда их брали обитатели других камер. Прочитав, тем же путем передавали драгоценные клочки бумаги дальше. Павел Корчагин пробуждал революционную энергию; он приходил в трудную минуту на помощь тем, у кого воля была уже на пределе, клал руку на плечо и говорил: «Стоит жить! Нужно бороться!» Так встречали слово писателя везде. Лондонская газета «Дейли уоркер» писала: «То, что Н. Островский умер таким молодым, является потерей не только для народов СССР, но и для литературы всего мира». А в некрологе, написанном французским поэтом Луи Арагоном и напечатанном в «Юманите», сказано: «Н. Островский — олицетворение творческого мужества, большевизма, преданности делу рабочих… Следует жить ради чего он хотел жить, благодаря чему он героически пережил себя». Из осажденных городов и окопов сражавшейся тогда с фашистскими мятежниками республиканской Испании донеслись к нам слова искренней скорби фронтовиков об умершем друге, бойце, писателе, человеке, «чья прекрасная жизнь была чудесным образцом революционного мужества, страсти и воли». В годы второй мировой войны вышло тринадцать заграничных изданий «Как закалялась сталь» и шесть изданий «Рожденных бурей». Известен следующий факт. В одном из партизанских отрядов, сражавшихся на Балканах, находился сербский мальчик, которого за храбрость и сноровку бойцы прозвали «Павкой» — в память Павла Корчагина, которого они хорошо знали. Мальчик читал «Как закалялась сталь» и старался во всем быть достойным своего легендарного тезки. Однажды юный боец провинился. Его наказали — лишили боевого оружия и права называться Павкой. Мальчик очень тяжело переживал это. Ему казалось, что нет на свете наказания более строгого и более позорного. Он искал случая искупить свою вину и, отличившись в бою, вернуть утерянное уважение товарищей. Когда отряд завязал стычку с гитлеровскими захватчиками, юный партизан безоружным ринулся в бой, отличился и был представлен к награде. Тогда он явился к командиру отряда и попросил, чтобы, если это возможно, вместо любой другой награды ему возвратили право называться Павкой. Он мечтал о родстве с любимым героем, стремился к нему. Потому и не было для него награды болей желанной, чем имя Павки Корчагина. Именно в ту пору среди партизан родилась традиция: товарищ, вступающий в комсомол, должен был обязательно прочесть роман Максима Горького «Мать» и «Как закалялась сталь» Николая Островского. Корчагин привлек к себе внимание не только наших друзей во всем мире, но и наших врагов. Вначале они пытались выдать его за легенду, созданную большевиками в целях пропаганды. Однако вскоре они вынуждены были убедиться в том, что имеют дело не с мифическим героем, а с абсолютно реальным и типичным образом советского человека. В годы войны один из пленных гестаповских офицеров показал на допросе, что в гитлеровских шпионских школах штудировали «Как закалялась сталь», чтобы изучить характер советских людей. Книга оказалась для разведки врага не менее важным военным объектом, чем заводы, вырабатывающие оружие. Этот и подобные факты, относящиеся непосредственно к книге Островского, являются, конечно, лишь звеньями в общей цепи усилий врага разгадать непостижимую для него тайну — духовный облик советского человека, природу его невиданного в истории героизма. Как здесь не вспомнить сцену допроса Германа Геринга международным военным трибуналом в Нюрнберге. В послесловии к «Повести о настоящем человеке» Б. Полевой рассказывает: «Шел к концу допрос Германа Геринга… «Второй наци Германии» неохотно, сквозь зубы, рассказывал суду о том, как… под ударами Красной Армии таяла и разваливалась гигантская армия фашизма, до тех пор не знавшая поражений… — Признаете ли вы, что, предательски напав на Советский Союз, вследствие чего Германия оказалась разгромленной, вы совершили величайшее преступление? — спросил Геринга советский обвинитель. — Это не преступление, это роковая ошибка, — глухо ответил Геринг, хмуро опуская глаза. — Я могу признать только, что мы поступили опрометчиво, потому что, как выяснилось в ходе войны, мы многого не знали, а о многом не могли и подозревать. Главное — мы не знали и не поняли советских русских. Они были и останутся загадкой. Никакая самая хорошая агентура не может разоблачить истинного военного потенциала Советов. Я говорю не о числе пушек, самолетов и танков. Это мы приблизительно знали. Я говорю не о мощи и мобильности промышленности. Я говорю о людях…» Советский человек оказался для врага действительно неразгаданной, непостижимой силой. Вражеские разведчики и штабисты не только изучали Корчагина. Роман Н. Островского подвергался преследованиям во многих зарубежных странах. Федеральная полиция в Швейцарии произвела обыск в типографии Кооперативного издательства в Женеве и изъяла две тысячи экземпляров только что отпечатанного немецкого перевода «Как закалялась сталь». Директора издательства были арестованы. Подобное же произошло накануне войны в Белграде. Весь тираж только что изданной книги Островского упрятали в тюрьму. По городу пошел слух: «Корчагина арестовали жандармы». Позже, когда война началась, во время одного из воздушных налетов бомба угодила в тюрьму и разворотила каземат, в котором лежали книги. Кому-то из заключенных удалось в суматохе бежать, и он захватил с собой экземпляр романа Островского. Тогда по городу вновь распространился слух: «Корчагин бежал». В оккупированной, побежденной Франции в 1940 году фашисты захватили переводчика «Как закалялась сталь», профессора философии Дьеппского лицея Валентина Фельдмана. Они заковали его в кандалы и подвергли жесточайшим пыткам. Ученый не склонил голову перед палачами. В безыменной могиле на кладбище в Ивре покоится его прах. Вместе с Павлом Корчагиным Николай Островский находился на переднем крае и участвовал в кровавой войне против фашистской реакции. На переднем крае остается он и поныне; он участвует в послевоенном строительстве и продолжает вместе со своим народом победоносный путь к коммунизму. Именами Островского и Корчагина названы многие производственные бригады. Смена Корчагина, его кровные младшие братья, идет в передовых рядах стахановцев послевоенной сталинской пятилетки. Жизнь Корчагина, описанная Островским, по-прежнему служит возвышающим примером для людей разных стран и наций, продолжающих борьбу за мир и счастье народов. Переводчица «Как закалялась сталь» на греческий язык Елена Кирпакида предварила новое издание книги Островского словами: «Я безгранично рада, что сумела передать на родном языке чувства и дела закаленного в борьбе за новую жизнь Павла Корчагина, который и теперь жив, и теперь борется и создает человека нового общества». Среди героев греческой демократической армии, слава о которых передавалась из уст в уста, известна семнадцатилетняя Афина Тоска. Девушка пришла к партизанам в январе 1947 года и вступила в роту своего отца — капитана Тоска. Она участвовала более чем в двадцати сражениях. В битве при Копано она первая бросилась на вражеские пулеметы и подвигом своим принесла победу соратникам. При Вермио Афина была смертельно ранена. Ее последние слова: «Не печальтесь, товарищи, если Афина умрет. Вы победите!» Когда она умерла, в ее походном мешке нашли переведенную на греческий язык книгу Николая Островского «Как закалялась сталь»… Так сражался советский писатель в строю доблестных борцов за свободу и независимость Греции. Он находится и в строю легендарной армии Мао Цзе-дуна, принесшей счастье многострадальному Китаю. «С этой книгой шли в бой за свободу солдаты Китайской народно-освободительной армии», — написано на экземпляре «Как закалялась сталь», присланном из Китая в дар Московскому музею Н. Островского. Он — с героями Кореи и с патриотами Вьетнама. Он — со всеми народами земли. «Замечательная жизнь Н. А. Островского, полная борьбы и непоколебимой веры в силы революции, — образец того, каких людей воспитывает партия Ленина — Сталина. Жизнь Н. Островского всегда будет примером для рабочей молодежи Франции», — говорит Андре Марти. «Мы не знаем всего того, что скрыто в нашем человеческом существе, и Корчагин раскрыл нам тайну нашей силы…» — пишет Людмил Стоянов (Болгария). «Только советский человек и большевик мог так беззаветно служить делу народа», — отзывается об Островском Дора Насто (Албания). Кто же он, этот человек, ставший родным братом миллионам? Какова идейная природа его натуры и творчества? Какая великая цель родила его великую энергию?
ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ
Бывают в жизни подвиги и бывает жизнь-подвиг. «…Жизнь измеряется не только в длину, — говорил М. И. Калинин. — Есть люди, которые жили 24 года и были старики, которые живали по сто лет, и проходило время, этих стариков все забывали. А 24-летние люди, которые горели огнем со своим народом, они долго жили в народных сердцах. И я не сомневаюсь, что человек, который жил 20 лет и за эти 20 лет жил полною жизнью, страдал со своим народом, шел туда, куда шел весь народ, — если народ шел с оружием против врага, то и он шел против этого врага, если народ радовался, то и он радовался вместе с ним и пел песни, — жизнь этого человека в десятки раз счастливее, чем жизнь иного столетнего старика…»[1] Мудрые слова эти можно с полным правом отнести к Николаю Островскому.
 Село Вилия. Дом, в котором родился Н. Островский.
Село Вилия. Дом, в котором родился Н. Островский.
Самые первые воспоминания его детства связаны с селом Вилия Острожского уезда бывшей Волынской губернии. Здесь родился он и провел свои ранние годы. В памяти сохранилась живописная река Вилия, впадающая в Горынь. Река делила село на две части. В одной из них, — она называлась Заречье или Загребля, — жили Островские. На высоком холме стоял большой панский фольварк (помещичья усадьба). У запруды — мельница. Фольварк принадлежал Рейну, «акушеру двора его величества», и ему же были отрезаны лучшие из окрестных земель. К полям и выгонам Рейна примыкали земли графа Могельницкого и графа Чаплинского, обильно политые крестьянскими слезами и потом. Лучшие из тех земель, которых не захватили помещики, принадлежали кулакам-хуторянам. Остальным же крестьянам доставались участки, которые на Украине зовутся «невдобами», — скупые, неплодородные, дробно нарезанные земли. Они требуют от человека много труда, а хлеба дают мало. Раннее детство Островского освещено заревом пожаров 1905 года. Горели панские имения, зажженные крестьянами. В села наезжали казаки-каратели, и ребята глазели на них, прячась за плетнями. Казаки уезжали, фольварки отстраивались вновь, и все шло попрежнему. Девушки и парни ходили на поденную работу к панам; нанимались в батраки к кулакам-хуторянам; старики лепили горшки на продажу; отцы уходили на заработок — на лесопилку, на винокурню или на мельницу, расположенные в самом селе, или на отхожий промысел — в ближние и дальние города. Земля не кормила жителей Вилии. Хлеба едва хватало до рождества. В селе было пятьсот дворов. Они тянулись длинной трехверстной линией вдоль реки. Одним концом своим эта линия упиралась в панские луга, с другой стороны обрывалась у пруда. Пруд тоже был панским. Невдалеке от пруда стоял дом, где жили Островские.
 Семья Островских. Николай — первый слева (1908).
Семья Островских. Николай — первый слева (1908).
Когда Николай родился, отцу его, Алексею Ивановичу Островскому, было 54 года; матери, Ольге Осиповне, — 29. Кроме Николая, у них были две дочери и сын; старшей дочери, Наде, исполнилось тогда 8 лет. Семья жила так же, как жили и другие их соседи: в постоянных поисках хлеба и заработка, в тяжелом труде. Отец Николая, Алексей Иванович Островский, служил солодовщиком на винокуренном заводе. Специальность эта обеспечивала лишь сезонный заработок: летом завод стоял, и Алексей Иванович вместе с другими односельчанами должен был скитаться в поисках работы. Опорой семьи была мать — Ольга Осиповна. Она шила, стирала, нанималась в кухарки к «господам». Но и при ее заработке трудно было содержать четверых детей. Ей на помощь приходили дочери; им было одиннадцать-двенадцать лет, а они уже шили и ходили в фольварк на поденные работы. Старшему сыну Мите пришлось одиннадцати лет наняться учеником в слесарную мастерскую в уездный город Острог. Хозяин мастерской, немец Ферстер, жестоко эксплуатировал его, и Митя сбежал домой. Мальчика затем снова отдали «в люди».
 Николай Островский (1908).
Николай Островский (1908).
Коля был самым младшим. Его пытливость часто ставила втупик мать и сестер. Сестра Катя учила его словам молитвы. Он слушал, а потом вдруг прерывал ее: — А ты видела бога? Мать и сестра вспоминали потом, что напугать его страшными рассказами было невозможно. Он не верил этим рассказам и не боялся их. За подступавшими к селу полями чернел лес. Мальчик ходил туда за ягодами, грибами. Он любил ездить с ребятами в ночное, слушать увлекательные, полные приключений рассказы у костра. Еще он любил, когда по вечерам пели в селе парни и девчата; он сам подпевал им в лад. Любовь к песням он, видимо, унаследовал от матери. Особенно хорошо пела она украинские и чешские[2] народные песни. Любовь к этим песням Николай Островский сохранил на всю жизнь. Он любил слушать рассказы матери о ее детстве и воспоминания отца о русско-турецкой войне, участником которой тот был; о далеком Петербурге, где прошла отцовская молодость…
 Н. Островский (справа) с матерью и старшим братом Дмитрием (1913).
Н. Островский (справа) с матерью и старшим братом Дмитрием (1913).
Перед мальчиком вставали занесенные снегом Балканские горы. По скользким тропам, вьющимся над безднами, люди совершали героические переходы. Там, где не проходили лошади, измученные солдаты сами тянули на себе тяжелые орудия. Удобно устроившись на коленях у сестры, он обычно просил отца: — Еще, папа, еще! Отец рассказывал о Петербурге; он проходил там военную службу в гренадерском полку, а закончив ее, еще пять лет прослужил курьером на Балтийской пристани. В одной квартире с ним жили студенты. С восторгом говорили они о тех, кто, не щадя жизни, боролся с царизмом. Софья Перовская… Желябов… Александр Ульянов. Об этих людях и рассказывал отец. Не все в его рассказах было понятно. Крепко запомнилось одно: бедные всегда терпят много обид от богатых. Вспоминал отец и о своем детстве, о том, как помещица била его мать по щекам за плохо выглаженную салфетку. Нестерпимо жаль было Коле бабушку. Мир еще не был открыт для него; он стоял у порога жизни, беспомощный и доверчивый, глядя на все удивленными, широко открытыми детскими глазами. Но рано, очень рано мальчик понял и ощутил свою зависимость от богатых, власть имущих людей. Когда ему исполнилось шесть лет, он начал учиться в церковно-приходской школе. К этому времени он умел уже бегло читать и писать. Его не учил никто. Но уже когда ему исполнилось четыре года, он провожал своих сестер в школу. Придет, усядется на пороге и слушает, о чем говорит девочкам учительница. Дома он садился с сестрами к столу и, как бы играя в придуманную им для себя игру, «учил уроки», списывал из старого букваря буквы и целые слова. Потому и согласилась учительница церковно-приходской школы Александра Мироновна принять в свой класс Колю, несмотря на его малолетство.
 Шепетовка. Школа, в которой учился Н. Островский.
Шепетовка. Школа, в которой учился Н. Островский.
Мать сшила ему для школы штанишки из крестьянского холста, покрасив их в темно-синий цвет, «чтобы краше было». Из такого же холста смастерили ему заплечную сумку для книг, и он не расставался с ней все три года своей учебы. Нужда прервала учебу. Николай окончил школу в 1913 году с похвальным листом, но дальше учиться не мог. Родителям было трудно. «Последняя квартира — это хлевчик, приспособленный под жилье… Жить было тесно. Помню, что Николаю негде было лечь спать. Он привязывал свой топчанок веревками к потолку и там спал»[3]. Нужда была так велика, что сломала семью, разметала ее в разные стороны. Двух сестер Островского выдали замуж. Отец нанялся лесником в село Турия под Кременцом, неподалеку от австровенгерской границы. Мать ушла в город Староконстантинов, где нашла место кухарки у директора сахарного завода. С матерью находился Коля. Тут впервые характер мальчика повлиял на его судьбу. Случилось так, что Коля не снес обиды и побил дочку директора завода. Уже в ранние годы с необычайной силой обнаружилось в этом мальчике чувство собственного достоинства. Сестра писателя, Екатерина Алексеевна, вспоминает: «Он никогда не давал себя в обиду, не выносил насилия и никому не разрешал себя бить. Бывало кто-нибудь из старших учеников замахнется на него, а он выпрямится и скажет: — Ты что думаешь? Если я не могу дать сдачи, ты можешь меня бить? И ребята не били его» [4]. Трепка, которую Коля задал дочери директора, обошлась ему не дешево. Мать была уволена с работы и вынуждена была уехать к одной из замужних дочерей под Петербург. За Колей приехал отец и увез его с собой в Турию. Мальчик помогал взрослым, батрачил, пас лошадей. Там и застал Алексея Ивановича и его младшего сына 1914 год. В июле началась первая мировая империалистическая война. Прискакали казаки и приказали жителям в суточный срок эвакуироваться в глубь страны. Поток беженцев хлынул от западных границ на восток. Вместе с ними — Островские. Они проезжали через опустошенные уже местечки и деревни. На ночь останавливались в брошенных, полуразрушенных панских фольварках. Там было множество книг. Мальчик рылся в них, внимательно рассматривал иллюстрации, выбирал наиболее понравившиеся ему книги и тайком от крестьянина, который их вез, укладывал книги на дно телеги. Но лошадь бывало пристанет где-нибудь в болоте, и хозяин, придя от этого в ярость, принимается безжалостно выбрасывать из телеги всю поклажу. Летели в грязь и книги. «Вот я сейчас взрослый, — вспоминал много лет спустя об этом времени Островский, — но я не помню, чтобы еще когда-нибудь меня охватывала такая досада, чтобы мне чего-нибудь еще было так жалко, как эти книги». Около двух месяцев кочевал он вместе с отцом. Наконец они добрались до узловой железнодорожной станции Шепетовка. В Малой советской энциклопедии о Шепетовке сказано коротко: «14,7 т. жителей. Промышленное значение небольшое; мельницы, лесопильный завод». В 1915 году число жителей было еще меньшим. Своей особой, напряженной жизнью жили в этом городке лишь привокзальные районы. Вокзалов было два. На шести линиях железнодорожного узла нередко скоплялись десятки эшелонов. Паровозные гудки звучали почти непрерывной симфонией. Там кипела непрестанная работа, появлялись и вновь разъезжались в разные стороны новые люди. Город лежал невдалеке от линии фронта, и санитарные поезда, идущие на восток, встречались в Шепетовке с воинскими эшелонами, направляющимися на запад. Здесь скрещивались пути, ведущие на Новоград-Волынск и Жлобин, на Изяславль, на Проскуров, на Здолбунов (и дальше на Варшаву), на Казатин, а оттуда на Киев. Но чем дальше от станции, тем тише становился город. Кривые улицы заросли травой. На северо-западной окраине они обрывались у того самого пруда, что так полюбился Корчагину. Невдалеке от городка речушка Косецкая вливалась в другую маленькую речку Горынь. Кругом стояли леса. В книге «Как закалялась сталь» Островский потом вспомнит и эту тишину, и прохладу пруда, и гоготанье гусей, пасущихся посреди улиц. Он скажет: «Хороши вечера на Украине летом в таких маленьких городишках-местечках, как Шепетовка, где середина — городок, а окраины — крестьянские». С Шепетовкой и связана дальнейшая жизнь Николая Островского и его семьи. Любознательный и жадный до книг мальчик поступил в местное двухклассное училища Учение давалось легко, но длилось недолго. Коля впал в немилость у известного нам по роману «Как закалялась сталь» учителя «закона божьего» попа Василия и весной 1915 года был исключен из школы. Мальчик помогал семье по хозяйству, пилил дрова на станции, выгружал уголь из вагонов, в свободное время читал. Читал он много, все, что попадалось под руку: приложения к журналам «Нива» и «Родина», приключенческие романы. Библиотеки в Шепетовке не было. За книгами приходилось рыскать по знакомым и полузнакомым людям. Почти всегда у него оттопыривалась на животе рубашка, так как под ней, за поясом, была спрятана книга. Случайно попался в руки «Гарибальди» — один из выпусков издательства «Развлечение», выходивших в пестрых обложках, так же как печатались бесчисленные рассказы о «бесстрашных» сыщиках и «благородных» бандитах. «Гарибальди» отличался от других таких книг. В тоненьких тетрадках, стоивших по пятаку каждая и снабженных завлекательными для мальчишек подзаголовками (например, «Кровавые приключения грозного атамана разбойников»), рассказывалось не только о головокружительных приключениях. За скитаниями по всему свету, за битвами и побегами возникал хоть и смутный, хоть и во многом искаженный, но все же обаятельный образ Джузеппе Гарибальди — борца и вождя национально-освободительного движения в Италии в середине прошлого века. «Как раз тогда — в 1915 году — читал Коля «Гарибальди». Как ни бедно жили Островские, но Коля всегда покупал очередной выпуск. Он много рассказывал о Гарибальди. Вообще он умел замечательно рассказывать о том, что прочел, и часто фантазировал»[5]. Появилось страстное желание совершить что-нибудь необычайное. Детские романтические мечты звали к подвигу. Сводки с театров военных действий прочитывались от первой до последней строчки. С особым волнением он следил за сообщениями о подростках — участниках войны. Его уже больше не удовлетворяла столь распространенная среди детей игра в «войну». Заброшен был пугач. Дважды его обладатель пытался бежать из дому на фронт, и дважды его возвращали к родителям. Общий заработок отца, матери и старшего брата Дмитрия был так ничтожен, нужда так велика, что и ему самому пришлось пойти работать. В сентябре 1915 года Колю определили кубовщиком станционного буфета. Получал он 6 рублей в месяц. Нужно было дежурить по 12–14 часов, таскать ведерные самовары по крутой узкой лестнице. Тяжелый труд этот был ему непосилен. Но он не отлынивал от работы, терпел. Невыносимо было другое: грубые и бессердечные официанты, развращенные подачками посетителей, постоянные оплеухи и подзатыльники, открытый цинизм взрослых. Он, «буфетный мальчик», видел жизнь всегда снизу, «как грязные ноги прохожих видишь из окон подвала». Сколько обездоленных людей прошло перед его главами — не счесть! Но чем больше страданий он наблюдал и переносил сам, тем тверже убеждался он в том, что «не могут люди жить так всегда, лопнет у них, наконец, терпенье… не настоящая эта жизнь для человека!» Попрежнему единственным утешением оставались книги. «Приходил он домой измученный, голодный, но первым делом хватался за книгу, — вспоминает его брат Д. Островский. — Мы просто не понимали» что находит он в книгах, и частенько доставалось ему за них: на работу надо было выходить чуть свет, а он готов был ночь напролет просидеть над книгой»[6]. И в ночи дежурств в сырой каморке, освещенной лишь топкой «титана», он тоже ухитрялся читать. Достать хорошую книгу было трудно. Попробуй найди в тогдашней Шепетовке сочинения русских классиков. Книги Максима Горького считались «запрещенными». О произведениях Чернышевского, Герцена, Белинского, Добролюбова знали лишь понаслышке. Попадались все больше лубочные, церковные, «душеспасительные» книжонки. Но Коля искал и отыскивал настоящие книги и нередко расплачивался за них своим обедом. Ему попался роман Войнич «Овод». Он прочитал его с огромным интересом. Эта книга рассказывала о том, что было уже знакомо Островскому по выпускам «Гарибальди». Недаром прообразом Овода послужил, как говорят, соратник Гарибальди, итальянский революционер Мадзини. Он вновь читал о тайных обществах, основанных для борьбы за независимость Италии, за свержение австрийского владычества. Но в книге было и другое — то, что заставило мальчика переноситься мыслями из далекой Италии, от лазурных берегов Средиземного моря в родную Шепетовку и по-новому смотреть на то, что его окружало. В Шепетовке был католический костел. Звон его колокола часто раздавался над городком; из раскрытых дверей доносились звуки органа; ксендзы в черных сутанах шествовали по улицам, и худые, изможденные женщины подходили к ним под благословение и целовали их белые пухлые руки. «Овод» рассказывал о католических прелатах, которые, нарушая «святую тайну» исповеди, предавали революционеров, и Николай почувствовал в шепетовских ксендзах и в боге, которому они служили, таких же врагов, какими были для Овода иезуит Карди и кардинал Монтанелли. Читая «Овода», Николай не знал, что уже почти четверть века роман этот был одной из любимейших книг русских революционеров. В этой книге находили они как бы отголосок собственных мыслей, косвенное отражение своей борьбы, некое, пусть частичное, изображение того идеального образа борца, что рисовался их воображению. Неукротимый, мужественный и страстный боец, не знающий препятствий на пути к достижению намеченной цели, — таким представал Овод перед читателями. Таким узнал и полюбил его и Николай Островский, тогда еще двенадцатилетний подросток, выросший в маленьком украинском пограничном городке. «Они убивают меня потому, что боятся меня. А чего же больше может желать человек?» — написал Овод своей любимой перед казнью. Юношей Овод говорил: «— Что толку в клятвах? Не они связывают людей. Если вы чувствуете, что вами овладела идея, это — все». Эти слова навсегда запали в сердце Островскому. Не раз сможет он повторить о себе то, что сказал Овод, начиная свой жизненный путь: «…я все-таки должен итти своей, дорогой и тянуться к свету, который я вижу впереди». Николая восхищало в Оводе его презрение к врагам, его умение превозмогать самую страшную боль и муку. Потому врач того госпиталя, в котором лечился Корчагин после тяжелого ранения, запишет в своем дневнике: «Я знаю, почему он не стонал и вообще не стонет. На мой вопрос он ответил: — Читайте роман «Овод», тогда узнаете». Овод сетовал на то, что есть на земле люди, которые готовы примириться с тем, что страдание есть страдание, а неправда — неправда. Для таких людей, добавлял он, не должно быть места в жизни. Нужно бороться против неправды, бороться за то, чтобы уничтожить страдание. И Николай тогда уже начинал понимать великую истину этих слов. Мальчик легко мог бы надломиться, погибнуть. Однако «свинцовая мерзость жизни» не сломила духа ребенка. Островский смог бы сказать о себе, подобно А. М. Горькому: «Чем труднее слагались условия жизни, — тем крепче и даже умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека создает его сопротивление окружающей среде». Детство Островского было обычным для людей его класса: детство, проведенное «в людях», сознание, возникшее из уроков жизни, стремление к знанию, чтению, которое в дальнейших трудностях может либо развиться с еще большей силой, либо погаснуть совсем. О таком детстве рассказал в своей автобиографической повести Горький. И многое из написанного Горьким может быть отнесено к ранним годам жизни Островского. «Наше детство было под ярмом капитализма, — говорил Островский. — Мы еще детьми попадали под капиталистический гнет, и вместо радостной юности, радостного детства нас ждал изнурительный труд от утра до поздней ночи буквально за кусок хлеба». Отважные, волевые, бесстрашно смотревшие в лицо смерти герои книг, с которыми сдружился мальчик, стали для него образцом и примером, они укрепляли его душевные силы[7]. В упорном сопротивлении трудностям выковывался его характер, росла мечта о лучшей, справедливой жизни. Он с радостью пересказывал своим друзьям содержание прочитанных книг, нередко внося в эти рассказы значительную долю собственной фантазии. Много лет спустя, отвечая на вопрос, как он стал писателем, Островский вспоминал об этом времени: «Поскольку в романах и повестях, которые я читал, не все герои удовлетворяли меня, я, сам того не замечая, начинал импровизировать. Я читал своей старушке-матери не то, что написано, а то, что я хотел, чтобы было написано. Увлекаясь, я не мог связать концы с концами, и тогда меня мама ловила на лжи. Мне было больно и стыдно». Островский рассказал об одном характерном эпизоде своей биографии: «Меня часто спрашивают, как я стал писателем. Этого я не знаю. Но как я стал большевиком, это я хорошо знаю… Я хочу рассказать вам о далеких детских годах, об одном эпизоде, который отчасти ответит на оба эти вопроса. Помню, мне было тогда двенадцать лет… Я принес с трудом добытую книгу — роман какого-то французского буржуазного писаки. В этой книге, я прекрасно помню, был выведен самодур-граф, который от безделья издевался над своим лакеем, изощряясь в этом, как только мог, — щелкал его неожиданно по носу или кричал на него вдруг так, что у того подгибались со страху колени. Читаю я про все эти штучки своей старушке-матери, и стало мне невмоготу. И вот, когда граф ударил лакея по носу так, что тот уронил на пол поднос, — вместо того, чтобы лакею униженно улыбнуться и уйти, как было у автора, я, полный бешенства, начал крыть по-своему. Правда, при этом французский изящный стиль полетел к чорту, и книга заговорила рабочим языком: «Тогда лакей обернулся до этого графа да как двинет его по сопатке! И то не раз, а два, так что у графа аж в очах засветило…» — «Погодь, погодь! — воскликнула мать. — Да где ж это видно, чтобы графьев по морде били?» — Кровь хлынула мне к ладу… «Так ему и надо, подлюге проклятому! Пущай не бьет рабочего человека!» — «Да где же это видано? Не поверю. Дай сюда книжку! — говорит мать. — Нет там этого!» Я с бешенством бросаю книжку на пол и кричу: «А если и нет, то зря! Я б ему, негодяю, все ребра переломал бы!» Вот еще ребенком, читая подобные рассказы, я мечтал о таком лакее, который даст сдачи графу». «Может быть, это и было начало моей писательской карьеры, — правда, не совсем удачное», — шутил Островский. Он-то мог, конечно, пошутить над своим рассказом, но в шутливых словах открывается нечто еще более значительное, нежели начало «писательской карьеры». Мы видим, как рано и с какой остротой стало пробуждаться в нем классовое самосознание, с какою силой уже тогда проявлялась его ненависть к угнетателям, — видим начало его большого жизненного пути. Островского тяготила и оскорбляла несправедливость, господствовавшая в окружающей жизни. Он протестовал. Гордый и прямой нрав его многим приходился не по душе. Однажды, придравшись к какому-то пустяку, официант вокзального буфета избил Николая, а хозяин прогнал мальчика со службы. Шел 1917 год. Николай нанялся пильщиком на том же вокзале. Пилил дрова для паровозов, очищал от снега пути, выполнял любую черную работу на станции. Ранней весной ему и его товарищам пришлось стать свидетелями незабываемого события. В поезде, прибывшем в Шепетовку из Киева, приехала группа рабочих. Это были представители только что организованного Совета. Тут же на станции они арестовали «всесильных» жандармов. Рабочим депо была объявлена радостная весть: нет больше в России царя, его свергли восставшие рабочие и солдаты. Летом 1917 года, читая расклеенные на стенах списки кандидатов в Учредительное собрание, двенадцатилетний Николай познакомился с рабочим, агитировавшим за партию большевиков. Завязался разговор. Николай услышал о «крепких людях, которые стоят за народ». Бывший председатель Шепетовского ревкома И. С. Линник, выведенный в романе «Как закалялась сталь» под фамилией Долинник, рассказывает: «Я познакомился с Островским у списков в Учредительное собрание. Я выступал на летучем митинге, призывая голосовать за список, по которому шла наша партия на Волыни. Вдруг подходит ко мне мальчик и спрашивает, что это за большевики такие. Я разъясняю ему, и он говорит решительно: «Я буду голосовать за большевиков!» Пришлось разочаровать его и сказать, что он еще не дорос. Это был Коля Островский… Случайное знакомство наше не оборвалось. Коля при каждой встрече заводил со мною разговоры на политические темы. Он привлекал к себе внимание живостью, сообразительностью, умными и дельными вопросами»[8]. Таким был Николай летом 1917 года. Осенью же, когда свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция и залп «Авроры», услышанный всем миром, донесся до Шепетовки, тринадцатилетний Островский искал уже связей с большевиками, искал своего места в разгоревшейся победоносной борьбе за новую жизнь, такую жизнь, при которой «кто был ничем, тот станет всем.
 «Свидетельство об успехах и поведении», выданное Н. Островскому в 1918 году.
«Свидетельство об успехах и поведении», выданное Н. Островскому в 1918 году.
Он учился тогда в двухклассном народном училище и был одним из лучших учеников. Сохранилось «Свидетельство об успехах и поведении» ученика Шепетовского двухклассного училища Н. Островского за 1917/18 год. Из 60 отметок 56 пятерок и только 4 четверки. В 1918 году Островскому исполнилось четырнадцать лет. Кончилось, отошло в прошлое детство. Как и все его сверстники из рабочих семей, он уже не первый год зарабатывал деньги, помогая семье своим трудом. Сперва он — подручный кочегара, затем помощник электромонтера. Брат знакомит его со своим другом — слесарем железнодорожного депо, бывшим матросом Федором Филипповичем Передрейчуком. Беседы с ним о жизни моряков и рабочих, о борьбе с царизмом оказали большое влияние на формирование взглядов рабочего-подростка, уже много испытавшего и много передумавшего. Работая, он с тою же жадной настойчивостью, что и прежде, продолжает, где только можно, искать книги для чтения. Добыт и прочитан «Спартак» Джованьоли. «…Наше дело свято и справедливо и неумрет с нами. Путь к победе ведет по крови: только благодаря самоотвержению и жертвам торжествуют великие идеи. Мужественная и почетная смерть лучше постыдной и гнусной жизни. Погибнув, мы оставим нашим потомкам окрашенное нашей кровью наследство мести и победы, знамя свободы и равенства. Братья, не отступать ни на шаг! Победа или смерть!» Так говорил доблестный Спартак, обходя войска гладиаторов перед последней битвой при Браданусе. Вращая с молниеносной быстротою свой страшный меч, он один сражался против семисот или восьмисот наседавших на него врагов и пал смертью героя. С тяжелым сердцем читал подросток эти печальные страницы. Спартак погиб… Но его живой голос звучал и звал к борьбе и победе. Островский связался с шепетовскими большевиками и помогал им. Тот же И. С. Линник вспоминает: «В Шепетовский ревком пришел худенький, вихрастый парнишка Коля Островский — наш земляк. Он настоятельно просил, чтобы ему дали работу, потому что он «не может сидеть сложа руки», когда кругом кипит новая, бурная жизнь. Коля приходил к нам в ревком каждый день… по нескольку раз в день и все с той же просьбой. Пришлось дать ему работу: сначала назначили курьером, потом — связным ревкома»[9]. Трудное было время. Первые завоевания революции приходилось отстаивать в жестокой борьбе. Империалисты Англии, Франции, Японии, Америки тайно, без объявления войны, высадили свои войска на территории России. При их поддержке были организованы контрреволюционные мятежи в Архангельске и Мурманске, в Приморье, на Дону, в Сибири и на Средней Волге. На Украине действовали многочисленные банды. Наша страна оказалась отрезанной от своих основных продовольственных, сырьевых и топливных баз. Рабочим Москвы и Петрограда выдавалось по восьмушке хлеба на два дня. А были дни, когда хлеба и вовсе не выдавали. Фабрики и заводы не работали или почти не работали. После Брестского мира германские империалисты оторвали от Советской России Украину и по просьбе белогвардейской Украинской Центральной рады ввели туда свои войска. Оккупанты жестоко угнетали и грабили украинский народ. Через Шепетовку потянулись в Германию составы, груженные украинским хлебом и углем, сахарам и металлом, рогатым скотом, свиньями, птицей. Против иноземного ига, пришедшего с Запада, Советская Украина подняла освободительную отечественную войну. Оценивая события, разыгравшиеся на Украине, товарищ Сталин писал в марте 1918 года: «Формирование крестьянской Красной Армии, мобилизация рабочей Красной гвардии, ряд удачных стычек с «цивилизованными» насильниками после первых вспышек паники, отобрание Бахмача, Конотопа, Нежина и подход к Киеву, всё усиливающийся энтузиазм масс, тысячами идущих на бой с поработителями, — вот чем отвечает народная Украина на нашествие насильников». И дальше: «Это значит, что каждый пуд хлеба и каждый кусок металла придется брать германцам с бою, в результате отчаянной схватки с украинским народом. Это значит, что Украина должна быть форменным образом завоевана для того, чтобы получить немцам хлеб и посадить на трон Петлюру — Винниченко»[10]. Неумолимая логика событий ведет к тому, предсказывал товарищ Сталин, что «обожравшийся империалистический зверь» сломит себе шею на Советской Украине. Всемерную поддержку украинскому народу оказывала Советская Россия. На фронте и в тылу большевики Украины руководили борьбой против контрреволюции. Островский активно участвовал в этой борьбе. Смелый и находчивый подросток выполнял ответственные задания подпольного Шепетовского ревкома: он расклеивал воззвания, ходил в разведку, служил связным. Одно из воззваний, обращенное к немецким солдатам и призывающее их к революционному восстанию, ему удалось наклеить на стену здания, в котором размещался штаб немецкой комендатуры. По вечерам Николай работал подручным кочегара на электростанции, а днем учился в высшем начальном училище, только что открывшемся в Шепетовке; его приняли туда во второй класс. Школьные преподаватели в своих воспоминаниях единодушно отмечают любознательность Островского, его жажду знаний и выдающиеся способности. По почину Николая в училище был создан литературный кружок: собирались по воскресеньям и читали классиков. После множества случайно добытых книг перед Николаем раскрылась великая сокровищница русской литературы. Он был в восторге от «Тараса Бульбы». Незабываемое впечатление произвел на него прочитанный на украинском языке «Кобзарь» Тараса Шевченко. Узнав биографию автора, мальчик сказал: — Сколько страдал он в своей жизни, сколько мучился из-за крепостного права, а все-таки добился своего, стал таким писателем, что его все читают и любят и всегда будут любить и помнить. Сам он в то время как-то сказал, что хотел бы стать писателем, и настойчиво допытывался у своей учительницы М. Я. Рожановской, как и с чего начать. Пробовал он писать сказки, рассказы, стихи. Первой его литературной трибуной был рукописный журнал, выпускавшийся центральным ученическим комитетом шепетовских школ. Он назывался «Квiтки юнацтва» («Цветы юности»).
 Н. Островский (1918)
Н. Островский (1918)
Николай принимал горячее участие в школьных спектаклях. По свидетельству очевидцев, он любил воинственные, героические роли и темпераментно их исполнял. О нем вспоминают как о лучшем ученике не только потому, что он отлично занимался, был развитее других и помогал отстающим, но и потому, что Островский был общественно активнее своих товарищей. В нем проявились способности незаурядного организатора: он возглавлял ученический комитет, руководил школьным кооперативом, создал детский хор. В городе происходили частые смены властей. Врывались и закреплялись на две-три недели немцы с гетмановцами, их выбивали петлюровцы, чтобы, в свою очередь, уступить власть на короткое время каким-либо другим белобандитам; те отступали перед белополяками, и все это, конечно, чрезвычайно тяжело отражалось на школьной жизни. Случалось, что урок прерывался стрельбой. Школьники выбегали из класса, чтобы спрятаться в подвале соседнего дома. Преподаватели по году не получали жалованья, в училище не было топлива, ученики не имели ни книг, ни бумаги. По инициативе Николая среди населения провели сбор продуктов для учителей; он же сколотил группу ребят, которые с пилами и топорами отправились в лес и привезли дрова; благодаря его энергии в училище появилась библиотечка. Несмотря на то, что столько времени и энергии отдавал теперь Николай делам училища, он по-прежнему продолжал поддерживать тесную связь с большевистским подпольем. М. Я. Рожановская свидетельствует: «Пришли как-то раз в класс два польских легионера и спросили меня; «У вас среди учеников есть один, который помогает большевикам. Вы должны сказать нам: кто это?» Я им ответила, что у меня таких учеников нет, а сама, конечно, поняла, что интересуются Колей. Я спросила, как фамилия мальчика, которого ищут. «Это вы должны сказать нам, — раздраженно сказали легионеры. — Мы знаем, что это высокий, худой, черный мальчик». Тогда я категорически стала отрицать возможность помощи большевикам со стороны кого-либо из моих учеников. Легионеры ушли с угрозами…»[11] В том же 1919 году произошел такой случай Островский шел по улице и вдруг увидел, как вооруженный петлюровский жандарм ведет навстречу арестованного члена подпольного ревкома Ф. Передрейчука. Не раздумывая, Николай бросился па конвоира. Передрейчуку удалось бежать. Николая задержали. Его нещадно били, силясь заставить заговорить и выдать подпольные связи. Но подросток не обмолвился ни единым словом. Красная Армия и отряды повстанцев гнали оккупантов. После девяти месяцев ожесточенной борьбы от трехсоттысячной немецкой армии, вторгшейся на Украину, остались лишь жалкие остатки. К началу 1919 года на украинской земле не было уже ни одного немецкого солдата. В мае 1919 года над Шепетовкой снова взвился красный флаг Советов. 20 июля 1919 года Островский вступает в комсомол. Вся украинская организация насчитывала в то время всего лишь тысяч восемь. Комсомольцам вместе с билетом вручали, как свидетельствует Островский, винтовку и двести патронов. Вооруженная борьба не прекращалась. На дверях многих комсомольских райкомов можно было прочесть объявление: «Райком закрыт. Все ушли на фронт». Много героических подвигов, совершенных в борьбе, запечатлела навеки славная история комсомола. Молодые герои не щадили своей жизни в борьбе с врагами революции. В июне 1919 года, в самоотверженном бою с бандами атамана Зеленого, под Трипольем погиб отряд киевских комсомольцев. Через семнадцать лет после своего вступления в комсомол, обращаясь с приветствием к комсомольцам родного города, Островский писал: «В моем партийном билете лежит его маленький сынишка — членский билет Ленинского Комсомола, и я бережно храню его, свидетеля всей моей комсомольской жизни. В 1919 году, 17 лет назад, в Шепетовке нас было пятеро комсомольцев. Эту группу создал вокруг себя партийный комитет и ревком… Героически боролись первые комсомольцы Шепетовки против польских панов, петлюровщины, бандитизма всех мастей и оттенков».
 Н. Островский (1919)
Н. Островский (1919)
Завоеванной свободе угрожала тогда смертельная опасность. Красная Армия нанесла серьезные поражения Юденичу и Колчаку, но Антанта поставила новую ставку: на Деникина. Южный фронт стал главным очагом борьбы против контрреволюции и интервенции. Летом 1919 года деникинская армия предприняла поход против советской власти. По вине Троцкого сопротивление Южного фронта наступающим силам контрреволюции было ослаблено, деникинцы сумели этим воспользоваться и быстро продвигались на север. К половине октября белые заняли всю Украину, овладели Орлом и подходили к Туле, снабжавшей нашу армию оружием и боеприпасами. Враг угрожал Москве. Рабочие и крестьяне, вдохновляемые партией, напрягли все силы, чтобы отстоять нашу молодую республику. Троцкий был отстранен от руководства Красной Армией на юге. Центральный Комитет направил туда товарища Сталина, по плану которого был осуществлен разгром деникинских полчищ. Вместе с товарищем Сталиным выехали на Южный фронт товарищи Ворошилов, Орджоникидзе, Буденный. «Все на борьбу с Деникиным!» — таков был основной, всеподчиняющий лозунг. Комсомольцы откликались на призыв партии массовыми мобилизациями молодежи. Уже в мае 1919 года на фронт борьбы с Колчаком выехали три тысячи комсомольцев. Четыре месяца спустя, в октябре 1919 года, II съезд комсомола вновь объявил всероссийскую мобилизацию молодежи на Южный фронт, против Деникина. В ряды Красной Армии влились десять тысяч молодых бойцов. Николай Островский, четырнадцатилетний комсомолец, отправился на фронт незадолго до этой мобилизации. В его военном билете записано: «9 августа 1919 года добровольцем вступил в ряды Красной Армии». Ольга Осиповна вспоминает об этом периоде: «Когда Коля подрос и работал на электростанции, я все время боялась, что он уйдет на фронт; ведь он еще в 1915 году, совсем мальчишкой, убегал на войну. А теперь бегать не надо было — мы жили как на фронте… И вот случилось то, чего я боялась: Коля пропал куда-то. Когда он первую ночь не ночевал дома, я еще не беспокоилась, иногда он у товарищей оставался, а когда не пришел и на второй, и на третий день, то я уже места себе не находила. Обежала всех товарищей Колиных — нигде его не было, и учительница ничего не знала о нем. Митя везде навел справки — никто не знал, где Коля. Митя тогда и говорит: «Не иначе, как на фронт ушел Николай». Я и сама так думала, только поверить боялась. А оно так и было на самом деле»[12]. Десятки раз переходила Шепетовка из рук в руки. Островский воевал в рядах бригады Котовского. Сразу после своего прибытия в кавалерийский полк молодой боец был отправлен в конную разведку. Через несколько дней в бою под Вознесенском он попал под пулеметный огонь и был ранен. («Стрельнуло меня пулей в бедро», — напишет потом Павел Корчагин своему брату Артему). Около месяца пробыл он в госпитале и покинул его, не залечив раны: боялся отстать от части. Боевые друзья узнали Островского как отважного, лихого бойца. Он и здесь вновь показал себя талантливым агитатором. «…Я не раз слышал об Островском как о сильном комсомольском работнике, как о вожаке молодежи, — пишет бывший котовец А. М. Ветренюк. — Помню выступление Николая Островского на одном большом митинге бойцов нашей бригады. Худой, черный, в старой шинели, в буденовке, он страстно призывал бойцов к наступлению. Он был из тех ораторов, которые зажигают сердце бойцов, ведут их в бой»[13]. Таким запомнили Островского котовцы и полюбили его. Он, в свою очередь, навсегда сохранил память о своих полковых товарищах и о легендарном комбриге Г. И. Котовском. В письме в редакцию журнала «Интернациональная литература», написанном в 1935 году, Николай Островский вспоминал: «Сомкнутые кавалерийские ряды. Семьсот человек замерли. Даже кони послушны команде и смирны. Командир бригады, искушенный в боях человек, которого трудно чем-либо удивить, читает слова приказа, такие, казалось бы, простые. Но сердце вздрагивает радостно и призывно от слов: «За мужественное поведение и находчивость, проявленные в бою, объявить благодарность…» Затем неповторимо знакомое имя. Рука до боли сжимает поводья. Такие слова зовут вперед…» Во второй половине октября 1919 года, в результате ожесточенных боев под Орлом и у Воронежа, Деникин был разбит. Преследуемые нашими войсками, белые покатились к югу.
 Г. И. Котовский (1919)
Г. И. Котовский (1919)
Несмотря на то, что Советская страна все больше расширяла свою территорию, освобождая от белых и интервентов Северный край, Туркестан, Сибирь, Дон, Украину и т. д., несмотря на то, что Антанта была вынуждена отменить блокаду России, враги наши все же не хотели примириться с мыслью о том, что советская власть оказалась несокрушимой, что народ, который сумел завоевать свою свободу, выходит победителем из всех схваток. Поэтому была предпринята еще одна попытка интервенции. На этот раз в качестве своих марионеток интервенты решили использовать маршала Пилсудского и генерала Врангеля. Первого, стоявшего тогда во главе польского государства, они двинули с запада, а второго, собравшего в Крыму остатки деникинской армии, они пытались двинуть с юга, создавая угрозу Донбассу и Украине. В апреле 1920 года польские войска вторглись на территорию Советской Украины. Красная Армия не смогла сдержать первого натиска противника, превосходившего ее численностью. На улицах украинских городов расклеены были листовки. Они взывали: «К оружию!» «Мы хотим мирного труда, — говорилось в одной из листовок. Мы хотим, чтобы по нашим полям двигались не броневики, а паровые плуги, по железным дорогам бежали вместо бронепоездов вагоны с товарами. Мы предложили мир всему миру. Хозяева старого мира, капиталисты, ответили нам: война!» Листовка обращалась к каждому: «Графы Потоцкие и Браницкие хотят завладеть старым своим добром, которое стало достоянием трудового народа. Чтобы захватить сахарные заводы, они льют человеческую кровь. Антанта поняла, что в пламени новой войны можно погреть руки, иззябшие под Архангельском и Иркутском, и сказала Польше: — Куси!» Призыв жег сердца: «Товарищи! Все к оружию, на фронт все, кто в силах держать винтовку!» 26 апреля пал Житомир, а 6 мая белополяки вступили в Киев. План их заключался в том, чтобы захватить Правобережную Украину, Белоруссию и таким образом расширить пределы польского государства «от моря до моря» — от Данцига до Одессы. За день до вступления пилсудчиков в Киев В. И. Ленин говорил: «Пусть ни одно собрание, ни одно совещание не пройдет без того, чтобы при всяком обсуждении на первом месте не стоял вопрос: все ли мы сделали, чтобы помочь войне, достаточно ли напряжены наши силы, достаточно ли помощи отправлено на фронт? Нужно, чтобы здесь оставались только те, кто не способен помогать на фронте. Ему все жертвы, ему вся помощь, отбросив все колебания. И, сосредоточив все силы и принеся все жертвы, мы, несомненно, победим и на этот раз»[14]. Эти слова оправдались в самом скором времени. По плану, разработанному И. В. Сталиным, с Северного Кавказа была переброшена на Польский фронт Первая Конная армия. Она преодолела более тысячи километров и в последних числах мая уже сосредоточилась близ Умани. Котовцы находились у Буга. В мае 1920 года была объявлена третья всероссийская мобилизация комсомола. На фронт ушли почти все комсомольцы Белоруссии, несколько тысяч комсомольцев Украины. Треть делегатов II Всеукраинского съезда комсомола, собравшегося в Харькове в разгар наступления бело поляков, ушла на фронт прямо со съезда. Островский, как он сам говорил впоследствии, «перемахнул» к буденновцам. В романе «Как закалялась сталь» воспроизведен этот эпизод и объяснено поведение Корчагина. «— Слушай, политрук, — обратился Корчагин к Крамеру, — как ты посмотришь на такое дело: вот я собираюсь перемахнуть в Первую Конную. У них дела впереди горячие. Ведь не для гулянки их столько собралось. А нам здесь придется толкаться все на одном месте. Крамер посмотрел на него с удивлением. — Как это перемахнуть? Что тебе Красная Армия — кино? На что это похоже? Если мы все начнем бегать из одной части в другую, веселые будут дела! — Не все ли равно, где воевать? — перебил Павел Крамера. — Тут ли, там ли. Я же не дезертирую в тыл». Разговор их закончился тем, что Корчагин сказал твердо: «— Все это правильно, но к буденновцам я перейду — это факт». Островский перешел в Первую Конную.
 Н. Островский (1920)
Н. Островский (1920)
«Не один десяток наших котовцев ушел тогда к буденновцам, — свидетельствует один из бывших уполномоченных Особого отдела бригады Котовского. — Островский, как я потом узнал, ушел тоже с группой котовцев в пятнадцать человек. Сначала мы долго не знали, где он. Потом наши товарищи встретили Островского уже как бойца Первой Конной»[15]. Николай Островский сначала красноармеец охраны агитпоезда, затем боец 4-й кавалерийской дивизии, которой командовал бесстрашный Ф. И. Литунов. Пробил час, и Конная начала свой исторический прорыв в районе Сквира — Казатин. Рейд начался 5 июня. На рассвете этого дня свернутая в кулак красная конница ударила по второй польской армии, прорвала фронт врага, рейдом прошла район Бердичева и утром 7 июня освободила Житомир. 12 июня советские войска заняли Киев, 27-го вступили в Новоград-Волынск. 30-го была взята Шепетовка. Вместе с частями Красной Армии, которые заняли Шепетовку, возвратился Островский на короткое время в город. М. Я. Рожановская передает одну из встреч со своим учеником, прибывшим с фронта. Он азартно рассказывал ей о кровавых схватках с врагом. Она поинтересовалась, что делал он, пятнадцатилетний подросток, на войне. Неужели участвовал в боях? Тогда он в ответ на ее недоверчивый вопрос вынул из кармана аккуратно сложенную бумажку и дал ей прочитать. «Это был приказ, благодарность командира Островскому за взрыв моста. Бумажки официальная, с печатью». — А ты не боялся? Ведь тебя могло разорвать, — сказала Рожановокая. «Коля засмеялся. — Конечно, если стоять болваном, так разорвет, — ответил он. — Надо знать, когда убежать»[16]. Возвратившись в Шепетовку, Островский принимал активное участие в борьбе с внутренней контрреволюцией. Бдительность юноши помогла обнаружить нити крупного контрреволюционного заговора. «Я помню такой случай[17], — рассказывает И. С. Линник. — Однажды поручено было Коле узнать адрес подозрительного типа, который неизвестно откуда появился в Шепетовке. Очень быстро Коля принес нужный адрес. Часов в десять вечера я и другой товарищ из ревкома отправились на обыск. Коля тоже пошел с нами. Он остался дежурить у калитки. Мы перерыли всю комнату, но обнаружить нам ничего не удалось. Вдруг входит Коля и подает мне какую-то сумочку. В ней оказались документы, неопровержимо доказывающие, что этот человек — шпион. Коля рассказал, как при нашем стуке в дверь тихо открылось окно. Из него высунулась рука и осторожно что-то повесила на ставню. Немного спустя Коля подкрался к окну, снял со ставни сумочку и принес ее нам. Захваченный тип входил в большую контрреволюционную организацию, связанную с Киевом, Гомелем, Брянском, Минском». Первая Конная стремительно двигалась вперед. 18 августа она широким кольцом окружила форты Львова. 4-я кавалерийская дивизия, в которой служил Островский, находилась на северо-востоке от города. Разгорелся ожесточенный бой. Начдив Литунов носился по фронту, воодушевлял войска, вел их все ближе и ближе к фортам Львова. Когда он мчался к передовым частям, чтобы возглавить начавшийся штурм, вражеская пуля сразила его на скаку. А на другой день, 19 августа, в продолжавшемся бою под фортами Львова был тяжело ранен в живот и в голову красноармеец Николай Островский. «Девятнадцатого августа в районе Львова, — прочитаем мы потом в романе «Как закалялась сталь», — Павел потерял в бою фуражку. Он остановил лошадь, но впереди уже врезались эскадроны в польские цепи. Меж кустов лощинника летел Демидов. Промчался вниз к реке, на ходу крича: — Начдива убили! Павел вздрогнул. Погиб Летунов[18], героический его начдив, беззаветной смелости товарищ. Дикая ярость охватила Павла. Полоснув тупым концом сабли измученного, с окровавленными удилами Гнедка, помчал в самую гущу схватки. — Руби гадов! Руби их! Бей польскую шляхту! Летунова убили! — И сослепу, не видя жертвы, рубанул фигуру в зеленом мундире. Охваченные безумной злобой за смерть начдива, эскадронцы изрубили взвод легионеров. Вынеслись на поле, догоняя бегущих, но по ним уже била батарея, рвала воздух, брызгая смертью, шрапнель. Перед глазами Павла вспыхнуло магнием зеленое пламя, громом ударило в уши, прижгло каленым железом голову. Страшно, непонятно закружилась земля и стала поворачиваться, перекидываясь набок. Как соломинку, вышибло Павла из седла. Перелетая через голову Гнедка, тяжело ударился о землю. И сразу наступила ночь». Так в эпизоде биографии Павла Корчагина Николай Островский с календарной точностью восстановил действительные события своей собственной жизни. В журнале приемного покоя Киевского окружного военного госпиталя осталась запись: «Красноармеец Н. Островский. Поступил 22 августа 1920 года». Два месяца провел он на госпитальной койке. Долго метался в бреду. Врачи решили было, что раненый безнадежен. Молодой же организм взял свое. Раны зажили. Но осколок шрапнели повредил нерв правого глаза, и когда Островский вышел из госпиталя, этот глаз сохранил лишь четыре десятых зрения.
 Комдив Ф. И. Литунов (1920).
Комдив Ф. И. Литунов (1920).
Гражданская война заканчивалась. Части Красной Армии подошли к Перекопу и готовились атаковать войска барона Врангеля и интервентов, еще сопротивлявшиеся в Крыму. Бои с белополяками еще продолжались, но и на этом фронте война была на исходе. 2 октября 1920 года, когда Николай Островский находился еще в госпитале, в Москве открылся III Всероссийский съезд комсомола. С трибуны большого зала Свердловского университета[19] к делегатам съезда обратился Владимир Ильич Ленин. Великий вождь революции открывал взорам участников съезда прекрасное будущее нашей освобожденной родины. Владимир Ильич говорил в этой исторической речи о том, чему должна учиться коммунистическая молодежь. Он говорил о сознательной дисциплине, об основных задачах хозяйственного строительства, о коммунистической морали, о классовой борьбе. «Союз коммунистической молодежи, — говорил товарищ Ленин, — должен быть ударной группой, которая во всякой работе оказывает свою помощь, проявляет свои инициативу и почин. Союз должен быть таким, чтобы любой рабочий видел бы в нем людей, учение которых, возможно, ему непонятно, учению которых он сразу, может быть, и не поверит, но на живой работе которых, на их деятельности он видел бы, что это действительно те люди, которые показывают ему верный путь»[20]. В заключение Владимир Ильич сказал: «…То поколение, которому сейчас 15 лет, оно и увидит коммунистическое общество и само будет строить это общество. И оно должно знать, что вся задача его жизни есть строительство этого общества… И вот, поколение, которому теперь 15 лет и которое через 10–20 лет будет жить в коммунистическом обществе, и должно все задачи своего учения ставить так, чтобы каждый день в любой деревне, в любом городе молодежь решала практически ту или иную задачу общего труда, пускай самую маленькую, пускай самую простую. По мере того, как это будет происходить в каждой деревне, по мере того, как будет развиваться коммунистическое соревнование, по мере того, как молодежь будет доказывать, что она умеет объединить свой труд, — по мере этого успех коммунистического строительства будет обеспечен»[21]. Эти слова были обращены к тому поколению, к которому принадлежал Николай Островский. Необыкновенная судьба была у юношей этого поколения. В шестнадцать лет Островский мог уже по праву называться ветераном гражданской войны: он был дважды ранен, участвовал во многих боях. После выхода из госпиталя армию ему пришлось оставить. Временно он начал работать в органах ВУЧК в Киеве, участвовал в операциях против многочисленных банд. Покончив с войной, одержав победу над бесчисленными врагами, народ молодой Страны Советов приступил к мирному хозяйственному строительству. Началось восстановление разрушенного народного хозяйства. И Островский ринулся в борьбу на новом фронте — на фронте труда — с такою же самозабвенной доблестью, какую проявлял он на фронте гражданской войны. Слова Владимира Ильича Ленина, обращенные к поколению строителей коммунизма, напутствовали его на этот труд указывали верную дорогу. Они направляли все его усилия, всю его дальнейшую жизнь. Ленин говорил: «Расчищена почва, и на этой почве молодое коммунистическое поколение должно строить коммунистическое общество»[22]. Строить коммунистическое общество означало; побеждать разруху, голод, холод, тифозную вошь, побеждать разгильдяйство, бюрократизм, шкурничество. Враги притаились. Нельзя было уже «нестись на них ураганом, обнажив шашки». Находиться в первых рядах значило теперь служить образцом и примером сознательного отношения к строительству, не отступать перед трудностями и лишениями, а бороться с ними и преодолевать их, связывать любой свой труд с общим трудом народа, идущего к светлой цели. В. И. Ленин в статье «Великий почин» (О героизме рабочих в тылу. По поводу «коммунистических субботников») писал: «Это — начало переворота, более трудного более существенного, более коренного, более решающего, чем свержение буржуазии, ибо это — победа над собственной косностью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоизмом, над этими привычками, которые проклятый капитализм оставил в наследство рабочему и крестьянину»[23]. Он подчеркивал, что: «Коммунизм начинается там, где появляется самоотверженная, преодолевающая тяжелый труд забота рядовых рабочих об увеличении производительности труда, об охране каждого пуда хлеба, угля, железа и других продуктов, достающихся не работающим лично и не их «ближним», а «дальним», т. е. всему обществу в целом, десяткам и сотням миллионов людей…»[24] Именно таким сознательным, самоотверженным бойцом был Островский и на фронте труда. В 1921 году Киевский губком комсомола направил его в Главные мастерские Юго-западной железной дороги. Там он работал помощником электромонтера и одновременно секретарем комсомольской ячейки. «Звезда с буденовки снята, но мозг не разоружился, — таким рисует Островского познакомившийся с ним в тот период П. Н. Новиков. — Еще зловеще сияет шрам над правым глазом. Еще весь человек во власти недавних боев… Говорит… и в голосе жесткие, жесткие нотки. Хмурятся темные брови, и откуда-то исподлобья идет взгляд. Но вот вспомнилось веселое — и лица не узнать: оно посветлело в смехе, в глазах — светлячки»[25]. Смуглый, худощавый, очень подвижной и энергичный юноша, чаще всего в косоворотке и кепке, немного сдвинутой набок, он прекрасно справлялся и со своей основной производственной работой и с общественными комсомольскими обязанностями. Николай Островский являлся истинным вожаком молодежи. «Был он не старше нас годами, но участие в гражданской войне, ранение создали ему авторитет, — вспоминает один из его молодых соратников. — И, кроме того, он был свойский парень и чуткий товарищ. Его очень любили, но и побаивались, потому что он никому не спускал промаха в работе, нетоварищеского поступка, разгильдяйства»[26]. Из небольшой разрозненной группки комсомольцев он создал большую дружную комсомольскую организацию. Его веселая энергия объединяла молодежь, сверстники окружали его, комсомольская ячейка быстро росла. Островского знали не только в цехах. Он интересовался тем, как живут и учатся «фабзайчата». Часто приходил в школу ФЗУ, читал с ребятами газеты, разъяснял прочитанное, — это была естественная потребность прирожденного пропагандиста. Плоды этой пропагандистской работы были очевидны: в 1921 году все ученики школы ФЗУ стали комсомольцами. Молодежь была вместе в труде и в отдыхе. Выпускали стенную газету, разучивали песни, готовили спектакли. Популярная в свое время комсомольская песня «Наш паровоз, вперед лети!» была создана в киевских железнодорожных мастерских в то время, когда там работал Островский.
Мы дети тех, кто выступал
На бой с Центральной радой,
Кто паровоз свой оставлял,
Идя на баррикады.
Наш паровоз, вперед лети!
В Коммуне — остановка.
Другого нет у нас пути,
В руках у нас винтовка.
 Н. Островский в Берездове (1923)
Н. Островский в Берездове (1923)
Обстановка в Берездове была чрезвычайно сложной. Район пограничный. Местное кулачье и другие контрреволюционные элементы яростно сопротивлялись мероприятиям советской власти. Они поддерживали связь со скрывающимися в окрестных лесах вооруженными бандами и с их помощью жестоко расправлялись с советскими активистами, их семьями. Орудовали шайки шпионов, диверсантов и контрабандистов. Среди местных работников встречались люди с петлюровским значком за отворотом пиджака. Партийная организация района была малочисленна. Бандиты терроризировали население, и родители зачастую не позволяли молодежи не только вступать в комсомол, но даже и посещать собрания. Известны случаи, когда за комсомольский билет родители выгоняли ребят из дома. Все коммунисты постоянно находились как бы в состоянии боевой тревоги и готовы были стать под ружье. Приехав в Берездов, Островский застал там… лишь одного комсомольца. Таким образом, вся организация состояла на первых порах из двух человек. Однако вокруг Островского молодежь начала собираться быстро. В самом скором времени число комсомольцев выросло до восьми. Николай создавал комсомольскую организацию не только в районном центре, но и в окрестных селах. Однажды в селе Бесидки он узнал, что за околицей раскинулся цыганский табор и что в этом таборе есть комсомолец — украинец по национальности. Островский отправился к нему. Оказалось и впрямь, что комсомолец, слесарь, недавний беспризорник, пустился кочевать с табором. Звали его Иван Киреев. Николай уговорил Ваню остаться в Берездове. В организации стало еще одним человеком больше. Но каждый человек, учась у секретаря райкома, в свою очередь, становился организатором. И счет, увеличивавшийся в первые дни так медленно, начал в последующие недели быстро расти. Несколько месяцев спустя комсомольская ячейка объединяла уже 127 юношей и девушек. О берездовском периоде жизни Николая рассказывает тогдашний квартирохозяин Островского: «Спал он мало. Время было беспокойное, и ночевать не часто удавалось ему дома: то облава на банду, то поход на контрабандистов, то ночное дежурство в милиции или райкоме. А то придет домой и скажет: «А я сегодня под ясенями пересплю». Возьмет винтовку и ляжет на скамейке на улице, под ясенями. И мы уже знали, что эту ночь можно спать спокойно и к скотине не выходить. Без охраны нельзя было: каждую ночь могли налететь бандиты, увести скотину, подпалить хату. Редко Островский оставался один, чаще всего с ребятами. Целую ночь разговаривают. Вспоминаем мы теперь его слова и удивляемся — до чего они сбылись! Он говорил, что при советской власти все дети и молодежь будут учиться… Говорил о коллективных хозяйствах, как хорошо и выгодно будет работать в них…»[27]. Воспоминания эти дополняются другими. Товарищ Закусилов в 1923 году работал председателем сельсовета в селе Корчик Берездовского района. Он часто встречался с секретарем райкома комсомола и комиссаром батальона всевобуча Островским. «Это был отзывчивый, заботливый товарищ, который всегда готов был притти на помощь, часто помогал из своих денег, хотя сам нуждался и отказывал себе в необходимом. У него были, например, сильно поношенные, не раз чиненные сапоги, он не мог выкроить денег на новые. В первую очередь он посылал деньги матери. Был он очень скромен, никогда не говорил о себе, не выпячивал себя. На одной с ним квартире жил другой комсомольский работник, боевой энергичный парень, знающий дело. Но любовью ребят и их доверием он не пользовался Все знали, что он любит прихвастнуть, похвалиться, «я» у него было на первом плане, чего терпеть не мог Островский. Сохранилась у меня в памяти одна поездка с Островским в Шепетовку за получением документов на оружие для ЧОНа. Совсем уже стемнело, когда мы выехали. Бы то прохладно и тихо. Ехали мы на крестьянском возу, полном сена. Удобно улеглись мы и всю дорогу проговорили. Говорил Островский, а я все слушал да спрашивал. Вспоминали гражданскую войну, а больше всего говорили о коммунизме…» [28] Эти правдивые штрихи дают реальное представление об условиях тогдашней жизни Островского. Он быстро подобрал аппарат райкома комсомола и принялся за работу. Начинать пришлось с организации комсомольских ячеек в районном центре и в других селах. Он создал клуб молодежи. Там стало людно и весело. Играла музыка — там был Островский. Пели — он запевал. Завелась библиотека. Шахматисты уединялись в укромных закоулках. Молодежь привыкла к клубу, и он стал тем, чем и хотел его видеть Островский, — организующим центром берездовской комсомолии. Удалось добиться перелома и в настроениях молодежи окрестных сел: она пошла за комсомолом и активно участвовала в борьбе с бандитизмом. Островский писал в «Как закалялась сталь» о том же периоде жизни Корчагина: «С лошади к письменному столу, от стола — на площадь, где маршируют обучаемые взводы молодняка, клуб, школа, два-три заседания, а ночь — лошадь, маузер у бедра и резкое: «Стой! Кто идет?» Островский — председатель сельизбиркома, уполномоченный по проведению праздника шестой годовщины Октября. Не раз приходилось ему переводить через сорокапятикилометровую полосу леса ценности в Шепетовский окрисполком. Однажды налетели бандиты — человек десять. Николай И сопровождавшие его два милиционера не растерялись и обратили бандитов в бегство. Он был не только храбр, но и бдителен. Тот же товарищ Закусилов сообщает: «Один хлопец в Корчике подал заявление о принятии его в комсомол. Островский собрал о нем все справки — все как будто благополучно. Общее собрание приняло его, но Островский все не выдавал ему билета. Чем-то казался ему этот хлопец подозрительным. Он попросил меня проверить, не связан ли тот с бандами. Как-то раз поздно вечером я пошел на дом к этому парню. У самого леса вырос передо мной верховой. В вытянутой руке — револьвер. Слышу окрик: — Кто идет? По голосу узнал Островского. Отозвался. — Куда так поздно? Я сказал. — Ну, пойду и я с тобой. Все равно думаю переночевать в вашем селе. Он возвращался из Шепетовки, а Корчик был как раз на полпути между Шепетовкой и Берездовом, где у нас обычно останавливались и лошадей покормить и переночевать. Хлопца мы дома не застали, иэто было уже не в первый раз. Решили продолжать наблюдение. Но вскоре узнали, что он убит в соседнем селе крестьянами, пойманный с крадеными лошадьми. Не напрасны были, значит, подозрения Островского. В другой раз приехал Островский в Корчик под вечер. — Говорят, у вас тут дезертир скрывается. Пойдем проверим. И действительно, застали в хате парня, который сбежал из армии. Мы задержали его». Выполняя трудные и ответственные задания, Островский проявлял беззаветную преданность партии. В Каменец-Подольском областном партийном архиве нашли ценный документ — протокол общего собрания членов и кандидатов КП(б)У Берездовского района от 27 октября 1923 года. В ознаменование славного пятилетия РКСМ партийная организация принимала в свои ряды лучших воспитанников комсомола. На этом собрании Н Островский был принят кандидатом в члены КП(б)У «как самый выдержанный и стойкий комсомолец». Состояние его здоровья в ту пору резко ухудшилось. Еще в марте 1923 года Островский писал дочери врача Бердянского курорта: «Вот еще прошу об одной услуге, Люся, хоть я был у многих и даже хороших врачей и приблизительно знаю болезни колен, но прошу тебя, Люся, расспроси у отца, знает ли он про все… и последствия, и домашние способы лечения хронической водянки коленных суставов, которые под влиянием вывихов и тифа обнаружились полтора года тому назад и благодаря курортному лечению исчезли, а теперь снова появились… Очень прошу, спроси у отца всесторонне и напиши мне». Мы не знаем, какой ответ получил Островский на это тревожное письмо, известно лишь, что он, несмотря на болезнь, продолжал работать во-всю. Ему трудно было помногу ходить: сильно опухали ноги. Но, будучи комиссаром батальона всевобуча, он считал своим долгом быть примером для всех на больших учебных переходах и маршах. Никому и в голову не приходило, как трудно дается ему каждый шаг. Он шел впереди, подтягивая батальону:
Смело мы в бой пойдем
За власть Советов…
 Партийный билет Н. Островского.
Партийный билет Н. Островского.
Он вернулся в Изяславль. Оттуда его вскоре тепло проводили на комсомольскую работу в Шепетовку. 9 августа того же 1924 года в жизни Островского произошло огромное событие. Шепетовский окрпартком утвердил его членом партии. В Шепетовке Островский исполнял обязанности секретаря окружкома ЛКСМУ. Во время одной из его поездок по округу произошла автомобильная катастрофа. Островский получил ушиб правого колена. Снова возникла опухоль, затруднились движения суставов. 22 августа 1924 года бюро Шепетовского окружкома комсомола постановило послать Н. Островского на лечение в Житомирскую водолечебницу. А в декабре того же года Волынский губком комсомола писал в ЦК ЛКСМУ: «По заключению партийной лечебной комиссии, неоказание Н. Островскому помощи в этом году грозит чрезвычайно тяжелыми последствиями и отрывает его сейчас от работы». Организм Островского был крайне подорван. Сказалось все: и ранения, полученные на фронте, и перенесенные затем болезни — тиф, ревматизм, и напряженный труд без отдыха в течение ряда лет[31], и поездки по районам в зной и в холод, в дождь и в снег. Ушиб, полученный при автомобильной катастрофе, явился лишь той каплей, которая, как говорят, переполняет чашу. Больного Островского направили в клинику Харьковского научно-исследовательского медико-механического института. С тех пор и начались его горестные скитания по клиникам и санаториям страны: Харьков, Евпатория, Славянск, опять Харьков и Евпатория, затем Новороссийск, Харьков, Москва, снова Новороссийск, затем «Горячий Ключ» под Краснодаром, опять Новороссийск, Сочи, снова Москва и опять Сочи…
БОЛЕЗНЬ. БОРЬБА ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ
Победа над врагами революции дала ему величайшее счастье. Болезнь же вывела его из строя. Она стала его новым врагом, которого нужно было победить. Островский попал в клинику Харьковского научно-исследовательского медико-механического института в конце декабря 1924 года. Он сильно хромал и не мог уже обходиться без помощи костылей. Не желая ощущать сострадание окружающих (больной терпеть этого не мог), он предпочитал не пользоваться своими «помощниками», как он называл костыли, и большую часть времени проводил в постели. Походил он тогда, по собственному признанию, на «волчонка, пойманного и запертого в клетку». В клинике должны были выяснить причину заболевания и установить диагноз. Врачи предполагали, что у него водянка обоих коленных суставов. Применили новейшие методы лечения, они не помогли. Сделали операцию, но после нее состояние больного только ухудшилось. Ему предложили ампутировать ноги. Островский не согласился. «Ведь я тогда был бы совершенно беспомощным», — говорил он в письме к брату. Он еще надеялся, писал отцу: «Вот, дорогой батьку, если повезет, возвращусь и начну работать в дорогой партии…» Две силы противостояли и боролись друг с другом: темная сила мучительного недуга, осаждавшего его тело, и светлая сила жизни, большевистского духа, который не капитулировал и продолжал сопротивляться. Бывшая медицинская сестра клиники института Л. П. Давыдова, рассказывая об Островском, каким видела она его в период лечения, характеризует его так же (и почти теми же словами), как и комсомольцы, работавшие с ним в Берездове и Изяславле: «Он живо откликался на все события внешней жизни, массу читал, устраивал читки газет, дискуссии на политические темы и события… Стойкий боец, коммунист, знающий, куда итти и за что бороться… Перед его личностью болезнь как-то стушевывалась, отходила на задний план»[32]. Какие события внешней жизни волновали тогда Островского, на что именно он «живо откликался»? Шел 1925 года. Страна наша покончила с тяжелыми последствиями военной разрухи. Народное хозяйство достигло довоенного уровня. Однако народ, который в жестокой битве завоевал свою землю, свободу и независимость, не мог уже удовлетвориться подобным уровнем. Еще недавно достижение его казалось задачею невероятной трудности; теперь же такой уровень оказался чересчур низким для народа-хозяина. Партия большевиков открыла перед миллионами людей путь к счастью и повела их по этому пути дальше, вперед. «Но здесь со всей силой вставал вопрос о перспективах, о характере нашего развития, нашего строительства, вопрос о судьбах социализма в Советском Союзе. В каком направлении следует вести хозяйственное строительство в Советском Союзе, в направлении к социализму, или в каком-нибудь другом направлении? Должны ли и можем ли мы построить социалистическое хозяйство, или нам суждено унавозить почву для другого, капиталистического хозяйства? Возможно ли вообще построить социалистическое хозяйство в СССР, а если возможно, то возможно ли его построить при затяжке революции в капиталистических странах и стабилизации капитализма? Возможно ли построение социалистического хозяйства на путях новой экономической политики, которая, всемерно укрепляя и расширяя силы социализма в стране, вместе с тем пока что дает и некоторый рост капитализма? Как нужно строить социалистическое народное хозяйство, с какого конца нужно начать это строительство?» [33] Вопросы эти со всей остротой встали перед партией, перед страной. На них нужно было дать прямые и ясные ответы. И партия дала их. Она решительно отвергла все капитулянтские «теории» открытых и скрытых врагов народа — троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев — и уверенно повела нашу страну к социализму. В апреле 1925 года прошла XIV партконференция, а в декабре 1925 года состоялся XIV съезд партии. Подводя итоги работам съезда, товарищ Сталин писал: «Историческое значение XIV съезда ВКП(б) состоит в том, что он сумел вскрыть до корней ошибки «о новой оппозиции», отбросил прочь ее неверие и хныканье, ясно и четко наметил путь дальнейшей борьбы за социализм, дал партии перспективу победы и вооружил тем самым пролетариат несокрушимой верой в победу социалистического строительства» [34]. Накопив силы и средства, большевистская партия подвела нашу страну к новому историческому этапу — к социалистической индустриализации. Суть генеральной линии партии заключалась в том, чтобы превратить нашу страну из аграрной в индустриальную, способную производить своими собственными силами необходимое оборудование, способную перевооружить на новой технической основе все наше хозяйство. Находясь в клинике, Островский не хотел и не мог чувствовать себя оторванным от своей партии. Верный сын ее, он жил ее большой жизнью. Вот почему в его маленькой четырехкоечной палате (Островский лежал на первой койке справа от дверей) было всегда людно. Сюда приходили и лечащие и лечащиеся; в десять часов вечера дежурной няне постоянно приходилось воевать, чтобы ушли «гости» и в палате погас, наконец, свет. За «послушание» Островский брал «выкуп». Жестокие боли в коленях не давали ему заснуть. Он просил сестер и сиделок, чтобы те, уложив всех других больных, приходили к нему побеседовать. Часто приходила подружившаяся с ним медсестра А. П. Давыдова. «…И эти разговоры в тишине, — вспоминает она, — под мирное дыхание соседей, в полумраке слабо освещенной комнаты, помогали ему легче переносить страдания, возвращали его к недавнему прошлому, к борьбе, которой он жил и без которой не мыслил жизни». Полушопотом, стараясь не потревожить соседей, Островский рассказывал о боях гражданской войны, вновь вспоминал недавний счастливый и навсегда памятный августовский день этого 1924 года, когда он был принят в партию. Это, пожалуй, была единственная тема, которая позволяла ему говорить о себе самом. Вспоминая об остальном, он говорил о случаях, происходивших якобы с друзьями, и не о своих, но об их подвигах. Даже о своих ранах и о том, как он заболел тифом в лесу под Киевом, Островский рассказывал в больнице неохотно и вскользь, словно стесняясь. Товарищи могли слушать его рассказы часами. Страстная речь была пересыпана шутками, поговорками, остротами. Он был редким рассказчиком, искрящимся, проникновенным, захватывающим слушателей своей глубокой искренностью. Такие своеобразные литературные выступления уже тогда позволяли Островскому ощутить ткань будущего произведения. А о книге он думал в то время. Это известно из более поздних его рассказов и писем. Вызревали образы, уточнялись сюжетные ситуации, шлифовался язык. Островский мог судить и о степени интереса слушателей к тому, что он рассказывал. А слушатели часто подзадоривали его: — Ты бы записал все, что рассказываешь. Интересная будет книга… Жена писателя Р. П. Островская передает, что часто Николай, рассказав случай, происшедший якобы с кем-то из его друзей, лишь потом признавался, что это случилось с ним самим. — Так почему же ты не сказал сразу, что это было с тобой? — удивлялись слушатели. — Зачем? — отвечал он им. — Я знаю, не желая меня обидеть, вы не сказали бы правды о моем рассказе. А мне очень важно было знать, как вы его примете, захватит ли он вас. Он говорил: — Я следил за каждым движением на ваших лицах. Тогда уже у меня зрела мысль рассказать молодежи обо всем пережитом. На вас я впервые познавал, стоит ли начинать работу, добьюсь ли я того, что намечаю. Вот почему друзья Островского, встречавшиеся с ним в клиниках и санаториях, утверждают, что многие эпизоды романа «Как закалялась сталь» были им известны еще до появления книги. Но до книги было еще далеко. Болезнь прогрессировала. В августе 1925 года Островского направили лечиться в Евпаторию. Санаторные врачи отвергли мысль о водянке в коленных суставах. Они перебирали всевозможные объяснения, однако больному не становилось от этого легче. «Факт остается фактом — я без костылей ни шагу», — писал он. Несмотря на то, что состояние его ухудшалось, Островский был попрежнему бодр и энергичен. Он быстро отыскивал новых друзей. Так познакомился он в Евпатории с группой молодых москвичей. «Московские друзья нашли пути к тому, что непрекращающееся давление на мысли, что меня мучило все время, рассеялось и иногда совсем проходило. Была хорошая семья, понятная, ласковая, чуткая… Загорались там иногда споры, зажигался и я… Катались на паруснике далеко в море и т. д. Даже было тяжело расставаться». Письмо это помечено сентябрем 1925 года. После Евпатории Островский возвратился в Харьков, показался врачам. По их настоянию он вскоре поехал в Славянск; там лечили грязями. Здоровье не поправлялось; это беспокоило и удручало его. К тому же в Славянске стояла пасмурная, осенняя погода, комната его находилась в самом конце длинного коридора, лежал он в ней один, друзей не было… И все же: «Одно преобладает над всем — итти напролом, бороться чем можно, без сентиментов и нытья, как когда-то боролся в добрые прошедшие времена. А потом подсчитаем шансы. Пока еще бьет вера и стремление к жизни, работе, не может быть и речи о чем-либо другом». С этой решимостью приезжает он из Славянска в Харьков и там снова ложится в клинику, продолжая героическую борьбу за возвращение в строй. Островский пролежал в клинике медико-механического института до середины мая 1926 года. К болям в коленных суставах прибавились боли в позвоночнике. «В Институт пришел с палочкой, вышел на костылях» \, — подвел он итог. В таком состоянии больной окончательно покинул Харьковскую клинику и вторично отправился в Евпаторию. Майнакский санаторий, расположенный на берегу Евпаторийского лимана, считается одной из лучших здравниц Крыма. Сюда и поместили Островского. Здесь, в санатории, Островский познакомился со старым большевиком И. П. Феденевым, с которым сохранил дружбу навсегда, которого впоследствии он вывел в романе «Как закалялась сталь» под фамилией Леденев[35]. Феденев так описывает свою первую встречу с Островским: «Был полдень. Южное майское солнце щедро палило своими лучами. Выполнив формальности по зачислению в санаторий, я вышел в садик, расположенные позади санатория. Группа больных в ожидании обеда разместилась под небольшими деревцами. Кто лежал на койках, кто сидел. Мое внимание обратили двое больных, сидевших в качалках. Оба молодые. Один блондин со светлыми волосами, другой — брюнет. Читали газету «Правда». Дальше читаем: «Сильное, волнующее впечатление произвели на меня, да и на всех других, рассказы сидевшего н качалке молодого брюнета. Он говорил о борьбе отрядов комсомольских организаций, о людях, которых воспитала партия, об их бесстрашии, мужестве и геройстве. Звонок на обед прервал беседу. Ходячие больные пошли в столовую. Мне и сидящим в качалках принесли обед. Я познакомился. Блондин со светлыми волосами был член ЦК германской компартии. Брюнет — член ВКП (б) Островский… Было ему 22 года. Выглядел молодо. Густые темные волосы пышно зачесаны назад. Крупный выпуклый лоб. Правильные черты лица и приятная улыбка чарующе действовали и с первого знакомства делали его каким-то родным, близким. Роста он был выше среднего, худощав. С трудом мог передвигаться на костылях. Говорил с небольшим украинским акцентом, весьма остроумен и жизнерадостен. Мы быстро с ним сблизились, а потом и крепко подружились»[36]. В санатории «Майнаки» Островскому жилось совсем не так, как в Славянске. Подобралась чудесная компания. Когда уставали от разговоров, играли в шахматы. Островский был заядлым шахматистом; вел он себя в игре агрессивно, проявляя большое упорство в нападении и в защите. Партнеры отмечали его изобретательность в борьбе и сильную память; допустив ошибку однажды, он ее больше не повторял. Ему пророчили славу шахматного мастера.
 Санаторий «Майнаки». Н. А. Островский следит за шахматной партией (1926).
Санаторий «Майнаки». Н. А. Островский следит за шахматной партией (1926).
Дни в «Майнаках» проходили весело. Островский был бы им по-настоящему рад, если бы появился хоть небольшой просвет в состоянии его здоровья. Он так ждал этого, так надеялся! Ничего не помогало: ни санаторный режим, ни грязи, ни морские ванны. И что всего тревожнее и опаснее: ему не удалось удержать болезнь на занятых ею рубежах. Она наступала неудержимо, захватывая и поражая новые участки. Срок путевки его уже истек, но врачи продлили пребывание Островского в «Майнаках» еще на месяц. Страшно разболелся позвоночник. Сняли рентген и обнаружили спонделит (туберкулез) второго позвонка. Островский писал из санатория 3 июля 1926 года: «Теперь опять о новостях дня — борьба за жизнь, за возврат к работе. Слишком тяжелый фронт, подтачивающий с таким трудом мобилизуемые силы. И здесь уходит очень много сил. Кто кого? Все еще не решено, хотя противник (болезнь) получил основательную поддержку (спонделит)». Островский покинул «Майнаки» 15 июля 1926 года, а через три дня писал уже из Новороссийска: «Здоровье мое, к сожалению, определенно понижается равномерно, давно потерял подвижность левой руки — плечо. Как знаешь, у меня анкилоз правого плечевого сустава, теперь и левый горел, горел сустав и зафиксировался. Я теперь сам не могу даже волос причесать; не говоря уже о том, что это тяжело, теперь горит воспаленное правое бедро, и я уже чувствую, что двинуть его в средине не могу. Определенно оно зафиксируется в скором времени. Итак, я теряю подвижность всех суставов, которые еще недавно подчинялись. Полное окостенение. Ты ясно знаешь, к чему это ведет. И я тоже знаю. Слежу и вижу, как по частям расхищается буквально моя последняя надежда как-нибудь двигаться… Ночью обливаюсь потом. В силу необходимости лежу всю ночь только на правом боку, и это тяжело. Днем весь день на спине. Ходить я не могу совсем… У меня порой бывают довольно большие боли, но я их переношу все так же втихомолку, никому не говоря, не жалуясь. Как-то замертвело чувство. Стал суровым, и грусть у меня, к сожалению, частый гость… Если бы сумма этой физической боли была меньше, я бы «отошел» немного, а то иногда приходится крепко сжимать зубы, чтобы не завыть по-волчьи, протяжно, злобно». По настоянию матери он поехал в Новороссийск к ее близкой подруге Любови Ивановне Мацюк и пробыл там до августа. Один день походил на другой. Все в нем протестовало против вынужденного бездействия. Он чувствовал себя бойцом, который застрял в обозе, в то время когда на всех фронтах идет победоносное наступление, и настойчиво искал выхода. Разве мыслима жизнь без общественно-полезного труда? Можно, конечно, существовать, но существовать и жить — не одно и то же. Его кипучая энергия била через край и, находясь даже в самом тяжелом состоянии, он жаждал работы, борьбы, активной деятельности. На костылях приходил он в библиотеку и оставался там целый день. За один день он прочитывал пять-шесть книг. Библиотекари подшучивали над ним. Они не могли поверить, что все эти книги действительно прочитаны Островским, а не возвращены после беглого просмотра. Островский только улыбался в ответ и подробно пересказывал все прочитанное. Однако удовлетвориться одним лишь общением с книгами он не мог. Надежда найти подходящую по состоянию здоровья работу гонит его в Харьков, затем в Москву. «В Москве же я отдохнул в первый раз за всю свою жизнь. Был в кругу ребят-друзей, набросился на книги и все новинки; жаль только, что было это коротко — всего 21 день». Коротко — потому, что врачи настояли на немедленном возвращении Островского на юг. «А то в Москве, если бы остался, то у меня открылся бы процесс в легких». Нельзя и на Украину. Ему нужны мягкий климат, теплая бесснежная зима. С тяжелым сердцем покинул Островский Москву и в октябре возвратился в Новороссийск, где стояли солнечные дни и «не слышно» было осени. Лишь иногда набежит холодный норд-ост. Два года прожил он в этом городе, который прочно вошел в его биографию. Он назовет впоследствии этот период своей жизни «периодом вынужденной посадки». В Новороссийске, на Шоссейной улице, в доме № 27, Островский строго и до конца осмысливает свое настоящее и будущее. «Больная моя головушка заметалась по лазаретам, — писал он брату. — Но я креплюсь, не падаю духом, как сам знаешь, не волыню, а держусь, сколько могу. Правда, тяжело иногда бывает…» Он написал «иногда». И нужно ясно понять, какие огромные усилия требовались от него, чтобы это чувство тяжести не владело им постоянно. Опухоли на коленях и ступнях все увеличивались. Больной не мог не только ходить, но не мог уже лежать на спине и на боку, не мог поворачиваться. По ночам он буквально задыхался… Прошло два долгих года с тех пор, как Островский впервые попал в Харьковскую клинику. Два года вел он напряженную борьбу за жизнь. Вначале он чувствовал себя «волчонком, пойманным и запертым в клетку». Сейчас он терял последние силы и чувствовал себя «замотанным и уходящим из жизни». Его пугала неподвижность, и он до изнеможения занимался гимнастикой: к потолку прибит был ролик, через него перекинута веревка, один ее конец привязан к ногам, другой — у него в руке. Ом тянул веревку, и ноги подымались вверх, освобождал — и ноги опускались. Не помогало. Он пережил невыносимо мучительный душевный кризис, который грозил кончиться катастрофой. О трагедии Островского можно судить по двум письмам, адресованным им тогда А. П. Давыдовой. 22 октября 1926 года: «Из физической лихорадки никак нет сил выбраться, все идет полоса упадка, а не возрождения. Много нужно воли, чтобы не сорваться раньше срока… Жизнь пока бьет, и ей сдачи дать нет сил». И 7 января 1927 года: «Надо сказать, что как только у меня дни становятся темнее, я ищу разрядки и пишу тем немногим у меня оставшимся, кто так или иначе сможет связать меня с внешним миром, от которого я так аккуратно отрезан… Тяготит то, что я оторван от своих ребят — коммунистов. Уже сколько месяцев я в глаза не видел никого из своих, не узнал о живой строящейся жизни, о делающей свое дело партии, а должен жить и кружиться (если вообще можно кружиться и жить на кровати) в кругу, который моим внутренним запросам ничего не может дать… Ты знаешь, что партия для меня является почти всем, что мне тяжело вот такое состояние, что я не могу, как даже в Харькове, быть ближе к ее жизни. Какая-то пустота вырисовывается, незаметно ощущается какое-то новое ощущение, которое можно назвать прозябанием, потому что дни пусты иногда настолько, что выскакивают разные анемично-бледные мыслишки и решения. Тебе яснее, чем кому бы то ни было, что если человек не животное, узколобое, шкурное, тупое, как бывает, жадно цепляющееся за самый факт существования, исключительно желая сохранить жизнь для продолжения такого же существования и не видящее всю четкость фактов, то иногда бывают очень и очень невеселые вещи… Если бы в основу моего существа не был заложен так прочно закон борьбы до последней возможности, то я давно бы себя расстрелял, потому что так существовать можно, лишь принимая это как период самой отчаянной борьбы». Рисуя такое же состояние своего героя Корчагина в «Как закалялась сталь», Островский восклицал: «Может ли быть трагедия еще более жуткой, когда в одном человеке соединены предательское, отказывающееся служить тело и сердце большевика, его воля, неудержимо влекущая к труду, к вам, в действующую армию, наступающую по всему фронту, туда, где развертывается железная лавина штурма?» И в этих непередаваемо трудных, непосильных, казалось бы, для человека условиях он не отчаялся, не смалодушничал, не покончил самоубийством. Воздух нового мира окружал Островского, и этот новый мир звал его могучим зовом жизни. В письме из Новороссийска мы читаем; «Бывают и невеселые дни, когда все кажется темным, но в основном контроль есть. Слишком тянет жизнь с ее борьбой и стройкой, чтобы пустить себя в расход. Живешь вечно новой надеждой, что хоть как-нибудь буду работать». И в другом: «Только мы, такие, как я, так безумно любящие жизнь, ту борьбу, ту работу по постройке нового, много лучшего мира, только мы, прозревшие и увидевшие жизнь всю, как она есть, не можем уйти, пока не останется хоть один шанс». Островский устанавливает связь с партийной и комсомольской организациями. К нему прикрепляют группу молодых рабочих Новороссийского порта и он становится пропагандистом. Горячо и убежденно разъясняет он им смысл и значение важнейших событий международной и внутренней политики: будь го разрыв английскими консерваторами дипломатических и торговых отношений с СССР или решения XV партконференции, направленные против лживой платформы троцкистско-зиновьевского блока. «Я мог говорить три часа подряд, и двадцать человек слушали меня не шелохнувшись, затаив дыхание. Значит, есть пламя, значит, есть для чего жить. Я нужен», — вспоминал впоследствии об этих беседах Островский. Он читал своим юным друзьям напечатанную в «Правде» статью товарища Сталина «Международный характер Октябрьской революции (К десятилетию Октября)» и знакомил их с висевшей у него на стене картой Китая, на которой флажками обозначены были фронты китайской революции. Необычайно тяжко переживал Николай Алексеевич свою вынужденную оторванность от большого партийного коллектива. Однажды кто-то из его гостей упомянул, что в клубе водников назначено на вечер партийное собрание. И так велика и остра была у больного юноши потребность вновь почувствовать себя активным участником партийной жизни, что он, не предупредив никого из домашних, взял свои костыли и отправился в клуб. Итти нужно было в дальний поселок: несколько километров плохой дороги. Каждый шаг отдавался болью. Но Островский прошел этот путь. Собрание было бурным. Большевики громили троцкистских предателей. Островский попросил слова. Он говорил убежденно и горячо, призывал беспощадно корчевать все помехи на пути к завершению прекрасного здания социализма. Собрание дружно поддержало его, хотя все присутствующие в зале видели его впервые и не знали, кто этот человек, с трудом поднявшийся на трибуну. Собрание закончилось. Ни к кому не обращаясь за помощью, Островский вышел в густой мрак осенней новороссийской ночи. Двигаясь на-ощупь, он сбился с дороги и пошел не к дому, а в противоположную сторону. Попалась скамейка: Николай опустился на нее и стал дожидаться рассвета. Наутро он возвратился домой и продолжал нескончаемую и невероятно трудную борьбу с болезнью. Островский тщательно изучает произведения классиков марксизма, он поступает даже в заочный Коммунистический университет имени Свердлова. Ему помогает в учебе маленький детекторный приемник; по радио в определенные часы передают лекции, и Островский регулярно слушает и конспектирует их. Товарищи из местной библиотеки снабжают его газетами, журналами, книгами. «Я приносил ему книги, много книг, целые стопы, перевязанные бечевкой, — вспоминает заведующий портовой библиотекой в Новороссийске Д. П. Хоруженко. — Мой необыкновенный читатель проглатывал их с удивительной быстротой. Сначала я отбирал ему книги, записывая их в его читательский формуляр. Формуляр быстро разбухал от вклеиваемых дополнительных листов. Затем, нарушая библиотечные правила, я начал записывать в формуляр только общее количество книг, а книги носил ему непосредственно из магазина, предоставляя ему возможность выбрать книги самому. От Николая книги шли уже в переплет, к явному недовольству переплетчика, который ворчал и всячески убеждал меня в том, что разрезанные книги переплетать труднее и что читателям нечего торопиться раньше переплетчика»[37]. Среди книг, которые он жадно читал, были произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Толстого, Чехова, Горького, Короленко, Серафимовича, Фурманова, Шолохова, Фадеева, Федина; из переводной литературы — Бальзака, Виктора Гюго, Золя, Джека Лойдона, Драйзера, Келлермана, Барбюса. Особо следует выделить А. М. Горького. Книги его были Островскому близкими и родными. Он отзывался о них горячо, с воодушевлением. Островский очень любил роман А. М. Горького «Мать», рассказы «Макар Чудра», «Челкаш», «Мальва», «Песнь о Соколе» и «Песнь о Буревестнике». Он сказал с «Соколе»: — Как чудесно написано! Ведь это песнь крепко крылатой молодости, насыщенной верой в свои силы, полной стремления воплотить в жизнь самые яркие мечты о свободе, о красивой жизни. Это настоящая литературная граната, брошенная могучей рукой великана-бойца в стан мракобесов и филистеров… Да, так до Горького никто не говорил. Он не только читал книги, но пытливо изучал их. Часто, заинтересовавшись тем или другим произведением, Островский просил принести критическую литературу о нем. Ряд книг он отбрасывал в сторону после прочтения нескольких страниц: Клода Фаррера, Джемса Кэрвуда и других. Он активно отвергал стихи Есенина[38]. Любил и ценил Маяковского, Демьяна Бедного, хорошо знал поэтов комсомола: Безыменского, Светлова, Жарова, Голодного, Уткина. Он старательно доставал и тщательно изучал всю литературу, посвященную гражданской войне: публицистику, художественные произведения, документы и мемуары, собранные в отдельных сборниках и рассыпанные на страницах журналов. День Островского был разграфлен по часам. Составленное им самим расписание строго соблюла, лось. Предусматривалось чтение политической и художественной литературы, политзанятия, писание писем. Сперва отводилось время и на прогулки. Потом пришлось эту графу изменить. Прогулки стали для него невозможны. Особняком стояла в расписании рубрика: «Потерянное время». Здесь перечислялись завтрак, отдых без книг, обед, ужин и т. д. Островский старался, чтобы «потерянного времени» получалось как можно меньше; он сокращал его до предела, стремясь продлить часы и минуты, обозначенные в других графах. Кризис миновал. По всему видно было, что Островский не просто «цеплялся» за жизнь, а как он писал позже, «глубоко в себе начертал дорогу». Он знал, куда идет, определил свое место в строю. К этому же времени относится, видимо, первое сложившееся решение Н. Островского попробовать свои силы в литературе. В 1927 году он из Новороссийска сообщает П. Н. Новикову: «Буквально день и ночь читаю, уйму книг имею, связался с громадной библиотекой и читаю запоем…» И рядом с этим появляется первое, еще робкое, полушутливое признание: «Собираюсь писать «историческо-лирическо-героическую повесть», а если отбросить шутку, то всерьез хочу писать, не знаю только, что будет…» Задумана была повесть о героях-котовцах. Островский начал писать ее осенью 1927 года и закончил в начале 1928 года. Распорядок дня был дополнен новой графой, вытеснившей многое другое: «Писание». Ежедневно после завтрака, тайком от всех, он вынимал из-под подушки объемистую тетрадь и начинал что-то писать. Написанное никому не показывал, а на расспросы отвечал уклончиво и шутливо. «Иногда он так увлекался, что трудно было оторвать его к обеду, — рассказывает Р. П. Островская. — В таких случаях раздражался, требовал, чтобы к нему не приставали с «идиотскими обедами», и обещал, закончив через несколько дней работу, отобедать сразу за все упущенное время»[39]. Когда работа пришла к концу, он запечатал рукопись и отправил ее в Одессу, своим боевым друзьям. Недели через две-три прибыло ответное коллективное письмо. Островский был счастлив: друзья одобрили его произведение, советовали, что и как поправить. Но беды преследовали Н. Островского. Произошло несчастье: бандероль с единственным экземпляром рукописи затерялась на обратном пути. Ее розыски ни к чему не привели. Первое литературное произведение писателя Островского погибло безвозвратно. Было невероятно тяжело. «Долго Николай не мог смириться с мыслью об утрате повести», — свидетельствует его жена. Однако вспышку негодования и боли он сумел подавить решительно и быстро. Ни в письмах, ни в разговорах с близкими он не вспоминает об этом ударе. Ему дорого было признание друзей. Их отзыв утвердил в нем веру в свои возможности и силы. Значит, можно писать, не двигаясь и не видя! — скажет он вскоре, окончательно ослепнув; можно участвовать в великом историческом походе своего народа, владея оружием художественного слова. Он вынашивал замысел новой книги и стремился овладеть законами новой профессии. Пережитое в Новороссийске стало одним из важнейших звеньев в цепи тех испытаний, которым подвергся Островский. Он выдержал это испытание, и воля его закалилась еще прочнее. В Новороссийске произошло еще одно значительное событие в жизни Островского. Там сдружился он с девушкой (младшей дочерью Л. И. Мацюк — Раей), которая стала затем его женою. Островский говорил, что человек, его качества; ценность проверяются не только на работе, а и в семье. Личная жизнь его служила тому подтверждением. «Николай был моим учителем, другом», — вспоминает Раиса Порфирьевна Островская. Их соединяла сильная и нежная любовь, любовь, основанная на общности интересов, на взаимном доверии и уважении. «Может быть дружба без любви, но мелка та любовь, в которой нет дружбы, товарищества, общих интересов», — так определял Островский семейные отношения и так строил он свои отношения с женой. «У меня все невзгоды забываются, когда я наблюдаю, как растет и развивается молодая работница, — писал он, имея в виду свою жену. — Это моя политическая воспитанница, и мне очень радостно, что растет новый человек… Теперь у нее нет дня и вечера без заседаний, собраний и т. д. Она прибегает радостная, полная заданий и поручений, и мы оба работаем над их решением». Болезнь Островского явилась тяжелым испытанием не только для него лично, но и для тех близких и родных ему людей, с которыми была связана его жизнь, и прежде всего для матери, жены, сестры. Ему и им предстояло еще пережить много горя, прежде чем была одержана блистательная победа. В конце 1926 года из Шепетовки приехала к сыну мать — Ольга Осиповна. «Я застала его совсем беспомощным, он не мог сам ни умыться, ни причесаться»[40]. Она была потрясена. Начались советы с врачами, и по их указанию Островского повезли на курорт «Горячий Ключ» (в 65 километрах от Краснодара). Это было очень тяжелое путешествие. Ехали туда шесть часов проселочной дорогой, изрытой ухабами. Машину безжалостно бросало из стороны в сторону. Больной несколько раз терял сознание от приступов дикой боли. «Не могу описать тебе всего кошмара, связанного с моей поездкой на курорт», — писал он жене из «Горячего Ключа». Два месяца Николай лечился серными ваннами. Как это всегда бывало, он за короткое время сумел настолько прочно войти в жизнь всего коллектива обитателей курорта и завоевал в их среде такой авторитет, что местная партийная организация обратилась в окружком с просьбой оставить Островского в «Горячем Ключе» на постоянной партработе.
 Мать писателя О. О. Островская.
Мать писателя О. О. Островская.
Приехавшая к мужу Р. П. Островская передает, что как только коляску с Островским вывозили в парк, сразу же вокруг него собирались люди. Многие из них были калеками. Островский вносил дух бодрости и даже веселья в эту среду. «Воспоминания о боях, чтение газет, шутки, песни — вот чем занимались больные в обществе Николая»[41]. Но самого Островского из «Горячего Ключа» увезли таким же скованным, каким он сюда прибыл. На этот раз его везли уже не в машине, а в обыкновенной казачьей фуре, выложенной сеном. Мать и жена всю дорогу поддерживали больного на вытянутых руках, чтобы смягчить толчки и удары. В Новороссийске продолжается ожесточенная борьба с болезнью. Тело Островского сковано. Зрение покидает его. Но все так же собирается вокруг него молодежь. Так же живо обсуждаются все новости, напечатанные в газетах. И еще более напряженной, чем прежде, становится учеба Островского, еще углубленнее работает он над собой. Он заставляет читать и перечитывать вслух речь товарища Сталина, произнесенную 16 мая 1928 года на VIII съезде комсомола. Товарищ Сталин коснулся в своей речи трех вопросов: «вопроса о линии нашей политической работы, вопроса о поднятии активности широких народных масс вообще, рабочего класса в особенности, и борьбы с бюрократизмом и, наконец, вопроса о выработкеновых кадров нашего хозяйственного строительства»[42]. Вопрос о кадрах был прежде всего вопросом об учебе — о создании новой интеллигенции рабочего класса. «В период гражданской войны, — говорил товарищ Сталин, — можно было брать позиции врага напором, храбростью, удалью, кавалерийским наскоком. Теперь, в условиях мирного хозяйственного строительства, кавалерийским наскоком можно лишь испортить дело. Храбрость и удаль нужны теперь так же, как и раньше. Но на одной лишь храбрости и удали далеко не уедешь… Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой. А чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо… Перед нами стоит крепость. Называется она, эта крепость, наукой с ее многочисленными отраслями знаний. Эту крепость мы должны взять во что бы то ни стало. Эту крепость должна взять молодежь, если она хочет быть строителем новой жизни, если она хочет стать действительной сменой старой гвардии»[43]. Эти исторические слова, как слова Ленина восемь лет тому назад, ответили Островскому на его самые сокровенные мысли. Они указали ему место в боевом строю. С новыми силами принялся он штурмовать крепость науки. Летом 1928 года окружком партии направляет его для лечения в Сочи. Решено испробовать действие мацестинских источников. Из Новороссийска в Сочи Островский добирался морем. Сопровождала его Екатерина Алексеевна. На море в это время разыгрался сильный шторм, пароход не мог высадить пассажиров в Сочи, и Островский вынужден был совершить путешествие до Сухуми. Здесь его временно поместили в больницу с тем, что пароход, возвращаясь из Батуми, возьмет его снова на борт и доставит, наконец, в Сочи. Море еще бушевало, когда Островский пытался высадиться в Сочи вторично. Его на носилках должны были снести в лодку; качка была так сильна, что лодка с трудом подошла к трапу, ее все время относило. Подушка из-под головы Островского упала в воду. Окружающие, даже носильщики, беспокоились, как бы не уронить больного в море. Один только Островский не терял присутствия духа. — Рыбы не обрадуются, — на обед им достанутся только кости… — шутил он. Первое письмо Островского из Сочи, адресованное семье, живо передает его тогдашнее настроение и впечатление от нового курорта. «Дорогие мои друзья! Сообщаю телеграфным языком все новости. Принял первую ванну (пять минут). Роскошная штука! Это не Ключевая! Для тяжело больных громадная ванная комната. Кресла, носилки заносят в ванну — простор и удобство. Санаторий на горе, кругом лес, пальмы, цветы. Красиво, покарай меня господь! Ванные в 200 шагах внизу. Возят на линейке с горы вниз. Но какие спецы санитары! Ни толчка, ни удара! Среди нянь и санитаров есть уже друзья. Сестры молодые, и «Правду» будут читать, и все прочее. Под «прочим» не подумайте ничего подозрительного. Дальше смотрели врачи. Мацеста должна помочь. Договорились обо всем. Через пять дней в панне будут делать массаж, выносить под пальмы днем в специальных креслах… Уже сидит в обед контроль — сестра — и подгоняет кушать. Сразу увидели, что не ем, а ем в три раза больше, чем у вас, с дорожной голодухи. Кормят пять раз в день на убой — о несчастье мое! Дали соседа, прекрасного товарища, члена президиума московской КК, старого большевика, есть о чем поговорить. Ну, нет ни одной неудачи! Сплю хорошо. Ночью мертвая тишина, целый день открыты окна. Вот где я отдохну…» Соседом Островского по санаторной койке, тем самым старым большевиком, с которым было «о чем поговорить», оказался Хрисанф Павлович Чернокозов. Он начал свою революционную деятельность еще в 1905 году в Донбассе, работал в подполье, подвергался арестам при царском правительстве… Несколько раз X. П. Чернокозов участвовал в работах партийных съездов. Он стоял в почетном карауле у гроба В. И. Ленина и 26 января 1924 года слушал историческую клятву вождя — речь товарища Сталина на II Всесоюзном съезде Советов. «С первого же дня у нас начались беседы, — вспоминает X. П. Чернокозов. — Коля часто обращался ко мне: «Батько расскажи, как ковалась наша партия, как организовывали подпольные ячейки, устраивали явки, как ты распространял «Правду» в 1912 году и участвовал в выборах в IV Государственную думу, как создавали органы советской власти…» В общем пришлось рассказывать ему свою жизнь, начиная с 12 лет, когда я пошел в шахту коногоном»[44]. В свою очередь, Островский рассказывал «батьке» свою жизнь. Чернокозов увидел в Островском «замечательного парня, нашего парня, который весь горел и рвался вперед». Они горячо полюбили друг друга. X. П. Чернокозов страдал от гангрены обеих ног, он ходил на костылях. — Ничего, батько, — утешал его Островский, — мы с тобой еще сгодимся партии, еще послужим советской власти. «Батько» разделял эту веру, и он принял горячее участие в дальнейшей судьбе «сынка». «Помнишь, родной, — писал ему в 1935 году Островский, — как ты писал в ЦК, что Островский еще будет полезен партии, что этот парнишка еще не угас и не угаснет. Ты так верил в мои творческие силы, как никто. И вот теперь я с гордостью за твое доверие вижу, что оправдал его». Тогда же Островский познакомился и со старой ленинградской большевичкой Александрой Алексеевной Жигиревой, которая также стала его большим и верным другом. Она не раз помогала ему в трудную минуту, и Островский часто вспоминал о ней с признательностью и теплотой. Полтора месяца пробыл Островский в санатории № 5 в Старой Мацесте. Мацестинские ванны смягчили резкие боли в суставах и улучшили общее состояние здоровья Островского. Он готов был поверить, что наконец-то найдено действенное средство против болезни. Так хотелось в это верить! Врачи единодушно советовали ему остаться в Сочи на постоянное жительство и повторить лечение Мацесты. Жене удалось через местный коммунхоз получить комнатку на Крестьянской улице (ныне улица Горького). Приехала мать. Начался первый сочинский период жизни Островского. Все с большим и нарастающим ожесточением продолжается борьба сил смерти с силами жизни, обезоруженного тела — с неразоружившимся мозгом. Чем крепче наступает болезнь, тем активнее сопротивление. Вскоре выяснилось, что Мацеста не оправдала надежд врачей и самого Островского. Легкое облегчение, принесенное первыми ваннами и сменой обстановки, быстро миновало. Новый удар потряс больного: осенью 1928 года обостряется воспаление обоих глаз. Оно длится три месяца и приводит к почти полной потере зрения. Душевный кризис, преодоленный им было в Новороссийске, вспыхивает снова. Островский писал 2 ноября П. Н. Новикову: «Меня ударило по голове еще одним безжалостным ударом — правый глаз ослеп совершенно. В 1920 году мне осколком разбило череп над правой бровью и повредило глаз, но он видел все же на 4/10, теперь же он ослеп совсем. Почти три месяца горели оба глаза (они связаны нервами: когда один болит, то и другой за ним), и я 4½ месяца ни задачи, ни книг, ни письма прочесть не могу, а пишу наугад, не видя строчек, по линейке, чтобы строка на строку не наехала. Левый глаз видит на пять сотых, одну двадцатую часть. Придется делать операцию — вставить искусственный зрачок и носить синие очки. Сейчас я в темных очках все время. Подумай, Петя, как тяжело мне не читать. Комвуз мой пропал, я заявил о невозможности из-за слепоты продолжать учиться и вообще не знаю, если мне не удастся возвратить глаз хоть один к действию, то мне придется решать весьма тяжелые вопросы. Для чего тогда жить? Я, как большевик, должен буду вынести решение о расстреле организма, сдавшего все позиции и ставшего совершенно ненужным никому, ни обществу, а тем самым и мне… Я так забежал в угол и морально и физически…» Под знаком «минус» прошел и 1929 год. «Этот минус, еще немножко увеличившись, может зачеркнуть жизнь», — писал Островский. И мать и жена с тревогой следят за этим новым кризисом… «Ох, какие мучения он, бедняга, переживает. Недели три-четыре тому назад у него был страшный сердечный припадок, во время которого у него в горле было слышно предсмертное клокотание»[45]. «Коля лежит навзничь все время, как из Мацесты приехал, и ноги не поднимет сам, если ее не поднять, и рукой дальше не достает, только до рта, а до волос не подымет руки. С боку на бок тоже не перевернуться и лечь не может на бок, а только все время лежит на спине. С глазами у него плохо, почти ничего не видит. И врач ему через три дня делает укол в руку и около глаз — приготовляет его к операции. Аппетит у него плохой. Нервный и места себе не приберет. Одним словом, горе… Что он переносит, это нечеловеческие силы нужны»[46]. Врачи находили у него порок сердца, и катар обеих верхушек легких, и воспаление почек. А ко всему этому еще болезнь желудка, постоянные, изнуряющие организм гриппы… Напомним еще раз о возрасте Островского: ему шел тогда двадцать пятый год. Чтобы понять всю меру мужества этого человека, нужно знать меру его страданий. Она была огромной. Он выстоял и в этот раз. Если «предательское тело» сдавало одну позицию за другой, то его воля остается неизменной и не сдает ни одной позиции. Он не мог сдаться, добровольно уйти из жизни по той же причине, по которой наши бойцы, окруженные со всех сторон врагами, не сдаются, а самоотверженно продолжают вести бой на любом рубеже до последнего патрона и до последней капли крови. Болезнь была его врагом. «Глаза саботируют, — писал он с ожесточением. — Ненавижу все эти хворобы, как классового врага». Он относился к собственной жизни не как к личному своему достоянию. Эта жизнь принадлежала обществу. «Кто знает, ведь если хвороба меня не загонит в доску, может случиться встретиться еще в другой обстановке борьбы и работы в нашей родной партии, — писал он друзьям. — Ведь только этим и живу…» Только этим он жил, — и потому-то не истощался, не пересыхал питающий его родник жизни. «Много, родной братуха, работы, еще много борьбы, и надо крепче держать знамя Ленина», — писал он тогда же брату. Понятие «жить» неотделимо для него от понятия общественного долга. Он очень страдал физически, но еще больше страдал морально из-за мысли, что слишком много «задолжал» своей партии, своему народу. В письме к А. А. Жигиревой Островский говорил в ноябре 1928 года: «Я иногда с сожалением думаю, сколько энергии, бесконечного большевистского упрямства у меня уходит на то, чтобы не удариться в тупик. Будь это потрачено производительно, было бы достаточно пользы. Вокруг меня ходят крепкие, как волы, люди, но с холодной, как у рыб, кровью, сонные, безразличные, скучные и размагниченные. От их речей веет плесенью, и я их ненавижу, не могу понять, как здоровый человек может скучать в такой напряженный период. Я никогда не жил такой жизнью и не буду жить…» Через полгода, 21 апреля 1929 года, он снова повторял в письме к Жигиревой: «Если бы 1/100 часть энергии, расходуемой на эти бесконечные, одна за другой чередующиеся хворобы, которыми я профессионально занимаюсь, потратить на производственную работу, то и выборжцу у станка угнаться трудно было б. А то получаются мыльные пузыри…» Физические боли можно было заглушить, отвлечься от них, наконец, сжав зубы, перетерпеть. Он долго тренировал себя в уменье держать нервы «в кулаке», не раскисать. «Если я хотя бы на минуту разжал кулак, произошло бы непоправимое несчастье, — признавался он врачу М. К. Павловскому. — Как и другие больные, я сначала требовал то подтянуть одеяло, то поправить подушку и прочее. По постепенно я стал так устанавливать свою психику, чтобы не замечать донимающих меня мелочей, а также жжения в суставах, разнообразных болей. Если поддаваться всем этим ощущениям и стать их рабом, то можно сойти с ума… Я добился того, что мог выключать боль на любом участке тела… Работая над собой, я научился переключать сознание на серьезные вопросы, не обращая внимания на крики моего тела…»[47] Но чем унять крик души, жаждущей деятельности и обреченной на пассивность?! «Представь, Шура, что вокруг тебя идет борьба, а ты привязана и только можешь видеть это». Вот что поистине нестерпимо. Ведь ему, по глубочайшей его органической сущности, нужны были бы «железные, непортящиеся клетки». Познакомившаяся с Островским в 1929 году во время своего пребывания на лечении в Сочи Р. Б. Ляхович делилась впечатлениями с П. Н. Новиковым: «Я бесконечно тебе благодарна, что дал мне возможность встретить такую хорошую, кристально чистую душу. Я целыми часами просиживаю у его постели. Мы бесконечно говорим. У нас какой-то неиссякаемый источник слов и мыслей… Коля сам сознает и удивляется, как в его вконец разбитом теле живет такая здоровая голова, полная сумасшедших идей, полная энергии, дышащая таким здоровым юмором и юношеским задором»[48]. И вот страстное желание быть чем-нибудь полезным своей партии, прочно заложенный в нем «закон борьбы до последней возможности» делают невозможное возможным. Мы снова видим Островского пламенным пропагандистом. У него в комнате — всегда молодежь. Насколько серьезно и ответственно относился Островский к партийному воспитанию молодых рабочих, окружавших его и внимательно слушавших каждое его слово, можно судить по следующей выдержке из его письма: «За период моей политически сознательной жизни я имею целый ряд рабочих и работниц, вовлеченных мною в партию; к сожалению, я не имею теперь с ними связи. Но все они сейчас, как я знаю, стали хорошими партийцами. Для меня всегда было радостью, если я втягивал в нашу семью индивидуальной работой кого-либо из ранее остававшихся в стороне (организационно) от коммунистического движения. А ведь есть товарищи, которые не помнят ни одного случая обработки, воспитания и вовлечения в партию! Есть механическая дача рекомендаций, но это не то… И я вижу результат… и факт того, что в будущих боях с нами будут еще один-два преданных партийца. Все это крупиночки — очень мало, но большего я не имею сил сделать…» Живя крайне напряженной жизнью, всегда чувствуя себя мобилизованным и находясь в состоянии постоянного действия, Островский ощущал, что время требует большего, и он взыскательно мерил себя масштабами этого времени. В апреле 1929 года собралась XVI партконференция. Был утвержден план первой сталинской пятилетки. На юге, на севере, на востоке страны поднялись леса гигантского промышленного строительства. Воздвигался Днепрогэс и Уралмашстрой. За одиннадцать месяцев был построен в степи Сталинградский тракторный. Выросли новые шахты и доменные печи в Донбассе. Первенцами пятилетки назвал народ Магнитогорск, Березники, Кузбасс. Закладывая прочный фундамент социализма, страна создавала заводы — тракторные, автомобильные, сельскохозяйственных машин. История еще не знала такого мощного строительного размаха, такого трудового героизма миллионных масс рабочего класса. В деревне также происходил бурный трудовой подъем крестьянских масс, строящих колхозы. В колхозы шли уже не отдельными группами, как раньше, а целыми селами, волостями, районами, даже округами. В статье «Год великого перелома», напечатанной 7 ноября 1929 года, в двенадцатую годовщину Октября, товарищ Сталин писал: «Мы идем на всех парах по пути индустриализации — к социализму, оставляя позади нашу вековую «рассейскую» отсталость. Мы становимся страной металлической, страной автомобилизации, страной тракторизации. И когда посадим СССР на автомобиль, а мужика на трактор, — пусть попробуют догонять нас почтенные капиталисты, кичащиеся своей «цивилизацией». Мы еще посмотрим, какие из стран можно будет тогда «определить» в отсталые и какие в передовые»[49]. Движение вперед сопровождалось обострением классовой борьбы внутри страны и обострением внутрипартийной борьбы. Против политики советской власти объединились все капиталистические элементы: кулаки, спекулянты, вредители. Их агентурой внутри партии являлись остатки троцкистско-зиновьевского блока и правооппортунистическая бухаринско-рыковская группа. Партия сломила сопротивление кулачества и спекулянтов. Шахтинские и другие вредители, тесно связанные с бывшими собственниками предприятий — русскими и иностранными капиталистами и заграничной военной разведкой, были привлечены к суду и понесли должную кару. В конце 1929 года, в связи с ростом колхозов и совхозов, в связи со сплошной коллективизацией, советская власть перешла от политики ограничения кулачества к политике его ликвидации как класса. В обстановке бурного и победоносного развертывания социалистического строительства партия сорвала маску с банды троцкистско-зиновьевских двурушников, полностью разоблачила их контрреволюционную сущность. То же произошло и с правыми капитулянтами. Партия признала взгляды троцкистов и правых оппортунистов несовместимыми с принадлежностью к ВКП(б). В борьбе партии против ее врагов активно участвовал и Островский. «В партии заметен кое-где правый уклон, — пишет он 1 ноября 1928 года брату, — хотят сдать заветы Ильича и развинтить гайки. Нам, рабочим-коммунистам, надо бороться беспощадно с этим Всем тем, кто за уступки буржуазии, дать по зубам… Партия зовет нас на борьбу…» Через день в другом письме он повторяет: «И вот в период такого тупика (он имеет в виду трагическое состояние своего здоровья. — С. Т.), я еще вошел с головой в борьбу. Ты знаешь, в нашей партии стал опасностью правый уклон — сдача непримиримых большевистских позиций — отход к буржуазии. Никакому гаду и гадам ленинских заветов не позволим ломать». В письме от 24 ноября он возвращается к тому же: «Мозг республики работает на сто процентов. Четки и ясны дальнейшие шаги! Только упрямство правых туманит свет». Островский выводит на свежую воду орудующих в Сочи врагов партии, подготавливает материалы к партийной чистке, добивается приезда комиссии по чистке соваппарата, помогает ей распутать клубок преступлений. Обостренное классовое чутье помогло Н. Островскому вскрыть вражескую группу обосновавшуюся в сочинском коммунальном отделе Троцкисты пригрели там охвостье старого чиновничества, буржуазии, белогвардейщины. «Поистине здесь самое гнездо осколков старого мира, — сообщает Островский в одном из своих писем к А. А. Жигиревой. — Здесь необходим целый отряд передовых большевиков, актива, непримиримых классово, жестких и непреклонных». Даже и самый дом, в котором жил Островский, был заселен бывшими шахтовладельцами и белогвардейцами; рабочие все еще ютились в подвалах, а «господа» продолжали занимать роскошные квартиры. И вот Островский возглавляет поход против этой вражеской банды. Он добивается переселения рабочих из подвалов в верхние этажи. Борьба не легка. Классовые враги чувствуют себя уверенно за спиною своих троцкистских покровителей. «Я буду ударять все время, пока не добьемся, — пишет он 21 ноября 1928 года. — Дело идет не обо мне, нет, тут борьба классовая за вышибание чуждых и врагов из особняков. Меня уже здесь ненавидят все эти бывшие шахтовладельцы и прочие гады, зато — крепко сближаются рабочие». Ему мстят. Зимой не дают топить, и он мерзнет в холодной комнате. С улицы в окно летят камни. Они падают у кровати: целятся в голову. Островский не отступает. «И хотя много тревоги и волнений, — пишет он об этой схватке, — но мне прибавилось жизни, так как группа рабочих, группируясь около меня, как родного человека, ведет борьбу, и я в ней участвую». Его не удалось запугать. Тогда предпринимается новый маневр. Его пытаются обезвредить, предлагая ему — одному! — хорошую квартиру. Островский реагирует гневно: «Ведь рабочие ребята тогда меня барахлом назовут… Чорт с ней с комнатой — будем жить в этом мешке». Он остается жить в своей маленькой комнатке, в «мешке» — и добивается в конце концов полного разоблачения всей банды и ее покровителей. Рабочие переходят из подвалов в верхние этажи. Сам он переселяется последним. И в этот трудный период, как и прежде, общественная деятельность Островского сочетается с напряженной учебой. В ней — его будущее; он хорошо это понимает. «Лозунг для каждого приходящего: «Читай». Читают до заплетения языков. Глотаю ускоренно, ненасытно все то, от чего отстал. Этот лозунг «читай» является генеральным…» Он заставляет читать подопечных ему комсомольцев («это им и мне полезно»), друзей, родных. От строки до строки ежедневно прочитывается «Правда». Из Ленинграда А. А. Жигирева посылает ему комплект журнала «Большевик», и он благодарит ее: «Присылку «Большевика» приветствую. Даешь, Шурочек, даешь!» Ему необходимо было ощущать постоянную связь с миром, знать обо всем происходящем, слышать голос Москвы. Друзья достали ему старый одноламповый радиоприемник, в котором нехватало многих частей. Своими руками Островский разобрал его; давнее пристрастие к технике помогло быстро— наощупь— понять схему. Он писал приятелям, перечислял недостающие детали, просил поискать их и прислать ему в Сочи. В то время он уже почти совершенно потерял зрение, глаза его были постоянно скрыты за темными очками. И все же приемник был собран. На это ушло у него полтора месяца. Закончив работу, он написал А. А. Жигиревой: «Если бы ты была здесь, то назвала бы меня идиотом и надрала уши. Подумай, будучи слепым, ни черта не видя, взялся собирать приемник из такой дряни и кусков, где и видящий запарился бы. Сколько я крови испортил! Ну, какая работа наощупь! Ну его к чорту! Когда кончилась эта канитель и одноламповый приемник был собран, я заклялся на всю жизнь больше этого не делать». Преодолевая все трудности, Островский заканчивает заочно курс комвуза. Зрение его ухудшалось катастрофически. В глазах была нестерпимая колющая и режущая боль, точно они засыпаны мелкой стеклянной пылью. В октябре 1929 года он отправился в Москву, чтобы в девятый раз подвергнуть себя операции (восемь операций уже перенесено). Это последняя попытка восстановить зрение и подвижность суставов предпринята, чтобы впредь не укорять себя за то, что им не был дан бой на еще одной, последней позиции. Больной попадает в терапевтическую клинику 1-го МГУ. Он рассчитывал пролежать здесь недолго, однако пролежал шесть месяцев и впоследствии назвал их «кошмарными»… В Москве в том году наступила ранняя зима. Вскоре после приезда Островский простудился, и когда уже лег в клинику, у него открылся жесточайший грипп, а затем плеврит. Оправился он лишь к концу февраля 1930 года. Оперировать глаза оказалось невозможным; воспалительный процесс затянулся на несколько месяцев. Врачи предложили удалить Островскому паращитовидную железу, надеясь таким образом вернуть суставам подвижность. 22 марта 1930 года Островскому сделали операцию; эта операция длилась два часа, прошла болезненно и крайне неудачно. Очнувшись после наркоза, больной заметил волнение медицинского персонала. Выяснилось, что зашив после операции рану, врачи оставили в ней тампон. Нужно было немедленно его вынуть. Для этого больного следовало еще раз подвергнуть действию наркоза. Но это было опасно для его сердца. Островский успокоил хирурга. Он сказал: «Делайте операцию без наркоза, я выдержу». Рана была вновь раскрыта и тампон удален. Оперируемый не издал при этом ни одного звука. «Привезли Николая из операционной в палату еле живым, — писала его жена. — Восемь дней температура 38, 39, 40°. Есть не мог. Я дежурила у него несколько ночей»[50]. Ольга Осиповна сообщала позже: «Он после последней операции еще хуже себя чувствует, у него челюсти очень болят. Как видно, при операции ему перерезали нерв, и он с трудом ест, и что ни раз, то ему труднее… Коля сильно похудел и осунулся… Собирался сам тебе написать, но руки его не двигаются, и он сказал: «Забери эту бумагу, я не могу, нет сил» [51]. После этой операции Островский категорически отказывается от каких бы то ни было дальнейших операций, в том числе и от операции глаз. — Точка. С меня хватит. Я для науки отдал часть крови, а то, что осталось, мне нужно для другого, — говорил Николай» [52]. В апреле 1930 года он покидает клинику 1-го МГУ. 30 апреля Островский в письме к Р. Б. Ляхович подводит итог пережитому: «Итак, я, получив еще один удар по голове, инстинктивно выставляю руку, ожидаю очередного, гак как я, как только покинул Сочи, стал учебной мишенью для боксеров разного вида, говорю — мишенью потому, что только получаю, а ответить не могу. Не хочу писать о прошлом, об операции и всей сумме физических лихорадок. Это уже прошлое. Я стал суровее, старше и, как ни странно, еще мужественнее, видно потому, что подхожу ближе к конечному пункту борьбы. Профессора-невропатологи установили категорически— у меня высшая форма психостении. Это верно… Ясно одно, Розочка, нужна немедленная передвижка, покой и родное окружение… Тяжелый, жуткий этап пройден. Из него я выбрался, сохранив самое дорогое, — это светлую голову, неразрушенное динамо, это же каленное сталью большевистское сердечко, но исчерпав до 99 % физической силы». 11 сентября уже из Сочи он пишет П. Н. Новикову: «О всех прошлых месяцах сумятицы не буду тебе писать. К чорту! Это сплошной клубок из боли и крови, чуть не стоящий мне жизни. Удовлетворяет меня лишь то, что я все же пока ушел от смерти, или она удрала от меня. Прибавился еще один громадный шрам, но не боевой — лазаретный, и только…» Даже и эти страшные месяцы, проведенные в клинике и названные им самим впоследствии «сплошным клубком из боли и крови», не сломили Николая Островского, не заставили его замкнуться в самом себе и жить лишь своими страданиями. — Что нового на заводе? Рассказывай, — обращался он обычно к навещавшей его ежедневно жене. — Не упускай никаких мелочей. Через тебя я ведь живу с заводом и часто бываю у вас там, у конвейера[53]. И он действительно находился в курсе всей жизни завода. Больше того! Он участвовал в борьбе заводского коллектива за выполнение производственного плана. Р. П. Островская вспоминает, как она однажды пришла в клинику и поделилась с мужем мыслью об организации у них на заводе бригады ударников. Движение это тогда только развертывалось. Островский загорелся. «С сегодняшнего дня, — сказал он ей, — мы с тобой на равных правах будем работать над организацией бригады». И он действительно стал не только организатором этой бригады, но затем и ее заочным руководителем. Он хорошо знал каждого из членов бригады, ежедневно проверял и направлял их работу, помогал им преодолевать трудности. Ему отлично были известны все «узкие места» производства. Работницы обращались к нему за советом, и он с радостью отвечал им. «Как-то я задержалась на работе, — пишет Р. П. Островская. — Что так поздно? — спросил Николай. — Опять прорыв, опять подтягивали план? Когда у вас научатся работать равномерно? — Нет, Коля, задержалась из-за непланового партсобрания.
 Н. А. Островский с женой Р. П. Островской (1936).
Н. А. Островский с женой Р. П. Островской (1936).
— Ну-ну, интересно, давай-ка подробнее рассказывай». Он внимательно выслушал ее и затем удовлетворенно сказал: «— Ну вот я и побывал на вашем собрании». Находясь в клинике, Островский не только «стоял» у заводского конвейера и «присутствовал» на заводских партсобраниях. Он жадно расспрашивал жену обо всей жизни Москвы, о ее строительстве, о внешнем облике улиц, площадей, зданий. Он узнавал, на какой улице расположено то или другое учреждение, какие именно проходят там номера трамваев. После таких расспросов он мысленно подолгу «бродил» по столице, «посещал» театры, кино. — Когда тебе не хочется сидеть дома, что ты делаешь? — спрашивал он пришедшего к нему друга. — Уходишь… А я не могу. Когда тебе не хочется быть с людьми, даже с самыми близкими, ты можешь уйти, побыть один часа два-три, подумать. Некоторые уходят на охоту, другие ищут развлечений, уезжают в театр. Для меня все это невозможно. Но я хочу быть там, где я не могу быть. И для этого я должен оставаться один, мыслями своими уносясь туда, куда меня тянет. — Раюша, я достал гостевой билет на IV сессию ВЦИК, — обратился он однажды к жене. — Пойди, но с условием, что дашь мне подробный отчет. Перед операцией это будет мне зарядкой. Так он «побывал» и на сессии ВЦИК. Один из его соседей по койке вспоминал впоследствии, как Островский, столкнувшись в клинике с непорядками, пошел в атаку. Прикованный к клинической койке, он участвовал даже и в чистке местной партийной организации. Больной много читает, вернее — слушает то, что ему читают им же мобилизованные для этой цели больные с ближних коек, сиделки, навещающие его друзья. В часы «отдыха» он снова и снова рассказывает им эпизоды из прошлого, — рассказывает об «одном своем знакомом рабочем пареньке», который беззаветно дрался за власть Советов, был дважды ранен в бою, организовывал комсомольские ячейки, строил узкоколейку в лесу, наполненном бандитами… Он рассказывает с огоньком, будто читает еще никому не известную берущую за душу книгу. В апреле 1930 года Островский, выписавшись из клиники, получает в Москве комнату в старом особняке по Мертвому переулку, № 12 (между Кропоткинской и Арбатом). Жена по его настоянию остается работать в Москве, а он, немного отдохнув, отправляется в Сочи — к матери, чтобы в последний раз полечиться мацестинскими ваннами Ч. Он сознавал, что находится у конечного пункта борьбы: большего ему не добиться. Здоровым ему не стать никогда. Он понимал теперь это совершенно отчетливо. Ясное сознание своего физического поражения в борьбе с болезнью, однако, не ослабляло воли к свершению главной мечты; впрочем, теперь он уже не только мечтал, — он твердо решил, что непременно напишет книгу обо всем, что видел и пережил, чему сам был участник. Писать можно, не видя и не двигаясь. Он проверял, овладел ли необходимым для достижения этой цели оружием? Готов ли? В Сочи Островского встретил старый приятель по Евпатории И. П. Феденев. За три года, минувшие после первой встречи, они не встречались. «Слушая его рассказы в санатории «Майнаки», — вспоминал потом Феденев об Островском, — я видел тогда в нем страстного агитатора, прошедшего суровую школу борьбы. Теперь же он вырос в советского интеллигента-большевика с большим запасом знаний» [54]. Да, это уже не прежний Островский. Впоследствии, став прославленным писателем, он с полным основанием сможет сказать о себе то, что сказал московскому корреспонденту английской газеты «Ньюс кроникл»: «Огромная работа над собой сделала из меня интеллигента… Больше всего учился, когда заболел: у меня появилось свободное время. Я читал до двадцати часов в сутки. За шесть лет неподвижности я прочел огромную массу книг». Он вооружался для решительного броска вперед. В пору, когда «контрольная черточка» его жизни достигла предела и казалось, что наступил конец, он ринулся на прорыв. Островский писал П. Н. Новикову из Сочи 11 сентября 1930 года: «У меня есть план, имеющий целью наполнить жизнь содержанием, необходимым для оправдания самой жизни. Я о нем сейчас писать не буду, поскольку это проект. Кратко: это касается меня, литературы и издательства «Молодая гвардия»… План этот очень трудный и сложный. Если удастся реализовать, тогда поговорим. Вообще же непланированного у меня ничего нет. В своей дороге я не «петляю», не делаю зигзагов. Я знаю свои этапы, и пока мне нечего лихорадить. Я органически, злобно ненавижу людей, которые под беспощадными ударами жизни начинают выть и кидаться в истерику по углам. То, что я сейчас прикован к постели, не значит, что я больной человек. Это неверно. Это чушь! Я совершенно здоровый парень. То, что у меня не двигаются ноги и я ни черта не вижу, — сплошное недоразумение, идиотская шутка, сатанинская! Если мне сейчас дать хоть одну ногу и один глаз, я буду такой же скаженный, как и любой из вас, дерущихся на всех участках нашей стройки». Потрясающее по силе воли письмо! В нем — дерзкий вызов, брошенный смерти в момент, когда она готова была торжествовать. Разработанный Островским план возвращения к жизни, намеченный им путь ясен. Врачи бессильны; они не могут остановить разрушительный процесс в его организме. Ему никогда уже не встать, ничего не увидеть, никуда не шагнуть. Ну что ж! «До тех пор, пока у большевика стучит в груди сердце, он не вправе признавать себя побежденным. В нашу насыщенную грозами эпоху требуются стальные характеры с предельной выносливостью. Таким должен быть каждый большевик, идущий за такими вождями, как Ленин и Сталин». Так именно думал Островский, намечая свой дальнейший маршрут. Выход есть: он шагнет в жизнь со страниц своей книги. Он давно знал, что хочет рассказать молодому поколению, идущему на смену. Это будет исповедь воина революции, которого никакие испытания не могли заставить отступить. Что бы то ни было, — он продолжал борьбу за счастье человечества и видел впереди грядущую победу. Он поведет беседу с юношами и девушками» которым предстоит упрочить честь и славу своей социалистической отчизны, защитить мир от фашистского варварства, спасти цивилизацию. Его «знакомый рабочий паренек» — Павел Корчагин — поведет за собой корчагинцев.
РАБОТА НАД РОМАНОМ «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»
Силы убывали. Нужно было торопиться: внезапная случайность может оборвать жизнь, и ему не удастся осуществить свой план. В конце октября 1930 года Островский в сопровождении сестры уезжает из Сочи в Москву. — Придется начать штурм, — твердо сказал он жене, возвратившись вновь в свою московскую комнату. И он начал этот долго подготовляемый штурм. Р. П. Островская вспоминает: «Как-то в один из зимних вечеров Николай попросил меня переписать несколько станиц, исписанных его рукой. В этот вечер он был оживлен более чем обычно, и против обыкновения стал меня торопить: — Давай, Раюша, скоренько покушай, а потом я тебе дам работу. — Какую? — Сама увидишь, заканчивай возню с едой. Я наспех организовала ужин. Не дав убрать посуду, Николай попросил достать из чемодана несколько листов, исписанных его рукой. — Вот, — сказал он, — перепиши все поаккуратней. Я приняла исписанные страницы за письма к друзьям, которые Николай иногда писал сам. — А зачем их переписывать, ведь ты же посылал раньше в таком виде, — возразила я. — Нет, это надо переписать, и кое-что я добавлю. Я села переписывать. Писала минут двадцать-тридцать. Николай прерывал, сердился, что пишу медленно. — Неужели еще не переписала? Ты не вчитывайся, а пиши. Времени уже много, а мне еще кое-что надо записать. Когда же я кончила, он попросил меня: — Теперь садись рядом, возьми чистую бумагу, я буду тебе диктовать продолжение того, что ты переписала. Только уговор — не прерывай меня, не расспрашивай, не удивляйся, пиши все, что буду диктовать. После узнаешь все. Писала в этот вечер долго. Помня просьбу Николая, я боялась прерывать его. Рука онемела, от усталости клонило ко сну, а он все диктовал и диктовал, ровно, сосредоточенно. Невидящим взглядом смотрел он перед собой, и казалось, он видит проходящие перед ним и видимые ему одному картины и рассказывает мне о них… Часто я нерешительно вставляла: — Минуточку, Коля, я не успела. Он нетерпеливо морщился и торопливо досказывал возникшую перед ним картину, словно она медленно уходила от него. Он торопился. Перед моими глазами развертывалось широкое полотно, которое отражало картины нашего недалекого героического прошлого»[55].
 Дом в Москве, где Н. Островский начал писать «Как закалялась сталь» (1930).
Дом в Москве, где Н. Островский начал писать «Как закалялась сталь» (1930).
В огне гражданской войны и в мирных строительных буднях закалялось его поколение. Островский назвал свою книгу «Как закалялась сталь»[56]. Сопротивление материала было необычайным. Видения вспыхивали в его мозгу и тревожили днем и ночью. Память должна была всегда хранить образы людей, события, даты. Самые чудесные и яркие картины могли ускользнуть. Самые могучие страсти могли остыть. Самые трогательные и искренние чувства могли не дойти до читателя. Островский передавал состояние Корчагина: «Все, что писал, он должен был помнить слово в слово. Потеря нити тормозила работу. Мать со страхом смотрела на занятия сына. В процессе работы ему приходилось по памяти читать целые страницы, иногда даже главы, и матери порой казалось, что сын сошел с ума. Пока он писал, она не решалась подойти к нему и, лишь подбирая соскользнувшие на пол листы, говорила робко: — Ты бы чем-нибудь другим занялся, Павлуша. А то где же это видно, писать без конца… Он смеялся от души над ее тревогой и уверял старушку, что он еще «не совсем сошел с катушек». Островский не «сошел с катушек». Но вряд ли кто и когда-либо из писателей пережил такие творческие муки, какие пережил он. К «матрацной могиле» прикован был последние десять лет своей жизни известный немецкий поэт Генрих Гейне. Он тоже ослеп, потерял способность двигаться. Все же это были последние десять лет. Им предшествовали почти пятьдесят лет жизни, тридцать лет творчества. Им предшествовали Боннский, Геттингенский, Берлинский университеты, путешествия по Италии и Франции, «Книга песен», «Зимняя сказка», «Атта Троль», встречи и дружба с Марксом — большой, насыщенный и счастливо пройденный путь. В «матрацной могиле» рождались лишь мрачные и скорбные образы «Романцеро» и «Лазаря», видения смерти, прощанье с жизнью. Двадцатипятилетний Островский же в состоянии, несравненно более тяжком, лишь начинал новую страницу своей биографии; он приблизился к двери литературы и готовился открыть ее, неся перед собою одну из самых жизнеутверждающих книг, когда-либо написанных писателем. Однажды прикованного к постели Генриха Гейнс навестил его друг Мейснер. Поэт прочитал ему несколько новых стихотворений. — Никогда не писали вы ничего подобного, и никогда ничего подобного не слыхал я! — сказал Мейснер. Гейне ответил: — Не правда ли? Да, я сам знаю — это прекрасно, ужасающе прекрасно! Это жалоба, выходящая как бы из гроба, тут кричит во тьме заживо погребенный. Да, да, таких звуков еще не слышала немецкая лирика, да и не могла их слышать, потому что до сих пор ни один поэт не находился в таком положении. Муки его были действительно страшными, и поистине подвигом была каждая строка, написанная им в «матрацной могиле». Но какою же мерою можно тогда измерить подвиг писателя, который перед лицом таких же, а может быть, и еще более мучительных испытаний отказался признать себя заживо погребенным и каждой строкою своею утверждал великое счастье активной борьбы и всепобеждающее торжество справедливой советской жизни! И если ослепший английский поэт XVII века Джон Мильтон уподобил себя в поэме «Самсон» библейскому богатырю, то с кем же можно сравнить Островского?! «Я взялся за непомерно тяжелый труд. Все против меня», — пишет он Р. Б. Ляхович 28 мая 1931 года. Действительно, все было против него. Кто из начинающих писателей не знал записной книжки, черновика, предварительной работы над словом? Островский прекрасно понимал, что «никогда мысль не ляжет так четко, когда пишет не твоя рука… Есть мысли, есть вещи, которые может изложить только своя рука». И он лишен был в самом начале своего пути этой необходимейшей для писателя возможности. Вызывая своим воображением образы прошлого, рисуя картины пережитого, он все время должен был держать их в своей памяти. «Когда картина обрывается, то обрывается и запись». Он слушал «Неведомый шедевр» Бальзака — потрясающую исповедь художника, воссоздающего жизнь: «— …Посмотрите на свою святую, Порбус! С первого взгляда она кажется прелестной, но, рассматривая ее дальше, замечаешь, что она приделана к полотну и что ее нельзя было бы обойти кругом. Это только силуэт, имеющий одну лицевую сторону, только вырезанная поверхность, только изображение, которое не могло бы ни повернуться, ни переменить положение; я не чувствую воздуха между этими руками и фоном картины; недостает пространства и воздуха; но, меж тем, законы удаления вполне выдержаны, воздушная перспектива соблюдена точно; но, несмотря на все эти похвальные усилия, я не могу поверить, чтобы это прекрасное тело было оживлено теплым дыханием жизни; мне кажется, что, если я приложу руку к этой полной груди, я почувствую, что она холодна, как мрамор! Нет, друг мой, кровь не течет под этой нежной кожей, жизнь не разливается пурпурной росой по венкам и жилкам, переплетающимся сеткой под янтарной прозрачностью виска и груди. Вот это место — дышит, но а вот другое совсем неподвижно, жизнь и смерть борются в каждой подробности; здесь чувствуется женщина, там — статуя, а дальше — труп. Твое творение несовершенно. Ты сумел вдохнуть только часть своей души в свое любимое творение. Факел Прометея угасал не раз в твоих руках, и небесный огонь не коснулся многих мест твоей картины». Взыскательность по отношению к самому себе была всегда постоянным и неизменным принципом Островского. Поэтому ему стало понятным и близким требование высокой взыскательности художника. Он признавал лишь путь наибольшего сопротивления и не допускал никаких скидок и послаблений. — Сие ремесло требует большого таланта. А чего «с горы» не дано, того в аптеке не купишь, — улыбаясь, повторял он старую чешскую пословицу. — Говорят иногда: «Эта тема устарела». Неправда, нет устарелых тем… Лишь бы суметь воплотить ее в новых образах, оживить ее грани новыми красками. Факел Прометея не раз угасал в его руках, но он воспламенял его снова и снова не частью своей души, а ею всей, целиком. Подвиг? Да, это был постоянно, ежедневно и ежечасно совершаемый подвиг. В Москве, в Музее Николая Островского, выставлены оригиналы его рукописей. Они дают зримое представление о его труде. У него не было еще помощников. Жена с утра уходила на работу и возвращалась вечером, утомленная. Плохо повинующимися пальцами слепой писатель сжимал карандаш и тщательно чертил наощупь букву за буквой. Часто строка наползала на строку и гибла. Потом было изобретено простое средство — транспарант. Транспарант представлял собой обыкновенную картонную папку для бумаги. В верхней крышке этой папки вырезаны поперечные параллельныеполоски шириною около 8 миллиметров. Когда в папку вкладывали бумагу, то вырезанные щели вели карандаш прямой строкой.
 Транспарант, при помощи которого писал Н. Островский.
Транспарант, при помощи которого писал Н. Островский.
 Страница рукописи Н. Островского, написанная при помощи самодельного транспаранта.
Страница рукописи Н. Островского, написанная при помощи самодельного транспаранта.
В начале 1931 года в Москву приехала Ольга Осиповна, затем брат Раисы Порфирьевны — Владимир. Было уже кому диктовать. Но на площади в семнадцать метров поселилось семь человек. Рассказывая о своей работе над книгой, Островский в ряду важнейших и непременнейших условий назвал… тишину. Помимо неустанного стремления к труду, упорства, необходима тишина. «Без нее, действительно, нельзя работать». Однако тишины-то он тогда и лишился. Он чаще всего писал по ночам, когда все засыпали. Прежде чем лечь спать, родные вкладывали в папку транспаранта листов 25–30 чистой бумаги и вручали ему вместе с несколькими отточенными карандашами. За ночь он обычно исписывал всю бумагу. Начиная страницу, он в первом ее углу ставил порядковый номер и затем, не отрывая кисти руки от транспаранта, чтобы не ошибиться и дважды не пройти карандашом по одному и тому же месту, писал до конца страницы. Дописав ее, он вытаскивал исписанный листок. Лист падал на пол. Затем писалась новая страница. К рассвету папка-транспарант оказывалась пустой, а пол комнаты — усеянным исписанными листами. Утром их бережно подбирали и складывали по порядку нумерации. Затем написанное расшифровывалось и переписывалось родными и друзьями в специальные блокноты. И здесь, среди помощников Островского, людей, о которых мы должны сохранить добрую память, нужно назвать его квартирную соседку Галю Алексееву. О ней писал он: «В одной с ним (с Корчагиным. — С. Т.) квартире жила семья Алексеевых. Старший сын, Александр, работал секретарем одного из городских райкомов комсомола. У него была восемнадцатилетняя сестра Галя, кончившая фабзавуч. Галя была жизнерадостной девушкой. Павел поручил матери поговорить с ней, не согласится ли она ему помочь в качестве «секретаря». Галя с большой охотой согласилась. Она пришла, улыбающаяся и приветливая, и, узнав, что Павел пишет повесть, сказала: — Я с удовольствием буду вам помогать, товарищ Корчагин… С этого дня дела литературные двинулись вперед с удвоенной скоростью. За месяц было так много сделано, что Павел даже удивился. Галя своим живейшим участием и сочувствием помогала его работе. Тихо шуршал ее карандаш по бумаге — и то, что ей особенно нравилось, она перечитывала по нескольку раз, искренне радуясь успеху». В этом отрывке из романа «Как закалялась сталь» все достоверно за исключением упоминания о том, что Галя Алексеева окончила фабзавуч. В самом же деле она служила бухгалтером в клубе театральных работников; с двух до восьми находилась на службе, а с десяти утра и иногда вечерами работала с Островским. В письмах, адресованных уже из Сочи, Островский не раз вспоминал «милого товарища Галю» и жаловался на то, что второй его книге нехватает ее «золотых ручонок». Галя Алексеева верила в писательский талант Островского и поддерживала в нем эту веру. «— Чего вы хмуритесь, товарищ Корчагин? Ведь написано же хорошо! — спрашивала милая Галя, его первый «секретарь». — Нет, Галя, плохо. После неудачных страниц начинал писать сам. Скованный узкой полоской транспаранта, иногда не выдерживал — бросал. И тогда в безграничной ярости на жизнь, отнявшую у него глаза, ломал карандаши, а на прикушенных губах выступали капельки крови». Сколько раз действительно выступали капельки крови на прикушенных губах Островского, когда он диктовал свой роман той же Гале Алексеевой! — Ворошилов и Буденный, — подстегивал себя Островский, — семнадцать раз в день водили наши части в атаку под Новоград-Волынском — и победили. Что было бы, если бы они отказались с первого раза? Он готов был десятки раз в день «бросаться в атаку». В постоянной борьбе с тяжелым недугом во имя торжества жизни находил он свою радость. Он говорил: — Я живу огромной радостью побед нашей страны, несмотря на свои страдания. Нет ничего радостнее, как побеждать страдания. Не просто дышать (и это прекрасно:), а бороться и побеждать. Трагедия — прежде всего прекращение борьбы. «Это признание шло из глубины сердца. — Видал таких чудаков? Нашли у меня 'сто процентов потери трудоспособности, — отбивался он от врачей. — Разве можно считать на сто процентов нетрудоспособным! большевика, у которого все еще стучит сердце? Когда же люди научатся понимать такие простые вещи?.. Сознание того, что он может скоро погибнуть, не обессиливало его. Наоборот, оно мобилизовало все его силы, все его жизненные ресурсы для преодоления трудностей. — Чем больше наступает на меня болезнь, — говорил он, — тем ожесточеннее я борюсь с ней. Основное мое средство борьбы — работа. Весь 1931 год прошел в горячем труде. Не дожидаясь окончания первой части романа, он посылает отдельные главы на суд своим друзьям: Новикову и Ляхович — в Харьков; Жигиревой — в Ленинград, Хоруженко — в Новороссийск, брату Дмитрию — в Шепетовку. В Москве рукопись читает Феденев. Островский писал 4 июля 1931 года П. Н. Новикову: «Со дня на день ожидаю приговора. Я бросился на прорыв железного кольца, которым жизнь меня охватила. Я пытаюсь из глубокого тыла перейти на передовые позиции борьбы и труда своего класса. Неправ тот, кто думает, что большевик не может быть полезен своей партии даже в таком, казалось, безнадежном положении. Если меня разгромят, я еще раз возьмусь за работу… Я должен, я страстно хочу получить «путевку» в жизнь. И как бы ни темны были сумерки моей личной жизни, тем ярче мое устремление». Слова не разошлись у него с делом. В июле готовы были только пять глав романа. В октябре уже девять, вся первая часть. Он сказал Гале Алексеевой: — Ну, Галочка, если книга будет принята, мы устроим вечер итогов и отпразднуем победу нашей совместной работы. И на этот раз мы будем «пьянствовать». Ты выпьешь рюмку вина, а я — стакан сельтерской воды. Но знай, что несовершенное «дитя» мое критики будут бомбить со всех сторон. Впрочем, меня это не пугает. Во-первых, критика помогает исправлять свои ошибки, во-вторых, научит всех, кто еще не опытен, и в-третьих — плоха та книга, о которой молчат… — А что, если весь мой труд уже лежит в мусорной корзине? — задал он вопрос самому себе. И отвечал со всей беспощадной прямотой: — Это будет моим концом. Это значит, что больше ничем я уже не смогу быть полезным… Но зато, если мне подадут хоть какую-нибудь надежду на то, что книга может быть принята, пусть после очень больших изменений, я переделаю повесть еще раз, и еще, и еще — столько раз, сколько от меня потребуют. И я добьюсь. Пусть это будет через пять-десять лет, но знамя — знамя начала моей новой жизни — заполощет… Островский не самообольщался, не склонен был переоценивать результаты своего труда. Напротив. Он чрезвычайно критически относился к сделанному и ждал от друзей прямого, честного, взыскательного суждения. «Всего несколько дней, как я выбрался из тяжелого недуга, — писал он 25 октября А. А. Жигиревой. — Мое физическое состояние надавило на девятую главу тяжелым прессом. Она получилась не так, как я хотел. Она должна была быть шире и полнее и вообще должна быть ярче. Но, Шурочка, разве хоть один товарищ писал в такой обстановке, как я? Наверно, нет» И в конце: «Я очень критически отношусь к написанному, где много недостатков. Но ведь это моя первая работа. Если ее не угробят по первому разряду, если она окажется литературно ценной, то это будет для меня революция». Он обращался к Р. Б. Ляхович: «Эх ты, самокритик! Я же просил: говори, где плохо, что плохо, ругай, издевайся, язви, подвергай жесточайшей критике все дубовые обороты, все, что натянуто, не живо, скучно, крой до корня. А ты что? Молчишь. Нет большевистской смелости это сказать. Я тебе этого не хочу простить. Это не коммуна, а парламент. Да, дитя, бить за это надо. Я очень сердит». Здесь нет ничего от позы, от жеста, от игры в скромность. Островский терпеть не мог лжи ни в чем, ни в каких видах и дозах. Он был готов к тому, что неопытную его книгу опытные литераторы разгромят, и даже склонен был заранее оправдать этот «разгром» — настолько высоки его требования к литературе. Какое дело читателю до того, кто автор книги и в какой обстановке она писалась? Качество — вот единственный критерий. «В литературу входят ударные массы, и редакции захлебнулись от тысячи рукописей, из которых свет увидят единицы». Так оно и должно, по его мнению, быть. Терзали сомнения: увидит ли свет «Сталь»? Почему так долго молчат друзья? Не хотят своим отрицательным отзывом обидеть больного? Но он ведь готов ко всему. 9 декабря 1931 года, уже после того, как была закончена первая часть романа, Островский писал А. А. Жигиревой: «Я не могу себя расстреливать, не пытаясь проверить еще возможности быть партии не балластом. Я берусь за литучебу всерьез… И знаю, что смогу написать лучше. При упорной учебе, при большом труде можно дать качество». Он отметал прочь самую возможность снисходительной оценки его труда, скидки на состояние здоровья автора и сжигал все мосты, примиряющие с недостатками. Островский утешал А. А. Жигиреву: «Я уже решил, что меня в редакции разгромили и что тебе тяжело мне об этом сообщить. Но пусть тебя это не смущает, я ведь это предвидел». Предчувствие не обманывало его. А. А. Жигирева, прочитав рукопись, отнесла ее в Ленинградское государственное издательство. Там пообещали ее быстро прорецензировать. Но прошло несколько месяцев, а издательство не отвечало. В это время проходил всесоюзный смотр комсомольской литературы, и находившийся в Москве И. П. Феденев передал другой экземпляр рукописи издательству «Молодая гвардия». Здесь ее прочли скоро. Однако рецензент пришел к выводу, что «выведенные типы нереальны», а посему, мол, «рукопись не может быть принята к печати»[57]. Долгое время Феденев не решался сообщить этот отзыв Островскому. «Однако, — пишет он, — мне вспомнились слова Коли: самая горькая правда мне дороже слащавой лжи. Он не любил, когда от него что-нибудь скрывали. И я решил рассказать все, как было. Мне не пришлось успокаивать его. Наоборот, к великому моему изумлению, он стал успокаивать меня — «Теперь столько расплодилось писателей, и все хотят, чтобы их печатали. Если рукопись забракована, значит она действительно плоха. Нужно поработать еще, чтобы сделать ее хорошей. Победа дается не легко»[58]. Первыми поддержали и окрылили молодого автора комсомольцы его родного города — Шепетовки — и ближайшие друзья. В декабре приехал из Шепетовки брат Островского. Он передал, что на комсомольском активе пять часов читались главы из романа. Работу одобрили. «Сколько противоречий, сколько горечи и туг же рядом надежд на полезную, творческую жизнь, — писал в этой связи Островский. — Мне дорого и волнует то, что в городке, про который я писал, выносит молодежь резолюцию одобрения». Радовало и письмо А. А. Жигиревой, в котором она передавала свое личное впечатление от прочитанных глав. Письмо ее вызвало в душе Островского такой отклик: «Знаешь, родная, у меня сердце забилось, когда его читали. Неужели, думаю, мне счастье подает руку и я из глубокого архива перейду в действующую армию? Неужели, думаю, ты, парнишка, сможешь возвратить своей партии хоть часть задолженности и перестанешь прогуливать? И я себя остужаю: «Сиди тише, парень, не увлекайся, жизнь может стукнуть по затылку за увлечение мечтами». И я, чтобы не так обидно было потом, не верю себе. Жизнь требует верить только фактам». Решающим фактом, которому поверил бы, который способен был убедить его в том, что счастье протянуло ему руку, могло быть только появление романа в печати. Торопясь «возвратить своей партии хоть часть задолженности», он обратился в редакцию шепетовской газеты «Путь Октября» с предложением организовать из молодняка литературную группу. Ему ответили согласием, и он стал заочным руководителем этой группы. Из Шепетовки в Москву Островскому присылали стихи, рассказы. Он отбирал лучшие из них, консультировал. Скоро в газете появилась литературная страница; она выходила затем еженедельно. Островский жил этим. Внимательно и бережно относился он к молодым, пробующим свои силы литераторам; ведь он и сам находился в их положении. Тем временем И. П. Феденев, потрясенный той отрицательной рецензией, которую рукопись Н. А. Островского получила в издательстве «Молодая гвардия», потребовал вторичного рецензирования романа. Издательство согласилось. В качестве нового рецензента был назван заместитель редактора журнала «Молодая гвардия» М. Колосов. В феврале 1932 года к нему и явился И. П. Феденев. «Как сейчас помню морозный зимний день, — вспоминает Марк Колосов. — В редакцию вошел высокий пожилой человек. В одной руке у него была трость, а в другой увесистая папка. Бережно достав закоченевшими от холода руками отпечатанную на машинке рукопись, посетитель неторопливо повел рассказ о том, как он познакомился с автором рукописи. Молодой человек поразил его своим необычайно жизнерадостным мироощущением, между тем как тело этого молодого человека подвергалось медленному разрушению»[59]. Сама рукопись заинтересовала нового рецензента еще более, нежели рассказ о личности ее автора. Он разглядел в прочитанном романе произведение большой моральной силы, необычайно нужное для советских читателей. Вместе с Феденевым отправился Колосов на Пречистенку, в переулок, носивший странное название «Мертвый» (позднее он будет назван именем Николая Островского). Впоследствии М. Колосов рассказал об этом посещении: «Передо мной, на узкой, длинной, походной кровати, лежал молодой человек лет двадцати восьми, отличавшийся невероятной худобой. Лицо его казалось еще более истощенным от того, что голова была довольно крупной, с высоким и большим лбом, окаймленным густой копной темных волос. Карие глаза слепого выглядели, как у зрячего, без той стеклянной неподвижности и напряженности, которая обычно свойственна слепым. В них были теплота и блеск и выражение приветливости. Тело молодого человека было неподвижно, но я почувствовал, как он сделал внутреннее движение, словно устремился мне навстречу. Лицо его озарилось улыбкой, в которой были одновременно и выражение добродушия, и любопытство, и внимание, и какая-то с трудом сдерживаемая боль. Он протянул мне влажную худую руку. Я протянул свою. Он крепко сжал се и, усадив меня возле себя, все время не отпускал моей руки… Я начал прямо с рукописи, без предисловий и расспросов. Островский еще сильнее стиснул мою руку. С лица его исчезла улыбка, губы сжались, он был теперь весь внимание. Казалось, он старался не пропустить ни слова из того, что говорилось ему. И только пожатием руки отзывался на то, что было ему в моих словах особенно важно. Затем мы перешли к практическим вопросам: способен ли Островский сам исправить свою рукопись или ему потребуется человек, который сделает это за него? Островский отказался от такой помощи. Я понял: передо мной был настоящий литератор». Свидание Колосова с Островским произошло 21 февраля 1932 года. 22 февраля в письме, адресованном А. А. Жигиревой, Островский продолжал все еще «остужать» себя и называл свершившееся лишь почти победой. «Почти… Ведь Ильич предупреждал на слово не верить». Островский подготавливал рукопись к печати Редакция поражалась его работоспособности. Начинать печатание романа можно было уже с апрельской книжки журнала. Он торопился. Сбывалась, наконец, его заветная мечта, хотелось как можно скорее увидеть рукопись напечатанной. Лихорадящее чувство это известно каждому начинающему писателю. Однако и в этот период, ощущая близость победы, он остается максимально взыскательным к себе. Главным неизменно оставалась для него попрежнему забота о качестве работы. Островский перенес в феврале и марте два приступа крупозного воспаления легких, двенадцать дней пролежал он с высокой температурой. Но когда его навестила А. Караваева, редактор журнала «Молодая гвардия», то он ждал от нее не сочувствия, а указаний, что и где осталось недоделанным в рукописи. «Николай жадно интересовался, какое впечатление произвели на нас его герои. — Павка, по-моему, парнишка даже очень неплохой, — говорил он с юмористическим лукавством, сверкая белозубой улыбкой. — Я и не думаю, конечно, скрывать, что Николай Островский с Павкой Корчагиным связан самой тесной дружбой. Он и разумом и кровью моей с делан, Павка этот самый… Но мне вот что еще интересно: не кажется ли мой роман только автобиографией… так сказать, историей одной жизни? А? Улыбка его вдруг сгасла, губы сжались, лицо стало строгим и суровым. Мне вспомнился старый токарь-металлист, которого однажды довелось наблюдать в момент, когда он сдавал комиссии важную деталь какой-то машины. Такой же неподкупной взыскательностью дышало лицо Николая Островского. Так смотрит командир на молодых бойцов, взыскательно проверяя их знания, техническую сноровку, выправку, походку. Герои Островского как будто проходили перед его требовательным и строгим! взором, а он проверял их жизнеспособность. — Я нарочно ставлю вопрос остро, потому что я хочу знать: хорошо ли, правильно ли, полезно ли для общества мое дело? Есть немало единичных случаев, которые интересны только сами по себе. Посмотрит на них человек, даже полюбоваться может, как на витрину, а как отошел, так и забыл. Вот такого результата каждому писателю, а мне, начинающему, особенно, бояться надо. Я сказала, что в отношении какой-нибудь «единичности» ему как раз бояться нечего. Он мягко прервал меня: — Только условимся: успокаивать меня по доброте сердечной не надо! Мне можно говорить прямо и резко обо всем… Я же военный человек, с мальчишек на коне сидел… и теперь усижу!.. И хотя губы его дрогнули и улыбка вышла нежная и смущенная, я вдруг с предельной ясностью почувствовала, как крепка, как несгибаема его воля. В то же время я почувствовала себя необычайно счастливой, что могу обрадовать его. — Значит, полюбят моего Павку? — спросил он горячим полушопотом, и лицо его, как солнцем, осветилось безудержно счастливой улыбкой, зарумянилось, похорошело. — Значит, полюбят Павку?.. И других ребят тоже?.. Значит, ты, товарищ Островский, недаром живешь на свете — опять начал приносить пользу партии и комсомолу? Мы уже перешли на «ты», разговор наш временами перебрасывался на разные темы, но неизменно возвращался к роману, Николай очень интересовался, как мы с Марком Колосовым правили его роман. Когда я рассказывала, как мы выкидывали из романа разного рода «красивости», он весело хохотал и с тем же лукавым юмором посмеивался над неудачными словами и оборотами. — Гоните их, гоните эти словеса! Какое-нибудь этакое «лицо, обрамленное волной кудрей»… Фу, от этого же действительно руки зачешутся! Потом сразу сказал серьезно и вдумчиво: — А знаешь, откуда берутся такие шероховатости? Скажешь, от недостатка культуры? Это — да, но прими во внимание еще одну причину — одиночество, в творческом смысле. Начал-то ведь я один, на свой страх и риск. Как мне дорого теперь, что у меня будут товарищи по литературе! О недостатках, о недостатках моих побольше! Надо их повсюду вылавливать! Он спрашивал, как удалась ему композиция романа в целом и отдельных мест, диалоги, описания природы, подчеркивания характерных черт героев, какие «прорехи» у него в области языка, сравнений, метафор, эпитетов и т. д. Каждый вопрос показывал, что он не только читал и думал о проблемах художественного творчества, но и в отношении многих из них был уже сложившимся человеком. Он совсем не походил на некоторых наших «молодых», которые нередко начинают совсем не так, как нужно: они не знают, что и почему они любят и ненавидят, чем обладают, о чем хотят говорить. Он как раз знал все это очень хорошо. — Да и как же иначе? Кто этого не знает, ют работает вслепую! — возмущался он. Брови его беспокойно двигались, он взволнованно вскидывал ресницы — и опять, и снова казалось мне, что черные его глаза видят, что они ясны, зорки, неутомимы. — Прославленный ты писатель или начинающий, о самом главном ты всегда обязан помнить: чем, мол, именно книга моя помогает гигантской работе партии, комсомола, советской власти, общества? Отвечай на этот вопрос точно, четко, будь к самому себе беспощаден!.. Если ты перед самим собой не умеешь быть правдивым, если не знаешь, как ответить, какая тебе цена после этого?»[60] Точно и четко мог ответить Островский на поставленный вопрос. Он был поистине беспощаден к себе. «Да здравствует труд и борьба!» — восклицал он. Долгожданная победа, наконец, пришла. В 1932 году в апрельской — четвертой — книжке журнала «Молодая гвардия» рядом со стихами А. Безыменского и В. Гусева, прозой Вилли Бределя и Матэ Залка, воспоминаниями ветерана Парижской Коммуны Густава Инара и статьями А. Луначарского и А. Фадеева было напечатано: Н. Островский. «Как закалялась сталь». Жизнь открылась для него во всю ширь.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ
Первая часть романа «Как закалялась сталь» печаталась в пяти номерах «Молодой гвардии» с апреля по сентябрь 1932 года[61]. Роман увидел свет в сокращенном виде; многие страницы в журнале были сокращены из-за «режима бумаги». В декабре того же года первая часть романа вышла отдельным изданием. Островский приступил к работе над второй частью. Еще в феврале он писал А. А. Жигиревой: «Я принимаюсь за литучебу и намечаю план новой работы. Но учеба и учеба…» С тех пор вплоть до 1933 года (сначала в Москве, затем в Сочи) он продолжал работать над второй частью «Как закалялась сталь». Кривая его жизни попрежнему колеблется и скачет. Его письма, подобно графику температуры, запечатлели эти взлеты и провалы; мы восстанавливаем по ним линию его самоотверженной борьбы.
 Дом в Сочи, на Приморской, 18, где Н. Островский работал над второй частью романа «Как закалялась сталь».
Дом в Сочи, на Приморской, 18, где Н. Островский работал над второй частью романа «Как закалялась сталь».
1932 год. Апрель «Нелепо разгоревшаяся болезнь оттянула работу над второй частью «Как закалялась сталь». Июнь «Я на-днях, наверно, уеду в Сочи, в санаторий… Стал кашлять кровью и физически ослаб… На литфронте все радует и ободряет к жизни, к труду, все зовет, дает толчок, дает напряжение в 100 тысяч вольт. Ненавижу все эти хворобы, как классового врага». Август «Я на свежем воздухе целые дни, под дубами. Начал работу». Октябрь «Моя жизнь — это работа и дружба друзей… Я стал суровее. Жизнь наша требует большой воли, упорства и веры в лучшее, большое, яркое, скорое будущее. Без этого упадочничество и уныние». Декабрь «Мною уже написана четверть второй книги. Борьба за качество… К партчистке я прихожу уже как трудящийся, а не как лодырь». «Беру все преграды, а их уйма, упорством. Суровы мои дни, но все силы, всю жизнь отдаю книге. Сам пишу, своей рукой… Спешу жить… Хочу написать, пока сердечко стучит». «Мое желание работать обратно пропорционально возможностям, и все-таки — движение вперед… Я устаю раньше, чем истекают созданные образы. В моем «секретариате» чудовищная текучесть. Как жаль, что здесь нельзя применить декрет СНК о прогульщиках… Я назло всем предсказаниям врачей о моей скорой гибели упорно продолжаю жить и даже иногда смеяться. Ученые эскулапы не учли самого главного: это качество материала их пациента. А качество вывезло. «Разве могут не победить те сердца, в которых динамо», — говорил Павка Корчагин в своей горячей речи в 21-м году. Это относится и ко мне». 1933 год. Январь «Сорвалось было мое здоровье. Залихорадило. Простудился. 20 дней ни одной строчки. Сейчас опять в труде». Февраль «Напряженно работаю». Март «Я работаю добросовестно, то-есть вкладываю в труд все наличие физических сил, пишу пятую главу… Мои силенки сгорают быстрее, чем бы я хотел, а отвратительные месяцы с непрерывными дождями и промозглой сыростью для меня убийственны. В груди играют марши, но зато незыблема упрямая воля и неудержимо стремление к труду. У нас партийная чистка. Шваль и балласт летят за двери, метут сурово и беспощадно. Глядишь — и сердцу приятно». Апрель «Стараюсь работать по совести. Кончаю седьмую главу». Июнь «Закончена и отослана в Москву вторая часть «Как закалялась сталь» — 330 печатных страниц. Усталость — громадная. Отсыпаюсь за бессонные ночи». «Мое настроение прекрасное. Как же может быть иначе? Вышел на первую линию по всем показателям — это в отношении темпов и интенсивности труда, каково же качество моей продукции— покажет будущее». Как мы видим, в состоянии здоровья Островского не произошло за это время никакого улучшения. Более того, напряженная работа над первой частью романа еще больше подорвала его организм. Центральная лечебная комиссия при ЦК ВКП(б) в июне 1932 года срочно направила его в сочинский санаторий «Красная Москва». Он уехал вместе с матерью и, закончив курс санаторного лечения, по настоянию врачей продолжал оставаться в Сочи. Один из обычных здешних декабрьских дней, — сырой и теплый день черноморской зимы, — оказался тем самым днем, о котором он мучительно мечтал на протяжении последних лет. В Сочи была получена вышедшая в отдельном издании первая часть романа «Как закалялась сталь», и Ольга Осиповна принесла из магазина Когиза связку авторских экземпляров. Островский попросил дать книгу ему в руки. Его тонкие быстрые пальцы ощупывали переплет, пробовали качество бумаги. Палец нащупал в переплете впадину тиснения. Невидящие глаза насторожились. Он пытался на ощупь определить рисунок на переплете. Пальцы то возвращались к нижнему краю переплета, то снова и снова пробегали по узкой полоске рисунка. Лоб нахмурился. Он напряженно думал, как бы проверяя себя и не веря догадке. «Неужели это штык?» — наконец спросил он. Да, это был блестящий серебряный штык, пересекавший наискось стальной фон коленкорового переплета. — Послушай, Лев, — обратился он к находившемуся здесь, в его комнате, другу Льву Берсеневу[62], — ведь это замечательно, ведь это тот самый штык, о котором писал наш друг Павел Корчагин брату Артему. Ведь это мой штык, мое новое оружие, которое позволит мне вместе со всеми вами, вместе с партией, со всей моей страной драться в строю бойцов за социализм! Его радости и торжеству не было предела. Он десятки раз просил подробно описать ему вид книги, рассказать, как выглядит переплет, на какой бумаге она напечатана, каким шрифтом. Просил узнать имя художника, нарисовавшего иллюстрации, — он хотел писать ему. Вечером Островский перечислил близких товарищей, которым хотел подарить книгу. Первой в списке значилась «матушка». Затем он продиктовал надписи и собственноручно под каждой подписался. На следующий день он заставил прочесть ему вслух всю книгу. Слушая ее, Островский испытывал и чувство огромной моральной удовлетворенности и чувство досады: редактор резал порой по живому мясу, — были вычеркнуты даже слова «самое дорогое, что есть у человека, — это жизнь…» Попадались грубые опечатки. К тому же он убеждался, что и сам не все изложил так, как хотелось. Вторая часть должна быть значительно ярче. После короткого отдыха снова началась работа. Комната его находилась на Приморской улице, в доме № 18. Во дворе росли многолетние дубы. За короткой фразой письма: «Целые дни под дубами» — кроются долгие дни поистине ударного труда. Обычно с утра Островского выносили на плетеном лежаке во двор и вставляли под раскидистой тенью деревьев. Он не переносил комнатной духоты. А здесь и в жаркий день было свежо и приятно. Двор выходил в Приморский парк; за парком начиналось море. Место было хорошее. Но квартира была тесновата: Островский переселился сперва в дом № 29 по Ореховой улице, затем — в дом № 47, окруженный фруктовыми деревьями и пышными кустами олеандров. Его часто навещала молодежь. В то время, в феврале 1933 года, познакомился с Островским главный врач Сочинской районной больницы Михаил Карлович Павловский. Больной, по понятным причинам, относился к врачам с недоверием. Случалось, кто-либо из родных, без его ведома, приглашал доктора. Узнав об этом! Островский рассерженно ворчал: «Ты вызвал (или вызвала) — пусть он тебя и осматривает. Мне он не нужен». На книге, подаренной одному из сочинских врачей, Островский написал: «От человека, который никогда не был порядочным больным и не будет». Но доктору М. К. Павловскому Островский поверил как-то сразу; они быстро сдружились. Павловский стал для молодого писателя близким, необходимым человеком.
 Переплет первого издания «Как закалялась сталь».
Переплет первого издания «Как закалялась сталь».
Островский тепло называл Павловского «юношей, убеленным сединами». На экземпляре «Как закалялась сталь», подаренном доктору, написано рукой автора; «Михаилу Карловичу Павловскому! На память о его упорной борьбе за возрождение отчаянной жизни парня». Действительно, в течение трех с половиной лет доктор М. К. Павловский[63] вел упорную борьбу за жизнь Островского. Бороться приходилось не только с болезнями. Забегая несколько вперед, скажем, что в конце 1934 года к Островскому в Сочи явился Казаков (тот самый, что участвовал в банде, злодейски умертвившей В. Р. Менжинского и А. М. Горького). Он применил «лекарства» и «методы», действие которых вызвало резкое ухудшение в состоянии больного. М. К. Павловский вмешался со всею решительностью. По его настоянию Н. А. Островский перестал выполнять предписания врача-убийцы. Позже, уже из Москвы, Ольга Осиповна, жалуясь находящемуся в Сочи Павловскому на то, что сын ее не следит за своим здоровьем, писала: «Вы единственный в медицине пользуетесь его доверием… Вас он слушался и лечился». Но Павловский был для Островского не только авторитетным врачом и даже не просто другом. Человек энциклопедических знаний, с живым, острым умом и юной душой художника, обладатель богатейшего жизненного опыта, Павловский был для Островского своеобразным «университетом на дому», постоянно желанным собеседником. Медик по специальности, он окончил, кроме медицинского, также юридический факультет и музыкальную школу, владел кистью и пером, хорошо рисовал, корреспондировал в газеты. Жизненный опыт его был богат и многосторонен. М. К. Павловский служил полковым врачом во время русско-японской войны и находился в действующей армии в качестве старшего врача артиллерийской бригады во время первой мировой войны 1914–1918 годов. Он принадлежал к той части передовой русской интеллигенции, которая с первых дней Октябрьской революции примкнула к большевикам и твердо стала на сторону советской власти. Островскому дорого было и то, что шестидесятилетний доктор воевал в гражданскую войну в рядах Красной Армии и в партизанских отрядах, встречался с товарищем В. И. Лениным, с товарищами М. В. Фрунзе, Ф. Э. Дзержинским. Врач и его пациент вместе вспоминали боевое прошлое, говорили о литературе, искусстве. Павловский рассказывал Островскому о прочитанных интересных книгах (в его личной библиотеке насчитывалось около трех тысяч томов), читал, приносил клавиры опер, исполнял отдельные арии… После первого своего визита к Островскому доктор М. К. Павловский записал: «Автомобиль подвез нас к домику № 47 по Ореховой улице. Мы вошли в скромный флигель, расположенный в глубине двора. Правую половину усадьбы занимал сад. Квартира Н. А. Островского состояла из двух небольших комнат. Первую, поменьше, занимали мать и сестра писателя. Во второй жил он сам. Это была небольшая комната, два окна которой выходили на северо-восток. Два стола, книжный шкаф и несколько стульев составляли всю его скромную обстановку. На стене висел портрет И. В. Сталина. Почти на середине комнаты стояла кровать, на которой неподвижно лежал человек в возрасте около тридцати лет. Черные волосы обрамляли его лоб. Приветливая улыбка освещала лицо и смягчала несколько суровое выражение. Мы познакомились. Начался обычный врачебный опрос. В результате осмотра я диагносцировал болезнь Штрюмпель — Мари — Бехтерева, то-есть одеревянелость позвоночника, прогрессирующий, обезображивающий суставной ревматизм, слепоту на оба глаза, почечные камни, остаточный левосторонний сухой плеврит с возможностью туберкулеза легких. Кроме того, имелась весьма значительная атрофия мышц. Конечности больного вследствие окостенения суставов были совершенно неподвижны. Шея также неподвижна. Вращение головы невозможно. Только в лучезапястных суставах и суставах рук сохранилась ограниченная подвижность. Движение нижней челюсти также весьма ограничено. Рот открывался лишь настолько, что между зубами проходила пластинка около сантиметра толщиной. Сердце работало удовлетворительно, и с этой стороны опасности не было. Но болезнь, несомненно, имела наклонность прогрессировать. Это был один из самых тяжелых случаев такого рода заболевания. Больной должен был испытывать мучительнейшие боли. Судя по рассказам Николая Алексеевича, все терапевтические мероприятия, так же как и неоднократные хирургические вмешательства, особой пользы не принесли. Медицина оказалась в данном случае бессильной. С первого же момента осмотра больного я невольно отметил его образ и манеру держать себя. Его ответы на все мои вопросы отличались краткой и точной формулировкой. Как оказалось, Николай Алексеевич был отлично осведомлен о сущности своего заболевания и знал, что исход его болезни предрешен. Из уст этого живого изваяния лилась поражавшая меня речь, насыщенная самым радостным оптимизмом. Он тонко иронизировал над медицинским бессилием и своими болезнями. Он рассматривал свои болезни как барьеры, которые его воля должна в борьбе за жизнь и творчество преодолеть во что бы то ни стало. Вообще ему некогда страдать. Он должен работать и будет работать…»[64] В то время, к которому относится эта запись, Островский работал с особенной яростью. Раньше против темных сил недуга в нем боролись лишь силы неистребимой надежды на возвращение в строй. С помощью этих сил он отбил атаки смерти и выстоял. Сейчас же, когда надежда сбылась и он ощущал уже себя в строю, — силы жизни, окрыленные победой, стали еще крепче, увереннее. Он знал, как высоко оценили читатели выкованное им самим новое оружие, с которым он вступил в строй, и это возбуждало в Островском жажду еще более активной деятельности. Его труд признавали нужным, полезным и ценным. Значит, не зря он боролся и жил. Восемьдесят процентов тиража только что отпечатанной книги были куплены Политуправлением РККА для Красной Армии. В декабрьском номере журнала «Книга — молодежи» за 1932 год появилась рецензия «В активе комсомольской литературы». Отмечалось, что книга читается с громадным, захватывающим интересом, что она заслуживает широчайшего распространения в массах молодежи, так как воспитывает их в духе коммунизма и поднимает на борьбу и победу. Аналогичные отклики были напечатаны в 1933 году в № 5 «Молодой гвардии» и в № 11–12 журнала «Рост». Товарищи горячо одобряли первую часть книги и ждали ее окончания. «Моя жизнь — это работа над второй книгой, — писал Островский в мае Гале Алексеевой. — Перешел м «ночную смену», засыпаю с рассветом. Ночью тихо, ни звука. Бегут, как на кинопленке, события и рисуются образы и картины. Павка Корчагин уже разгромил глупое свое чувство к Рите. И, посланный на стройку дороги, ведет отчаянную борьбу за дрова, в метели, в снегу. Злобно воет остервенелый ветер, кидает в лицо комья снега, а вокруг бродит неслышным шагом банда Орлика…» В июне 1933 года вторая часть романа была вчерне окончена. Но Островский теперь не торопился с ее изданием, а возвращаясь к рукописи, улучшал ее, переписывал и дописывал отдельные страницы и главы. Сказывалась упорная его учеба; он больше знал, больше умел и неизмеримо больше от себя требовал. «Я признаю, — писал Островский 11 августа А. А. Караваевой, — что вторая книга не такова, какой я хотел бы ее видеть, и, несомненно, когда будут силы, я возьмусь за капитальную переработку книги». И, руководствуясь этим сознанием, он делал все возможное (и невозможное!), чтобы поднять качество достигнутого. Уже в мае 1934 года, подготавливая польское издание романа, Островский сообщает свои планы доработки книги. «Во-первых, ввожу в эпизод расстрела поляками нашей подпольной организации тот факт, что поляк-солдат, радиотелеграфист, имевший связь с подпольным комитетом, тоже был приговорен к 20 годам каторги. Этим самым борьба за советскую власть рисуется не как дело лишь одних украинцев. Во-вторых, образ поляка-революционера, машиниста, старика Политовского Вячеслава Сигизмундовича, должен быть расширен в национальном разрезе в противовес польским панам типа Лещинского и других. Есть еще два рабочих-поляка, принимавших участие в борьбе за советскую власть. И если расширить обрисовку комиссара продовольствия Пыжицкого (тоже поляка, о нем сказано лишь два слова), то этим самым несколько сгладится то возможное впечатление, что все поляки сплошь отрицательные типы, что, конечно, ни в коем случае не входило в мои замыслы и что резко противоречило бы действительности». Он выполнил задуманное, и сделанные им поправки свидетельствуют о политической зоркости и чуткости писателя. Читая «Как закалялась сталь», мы запоминаем молодого капрала Снегурко. В этом образе нашел свое воплощение замысел, приведенный выше («поляк-солдат, радиотелеграфист, имевший связь с подпольным комитетом…»). Первоначальный замысел (присуждение Снегурко к 20 годам каторги) нашел иное воплощение. Узнав о смертном приговоре, вынесенном ему военно-полевым судом, Снегурко не подал прошения о помиловании. Он признал, что является членом коммунистической партии и вел пропаганду среди солдат. Но предъявленное ему судьями обвинение в измене родине он с негодованием отверг. «— Мое отечество, — сказал он, — это Польская советская социалистическая республика. Да, я член коммунистической партии Польши, солдатом меня сделали насильно. И я открывал глаза таким же, как я, солдатами которых вы на фронт гнали. Можете меня за это повесить, но я своей отчизне не изменял и не изменю. Только наши отечества разные. Ваше — панское, а мое — рабоче-крестьянское. И в том моем отечестве, которое будет, — я в этом глубоко уверен, — никто меня изменником не назовет». Рельефнее и ярче стал также образ старого железнодорожного машиниста Политовского, который «при царе не возил при забастовках» и теперь, то-есть в 1918 году, когда гетман Скоропадский привел на Украину армию кайзера Вильгельма, тоже отказывается везти карателей и устраивает крушение поезда. В седьмой главе мы знакомимся с продкомиссаром Пыжицким. Стуча кулаком о барьер трибуны, он говорит по-польски на фабричном собрании: «Сколько лет графы Потоцкие да князья Сангушки на наших горбах катаются? Разве мало среди нас, поляков, рабочих, которых Потоцкий держал в ярме, как и русских и украинцев? Так вот, среди этих рабочих ходят слухи, пущенные прислужниками графскими, что власть советская всех их в железный кулак сожмет. Это подлая клевета, товарищи. Никогда еще рабочие разных народностей не имели таких свобод, как теперь…» Эта правка, предназначавшаяся, конечно, не только для предстоявшего польского издания, но и вообще для всех последующих изданий романа, открывает существенно важные стороны в творческой лаборатории Островского. Он представил себе обширную группу своих будущих читателей, к которым придет его книга на их родном, в данном случае польском, языке. И, представив, глубоко задумался об их грядущей судьбе, о политической судьбе польского народа. В этих раздумьях коренится суть всех упомянутых поправок, внесенных в роман. Писатель не только отображал реальную расстановку сил в прошлом и в настоящем, противопоставляя машиниста Политовского шляхтичам Лещинским, — он набрасывал также прообраз строителя будущей Польши, создавая образ Снегурко. Раздумья заставляли Островского вновь и вновь возвращаться к своей книге; они изменяли роман от издания к изданию[65]. Живя в Сочи, Островский усердно продолжал вести партийно-пропагандистскую работу, руководил районным советом культстроительства, литературным кружком. В этот кружок входили А. П. Лазарева — будущий секретарь Островского — и писательница В. И. Дмитриева — автор повести «Червоный хутор» и рассказов для детей (с Дмитриевой Островский познакомился еще осенью 1930 года). «Прочел ваш «Червоный хутор» и хотел бы побеседовать, — писал он ей. — К сожалению, сам не могу притти, прикован к постели. Приходите вы, буду ждать». Она пришла и с тех пор часто навещала квартиру Островского. Кружок собирался раз в неделю по выходным дням. Здесь знакомились с новинками советской и зарубежной литературы, читали и обсуждали рукописи кружковцев, критические статьи, печатавшиеся в «Правде» и литературных журналах. «Занятия кружка происходили обычно так: на предыдущем собрании мы назначали какую-нибудь вещь к прочтению; иногда кому-нибудь давалось задание ознакомиться с этой вещью, сделать что-то вроде маленького конспекта для себя, чтобы потом прочесть на кружке небольшой реферат. Товарищ излагал свою точку зрения, давал критическую оценку произведению, а затем шел уже обмен мнениями. Когда у Коли собирался кружок, то, обычно, собрание заканчивалось его словом, к которому все очень прислушивались. Все ловили каждое его слово. И это вполне понятно, ибо суждения его всегда были очень остры, красочны, оригинальны и насыщены большим содержанием. Критическая оценка произведения, даваемая Николаем, была четкой, образной, выкристаллизованной и являлась синтезом всех других высказываний»[66]. Островский писал в декабре 1933 года. «Как я прожил последние три месяца? Я отнял от литучебы массу времени и отдал его молодежи. Из кустаря-одиночки стал массовиком. В моей квартире происходят заседания бюро комитета. Я стал руководителем кружка партактива, стал председателем районного совета культстроительства, в общем! придвинулся к практической работе партиивплотную. И стал полезным парнишкой. Правда, я сжигаю много сил, но зато стало радостней жить на свете. «Комса» вокруг. Непочатый край работы на культурном фронте. Заброшенные, с полунищим бюджетом, с хаотическим учетом городские библиотеки возрождаются и становятся боеспособными. Создал литкружок, как могу, так и руковожу им. Внимание партийного и комсомольского комитетов ко Мне и моей работе большое. Партактив у меня бывает часто. Я ощущаю пульс жизни, я сознательно пожертвовал эти месяцы местной практике, чтобы прощупать сегодняшнее, актуальное». Приближалось пятнадцатилетие комсомола, и сочинская организация торжественно обменяла старый комсомольский билет Островского на новый. «Сочинская «комса» возвратила меня в свои ряды», — говорил он. Жизнь его была наполнена до краев, вот почему он и считал себя боеспособным на «все сто». В месяцы, «пожертвованные местной практике», Островский успел прочесть «Шагреневую кожу» О. Бальзака и «Воспоминания» В. Фигнер, «Анну Каренину» Л. Толстого и «Последний из удэге» А. Фадеева, «Дворянское гнездо» И. Тургенева и «Вступление» Ю. Германа, номера «Литературного критика» и «Литературного наследства».
 Комсомольский билет Н. Островского
Комсомольский билет Н. Островского
Он неустанно готовил себя к предстоящей новой работе. Думая о ней, Островский писал: «С нового года начинаю наступление». Болезнь пыталась сорвать это наступление. Весной 1934 года жизнь его висела буквально на волоске. «С величайшим трудом удалось тогда отстоять его от смерти», — вспоминает М. К. Павловский. Больше, чем физические боли, Островского, как всегда, мучило сознание, что силы уходят и творческие планы под ударом. И, как всегда, едва почувствовав улучшение, он удесятерял темпы, торопясь к цели и стремясь наверстать упущенное во время острого припадка болезни. «Я учусь упорно и настойчиво, — писал он, поправившись. — Мне читают так много, пока не иссякнут силы у меня и у читающего. Набросаны силуэты новой книги, и скоро я начинаю работать. Сейчас же учеба и учеба. Ведь вперед итти можно только ростом. Топтание на месте — это гибель. С меня теперь будут требовать, как с подмастерья, а не как с ученика, и потому учеба до головокружения…» 18 марта 1934 года в «Правде» появилась статья А. М. Горького «О языке». Она вызвала живейший отклик в среде литераторов и широких кругов читателей. Великий писатель резко выступал против засорения русского языка всяческим «паразитивным хламом». Он писал, что борьба за очищение книг от неудачных фраз так же необходима, как и борьба против речевой бессмыслицы, и дружески указывал начинающим литераторам путь, идя которым они могут быстро и сильно вырасти. Статья эта оказала большое влияние на Островского. Она многому научила его, заставила еще более критически взглянуть на свой труд. Под ее впечатлением он написал статью «За чистоту языка», в которой горячо поддержал Горького. «Я открываю первую книгу повести, — писал он, — вновь читаю, вернее слушаю, знакомые строки, и статьи великого мастера открывают мне глаза, я вижу, где написано плохо, и ряд слов, ненужных и нарочитых, безжалостно зачеркивается. И если повести суждено снова выйти в свет, то их уже в ней не будет». Отклик Островского на статью Горького остро самокритичен. Он понимает, что борьба за чистоту языка, за его смысловую точность есть борьба за орудие культуры. Чем оно острее, чем более направлено— тем оно победоносней. Ему тоже не по душе люди, «оседлавшие» славу. Беспокойное чувство ответственности за писательский труд диктует ему следующие строки: «Архитектор, прежде чем построить изумляющее своей красотой и стилем здание, кроме любви к своему искусству и таланта, годами учится технике строительства, азбуке архитектуры. Думаю, не ошибусь, если выскажу предположение, что многие из нас, молодых писателей, не овладели азбукой литературы. В нашей стране, исключительной по своему строю, самой свободной стране в мире, выходят из печати десятки и сотни произведений, которые нужно назвать «первой пробой руки». Эта работа учеников-подмастерьев художественной литературы. Только у нас возможно это. Но, получив право еще в ученическом периоде печататься, неизбежно внося в литературу сырой полуфабрикат, молодой писатель не имеет права забывать, что страна дает ему аванс за счет его таланта, искорки которого вспыхивают в его произведениях среди беспомощных, детских нагромождений, и что этот аванс он должен вернуть. Оплатить этот счет можно лишь одним ростом на основе большой и упорной учебы, овладением техникой, а для этого нужна учеба, учеба и еще раз учеба». Островский показывал пример такой учебы, и потому слова его, обращенные к товарищам, звучали так убеждающе. «Всю свою жизнь я учился у большевиков, знающих больше меня на всех участках борьбы, — писал он в редакцию «Молодой гвардии», — и жажда знать у меня ненасытна. Я глубоко уважаю тех, кто учил меня быть неплохим бойцом за наше дело. Такой же учебы я жду и от вас, дорогие товарищи». Он ждал этого, постоянно стремился к этому. Чувствуя себя подмастерьем, Островский старался стать мастером. На Ореховую, 47 заглянул в ту весну А. С. Серафимович. Он отдыхал в Сочи и навестил Островского. Между старым писателем-большевиком и молодым литературным «подмастерьем» установились дружеские отношения. Островский не раз потом с сыновней благодарностью вспоминал о своем дорогом госте. «Трижды был у меня А. Серафимович, — писал он 4 мая 1934 года. — Старик сделал подробный анализ моих ошибок и достижении. Очень и очень полезна мне эта встреча. А. С. произвел на меня прекрасное впечатление… умница и не плохой души человек».
 А. С. Серафимович у Н. А. Островского (1934).
А. С. Серафимович у Н. А. Островского (1934).
О нем вспоминал он спустя год: «А. С. Серафимович отдавал мне целые дни своего отдыха. Большой мастер передавал молодому ученику свой опыт. И я вспоминаю об этих встречах с Серафимовичем с большим! удовлетворением». Тогда же Островский познакомился и с Матэ Залка. Они быстро нашли общий язык; сближало боевое прошлое, схожесть неукротимого темперамента, чувство юмора. «Этот венгерец не может не стать мне другом, — говорил о нем Островский. — С такими ребятами даже умирать не скучно». (Залка послужил затем прототипом «отчаянного парня-венгерца, лейтенанта Шайно» в «Рожденных бурей».) Гость унес еще более сильное впечатление о новом друге. Вспоминая первое посещение Островского, Матэ Залка писал: «Наша первая встреча с Николаем не была знакомством. Это была встреча давно знающих друг друга близких людей, и мы с первого слова как бы продолжали давно начатый и незаконченный разговор. Впечатление, которое произвел на меня Островский, можно назвать резко контрастным, и, главным образом, оно было ободряющим. То, что Николай лежит, что он разбит, не видит и т. п. — это все внешнее. Сущность — это силач, доблестный парень, боец. Да, в нем все еще чувствуется красноармеец. Он чувствует себя в рядах, и он в рядах, даже передовых. А то, что он физически таков, кажется даже ерундой, атрибутом страшноватым, но преодолимым, временным и, безусловно, неокончательным»[67]. Строки эти довольно точно передают впечатление, которое производил Островский на многих своих посетителей. «Горящим факелом активности» назвал Островского — слепого и неподвижного — Ромэн Роллан. Он был прав. Факел этот никогда не угасал. Он разгорался тем яростней и ярче, чем сильнее налетали на него встречные лобовые ветры. Его нельзя было потушить. Страдания не подрезали крыльев корчагинского оптимизма, краски жизни для него не потускнели. Он научился лишь еще более ценить «тип человека, умеющего переносить страдания, не показывая их всем и каждому». Те, кто бывал у Островского, слышал его вдохновенную речь и следил за стремительным полетом большой и умной мысли, забывали, что сидели у постели человека, сраженного тяжелым недугом. Никогда и ничем не напоминал он о своей болезни. Он обычно говорил: «Когда я закрываю глаза…» И вы не вспоминали в тот момент, что его глаза уже закрыты много лет. Он жаловался на «проклятый грипп», и всем казалось, что только эта болезнь его и беспокоила. Он был слеп и говорил: «Я читаю»; он не мог шевельнуть рукой и говорил: «Я пишу»; он не мог двигаться и говорил: «Я собираюсь поехать». Слепой, он был зорче многих зрячих; неподвижный, он был подвижнее многих двигающихся; тяжело больной, он излучал столько тепла, бодрости, энергии, что люди, сидящие у его постели, чувствовали себя как-то неловко, казалось, что нездоровы они, а не Островский. О возможной смерти своей он сказал однажды пишущему эти строки: — Если тебе сообщат, что Николай умер, не верь до тех пор, пока сам не придешь и не убедишься в этом. Но если я все же окажусь сраженным, не пиши, как обычно пишут в некрологах: «Он мог бы еще жить». Знай: если хоть, одна клетка моего организма могла бы жить, могла бы сопротивляться, я бы жил, я бы сопротивлялся… Я уйду лишь абсолютно разгромленным. Я покажу ей, старой ведьме, как умирают большевики.
 Членский билет Союза советских писателей СССР, врученный Н. Островскому и подписанный А. М. Горьким и А. С. Щербаковым.
Членский билет Союза советских писателей СССР, врученный Н. Островскому и подписанный А. М. Горьким и А. С. Щербаковым.
Островский мечтал побить рекорд долголетия. Он не побил его в обыкновенном, физическом смысле этих слов. Но он безусловно поставил рекорд жизнедеятельности, жизнеактивности. Его положение было безнадежным, меч смерти, висел над его головой, а он, презирая смерть, жил так энергично, так щедро, как могут жить лишь редкие по своей полноценности люди. Это и ощутил Матэ Залка. Островский подолгу беседовал с ним о литературе, обсуждал написанное, делился своими замыслами. На Ореховую, 47 пришел поэт Иосиф Уткин. Он читал свои новые стихи, рассказывал о литературной жизни столицы… Островского тянуло в Москву. Пройдет лето — уедут и Серафимович, и Залка, и Уткин… Письма не смогут заменить личной встречи, живой беседы. «…Я должен вернуться в Москву, — настаивал Островский перед А. Караваевой. — Это для меня непреложная истина. Рост и учеба — это Москва. А здесь даже книги необходимой нельзя найти. Чорт с ним, хоть в подвале, но лишь бы я мог встретиться с вами, говорить, делиться и на ходу поправлять ошибки. Поскольку это вопрос вообще о моем литературном будущем, то тут я буду за возврат в Москву драться. Это нужно не для меня, мне все равно где жить, — для автора первой книги нужна Москва, и я там должен быть». Потребность уехать в Москву становилась тем острее, чем ближе подходил он к новой работе, чем яснее созревал замысел этой работы и вырастало желание драться за его осуществление. 1 июня 1934 года Островского приняли в члены московской организации Союза писателей. «Приняли, конечно, авансом, за счет моего будущего», — сообщал он А. А. Жигиревой, искренне считая себя должником.
 Роман «Как закалялась сталь», выпущенный различными издательствами СССР.
Роман «Как закалялась сталь», выпущенный различными издательствами СССР.
Это было накануне выхода в свет второй части романа «Как закалялась сталь». Она была издана одновременно на русском и украинском языках: в издательствах «Молодая гвардия» и «Молодой бiльшовик». Эпиграфом ко второй части стояли слова песни:
Слезами залит мир безбрежный.
Вся наша жизнь — тяжелый труд.
Но день настанет неизбежный…
. . . . . . . . . . . . . . .
Лейся вдаль, наш напев, мчись кругом —
Над миром наше знамя реет,
Оно горит и ярко рдеет, —
То наша кровь горит огнем…
«КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»
На рубеже двадцатых и тридцатых годов уже определились черты социалистического строя советской жизни. С именами героев дальних перелетов, полярных плаваний и зимовок чередовались на газетных страницах имена бетонщиков, возводивших в лютые морозы корпуса Сталинградского и Харьковского тракторных заводов, строителей Магнитки, первых ударников Донбасса, борцов за новую, колхозную деревню. Имя Павла Корчагина встало в ряду с именами реальных героев — строителей социализма. Он стал в строй как правофланговый ведущей шеренги. По нему можно было держать равнение. За это именно полюбил его советский читатель. Подводя итоги славному тридцатилетию Великой Октябрьской социалистической революции» В. М. Молотов говорил: «Следует признать, что важнейшим завоеванием нашей революции является новый духовный облик и идейный рост людей, как советских патриотов. Это относится ко всем советским народам, как к городу, так и к деревне, как к людям физического труда, так и к людям умственного труда. В этом заключается, действительно, величайший успех Октябрьской революции, который имеет всемирно-историческое значение»[68]. Павел Корчагин принадлежит к числу первых, показанных советской литературой героев такого нового духовного облика. Он не плод отвлеченной романтической мечты художника. Весь он — выражение реальных богатств, реальной действительности. Таким он существовал. Этот литературный образ наделен такой огромной силой примера именно потому, что пример подтвержден жизнью; его нельзя опровергнуть. Жизнь питает его силу и поднимает миллионы людей до его уровня. Пафос жизни Корчагина — неуемное и страстное желание, постоянно владевшее им, — может быть выражен в одной фразе: «Всегда находиться в строю». И притом не просто находиться в строю, но итти в передовых рядах, находиться на линии огня. Островский так характеризовал Корчагина: «Он не умел жить спокойно, размеренно-ленивой зевотой встречать раннее утро и засыпать точно в десять. Он спешил жить. И не только сам спешил, но и других подгонял!» Корчагин обращался к своему давнишнему партийному другу Акиму: «— Неужели ты можешь подумать, Аким, что жизнь загонит меня в угол и раздавит в лепешку? Пока у меня здесь стучит сердце, — и он с силой притянул руку Акима к своей груди, и Аким отчетливо почувствовал глухие быстрые удары, — пока стучит, меня от партии не оторвать. Из строя меня выведет только смерть. Запомни это, братишка». Он был счастлив, когда донеслась к нему из Магнитогорска и с Днепростроя весть о подвигах молодежи, сменившей под комсомольским знаменем первое поколение Корчагиных. «Представлялась метель — свирепая, как стая волчиц, уральские лютые морозы. Воет ветер, а в ночи занесенный пургой отряд из второго поколения комсомольцев в пожаре дуговых фонарей стеклит крыши гигантских корпусов, спасая от снега и холода первые цепи мирового комбината». Вслед за Уралом возникал Днепр… «Вода прорвала стальные препоны и хлынула, затопляя машины и людей. И снова комса бросилась навстречу стихии и после яростной двухдневной схватки без сна и отдыха загнала прорвавшуюся стихию обратно за стальные препоны». Крохотной казалась лесная стройка в Боярке, на которой боролись с вьюгой, с голодом, с болезнями и бандитами несколько десятков пареньков из первого поколения киевских комсомольцев. Выросла страна, выросли и люди. Среди героев первой сталинской пятилетки он с радостью услыхал родные ему имена. Жизнь звала его! Мы помним речь Корчагина на собрании комсомольского актива после того, как он перевалил в четвертый раз «смертельный рубеж». Тиф не убил его, и он возвращался на работу. «Страна наша вновь… набирает силы, — говорил Корчагин. — Есть для чего жить на свете! Ну, разве я мог в такое время умереть!» Он был хозяином жизни. Все происходящее вокруг кровно его касалось, и во всем он был кровно заинтересован. Корчагин принадлежал к тем людям «особого склада» и «особой породы», которые призваны перестраивать мир и для которых немыслимо счастье без борьбы. Еще великий Маркс на вопрос дочерей: «Ваше представление о счастье?» ответил: «Борьба». Разве можно что-либо понять в образе Павла Корчагина, не поняв его счастья — борьбы, которую он вел, ее смысла и характера! Не одиноким стоит он в советской литературе. Чапаев, Клычков, Фурманов, Кожух, Левинсон — это родная семья Корчагина. Он младший среди них., но он рядом с ними. Однако каждый из упомянутых нами литературных героев, пришедших в книги из жизни, показан был нам в этих книгах уже сложившимся и действующим на небольшом сравнительно отрезке времени. К тому же это работники крупного масштаба; комдив Чапаев, комиссар Клычков, уполномоченный Реввоенсовета Фурманов, командующий Кожух, командир партизанского отряда Левинсон. Николай Островский же открыл нам процесс формирования Павла Корчагина, с детских его лет до наступления гражданской и партийной зрелости. «Как закалялась сталь» — книга, рассказывающая про обыкновенных людей революции. И именно потому так ярко проявляется в ней все то необыкновенное, что живет в них и что делает их людьми великими. Павлу исполнилось четырнадцать лет, когда он встретился с балтийским матросом, членом РСДРП(б) с 1915 года, Федором Жухраем. Смышленый мальчишка понравился матросу. «— Мать рассказывает, ты драться любишь. — допытывался у Павла Жухрай. — «Он у меня, — говорит, — драчливый, как петух». — Жухрай рассмеялся одобрительно. — Драться вообще не вредно, только надо знать, кого бить и за что бить. Павка, не зная, смеется над ним Жухрай или говорит серьезно, ответил: — Я вря не дерусь, всегда по справедливости». Идея справедливости — один из основных руководящих принципов корчагинского характера. С детских лет он из всех впечатлений бытия выбрал и выработал мерило, которому остался верен навсегда; отказаться от него, изменить ему для Павла равносильно было отказу от самого себя, изменой самому себе. Мир разделился в его представлении на то, что является справедливым, и на то, что несправедливо по отношению к людям, и этот моральный водораздел стал его политическим принципом и неизменным жизненным критерием. Идея общественной справедливости безраздельно владела Корчагиным. «— Ты погляди, что здесь делается! — говорил ом поваренку Климке, с которым подружился в станционном буфете. — Работаем, как верблюды, а в благодарность тебя по зубам бьет кто только вздумает, и ни от кого защиты нет… Нас за тварей считают». На вопрос Тони Тумановой: «Почему вы злы на Лещинского?», он зло ответил: «— …Панский сыночек, душа из него вон! У меня на таких руки чешутся: норовит на пальцы наступить, потому что богатый и ему все можно, а мне на его богатство плевать…» С самых первых шагов своей жизни, — учась в школе, работая в станционном буфете, оказываясь в среде барчуков, подобных Лещинскому и Сухарько, придя затем в железнодорожное депо, — Корчагин готов драться, отстаивая справедливое и ниспровергая, уничтожая все то, в чем он усматривает несправедливость. Корчагин не мирился с унижающей человеческое достоинство грязью и пошлостью, унаследованной от капитализма. С детства узнал он жар огня классовой ненависти, направленной против носителей всей несправедливости старого мира. Против них и ополчился он с ожесточенною страстью. «Эх, была бы сила!..» — мечтал он, завидуя своему старшему брату Артему. «Вот человек был Гарибальди! — произносил он восторженно. — Вот герой!» Павел завидовал ему. «Сколько… приходилось биться с врагами, а всегда его верх был. По всем странам плавал! Эх, если бы он теперь был, я к нему пристал бы! Он себе мастеровых набирал и компанию и все за бедных бился». И вот не Гарибальди, а «обветренный морскими шквалами» русский матрос Федор Жухрай говорил смотревшему на него зачарованными глазами молодому кочегару Корчагину: «— Я, братишка, в детстве тоже был вот вроде тебя… Не знал, куда силенки девать, выпирала из меня наружу непокорная натура. Жил в бедности. Глядишь бывало на сытых да наряженных господских сыночков, и ненависть охватывает. Бил я их частенько беспощадно, но ничего из этого не получалось, кроме страшенной трепки от отца. Биться в одиночку — жизни не перевернуть. У тебя, Павлуша, все есть, чтобы быть хорошим бойцом за рабочее дело, только вот молод очень и понятие о классовой борьбе очень слабое имеешь. Я тебе, братишка, расскажу про настоящую дорогу, потому что знаю: будет из тебя толк. Тихоньких да примазанных не терплю. Теперь на всей земле пожар начался. Восстали рабы и старую жизнь должны пустить на дно. Но для этого нужна братва отважная, не маменькины сынки, а народ крепкой породы, который перед дракой не лезет в щели, как таракан от света, а бьет без пощады». Рожденный в огне и буре классовых битв, прошедший сквозь их очистительное горнило, Корчагин воплотил в себе мужество и волю своего класса. Он становился тем сильнее духом, чем глубже постигал цель и смысл своей жизни, чем больше разрасталась в его сознании идея борьбы за коммунизм — справедливости высочайшей и всеобъемлющей. «Самое дорогое у человека — это жизнь, — мысленно произнес он у братской могилы своих погибших товарищей. — Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества..» В первом же варианте рукописи прямо сказано: «…самому прекрасному в мире — борьбе за идею коммунизма». В словах этих — ключ к образу Павла Корчагина и к образам других молодых героев книги «Как закалялась сталь». Есть мелкое, себялюбивое, корыстное счастье многовекового и всемирного мещанина, ограниченное потребностями семьи, дома, — ленивое и свин-ское счастье эгоистов, заботящихся лишь о мелком, личном благополучии; и существует другое, большое людское счастье, окрыленное идеей великой справедливости, — счастье человека, чувствующего себя сыном трудящегося человечества, всегда думающего о нем и всегда борющегося за него. Корчагин познал это истинное счастье. «Как можно жить вне партии в такой великий, невиданный период? — писал Островский Розе Ляхович 30 апреля 1930 года. — В чем же радость жизни вне ВКП(б)? Ни семья, ни любовь — ничто не дает сознания наполненной жизни. Семья — это несколько человек, любовь — это один человек, а партия — это 1 600 000. Жить только для семьи — это животный эгоизм, жить для одного человека — низость, жить только для себя — позор». Такова была философия жизни Островского. Точно так же понимал свое счастье Корчагин, и так он жил. Островский говорил о своем герое: «Павка Корчагин был жизнерадостный, страстно любящий жизнь юноша. И вот, любя жизнь, он всегда был готов пожертвовать ею для своей родины». А о себе самом писатель говорил так: «У меня всегда была цель и оправдание жизни — это борьба за социализм. Это самая возвышенная любовь. Если же личное в человеке занимает огромное место, а общественное — крошечное, тогда разгром личной жизни — катастрофа. Тогда у человека встает вопрос: зачем жить? Этот вопрос никогда не встанет перед бойцом». Мысли Н. А. Островского явственно перекликаются с теми мыслями, которые были высказаны М. И. Калининым в мае 1934 года на совещании актива днепропетровского комсомола: «У настоящего коммуниста, — говорил тогда Михаил Иванович, — личные переживания носят подчиненный характер: случилась какая-либо семейная неприятность — очень тяжело, но я думаю, что от этого социализм не пострадал, а следовательно, и работа не должна страдать. Понятно, если ты живешь только домашними интересами, только и думаешь все время о себе или о своей Фекле, то настоящим коммунистом не будешь. А когда действительно будешь активно работать, активно участвовать во всей стройке, то подчас даже не заметишь, в каком она платье, и забудешь бытовые мелочи и личные невзгоды»[69]. Всепоглощающее чувство гражданского долга владеет Корчагиным и определяет его характер, его поступки, его личность. Советское общество, советская родина дали этому чувству самое богатое и полное конкретное содержание. Уже первое поколение Корчагиных росло под его возвышающим влиянием. Беззаветная любовь к социалистической отчизне, забота о ее процветании и возвеличении стали могучей движущей силой нового общества. «Сила советского патриотизма, — как определил товарищ Сталин, — состоит в том, что он имеет своей основой пс расовые или националистические предрассудки, а глубокую преданность и верность народа своей советской Родине, братское содружество трудящихся всех наций нашей страны. В советском патриотизме гармонически сочетаются национальные традиции народов и общие жизненные интересы всех трудящихся Советского Союза»[70]. Николай Островский по происхождению своему украинец; мать его — обрусевшая чешка; он испытал на себе огромное формирующее влияние великого русского народа, его культуры, политической сознательности его рабочего класса. Советский народ по праву гордится тем, что страна наша стала светочем и боевым знаменем для трудящихся всего мира. И потому-то советские люди не останавливаются ни перед какими жертвами во имя родины. Любовь советского человека к своему социалистическому отечеству не отвлеченная, а страстная, напористая, активная, неукротимая. Для Корчагина эта любовь была потребностью, необходимой и повелительной, она диктовала ему его поведение, служила моральным компасом, она была главным и постоянным мотивом, основанием, объяснением всех его мыслей и чувств, поступков и действий, отношений и интересов. Отсюда, из чувства советского патриотизма, вырастала его безграничная жажда служения своему народу, сознание своего общественного предназначения, гражданского долга. Это была жажда деятельности кипучей и неутолимой, безотлагательной, нередко — сверх сил, необходимой стране, народу. «Вы что же думаете — на нас солнце не светило, или жизнь не казалась нам прекрасной, или для нас не было привлекательных девушек, когда мы носились по фронту и переживали боевые бури? — говорил Островский. — В том-то и дело, что жизнь нас звала. Мы, может быть, больше других чувствовали ее очарование, но мы твердо знали, что самое главное сейчас — уничтожить врага, отстоять революцию. Это сознание поглощало все. Оно налипало наши молодые сердца энтузиазмом и величайшим гневом против врагов. Мы ураганом неслись, обнажив шашки, на вражьи ряды, и горе было тем, кто попадал под наши удары!» С этим ощущением писались страницы романа «Как закалялась сталь». Являлись ли они только отражением пережитого, залечатлением прошедшего? Островский был слишком активной натурой, чтобы удовлетвориться этим. Он говорил: «Я расскажу правдиво о былом. Я делаю это для того, чтобы в предстоящей схватке, если нам ее навяжут, ни у кого из молодежи не дрогнула рука». У Корчагина были хорошие учителя. Островский писал о Жухрае: «Говорил Жухрай ярко, четко, понятно, простым языком. У него не было ничего нерешенного. Матрос твердо знал свою дорогу, и Павел стал понимать, что весь этот клубок различных партий с красивыми названиями: социалисты-революционеры, социал-демократы, польская партия социалистов, — это злобные враги рабочих, и лишь одна революционная, непоколебимая, борющаяся против всех богатых — это партия большевиков». Федор Жухрай играл огромную роль в идейном воспитании Корчагина. Но он не единственный. И Островский, кроме Жухрая, показал других коммунистов — воспитателей Корчагина. Политрук Крамер объяснял ему, что партия и комсомол построены на железной дисциплине. Он говорил Корчагину: «Партия — выше всего. И каждый должен быть не там, где он хочет, а там, где нужен». Партийный пропагандист Сегал, в кружке которого учился Корчагин, сказал Рите Устинович, уезжая на работу в ЦК: «— Довершайте начатое, не останавливайтесь на полдороге… Юноша еще не совсем ушел от стихийности. Живет чувствами, которые в нем бунтуют, и вихри этих чувств сшибают его в сторону. Насколько я вас знаю, Рита, вы будете самым подходящим для него руководителем…» Из уст старого рабочего, большевика Токарева, начальника строительства узкоколейки, Корчагин услышал: «— Пять раз сдохни, а ветку построить надо. Какие мы иначе большевики будем, одна слякоть…» Жухрай и Крамер, Сегал и Токарев, Долинник и Панкратов, Аким, Лисицын, Леденев, Берсенев и другие большевики явились для Корчагина не случайно встреченными людьми. «Комсомолец должен помнить, — учит товарищ Сталин, — что обеспечение руководства партии есть самое главное и самое важное во всей работе комсомола»[71]. На примере Павла Корчагина Островский наглядно показал решающую роль партии в воспитании героя нашего времени. Коммунисты учили Корчагина не теряться в тяжелых обстоятельствах, драться весело, с задором, с азартом, с изобретательностью, сохранять улыбку в самые трудные минуты, всюду находить возможность торжествовать над врагом, и если уже отдать свою жизнь, то за самую дорогую цепу. Они учили его умению использовать каждое обстоятельство для успеха борьбы, умению увлечь за собой и направить новые силы на полезное, нужное дело. Ничто не могло так тронуть, привлечь, очаровать в Павле Корчагине, как романтическое горение его юной души, жажда подвига во имя родины, высокий строй поступков, красота и мужество жизни, без оговорок, без компромисса, до конца отданной битве за счастье родины. Корчагин уходит в борьбу, потому что она становится органической потребностью его пылкой, честной, прямой натуры; потому что битвы с врагами дают ему счастье; потому что иного, осмысленного, честного и красивого пути нет у человека. Ступив на этот путь, он не знает отклонений, не ищет отдыха, не терпит половинчатости, не признает сделок со своими собственными слабостями. Он весь проникнут достоинством и величием дела, которому служит. Чувство гражданского долга руководит им; оно служит ему наставником и советчиком, совестью и судьей. Характер Корчагина в романе, как и характеры тысяч Корчагиных в жизни, сложился на нравственной основе чувства справедливости, на основе глубокого, полного, безраздельного убеждения в правоте своего справедливого дела. Отсюда, из этого благородного источника, питаются все черты цельного и последовательного в своих убеждениях, стремлениях, поступках нового, советского человека. Исследуя природу нравственного превосходства Корчагина, мы убеждаемся, что в его основе лежит ленинский принцип: наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы. Жизнь Корчагина полностью соответствовала этому ленинскому пониманию нравственности. Писатель не поучает, не резонерствует по поводу нового человека и новых этических норм. Он показывает эти новые нормы и отношения, раскрывая Корчагина во всей полноте и духовной красоте его образа. Образ Корчагина блестяще подтверждает ту истину, что между нравственностью и идейностью существует не только органическая связь, но и прямая зависимость: чем человек идейнее, тем он нравственнее, и чем человек безидейнее, тем он безнравственнее. Закономерность эта сказалась как на положительных образах романа, и прежде всего на Корчагине, так и на отрицательных ее персонажах — Дубаве, Цветаеве, Туфте. «Отрицательным» (то есть безнравственным) становится именно тот, кто утратил свою идейную основу и в силу этого морально разложился. Идейное падение неминуемо становится нравственным падением. В последний раз Павел столкнулся с Дубавой после своего возвращения со съезда из Москвы в Киев. Он разыскивал тогда жену Дубавы, Анну. Вот эта сцена: «Павел поднялся по лестнице на второй этаж и постучал в дверь налево — к Анне. На стук никто не ответил. Было раннее утро, и уйти на работу Анна еще не могла. «Она, наверно, спит», — подумал он. Дверь рядом приоткрылась, н на площадку вышел заспанный Дубава. Лицо серое, с синими ободками иод глазами. От него отдавало острым запахом лука и, что сразу уловил тонкий нюх Корчагина, винным перегаром. В приоткрытую дверь Корчагин увидел на кровати какую-то толстую женщину, вернее, ее жирную голую ногу и плечи. Дубава, заметив его взгляд, толчком ноги закрыл дверь. — Ты что, к товарищу Борхарт? — спросил он хрипло, смотря куда-то в угол. — Ее уже здесь нет. Ты разве об этом не знаешь? Хмурый Корчагин рассматривал его испытующе. — Я этого не знал. Куда она переехала? — спросил он. Дубава внезапно озлился. — Это меня не интересует. — И, отрыгнув, добавил с придушенной злобой: —А ты утешать ее пришел? Что ж, самое время. Вакансия теперь освободилась, действуй. Тем более, отказа тебе не будет. Она мне ведь не раз говорила, что ты ей нравился… или как там у баб еще называется. Лови момент, тут вам и единство души и тела». Пораженный глубиною морального падения Дубавы, Корчагин сказал ему: «— До чего ты дошел, Митяй? Я не ожидал увидеть тебя такой сволочью. Ведь ты когда-то был неплохим парнем. Почему же ты дичаешь?» И — конец свидания. Рассвирепевший Дубава кричит: «— Вы мне еще будете указывать, с кем я спать должен! Довольно мне акафисты читать! Можешь улепетывать, откуда пришел! Пойди и расскажи, что Дубава пьет и спит с гулящей девкой… Лицо Дубавы потемнело. Он повернулся и пошел в комнату. — Эх, гад! — прошептал Корчагин, медленно сходя с лестницы». Поборник нравственной чистоты и благородства, Николай Островский воспламеняет нас жгучей ненавистью ко всей мрази и нечисти старого мира. В воспоминаниях о Николае Островском и критических статьях о Павке Корчагине больше всего внимания уделяется теме мужества. Но эта тема существует в романе Островского, как и в его жизни, не сама по себе. Она — часть целого, а не само целое. Уместно напомнить, что крылатая фраза «вот где сталь закаляется», вынесенная затем писателем в заголовок романа, была произнесена Федором Жухраем, когда он увидел, с каким одухотворенным упорством молодые землекопы рыли косогор, чтобы проложить затем узкоколейку к лесу, — к топливу, в котором город нуждался, как в хлебе. Корчагин не думал об отдыхе, не жаловался, не роптал. Случайно встретившая его, оборванного, худого, с воспаленными глазами, Тоня Туманова готова была посочувствовать, пожалеть: как это, мол, неудачно сложилась у него жизнь. Она полагала, что принадлежность к партии поможет сделать ему легкую карьеру. Он же окинул ее презрительным взглядом и ответил словами, полными гордости за свою судьбу. В короткой и напряженной сцене неожиданного столкновения Павла с девушкой, которую он в ранней юности трогательно любил, во весь рост встает образ Корчагина. С этой сценой как бы перекликается другая. Несколько лет спустя, уже в годы мирного труда, в железнодорожных мастерских Корчагин поднял молодежь на уборку: мыли окна, чистили машины, сделали цех неузнаваемым. С удивлением смотрел на это главный инженер Стриж. Ему непонятно было добровольное стремление людей к чистоте в цехе: «Ведь это вы проделали в нерабочее время?» — спросил он Корчагина. Тот ответил: «Конечно. А вы как же думали?.. Кто вам сказал, что большевики оставят эту грязь в покое? Подождите, мы это дело раскачаем шире. Вам еще будет на что посмотреть и подивиться». Так же как и Туманова, Стриж не понимал глубоких побудительных мотивов, двигавших поступками Корчагина. Не корысть и не честолюбие, а иное, в корне отличное чувство руководило Корчагиным — чувство хозяина, человека, которому принадлежит этот новый, обретенный им мир. Вспомним причину столкновения Корчагина с секретарем комсомольского коллектива мастерских Цветаевым. Столкновение произошло на заседании бюро комсомольского коллектива. Начальник цеха подал рапорт об увольнении комсомольца Костьки Фидина за то, что тот небрежно работает и ломает дорогой инструмент. Бюро цеховой комсомольской ячейки вступилось за Костьку. Администрация настаивала, и дело разбиралось на бюро коллектива. «Цветаев вел заседание, развалясь в единственном мягком кресле, принесенном сюда из красного уголка. Заседание было закрытое. Когда парторг Хомутов попросил слова, в дверь, закрытую на крючок, кто-то постучал. Цветаев недовольно поморщился. Стук повторился. Катюша Зеленова встала и откинула крючок. За дверью стоял Корчагин. Катюша пропустила его. Павел уже направился к свободной скамье, когда Цветаев окликнул его: — Корчагин! У нас сейчас закрытое бюро. Щеки Павла залила краска, и он медленно повернул к столу: — Я знаю это. Меня интересует ваше мнение о деле Костьки. Я хочу поставить новый вопрос в связи с этим. А ты что, против моего присутствия?» Корчагин остался, несмотря на пощечину. Его поддержал парторг. Цветаев выступил на бюро с хвостистской речью в защиту Костьки, он спекульнул на отсталых настроениях. Он думал и на этом нажить некоторый капитал, упрочить свой авторитет среди тех рабочих, которые сочувственно относились к Костьке. В решительный момент Корчагин потребовал слова. Он выступил, резко обрушился на гнилую позицию Цветаева и потребовал исключить Фидина как лодыря и разгильдяя из комсомола. Опираясь на основную массу комсомольцев — хороших производственников, Корчагин вел наступление против лодырей, разгильдяев, дезорганизаторов производства. И здесь он был в авангарде, на передовой линии огня. Ему — коллективисту, общественнику, коммунисту — было свойственно чувство ответственности за все происходящее. Вступив в партию, он требовал от себя самого беспощадного уничтожения каких бы то ни было проявлений безответственности. Когда секретарь райпарткома Токарев увидел перед собой две заполненные анкеты Корчагина, он спросил его: «— Что это?» Корчагин ответил: Это, отец, ликвидация безответственности. Думаю, пора. Если и ты того же мнения, то прошу твоей поддержки». И старый большевик рекомендовал Корчагина в партию. Он не ошибся в нем. Чувством великой партийной ответственности было пронизано все отношение Корчагина к людям, к труду, к различным явлениям жизни. Труд Корчагина стал его счастьем. Именно это показал Островский с исключительной яркостью и убедительностью. Ничто, в том числе и болезни, не должны были, по его мнению, вызывать такую большую тревогу за состояние человека, как отсутствие в нем острого желания деятельности. Человек, лишенный жажды труда, находится в опаснейшем положении; о нем-то прежде всего следует беспокоиться. Островский считал сбою неподвижность и слепоту «сплошными недоразумениями», «сатанинской шуткой», потому что потребность в труде не только не угасла в нем в связи с болезнью, а неизмеримо выросла. Его героическая энергия рождалась великой целью и устремлялась на служение этой великой цели. Нравственной основой Корчагина, духовной силой и красотой его является большевистская идейность. В ней и только в ней ключ ко всему его образу, к любой его черте, к каждому поступку. Дело не в том, что Корчагину якобы вообще не были свойственны какие бы то ни было человеческие слабости, а в том, что ему всегда удавалось побороть их. Мера, которой он себя мерил, была уздой для них. Они не могли торжествовать над тем, что он исповедовал; это значило бы изменить себе, предать свою веру и идеалы. А между тем слабости у Корчагина были. Имея это в виду, он говорил Рите: «Вообще же Корчагин в своей жизни делал большие и малые ошибки». Он совершал эти ошибки по молодости, по неопытности, по незнанию, но всякий раз умел извлекать из них полезное для себя зерно и совершенствоваться. Воля — прежде всего власть над собой, способность управлять собой, сознательно регулировать свое поведение. Корчагин долго тренировал свою волю, учился преодолевать внешние и внутренние препятствия. Для него «хотеть» — означало «мочь». А. М. Горький писал, что уже и маленькая победа над собой делаетчеловека намного сильнее. Корчагин же одержал множество побед, и не малых! Когда мы говорим о корчагинском мужестве, то нужно прежде всего помнить характеристику мужества, данную товарищем Сталиным: «Умение действовать коллективно, готовность подчинять волю отдельных товарищей воле коллектива, это именно и называется у нас настоящим большевистским мужеством. Потому, что без такого мужества, без умения преодолеть, если хотите, свое самолюбие и подчинить свою волю воле коллектива, — без этих качеств— нет коллектива, нет коллективного руководства, нет коммунизма»[72]. В словах этих — ключ к пониманию того, как формировался герой. Большевистская партия воспитывала Корчагина, направляла его, вела. Усваивая уроки, преподанные партией, он продолжал постоянную, сложную внутреннюю работу над собой и по праву может служить образцом самовоспитания и самодисциплинирования. Знакомясь с дневниками М. К. Павловского, мы обнаружили в них запись одной из бесед с Островским по этому поводу. Запись представляет огромный интерес. Речь зашла о воспитании воли; ведь каждый новый день жизни был для больного новым днем тяжелой работы над собой, битвой за свою жизнь и возможность творчества. Битва требовала сильного характера, несгибаемой воли. Доктор давно интересовался тем, как воспитывается такой характер, такая воля. Он прочитал уйму книг, где трактовалась эта тема, и поделился впечатлениями с Островским: — Я также много думал над этим вопросом, — сказал ему Островский. — Мне кажется, что для самовоспитания надо прежде всего призвать самого себя на собственный суровый беспристрастный суд. Следует ясно и точно, не щадя своего самолюбия и некоторой доли самовлюбленности, выяснить свои недостатки, свои пороки и по-большевистски решить раз навсегда: буду ли я с ними мириться или нет? Необходимо ли носить эту обузу за своими плечами, или я должен выбросить этот балласт за борт. Самокритика — весьма действенное средство, данное нам партией, товарищами Лениным и Сталиным, для перевоспитания людей. Это надо постоянно иметь в виду. Во-вторых, необходимо поставить себе определенную цель жизни, может быть разбив ее на ряд последовательных звеньев. Конечно, надо иметь достаточно здравого смысла, чтобы ставить себе цель по своим силам. Еще премудрый Кузьма Прутков заметил, что «нельзя объять необъятное». — Так вот, — продолжал Островский, — сделав смотр своей личности и наметив себе цель жизни, необходимо твердо итти по избранному пути, внеся те или другие поправки в свою работу… Работая над собой, нельзя предаваться случайным настроениям. Не следует преувеличивать свои силы, но, конечно, не преуменьшайте их. Надо верить в себя. Мои опыты в работе над собой показали, что при всякой, даже скромной работе надо прилагать максимум сил для ее наилучшего завершения. При неудаче надо не отступать, а итти снова и снова в атаку. Боевая жизнь научила нас этому. — Вы, Михаил Карлович, как-то говорили мне; что у итальянцев есть поговорка: для певца требуется прежде всего голос, голос и голос… Пародируя ее, я скажу: для того чтобы быть «человеком», достойным известного восклицания Горького, необходима воля, воля и воля. Для самокритики и сравнений, как мне кажется, имеет серьезнейшее значение наличие у каждого человека высоких образцов духовного величия, которым необходимо следовать, — я не говорю: слепо подражать. История показала, что многие выдающиеся люди в своем духовном развитии шли именно таким путем… Вот почему я приветствую начавшееся у нас в Союзе изучение биографий великих людей. Это очень важное, необходимое, большое дело. В самом деле, как много поучительного можно найти в биографиях Маркса, Энгельса, Ленина. Как много замечательного, могущего служить примером в жизни нашего вождя Иосифа Виссарионовича Сталина. — Для меня жизнь старых большевиков служит маяком, освещающим путь моей жизни, и образом, который я всегда держу перед умственным взором. Воспитывая себя на таких высоких образцах, надо пользоваться каждым случаем, чтобы поступать так, как поступил бы настоящий большевик, то-есть высокоорганизованный морально человек, с волевой установкой. Иначе говоря, необходимо энергично поддерживать в себе стремление поступать именно так, чтобы воспитывать у себя привычку быть таким, каким ты хочешь сделаться. Надо быть всегда активным в этом направлении, а не довольствоваться благими намерениями, о которых давно сказано, что «добрыми намерениями путь в ад вымощен». Про таких людей поэт Некрасов очень едко сказал в стихотворении «Рыцарь на час»:
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано…
…главное в нас,—
и это
ничем не заслонится,—
главное в нас,
это — наша
Страна Советов,
советская воля,
советское знамя,
советское солнце.
НА ОРЕХОВОЙ, 47
Слава книги, естественно, становилась и славой ее автора. Ежедневно почтальон доставлял на Ореховую, 47 туго набитую сумку писем, и рабочий день Островского начинался обычно с их чтения. Он писал в очерке «Мой день»: «…Письма. Они идут ко мне со всех концов необъятного Советского Союза — Владивосток, Ташкент, Фергана, Тифлис, Белоруссия, Украина, Ленинград и Москва. Москва, Москва! Сердце мира! Это моя родина перекликается с одним из своих сыновей, со мной, автором книги «Как закалялась сталь», молодым, начинающим писателем. Тысячи этих писем, бережно разложенных в папки, — самое дорогое мое сокровище. Кто же пишет? Все. Рабочая молодежь фабрик и заводов, моряки — балтийцы и черноморцы, летчики и пионеры — все спешат высказать свою мысль, рассказать о чувствах, разбуженных книгой…» Книга Островского стала могучим инструментом партийного воспитания. Высокая идейность большевика Корчагина, его воля и мужество, его неистребимый оптимизм, его победа над «превратностями личной судьбы» укрепляли силы строителей жизни. В нем увидели героя, которому можно и нужно подражать. Это была книга активного действия. И из образов, населяющих эту книгу, не только Корчагин владел умом и сердцем читателей. «Товарищ Островский! — писала ему одна девушка. — Я прочла вашу книгу «Как закалялась сталь». Она произвела на меня очень сильное впечатление. Ни одна книга не была для меня такой близкой, понятной, необходимой для жизни… Читая раньше книги, я искала в них героинь, на которых хотела бы быть похожей. Но таких героинь не находила. В вашей же книге я такую героиню нашла. Рита Устинович была настоящим, хорошим товарищем, она уважала своих товарищей и они ее уважали, и вообще при ней и с ней никто не мог себе позволить сделать то, что позволил бы сделать при ком-нибудь и с кем-нибудь другим. При ней никто не мог сказать плохое слово. Образ Риты Устинович дал мне ответ на вопросы, над которыми я за последнее время часто задумываюсь… Все замечательные качества вашей книги увеличивают еще то, что все в ней написанное — правда»[96]. Необходимая для жизни книга! Многим ли писателям, даже величайшего таланта, доставалась на долю такая оценка их произведений? Какое из других признаний, какая из других оценок могут сравниться с этой? Когда моряков-подводников, поставивших рекорд длительности плавания, спросили: «Чем вы занимались в редкие минуты отдыха?» — они ответили: «Читали «Как закалялась сталь». Бойцы Среднеазиатского военного округа, пересекшие безводные пространства пустыни, на привале обращались к книге Островского, и она помогала им преодолевать усталость. Туберкулезные больные Баландинского санатория советовали пользоваться романом как лечебным средством. «Я считал себя уже погибшим, — сказал один из них, — но после прочтения «Как закалялась сталь» ощутил новый приток сил, энергии. Я понял, что еще не погиб и что сопротивление не напрасно. Не врач, а больной Павел Корчагин вернул меня к жизни». Обо всем этом спешили сообщить Островскому, и он поистине был счастлив, слыша многоголосые, восторженные, братски родные отклики. Его взволнованно спрашивали: «Переведена ли «Как закалялась сталь» на языки зарубежных народов?.. Понимают ли те, кто этим делом ведает, всю необходимость распространения там твоей книги?» Ему желали крепкого здоровья и долгой жизни, сил и бодрости. Молодой рабочий, вспоминая, что радио дало Павлу Корчагину «жизнь, от которой он отброшен», заботился: стоит ли у постели Островского радиоприемник? Чувашский актер хотел порадовать его обещанием, что он правдиво передаст в своей игре характер героев «Как закалялась сталь». Из городов Орджоникидзе и из Симферополя простые советские люди считали своим долгом сообщить адреса врачей и клиник, которые помогут ему прозреть и стать на ноги. «У Коли теперь жнива, — писала об этом времени Ольга Осиповна, — и жнива обильная. Он собирает теперь то, что посеял за все годы своей жизни. Массу писем он получает со всех сторон Союза. Его здоровье тает, как свеча. Он чувствует скорую развязку и спешит жить. Он говорит, что должен спешить, чтобы написать все то, что он наметил написать. Теперь у него идет сильная борьба, и чем слабее здоровье, тем больше он на него нажимает. Никакие и ничьи советы на него не могут действовать. Поддерживает в нем силы забота партии и народа»[97]. ЦК комсомола Украины постановил обсудить книгу Островского во всех ячейках и школах. «Этого я, признаюсь, не ожидал», — писал он. Радуясь тому, что он, наконец, вернулся снова в строй действующей армии советских людей, торжествуя от сознания, что его слово стало его делом, что он активно участвует в великом походе народа, в героических битвах за коммунизм, Островский спешил жить, то-есть работать. — Надо работать, ибо жизнь — это труд, а не копчение неба. — Я давно думал, Рая, можно ли применить понятие «слава» к тому, что происходит вокруг моего имени, — делился он с женой. — Потом испугался своих мыслей; они показались мне пошлятиной. А вот сейчас опять нет. Все-таки хорошее слово «слава», это его на западе изгадили… А у нас слава пахнет по-другому… Вот… Обычным коротким движением одной лишь кисти он приподымал полученные за день письма. — Такая слава не щекочет мелкого самолюбия. Такую славу не купить за деньги. Отдай кровь и жизнь за самое великое, за счастье своего народа, и он одарит тебя такой славой, что начинаешь жалеть, почему ты не можешь повторить жизнь, чтобы еще раз отдать ее в полное распоряжение родины. Молодой писатель чувствовал себя должником. Он стремился скорее и полноценнее оплатить свой долг. «Нужно оправдать доверие и надежды партии. Пока есть силы, нужно написать молодежи пару книг». Еще в 1933 году Островский задумал новый роман «Рожденные бурей». В печать проникло сообщение о нем. И ежедневный, все возрастающий поток устремленных к нему молодых, страстных, душевных писем торопил. Необходимо было спешить, ведь «развязка» действительно могла грянуть в любой день, в любой час. Вот одно из писем, призывавших его к труду: «Дорогой товарищ Островский! Мы с нетерпением ждем твоего нового романа «Рожденные бурей». Пиши его скорее. Ты должен сделать его прекрасно. Помни, мы ждем эту книгу». «Мы» — это читатели. Миллионы читателей! И вот ответ на их письмо: «Для меня качество второй книги — дело чести. Я буду над ней работать настойчиво, любовно, вкладывая все, что дали мне пятнадцать лет моей коммунистической жизни. Большая победа первой книги не может закружить мне голову. Я не зеленый юноша, а большевик, который знает, как далека еще до совершенства и действительного мастерства моя первая книга». Всю вторую половину 1934 года, после выхода в свет «Как закалялась сталь», Островский занят мыслями о романе «Рожденные бурей». Он составлял эскизные наброски плана, уточнял сюжет. Не так легко подняться на новую, более высокую ступень творчества, добиться желаемого качества второй книги. «Я учусь упорно и настойчиво, — писал он 7 июля 1934 года. — Мне читают так много, пока не иссякнут у нас обоих силы — у меня и у читающего…» Островский не просто перечитывает, — он тщательно исследует «Войну и мир» и «Анну Каренину» Льва Толстого. Так же вслушивается он в мысли, высказанные в литературно-критических статьях А. М. Горького. Островский конспектирует их; он просит доктора Павловского выписать те места, которые нужно ему продумать. Вот, например, некоторые из этих выписок: «…В нашей литературе не было и нет еще «романтизма», как проповеди активного отношения к действительности, как проповеди труда и воспитания воли к жизни, как пафоса строительства новых ее форм и как ненависти к старому миру, злое наследие которого изживается нами с таким трудом и так мучительно. А проповедь эта необходима, если мы действительно не хотим возвратиться к мещанству, и далее — через мещанство — к возрождению классового государства, к эксплоатации крестьян и рабочих паразитами и хищниками. Именно такого «возрождения» ждут, о нем мечтают все враги Союза Советов, именно ради того, чтобы понудить рабочий класс к восстановлению старого, классового государства, они экономически блокируют Союз. Литератор-рабочий должен ясно понимать, что противоречие между рабочим классом и буржуазией — непримиримо, что разрешит его только полная победа или же гибель. Вот из этого трагического противоречия, из трудности задач, которые повелительно возложены историей на рабочий класс, и должен возникнуть тот активный «романтизм», тот пафос творчества, та дерзость воли и разума и все те революционные качества, которыми богат русский рабочий-революционер». («О том, как я учился писать», 1928)
«Писатель обязан все знать — весь поток жизни и все мелкие струи потока, все противоречия действительности, ее драмы и комедии, ее героизм и пошлость, ложь и правду. Он должен знать, что каким бы мелким и незначительным ни казалось ему то или иное явление, оно или осколок разрушаемого старого мира, или росток нового». («Письма начинающим литераторам», 1930)
«Литератор должензнать если не все, то как можно больше об астрономе и слесаре, о биологе и портном, об инженере и пастухе и т. д.» («О кочке и о точке», 1933)
«Наша молодая драматургия — ниже героической нашей действительности, а основное назначение искусства — возвыситься над действительностью, взглянуть на дело текущего дня с высоты тех прекрасных целей, которые поставил пред собой рабочий класс, родоначальник нового человечества. Мы заинтересованы в точности изображения того, что есть, лишь настолько, насколько это необходимо нам для более глубокого и ясного понимания всего, что мы обязаны искоренить, и всего, что должно быть создано нами. Героическое дело требует героического слова». («О пьесах», 1933)
В глубоком обдумывании этих горьковских мыслей сказалось пристальное внимание Островского к вопросу о роли и долге писателя, то-есть своем новом месте в боевом строю. Сама жизнь дала молодому писателю наиболее полный ответ на его мысли. 17 августа 1934 года в Москве открылся первый Всесоюзный съезд советских писателей. Островский внимательно следил за работой съезда. От строки до строки прочитывалось ему все, что появлялось в газетах. Позже он изучал материалы съезда по стенографическому отчету, особенно вслушиваясь в слова А. А. Жданова, доклад и заключительное слово А. М. Горького. Партия устами товарища Жданова напутствовала писателей: «Создавайте творения высокого мастерства, высокого идейного и художественного содержания. Будьте активнейшими организаторами переделки сознания людей в духе социализма. Будьте на передовых позициях борцов за бесклассовое социалистическое общество». Горячо воспринял это напутствие Островский. Им владело беспредельное желание вложить в страницы будущей книги всю страсть, все пламя сердца, чтобы она звала молодежь к борьбе, воспитывала в ней беззаветную преданность нашей великой партии. «Делаю все, чтобы второе дитя выросло красивым и умным», — писал он А. Караваевой. Но приступив к новой работе, писатель сразу же столкнулся с новыми трудностями. Их нельзя было преодолеть без поездки в Москву. Задуман роман на материале времен борьбы с белополяками, а под руками — никакой литературы. В письме от 22 ноября 1934 года мы читаем: «…И вот здесь сразу же натыкаюсь на полное отсутствие исторического материала, то-есть у меня нет книг, брошюр, статей военного и политического характера, охватывающих 1918, 1919, 1920 годы в наших взаимоотношениях с Польшей. То, что есть в моей памяти от давно прочитанного, виденного и слышанного, недостаточно для основы политического романа. Нужно прочесть все заново, продумать и обобщить». Он хотел порыться в документах, первоисточниках, ознакомиться с показаниями врага. «Возможно, есть переведенные с польского на русский язык мемуары Пилсудского или какого-либо иного белопольского лидера? — спрашивал он москвичей. — Проработать эту фашистскую литературу мне было бы полезно. Врага надо изучить, тогда вернее будет удар». Наконец его интересовали живые участники и свидетели событий, о которых предстояло рассказать. «Особенно важно мне рассказать о первых ростках и собирании сил братской компартии Польши. Конечно, никакая книга не может мне заменить живой рассказ о живых людях; живые люди в художественном произведении почти все. Вот почему мне так нужна Москва…» Островский не собирался зимовать в Сочи, тем более, что погода резко изменилась, начались бесконечные осенние дожди, уехали московские гости, стало тоскливо. Однако хлопоты по жилищным делам в Москве затянулись, и он вынужден был остаться в Сочи. В Сочи он пережил тяжелую весть о злодейском убийстве Сергея Мироновича Кирова. «…И вот это гнусное убийство, — писал он, потрясенный, А. Караваевой. — Этот удар заполнил все. Подумай, Анна, каких гадин вырастила зиновьевщина!» Охваченный гневом к врагам народа — фашистским убийцам — Островский в первых же числах декабря начинает диктовать свой антифашистский роман «Рожденные бурей». Он с головой ушел в новую работу. «Я работаю каждый день по шесть с половиной часов, — писал он 1 января 1935 года. — Пишу с десяти до трех с половиной, затем обед, отдых, вечером читаю книги. Пишу медленно, одну печатную страницу в день. Дело ведь не в количестве». Он продвигается вперед медленно, но упорно. В начале января нового 1935 года готовы уже вчерне две главы. Первыми читателями и критиками этих глав были члены литературного кружка клуба «Профинтерн». На квартире Николая Алексеевича состоялось чтение и обсуждение написанного. Островский трудно переносит дождливую сырую сочинскую зиму. Работу тормозит то вспышка гриппа, то двухсторонний плеврит. Врачи категорически запретили ему писать и даже читать. «Все кругом зовет к труду и действиям, а я засыпался», — пишет он И. П. Феденеву. Болезнь отрывает его на полтора месяца от труда; он подчиняется врачам, чтобы скорее вернуться к работе. Возвратившись же к ней, Островский наверстывает упущенное. «Я жив, — пишет он 26 апреля М. 3. Финкельштейну. — Болезнь по-боку. Работаю, как добросовестный бык; от утра до позднего вечера, пока не иссякает последняя капля силы, — тогда засыпаю спокойно, с сознанием, что день прожит как следует… Да здравствует труд в стране социализма!.. Приложите руку к моему сердцу, оно гвоздит 120 ударов в минуту, — до чего у нас стало хорошо жить на свете!..» В одной из бесед он сравнивал жизненный путь человека с дорогами, по которым шагает пешеход. — Казалось бы, ровная дорога — самая легкая. А на самом деле нет ничего скучнее и утомительнее, чем ровный, однообразный путь. То ли дело, если приходится на пути и на горку вскарабкаться и пересечь лес или переплыть реку… Так и на жизненном пути: только когда преодолеваешь препятствия, дышишь полной грудью и живешь по-настоящему интересно… Он не приспособлен был к размеренному и неторопливому бытию. Работа, «преодоление препятствий» — именно в этом всегда заключалась для него счастливая полнота жизни. Он диктует, редактирует написанное, знакомится с материалом, нужным для следующих глав (какую-то часть книг ему прислали друзья из Москвы). Горком партии премировал его «за ударную работу на литературном фронте». Островский действительно трудился по-ударному. И в результате к началу мая были готовы и отосланы в Москву, в редакцию журнала «Молодая гвардия», пять глав. Главы эти до появления в журнале, печатались в газете «Сочинская правда». У газетных киосков вырастали очереди. Читатели проявляли огромный интерес к новому произведению Николая Островского. Работая над романом, он не выключал себя из общественной жизни. У его постели проходили собрания партийной группы, в которой он состоял; у него попрежнему собирался комсомольский актив; первого мая пришло руководство горкома партии, командование погранотряда; он вел переписку со своими многочисленными корреспондентами, считал себя обязанным помочь старой учительнице в получении пенсии и потребовать от Народного комиссариата здравоохранения Узбекистана разбора жалобы врача. Он работал так интенсивно, что горкому партии пришлось вмешаться и своим авторитетом подкрепить предписания врачей. 16 мая бюро Сочинского горкома ВКП(б) слушало творческий отчет коммуниста Островского. Это был отчет о пройденном творческом пути, о сделанном, и доклад о настоящей и будущей работе. — Хотя врачи и думают, что я скоро пойду в бессрочный отпуск, — говорил Островский, — но они и пять лет назад твердили то же самое, а Островский не только прожил эти пять лет, но и еще собирается прожить не меньше трех лет… Не учли качества материала. Я получаю сотни писем от комсомольских организаций страны с призывом к борьбе. Эти письма зажигают меня. Тогда я считаю преступлением прожить бездеятельно хотя бы один день. Мой рабочий день — десять-двенадцать часов в сутки. Я должен спешить жить.
 Н. А. Островский (1935)
Н. А. Островский (1935)
С сыновней благодарностью отмечал он заботу партии о нем; эта забота рождает новые силы. — Ощущаешь, что вошел в строй в полном смысле этого слова. Я могу сказать про себя, что я счастливый человек. Недостает лишь здоровья. Настроение у меня хорошее, голова светлая, я счастливый человек, и я не выдумываю это. Члены бюро горкома задавали ему вопросы. Он отвечал. — Какую вы читаете литературу? — Бывают периоды особо интенсивного наступления на творческом фронте, и тогда вся мысль отдается творчеству. Бывают недели, когда я не читаю ничего, кроме газет. Но когда все накопившееся переведено на бумагу, тогда получается наоборот. Все журналы, какие только есть, я получаю. Регулярно читаю «Большевик», наши критические журналы. Из художественной литературы читаю каждую новую книжку, которая так или иначе становится известной стране. Перед тем как начать писать новый роман, я восемь месяцев читал лучшие произведения мировой художественной литературы Такие книги, как «Война и мир», «Анна Каренина» и целый ряд других, читались мною много раз. — Что дал тебе съезд писателей? — Съезд писателей дал мне программу действия. Особенно речь товарища Жданова и доклад А. М. Горького. Двадцать дней назад я получил стенографический отчет съезда, и этот отчет вновь будет детально проработан[98]. Дружеская партийная беседа продолжалась несколько часов. Закончилась она тем, что бюро горкома одобрило деятельность коммуниста-писателя Островского и, учитывая его крайнее переутомление, предложило «уйти в отпуск» — на месяц прекратить работу над романом, отдохнуть. Островский обязан был подчиниться партийному постановлению. «Я заканчиваю свои дела и первого июня ухожу «в отпуск». Я устал без меры», — читаем мы в письме, датированном 25 мая 1935 года. «Сегодня последний день работы. Завтра отпуск», — писал он 31 мая. Работа над романом была действительно приостановлена. Однако «отпуск» не состоялся. Еще в апреле Главное управление кинематографии Украины договорилось с Николаем Алексеевичем об экранизации «Как закалялась сталь». Ставить фильм должна была Одесская киностудия. ЦК ЛКСМУ поддержал эту идею и обязал комсомольца Островского участвовать в создании кинофильма. В помощь ему послали кинодраматурга М. Заца. Он прибыл в самый канун «отпуска» Островского. Отдохнуть Островскому так и не удалось: никогда не умевший ничего делать наполовину, он энергично принялся за работу над сценарием. До приезда в Сочи М. Зац беспокоился: удастся ли найти общий язык с писателем, ведь уже несколько лет тот лишен возможности следить за развитием кинематографии. Экранизация книги — дело чрезвычайно сложное. Не обойтись без значительных купюр, без творческого вмешательства в самую ткань произведения. Согласится ли с этим Островский? Поймет ли он особенности нового жанра искусства? Опасения оказались напрасными. После нескольких общих бесед о кинематографии Николай Алексеевич сказал своему соавтору по сценарию: — Нам придется от многого в книге отказаться, чтобы сохранить место для основного, чтобы ярче зазвучали на экране центральные образы: Корчагин, Жухрай, Артем, мать, Рита… Прежде всего он попросил прочесть ему ряд сценариев, опубликованных в нашей печати. Среди них — «Аэроград» А. Довженко. Затем началась работа. Эпизод за эпизодом отбирался материал для сценария. Островский не шел только по книге. Отказываясь от одних сюжетных линий, он развивал и дополнял другие. Порой он заменял эпизоды книги совершенно новыми. «Николай Алексеевич стремился и передо мной ставил ту же задачу — создать образы, неповторимые в своей индивидуальности и в то же время являющиеся типичными представителями своего класса»[99]— пишет М. Зац. И только тогда, когда выкристаллизовался весь сюжетный строй вещи, когда каждое действующее лицо будущего сценария, даже самое незначительное, получило свою жизнь, вступило в борьбу, начало действовать, Островский счел возможным начать литературную запись сценария. Работа над сценарием продолжалась все лето и осень. Литературный сценарий «Как закалялась сталь» — в значительной мере самостоятельное, оригинальное произведение. В нем легко обнаружить, конечно, свои слабости и легко отделить соавтора от автора. Нас интересует в сценарии работа Островского, ход его мыслей, а не те или другие «эффектные сценки», приспособленные для экрана. Начинается сценарий не с дореволюционных лег жизни Павла Корчагина, а со времени гражданской войны. Издалека доносится неясный грохот батарей. Боженко двигается на Шепетовку. Мертво все на станции. Железнодорожники бастуют; они требуют освободить товарищей, арестованных за отказ перевозить петлюровские войска. Электростанция еще работает, но все рабочие столпились вокруг большевика Жухрая. Он говорит им: «— Предаем, значит, железнодорожников. Пущай себе бастуют, а мы в холодок? Рабочие молчат. Мерно дышат моторы. Жухрай ждет ответа. — Тебе хорошо бастовать холостому, а у меня семья девять душ, — угрюмо говорит ему старый рабочий. Его поддерживает другой: — Против силы не попрешь». Затем экран переносит нас к кривой вербе у пруда, под которой сидит с засученными выше колен штанами шестнадцатилетний Корчагин и удит рыбу. Рядом с ним не Тоня Туманова, как в романе, а Рита Устинович. Это она читает книгу Войнич «Овод», и с нею дружит подросток Корчагин. Рита заменила в сценарии и Тоню, и Валю Брузжак, и Таю — жену Корчагина. Она и мать Корчагина — два оставшихся женских образа. Корчагин по совету Жухрая похищает на электростанции привод от динамо и тем самым помогает бастующим. Городок остается без света. Петлюровская власть в панике. Заодно с Корчагиным действуют Рита Устинович, Сережа Брузжак, Иван Жаркий. Ими руководит Жухрай. Островский сохранил героическую линию поведения действующих в романе лиц, но их конкретные поступки не всегда совпадают с тем, что мы знаем из книги. Иван Жаркий, например, беспризорник; он обманывает петлюровского часового и доставляет арестованным передачу. Так в сценарии; в книге этого нет. Иным, чем в романе, должен был появиться на экране и Артем. Уже не машинист Политовский, а именно он, Артем, принимает твердое решение расправиться с часовым и пустить под откос эшелон со снарядами, предназначенными для петлюровцев. По решению подпольной шепетовской партийной организации Корчагин и Жаркий переходят фронт и попадают к Боженко. — Воевать хотите? — Обязательно! — в один голос отвечают оба. В романе есть такой эпизод: Красные освобождают Житомир. Тысячи политзаключенных, брошенных в тюрьму петлюровцами, спасены благодаря этому от неминуемой смерти. Когда Корчагин ворвался в тюрьму и распахнул широкую дверь камеры, «какая-то женщина с влажными от слез глазами бросилась к Павлу и, обняв, словно родного, зарыдала…» В романе не названа эта женщина. В сценарии же досказано: «Когда женщина подняла голову, Павел увидел, что это была Рита». Таких новых сюжетных поворотов в сценарии много. Рита, а не Самуил Лехер рассказывает Корчагину о том, как повесили в тюремном дворе их товарищей. И среди них был Сережа Брузжак… Секретарь комсомольской организации железнодорожных мастерских — Жаркий, а не Цветаев, вместо Костьки Фидина — некто «Рябой», уголовный тип, связанный с троцкистами. Начальник строительства узкоколейки — старик Брузжак. Узкоколейке отведено в сценарии большое место. Когда бандиты тяжело ранят Брузжака, начальником вместо него остается Корчагин. Есть эпизоды, которые читаются, как новые, неизвестные нам страницы любимой книги. Рита звонит по телефону Корчагину и просит его немедленно приехать на собрание, где выступает троцкистский выродок Туфта. Она говорит: — Они выставляют Туфту героем узкоколейки. Туфту, которого мы выгнали из губкома. Ты знаешь Туфту, рабочие тебя знают, я посылаю за тобой машину. Про это услышал «Рябой». Он спешит «встретить» Корчагина. «Несется на полном газе машина. Проваливается на ухабах. Швыряет в машине во все стороны едущего на помощь Рите Корчагина. Далеко-далеко виднеются заводские здания. Едет Павел, выжимает шофер из машины все, что можно. Вдруг в тишине гул лопающихся камер. Машину занесло, опрокинуло, выбросило шофера. Корчагина придавило машиной. В покрышках перевернутой машины шляпки гвоздей. Ослепительно белые стены больницы, тихие стоны в коридоре. Закрыты двери операционной. В приемной Рита и Жаркий. Они ждут. Двери операционной закрыты. Не сводит глаз с дверей Рита. Медленно раскрываются двери, из операционной выкатывают лежащего на носилках Павла, уводят за поворот коридора. Рита бросается в операционную. Ее пытается задержать санитарка, но напрасно. Профессор мыл руки. Вода темнела, сбегая в умывальник. К профессору взволнованно подошла Рита. — Профессор! Хирург повернулся. Перед ним подергивающееся от волнения девичье лицо. — Профессор, что с Павкой? — Пока все благополучно, — умывая руки, ответил профессор. Рита не верит, она со страхом смотрит, как сбегает с рук профессора темнеющая вода в умывальник. Она просит: — Профессор, вы мне должны сказать все… Это мой самый любимый, самый близкий… Это мой муж… Слезы чувствуются в голосе Риты. Профессор с сожалением взглянул на нее, отряхнул руки и решился: — Мне вас очень жаль, деточка, но вы должны знать все. Профессор, вытирая руки, говорит: — Автомобильная катастрофа сама по себе, но у него контузия позвоночника, ревматизм, нажитый на узкоколейке, и тиф… он дал осложнения… Профессор замялся. У него нехватает решимости сказать все. Рита с каждым словом профессора все более овладевает собой. — Договаривайте, профессор… — говорит она. И профессор, видя мужественное лицо Риты, требующей от него правды, договорил: — Мне вас очень жаль. Он обречен на неподвижность. И поспешно ушел, пряча глаза от Риты. В глазах ее такая мука, что, кажется, вот-вот она упадет. Нетвердо сделала Рита шаг, другой. С каждым шагом ее походка становится тверже». Всего этого нет в романе. И в то же время страницы эти очень органичны, потому что в них жив дух «Как закалялась сталь». Островский жаловался на то, что проклятая болезнь «надавила на последние главы» и не дала ему возможность закончить книгу так, как ему хотелось. Вполне вероятно, что в сценарии ему удалось досказать много из недосказанного. Именно так относишься к полной драматизма сцене разговора Павла и Риты в тот момент, когда Корчагин почувствовал, что он ослеп. «Павел смотрит на Риту. Смотрит нежно на свою подругу. Но почему лицо ее подернулось дымчатой сеткой в его глазах? Он моргнул, чтобы прогнать эту досадную пелену, ему казалось, что это оттого, что его глаза устали, и он закрыл их. Тихо-тихо звучит песня. Павел открыл глаза, но пелена не уходит, она становится все гуще и гуще, лицо Риты расплывается. Он силится его увидеть таким, каким он его видел всегда. Но оно другое, какое-то далекое и расплывчатое. И если память на мгновение восстанавливает родные черты, то глаза говорят ему другое. Павел понял — последний раз видит он лицо Риты. Он до крови закусил губу, чтобы подавить вопль, и, овладев собой, почти спокойно сказал: — Нагни, Рита, голову, сюда… к руке. Рита с недоумением взглянула на Павла. — Я хочу запомнить твое лицо… Рита увидела, что Павел смотрит на нее уже невидящими глазами. Медленно опустила Рита голову к одеялу, к руке Павла. Ползут его пальцы по лицу Риты, ощупывают каждую черточку, чтобы навсегда запомнить лицо любимой. Пальцы взъерошили волосы Риты, как в тот вечер над Днепром. Пальцы ласкали мягкие, нежные волосы. Покатились слезы у Риты. Пальцы Павла ощутили слезы на ее щеке. Павел хотел поднять голову Риты, но она крепко зарылась головой в одеяло, прижалась к его руке. Павел чувствовал всем телом, как вздрагивают плечи Риты. Павел молчал. Плечи Риты перестали вздрагивать. Павел тихо начал: — Рита, теперь тебе нужно от меня уйти. Четыре года ты ждала, надеялась… Какой я тебе муж? Рита подняла голову. Слезы высохли у нее на глазах. Она укоризненно смотрит на Павла. Она даже забыла, что Павел ее не видит. Она спрашивает: — Где ты видел, Павка, чтобы бойцы бросали раненых товарищей? Она выпрямилась во весь рост. Перед нами стояла та Рита, которую мы видели, когда она шла на виселицу, которую мы видели в тюрьме. Она говорила: — Мы еще повоюем…» В романе эта страница биографии Корчагина выглядит несколько иначе. Там Тая спрашивает Павла: «А ты меня не оставишь?» И он отвечает ей почти словами Риты: «Слова, Тая, не доказательство. Тебе остается одно: поверить, что такие, как я, не предают своих друзей… Только бы они не предали меня, — горько закончил он». Книга завершается тем, что Корчагин получает телеграмму: «Повесть горячо одобрена. Приступают к изданию. Приветствуем победой». В сценарии же есть свой апофеоз, продолженный во времени, и звучит он абсолютно естественно. «У постели Павла собирались друзья. Всю комнату занял стол, уставленный едой, фруктами. Рубиновое краснеет вино в графинах. Над кроватью Павла полочки с книгами — это его повесть, переведенная на языки народов Советского Союза. Громовым «ура» встречают каждого гостя. Здесь Артем и Жаркий, здесь Панкратов и Брузжак, здесь Жухрай, здесь девушки и молодежь, летчики и моряки, конники и танкисты — здесь читатели Павла Корчагина. Разливают Рита и мать вино в бокалы. Наступила тишина. Жухрай поднес бокал Павлу. — Первый тост твой, Павка!.. Осторожно (чтобы не расплескалось вино) он дает бокал Павлу. Тишина, и в тишине начал свой тост Павел. Он сказал: — Мы — дети тех, — и перешел на песню:
…кто выступал
На бой с Центральной радой,
Кто паровоз свой оставлял.
Идя на баррикады.
Наш паровоз, вперед лети!
В Коммуне — остановка.
Другого нет у нас пути,
В руках у нас винтовка.
Другого нет у нас пути,
В руках у нас винтовка»[100].
 Письмо М. И. Калинина к Н. Островскому.
Письмо М. И. Калинина к Н. Островскому.
«Дорогой, любимый товарищ Сталин! Я хочу сказать Вам, вождю и учителю, самому дорогому для меня человеко наградило меня орденом Ленина. Это — высшая награда. Меня воспитал Ленинский комсомол, верный помощник партии, и, пока у меня бьется сердце, до последнего его удара, вся моя жизнь будет отдана большевистскому воспитанию молодого поколения нашей социалистической Родины. Мне очень больно подумать, что в последних боях с фашизмом я не смогу занять своего места в боевой цепи. Жестокая болезнь сковала меня. Но с тем большей страстью я буду наносить удары врагу другим оружием, которым вооружила меня партия Ленина — Сталина, вырастившая из малограмотного рабочего парня советского писателя. Островский. Сочи, 2 октября 1935 г.» Эти дни стали праздником. Островский рассказывал потом: — Вот уже несколько дней, как моя квартира — скромный, маленький домик — превратилась в настоящий штаб. Звучат бесконечные телефонные звонки, подъезжают машины, давнишние товарищи отзываются со всех концов нашей необъятной страны, шлют горячие, прекрасные письма. О чем говорит все это? Это говорит о том, что в нашей стране каждый боец, на каком бы участке он ни работал, окружен вниманием и любовью и его достижения радостно приветствует вся родина… Академия художеств командировала тогда в Сочи своего воспитанника — молодого художника Яр-Кравченко; он был первым и единственным, кто рисовал живого Островского. Вечером 12 октября состоялась радиоперекличка городов Киев — Шепетовка — Сочи, посвященная писателю-орденоносцу. Из Киева Островского приветствовал представитель ЦК ЛКСМУ. Знатные люди Украины — читатели «Как закалялась сталь» — делились своими впечатлениями от книги. Затем «родного Миколу» поздравляла родная Шепетовка. В Сочи микрофон установили у постели Николая Алексеевича. У него в комнате собрались в тот день А. Безыменский, В. Инбер, М. Голодный, местные товарищи. Выслушав киевлян и шепетовиев, Островский обратился к ним с ответной речью. Впервые говорил он тогда с такой огромной» невидимой ему аудиторией. — Товарищи! Мне тяжело сейчас спокойным и ровным голосом рассказать вам о своей жизни, — начал Островский. — Громко стучит мое сердце. Оно бьется так сильно, как билось в прежние годы, когда командир командовал: «Шашки на-голо! Готовься к бою!» Глубокое волнение охватывает меня при мысли, что меня слушают сейчас десятки тысяч человек. Дорогие мои товарищи! Молодежь нашей молодой, прекрасной и великой Родины! Я передаю вам мой пламенный привет. Когда грянет гром и настанет кровопролитная ночь, я глубоко уверен, что на защиту родной страны встанет множество бойцов — таких, как Корчагин. Но меня среди вас уже не будет. И я прошу вас — рубайте за меня, рубайте за Павку Корчагина, и под вашим натиском рухнет весь буржуазный мир.
 Н. А. Островский выступает по радио (1935).
Н. А. Островский выступает по радио (1935).
Вдохновенно говорил он о родине, по-матерински заботящейся о своих сыновьях, и о нашем священном долге перед родиной. — Наша задача — укреплять родину, строить страну могучую и великую, создать ту силу, во имя которой борются рабочие всего мира. Мы отстаиваем мир, необходимый нам, чтобы создать величайшие ценности, чтобы наша страна стала богатой, а мы все грамотными и культурными. Но мы не пацифисты. Мы за мир, но если загремит война, то вся молодежь встанет на защиту родной страны. Теперь, товарищи, я хочу рассказать вам, как я живу, над чем работаю. В своей книге «Как закалялась сталь» я писал: «Домой Павел возвратился поздней ночью. На митинге он произнес, сам того не зная, свою последнюю речь на большом собрании». Должен сказать, что это неверно, что нельзя было писать, будто Корчагин выступал в последний раз. В нашей стране ни один боец никогда не может сказать, что он выступает в последний раз, пока у него бьется в груди сердце. Я сейчас работаю так радостно, как никогда в жизни. Казалось бы, боец выбит из строя, лишен счастья бороться в рядах товарищей, тяжелая болезнь приковала его к постели. Но это не так — я работаю, и я улыбаюсь жизни. Наша жизнь неповторимо прекрасна! И дальше он рассказал слушателям о своей повой работе — романе «Рожденные бурей», познакомил их с одной из глав этого произведения. — Лейтмотив моей новой книги — это преданность Родине, — говорил Островский. — Я хочу, чтобы при чтении моей книги читателем овладевало прекраснейшее из чувств — чувство преданности нашей великой партии. — Я хочу, чтобы новая книга не уступала в яркости моей первой книге, которую так приветствует наша молодежь, чтобы моя новая книга была произведением волнующим, зовущим к борьбе — это цель моей жизни. Закончил он свою речь так же взволнованно, как и начал. — Друзья мои! Если бы кто-нибудь спросил меня, в чем наибольшее счастье человека, я ответил бы: это счастье работать в нашей великой Советской стране, это бороться за дело социализма, быть в передовых рядах комсомола, в рядах партии Ленина — Сталина. В нашей молодой и прекрасной стране каждый юноша должен быть бойцом. И я хотел бы, чтобы боевая наша молодежь была всегда в передовых рядах строительства социализма. Я горячо жму ваши руки. Ваши молодые сердца должны почувствовать биение моего сердца. Для вас я живу. В нашей стране мы все должны быть прекрасными бойцами и того, кто отстает, кто боится трудностей, того не могут уважать товарищи. Я от всего сердца передаю привет моей стране, моей родине, тому городу, где я родился, привет молодежи Шепетовки — горячий большевистский привет! Да здравствует партия, которая воспитала нас! Мои молодые, мои дорогие товарищи! Приветствую вас своей работой. Когда я выпущу свою книгу, тогда вы скажете, сдержал ли я слово, данное вам в этот памятный день. Всего вам хорошего. Мой горячий привет всем вам. Да здравствует Любимая наша родина! До свиданья, товарищи! До встречи с книгой! Как мы уже заметили, это было первое выступление Островского перед микрофоном. Оно произвело огромное впечатление на слушателей, и прежде всего на молодежь. Сколько чудесных, от сердца идущих писем получил он в ответ! В тот же вечер «Последние известия по радио» записали на пленку приветствие Островского, обращенное к демонстрантам, которые 7 ноября — в день XVIII годовщины Октября — пройдут в Москве через Красную площадь. Он зримо представлял себе это величественное шествие и говорил с большим душевным подъемом: — Приветствую Красную Москву — сердце мира— с XVIII Октябрем. Приветствую того, кто поднял нашу страну к высшему величию, кто поднял красное знамя над всем миром, человека, великая эра которого в сердцах каждого честного рабочего нашего мира, товарища Сталина. Правительство наградило меня высшей наградой — орденом Ленина. Имя Ленина, имя Сталина — это знамя мировой революции, знамя социализма… Наша страна подняла культуру на величайшую высоту. Мы, большевики-писатели и беспартийные писатели, являемся преданными застрельщиками этой культуры. Мы несем знамя нового мира, новых идей, новых чувств. Да здравствует Москва! Да здравствуют трудящиеся, проходящие сейчас перед трибуной! Да здравствует наше великое дело и наш великий вождь! Да здравствует мировая революция! 23 октября было проведено собрание городского партийного актива. Писатель снова выступил по радио. — Товарищи, я слышал много прекрасных слов, обращенных ко мне. В ответ я могу сказать лишь одно: высокая награда правительства, почетный знак Республики — орден Ленина, прикрепленный к груди бойца, — обязывает его не только не сдавать занятых позиций, но и победно двигаться вперед. Писатель-боец, он и говорил о месте советского писателя в строю, о задачах, стоящих перед литературой. Островский тогда выразил свой взгляд на писателя. — Это прежде всего — строитель социализма, а не равнодушный «созерцатель». Это боец. Боец, учитель, трибун. Человек с большой буквы. Ведь каждый из нас должен учить не только своим словом, но и всей своей жизнью, поведением. — Мы, писатели, — говорил он, — не имеем права отставать от жизни. Вот почему мы должны работать на полную мощность, то-есть с напряжением всех духовных, творческих сил, чтобы наш изумительный читатель получал книги, достойные его… А. Безыменский и Вера Инбер выступили на этом собрании, рассказали о своих встречах с Островским, читали свои стихи. Спустя месяц, 24 ноября, Николаю Алексеевичу торжественно вручили орден Ленина. Комсомольские организации Киева, Харькова, Шепетовки, Донбасса, Ростова, Таганрога, Армавира прислали в Сочи к Островскому своих представителей, чтобы передать горячий привет любимому писателю молодежи и вместе с приветом — подарки. Здесь были: искусно сделанная модель винтовки и пушки на мраморной доске; модель вагонетки, наполненной высокосортным антрацитом, и шахтерская лампочка; вентилятор; книга «15 лет Украинского комсомола»; произведения украинских писателей с их автографами; патефонные пластинки… — Добре, хлопци, добре, — говорит смущенный всем этим Островский. Он расспрашивает каждого — кто он, откуда, как работает. Ему приятно было узнать от земляка, что в Шепетовском районе нет уже ни одного единоличника, что колхозники живут там зажиточно, культурно, и он рад был услышать от гостя-политрука, что их полк занял первенство на киевских военных маневрах. Островский просил передать бесчисленным своим друзьям, что он гордится их достижениями. Вместе со всеми он шутил, смеялся, пел:
И тот, кто с песней по жизни шагает»
Тот никогда и нигде не пропадет!
 Н. А. Островский с сестрой Екатериной Алексеевной (1936).
Н. А. Островский с сестрой Екатериной Алексеевной (1936).
Неустанно нес свою постоянную вахту доктор М. К. Павловский; он внимательно следил за состоянием здоровья больного и был готов к любым неожиданностям. Железнодорожники на узловых станциях были предупреждены, что со скорым Сочи — Москва едет Николай Островский. Вагон встречали. У сопровождающих заботливо осведомлялись, не нуждается ли в чем-либо писатель. В Ростове, а затем в Харькове Островского радушно приветствовали делегации рабочих, местные писатели. Людской «конвейер», устремленный к Островскому, не приостанавливался и в пути. 11 декабря, уже под Москвою, в Серпухове, его встретили московские друзья; Л. Караваева, Матэ Залка, И. Феденев и другие. Островский казался веселым, он смеялся, шутил, расспрашивал о столичных новостях. Между тем позже стало известно, что недалеко от Москвы у него начались почечные колики. Он испытывал мучительные боли. Павловский и Екатерина Алексеевна заметили, что Островский побледнел и лицо его покрылось холодным потом. Он скрыл от них истинную причину недомогания, сославшись на обычную дорожную усталость. За окнами простирались снежные поля. На стыках рельсов вздрагивали и легко покачивались вагоны. Островский словно угадал возникшую за окном и невидимую для него искристую россыпь ночных огней столицы. — Москва, Москва — сердце родины, — произнес он, заметно волнуясь… Здесь родился он как писатель; здесь вышла в свет его первая книга. — Чувствую я себя прекрасно. Да иначе и не могло быть, — говорил он. — Так и передайте товарищам. Но товарищи, которых он имел в виду, — комсомольские работники, корреспонденты газет, сотрудники Моссовета, пионеры, собравшиеся на Курском вокзале, — сами уже валили к нему в вагон. Какая-то школьница преподнесла ему букет хризантем. Островский был тронут до глубины души. — Меня встречают, как победителя, — сказал он. — Я очень рад приезду в дорогую Москву. Я потрясен тем вниманием, которое мне оказывали в пути, и сердечно благодарен за прием в Москве… Я благодарю вас всех…
В МОСКВЕ
Островский прибыл в Москву 11 декабря 1935 года. Трое суток он прожил в вагоне, так как предоставленная ему квартира еще не была полностью оборудована. Председатель Моссовета товарищ Булганин сам наблюдал за тем, чтобы в квартире Островского все соответствовало нуждам больного писателя. В его комнате необходимо было поддерживать температуру в 22–25 градусов. С этой целью, кроме обычного, парового отопления, были установлены специальные электрические печи. Большое окно, выходящее на улицу Горького, задергивалось по указаниям врачей тяжелыми, не пропускающими света и заглушающими шум шторами. Днем 14 декабря к вокзалу подали специально отепленную санитарную машину (в Москве стояли морозы). Островского, одетого в красноармейскую шинель и буденовку, перевезли на ул. Горького, в дом № 40. Николай Алексеевич просил подробно описать ему каждую из трех комнат его нового жилья. Он расспрашивал о самых малейших деталях: стоят ли в комнате цветы? во всех ли комнатах есть вентиляция? какой вместимости книжный шкаф? какую площадь имеет каждая комната? как они обставлены? Отдохнув несколько дней с дороги и освоившись в новой квартире, Островский окунулся в работу. Сначала он занялся «организационными вопросами» — установлением связи с Союзом писателей, библиотеками, архивами, издательствами. Потом, со свойственным ему пылом, снова принялся за работу над «Рожденными бурей». Секретарь Николая Алексеевича, стенографистка А. А. Зыбина, читала ему «Правду» за 1918, 1919, 1920 годы и по его указанию делала заметки или переписывала целые выдержки в специальный блокнот. Она читала ему военную литературу, писала под его диктовку и переписывала на машинке. Когда Островский уставал от работы, он объявлял «передышку» и условным звонком приглашал обычно всех находящихся в квартире к себе в комнату слушать музыку. И не только музыку… Люди входили в полузатемненную комнату с несколько «оранжерейной» температурой. Справа у стены — письменный стол. На нем книги и рукописи. Большой диван; над ним на полке бюст Владимира Ильича. На стене — портрет И. В. Сталина. Книжный шкаф и на нем — бюст Анри Барбюса. Островский лежит, наполовину закрытый пледом. Обострившееся лицо его напряжено. Глаза широко открыты. Большой лоб, и на нем, над правой бровью, отчетливо выделяется вмятина — след былого ранения.
 П. А. Островский в красноармейской — буденновской — форме (1935).
П. А. Островский в красноармейской — буденновской — форме (1935).
Но прежде чем гость успевает разглядеть черты его лица, глубоко впавшие глаза, черную шевелюру волос; прежде чем он обращает внимание на воинскую гимнастерку, на телефонную трубку над изголовьем, на неизменно лежавшую на груди больного камышевую палочку с марлей, намотанной на конце (палочкой этой он утирал пот со лба), — он слышит бодрый, приветливый голос хозяина, который обращается к вошедшему, как к своему давнему другу. Писатель усаживает гостя рядом с собою, протягивает кисть руки, — только кисти рук с трудом подчинялись ему, сохраняя слабую подвижность, — и, пожав руку гостя, уже не выпускает ее до конца разговора. И по тому, как крепко удерживает он вашу руку, как нервно то и дело ее пожимает, вы догадываетесь, что эта ваша рука словно бы приближает вас к его внутреннему зрению, помогает Островскому разглядеть вас. Вам передается его огромное внутреннее напряжение, — и вот вы целиком включены в высоковольтную сеть мыслей и чувств этого замечательного человека. И чем дольше длится беседа, тем все больше и больше забываете, что вы находитесь у постели человека, давно уже сраженного тяжелым недугом. Не сострадание к больному овладевает вами, но чувство великой гордости за него и чувство стыда за собственную, по сравнению с ним, вялость; за все, что следовало сделать и что осталось несделанным сегодня, вчера, позавчера…
 Комната И. А. Островского в его московской квартире..
Комната И. А. Островского в его московской квартире..
Он говорит: — Самое опасное для человека не его болезни. Слепота страшна, но и ее можно преодолеть. Куда опаснее другое: лень, обыкновенная человеческая лень. Вот когда человек не испытывает потребности в труде, когда он внутренне опустошен, когда, ложась спать, он не может ответить на простой вопрос «что сделано за день?» — тогда действительно опасно и страшно. Нужно срочно собирать консилиум друзей и спасать человека, ибо он гибнет. Ну, а если эта потребность в труде не потеряна и человек, несмотря ни на что, ни на какие трудности и препятствия, продолжает трудиться, он нормальный рабочий человек, и можно считать, что с ним все в порядке. В таком чередовании напряженного труда и встреч с друзьями наступил новый 1936 год. 1 января в «Известиях» появилась заметка Островского, где он подводил итоги прошедшего года и говорил о своих ближайших планах. Называлась эта заметка «Самый счастливый год». Островский писал: «Если бы меня спросили, какой гад самый счастливый в моей жизни, — я мог бы ответить только: — 1935. Если бойца приласкала страна за его упорство и настойчивость, если к его груди, там, где стучит сердце, приколот орден Ленина, то счастье его безмерно. 1935 год был для меня завершением первого этапа творчества, учебы, роста, движения вперед. 1936 год я встречаю, полный надежд, творческих стремлений, огромного желания работать. Движимый этим желанием, я приехал в Москву, чтобы подойти поближе к документальной сокровищнице нашей страны, так необходимой мне для работы над моим новым романом — «Рожденные бурей». 2 января будет днем начала моей работы в Москве. В этот день впервые ляжет передо мной том документов гражданской войны. Большого труда стоило моим уважаемым врачам убедить меня отдохнуть после переезда в Москву, — так безудержно желание сейчас же, немедленно приступить к работе. Когда я читаю страстные выступления Стахановцев, передовых героев — ударников наших строек и заводов, — речи, в которых звучат радость труда и глубочайшее удовлетворение от этого труда, — я всем сердцем понимаю их, потому что то же самое ощущение переживаю и я каждый раз, когда усталый, но радостный засыпаю после напряженного трудового дня. Обстоятельства заставили меня на несколько месяцев отложить работу над новым романом. Сейчас я вновь сближаюсь со своими героями. Я возвращаюсь к зиме 1919 года… Занесенная снегом Украина… Передо мной, как живой, вырастает Андрий Птаха, молодой кочегар с волнистым льняным чубом. Его серые отважные глаза устремлены на меня с суровым укором. — Бросил ты нас, братишка. Кругом земля гудит под конскими копытами. Нам бы в бой, что ли!.. Рядом с ним — черноглазая красавица Олеся Ковалло. Я люблю эту дивчину. Я знаю: из нее выйдет хорошая комсомолка и помощница своему батько, старому машинисту, подпольщику-большевику. Я пожимаю руку своим молодым друзьям и обещаю больше не расставаться с ними…» Прежде чем вернуться к героям своего романа, Островский осваивает тот богатейший военно-исторический материал, который предоставила ему Москва. «Москва дала мне все, к чему я стремился, — писал он 22 января 1936 года А. П. Лазаревой. — Я работаю с большим наслаждением, и если бы жизнь не создавала десятки мелких и больших препятствий, если бы жизнь была более ласкова и не наступала бы в области сердца, то я думаю, что дела литературные пошли бы стремительно в гору». Он поглотил, по его же словам, «десять пудов книг». Из массы прочитанного делались «выжимки». Были отобраны так называемые «рабочие книги». Они всегда находились под рукой. Их насчитывалось десятка три. Среди них: «Царство польское 1815–1830 годов» Аскинази, «За пятьдесят лет» Ф. Кона. «Моя миссия в России» Дж. Бьюкенена, воспоминания Людендорфа, «1920 год» Пилсудского, «Операция на Висле в польском освещении» и другие. Ряд книг он знал настолько хорошо, что точно указывал место, где следует искать необходимую справку. Особенно внимательно изучал Островский партийную литературу, относящуюся к последнему периоду гражданской войны. Ленинская резолюция о советской власти на Украине (декабрь 1919 г.)[108] широко осветила положение на Украине, соотношение классовых сил, борьбу партии против буржуазных националистов. Огромное впечатление произвели на Островского гениальные сталинские высказывания: статья «Новый поход Антанты на Россию» и беседы о положении на Польском фронте (от 24 июня и 11 июля 1920 года). Николай Алексеевич жалел, что не знал этих высказываний, когда писал восьмую главу первой части «Как закалялась сталь» (о прорыве Польского фронта). Он мечтал показать в романе «Рожденные бурей» товарища Сталина как организатора и руководителя освобождения Украины и товарищей Ворошилова и Буденного, возглавлявших героическую борьбу Первой Конной. Большая подготовительная работа, которую провел Островский, дала ему ясность видения всей политической обстановки тех лет, уяснила значение исторических фактов. Все это помогло ему более крепко построить сюжет, дать более точную характеристику отдельных действующих лиц. Писатель тщательно продумывал движение сюжета, черты характера и внешнего облика героев До тех пор, пока все не было выношено им окончательно, он обычно не приступал к записи текста. «Сейчас передо мной встает трагедия Пшигодского. Боец, хороший рубака, суровый человек с нежным сердцем не находит счастья в своей личной жизни. Часто в боях, напряженных походах он вспоминает о своей нежной подруге, полногрудой красавице Франциске, вспоминает ее ласки, ее податливость, и в сердце его врывается боль. Его не влечет другая женщина. Я не смог еще правдиво решить проблему Пшигодского и его взаимоотношения с Франциской. Это трудная для художника задача. И я думаю, я чувствую, что Пшигодский не найдет другой жены, хотя мне очень трудно поверить, что его любовь к Франциске опять вспыхнет прежним пламенем и согреет его жизнь. Увидим. Все зависит от того, не погибнет ли он в боях… И странно, я так это переживаю, как будто Пшигодский— близкий мне человек. А ведь это всего один из героев моего романа». Эта небольшая выдержка из письма Островского открывает нам «тайное тайных» — движение творческой мысли художника, позволяет нам проникнуть в его творческую лабораторию. Жизнью, жизненной правдой проверял он каждую коллизию романа и каждый раз мучительно искал единственно верное решение задачи. Когда решение находилось, когда воображение подсказывало ему истину со всеми ее хитросплетениями и противоречиями, он загорался и начинал диктовать. Диктовал Островский довольно быстро и четко. «Диктую в стремительном темпе, и машинка стучит, как пулемет во время атаки». Интонацией передавал он пунктуацию и лишь в редких случаях ронял: «многоточие», «восклицание», В это время никому не разрешалось входить к нему. Не разрешалось прерывать вопросами, замечаниями или переспрашивать; прерывался ход мысли, и ему трудно было восстановить его. Обостренный слух улавливал даже такие незначительные звуки, как шелест переворачиваемых листов или шуршание резинки по бумаге: это отвлекало и мешало. Как правило, он писал последовательно, главу за главой. Но иногда у него возникали без непосредственной связи с тем, что он писал в данное время, отдельные картины, сцены, и он чувствовал потребность немедленно их записать. Так были написаны отрывки: разговор поручика Вроны с ксендзом; сцена ареста Дзебеком и Кобыльским жены Патлая, ставшая впоследствии началом шестой главы романа; характеристика Петлюры, которую он не раз уточнял и дополнял, используя для этого все новые и новые источники. «Написана 8-я глава, — сообщал Островский А. П. Лазаревой 22 января. — Это скачок через шестую и седьмую. Анархия? Да. Но так хотелось». В один из воскресных дней, когда секретари были отпущены (по воскресеньям врачи строго-настрого предписали Островскому отдыхать), Николай Алексеевич позвал жену: — Мне нужно подиктовать, Раюша… Она привычно подсела к столу. Возражать было бесполезно. «К вечеру между Сосновкой и Малой Холмянкой начались переговоры…» — продиктовал ей Островский. Раиса Порфирьевна писала, стараясь не шевелиться, чтобы не нарушать течение его мыслей. Когда была произнесена первая фраза-, не было еще шести часов вечера. Последняя точка была поставлена в шесть утра. «Окруженные солдатами, они шли тесной кучкой. Птаха все еще кашлял кровью… Раймонд крепко прижимал локоть Андрия к своей груди, — они шли под руку. Птаха был очень слаб. — Проспали мы свою честь, Раймонд! А зубы мне правильно выбили, чтоб знал, с кем плясать!» Эти слова Раиса Порфирьевна записывала затекшей рукой. Островский с удовлетворением сказал: — Сегодня я заработал свой хлеб. Таким образом он набросал и девятую главу[109], а затем вернулся назад, убедившись на опыте, что это нарушает стройность и целостность произведения. Он говорил, что постарается «не заскакивать вперед». В Москве Николай Алексеевич трудился еще более напряженно, чем в Сочи. «Я веду здесь весьма затворническую жизнь, — писал он. — Вижусь с людьми, тесно связанными с моей работой, и расходую свои силы правильно». В другом письме: «Я весь с головой ушел в работу. Нажимаю на все педали. Дела литературные идут неплохо». Островский продвинул роман далеко вперед. Однако, ведя «затворнический» образ жизни, он, конечно, занимался не только романом. Часами разговаривал он с товарищем, который комплектовал, ему библиотеку. Тот приносил Николаю Алексеевичу списки книг. Островский знакомился с ними и говорил, какие из названных книг хотел бы иметь. В списках значились сочинения Пушкина, Щедрина, Чехова, Гончарова, Горького, Достоевского, Толстого. Достоевского Николай Алексеевич попросил вычеркнуть. — Большой писатель, — сказал он, — но тяжелый и нездоровый. Он не для нас. Я его не понимаю. Мне чуждо это копание в низменных сторонах человеческой души. Из западноевропейских классиков были намечены Байрон, Шекспир, Мольер, Гейне, Гёте… Список не удовлетворил Островского. Он спросил, почему не включены Додэ — «Тартарен из Тараскона», Раблэ — «Гаргантюа и Пантагрюэль», Гонкуры — «Братья Земгано». Он попросил достать ему основные произведения серии «Всемирная литература», выпускавшейся в годы революции под редакцией М. Горького. Эту серию он очень ценил. Книги, точно так же как и люди, возбуждали в Островском активное отношение борца. Одних он любил, как товарищей, идущих в одном строю, к другим относился с резкой и бескомпромиссной враждебностью. В те годы на русский язык было переведено довольно много книг, написанных писателями, принадлежащими — по американской терминологии — к «потерянному поколению». Первая мировая война опустошила и озлобила их, но не указала единственно правильного пути. Островский прочитал Олдингтона и Селина, Ремарка и Арнольда Цвейга и, отбросив, жестко сказал, что все они «копаются в опустошенной душе человека и не видят выхода из тупика». Особенно резко отозвался он о книгах превознесенного тогда некоторыми эстетствующими литераторами Эрнеста Хемингуэя — «Фиеста» и «Смерть после полудня». — Его герои ищут утешения от жизненных неудач в ловле форелей, бое быков и бесконечных пьянках. Что полезного может почерпнуть для себя из этих книг наша молодежь? Ничего… Оценка «хорошего» и «плохого» в литературе и в искусстве вообще была у Островского основана на том большом философском принципе, который сформулирован в письме Иосифа Виссарионовича Сталина товарищу Демьяну Бедному: «Философия «мировой скорби» не наша философия. Пусть скорбят отходящие и отживающие»[110]. Поэтому-то он не впустил на свои книжные полки такого писателя, как Ф. М. Достоевский, и отвернулся от нытиков из «потерянного поколения». Собирая библиотеку, Николай Алексеевич требовал, чтобы его сразу же информировали, что уже найдено из книг, какие книги трудно найти, торопил, напоминал. Когда ему сказали, что трудно найти у букинистов одно редкое издание книги товарища Сталина, Островский был очень недоволен и сказал: «Придется мне самому похлопотать об этой книге. Эта книга мне часто бывает нужна, а вы ищете ее уже месяц». Островский попросил, чтобы его соединили с директором букинистического магазина на улице Горького… Через несколько дней том Сталина лежал на маленьком столике у его постели. У него были выступления товарища Сталина первых лет революции, напечатанные на серой газетной бумаге, и последние издания, вышедшие в Партиздате. Он гордился этим собранием книг. — Ведь это история нашей партии, — говорил Островский. — Даже по внешнему виду этих изданий, по тиражам можно представить тот огромный и победоносный путь, который прошла наша партия с первых дней революции до наших дней. В квартире Островского встречались люди различных профессий. Сюда приходили Михаил Шолохов и знатные колхозницы Украины, пятисотницы Мария Демченко и Марина Гнатенко — давно знакомые с Островским по переписке, они встретились здесь с ним впервые; его посещали артисты Малого театра и ленинградские комсомольцы; студенты Московской консерватории и журналисты. Продолжались деловые и дружеские встречи с товарищами, звонки по телефону, чтение газет, слушание радио — все то, из чего складывалась его повседневная нормальная жизнь. Он аккуратно отвечал на письма, всегда был рад возможности проявить о ком-либо заботу. «Жизнь бессильна меня ограбить», — писал он. И был несказанно рад всему, что связывало его с жизнью и давало ощущение ее полноты. Десять лет Островский не состоял на военном учете. В Москве Политуправление РККА снова «призвало» его в армию — его взяли на персональный учет как военного корреспондента. Он торжествовал. — Понимаешь, Раюша, — объяснял он жене, — этот день последним узлом связал последний канат из тех, которыми я снова подтянул к себе жизнь. Она в свое время порвала все и поплыла мимо меня. Но ты знаешь, как я остановил ее и один за другим восстановил все тросы, кроме этого, который в виде маленького билета протянут с сегодняшнего дня. Какое сегодня число? Запомни. Какая сегодня погода? Пасмурно? Идет крупа? Запомни. — Теперь я вернулся в строй и по этой очень важной для гражданина республики линии, — говорил Островский. — Мне выдан военный билет ком-политсостава и присвоено звание бригадного комиссара. Он был этому тем более рад, что не раз повторял о себе: «Я человек военный». Ему теперь писали: «Вы, наверное, единственный бригадный комиссар, который не сможет сказать, сколько у него в бригаде бойцов, но вы, верно, чувствуете сердцем, какая это огромная бригада — ведь это целая комсомолия, вся молодежь нашей необъятной страны, да и не только нашей страны! Ведь ни к одному литературному герою не было у молодежи столько теплоты, горячей любви и нежности, как к своему такому родному и близкому Павлу Корчагину. Ведь ни одного писателя не любит так искренно и горячо молодежь, как своего Николая Островского». Жизнь не могла ограбить такого. Он знал, что она «угостит его еще не одной горькой пилюлей». Но ему было ведомо и то, что «поражения возмещаются во сто крат духовными приобретениями». Ведя «затворнический образ жизни», Островский за зиму переделал множество дел, живо откликаясь на многочисленные события. Островский отправляет письмо в президиум съезда работников кинематографии. В этом письме он говорит, что «не представляет себе такого писателя, который мог бы стоять вдали от дела кино». Накануне Нового года Николай Алексеевич произносит «Новогоднюю речь» для московского радиовещания. По просьбе фабрики звукозаписи он читает отрывки из романа «Как закалялась сталь», и его голос записывают на пластинки. В связи с приближающимся X съездом комсомола он пишет статью «Рапорт X съезду ВЛКСМ». 29 января писатель обращается с поздравительным письмом к Ромэну Роллану по случаю его семидесятилетия. В Шепетовке открывается окружная конференция комсомола, и Островский 1 февраля пишет приветствие комсомольцам родного города. 6 апреля 1936 года тысяча юношей и девушек слушает произнесенную им по радио пламенную речь на IX съезде комсомола Украины. Обращаясь в микрофон, установленный в его комнате, делегат съезда от шепетовской организации Николай Островский мысленно поднимается на трибуну и говорит об образе молодого человека страны социализма, о задачах комсомола в деле коммунистического воспитания подрастающего поколения.
 Н. А. Островский в форме бригадного комиссара РККА
(1936).
Н. А. Островский в форме бригадного комиссара РККА
(1936).
Он вспоминал свою юность: — И вот, когда партия Ленина — Сталина позвала наших отцов на штурм капитализма, мы, молодежь, почти дети, также бросились в бой за нашу молодость, за наше счастье. Мы хотели прекрасной, счастливой жизни, и мы шли рядом со своими отцами завоевывать свое счастье. И в этой борьбе молодежь Советской Украины, молодежь Советского Союза заслужила небывалую славу бойцов, готовых биться с врагом до последней капли крови, бойцов, беззаветно преданных красному знамени восставшего народа. Он разговаривал с юностью современников: — Товарищи, перед нами стоят грандиознейшие задачи мирного строительства социализма. Молодое поколение социализма, молодая гвардия пролетариата и крестьянства — это надежда и гордость наших отцов. На нас смотрит весь мир. Мы должны знамя труда поднять еще выше, и мы его поднимем. Он обращался к юности 1941 года: — Мы знаем, что когда на наши границы ступит подлая нога фашистских бандитов, страна встанет и страшным ударом ответит на удар и сокрушит каждого, кто посмеет посягнуть на священные рубежи. Новое поколение комсомола будет столь же доблестно драться с врагом и столь же доблестно разгромит его, как громили первые комсомольцы, шедшие в рядах ворошиловской и буденновской славной Конной армии на всех фронтах минувшей гражданской войны. Он обращался к человечеству наших дней: — Мы все — в мирном труде, наше знамя — это мир. И это знамя партия и правительство подняли высоко. Вот почему все трудовое человечество смотрит на нас, как на надежду, как на свое упование… Мы хотим мира, мы возводим хрустальное здание коммунизма. Но было бы предательством забывать о том, что нас окружают злейшие кровавые враги… Он возглашал: — Да здравствует великое сегодня и еще более прекрасное и еще более замечательное наше завтра!.. Мужество рождается в борьбе. Мужество воспитывается изо дня в день в упорном сопротивлении трудностям. И девиз нашей молодежи — это мужество, это упорство, это настойчивость, это преодоление препятствий… Да здравствует великая партия большевиков и ее мужественнейший из мужественных вождь Иосиф Виссарионович Сталин, воспитавший нас и приведший нас к победам. Вслед за IX съездом комсомола Украины, 11 апреля, в Москве открылся X Всесоюзный съезд ВЛКСМ. Островский был избран делегатом на съезд от Винницкой областной организации. В числе достижений, с которыми пришел комсомол к своему X съезду и о которых докладывают со съездовской трибуны, была названа книга «Как закалялась сталь». Зал дружно аплодировал в ответ. Съезд длился десять дней. Прямой провод соединял квартиру Островского с кремлевским залом, где проходил съезд, и он участвовал во всех заседаниях[111]. — Я самый исправный член съезда, — говорил он шутливо. — Не курю, не отдыхаю и по Москве не разгуливаю. Внимательно слушал он речи ораторов. Когда в съездовском зале возникла песня, ей подтягивал и Островский. В перерывах между утренними и вечерними заседаниями он готовился к своему выступлению на съезде. Оно должно было состояться 17 апреля. Ему помешал новый приступ болезни. О чем собирался он говорить? Сохранились тезисы этой непроизнесенной речи. Островский хотел говорить о боевом назначении нашей литературы. «…Что же мы видим? — написано в тезисах. — На линии огня взвод передовых мужественных бойцов. Они не отстали от стремительного победного движения. На линию огня вывел красных партизан Александр Фадеев, собирает вокруг тихого Дона большевиков-казаков Шолохов, и вывел в бой балтийских революционных матросов Всеволод Вишневский. Появился со своими «Всадниками» Яновский, нашедший свое место в нашем строю. Есть в этом взводе еще десяток хороших бойцов… А где же остальные? Ведь в батальоне около трех тысяч штыков. Высокий, седоусый, покрытый славой командир нашего батальона (имелся в виду А. М. Горький. — С. Т.), великий мастер своего дела, яростно крутит свой ус, шепчет сурово и возмущенно: «Эх, эти уж мне обозники: завтракают, поди, километров за пятьдесят от фронта. Застряла у них там кухня в болоте. Хоть бы не срамили мою седую голову». Конечно, эго горькая шутка. Но в этой шутке есть большая доля правды». Он хотел говорить о возросших духовных нуждах молодежи и о необходимости полностью удов-летворять эти нужды. «Равнение на вершины» — таков требовательный подзаголовок его тезисов. Он разъяснен: «Пусть книг будет меньше, но они должны быть ярче. Серой книге нет места на книжной полке. Нельзя воровать время у честного труженика, его отдых… Наш читатель стал суровым критиком, беспощадным критиком. Его мякиной никто кормить не смеет…» Он хотел говорить о том, что писатель должен всегда крепко чувствовать родную почву, быть связанным с коллективом, помнить, что им он воспитан. «Тот день, когда ты оторвешься от коллектива, будет началом конца, — написано под подзаголовком «Опасность славы», — скромность украшает бойца; кичливость, зазнайство — это капиталистическое, старое, это от индивидуализма, Чем скромнее боец, тем он прекраснее. Это очень и очень относится к литераторам». Островский хотел говорить о новых качествах советского человека, качествах, которые писатели обязаны видеть и о которых они должны рассказать миру. Вот почему последним подзаголовком в тезисах стоит: «Новые чувства». Они названы: «Дружба, честность, коллективизм — наши подруги. Воспитание мужества, отваги, беззаветная преданность революции, ненависть к врагам — наши законы… Любовь к родине, помноженная на ненависть к врагу, — только такая любовь принесет нам победу». Обо всем этом Островский думал в те дни. Этим он жил и хотел говорить об этом, но обострившаяся на почве сильного переутомления болезнь помешала ему выступить перед съездом.
 Дом в Сочи, построенный для Н. А. Островского.
Дом в Сочи, построенный для Н. А. Островского.
«Был Авербах — глазник, — писал в те дни Островский в одном из личных писем, — предлагает настойчиво вынуть правый глаз. Как видите, я еще не все мытарства испытал… Такова уж, видимо, моя профессия — терять беспрерывно физически что-нибудь». Организм его продолжал разрушаться. 28 апреля прибыла из Сочи телеграмма: умер отец. «Это напомнило мне, — сказал Островский, — что я сам недолговечный жилец и мне надо еще более торопиться». Ночь накануне первомайского парада он провел без сна. По улице Горького, грохоча тяжелыми гусеницами, двигались колонны танков и артиллерия. Окна квартиры писателя выходили на улицу, и металлический лязг входил в комнату, заполняя ее и вытесняя все другие шумы. Когда машины останавливались, слышно было, как поют и перекликаются танкисты. Островский вслушивался с радостным волнением; он словно сам был там, на улице ночной столицы, в колоннах бойцов, готовящихся к смотру. С рассветом из мощных громкоговорителей хлынула в окна праздничная музыка. С песнями двинулись колонны демонстрантов. Домашние Островского беспокоились. В том состоянии, в каком находился писатель, такое нервное напряжение было для него безусловно вредным. Кто-то даже сказал: — А не переменить ли квартиру? Островский услышал эти слова и отозвался мгновенно: — Как не стыдно?! Я готов еще несколько ночей не спать, только бы еще слышать это!.. Мощь металла и людская радость, проникавшие в его комнату с улиц первомайской столицы, позволили ему с новой остротой ощутить неукротимо растущее могущество великой социалистической родины и боевого духа советских людей. После 1 мая Н. А. Островский оставался в Москве недолго. Две недели спустя он уехал на лето в Сочи, чтобы здесь дописать первую часть «Рожденных бурей». Он был вооружен уже всеми материалами. В верхней части города, в Пионерском переулке, впоследствии переименованном в переулок Н. Островского, ждал хозяина новый дом.
ЛЕТО 1936 ГОДА
«Целые дни провожу на открытом балконе, — сообщал Островский в одном из первых писем из Сочи, — свежий ветер с моря, теплый и ласковый. Жадно дышу и не надышусь. Хорошо здесь, на новом месте». На новом месте Островский стремился как можно скорее закончить первую часть «Рожденных бурей». Материал был собран, продуман и буквально просился на бумагу. Предстояло написать четыре главы — 6, 7, 9 и 10-ю. Однако вскоре после возвращения в Сочи он тяжело заболел: обострилась болезнь почек, осложненная желтухой и желудочным заболеванием. Врачи признали состояние больного критическим. Под угрозой находилась его жизнь. Наконец 14 июня 1936 года Островский мог написать автору этой книги: «Ты не удивляйся моему молчанию. Пришлось привести в порядок архив и все свое литературное хозяйство, библиотеку и пр. Погода здесь все время отвратительная, резкие колебания и влажность 85–90 %. Здоровье мое шатнулось было вниз, но я во-время это заметил и восстановил равновесие. Завтра вновь открываю рукопись — приступаю к делу». Островский ограничился сдержанными словами «шатнулось было вниз» и «восстановил равновесие». В других письмах слова эти расшифровываются: «Здоровье мое предательски качается. Каждую минуту можно ожидать срыва. И я спешу, ловя минуты. Оказывается, что у меня был прорыв желчного пузыря. На этот раз смерть обошла кругом» (31 июля). «Я едва не погиб от нового врага, появившегося в моем организме. Врачи считали положение безнадежным… Даже я, видевший виды, почувствовал, что дело гиблое. Шла борьба за жизнь… И вот все-таки и на этот раз жизнь победила, и я медленно выздоравливал. Рана зажила. Я не только поправился, но набросился на работу с такой жадностью, что забыл все на свете» (19 августа). 15 июня он открыл рукопись и приступил к делу. Но через три дня страну нашу и весь тир потрясла скорбная весть, которая тяжестью своей обрушилась и на Островского. 18 июня 1936 года умер Алексей Максимович Горький. После смерти Ленина смерть Горького явилась самой тяжелой утратой для нашей страны и для человечества. Островский телеграфировал в «Комсомольскую правду»: «Потрясен до глубины души безвозвратной потерей. Нет больше Горького. Страшно подумать об этом. Еще вчера жил, мыслил, радовался с нами гигантским победам родной страны, которой отдал весь свой творческий гений. Какая ответственность ложится на советскую литературу сейчас, когда ушел из жизни ее организатор, вдохновитель. Прощай, милый, родной, незабываемый Алексей Максимович!» Смерть Горького на много дней выбила Островского из колеи, лишила его спокойствия, сна.
 Н. А. Островский на веранде своего дома. Сочи (1936).
Н. А. Островский на веранде своего дома. Сочи (1936).
Он писал 1 июля: «На сердце у меня глубокая грусть. Гибель Алексея Максимовича тяжело меня поранила. Я потерял покой и сон… Осиротели мы без него. Я думаю о той ответственности, которая ложится на каждого из нас, молодых, только что вступающих в литературу писателей. Большая грусть у меня на сердце, не развеялась она еще». Многое сближало Островского с Горьким — и в жизни и в литературе. Помню, с каким душевным трепетом передавал мне Островский в апреле 1936 года, накануне X съезда ВЛКСМ, свою книгу «Как закалялась сталь» для Горького (я ехал тогда к нему — в Тессели). Островский своею рукой сделал на книге надпись: «С сыновней любовью». Он просил вручить ее Алексею Максимовичу лично. И помню, с какой сосредоточенностью слушал он мой рассказ о встрече и разговоре с Горьким, который проявил большой интерес к жизни Островского, благодарил за книгу. Алексея Максимовича беспокоило лишь одно: не зазнается ли молодой автор? Не испортит ли и не погубит ли его слава? Горький назвал фамилию другого молодого писателя, у которого от первого литературного успеха образовался чудовищно-уродливый «флюс самомнения». А когда услышал мой ответ, что Островский не такой, переспросил: «Не такой?» Потом помолчал, насупил брови, побарабанил пальцами по столу и уже утвердительно сам произнес: «Да, по всему видно, что не такой». Островский с жадностью расспрашивал тогда о всех подробностях этой моей встречи с Горьким; он как бы сам переживал эту встречу. Теплилась надежда, что Горький, прочтя книгу, откликнется на нее[112]. «Как бы сурово ни критиковал меня великий мастер, — писал Островский, — но это самый дорогой и нужный для моего роста, для моего движения вперед документ». А разве исключена была возможность повидаться? Но Горький был уже тяжело болен. Вокруг него сновали враги. Рядом с ним, в его собственном доме, находились его убийцы: секретарь, врачи… Те же, кто в свое время поссорил Горького с Маяковским, мешали ему теперь сблизиться с Островским. И вот — Горький уже никогда не откликнется, и Островский никогда с ним не поговорит. Он никогда не узнает слов, сказанных Алексеем Максимовичем в разговоре с Е. А. Пешковой. «Его жизнь, — сказал тогда А. М. Горький об Островском, — живая иллюстрация торжества духа над телом». И посоветовал прочитать «Как закалялась сталь». «…Я думаю о той ответственности, которая ложится на каждого из нас, молодых, только что вступающих в литературу писателей…» — это было ответом Островского на смерть незабвенного Горького. Еще на заре своей литературной деятельности Горький написал рассказ «Часы». Он писал: «…Не жалей себя, — это самая гордая, самая красивая мудрость на земле. Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя! Есть только две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и жадные изберут первую, мужественные и щедрые — вторую; каждому, кто любит красоту, ясно, где величественное… Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя!» Островский был мужественным и щедрым. «Здоровье мое, если говорить правду, ни к чорту, но работаю по 12 часов, в две смены, — писал он жене 2 августа. — …Поистине, вся наша жизнь есть борьба. Поистине, единственным моим счастьем является творчество. Итак, да здравствует упорство! Побеждают только сильные духом. К чорту людей, не умеющих жить полезно, радостно и красиво. К чорту сопливых нытиков. Еще раз — да здравствует творчество». 6 августа он повторял: «Жму по всему фронту… Скоро первый том будет закончен… В доме две машинистки, стучат с утра до позднего вечера, два секретаря — и вся эта армия брошена на штурм». И 9 августа: «Сейчас идет самая напряженнаяработа. Дописываются последние страницы. Редактируется вся книга. А. П. (Александра Петровна Лазарева. — С. Т) и весь мой штат перешел на двухсменную работу. Дом полон машинисток. Я, по обыкновению, жму всех, и они, наверное, ждут не дождутся, когда этот сумасшедший парень успокоится». И, наконец, 21 августа: «Сегодня закончен первый том романа «Рожденные бурей». С 17 июля по 17 августа написано 123 печатные страницы. Это невиданное напряжение и темпы. «Устал безмерно, но первый том есть!» Рукопись была перепечатана в нескольких экземплярах, сброширована и разослана друзьям и издательствам для критики. В это время Николай Алексеевич обратился с письмом к Михаилу Шолохову: «Я хочу прислать тебе рукопись первого тома «Рожденные бурей», но только с одним условием: чтобы ты прочел и сказал то, что думаешь о сем сочинении. Только по честности, если не нравится, так и крой! «Кисель, дескать, не сладкий и не горький». Одним словом, как говорили в 20-м году, «мура». Знаешь, Миша, ищу честного товарища, который бы покрыл прямо в лицо. Наша братия, писатели, разучились говорить по душам, а друзья боятся «обидеть». И это нехорошо. Хвалить — это только портить человека. Даже крепкую натуру можно сбить с пути истинного, захваливая до бесчувствия. Настоящие друзья должны говорить правду, как бы ни была остра, и писать надо больше о недостатках, чем о хорошем, — за хорошее народ ругать не будет. Вот, Миша, ты и возьми рукопись в переплет. Помни, Миша, что я штатный кочегар и насчет заправки котлов был неплохой мастер. Ну, а литератор из меня «хужее». Сие ремесло требует большого таланта. А «чего «с горы» не дано, того в аптеке не купишь», говорит старая чешская пословица. Так-то, медвежонок наш вешенский!» Писатель предупреждал издательства: «Я считаю необходимым еще раз предупредить вас, что рукопись первого тома романа «Рожденные бурей», посланная мною вам для ознакомления, не может быть сдана в набор, пока я не произведу всю редакторскую работу и не внесу все необходимые поправки, дополнения и т. п…Посылал я рукопись для получения от вас оценки и отзыва, но отнюдь не для издания». 21 августа 1936 года Островский закончил первую часть «Рожденных бурей». Сочинский горком партии категорически предложил ему отдохнуть. Островскому предоставили полуторамесячный отпуск. «Сегодня я в отпуску», — писал он 21 августа. Но стоило ему прекратить работу, нарушить трудовой ритм своей жизни, как с особым ожесточением наваливалась болезнь. Обострялись все, казалось, дремавшие до сих пор боли. Раньше он их не чувствовал, не замечал. Теперь они как бы мстили ему за это. «Отпуск начался очень плохо, как и в прошлом году, — с огорчением отмечал Островский. — Отсюда могу сделать вывод, что пока я работаю, то и силы берутся, а достаточно не работать, как все обрушивается на меня». И вот сейчас, веря в свой испытанный целебный метод, он и во время отпуска «лечил» себя тем, что много читал, отвечал на письма, встречался с массой людей: участниками автопробега и молодым коллективом театра имени Ермоловой, девушками-парашютистками и студентами Новочеркасского индустриального института, прославленными летчиками — Героями Советского Союза В. Чкаловым, А. Беляковым и юными школьниками. Островский подолгу беседовал с корреспондентами и писателями. Вечерами его навещали отдыхающие в Сочи и гастролирующие там артисты: квартет имени Вильома, Вера Духовская и Павел Лисициан, молодой композитор Сигизмунд Кац.
 Группа студентов Новочеркасского института в гостях у Н. А. Островского (1936).
Группа студентов Новочеркасского института в гостях у Н. А. Островского (1936).
Он проявлял активный интерес ко всем и ко всему. Островский расспрашивал девушку-парашютистку, хорошо ли подготовлен ее новый прыжок: «Помни, что запасных частей к человеческому организму нет…» Он сердечно сказал певцу Павлу Лисициану: — Тебе двадцать два года, и ты уже солист столичного театра! Благодари судьбу, Павлик, что ты родился в это прекрасное время! В. Чкалов приехал со своими товарищами по перелету на отдых в Сочи после знаменитого полета по Сталинскому маршруту: Москва — Арктика — остров Удд (названный затем островом Чкалова). — Первое, что мы сделаем, приехав в Сочи, — говорил еще в пути В. Чкалов, — это пойдем все вместе к Островскому. «Еще в вагоне Валерий Чкалов вспомнил, — пишет А. Беляков, — что в Сочи живет писатель Николай Островский. Все мы увлекались книгой «Как закалялась сталь», и каждый по-своему представлял себе ее героя. Теперь мы имели возможность лично познакомиться с замечательным человеком, написавшим эту книгу, увидеть живого Павла Корчагина, говорить с ним»[113]. И вот они встретились — герои с героем. Островский пожелал не только пожать руку Валерию Павловичу, но и представить себе, каков с виду его собеседник: Чкалов нагнулся, и Островский пальцами ощупывал его могучую фигуру. Они сидели долго и успели поговорить о многом. Островский сказал, что сам в 1921 году хотел поступить в школу летчиков, прошел уже все испытания, но сорвался у окулиста. Он разговаривал с гостями, как летчик с летчиками; Островский интересовался конструкцией самолета «АНТ-25», на котором был совершен перелет, поведением машины в воздухе и ее нынешним состоянием, режимом горючего. «Мы рассказали ему о нашем перелете, — пишет А. Беляков, — о безграничных возможностях советской авиации, о людях, с которыми нам приходилось встречаться. Николай Алексеевич много расспрашивал о товарище Сталине и, в свою очередь, рассказал нам содержание задуманного им произведения… Когда мы вышли, Чкалов сказал: — Первый раз вижу такую веру в жизнь!.. Это действительно сильный человек и великий патриот. Наш народ его никогда не забудет». Островский не только живо интересовался всем и всеми, но — что поистине удивительно — умел действительно быть в курсе всех событий. В этом убеждались и летчики, и писатели, и актеры… Художник Яр-Кравченко рассказывал, что Островский поразил его точным знанием всего того, что он не видел и что, однако, представлял в совершенстве, не только как всякий зрячий, но более того — зрячий с особым восприимчивым и зорким зрением. — Говорил ли он мне об Алексее Стаханове, который стал известен почти одновременно с Островским, или о Петре Кривоносе, его рассказ был таким наглядным, а описание таким зрительным, что я их ощущал — от походки до роста и цвета лица. Когда я передал ему письмо художника И. И. Бродского с просьбой позировать мне для портрета, который издательство предполагало выпустить отдельным листом, Николай Алексеевич спросил меня: «Вы чей ученик?» Я ответил: В. Е. Савинского и И. И. Бродского, в мастерской которого сейчас учусь. «Бродский? — переспросил Островский. — Как же, знаю — это первый художник революции. Хотя я с ним не знаком, не его картины «Заседание II конгресса Коминтерна», «Расстрел 26 бакинских комиссаров», портреты товарища Ленина и товарища Сталина я видел и знаю давно». И он начал меня расспрашивать о Бродском, о его жизни и работе, и это были опять особые вопросы Островского. Какого он роста? В чем ходит? Как работает? Кто его ученики? Расспрашивал о художнике Грекове, о К. С. Петрове-Водкине. Интересовался — люблю ли я Репина и чем отличается Репин от Серова? Он любил и понимал русское реалистическое изобразительное искусство и умно в нем разбирался. Широте интересов и познаний Островского поражались многие. Еще в июне 1936 года его навестили А. Фадеев и Ю. Либединский. «Разговор идет о «Тихом Доне», об исторических композиционных и психологических особенностях этого грандиозного романа, — вспоминал Ю. Либединский. — Удивительно смело и в то же время очень бережно ощупывает Островский ткань романа. Я ни разу в нашей среде не слышал такого соединения смелости и бережливости суждений в отношении произведения товарища. Так можно судить только о своей вещи и то не вслух…»[114] Их крайне поразила обстоятельность и глубина рассуждений Островского о советской литературе, о происходящих в ней процессах. Он с огорчением говорил о ее недостатках, радовался ее победам и предсказывал их. «Мне особенно запомнилось, — пишет Ю. Либединский, — с каким воодушевлением говорил он о великой моральной задаче советской литературы показать женщину-бойца, женщин — товарищей и соратников. «Наших милых подружек», — сказал он. Не менее писателей изумлены были встретившиеся с Островским актеры. «— Знаю, знаю про ваш театр, — говорил он ермоловцам. — У меня были вчера товарищи из руководства. Они меня держат в курсе всех событий города. Рассказали, что спектакль «Платон Кречет» Корнейчука хорошо у вас идет, живо, естественно А вот с французской пьесой что-то не получилось. А театр-то знает, что это неудача? А надо знать… Мне кажется, что режиссеры и артисты смотрят свои спектакли все больше из-за кулис. А надо их смотреть из зрительного зала. Вместе со зрителем; зритель-то ведь все понимает. И среднее произведение — это тоже неудача. Мне недавно рассказывали, что читатели назвали часть книг в библиотеках «могильником». Это те книги, которых не читают. Самое ужасное, по-моему, — это попасть в «могильник». В театрах «могильником» надо назвать спектакли, которые зритель не смотрит. Кому нужно, чтобы вы тратили силы на такие спектакли? Ведь это же очень обидно, если зритель в середине спектакля вспомнит о мацестинской ванне…» [115] Николай Алексеевич расспрашивал их о репертуаре театра, его планах. Его интересовало и количество мест в театре, и заработная плата актеров, и их учеба — общеобразовательная и политическая. «Или только репетируют и играют?» Здесь же, на веранде, артисты исполнили два отрывка: сцену Мити и Любови Гордеевны из «Бедность не порок» А. Островского и сцену бригадирши Лешки и Илюшки Солнышкина из «Дальней дороги» молодого советского драматурга А. Арбузова. — Слушая ваши голоса, — сказал он, — я думал, жизненно ли, правильно ли передается чувство. Игру женщин — Любовь Гордеевну и Лешку — я почувствовал хорошо. Такие женщины есть в жизни. Лешку, например, я сам когда-то встречал в числе работниц на украинских табачных фабриках. Митя — очень решителен. Это, пожалуй, немного не по Островскому, но такой Митя мне больше нравится. Подневольного, забитого человека можно показывать по-всякому. Все мы знаем, что судьба часто ставит человека на колени. Но можно ползать на коленях так, что хозяин взглянет и подумает: «Ну, сегодня он ползает, а завтра встанет и повесит меня». В показе такого вот Мити большая правда. Уходя от Островского, актеры с особенной остротой и силой почувствовали и поняли, что «нужно жить ответственно», что «можно сделать очень многое, и это зависит от самого себя, только от себя». В дни своего отпуска Николай Алексеевич обсуждал инсценировку «Как закалялась сталь», сделанную для одного из московских театров. Предполагалось, что Павла Корчагина будет играть артист Э. Гарин, Жухрая — М. Боголюбов. Это была уже не первая попытка инсценировать роман. Все предыдущие кончились безуспешно. В игру, в напыщенную декламацию превращалось то, что составляло сущность Корчагина. Слово не оживало, оно оставалось лишь репликой актера, неспособной найти живой отклик в душе. Сценическое действие фиксировало лишь схему произведения, но не раскрывало корчагинского характера. Мир его был представлен узким и тесным. Его непреклонная воля, сокрушающая все преграды, была измельчена и низведена порой до позерского жеста. Неистребимый оптимизм подменен плоским бодрячеством. Не было пространства, которым он был окружен, воздуха, которым он дышал, дали, которую видел. С тем большим вниманием отнесся Островский к новой попытке театра поставить «Как закалялась сталь». Инсценировку обсуждали два вечера. Островский с огорчением забраковал представленный вариант текста. Мне, как и всем присутствовавшим при этом, глубоко запомнились замечания, которые Островский делал по ходу чтения, разрушая предлагаемые ситуации и создавая новые, набрасывая сцены, опровергая одно, доказывая другое. Одухотворенное, энергичное лицо его становилось то гневным, то добрым. Он всячески оттенял и подчеркивал нравственную красоту и силу своих героев, их моральное превосходство перед врагом. Он требовал, чтобы была показана в полную меру высота их идей. В инсценировке были изменены положения романа, нарушена связь между ними. Внутреннее движение людей оказалось приостановленным. Николая Алексеевича беспокоило, что инсценировщик, увлекшись обилием различных поступков, упустил основную тему «Как закалялась сталь». По воле автора инсценировки мать Тони Тумановой отказалась во время погрома приютить у себя еврейских детей. Островский протестовал: — Это бросает тень на Корчагина. Непонятно, как Павел, зная о таком поступке Тониной матери, мог искать спасения в их семье. Никогда он не переступил бы порога их дома! Семья Тумановых не реакционная семья, наоборот, она была очень либеральной, хоть и мещанской по существу. Тоня не боец, она неспособна уйти в бурю. Но она в юности своей романтична, любит героику, и она, несомненно, настояла бы на том, чтобы впустить к себе детей. Иначе невозможно оправдать чувство Павла к ней. Нет! Он неспособен предать свой класс в любви. Он неспособен был бы, например, полюбить Лещинскую, явного классового врага. Тень поведения Тони падает на Павла и чернит его. Это недопустимо. Островский подробно разобрал всю «сцену погрома». — В этой сцене неверно изображен и сам Павел, — говорил он. — Имея при себе револьвер, он не мог остаться пассивным свидетелем убийства старого Пейсаха. Этого не могло быть! Он бросился бы на петлюровца. У трупа старика Павел не мог рассказывать своим друзьям-мальчикам о том, как он добыл револьвер. Павка может появиться уже возле мертвого Пейсаха, в тоске звать Жухрая, как спасителя, и вдруг увидеть его арестованным, под конвоем. Он бросается на помощь Жухраю, бросается безоружным. Револьвер в руках Павла несколько уравновешивает силы, снижает героичность его поступка. Наконец, он в горячке просто забывает, что у него в кармане оружие. Он говорил о последнем объяснении Павла с Тоней: — Беседа вышла у них уж очень бесцветной. Надо ярче показать, как развеялся романтизм Тони, показать разочарование Павла в ней. Она ему и близка и чужда одновременно: коллизия столкновения двух миросозерцаний. Он не раб, он боец. И когда она предложит ему работу у ее отца, он скажет: «Я буду завоевывать такую жизнь, где я буду хозяином. А ты предлагаешь мне быть холуем». Его возмутила сцена с Фросей. — Нельзя себе представить, что девушка рассказывала шести человекам о своем позоре. Надо продумать это. И надо оправдать самый факт ее падения: она продалась, чтобы спасти семью от голодной смерти, а не из-за распущенности. Надо дать почувствовать классовый ужас этого преступления. В пьесе влюбленный Сережа Брузжак показывал фотографию своей девушки. Он хвастался ею перед многими товарищами. Может быть, для какого-нибудь юноши это и характерно, но для Сережи? Для этого вдумчивого и мечтательного юноши? — Нет. Сережа не будет обнажать свои интимные чувства. Другу своему он обязательно покажет карточку, но не всем. Возражения вызвал и эпизод на паровозе. Помните: немецкие оккупанты, угрожая смертью, мобилизовали паровозную рабочую бригаду и заставили ее вести поезд с карательным отрядом. Рабочие в конце концов убили сопровождавшего их часового и сбежали. Николай Алексеевич придавал большое значение этой сцене, ибо видел здесь проявление пролетарского гуманизма: «Убить одного во имя спасения тысяч». Островский нашел, что инсценировщик недопустимо снизил в этой сцене образ Жухрая. Жухрай — большевик. Он едет вместе с беспартийными рабочими. Почему же не он убивает часового? — Жухрая не должно быть на паровозе. Без него роль рабочих вырастает. Они сами убивают часового. Пусть рабочие говорят с Жухраем до своей поездки в другом месте — возле пакгауза. Нужно показать его влияние на рабочих. Он не может им просто сказать; «Бей», — он вдумчив, хорошо знает, как это опасно, и никогда не пошлет рабочих на гибель. Жухрай скажет: «Спросите у своей рабочей совести и поступайте так, как она вам подскажет», — или что-нибудь в таком роде. Сознательность беспартийных рабочих в том-то и проявилась, что они действовали здесь без приказа, без какого бы то ни было нажима со стороны. Николай Алексеевич волновался: — Я не спал эту ночь. Меня волнует судьба пьесы, я тревожусь за нее. Она не может быть средней. Она должна быть хорошей. Я не чувствую победы автора. Многое огорчает меня. Рита и Павел не захватывают, не потрясают. Их надо выдвинуть на передний план даже за счет других. Рита должна появиться раньше и с первых шагов завоевать любовь зрительного зала… Лазарет — тяжелая для сцены штука. Не лучше ли Павла посадить в кресло? Или даже — пусть ходит при поддержке медицинской сестры. Кроватная обстановка очень тяжела для актера. А можно перенести действие и на веранду, где солнце, зелень, жизнь… И это трагедия Павла… На игре в шахматы можно показать, как Павел воспринимает удары жизни. Ожесточенное мужество. Да, да, ожесточенное мужество! Это как в боксе: он падает, но моментально поднимается и бросается на противника снова и снова. И Корчагин не мрачен. Он страдает, но улыбается. Это настоящий рабочий парень, боец… Он предложил закончить пьесу монологом Корчагина: — «Рита, подними за меня бокал! Друзья, самое дорогое, что есть у человека, — это жизнь…» Таков лейтмотив романа, и он будет звучать торжественно, прекрасно. Павел разгромлен физически, но т победитель, он снова в первых рядах бойцов. Так Островский снова, после работы над сценарием «Как закалялась сталь», возвратился к своему роману, к его героям. Он и теперь распрощался с ними только на время. Ведь запланированы были еще: «Детство Павки» — специально для детей — и продолжение «Как закалялась сталь» — «Счастье Корчагина»… Большую радость доставляли ему импровизированные вечера-концерты. Николай Алексеевич обладал абсолютным музыкальным слухом и незаурядной музыкальной памятью. В юности он был искусным гармонистом, отлично играл на гитаре, пел. Долгая болезнь лишила его этих возможностей, потребности же остались живы. «Как бы я хотел вновь собрать всех своих друзей, досыта наговориться с ними и попеть наши любимые песенки», — писал он, будучи уже прикован к постели. «Любимые песенки» — прежде всего родные украинские народные песни: «Реве та стогне Днiпр широкий», «Засвистали козаченьки», «Розпрягайте, хлопцi, конiв», «Сонце низенько», «Ой, ходила Дiвчина бережком», «Як закувала та сива зозуля»; русские народные песни; старая революционная песня «Слезами залит мир безбрежный» и новые советские песни: «Каховка», «Широка страна моя родная», «Орленок»… Его приводили в восторг Глинка и Бетховен, Чайковский и Бизе, Римский-Корсаков, Даргомыжский, Шопен, Рахманинов, Берлиоз, Григ, Россини… Островский любил слушать арии из «Снегурочки», «Садко», «Русалки», «Евгения Онегина». Ему пели романсы Глинки, Рахманинова, Чайковского, исполняли их фортепианные пьесы. — Какая чистая и искренняя музыка! — воскликнул Николай Алексеевич, прослушав «Времена года» Чайковского. — Как прост и доступен ее язык для выражения больших человеческих страстей. Она открывает во мне новые ощущения и чувства, о существовании которых мне некогда было даже и задуматься раньше. Я видел в своей жизни много крови и страданий. Мы росли в трудные времена — не щадили врагов и не всегда находили время беречь себя. Сцены гражданской войны живут в моей памяти, как цепь бесконечных походов, как жгучая ненависть к врагу. А нежности и любви выпало на наш век немного. Не до того было… Приятно, что теперь музыка не является достоянием кучки богатеев, а принадлежит всему народу. Музыка помогала ему пережить непережитое, полнее познать себя, людей, мир. «Коснувшись как-то в разговоре биографии П. И. Чайковского, — вспоминает М. К. Павловский, — Николай Алексеевич сказал: — Меня очень поразило замечательное психологическое явление в творчестве Чайковского. В то время, когда им владели тягостные переживания, осложненные неудачной женитьбой, когда он пытался покончить с жизнью, в это же время его творчество поднимается на небывалую высоту и он создает такие замечательные произведения, как опера «Евгений Онегин» и 4-я симфония. Впрочем, — добавил Николай Алексеевич, немного помолчав, — я сам пережил нечто подобное в связи с моей болезнью. Я был очень близок к желанию покончить с собою, но меня спас творческий подъем, могучий порыв быть полезным, работать во что бы то ни стало. Словом, я снова нашел себя и вновь утвердил цель своей жизни. С тех пор «фатум», омрачивший жизнь Чайковского, превратился у меня в радость, в счастье возвращения на фронт борьбы за самые дорогие для меня убеждения. С тех пор мой постоянный спутник боевой жизни, мой пистолет, лежит сбоку меня, как свидетель моей победы над ним»[116]. Островский глубоко чувствовал, понимал музыку и почти профессионально в ней разбирался. Он не раз поражал исполнителей широтою своих музыкальных вкусов и глубоким знанием музыки. Лауреат всесоюзного конкурса исполнителей скрипач М. Гольдштейн вспоминает, как он играл Островскому пьесу Чайковского «Andante cantabile». Прежде чем сыграть, он решил рассказать своему слушателю историю создания пьесы, предполагая, что Островский этого не знает. Каково же было удивление скрипача, когда Островский прервал рассказ и заметил, что история создания «Andante cantabile» ему известна. Скрипач поднял смычок, и Островский умолк, вслушиваясь в музыку. Потом он сказал: — Тысячу раз был прав Лев Николаевич Толстой, высоко оценивший этот шедевр. Но только не плакать мне хотелось, как Толстому, когда я слушал «Andante cantabile», а радоваться и гордиться, что наша земля родит такие замечательные народные песни, а наши великие композиторы превращают их в гениальные симфонии, квартеты, поэмы. Большое впечатление произвел на него и «Русский танец». — Чайковский говорил на русском народном языке и его речь понимает весь мир, — заметил Островский, — а вот некоторые наши композиторы говорят на каком-то чужом языке, и их никто не понимает. Беседуя с М. К. Павловским, он сказал о «Кармен»: — Неудивительно, что парижская буржуазия и остатки старой аристократии освистали «Кармен» при первой же постановке… Еще бы, какой скандал, ведь героями оперы были солдаты, фабричные работницы, контрабандисты, а не короли, князья… А все же освистанная «Кармен» завоевала все оперные сцены мира. Я, право, не знаю, что в ней лучше — оркестровые или вокальные номера?[117] Душа его внимала всему сильному, здоровому, красивому и отвергала все уродливое, пошлое, декадентское. Вспомним, как в романе «Как закалялась сталь» Островский описывает концерт в саду санатория «Таласса»: «После жирной певицы, исполнявшей с яростной жестикуляцией «Пылала ночь восторгом сладострастья», на эстраду выскочила пара. Он — в красном цилиндре, полуголый, с какими-то цветными пряжками на бедрах, но с ослепительно белой манишкой и галстуком. Одним словом, плохая пародия на дикаря. Она — смазливая, с большим количеством материи на теле. Эта парочка, под восхищенный гул толпы нэпманов с бычьими затылками, стоящих за креслами и койками санаторных больных, затрусилась на эстраде в вихлястом фокстроте. Отвратительнее картины нельзя было себе представить. Откормленный мужик в идиотском цилиндре и женщина извивались в похабных позах, прилипнув друг к другу. За спиной Павла сопела какая-то жирная туша. Корчагин повернулся было уходить, как в переднем ряду, у самой эстрады, кто-то поднялся и яростно крикнул: — Довольно проституировать! К чорту! Павел узнал Жаркого. Теперь, оборвав игру, скрипка взвизгнула последний раз и утихла. Пара на эстраде перестала извиваться. На того, кто закричал, злобно зашикали за стульями: — Какое хамство — прерывать номер! — Вся Европа танцует! — Возмутительно! Но из группы коммунаровцев разбойничьи свистнул в четыре пальца секретарь Череповецкого укомола Сережа Жбанов. Его поддержали другие, и парочку с эстрады словно ветром сдуло…» Островский ненавидел «музыку жирных». И «Европа» не являлась для него мерилом! художественного вкуса. На вечерах-концертах, устраиваемых во время его полуторамесячного отпуска, исполнялись лучшие произведения классиков и современных композиторов. Представьте себе небольшую веранду. Рояль. Кровать, на которой лежит Островский. Он в военной гимнастерке с ромбом в петлицах (ему ведь присвоено звание бригадного комиссара) или в белой вышитой косоворотке. На груди поблескивает орден Ленина. Окна на веранде распахнуты настежь. В высоком черном южном небе бесшумно покачиваются кипарисы… Павел Лисициан поет о «голубке Ладе», об удали Василия Грязного, о синих морях и заморских странах. Сигизмунд Кац играет увертюру к опере «Кармен», «Вальс-фантазию» Глинки и «Итальянскую польку» Рахманинова — польку, которую неизменно любил слушать и часто играл на гармошке в юности сам Островский. Вера Духовская исполняет «Орленка» (музыка В. Белого, слова Я. Шведова). Островский слушал эту песню впервые, и она произвела на него сильное впечатление. — Да, это наша песня, — энергично сказал он. — Как жаль, что «Орленка» не было у нас, комсомольцев, пятнадцать лет тому назад. Нехватало таких песен и на фронтах гражданской войны. Мы в то время все больше пели «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне…» Ему очень полюбился «Орленок», и не раз он просил затем сыграть ему на рояле эту песню, а он тихо подпевал: «Орленок, орленок, товарищ крылатый, ты видишь, что я уцелел…» Музыка обостряла его воображение, помогала ему находить верный и точный эмоциональный строи повествования. Так, слушая по радио «Кавказские эскизы» Ипполитова-Иванова, Островский писал эпизод гибели Сережи Брузжака («Как закалялась сталь»). Девятая симфония Бетховена вдохновляла его при создании сцены возвращения Сигизмунда Раевского к семье («Рожденные бурей»). Мощные и величественные звуки бетховенской музыки помогали ему почувствовать и передать волнение мужественного революционера и счастье потрясенной встречей Ядвиги. Он ввел «Итальянскую польку» Рахманинова как музыкальный образ в двенадцатую главу своего романа. Музыка восполняла в какой-то мере потерянное им зрение. — Я очень скучаю по морю, — сказал однажды Островский С. Кацу. — Раньше дачу хотели строить на побережье, но потом решили, что шум прибоя будет меня утомлять. Вот и поселился на горе… Поройся в памяти или в нотах и сыграй что-нибудь напоминающее по ритму шум моря, движение волн. Композитор сыграл этюд «D-dur» Ф. Листа, и Островский был удовлетворен. Музыка помогала ему решать трудные творческие задачи. Островский делился впечатлениями о скерцо из квартета Чайковского: — Знаешь, что меня больше всего поразило в этом произведении? — сказал он собеседнику. — Форма! Скерцо так технически слажено, так ритмично, что порой, во время исполнения, мне казалось, это играет не струнный квартет, а работает сложный и вместе с тем тонкий механизм… Я хотел бы добиться такого же стремительного развития мысли в новых главах своей книги. И в дни отдыха Островский продолжал думать о романе «Рожденные бурей». Вот почему первый вопрос, которым он атаковал меня, когда я приехал в сентябре в Сочи, касался романа: — Ну, как? Будет моя книга служить делу коммунистического воспитания молодежи? Будет она волновать сердца читателей и звать их к борьбе, к подвигам? Или надо ее сразу, не доводя до печати, законсервировать в районе вот этого дома и забыть о ней? Мне нечего выходить в свет с сырой, неинтересной книгой. Тревога его была напрасной; он мог в этом вскоре убедиться. Однако Островский сказал тогда: — Для меня самая горькая правда всегда лучше сладкой лжи… Если плохо, то надо сказать, что плохо. Подло хвалить то, что плохо. Ведь книга не личное дело писателя. Книга пишется для миллионов. В жизни бойца бывают победы и поражения. Надо только уметь извлекать пользу из поражений, надо учиться на них. Ведь не сломит бойца тот факт, что после десяти побед он понес поражение. Красная Армия знала поражения в отдельных схватках, но она победила. Так и в творчестве самых талантливых писателей, — победы чередуются с неудачами. И эти неудачи должна указать писателю дружеская, но самая суровая и беспощадная критика. Днем, на веранде, залитой солнцем, мы говорили о первой части романа, о сильных и слабых сторонах рукописи. А вечером, в своей затемненной комнате, он рассказывал о мечтах, — о том сокровенном, в чем человек раскрывается целиком. Островский лежал на высокой постели, напоминая скорее бойца на привале, нежели тяжело больного. Незрячие глаза его сверкали. Над его постелью висел буденновский шлем, клинок, и казалось, что вот-вот он подымется, лихо вскочит на коня, скомандует «шашки на-голо!» и понесется навстречу бою. — Для меня каждый день жизни, — говорил он, преодоление огромных страданий. А я мечтаю еще о десяти годах… Ты видишь мою улыбку, она искренна и радостна. Улыбка его была действительно искренней и радостной. «Человек!.. Это звучит… гордо!» Он, конечно, помнил горьковские слова и испытывал гордость за себя, за свое человеческое уменье побеждать страдания. Это было не то чувство, которое свойственно героям-одиночкам, героям-индивидуалистам, а чувство человека, воспитанного социализмом, гордого своим местом в общем строю. — Я приехал из Москвы больной, усталый, переутомленный работой. Но болезнь не истощила, а мобилизовала мои силы. Я сказал: «Смотри, завтра же ты можешь погибнуть, так скорее вперед!» — Личные трагедии будут и при коммунизме, но жизнь будет прекрасна тем, что человек перестанет жить узкой личной жизнью. Островский распалялся: — Эгоист погибает раньше всего; он живет в себе и для себя. И если поковеркано его «я», то ему нечем ужо дышать. Перед ним ночь эгоизма, обреченности. Но когда человек живет не только для себя, когда он растворяется в общественном, когда он живет единым целым со своей страной и народом, то его трудно убить: ведь надо убить все окружающее, убить всю страну, всю жизнь. Я погиб частично, но мой отряд процветает. И боец, который, умирая в цепи, слышит победное «ура» своего отряда, получает последнее и какое-то высшее удовлетворение… — Я трачу массу энергии, — продолжал он с жаром, — и разряжаюсь, как аккумулятор. И вот надо найти источники, которые бы мобилизовали на работу… Собственные его пылкие и смело устремленные в будущее мечты были одним из неиссякающих источников, приносивших ему зарядку. — Всех своих мечтаний я не выразил бы и в десяти томах, — сказал он с радостной силой. — Мечтаю всегда, с утра до вечера, даже ночью. Это не одна тупая мысль, которая возвращается каждый день из месяца в месяц. Она меняется снова и снова, как восход и закат солнца. Часто начинается вспышка где-то в уголке мозга, а потом разворачивается в грандиозное и победоносное движение. Эти мечты дают мне так много. Вопросы личного, любви, женщин занимают мало места в моих мечтах… Для меня нет большего счастья, чем счастье бойца. Все личное не вечно и неспособно стать таким огромным, как общественное. Но быть не последним бойцом в борьбе за прекраснейшее счастье человечества — вот почетнейшая задача и цель. И, увлекаясь, он рассказывал о своих замечательных путешествиях, таких фантастических и таких реальных, земных. Мечты делали его солдатом всех революций мира. Он приходил на помощь бойцам народно-освободительной армии Китая, боровшейся против японских интервентов. Вся необъятная земля Китая была им изучена в совершенстве. Он мысленно странствовал по желтым лессовым холмам Гуанси и Шанси, по рисовым полям Сычуани, ночевал в лодках, уткнувшихся в ил на окраине Шанхая. Он ободрял уставших, вселял веру в победу в сердца отчаявшихся, участвовал в партизанской борьбе, проникал в японские тылы и устраивал там диверсии, связывал разрозненные отряды китайских партизан, объединял их в одну могучую действующую армию и победоносно вел в бой… — И вот проходят часы, а я жадно вникаю в борьбу. Безумно напряженно и радостно работает мысль… Если меня случайно отрывают от моих планов, мне бывает очень больно, и я не могу сразу вернуться к жизни. Островский все чаще и чаще уносился мыслями в Испанию. Там шла ожесточенная борьба. У его постели висела карта Испании, утыканная красными и черными флажками. Испанские фашисты, возглавляемые генералом Франко и поддерживаемые Гитлером и Муссолини, подняли мятеж против законного республиканского правительства. На защиту Мадрида, на защиту Испании встал испанский народ. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — эти пламенные слова Долорес Ибаррури стали боевым девизом испанских патриотов Ежедневно утром и вечером, после «Последних известий», передвигались на карте флажки фронтов. — Вчера я проснулся ночью, не спал часа полтора и строил планы, как взять дредноут у мятежников. Я был в подпольной организации моряков и вел работу по организации восстания; до мельчайших подробностей предусмотрено было все. Мы жахнули по офицерью — и дредноут наш… Он видел ликующие лица мужчин, женщин, детей Испании, пестрый ливень цветов, которыми народ осыпал своих освободителей, своих героев… Нет страны, которой не коснулась бы его мечта Она бродила по всему миру и приходила на помощь обездоленным труженикам разных рас и наций. — Если бы взять все миллиарды капиталистов, все силы техники и все то, что лежит у них неподвижным грузом, и отдать рабочим, голодным, изнуренным, доведенным до предела нищеты… На океанских пароходах перевозил он в Советский Союз безработных американских рабочих и направлял их на работу. Мечты его были безграничны. Но среди них одна, самая дорогая и сокровенная: мечта об укреплении могущества нашей социалистической родины — Множить силы моей страны, нашей республики — вот основное… Случается, что я разговариваю с каким-нибудь слюнтяем, — вскипал Островский, — который страшно ноет из-за какой-то личной неудачи. Ему не для чего, мол, жить, говорит он, у него ничего не осталось. И тогда я думаю, что если бы у меня было то, что есть у него: здоровье, возможность двигаться по необъятному миру (это страшная мечта, и я не позволяю ее себе), что было бы?.. Я, молодой, стройный, здоровый парень, мысленно одеваюсь и выхожу на балкон. Я вижу перед собой всю жизнь. Что было бы? Я не мог бы просто пойти, я побежал бы на улицу стремительно и неудержимо. Может быть, побежал бы в Москву рядом с поездом, схватившись за поручни вагона. В Москве пришел бы на завод имени Сталина, прямо в кочегарку, чтобы скорее открыть топку, вдохнуть запах угля, швырнуть туда добрую порцию его. О, я дал бы 6 000—7 000 процентов выработки… Я жил бы жадно, до безумия. Сколько я мог бы дать, сколько надо бы выкачать из меня, прежде чем я бы устал. Вырвавшись из девятилетней неподвижности, я был бы беспокойнейшим человеком, я бы не уходил с работы, пока не насытился ею. — В нашей стране быть героем — святая обязанность, — говорил он твердо. — У нас не талантливы только лентяи… А из ничего не рождается ничего, под лежачий камень вода не течет. Кто не горит, тот коптит — это закон. Да здравствует пламя жизни! — Одному не бывать, — горевал Островский, — не взлезть мне еще раз на коняку, прицепив шаблюку до боку, и не тряхнуть стариной, если гром ударит… Что же, у каждого своя «судьба». Буду рубать другою саблей. Тучи сгущались. Он был полон предчувствия неумолимо приближающейся военной грозы… 30 сентября к нему явился корреспондент английской газеты «Ньюс кроникл». Беседовали три часа: о фашизме Гитлера и Муссолини; о войне, которая нависла над миром; об историческом подвиге советского народа; о будущем… Островский сказал корреспонденту: — Политикой за границей руководят люди, место которых в доме умалишенных. Если страшен один сумасшедший с револьвером, то что же сказать о таких, которые могут бросить в бойню 45 миллионов человек, всю нацию и залить кровью весь мир?.. Читатели буржуазных газет — жертвы разбойников пера. Отвратительное чудовище — буржуазная печать. Каково положение журналиста: или лги и получай деньги, или будешь вышвырнут вон. У кого честное сердце, тот откажется, а большинство пойдет на это. Трудно удержать гам честное имя. А ведь страшно жить так. Журналисты лгут сознательно. Они всегда знают правду, но продают ее. Это профессия проститутки… В капиталистических странах лгут целые политические партия. Правды они говорить не могут, так как массы отойдут от них, а они должны маневрировать между правящей группой и трудящимися… Я не хочу ее оскорблять, — говорил он об Англии, — но в ее политических позициях нет определенности. Нельзя оказать, что она скажет завтра, куда и с кем пойдет. Корреспондент ничего не опроверг. Он ответил Островскому: — Не так давно я посетил Гарвина (это издатель «Обсервера», куда я пишу раз в неделю). Мы беседовали шесть-семь часов. Он близок к лорду Астору, и он в курсе всей политики Англии. Я много рассказывал ему о положении на Советской Украине — о коллективизации, о громадном росте культурности населения, об образовании. Но я вижу, что мои корреспонденции там так обрабатывают, что главная мысль их бывает удалена, они не дают читателям полного представления о СССР. Так вот, выслушав мою информацию об Украине, он сказал, что хотя большевики и много сделали на Украине, а будь там немецкая голова, было бы сделано гораздо больше. Он за Гитлера, и не только он… Корреспондент ушел. Островский долго не мог прийти в себя после этой беседы. Гарвину и Астору нравится «немецкая голова»… Они за Гитлера, и не только они… Нужно было спешить. Он принял решение. «22 октября я думаю выехать в Москву, чтобы ускорить окончательную редакцию романа «Рожденные бурей»… — сообщал Островский директору Гослитиздата, — тут товарищи протестуют против отъезда… Но я не могу спокойно доживать здесь до зимы. Каждый день жизни дорог. И я двинусь в Москву. Там мы устроим широкое совещание, я займусь первым томом, чтобы в самое кратчайшее время он вышел в свет, так как молодежь не простит дальнейшей оттяжки».
ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ЖИЗНИ
Он очень любил мать. «Есть прекраснейшее существо, у которого мы всегда в долгу, это — мать», — сказал однажды Островский М. К. Павловскому. «Ольге Осиповне Островской, моей матери, бессменной ударнице и верному моему часовому», — написал он на подаренном ей экземпляре «Как закалялась сталь». Тяжелые предчувствия одолевали ее. Не хотелось расставаться с сыном. Она загрустила и заболела. Островский узнал об этом, встревожился, позвал ее к себе. Мать сидела у его постели. Он взял ее руку, крепко пожал. — Что ты грустишь, моя родная? — сказал он ей тихо и ласково. — Ведь ты знаешь, что мне нужно ехать. Я закончу в Москве свою книгу, сдам ее в печать, сделаю все свои дела. Время пройдет незаметно, и я ранней весной вернусь. Мы будем вместе отдыхать здесь, греться на солнце, будем много читать и слушать нашего милого соловья; он так хорошо поет в саду каждое утро… Наклонись и поцелуй меня в знак согласия. Она не наклонилась и не произнесла ни единого слова. Он угадывал ее мысли. — Мы же не дети, — продолжал Островский, — и должны понимать… все может случиться. Но это еще не скоро. Будь бодра, как раньше… Ведь так много хорошего впереди. Я буду часто писать тебе и вспоминать ежедневно[118]. Он попросил мать пойти отдохнуть, успокоиться. Она поцеловала его и нехотя ушла. Было это 21 октября. А 22-го Николай Алексеевич снова предпринял «северную экспедицию» — последний раз он покинул Сочи и уехал в Москву. Поздней ночью 24 октября поезд прибыл на Курский вокзал. До утра Островский оставался в вагоне. Потом его перевезли в уже знакомую обстановку, на улицу Горького. Он связался с ЦК ВЛКСМ и Союзом писателей. Договорились о том, что 15 ноября состоится расширенное заседание президиума правления Союза советских писателей, на котором будет обсуждена рукопись «Рожденные бурей». Островский возбужденно готовился к этому знаменательному в его жизни дню: он еще и еще возвращался к написанному, советовался с редакторами, вносил поправки. Теперь, как и прежде, его обуревало беспокойство: все ли ему удалось в новой работе, оправдал ли он доверие партии и народа, поведут ли за собой «Рожденные бурей» армию читателей, — насколько точен и крепок его новый удар по врагу.
 Н. А. Островский с матерью (1936)
Н. А. Островский с матерью (1936)
Редактор издательства «Советский писатель» сообщил ему, что готовится новое издание романа «Как закалялась сталь». Островский настаивал на миллионном тираже. Не личная слава занимала его, нет! — Понимаешь, миллион, — убеждал он редактора книги, — это мои солдаты, красноармейцы. Я их полководец. Я веду их на врага. А нам еще предстоят громадные бои. Многие еще не понимают, что такое фашизм. Представь себе, что на улицу выбежал сумасшедший с бомбой. Куда он ее швырнет? Там, в Париже и Лондоне, только ахают и охают, ежатся и пыжатся. Но только рабочий класс Советского Союза, только большевики видят и понимают фашизм насквозь и дадут ему отпор. Я вот иногда лежу и представляю себе, как с факелами на улицах германских городов идут остервенелые штурмовики. Мне. кажется, что я слышу их истошный вопль: «Хайль Гитлер!» И поэтому я хочу вооружить нашу «комсу», наших молодых ребят, всех советских людей оружием своих литературных образов. А иначе на чорта ли заниматься литературой? Что это, игра в бирюльки! И тут я не боюсь за свою работу. Я знаю, что может дать «Как закалялась сталь». Я это уже проверил… Он знал, что может дать «Как закалялась сталь» и не знал еще, что могут дать «Рожденные бурей». Это предстояло проверить. Наконец наступило долгожданное 15 ноября. Вечером у него на квартире собрались товарищи. Кровать Николая Алексеевича перенесли в центральную большую светлую комнату, где обычно принимали гостей. Он лежал высоко на подушках, взволнованный, улыбающийся. Люди бережно пожимали его руку; со многими он знакомился сейчас впервые, задерживая их у своей постели, расспрашивал,шутил. Когда все товарищи собрались и уселись на стульях и диванах, так что каждому был виден Островский (его лицо было обращено к собравшимся), представитель ЦК ВЛКСМ объявил заседание открытым. Первым взял слово автор. Говорил он, как всегда, тихо, но внятно и энергично. О чем он говорил тогда? — Мое выступление может быть несколько неожиданно для вас: автор выступает первым. Я с большим чувством доверия ждал этого заседания, которое должно мне во многом помочь. У меня есть решительная просьба, которую я высказывал неоднократно в письмах к товарищам и в личных беседах, чтобы ваше обсуждение шло по следующему желательному для меня и всех нас направлению… И неожиданным стало не то, что он выступил первым, а то, о чем просил он, этот чело-век, прикованный к своей «матрацной могиле». Он призывал к «жестокой критике», просил «очень сурово и неласково показать все недостатки и упущения». — Я настойчиво прошу вас не считать меня начинающим писателем, — говорил он. — Я пишу уже шесть лет. Пора за это время кое-чему научиться. Требуйте от меня много и очень много. Это самое основное в моем выступлении. Подойдите ко мне, как к писателю, отвечающему за свое произведение в полной мере как художник и как коммунист. Высокое качество, большая художественная и познавательная ценность — вот требования нашего могучего народа к произведениям советских писателей. И делом нашей чести является выполнение этих справедливых требований. То, что среди нас уже нет Алексея Максимовича Горького, великого и замечательнейшего человека, страстно, непримиримо боровшегося со всяческой пошлостью и бесталанностью в литературе, заставляет партийную группу Союза писателей, каждого члена партии и каждого непартийного большевика-писателя еще глубже осознать свою ответственность за нашу работу. В связи с этим мне хотелось сказать о нашей дружбе. Я пришел в советскую литературу из комсомола. История нашей партии и комсомола дает непревзойденные примеры творческой дружбы. Они учат нас уважать свой труд и труд товарища, они говорят о том, что дружба — это прежде всего искренность, это критика ошибок товарища. Друзья должны первыми дать жесткую критику для того, чтобы товарищ мог исправить свои ошибки, иначе его неизбежно поправит читатель, который не желает читать недоброкачественные книги. Вот эту замечательную дружбу мы должны укрепить в среде писателей, ибо осталось еще кое-что от той особенности в нашей среде, которую мы получили в наследство от старого, когда писатель был «кустарь-одиночка». Нужно честно пожать друг другу руки, отмести навсегда все отравляющее, желчное, что осталось от прошлых групповых стычек, когда интересы группы ставились выше интересов советской литературы. В нашей среде есть также люди, которых великий Сталин назвал «честными болтунами». Они много болтают, но не работают. А в нашей стране каждый писатель должен прежде всего работать и над собой и над своим произведением… Каждый из вас прочел первую книгу романа «Рожденные бурей». Это три с половиной года работы. Давайте же поговорим о моих ошибках. Это нас сблизит, ведь у нас одна цель — чтобы советская литература была самой прекрасной. Принципиальная критика помогает писателю расти, она облагораживает. И только самовлюбленные, ограниченные люди не выносят ее. Мы же должны доверять друг другу свои тревоги и волнения. Будем открыто рассказывать о своих неудачах… Я прошу отнестись ко мне, как к бойцу, который может и желает исправить недочеты своей работы. Критика меня не дезорганизует. Наоборот, она скажет мне о том, что я нахожусь в кругу друзей, которые помогут мне вытянуть тяжесть. Я никогда не забываю, что я еще не так силен в художественном мастерстве, что мне есть чему поучиться у вас. Художник должен чувствовать под собой крепкую советскую землю, не отрываться от нее. Печальна участь тех, кто отрывается от коллектива, возомнив себя сверхгением или непризнанным талантом. Коллектив всегда поднимет человека и поставит его крепко на ноги. Я буду слушать вас с большим волнением. Но помните, что итти надо по линии наибольшего сопротивления и подходить ко мне с наибольшими требованиями. Островский призвал собравшихся открыть по его рукописи «артиллерийский огонь» критики. Он заверил товарищей в том, что огонь этот для него не губителен, а животворен; творческие силы и желания его лишь окрепнут, и он сможет с успехом продолжить и завершить начатое дело. Скидок не было. Участники обсуждения подвергли «артиллерийскому обстрелу» язык романа, некоторые его эпизоды и образы, трактовку отдельных исторических фактов. Общее же мнение свелось к тому, что писатель одержал новую победу. Обсуждение началось с выступления А. Серафимовича. Он разобрал все образы романа, начав с людей вражеского лагеря. — Когда я дошел до рабочих, — сказал А. Серафимович, — я сразу себя как дома почувствовал. Андрий великолепен, Васька великолепен. Олеся — милая девушка. Вероятно, она вырастет дальше. Перед ней будущность человека, полезного революции. Вот с Раймондом дело труднее, а между прочим, фигура прекрасная. Как-то его надо дать на событиях, на столкновениях с людьми, с врагами, с друзьями, чтобы повернуть его несколько раз, чтобы он осветился со всех сторон. Он разобрал сюжетные линии романа, дал несколько советов, и Островский, не удержавшись, прервал его речь взволнованной репликой: — Спасибо, Александр Серафимович. Хорошо, старик, поправил, что лишнее. Свою речь Серафимович закончил словами. — Ваша «Как закалялась сталь» показалась мне сначала теплее и ближе, чем «Рожденные бурей», но я должен сказать, что мастерство у вас выросло. Ведь громадный, сложный материал, а вы его здорово разложили, сорганизовали, связали в одно прекрасное органическое целое. Затем выступил А. Фадеев. — «Как закалялась сталь» писать было легче, — сказал он. — «Рожденные бурей» — это не автобиографическая вещь. Писать ее труднее. — В «Рожденных бурей», — продолжал он, — если описание природы — так это природа, водокачка— так водокачка, тюрьма или карцер — так это то, что нужно. Людям, природе уделено достаточно места. Даже эпизодические фигуры ощутимы, и язык стал чище, ярче, гуще. Конечно, в «Как закалялась сталь» по сравнению с «Рожденными бурей» есть одно большое преимущество: то произведение, как песня, там больше лиризма… В первом произведении все то, что хотел запеть, запело. В «Рожденных бурей» меньше лиричности, но в целом — и по теме, и по глубине, и по материалу — этот роман шаг вперед. Выступали В. Отавский, В. Герасимова, И. Феденев, Н. Асеев, И. Бачелис, М. Колосов. В. Герасимова особенно подробно говорила про Андрия Птаху, «простого рабочего парня, поднявшегося до революционного героизма, поднявшегося до прекрасной самоотверженности». — Он и есть основной герой, — поддержал ее Н. Островский. — Хорошо, если он вас подкупает. Это основная фигура. Обсуждение принесло Островскому большую радость. — Мы знаем, что победа гладко, без препятствий не дается, — сказал он в своем заключительном слове. — Таких побед почти в истории не бывало. И победа в нашей стране и победа каждого в отдельности — это преодоление препятствий. Если бы сегодня было доказано ясно и понятно (а я чуткий парень, и не надо меня долго убеждать в истине), если бы было признано, что книга не удалась, то результатом могло бы быть одно: утром завтра я с яростью начал бы работу. Это не фраза, не красивый жест, потому что жизнь без борьбы для меня не существует. На кой чорт она мне сдалась, если только жить для того, чтобы существовать! Жизнь — это борьба. Некоторые товарищи, озабоченные состоянием его здоровья, предлагали обеспечить ему помощь кого-либо из советских писателей. Он тут же категорически от этого отказался.. — Выправлять книгу писатель должен собственной рукой. Продумывать неудачные фразы должен сам автор. Ведь каждому понятно, что писатель, который любит свою книгу, не может отдать ее другому писателю, чтобы тот ее «дописывал». Я вас уверяю, что если бы вы пришли к пятисотницам в середине года и сказали: «Давай я тебе буду копать», — они бы вас не пустили. Они бы сказали: «Закончим, но своими руками». Так ответил и он. Из критики Островский сделал единственный вывод: — Надо поднять это произведение на несколько ступеней вверх, чтобы не было стыдно выйти в свет, выступить с новой книгой. Ведь существует мнение, что в первую книгу писатель вкладывает весь опыт жизни, и она бывает наиболее яркой и глубокой. Вторую книгу делать труднее. Ваши замечания, друзья, я продумаю. Побольше нам таких дружеских встреч. Он сердечно поблагодарил всех за сказанную ими правду и пообещал после одного дня отдыха («позволю себе эту роскошь») приступить к делу. При самом уплотненном рабочем дне вполне здоровому человеку и то понадобилось бы три месяца, чтобы подготовить к печати рукопись такого объема. Островский же установил для себя месячный срок. — У меня бессонница, — сказал он. — И это пойдет на пользу. Один лечится тем, что отдыхает, другой лечится работой. Островский в самом деле «лечился» работой. Как-то с утра к нему пришел один из редакторов книги «Как закалялась сталь». Ему предстояло поработать с автором: готовилось переиздание романа. Сумеречный зимний день струился в окно. Островский был очень бледен. Плохо опал. Мучили камни в почках. Ночь, видно, не принесла настоящего отдыха. — Может быть, не стоит работать сегодня? — спросил его редактор. Островский ответил: — Нет, именно работать. Ты понимаешь, вот я просыпаюсь и сразу чувствую, как тысячи, мириады болей впиваются в тело со всех концов. Болит и ноет все. Руки, ноги, грудь, спина. Противно, когда ноет один зуб. Но когда ноет тысяча зубов — это безобразие. Но я эту тысячу выметаю железной метлой. Я выше болезни в работе. Я презираю, я смеюсь над ней. У Алексея Максимовича я читал, что человек должен презирать страдания. Страдания недостойны человека. И человек должен уметь поставить себя выше их. А для этого надо иметь цель, надо чувствовать локоть коллектива, народа, партии. Островский палочкой, обернутой на конце марлей, не подымая уже негнущейся левой руки, обтер свои губы. Он продолжал: — Знаешь, что я тебе хочу сказать по секрету? Человек иногда бывает довольно злым и никчемным существом. Человек делается человеком, если он собран вокруг какой-либо настоящей идеи. Тогда человек живет не по частям: брюхом, печенью, полом, а целым. С этого, собственно, и начинается человек. Этим он и силен. Но есть одна великая идея, которая не только одного человека, а целые народы может сделать богатырями. Это великая идея коммунизма, борьба за народное счастье. Я горжусь, что я большевик, член партии Ленина — Сталина. Поэтому я человек, и могу жить как Человек. Я не для красного словца сказал, что я счастлив. Островский пообещал через месяц представить Центральному Комитету комсомола готовую для печати первую часть «Рожденных бурей». Слово и на этот раз не разошлось у него с делом. Не раз в течение своего многочасового рабочего дня Островский спрашивал, не устали ли его секретари, внимательно следил за их сменой, едой, отдыхом. И только для себя у него не было времени на отдых; с досадой отрывал он минуты на еду, торопясь возвратиться к работе как можно скорее. — Самый счастливый человек — это тот, кто, засыпая, может сказать, что день прожит не напрасно, что он оправдан трудом, — сказал как-то Островский. Поглощенный работой, писатель забывал обо всем: о мучительных болях, о нечеловеческой усталости, о еде.
 Н. А. Островский работает над романом «Рожденные бурей» (1936).
Н. А. Островский работает над романом «Рожденные бурей» (1936).
Его утомление лишь выдавалось тем, что он чаще и чаще небольшими глотками воды смачивал свои пересохшие губы да еще голос его раздавался в комнате тише и глуше. Он объявлял перерыв, только когда наступала полночь, и то заботясь не о себе, а о других. Он расходовал себя до предела и был счастлив от сознания, что день прожит не напрасно. Спал он очень мало. Часто по утрам его заставали совершенно измученным. Родные с тревогой наблюдали, как Островский отдает роману буквально последние силы. Его уговаривали отложить его хоть на время. Но он решительно отказывался от отдыха и непрестанно подгонял себя и свой «штаб». Возле кровати писателя, на столике, диване и стульях, были разложены экземпляры его рукописи с правкой редакторов. Страница за страницей читался текст романа по основному авторскому экземпляру, а затем прочитывались — тоже по страницам — все замечания. Островский обращался к стенограмме недавнего заседания президиума правления Союза советских писателей. Он взвешивал каждое слово, исправлял, дописывал, устанавливал окончательный текст и неизменно повторял: — Вперед, друзья, вперед! В первой главе Людвига Могельницкая читала Седкевкча. Островский заменил Сенкевича Жеромским. Почему? Потому, что в той среде, к которой принадлежала Людвига, книги Сенкевича читают преимущественно в юношеском возрасте, а главное — потому, что именно Жеромский больше, нежели Сенкевич, мог питать ее романтизм. События развертывались прежде в большом западноукраинском городе, испытавшем на себе долгие годы австрийского влияния, — таком, как Львов. Автор перенес действие романа на Украину, в маленький городок, подобный Волочиску. Незначительное как будто изменение. Но оно повлекло за собой бесчисленные перемены в деталях: магистрат должен был превратиться в управу, килограммы заменились фунтами, километры — верстами; начальник гарнизона из генерала стал подполковником, а особняк епископа — домом ксендза. Лакей Юзеф, который в первом варианте мог говорить по-немецки, теперь не может объясняться с немецкими офицерами. Вот почему автор вводит записку Стефании. Коренной переделке подверглись целые сцены: разговор Людвиги с Владеком, Эдварда с Людвигой. Островский мало знал этих людей — их психологию, быт, язык. — Чорт их знает, как они деликатно объясняются в подобных случаях. Они, эти аристократы, сволочи, у меня на фронте гражданской почти три четверти жизни отняли; вот и теперь, на фронте литературы, продолжают вредить, — говорил Островский, улыбаясь. Он долго искал естественные тона, верные штрихи, точные слова. И в конце концов находил их. «Она была дочерью лесопромышленника, — диктовал он о Стефании, — которому его миллионы не плохо заменяли дворянский герб, и петушиная заносчивость Владислава, всегда казавшаяся ей смешной, сейчас раздражала ее». Писатель многое уточнил, рисуя лагерь врагов. Он многое уточнил и в стане Раевского — Воробейко — Ковалло — Птахи. В первоначальной рукописи романа подпольный ревком был избран на собрании. Избираемые рассказывали свои биографии. Но это ведь противоречит элементарным правилам конспирации. И весь эпизод избрания ревкома был вычеркнут. Отец Раймонда Раевского Сигизмунд Раевский, он же «Хмурый», — руководитель партийного подполья, старый большевик, с огромным опытом подпольной борьбы. Значит, всюду, где он присутствует, должна обязательно соблюдаться строжайшая конспирация. И, задумавшись над этим, Островский уточняет, дорабатывает роман. Уже не так беззаботно ведут себя люди, собравшиеся воскресным утром в доме машиниста Ковалло. На холме, в пустой будке стрелочника, дежурит Раймонд. Во дворе — Олеся…. Вводится эпизод, в котором вооруженный Воробейко останавливает у мостика Андрия с Васильком. Писатель заставляет своих героев прибегать и к другим предосторожностям, о которых в первом варианте они не заботились. В первоначальной рукописи романа весь подпольный ревком попадал в руки легионеров. Островский по-новому закончил десятую главу: теперь часть ревкома ускользает из ловушки врага. На свободе остается и такой искусный подпольщик, как старый Сигизмунд Раевский. Ночью, после провала ревкома, когда Дзебек, Кобыльский, Врона готовы уже торжествовать свою полную победу, на стенах домов города расклеивается новое воззвание: «Товарищи рабочие! Мы не разбиты. Мы только временно отступили. Ждите — мы скоро вернемся. Пусть враг это знает. Да здравствует власть рабочих и крестьян! Председатель Революционого комитета — Хмурый». Так писатель показал, что борьба продолжается и что легионеры вовсе не всемогущи. Более того, они обречены. Сохранив руководящую часть ревкома на свободе, Островский облегчил возможность спасения арестованных товарищей. Он думал об этом. Известный схематизм чувствовался вначале в образе Сигизмунда Раевского. Островский дописал его. «Вот теперь так…» — говорил он, достигнув желанного. Он углубил образ Воробейки, дополнил его новыми психологическими штрихами. Явственным стал характер Олеси. В первой редакции обрисовывалась лишь ее внешность: «мальчишеский задор, карие смеющиеся глаза, хорошенький вздернутый носик». А из окончательного текста перед нами предстал образ жизнерадостной, порывистой, застенчивой и в то же время задорной и кокетливой девушки. Здесь обрисовался не только облик, но и характер. Более «земным» стал Раймонд. Он уже не бросает на пол деньги, которыми расплачивался с ним Юзеф. Благородная гордость Раймонда проявляется по-иному. «Рабочему парню вообще несвойственно такое пренебрежение к деньгам, — заметил Островский. — Он может не взять их, но швырять на пол не будет». При обсуждении рукописи «Рожденные бурей» была подвергнута критике известная сцена, в которой описываются события в городке после убийства слесаря Глушко легионерами-пилсудчиками. Взволнованная, возмущенная толпа собирается у ворот фабрики. И кочегар Андрий Птаха, вместо гудка, зовущего на очередную смену, дает тревожный гудок — сигнал к восстанию. В этой сцене Андрий Птаха выглядел героем-одиночкой, отъединенным от переполняющей заводской двор пассивной толпы рабочих. Автор дополнил написанную им картину: «Сумрачные, измученные тяжелой работой люди чувствовали в сопротивлении одного человека укор своей пассивности. А рев не давал забыть об этом ни на одну минуту. Теперь судьба Птахи глубоко тревожила всех. Восхищаться им стали открыто, особенно женщины. Послышались негодующие голоса: — Стыдились бы, мужики, глядите! Одного оставили на погибель… …Возбужденные криками женщин, гудком и всем происходящим, рабочие отказывались уходить со двора. Легионеры пустили в ход штыки. Кавалеристы теснили их конями и хлестали плетьми. Разъяренные рабочие стащили с лошади одного легионера. Его едва отбили. С большим трудом эскадрон Зарембы очищал двор…» Таких поправок в рукопись было внесено много. Островский называл себя «самым придирчивым из всех своих критиков». Он тщательно проверяет точность эпитетов, освобождается от вялых и расплывчатых «как бы», «куда-то», «что-то», «какой-то». Вместо «какая-то издевка» пишется: «скрытая издевка»; вместо «что-то нежное, теплое прилипло к его сердцу…» — «теплая волна прилила к его сердцу…»; вместо «Ядвига утешала ее» — «Ядвига молча гладила ее по голове». Он хорошо понимал, что в писательском деле мелочей не существует. Автор добивается большей динамичности языка, делает фразу энергичной, укрепляет ее мускулатуру. Куда выразительней сказать: «Тараторила Стефания», нежели «с деланной тревогой воскликнула Стефания», или «Василек трусил мелкой рысцой рядом, поминутно оглядываясь», нежели «Василек шел рядом легкой рысцой, не забывая оглядываться». — Опять штампюга! — восклицал он, натолкнувшись на «жутко улыбнулся», «потрясенная встречей», «темная тень пробежала по лицам». Чаще всего подобное встречалось в сценах, посвященных аристократии. Вот почему, обнаружив очередную «штампюгу», Островский иронизировал: «Граф вздрогнул, графиня пошатнулась». Кропотливая работа продолжалась изо дня в день, в три смены. Он прерывал ее лишь для того, чтобы поесть, познакомиться с текущей почтой, прослушать газеты, последние известия по радио. 25 ноября открылся Чрезвычайный VIII съезд Советов. Товарищ Сталин делал свой исторический доклад о проекте Конституции Союза ССР. Островский пригласил к себе в комнату всех членов семьи, работников «штаба». Несколько раз он проверял, хорошо ли настроен приемник. Попросил придвинуть поближе к приемнику свою кровать. Он был возбужден. Когда радио донесло гул оваций, которыми съезд встретил вождя, лицо Островского залучилось чудесным внутренним светом. Всем своим существом он перенесся в Кремлевский дворец и внимал каждому слову. Короткими восхищенными репликами откликался он на сталинские слова. В разделе «Буржуазная критика проекта Конституции» товарищ Сталин, бичуя наших врагов и высмеивая их, упомянул героев Салтыкова-Щедрина и гоголевскую Пелагею. Островский произнес с восторгом: — Вот так бы нам, писателям, знать литературу и уметь ее применять в жизни. Впечатление от доклада товарища Сталина было столь огромно, что Островский возвращался к нему неоднократно и говорил, что наша художественная литература в долгу перед народом, что она должна в бессмертных образах запечатлеть великую хартию социализма. 5 декабря праздновался День Сталинской Конституции. Колонны демонстрантов двигались по улице Горького, мимо квартиры Островского, вниз на Красную площадь. Он слышал рокот многоголосой толпы, радостные песни, бодрые звуки оркестров и тоже участвовал в народном празднестве. — Я прохожу сейчас по Красной площади, — сказал он, — мимо ленинского мавзолея и вижу Сталина на трибуне. Он пережил это и потому мог так сказать. Душевный подъем проявился в работе. 11 декабря в 12 часов ночи — за четыре дня до назначенного срока! — он закончил редактуру последней страницы. Островский сообщал матери в Сочи: «Сегодня я закончил все работы над первым томом «Рожденные бурей». Данное мной Центральному Комитету комсомола слово — закончить книгу к 15 декабря — я выполнил. Весь этот месяц я работал в «три смены». В этот период я замучил до крайности всех моих секретарей, лишил их выходных дней, заставил их работать с утра и до глубокой ночи. Бедные девушки! Не знаю, как они обо мне думают, но я с ними поступал бессовестно. Сейчас это позади. Я устал безмерно. Но зато книга закончена и через три недели выйдет из печати в «Роман-газете» тиражом в полтораста тысяч экземпляров, потом в нескольких издательствах общей суммой около полумиллиона экземпляров». В том же письме он заклеймил Андрэ Жида, выпустившего за границей пасквильную книжонку «Возвращение из России». Островский писал: «И кто бы мог подумать, мама, что он сделает так подло и нечестно! Пусть будет этому старому человеку стыдно за свой поступок. Он обманул не только нас[119], но и весь наш могучий народ». Николай Алексеевич делился своими ближайшими планами: «Сейчас я буду отдыхать целый месяц. Работать буду немного, если, конечно, утерплю. Характер-то ведь у нас с тобой, мама, одинаков. Но все же отдохну: буду читать, слушать музыку и спать побольше, — а то шесть часов сна — мало». Он интересовался: в порядке ли у нее радиоприемник? Слушала ли она доклад товарища Сталина? «Ты мне прости, родная, за то, что я не писал тебе эти недели, но я никогда тебя не забываю. Береги себя и будь бодра. Зимние месяцы пройдут скоро, и, вместе с весной, я опять вернусь к тебе. Крепко жму твои руки, честные, рабочие руки, и нежно обнимаю». Островский хотел после отдыха приступить к работе над второй частью «Рожденных бурей». В специальной папке находились конспекты изученных им материалов, отдельные наброски. Он стремился закончить весь роман (вторую и третью части) к двадцатилетию Октября — меньше, чем за год. Но письмо к матери — последнее из написанного им. 15 декабря — в день, когда Островскому принесли постановление ЦК ВЛКСМ о предоставлении ему месячного отпуска, — разразился последний и губительный для его жизни приступ — прохождение почечных камней, осложненное отравлением организма желчью. Он позвонил по телефону в редакцию «Комсомольской правды» и спросил: — Держится ли Мадрид? Франкистско-фашистские орды осаждали тогда испанскую столицу. Узнав, что Мадрид держится, он восхищенно произнес: — Молодцы ребята! Значит, и мне нужно держаться. И тут же с грустью добавил: — А меня, кажется, громят… Он уподобил себя осажденному Мадриду. Фашисты и смерть — синонимы. Нужно было держаться. — Не горюйте, друзья мои, я не сдамся и на этот раз, — утешал он близких. — Я еще не могу умереть — ведь я должен вывести из беды мою молодежь, я не могу оставить их в руках легионеров. Смерть «ходила где-то близко вокруг дома», в котором находились Андрий Птаха, Раймонд, Леон, Олеся, Сарра, пытаясь «найти щель, чтобы войти сюда». Островский стоял на страже их жизни, искал выхода из беды. Но смерть атаковала теперь его самого; она нашла щель и уже проникла в его дом. — Будем биться до последнего! — яростно кричал в охотничьем доме Андрий Птаха. До последнего бился Островский. Но болезнь наступала с таким чудовищным ожесточением, что его ослабевший, переутомленный напряженной работой последних лет организм не в силах был уже сопротивляться. Все старания врачей остановить приступ не увенчались успехом. Он умирал. Умирал так же мужественно, как жил. 21 декабря, оставшись наедине с медицинской сестрой, Островский спросил; — Долго вы работаете сестрой? — Двадцать шесть лет. — Вам, вероятно, приходилось видеть много тяжелого за время вашей работы? — Да, тяжелого я, конечно, видела много. — Ну вот и я, — сказал Островский, — я тоже ничем вас не порадую. Женщина с трудом сдержала слезы. Она попыталась утешить его: — Что вы, Николай Алексеевич! Я уверена, что через несколько дней вы меня, несомненно, порадуете, вам станет лучше. — Нет, нет, — ответил он ей, — я слишком хорошо сознаю свое состояние, я твердо знаю, что я вас больше ничем не порадую… А жаль! Еще только один год мне надо было прожить, чтобы закончить работу. У меня еще так много незаконченной работы осталось… Я знаю, что от меня еще многого ждет комсомол. Ночью Островский сказал дежурившей у его постели жене: — Мне очень тяжело, больно, Раюша… Видно, врачи не договаривают всего. Я чувствую, что все может кончиться катастрофой… Некоторое время он лежал молча. Резко сдвинутые брови свидетельствовали о крайнем его мучительном напряжении. Затем он продолжал: — То, что я тебе скажу сейчас, вероятно, будет моей последней связной речью… Жизнь я прожил неплохо. Правда, все брал сам, в руки ничего не давалось легко, но я боролся и, ты сама знаешь, побежденным не был. Тебе хочу сказать одно: как только жизнь тебя чем-нибудь прижмет, вспомни меня. Помни также, что где бы ты ни работала, что бы ни делала, учебы не бросай. Без нее не сможешь расти. Помни о наших матерях; старушки наши всю жизнь в заботах о нас провели… Очень их жаль… Мы им столько должны!.. Столько должны… А отдать ничего не успели. Береги их, помни о них всегда… Он впал в забытье. Очнувшись, спросил находившегося возле него брата Дмитрия: — Я стонал? И, услышав отрицательный ответ, торжествующе произнес: — Видишь! Смерть ко мне подошла вплотную, но я ей не поддаюсь. Смерть не страшна мне. Потом — снова забытье. И через несколько часов, очнувшись, — вопрос к врачу: — Я стонал? — Нет. — Это хорошо. Значит, смерть не может меня пересилить. Островский дышал уже кислородом. В последний раз смотрел он тогда в глаза смерти. Она надвинулась близко, как никогда прежде, но он не дрогнул. Его беспокоило лишь одно: — Я в таком большом долгу перед молодежью, — говорил он, уже угасая. — Жить хочется… Жить нужно… 22 декабря 1936 года в 19 часов 50 минут Николай Алексеевич Островский скончался… На следующий день в газетах появились траурные извещения: «ЦК ВКП(б) с глубоким прискорбием извещает о смерти члена ВКП(б), талантливого писателя-орденоносца Николая Алексеевича Островского». «ЦК КП(б)У и правительство Украины со скорбью извещают о преждевременной смерти выдающегося молодого писателя Украины, автора известного романа «Как закалялась сталь», комсомольца-орденоносца товарища Н. А. Островского». Центральный Комитет Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи извещал всех членов комсомола и советскую молодежь о безвременной кончине талантливого писателя, члена ВЛКСМ с 1919 года. Правление Союза советских писателей СССР в коротком обращении подводило итог замечательной жизни: «Не стало талантливого художника, большевика, чья героическая жизнь и деятельность служат образцом для всех советских писателей. «Как закалялась сталь» стала любимой книгой народов Советского Союза. В этой книге воплощены высокие коммунистические идеалы, правдиво отражена великая борьба трудящихся за социализм. Эта книга вдохновляет миллионы: она учит беззаветной преданности делу коммунизма. Всю свою жизнь Николай Островский отдал революции. До последней минуты он не прекращал творческой работы, заканчивая свой новый роман о гражданской войне «Рожденные бурей». Ушел от нас прекрасный большевик, замечательный друг и товарищ, человек светлого ума, необычайного мужества, кипучей энергии. Прощай, товарищ!» Печальная весть облетела страну и мир. Три дня стоял его гроб в Клубе советских писателей, и безостановочно двигался к нему людской поток. Многотысячная живая лента вытянулась по улице Воровского, окаймила площадь Восстания, заполнила улицу Герцена. Тысячи и тысячи людей разных возрастов и профессий проходили под скорбные звуки оркестра, через задрапированный в траурные полотнища зал, мимо гроба, отдавая последний долг бойцу и писателю. Они проходили медленным, тяжелым шагом, навсегда запоминая спокойное, удлиненное лицо, покатый большой лоб, едва разомкнувшиеся губы. В горестном молчании сменяли друг друга в почетном карауле писатели, моряки Тихоокеанского флота, бойцы Пролетарской дивизии, пионеры, народные артисты и летчики, товарищ Шверник и парашютистка Камнева, полярники и архитекторы, сын Чапаева и дочь Фурманова, делегации Киева и Ленинграда, Шепетовки и Сочи, Харькова и Ростова… Узами более прочными, чем родство, более нежными, чем дружба, были связаны все эти люди с человеком, который жил и творил только во имя их счастья. Наука не сумела сохранить ему жизнь. Но разве смерть могла умертвить его?! Вечером 25 декабря состоялась кремация тела Островского, а 26 декабря — похороны. Военный эскорт и многотысячная колонна трудящихся провожали урну с прахом покойного писателя до Ново-Девичьего кладбища. Здесь, на Коммунистической площадке, состоялся траурный митинг. Его открыл Александр Фадеев. — Мы хороним сегодня, — сказал он, — прах лучшего нашего друга и соратника, героического борца за революцию, верного сына нашей партии и ленинского комсомола, талантливого писателя, каждое слово которого, как и вся его жизнь, были посвящены делу освобождения трудящихся и вдохновляли их на борьбу, на новые победы. Необычайный пример жизни и работы Николая Островского внушает нам величайшую гордость за партию, за людей, которые борются в ее рядах за осуществление великих идей Ленина и Сталина. Островский, как писатель, был великим художником, выразителем всего самого передового и лучшего, что есть в нашем комсомоле, в нашей молодежи. Он соединял в себе большой светлый ум, стальную волю и прекрасную душу и этими своими качествами наделил и своих незабываемых героев, борцов за коммунизм. Появившись в нашей литературе, Островский своими книгами, своим примером сделал всех нас еще сильнее, а тех из нас, кто почему-либо почувствовал себя на минуту ослабевшим или колеблющимся, он снова возвращал на боевой пост. Николая Островского не стало, но дело, за которое он боролся и отдал свою жизнь, будет крепнуть и побеждать, а литература наша будет цвести, как великое слово всего трудящегося человечества. Затем выступили представители ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, сочинской партийной организации, брат покойного. В 2 часа 40 минут дня закончился траурный митинг. Грянул троекратный ружейный залп воинского салюта, раздались мощные звуки «Интернационала». Урна была установлена в нише кладбищенской стены и закрыта мраморной доской, на которой укреплена фотография Островского и сделана надпись:
 В день его похорон вышло в свет первое издание романа «Рожденные бурей».
Портрет писателя, обведенный траурной рамкой, открывал книгу. Эта рамка как бы напоминала читателю, что роману суждено остаться незаконченным. На последней странице напечатано было краткое обращение:
«Читатель!
Эта книга является первой частью большого произведения, задуманного автором в трех томах. Она была написана человеком, прикованным к постели тяжелым недугом, и закончена за несколько дней до смерти.
Смерть вырвала перо из его рук в самый расцвет творческой работы».
В день его похорон вышло в свет первое издание романа «Рожденные бурей».
Портрет писателя, обведенный траурной рамкой, открывал книгу. Эта рамка как бы напоминала читателю, что роману суждено остаться незаконченным. На последней странице напечатано было краткое обращение:
«Читатель!
Эта книга является первой частью большого произведения, задуманного автором в трех томах. Она была написана человеком, прикованным к постели тяжелым недугом, и закончена за несколько дней до смерти.
Смерть вырвала перо из его рук в самый расцвет творческой работы».
 Первое издание романа «Рожденные бурей».
Первое издание романа «Рожденные бурей».
«РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ»
Приступая к работе над романом «Рожденные бурей», Островский в октябре 1934 года высказал в письме свои стремления и надежды: «Работаю над новым романом… Пишу медленно. Хочу, чтобы новое дитя вышло умным и красивым…» Каким же, в самом деле, вышло это «дитя»? Печатью зрелого, уверенного мастерства отмечены страницы романа, точнее — первого его тома, законченного писателем за неделю до смерти. Вновь, как и в романе «Как закалялась сталь», сверкают перед читателем драгоценные россыпи жизни. И вновь неиссякаемой, неукротимой человеческой страстью озарена эта новая книга. «Рожденные бурей» — дальновидный, ярко антифашистский роман. Островский сказал о нем так: «Молодежь должна знать всю гнусность и подлость врага, его предательскую двуликость, хитрость и коварство, чтобы в грядущей нашей борьбе с фашизмом нанести ему смертельный удар». В то время, когда создавались страница за страницей «Рожденные бурей», Островский думал о фашистской угрозе человечеству и о том, как оказать ей отпор. В книге «День мира» (в ней рассказывалось, как прошел на нашей планете день 27 сентября 1935 года) Островский писал: «….Читайте газеты. Что там, на итало-абиссинской границе? Фашизм, этот сумасшедший с бомбой, устремился сюда. Никто не знает, куда и. когда он швырнет эту бомбу. Газета говорит: сложнейшая, запутанная паутина международных отношений, неразрешимые противоречия обанкротившегося империализма… Угроза войны черным вороном носится над миром… Душно в Европе. Пахнет кровью. Мрачная тень 1914 года видна даже слепым. Мир лихорадочно вооружается… — Довольно! Читайте о жизни нашей страны. И я слушаю биение сердца моей родины любимой. И встает она передо мной молодой и прекрасной, с цветущим здоровьем, жизнерадостная, непобедимая Страна Советов. Только она, моя социалистическая родина, высоко подняла знамя мира и мировой культуры. Только она создала истинное братство народов. Какое счастье быть сыном этой родины!..» Вспомним еще раз: когда Островского наградили орденом! Ленина, он написал товарищу Сталину: «Мне очень больно подумать, что в последних боях с фашизмом я не смогу занять своего места в боевой цепи. Жестокая болезнь сковала меня. Но с тем большей страстью я буду наносить удары врагу другим оружием, которым вооружила меня партия Ленина — Сталина, вырастившая из малограмотного рабочего парня советского писателя». До последней минуты он оставался верен своему обету в жизни, в творчестве, в помыслах. Островский видел грозную тень, нависшую над миром. Острое предчувствие надвигающейся опасности не покидало писателя. Он думал о своем месте в боевой цепи. Скованный болезнью, осужденный на неподвижность, Островский переживал уже грядущую схватку с фашизмом. Его мысль сражалась, его замыслы строились в боевой порядок и устремлялись навстречу врагу с оружием, изготовленным к бою. Он словно обозревал ход битвы и, исходя из сталинских предупреждений, представлял себе ту Великую Отечественную войну, в которой советские люди спасут человечество. Писатель стремился вселить в сердца ненависть к врагу. Он говорил о жестокости и подлости этого врага. Он знал, что схватка будет кровавой и беспощадной и видел грядущую победу. «Чувствуй и верю, что враг натолкнется у Кронштадта не только на сталь и железобетон красных укреплений, но и на человеческую сталь», — писал он морякам-балтийцам. Островский обращался к молодежи: «…И когда надо будет взяться за оружие, то вы покроете себя неувядаемой славой и укрепите своими руками красные штандарты… в Берлине». Его роман «Рожденные бурей» был новым ударом по врагу. Павел Корчагин продолжал жить — ведь это Корчагин в «Как закалялась сталь» писал повесть под таким именно названием: «Рожденные бурей». Островского спрашивали; как его новая книга перекликается с предыдущей? Он отвечал: «Обе книги родственны. Только в «Как закалялась сталь» сжато рассказана жизнь целого поколения на протяжении 16 лет, а новый роман развертывает в глубину лишь один из эпизодов революционной борьбы на протяжении 3–4 месяцев». Он додумывал все до конца. В черновиках Островского сохранилась запись тезисов к выступлению на IX Всеукраинском съезде комсомола; в них мы читаем: «…Фашизм бешено готовится к войне против Советского Союза. И если фашизм, эта бешеная собака, бросится на священные рубежи Советского Союза, то вся страна встанет на защиту своих границ и миллионы бойцов встанут под ружье. Это будет народная война, ибо хозяева будут защищать свою землю от грабителей. В этой последней схватке судьбу мира будут решать мужество, отвага, беззаветная преданность революции молодых людей нашей страны». В своем выступлении перед съездом Островский развивал этот тезис. — Мрачные тучи, — говорил он, — нависают над миром. Фашизм, топором и веревкой стремящийся повернуть мир к средневековью, готовится ударить по нашим границам. И вот мы, строители социализма, отдающие всю свою страсть и силы мирному труду, готовы к бою. Мысль Островского была прикована к этому надвигающемуся сражению. Он постоянно возвращается к этой мысли, она не дает ему покоя. Он предупреждал тех, кто может возомнить о наполеоновской славе: «— С Москвой будет большая война, — говорил граф Потоцкий. — Пилсудский спит и видит наполеоновскую дорогу… Ну, если не до Москвы, то хотя бы до Смоленска. На этот раз улыбнулся Эдвард. — Не считаете ли вы, что это опасное историческое сравнение?» Островский привык глубоко вникать во все явления политической жизни. Он докапывался до корня этих явлений. Поэтому и фашизм он постигал не только как явление, связанное с несколькими последними годами новейшей германской истории. Он понимал, что не только германские капиталисты будут искать спасения в расистских теориях. Более того, он уже тогда — в 1935 году! — увидел те корешки, которые фашизм пустил за океаном, в американской почве. Доктор М. К. Павловский приводит в своих воспоминаниях одну из бесед, происходивших вечером в сочинской квартире писателя. Речь шла именно о том, что фашизм не является созданием чисто немецким. — И о славянах как о будущих своих врагах тоже думают не только гитлеровцы, — подчеркнул Островский. Он сказал: — Вот, не угодно ли послушать, какие «салонные» разговоры о славянах ведут два героя романа «Дочь снегов» писателя Джека Лондона… Островский обратился к Льву Николаевичу Берсеневу: — Левушка, вот здесь, на столе, лежит этот роман. Найди шестьдесят четвертую страницу и прочитай ее нам вслух. Лев Николаевич быстро нашел книгу. На указанной странице происходил разговор между Фриной Вельз и инженером Карлиссом. Берсенев начал читать слова Фрины: «— Наша раса — раса деятелей и борцов, — раса, завоевывающая земной шар и беспредельные пространства… Мы выносливы, мы настойчивы, мы так уже созданы, что умеем приноравливаться к любым условиям. Может ли когда-нибудь индеец, негр или монгол победить тевтона? Конечно, нет… Всем, чем не могут быть другие расы, — всем этим могут быть англо-саксы и тевтоны, — называйте, как хотите… Какая раса может превзойти нас? — Вы забыли про славян, — лукаво сказал Карлисс. — Славяне? — лицо ее омрачилось. — Правда, славяне… Единственные, юноши в этом мире детей и стариков. Но они пока еще целиком в будущем, и решающее слово за ним. Тем временем мы готовимся. Может случиться — мы так далеко уйдем вперед, что им не удастся перерасти нас… Разве мы не сможем уничтожить славян прежде, чем они возмужают?» — Довольно, Левушка, — остановил чтение Николай Алексеевич. — Главное сказано. В рапорте X съезду ВЛКСМ Островский писал: «Счастливые молодые люди, родившиеся в Октябрьские дни, должны знать, каких неимоверных усилий стоила рабочему классу его свобода. Только зная это, молодое поколение социализма будет так же беззаветно защищать социалистическую родину от фашизма — этого вооруженного до зубов бандита». Подобно своему новому герою Андрию Птахе, он хотел схватиться за гудок и его неистовым тревожным воплем напомнить об опасности. Он обращался к истории, думая о будущем. Франкфуртцы и баварцы, которых он видел четырнадцатилетиям мальчиком в Шепетовке, вспоминались ему, когда он слушал по радио истерические выкрики Гитлера. Но он вспоминал также и то, как прусское юнкерство бежало тогда с Украины, испугавшись революции, вспыхнувшей в их собственном, германском доме. Николай Островский знал: еще грознее будет новая война, но и пламя революции, разожженное в результате этой новой войны, будет еще жарче, и никаким юнкерам не удастся погасить это пламя. Европа находилась тогда в преддверии Мюнхена. Островский понимал: Чемберлен и Гитлер, Черчилль и Розенберг легко найдут общий язык. Фашизм — одна из последних судорог капитализма. И новый роман, задуманный писателем, должен был показать, что именно рождение нового, социалистического мира на одной шестой части земного шара вызвало дрожь ужаса в капиталистическом лагере. Действие разыгрывалось на западноукраинской земле, исстрадавшейся под вековым чужеземным владычеством. …Гремит канонада. Красноармейские части и партизанские отряды гонят немецких оккупантов. Но власть не переходит в руки народа. Ее захватывает польская буржуазия и военщина. Вродовом имении крупного помещика графа Могельницкого собирается фашистский штаб. Кто они, эти люди? Помещики — Могельницкий, князь Замойский, Зайончковский. Сахарозаводчик Баранкевич. Епископ Бенедикт и ксендз Иероним. Агент французской разведки лейтенант Варнери. Бывшие офицеры организованного Пилсудским польского легиона австрийской армии. В прихожей графского замка ищут спасения от восставшего народа мелкий фабрикант Шпильман и домовладелец Абрамахер. Руководит контрреволюционными силами старший сын графа Могельницкого, гвардейский полковник французской службы. Помещики не жалеют средств на создание фашистского легиона, вербуют наемников. В их планы входит захват власти не только в Восточной Галиции. На Украине находятся бывшие имения, заводы Сангушко и Потоцкого. «Легионеров» тянет на Украину. Заодно с польской контрреволюцией действуют украинские помещики и кулачье, еврейские банкиры. На другом полюсе организуются силы молодой революции. Опытный и закаленный коммунист Сигизмунд Раевский возглавляет подполье. Коммунисты развертывают пропаганду среди рабочих и крестьян. Посылаются организаторы партизанских отрядов. Вспыхивает восстание. В жестокой борьбе за власть Советов сплачиваются воедино революционные рабочие — русские, украинцы, поляки, евреи, чехи. Здесь, рядом с отцами, плечо к плечу их дети: Раймонд — сын Раевского; Сарра — дочь сапожника, работница швейной фабрики; Олеся — дочь машиниста водокачки; Андрий Птаха — юноша-бунтарь, которого подполье воспитывает и дисциплинирует; молодой пекарь, чех Пшеничек, и другие. «Хочу показать глубокую интернациональность их борьбы, большую дружбу и подлинный героизм, — писал Островский о своих юных героях. Разные по натуре, по характеру, по единые по классу, эти молодые помощники партии, ее сторожевые и разведчики — достойные сыны своих отцов». Все эти люди — участники борьбы. Они живут и действуют. И в романе они обрисованы ясно, выпукло, живо. Вот старый, седой Юзеф — слуга графов Могельницких: «Нельзя было представить себе палаццо без Юзефа. Могельницкие привыкли к нему так же, как к двум средневековым рыцарям в латах, стоявшим у входа в вестибюль. Фигуры рыцарей, как и Юзефы, переходили по наследству от поколения к поколению». Вот Олеся: «Теплый вязаный свитер плотно облегал ее грудь и плечи. Ей шел семнадцатый год. Это была черноокая смуглянка, жизнерадостная и порывистая. Женственная застенчивость и задор переплетались во всех ее движениях. И это противоречие особенно привлекало к ней. Стройная, как горная козочка, она знала о своей обаятельности. Уже проснувшаяся в ней женщина подсказывала ей самые красивые движения и ту неуловимую форму кокетства, к которой, сама того не зная, она прибегала из желания нравиться». Сигизмунд Раевский говорит своей жене Ядвиге, когда та, отягченная заботами о семье, на время отошла от партийной работы: «— Я не хочу осуждать тебя за отрыв от партии. Бывает, слабый не выдерживает тяжести борьбы. Не все в эти годы удержали в руках партийное знамя. Иные отошли — все свои заботы и мысли отдали семье. Для них гибель семьи — собственная гибель. Но разве можно всю жизнь вместить в эту комнату? Подумай, Ядзя! Ты вернешься к нам, моя дорогая, и в этом опять найдешь счастье. Что бы ни случилось с нами, у тебя всегда останется цель жизни, самая прекрасная, самая благородная, какую только знает человечество». Эти слова звучат как символ веры всех борцов, которые поднялись на бой против старого мира. Так думает не только умудренный жизненным опытом Сигизмунд. Так думает и Раймонд, и Андрий, и Верба, и Ковалло, хотя не каждый из них сумел бы это выразить такими ясными и точными словами. Стремясь к одной цели, веруя в одну и ту же непреложную, всепобеждающую правду, каждый из этих людей идет к намеченной цели своими путями, по-своему чувствует, по-своему живет. Повествуя о них, — рассказывая о прошлом, — Островский говорил с читателем о грядущем. Это всегда трудная задача для писателя. Чтобы говорить о фашизме, он взял его первые проявления, — их видело первое поколение воинов революции уже в битвах с интервентами в 1918 году, а два года спустя — в боях против полуфашистской Польши Пилсудского. Писатель вывел десятки людей. Вглядываясь сейчас в черты майора Зонненберга и лейтенанта Шмультке, в облик гвардейского полковника Эдварда Могельницкого и шулера Дзебека, надевшего жандармскую униформу, невольно поражаешься их сходству с «деятелями» гитлеровской Германии и всевозможными крупными и мелкими «Квислингами» порабощенных стран. Это не случайное совпадение: писатель отбирал их черты с глубоким пониманием современной расстановки сил и точным знанием характера врага. Владислав Могельницкий рассказывает на страницах романа: «— На Украине триста тысяч немецких солдат. Это лучшая армия в мире, а большевики — это толпа мужиков, вооруженных винтовками, стадо, которое разбегается при одном виде бронеавтомобиля… Лейтенант убежден, что немцы скоро займут Баку, а затем и Москву». Что изменило время в этих рассуждениях? То, что не трехсоттысячная армия кайзера, а многомиллионная немецко-фашистская армия ринулась на Украину. То, что гитлеровцы «пугали» уже не бронеавтомобилями, а танковыми дивизиями. Но философия и стратегия герра Шмультке оставались в своей первобытной неприкосновенности даже спустя двадцать пять лет. Шмультке не принадлежит к числу главных действующих лиц романа (по крайней мере, первого его, осуществленного тома). Но он, несомненно, является как бы одной из важных скрытых пружин, определяющих многие действия выдвинутых на первый план представителей враждебного лагеря. В рассказах других лиц, в кратких авторских упоминаниях, в небольших эпизодах обер-лейтенант Шмультке появляется почти в каждой главе, и неприглядный облик его дорисовывается новыми и новыми чертами. «— Такой грубый баварец, — рассказывает вначале о нем Людвига Могельницкая. — Если бы ты слышал его вульгарные, неуклюжие комплименты! И всегда дает понять, что не мы здесь хозяева, а они. Папа говорит, что Шмультке оказывает ему большие услуги, но мне он все-таки очень неприятен…» Легко представить себе, что пятнадцать лет спустя после происходящих в романе событий Крупп фон Болен, подписывая чек, чтобы помочь возведению Гитлера в ранг рейхсканцлера, думал с такою же брезгливостью: «Груб. Вульгарен и неприятен… А все-таки способен оказать большие услуги…» Впервые сам Шмультке (о котором читатель уже знает из беглых реплик третьих лиц) появляется в сцене допроса Сигизмунда Раевского и Мечислава Пшигодского, задержанных немецкими патрулями. Он затем появляется в романе еще не раз, и по тому, как он. бьет по лицу арестованных, как преследует неотвязными ухаживаниями Стефанию и Людвигу (он твердо убежден: в этой завоеванной стране все, и в том числе любая хорошенькая женщина, принадлежит ему, «представителю высшей расы»), по тому, как умело, при всяком мало-мальски удобном случае, стремится он «организовать» для себя какую ни на есть «маленькую пользу» (если не ценности, то пусть, по крайней мере, харч), мы узнаем в нем предка тех гитлеровцев, что шли по землям порабощенной Европы в годы второй мировой войны, сея смерть и разрушение. Нет, незначительность роли, отведенной ему в романе, лишь кажущаяся. Необыкновенно экономно и точно показан в его образе тот страшный враг человечества, который уже при жизни Островского сбрасывал бомбы на затерянные в горах Пиренеев испанские деревушки и подготовлял свой «дранг нах Остен» — поход на Восток… В речах полковника Эдварда Могельницкого, который сперва служил русскому царю, затем французской республике и который готов служить кому угодно, только бы сохранить тот порядок, при каком ом будет жить во дворце и приказывать, а «хлопы» останутся в лачугах и будут повиноваться, тоже слышатся знакомые слова. Мы и сегодня еще встречаем эти слова в газетных телеграммах. «— Большевизм может пожрать весь цивилизованный мир, если его не истребить в зародыше», — говорит граф Эдвард. Ведь это сказал Черчилль, когда корабли королевской эскадры с войсками экспедиционного корпуса направлялись к Архангельску. Он сказал это тогда и не уставал повторять то же самое все три последующие десятилетия. А за ним повторяли эти слова все большие и малые «деятели» большой и малой Антанты, наименованной впоследствии Северо-атлантическим блоком… И, приведя эти слова графа Эдварда, писатель — через восприятие собеседника — дает им чрезвычайно точную характеристику. «В голосе Эдварда, — пишет он, — звучала жестокая решимость и то, что лишь острым чутьем уловил сидевший перед ним иезуит, — страх». И, уже зная о том, что за этими словами кроется страх обреченности, мы еще продолжаем слушать те же кликушеские планы, которые воскрешал Черчилль через десять лет после смерти автора книги в своем мрачном турне по Европе и Америке в качестве факельщика третьей мировой войны. «— Создать Польскую республику с национальной армией, которая преградит красным путь на запад. Латвия и Эстония получат «самостоятельность» и вместе с Польшей и Румынией создадут вооруженный буфер между Россией и Западом, под протекторатом Франции. Англия же займется Мурманом и Архангельском. Союзные десанты будут теснить красных с севера, флот — с Балтийского моря. Вторая английская зона — Северный Кавказ, Баку, Средняя Азия…» Когда Островский писал свою книгу, это для нас было уже историей поражений врага и побед молодой Советской республики. Однако враг не вынес урока из своих поражений. Он продолжал строить планы своего завтрашнего дня на том же, что потерпело крах и оказалось безнадежным уже десятилетия тому назад. И потому именно к этим важным для будущего страницам истории обращался писатель, тщательно отбирая факты, анализируя расстановку сил, определяя фигуры и поступки героев. Островский видел лицо врага и хотел, чтобы оно запечатлелось в сознании читателей, прежде чем читателю придется отложить книгу, чтобы взяться за оружие. Между Эдвардом и Людвигой возникает моральный конфликт, и Эдвард, «холодный, совсем чужой», цедит своей жене: «Твоя гуманность неуместна. Их надо истреблять, как бешеных собак! Пожалуйста, без истерики!» А дальше рассказывается, как Людвига «вздрогнула, вспомнив виселицы около управы… Это он, Эдвард, приказал повесить предательски захваченных людей, поверивших его честному слову». И если изысканный аристократ Могельницкий оказывается человеком с моралью животного, то что же говорить о других прихлебателях фашистского котла, портреты которых ярко показал писатель в своей книге? Вот один из них: «Дзебек твердо решил заработать золотые погоны подпоручика и тысячу марок, а в случае неудачи — скрыться подальше. И так уж пора было переменить место. Но сейчас, когда шла игра и лишь раздавались карты, шулер поборол в нем труса. Сначала «ударить по банку». Жди, пока опять настанет такое сумасшедшее время, когда так же легко стать генералом, как и быть повешенным. Только бы не сорваться! Большая игра бывает раз… И он «действовал». С такими врагами встретились на страницах романа Сигизмунд Раевский, Щабель, Пшигодский, Данило Чобот, замечательная молодежь, отдающая борьбе все пламя своей молодости: Раймонд, Андрий Птаха, Олеся, Пшеничек, Сарра, подросток Василек. С подобными же Шмультке и Зонненбергами встретился наш народ в годы Великой Отечественной войны. Гудок Андрия Птахи прозвучал как сигнал, как предупреждение и как призыв. В лесном домике, окруженные врагами, Раймонд, Андрий, Пшеничек, Леон сражались так, будто видели перед собой героев обороны Севастополя и Одессы, предвосхищали бессмертных сталинградцев. Раскройте последнюю страницу «Рожденных бурей». «— Будем отбиваться до последнего… Ложитесь на пол, я с того окна стрелять буду! — крикнул Птаха. — Все равно живыми не сдадимся! Пропадать— так не даром. …Смерть ходила где-то близко вокруг дома, пытаясь найти щель, чтобы войти сюда… — Эй, там, в доме, сдаетесь? — Пошел к чорту, гад! Будем биться до последнего! Да здравствует коммуна!..» Так кончается первая часть романа — эпизодом, словно увиденным Островским на улицах Сталинграда. Островский угадывал будущих героев, потому что видел их уже в жизни и раздувал искру гнева в яркое пламя. Кочегар Андрий Птаха, отважный, веселый парень, завоевывает нашу любовь не одним лишь подвигом на заводе Баранкевича. В этом поступке лишь наиболее ярко выявилась его натура. Но ее можно ощутить и тогда, когда Андрий «не героичен», когда он безмолвно стоит на посту и охраняет своих товарищей от вражеского налета: «Злобствовала пурга… Она бросала в окна лесной мельницы хлопья снега. Лес встревоженно гудел… Холодно становилось у Андрия на сердце. Он прижался спиной к дубу, сжимая в руках карабин, и до боли в глазах вглядывался в темноту ночи. Каждый треск сломанной ветки казался человеческими шагами. Когда он уставал от нервного напряжения, он обходил дуб и глаза его отдыхали на огнях, струившихся из окон старой мельницы… «Пшеничек опять, поди, что-нибудь про меня брешет… Олеся смеется, наверное. Что ж, пусть смеется». Андрий бессознательно улыбнулся. Теплая волна прилила к сердцу, как всегда при мысли об Олесе. Люди зовут это любовью. Что ж, пусть будет любовь! Задумался Андрий, замечтался… А что, если он станет знаменитым бойцом? О нем будут ходить легенды по хуторам и селам, страшным станет его имя для врагов, а он, смелый, молодой, будет носиться впереди своих эскадронов, очищая родную землю от шляхты. И пан Баранкевич, спасаясь от него, будет говорить своей тонкошеей супруге, этой дохлой кошке; — Ведь это тот самый Птаха, пся его мать, тот самый кочегар из котельной нашего же завода. Олеся будет следить за его победами и в душе, наверное, будет гордиться, что вот этот самый парень, о котором все говорят, целовал ее колени и говорил жаркие слова… И уже не будет шутить над ним, и в глазах ее он уже не встретит плохо скрытой насмешки. Взглянет Олеся на него, покрытого славой, — и впервые увидит он в ее взоре восхищение и любовь…» Писатель не нарушил молчания своего героя. Мы познакомились с ним в минуты лирического раздумья, и нам стало понятно, на что способен такой человек. Островский создал сложную, напряженную ситуацию, в которой действуют его герои. И поступки их, как и в первой его книге, естественно определены всем их существом. — Надо воспитать в молодежи сознание, — говорил он, — что даже один боец в самом безвыходном как будто положении, найдя в сердце своем мужество и отвагу, может нанести огромный урон врагам, может оказаться победителем. Эту решимость биться до последней возможности, до последней капли крови, я хочу отстаивать и своею жизнью и своими произведениями. Так возник уже упомянутый центральный эпизод с гудком в «Рожденных бурей». В городе бесчинствовали пилсудчики. Они избивали и арестовывали население и однажды убили рабочего на сахарном заводе. Обуреваемый ненавистью к палачам, Андрий Птаха пробрался в заводскую котельную. Запершись в ней, он дает тревожный гудок. Он приводит в панику, в ярость, в неистовство легионеров. Несколько часов пилсудчики не могут заглушить революционный сигнал. Все их карательные мероприятия безуспешны. Окруженный разъяренными врагами, задыхаясь от пара и угольной пыли, обжигая кипятком руки, ощущая ежесекундно приближение гибели, Птаха не сдается. Он — один человек — будоражит весь город. Сумрачные, измученные тяжелой работой люди чувствовали в сопротивлении одного человека укор своей пассивности. А рев не давал забыть об этом ни на минуту… Как тревожимся мы за жизнь Птахи, как восхищаемся его готовностью умереть и как радуемся, когда он с помощью своего младшего брата Василька все же спасается! От этих страниц нельзя оторваться. Островский помнил эпизод, рассказанный товарищем Сталиным на VIII Всесоюзном съезде комсомола. Три конные дивизии, имевшие не менее пяти тысяч сабель, были разбиты и обращены в беспорядочное бегство одним пехотным батальоном лишь только потому, что конные дивизии, застигнутые врасплох, были охвачены паникой. Хотелось показать всепобеждающую силу бесстрашия. Он думал и о призыве Горького к писателям — показать людей крепкого характера, способных волновать и увлекать миллионы. Он изображал своих героев именно такими. Радость борьбы, боевой оптимизм были их сущностью. Оптимизм Андрия Птахи того же склада, что и оптимизм Павла Корчагина: он питался непоколебимой верой в торжество правого дела. В молодых героях романа мы узнаем много корчагинских черт, — так же, как узнавали мы их впоследствии в подвигах воинов Отечественной войны. И главная из этих черт стойкость. Вот Птаха взбудоражил своим тревожным гудком весь город; уже заклокотал народный гнев и вот-вот прорвется восстанием. А между тем легионеры окружили котельную, в которой нет никого, кроме Андрия. Он — лицом к лицу с близко подступившею смертью. Но сдаваться он и не думает. Даже мысль об этом не появляется у него. «— А-а, вы думаете, что меня уже взяли, сволочи, панские души! Сейчас посмотрим! — кричал он, хотя его никто не слышал из-за сумасшедшего рева. Андрий бешено крутил колесо, отводящее воду в шланги. Пар с пронзительным свистом вырвался из брандспойта. Вслед за ним хлынула горячая вода. Угольная яма наполнилась паром. Андрию нечем стало дышать. Дрожащими руками он схватил брандспойт и, обжигая пальцы, страдая от горячих водяных брызг, направил струю кипятка в котельную. И, уже не думая о том, что его могут убить, хлестнул струей по окнам. Он плясал, как дикарь, от радости, слушая, как взвыли за окнами. Теперь, сидя между котлами, он ворочал брандспойтом, не высовывая головы, и поливал окна кипятком. Сердце его рвалось из груди. Вся котельная наполнилась паром. По полу лилась горячая вода. Андрий спасался от нее на подмуровке котла. Ему было душно. Жгло руки. Но сознание безвыходности заставляло его продолжать сопротивление. Рев несся по городу». Вот самое естественное для Островского, вытекающее из чисто корчагинской логики положение: — В любых труднейших условиях продолжай борьбу! Иное противоестественно. Потом, когда товарищи Андрия Птахи, уже спасшегося из котельной, уйдут в боевую операцию, он будет требовать, чтобы ему развязали обожженные пальцы. Кожа лоскутьями слезла с них. Но он должен держать винтовку, должен стрелять. Он не может поступить иначе. И даже маленький десятилетний Василек проявляет стойкость, когда пробирается в угольную яму, чтобы поспеть на выручку Андрию: Он «стал разгребать уголь, оттаскивая в сторону тяжелые куски. Один из них скатился назад и больно ударил его по босым ногам. Василек упал и долго плакал. Но, наплакавшись, вновь принялся за работу». Писатель не заставляет его делать ничего непосильного, такого, что было бы ему не по возрасту. Но «корчагинская хватка» сказывается в нем в полную силу. Она сказывается в действиях всех молодых героев романа. И потому такими подготовленными оказываются заключительные слова книги: «— Будем биться до последнего! Да здравствует коммуна! — крикнул Андрий». И честную рабочую корчагинскую гордость мы тоже узнаем в словах и поступках Раймонда. Например, когда он, дровосек-поденщик, отвечает на повелительный окрик ясновельможного пана: «— Я вам не лакей!..» Или когда, шатаясь от боли, едва не падая, а все же сохраняя самообладание, Раймонд отказывается от подарков графини Людвиги. «— А за дрова сколько мне полагается? — спрашивает он Юзефа, принесшего ему суконный костюм, сапоги, охотничью куртку и пачку кредиток. — За дрова три марки, как условились. Но ведь тебе же дали двести, чего еще? Раймонд вынул из пачки кредиток три марки, остальные положил на стол и молча вышел». Во всем этом нет и тени позерства. Он, сын коммуниста Сигизмунда Раевского, должен был и мог поступить только так. Весь он жил тем вещим сном, который однажды ему приснился: «…Они с отцом на высоком кургане. Кругом необъятная степь. Ночь. А там, где восток, яркое зарево. И кажется, что степь пламенеет. Ветер доносит грозный рокот надвигающейся бури. Далеко, насколько хватает взор, волна за волной движутся людские множества. Залитые ярким светом, ярче пламени горят знамена. Сверкает сталь. Дрожит земля под конскими копытами. И над всем этим вьется и реет могучая песня. «Это, сынок, наши идут. Идем навстречу», — говорит отец и берет его за руку…» Такова была мечта Раймонда, и ей целиком посвятил он себя. Островский знал, как горячо мечтают люди на западноукраинских землях о воссоединении с великой матерью-родиной. И он точно знал, что эта мечта непременно осуществится. Сон Раймонда — как бы взгляд, устремленный вперед, к тем историческим дням, которые пришли в сентябре 1939 года. Благородство, которым окрылена жизнь рабочих людей в романе «Рожденные бурей», чистота их нравственных чувств — не подаренная от щедрот писателя добродетель. Это правда жизни, и потому-то герои романа приобрели огромную притягательную силу. Хочется быть похожим на этих людей, подражать им. Продолжая линию «Как закалялась сталь», Николай Островский, и здесь увлекает нас могучей силой идеи, красотой подвига. Он показал, что именно беззаветная борьба за родину и есть высшее проявление красоты жизни. Дети труда, герои, рожденные бурей, наполняют второе произведение Островского своей прекрасной юностью. Он восхищается ею. Вспомним роковую сцену в охотничьем домике, когда доверчивость открытых сердец привела к побегу Стефании и к катастрофе. Олеся играет на гитаре. Леон Пшеничек и Сарра пускаются в пляс. И, глядя на них неугасимым добрым взглядом своей памяти, Островский роняет ласковую фразу: «Когда пляшут двое молодых и красивых — хорошо». Эта юность вынуждена вступить в борьбу с хитрым и коварным врагом. В этой борьбе она никогда не отступает. Ее вызов врагу звучит апофеозом стойкости и непоколебимости. — Некоторые товарищи, — говорил Островский, — считают, что я неправ, позволив своим молодым героям однажды потерять бдительность. Но ведь это молодежь, еще не искушенная в борьбе. Будь с ними в охотничьем домике Сигизмунд Раевский, враг не сумел бы бежать из плена, и они не оказались бы преданными. Это было бы невозможно. Но и ошибка, за которую они жестоко поплатились, свидетельствует об их моральном превосходстве над врагом, над его продажной, проституированной моралью. Птаха, простой рабочий паренек, горел жаждой мести, участвуя в налете на имение Могельницких. Он столкнулся там с женщинами и спрятал карабин за спину, чтобы не пугать их: «Мы с бабами не воюем». А что делают в подобных случаях так называемые «цивилизаторы»? Мою молодежь однажды обманули. Этот незабываемый урок преподал им хитрый враг, и они выросли как бойцы на целую голову. Они дорого заплатили, но зато обогатились бдительностью и ненавистью к палачам… Островский успел закончить только первую из трех частей «Рожденных бурей». О широте авторского замысла можно судить по сжатому рассказу, который мы слышали из уст автора: — Во второй книге будет показано собирание сил врага, захват части Украины и соглашение с Петлюрой, который окончательно продается панам. По другую сторону фронта — организация Красной Армии из мелких партизанских отрядов, борьба крестьянских масс против помещиков, стихийные восстания, которые превращаются во всенародное движение против иноземных оккупантов. Красная Армия громит петлюровские банды. Третья книга покажет уже ничем не прикрытое наступление пилсудчиков на молодую Республику Советов. Героическое сопротивление малочисленной советской армии: тринадцать тысяч красноармейцев против шестидесяти тысяч вооруженных до зубов врагов. Пилсудчики занимают Киев. Буржуазия-торжествует. Но под Уманью собирается железный кулак Конной армии. Страшный удар — и враг катится назад. Наше победное наступление и изгнание зарвавшихся интервентов из Украины. Вандализм фашистов: уничтожение прекрасных зданий, бессмысленное, варварское истребление всего, что попадает под руку. Поджог деревень, взрывы железнодорожных станций. Кровавый путь озверевших людей, именующих себя «защитниками культуры». В водовороте этих исторических событий мужали герои «Рожденных бурей». Они закалялись в борьбе и побеждали. Как должна была сложиться их дальнейшая жизнь? Вряд ли есть хоть один читатель, который не задумался над этим, закрывая первый том «Рожденных бурей». На лекциях об Островском и его произведениях докладчики неизменно получают записки с таким вопросом. В Московском и Сочинском музеях Островского хранятся материалы, которые позволяют ответить на этот вопрос. Собраны высказывания Островского, отдельные записи, пометки, предположения по поводу общей линии романа и отдельных его героев. Островский жил жизнью Раймонда и Андрия, Пшеничека и Олеси… — Я полон мыслями об этих близких и родных мне людях, — часто говорил он. В их дальнейшей судьбе для него уже многое определилось. С честью выдержав тяжелое испытание гражданской войны, герои «Рожденных бурей» становятся активными строителями новой жизни, за которую они так самоотверженно боролись. Перед Островским вставало будущее Олеси… Вслед за своим отцом, машинистом Ковалло, уходит Олеся в Красную Армию. Срезав свои чудесные косы и переодевшись в мужской костюм, она превращается в стройного, привлекательного юношу. Олеся — отчаянный кавалерист в дивизии, которой командовал боевой комдив Щабель. Он признается ей в любви, и она согласна стать его женой, но только после того, как Украина будет начисто освобождена от врагов. Девушка говорит Щабелю: «Буду твоей, только когда кончится война». Однако ее возлюбленный не сдержал слово верности. Олеся узнает о его мимолетной, во хмелю, связи с другой женщиной, не прощает ему этой измены и навсегда порывает с ним. Вернувшись после войны в родной город, девушка слышит рассказы о фронтовых подвигах Андрия, завоевавшего себе славу бесстрашного бойца. Вскоре в городе появился и сам Андрий Птаха… Узнав о решении Олеси связать свою жизнь с Щабелем, Андрий Птаха тяжело переживает потерю любимой девушки. Отчаявшись, искал он смерти в боях. Горячая буйная натура, ненависть к панам толкали его на отчаянно смелые, порой безрассудные поступки. Он попадал в очень трудные положения, но всегда выбирался из беды. Когда он вернулся домой, на его груди горел орден Красного Знамени. С непередаваемой радостью узнал Андрий, что Олеся в городе, что она не вышла замуж… Они встретились, как старые друзья. Олесю растрогала преданность и верность Андрия. Она почувствовала, что теперь, когда нет отца, Андрий Птаха — самый близкий и дорогой для нее человек. С радостью и нежностью говорил Островский об их счастливой и дружной жизни, о том, какой хорошенький черноглазый паренек рос у них, как любил и баловал своего сына Андрий. Часто вспоминал Островский о Васильке. В этот образ он вложил много своего, автобиографического. Сам он, будучи подростком, расклеивал по поручению подпольного ревкома листовки. И Василек бесстрашно и дерзко, на глазах у жандармов, разбрасывает воззвания большевиков. Так же как Коля Островский, Василек убежал из дому в Красную Армию. Он стал любимым воспитанником одной кавалерийской части. Андрий Птаха долго не знал, где находится его отчаянный братишка, и очень о нем тревожился. И вот совершенно случайно он встретил его на фронте. Произошло это так. Получив задание срочно переправиться с группой бойцов через реку и прискакав к мосту, Андрий увидел, что по мосту движется кавалерийская часть. Он врезался на коне в самую гущу войска, с трудом прокладывая себе путь, и вдруг почувствовал, что кто-то огрел его нагайкой по спине. Обернувшись, чтобы ответить на удар, он так и замер с поднятой вверх рукой: перед ним был Василек. В папахе, спустившейся до самых бровей, в широкой и длинной не по росту шинели, Василек выглядел до того смешным, что Андрий громко и от всего сердца расхохотался, прежде чем обнял братишку. После этой встречи они надолго расстались. Василек остался в полку, он вырос там. Когда кончилась война и пришло время Васильку призываться в Красную Армию, он пошел в летную школу. Как сложится жизнь Раймонда Раевского? Об этом Островский не говорил. Возможно, ему самому она была еще не достаточно ясна. Одно он знал твердо: Раймонд пойдет по пути отца, закаленного, стойкого бойца великой большевистской партии. Воспитанный в семье профессионала-революционера, Раймонд не знает колебаний. Он находится на самых опасных участках борьбы, работает в подпольных коммунистических организациях Польши, Чехословакии. Он олицетворяет собой преданную и отважную смену, которую вырастила и воспитала старая большевистская гвардия. Трагически определялась вначале жизнь Пшеничека. В первых же боях он потерял ногу. Сознание своей неполноценности угнетало его. В поисках работы он попал на водяную мельницу и остался там. Здесь он встретился с Франциской, которая не захотела мириться с деспотизмом и угрюмой озлобленностью своего мужа, покинула его и ушла к своим родственникам — владельцам мельницы. И вот Леон Пшеничек полюбил Франциску. Она пожалела его своим добрым сердцем. Но счастье их оказалось непрочным: остаться с ним она не могла; страдала ее женская гордость, когда на ее друга и на нее, красивую, здоровую женщину, окружающие смотрели с жалостью. Пшеничеку понятны переживания Франциски. И хотя ему было очень тяжело, он не стал удерживать ее, когда она сказала, что покидает его. Пшеничек решил возвратиться в армию. Находились, правда, люди, которые грубо отталкивали и высмеивали его: «Иди, мол, гусей пасти. А нам не время с тобой, безногим, возиться». Однако он все-таки упросил взять его, пусть хотя бы кашеваром (он ведь кондитер по профессии). Его привезли на становище к партизанам. И он стал варить им такую вкусную кашу и печь такие необыкновенные пироги с яблоками, что завоевал общую любовь. Но в нем билось сердце бойца. Он не мог примириться со своей участью. После жестоких сражений кашевар старательно чистил бойцам пулеметы, помогал собирать и разбирать их и в результате в совершенстве овладел искусством пулеметчика. Он упросил командира взять его в бой. Как и раньше, Пшеничек не знает страха, и его пулемет без промаха бьет по врагу. Героя награждают сначала одним, а потом и вторым орденом Красного Знамени. По окончании войны ему сделали протез и настолько удачно, что увечье стало незаметным. Снова встречается он с Франциской. Теперь это крепкий союз много переживших и много испытавших людей. Франциска — энергичный, инициативный советский работник. Ее муж умело управляет большим предприятием. Вся семья Михельсон становится жертвой погрома. Только благодаря счастливой случайности уцелела Сарра. Над телами дорогих ей людей Сарра поклялась все свои силы отдать борьбе за свободу народа. Во имя великой цели она отказалась от личной жизни. Она целиком и безраздельно отдается революционной деятельности и вырастает в крупного партийного работника. Ее идейность, принципиальность, суровая требовательность к себе создают ей огромный авторитет в массах. Пережитое в юности страшное горе оставило глубокую рану в ее сердце; тень грусти навсегда осталась в ее глазах, и улыбка редко появляется на ее прекрасном лице. Бесславно кончают свою жизнь Казимир и Владислав Могельницкие. «Старую собаку», графа Казимира, и его младшего сына Островский не думал оставлять в живых. Было несколько вариантов. По последнему из них старый граф должен был погибнуть от руки Мечислава Пшигодского, который с чувством большого удовлетворения рассчитался с ним за все издевательства над Франциской. Владислав же попадает в руки партизан. Он отрекается от титула и всех своих богатств, предает друзей, сулит партизанам «великие награды», желая спасти себя, но гибнет как последний трус и подлец. Что произошло с Людвигой? «Романтическое существо!» — со снисходительной усмешкой думает Эдвард Могельницкий о своей жене Действительно, воспитанная на романах Сенкевича и Жеромского, Людвига очень далека от жизни. Она наивно считала своего мужа идейным борцом. Жизнь безжалостно открывает ей глаза. Людвига не переходит в лагерь революционеров, как ожидали некоторые читатели. Ее «беззубый гуманизм» не получает дальнейшего развития. Она уезжает в Англию, чтобы изолировать себя от ужасов войны. В дальнейшей борьбе против народа за свои бывшие владения Эдвард Могельницкий показывает свое истинное лицо, и оно настолько отвратительно, что его жена, которая раньше преданно любила его, не может больше оставаться с ним. Островский оживленно говорил, об ее образе в одной из своих бесед: — У многих она вызывает возражения и опасения: куда я ее поведу в дальнейшем. Но выше я ее поднимать не буду. Сейчас она на вершине своего гуманизма. Он рассказывал про судьбу графа Эдварда. После гражданской войны Эдвард Могельницкий занимает большой дипломатический пост во Франции. — Было бы неправильно угробить Эдварда. Он не погибает в гражданской войне. Пусть молодежь знает, что далеко не все враги народа были тогда истреблены, что остались такие, как Эдварды, — враги опасные, непримиримые, готовые буквально на все, лишь бы вернуть свои поместья и капиталы. Пусть молодежь знает, что с ними еще предстоит жестокая схватка! Таковы были наметки судеб отдельных героев романа «Рожденные бурей».
ВСЕГДА В СТРОЮ
Через пять лет после смерти Островского разразилась военная гроза. Писатель занял свое место в боевой цепи. Секретарь ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлов, обращаясь с речью к молодым фронтовикам, говорил: «Пусть в сердце твоем, молодой воин, фронтовик-комсомолец, неугасимым пламенем горят слова Николая Островского, которые звучат сегодня, как пророческое завещание: «Фашизм безнадежно попытается разгромить нашу страну. И вам, второму поколению комсомола, придется грудь с грудью столкнуться в последнем и решительном бою с этим проклятием человечества. Мы, старые комсомольцы, почти детьми дрались рядом со своими отцами за власть Советов. Нет у нас большей гордости, как сознание, что в этой борьбе мы были достойными сынами своего класса. Мы своими глазами видели всю подлость и жестокость врага. Мы учились ненавидеть. Наши сердца закалялись в этой кровавой борьбе. И когда, вступая в освобожденные города, мы видели виселицы с телами замученных товарищей, то наши сабли разили еще беспощадней. Вы деретесь не хуже нас. И когда надо будет взяться за оружие, то вы покроете себя неувядаемой славой. Борьба продолжается. Каждый из нас на посту и делает свое дело». Товарищи фронтовики, выполним это завещание пламенного комсомольского трибуна, который до последнего дыхания был верен знамени нашего Союза! Будем достойными братьями Павла Корчагина и его боевых друзей. Будем учиться у них ненависти к врагу и любви к родине…» «Самое дорогое у человека — это жизнь…» Сколько раз была повторена эта клятва Павла Корчагина в дни Отечественной войны; сколько уст шептали ее, подобно тому, как Павел произносил ее у могилы замученной врагами Вали. Сколько рук переписывало ее в тетрадки, в свои полевые книжки, скольких людей сделала она бесстрашными и неуязвимыми перед лицом гитлеровских извергов, сколько воинов повела она на подвиг, сколько раненых твердили ее сквозь зубы среди невыносимых мук… В музеях Н. Островского хранится множество писем воинов Советской Армии — свидетельства огромного влияния корчагинского образа и примера на советских людей. Старший лейтенант И. Селин писал в разгар войны: «Что делается с книгой «Как закалялась сталь»! Читают ночью в землянках, блиндажах. Конечно, освещения у нас нет, но приспособили лучины, светят ими и читают вслух. Как только перерыв между боями, уже слышишь — начали читку. Говорят: раз прочтем, второй читать будем и в третий прочтем. Я таких чтецов в первый раз в жизни встречаю…»
 Эта книга была лучшим другом и наставником экипажа катера «СК-065». Обожженная в бою и пробитая осколками фашистских бомб, она обагрена кровью Героя Советского Союза старшины 1-й статьи Григория Куропятникова.
Эта книга была лучшим другом и наставником экипажа катера «СК-065». Обожженная в бою и пробитая осколками фашистских бомб, она обагрена кровью Героя Советского Союза старшины 1-й статьи Григория Куропятникова.
Группа сталинградцев, Героев Советского Союза — гвардии старшина А. Медведев, гвардии младший лейтенант С. Романцев, старший сержант В. Кощеева, гвардии лейтенант А. Чайка и другие, — писала в Московский музей Н. Островского: «Дорогие товарищи! Мы, молодые воины сталинградской армии генерала Чуйкова, обращаемся к вам, хранителям реликвий прекрасной жизни любимого писателя советской молодежи, нашего друга Николая Островского. 12 лет тому назад Николай Островский привел в нашу семью своего героя — Павла Корчагина. Он сразу стал для нас товарищем и другом. Он научил нас главному — любви к жизни, родине и ненависти к врагу. Нам довелось так же, как Павлу Корчагину, провести свои молодые годы на ратном поле, в окопах и в походах, с клинком и винтовкой. Нам было трудно, но мы помнили слова Корчагина: «Самое дорогое у человека — это жизнь… Вся жизнь, все силы должны быть отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества». Эти слова мы не только помнили. Они хранились в нашем сердце, как сокровище, а в солдатской сумке мы несли с собой книгу «Как закалялась сталь» и хранили ее, как оружие, разящее врага. Неистребимая сила жизни Корчагина вдохновляла нас на подвиги, рождала героев…»
 Группа сталинградцев — Героев Советского Союза — читает «Как закалялась сталь».
Группа сталинградцев — Героев Советского Союза — читает «Как закалялась сталь».
Они рассказывали далее в своем письме, в каких условиях приходилось сражаться им, «поколению корчагинцев», как они сами себя называли. Что бы ни случилось, как бы ни было трудно в бою, они высоко держали знамя советской отчизны. Письмо было написано в 1944 году, но пламенная вера Корчагина, непреклонная его воля, жившая в сердцах гвардейцев, подсказывали им, что близок уже «тот день, когда юные герои из нового поколения Павлов Корчагиных, как победители, пройдут по улицам Берлина». Гвардейцы заканчивали свое письмо словами, как бы обращенными к самому Островскому, вечно живому другу: «И когда мы вернемся домой после победы, мы принесем вам не один томик «Как закалялась сталь» с простреленными и обожженными страницами, чтобы люди могли видеть, как вместе с нами на всех фронтах сражался за родину ее бессмертный сын, наш друг и брат Корчагин — Островский». Вот письмо партизанки Лены — живой и горячий человеческий документ, в котором явственно обрисовывается целая человеческая судьба: «Моя мечта была стать капитаном дальнего плавания, я решила по окончании десятилетки итти в институт инженеров водного транспорта на судоводительское отделение. Мои любимые писатели всегда занимали второе место после книг о судовождении, и только одна книга — совсем не морская, но замечательная книга — была в числе первых. Эта книга называлась «Как закалялась сталь». Война с Германией началась как раз в день получения мною аттестата об окончании десятилетки. Война разрушила все мои планы: я ушла в истребительный батальон и вскоре очутилась в чудесных сосновых лесах Ленинградской области в одном партизанском отряде. Перед отъездом, в одном из магазинов на Невском, случайно достала новый экземпляр книги Островского в красной обложке… Эту книгу я взяла с собой. Мы собирались в свободное время в землянке или около костров и в десятый раз перечитывали страницы уже довольно потертой книги: ведь мы всюду носили ее с собой, и бывало так что она по два дня была в снегу и потом мы подсушивали ее около костра. Мы не могли не носить ее с собой— она была нашим путеводителем в борьбе и верным товарищем. И если в трудные минуты кто-нибудь из ребят падал духом, стоило только сказать: «Вспомни Павку Корчагина», как нытику становилось стыдно и он первым вызывался итти в самые опасные операции. И где бы мы ми были, нам казалось, что Павел Корчагин с нами, и нам было легче переносить трудности». «Все ли я сделал?» — спрашивал себя в критическую минуту Корчагин. Силы его иссякали — он побеждал свое бессилие. Мужество человека знает пределы — Павел делал его беспредельным. «Все ли я сделал?» — спрашивали себя тысячи Корчагиных в ожесточенные часы боя, когда казалось, что жизнь невыносима и силы на пределе. И они делали безграничным то, что, казалось, имеет свои границы. Так продолжалась корчагинская жизнь, так жил своей новой, второй жизнью в Отечественной войне, во второй схватке с немецкими захватчиками Павел Корчагин. «Когда мы идем в атаку, нам кажется, будто на правом фланге наших боевых порядков с винтовкой наперевес идет Павел Корчагин; он бьет поганых немцев так, как в гражданскую, увлекая все подразделение своим примером», — писала группа комсомольцев. Таков был голос фронтовиков, солдат и героев Великой Отечественной войны. Тот, кто соприкоснулся с Корчагиным в книге Островского, как бы унес в себе его частицу, сдружился с ним, нашел в нем возвышающий пример и прочную моральную опору. В 1948 году (в 10-й книге журнала «Новый мир») были опубликованы дневники Героя Советского Союза гвардии старшего лейтенанта Евгении Рудневой, штурмана гвардейского ночных бомбардировщиков авиационного полка. Евгения Руднева родилась в 1920 году и погибла в 1944. Когда ей было семнадцать лет, школьницей 10-го класса, она с восторгом перечитала роман Островского и записала в своем дневнике; «Изучаем «Как закалялась сталь». Я перечитала роман, нашла в нем много нового и, вероятно, не раз еще буду перечитывать. Корчагин — Островский… достоин быть образцом для многих поколений… Чудная книга!» А в 1944 году в ее фронтовом дневнике мы вновь встречаем запись об этой книге: «5 марта 1944. В который раз перечитывала «Как закалялась сталь»… Раньше и не думала о смысле этих слов: «И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-нибудь трагическая случайность могут оборвать жизнь». Надо спешить жить. Жить — в самом высоком, в самом святом смысле этого слова…» Мужество Корчагина испытывалось не только в бою. Трагическая судьба Павки после тяжелого ранения— его борьба со страшным недугом, со слепотой и инвалидностью, его торжество над физическим бессилием тела — казалась в годы выхода книги исключительной, выходящей запределы жизненных норм. Война сделала судьбу Корчагина уделом многих воинов, проливших свою кровь и получивших увечья. И им пришлось разделить с храбрым другом своим участь тяжелой борьбы за место в жизни, за место в строю. Комсомолец Ваня Пятовский увлекался Корчагиным. В школьном спектакле 10-го класса Кировской школы он играл роль Павки. Товарищи запомнили, с каким жаром он произнес на подмостках эти слова: «Живи и тогда, когда жизнь становится невыносимой». Никто не думал в ту пору, какой особенный смысл для Пятовского приобретет эта фраза. Через год В. Пятовский, командир отделения автоматчиков, был тяжело ранен под Калинином. В письма к директору Кировского дома пионеров Пятовский писал: «Мне тяжело и больно вспоминать первые дни и месяцы своего ранения. Дела мои сложились очень трагично… Сейчас я в положении Павки Корчагина Три раза подвергался операциям, потерял память, приобрел костыли… Но не грусти обо мне: костыли — не преграда в жизни. В трудные минуты мне помог он, Павка Корчагин, его великая жажда жить и быть полезным своему народу. Мы часто собираемся в палате у моей койки. Мы — это Леша Стриковский, молодой кораблестроитель, добровольно ушедший на фронт и потерявший ногу, лейтенант Яша, принимавший участие в боях за Ленинград и в результате ранения пока лишившийся дара речи. Он слушает нас и объясняется знаками. И мы говорим о Корчагине, о нем — победителе смерти. И никто из нас не падает духом. Мы многое еще сделаем для родины, так и передай друзьям…» Пятовский вернулся в строй. Мужество Корчагина, его страсть стали щитом и оружием для тех, кто испытал его трагическую участь. Духовная сила Корчагина коснулась и одухотворила не только тех, кто разделил с ним его судьбу. Она оказала влияние на окружающих, заставила их по-новому отнестись к самому представлению об инвалидности. Телеграфистка Катя Михайлова из села Завод-Сузун в Сибири писала своей подруге: «Вернулся Николай с фронта, раненный в глаз. Он потерял зрение». Николай говорил Кате: «Теперь я никому не нужен. Вот если бы я был зрячий, то на меня обращали бы внимание, а теперь ни одна девушка не хочет итти за меня». Катя ухаживала за Николаем и полюбила его. Сузунские бабы стали говорить: «Наша телеграфистка выходит замуж за слепого». Спрашивали Катю: «Что же тебя заставляет выйти за слепого?» Она отвечала им: «Он слепой, да умный, а вы зрячие, да дуры…» Николаю она твердит: «Тебе трудно, но мы все любим тебя, потому что ты принес свою жертву за родину. Пусть же тебя воодушевляет образ Павки Корчагина…» Другая девушка, Аня Месяцева со станции Калачинской Омской области, через газету «Комсомольская правда» разыскивала инвалида Отечественной войны Леню Надточий. «Тут вышла такая история, — писала Месяцева. — Леня потерял на войне ногу и глаз. И вот он не писал нам месяца три-четыре, а потом вдруг прислал моей подруге Тане записочку, в которой сообщает о своем ранении и извиняется перед нею за то, что ей пришлось на протяжении семи лет ждать его. Он думает, что Тане было бы неприятно принять его с таким увечьем. Своего адреса он не указал. Таня в горе, и мы все, их друзья, тоже горюем: как нам разыскать Леню и сказать ему, чтобы он немедленно приезжал к нам. Таня ждет его. И вот мы решили написать ему через газету…» Далее Месяцева обращалась к майору Надточий: «Ты хочешь свое горе пережить в одиночестве. Но нет, Леня, ты обижаешь нас, думая обо всех нас так плохо. Конечно, первое время тебе будет тяжело. Но помни, Леня, умные слова: «Сумей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной для других». Помнишь Николая Островского, — он полжизни провел в постели, совершенно слепой, без движения, и все-таки он умел трудиться, веселиться, любить друзей и всем сердцем ненавидеть врагов. А ты, Леня, находишься в гораздо лучшем положении, чем он. Стало быть, тебе будет легче». Островский и Корчагин выступают здесь не в роли прекраснодушных «утешителей». К ним, к их примеру неизменно прибегали как к нравственному авторитету, и Корчагин невольно становился судьей в самых интимных отношениях между людьми. Он судит — и ему верят; в споре, в столкновении чувств и переживаний обращаются к нему. Моральное влияние Корчагина позволяло раскрыться тонкости чувств, нежности души, простоте человеческих переживаний, побуждений, порывов. Это возвышающее, облагораживающее влияние отчетливо прослеживалось в сходных обстоятельствах — в бою с врагом, в борьбе с недугом, в битве за жизнь — и притом за жизнь, до последней капли крови посвященную родине, отданную на пользу народу. Для определения состава морской воды нет необходимости вычерпать море, — достаточно одной капли. И по гребню волны мы узнаем силу ветра. Приведенные документы рассказывают о том, как жизнь дописывает роман Островского. Перед нами открылось поколение Корчагиных. Да, поколение людей, в котором каждый несет какие-то черты Корчагина, проявляет хотя бы частицу свойств и качеств, присущих герою произведения Островского. Иначе и не могло быть. Ибо героический характер Корчагина — живое олицетворение тех черт, которые воспитывает в советском народе большевистская партия, растит советское государство, укрепляет социалистическое общество. Это черты нового человека, пришедшего в мир, черты людей сталинской эпохи. «Человеческое сознание, — писал Карл Маркс, — есть общественный продукт». Литературный герой, как и всякий образ искусства, отражает реальную жизнь. Грандиозный процесс формирования нового человеческого характера, процесс воспитания новых качеств в народе совершается в действительности в результате советской системы, в результате неутомимой работы большевистской партии. Мировоззрение Ленина — Сталина, б духе которого растет и развивается сознание советского человека, является решающим условием для формирование всех тех качеств, которые присущи герою нашего времени. Только потому и могли книги Островского оказать такое огромное воздействие на сознание современников, что Павел Корчагин, Андрий Птаха и другие воплотили в себе такие черты и такой характер, которые воспитывает в народе партия Ленина — Сталина. Большевистская идейность является их глубочайшей сущностью, их душой. И она-то помогает формировать другие души. Корчагин потому и мог стать примером для подражания, мог повести за собой других людей, что сам был представителем того коммунистического авангарда, который ведет за собою массы. Красота искусства неотделима от красоты людей, от красоты нравственного мира, в котором и которым живет искусство. Произведения Островского защищают и утверждают именно эти эстетические критерии. «Нельзя считать случайностью, — говорил В. М. Молотов, — что ныне лучшие произведения литературы принадлежат перу писателей, которые чувствуют свою неразрывную идейную связь с коммунизмом»[120]. Авторы новых произведений о нашей жизни, воссоздавая правду жизни, упоминают о Корчагине, ссылаясь на него, как на бытующую реальность. Так встречаемся мы с Корчагиным в «Молодой гвардии» А. Фадеева, в «Повести о настоящем человеке» Б. Полевого, в «Кружилихе» В. Пановой, в «Знаменосцах» А. Гончара, в повести «Трое в серых шинелях» молодого писателя В. Добровольского… Кошевой и Мересьев, Таня и Сиверцев, Черкашин, Чемезов и другие новые герои литературы испытали на себе влияние Корчагина. В тетрадке, куда Жора Арутюнянц заносил названия прочитанных книг, на первом месте стояло: «Н. Островский. «Как закалялась сталь». Вот здорово». Среди дорогих сердцу Ули Громовой мыслей мы также находим ссылку на Корчагина: «Самое дорогое у человека — жизнь…» Краснодонцы не только переписывали страницы романа о Корчагине в свои школьные тетради, — делом своей короткой юной жизни они словно бы продолжали любимую книгу. Облик молодого человека Советской страны, образ его мыслей, направление его стремлений, характер его поступков и действий — все основное, коренное, что определяет человека, осталось таким же для Олега Кошевого, как и для Павла Корчагина. Мать Олега Кошевого писала матери Николая Островского: «Впервые книгу «Как закалялась сталь» Олег прочел на украинском языке, будучи учеником 6-го класса. Надо сказать, что Олег читал вообще очень много книг, но ни к одной из них он не имел такого пристрастия, как к книге Островского. Помнится мне, Олег принес домой и сразу начал читать. Все в доме уже давно спали, и я вдруг услышала громкий разговор, доносившийся из комнаты Олега. Я была удивлена и немало испугалась. Кто бы мог в такое позднее время (а было около четырех часов ночи) говорить у нас в доме, да еще в Олешковой спальне? Когда я зашла к нему в комнату, я увидела его одного лежащим в кровати и произносившим беспрерывно: «Вот это Павка, вот это молодец!» На мой вопрос: «О чем ты говоришь и почему не спишь?» — он ответил: «Мамунька, ты не сердись за то, что до сих пор не сплю. Я читаю такую книгу, что не могу оторваться. Но я сейчас буду спать. А когда я уйду в школу, ты, — пожалуйста, постарайся прочитать ее вот до этого места. А тогда я дальше буду продолжать читать вслух вместе с тобой. Только дай слово, что ни одной странички больше без меня». И он указал мне главу седьмую. Я взяла у него книгу и пообещала исполнить его просьбу. Но я так была увлечена чтением, что, пока пришел Олежек из школы, уже далеко обогнала его. Остальную же часть книги мы читали вместе. Окончив книгу, Олег поделился со мной своими впечатлениями и спросил меня: «Мамка, а можно ли научиться быть таким, как Павка: выносливым, терпеливым и закаленным, именно как сталь?» И, не дожидаясь ответа, продолжал: «Я буду во всем подражать Павке. Но то, о чем говорил он, мне, наверное, не придется говорить, ибо Корчагин в мои годы пережил тяжелые испытания, участвуя в революционной борьбе за молодую советскую власть. А мы, молодые пионеры, такой тяжелой жизни не знаем. Мы растем счастливыми, нам везде и всюду открыты двери, в любые учебные заведения, и мы можем свободно выбирать себе любую профессию. Я, мамка, обещаю тебе, что буду вырабатывать и в себе все те качества характера, какие были у Корчагина. Я буду постоянно учиться на «отлично», буду примерным среди всех юношей, я буду помогать отстающим. А если на нашу страну нападет враг и захочет отнять у нас, советских людей, все то, чем мы пользуемся и что дал нам Сталин, то я, мамка, тоже буду драться за это, как Корчагин, сколько бы лет мне ни было». …Вторично Олег прочел две книги Островского на русском языке весной 1942 года, будучи учеником 9-го класса и комсомольцем. Безусловно, что на этот раз Олег, имеющий свои реальные взгляды на жизнь, прочувствовал эти книги гораздо глубже. Они послужили ему хорошей школой и путеводной звездой в дальнейшей его жизни и борьбе. Путь моего сына во многом похож на путь Корчагина даже в его интимной жизни. Олег подражал Корчагину во всем. У Олега была любимая девушка Лина. В трудные дни немецкой оккупации он порвал с ней дружеские отношения, не найдя в ней хорошего друга в борьбе с немецкими захватчиками. Она, как и Тоня Туманова, была проникнута духом дешевого индивидуализма и мещанской психологии. Я видела, что ему трудно было переносить этот разрыв, и советовала ему помириться с ней. Но он и тогда поставил в пример Павку, заявив, что любовь не должна служить барьером на пути революционной борьбы, а наоборот, настоящая любовь должна являться движущей силой, вдохновляющей на подвиг. А коль такого понятия у Лины нет — с этого дня я ее выбрасываю из своей памяти». Надо сказать, что Олег по трудно разрешимым жизненным вопросам чаще всего обращался за советом к двум бессмертным книгам Островского. Стоило кому-нибудь приуныть или захандрить, как Олег брал с этажерки книгу и приводил примеры из жизни Корчагина; в особенности он ссылался на вторую часть романа, где ярко выражен волевой характер борца-революционера. От себя же Олег добавлял: «Слышали и прочувствовали ли то, что я сейчас прочел? Так вот, чтобы я не видел больше уныния и кислых выражений на ваших лицах. Понятно?» И тут же в шуточном тоне он добавлял: «Если не понятно, советую вам, «синьор» или «мадемуазель», обратиться за советами к бессмертному Островскому, по адресу: комната Олега Кошевого, этажерка, том № 1, на верхней полке». Но вот настали черные дни в жизни Олега, когда он впервые приуныл, — это были дни немецкой оккупации. И тогда Олег вспомнил о Павке Корчагине, о том, что не все еще потеряно, что надо искать выход. Озаренный идеей борьбы, он стал на твердый путь — на путь Корчагина. Олег сколотил вокруг себя группу друзей, читал им отрывки из «Как закалялась сталь» и «Рожденных бурей». Он прививал своим друзьям любовь к родине, жгучую ненависть к врагу. Он укреплял их веру в свои силы, веру в окончательный разгром немецкого фашизма. Олег любил повторять своим товарищам по оружию слова Корчагина: «Самое дорогое у человека — жизнь…» И, как бы продолжая замечательные слова Корчагина, он добавлял: «Трус умирает два раза без славы, а смелый — один раз, но как герой». Олег и его друзья умерли героями, отдав свою жизнь за освобождение человечества Я, мать Олега, хочу выразить вам свою большую благодарность, что вы воспитали такого супа, бессмертного большевика и талантливейшего пролетарского писателя, который сыграл огромную роль в воспитании моего сына, в революционной борьбе против мирового зла человечества — фашизма. Миллионы молодых людей, подражая Корчагину, показывали и показывают сейчас образцы беспримерной любви и служения родине и великому Сталину»[121]. Так продолжалась линия Корчагина. Летчик А. Маресьев — Герой Советского Союза и герой «Повести о настоящем человеке» — пережил трагедию Павла Корчагина; он потерял в бою обе ноги и выбыл из строя. «Стоит ли бороться за выздоровление? — думалось ему. — Что сулит оно? Ведь я не буду больше полезен обществу в ту меру сил, в которую я привык жить и работать. Быть может, я стану обузой для общества…» Маресьев родился и вырос в советское время: был октябренком, пионером, комсомольцем… Все, чему учила его советская жизнь, противоречило такому образу мыслей. Перед глазами стоял пример Островского — Корчагина. Он говорил ему: «Не все еще потеряно. Можно еще бороться. До сих пор не было случая, чтобы безногие управляли самолетом. Что же с того? Мало ли чего не было до сих пор! Ты не имеешь права отказываться от своей цели, пока не исчерпал все возможности». В статье «Школа настоящих людей», напечатанной в «Комсомольской правде», А. Маресьев писал: «Настоящий советский человек — это тот, кто всегда подчиняет свои личные интересы интересам общего дела, честно и до конца выполняет свой долг перед обществом, который ставит перед собой трудные цели и стремится к ним, несмотря ни на какие лишения…» Таких «настоящих» людей у нас миллионы. Их становится все больше и больше. Тяжело жилось маленькой Тане (роман «Кружилиха»), эвакуированной вместе с матерью из голодного, оледенелого блокадного Ленинграда, но вдали от родного города, как с верным другом, советовалась она с Павлом Корчагиным: «Таня дочитала книгу, закрыла ее, закрыла глаза и положила щеку на переплат. «Как закалялась сталь» было написано на переплете. На щеках Тани, под ресницами блестели слезы…» Герой повести «Трое в серых шинелях» В. Добровольского Виктор Черкашин, для которого «жить — значит, приносить пользу», на просьбу тяжело раненного Чемезова принести что-нибудь почитать, не задумываясь, отнес ему «Как закалялась сталь». Душа Чемезова была «убита войной». Виктора передернуло от ужаса, когда он, в очередной раз, встретился с Чемезовым в госпитале. Человек еще жил, а мозг перестал работать. «Я уже мертвец», — говорил Чемезов. «Это кажется, — пытался успокоить его Черкашин, — мнительность такая бывает. Главное — воля». «Чемезов ничего не ответил. Он уже не был так резок и угловат, как в первые дни их свиданий. Книга «Как закалялась сталь» лежала на тумбочке. — Островский был писателем, — сказал Чемезов грустно. — Островский стал писателем, — поправил Виктор. — Он переменил оружие, взял в руки перо, но остался в строю. — Мое оружие — мускулы, — перебил Чемезов, тяжело дыша. — Оно уничтожено. Я не философ и не писатель. Не знаю, что такое подвиг, но что-то подобное я делал на войне. А теперь я — мешок с костями, насмешка. Слова были тихие и грустные, и их было очень больно слушать. Виктор сказал, не отводя глаз от потемневшего лица Чемезова: — Мне кажется, что настоящий подвиг — это только такой, который имеет продолжение. Тогда это подвиг. Чемезов приподнялся на локте, спросил сердито: — Какой же подвиг я могу еще сделать? — Жить, — ответил Виктор, глядя в его испуганные мутные глаза. Они помолчали. Ранние зимние сумерки за окном часто озарялись синими вспышками — проходили трамваи. Где-то в коридоре или, может быть, в соседней палате заиграло радио. Знакомый марш, который запомнился по цирку. Чемезов взял с тумбочки книгу, перелистал, сказал глухо: — Жалко, что я не Корчагин. Но ведь Майя говорила: я не могу быть Олегом Кошевым. Это вызывало протест. Виктор сам всегда ясно чувствовал в себе потребность в жизненном идеале. В детстве он хотел быть похожим на Чапаева, в юности — на Чкалова, в войне — на Корчагина. Он проверял себя по другим людям, которые, по его мнению, были лучше его. Он был согласен с Гольдбергом, что в жизни никогда не поздно учиться. Его раздражало нежелание людей воспитывать себя. «Я не могу быть Кошевым». А ты старайся, бейся за это, карабкайся на эту вершину, обдирая в кровь руки и ноги. И знай, что это и есть жизнь». И Корчагин в конце концов «воскресил» душу Чемезова. Гвардии лейтенант Саша Сиверцев из «Знаменосцев» был тяжело ранен в глаза. «Ему, бедняге, ничего уже не суждено видеть», — сказал о нем Шовкун. А ведь Сиверцев больше всего боялся потерять зрение, — он мечтал стать художником. «…В одно мгновение отошло в сторону все, о чем мечталось. Нет художественного института. Пускай! Однако жить буду, — мысленно произнес он себе с ожесточенным мужеством. — Скажи: ведь жил как-то Павка Корчагин, наш старший брат?..» Павел Корчагин стал старшим братом сегодняшней советской молодежи. Островский сказал о нем правдивое, страстное, умное слово — и сказанное писателем было услышано народом, советской молодежью. Поэт нового ее поколения Константин Симонов писал об Островском:
Мне кажется, он поднимается снова…
Мне кажется, жесткий, сомкнувшийся рот
Разжался, чтоб крикнуть последнее слово,
Последнее, гневное слово — «вперед!».
Пусть каждый, как найденную подкову,
Себе это слово на счастье берет.
Суровое слово, веселое слово,
Единственно верное слово — «вперед!».
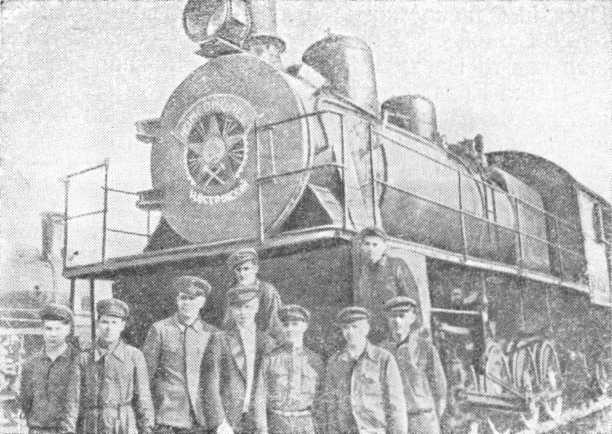 Комсомольско-молодежная бригада имени Павла Корчагина, обслуживающая паровоз «Н. Островский». Депо Шепетовка (1950).
Комсомольско-молодежная бригада имени Павла Корчагина, обслуживающая паровоз «Н. Островский». Депо Шепетовка (1950).
Олег Кошевой же знал старую жизнь только по книгам и рассказам старших. Он принадлежал к тому поколению, о котором Ленин говорил в 1919 году: «Внуки наши, как диковинку, будут рассматривать документы и памятники эпохи капиталистического строя. С трудом смогут они представить себе, каким образом могла находиться в частных руках торговля предметами первой необходимости, как могли принадлежать фабрики и заводы отдельным лицам, как мог один человек эксплуатировать другого, как могли существовать люди, не занимавшиеся трудом»[122].
 Боевой экипаж танка «Николай Островский», участвовавшего в боях на Орловско-Курской дуге (1943).
Боевой экипаж танка «Николай Островский», участвовавшего в боях на Орловско-Курской дуге (1943).
Корчагины боролись за то, чтобы «сказку сделать былью», а Кошевые уже жили в этой завоеванной социалистической были и пользовались всеми благами Сталинской Конституции. Они выросли вместе с советским строем, и в их образе нашли свое наиболее красноречивое выражение достижения этого строя, его культура, его созидательный пафос. Естественно, что Олег Кошевой в смысле знаний, культуры стоит уже на новой, более высокой ступени, чем Корчагин; он опирается на весь опыт миллионов Корчагиных, опыт большевистской партии в строительстве и защите социализма. Во имя того, чтобы выросли Кошевые, бился и отдал свою жизнь Николай Островский. Это была жизнь пламенного большевика, беззаветно, до конца отданная великому делу коммунизма; жизнь верного сына партии Ленина-Сталина, сражавшегося до последнего своего дыхания за ее бессмертные идеи; прекрасная жизнь, полная огня и отваги. Николай Островский сгорел дотла и только потому умер. Но такие, как он, не умирают! Широким и твердым шагом идет Островский — Корчагин вместе с нами к высотам коммунизма. В тех самых Киевских железнодорожных мастерских, где некогда работал Островский, трудятся сейчас бригады его имени, и лучшие производственники считают за честь называть себя «корчагинцами». На доску почета московского инструментального завода «Фрезер» занесены стахановцы, новаторы производства из бригад имени Павла Корчагина. Они помнят слова Островского: «…Недостоин звания героя тот, кто хорошо сражался на фронтах, а сейчас неспособен быть передовым бойцом. Труд, ставший делом чести, делом славы, делом доблести и геройства, рождает новых героев, не менее мужественных…» В одной из газетных телеграмм мы прочитали о том, как воодушевляет пример Островского молодых бойцов сталинской послевоенной пятилетки. В Днепропетровске, на участке слесарной мастерской вагоноремонтного завода имени Кирова, где работает молодежная бригада ремонтников комсомольца Юрия Авраменко, висит большой портрет писателя Николая Островского. Эта бригада, рассказывается далее в телеграмме, ежемесячно перевыполняет план. Вместо 30 вагонов они ремонтируют 36–40 вагонов в месяц. И словно бы рапортуя тому, чье имя носит их бригада, комсомольцы послали в музей Н. Островского письмо с подробным рассказом о своих методах работы и о том, как уже в ноябре 1949 года комсомольская бригада имени Н. А. Островского завершила выполнение пятилетнего плана и отремонтировала вдобавок 35 вагонов сверх плана. Молодые рабочие Электрометизного завода (Москва) подали заявление в комсомольский комитет. Они писали: «Мы восхищаемся трудовыми подвигами Павла Корчагина на строительстве узкоколейной железной дороги. Наша бригада решила работать по-корчагински, поэтому мы называем себя «корчагинцами» и просим комсомольскую организацию завода закрепить за нами это высокое для нас имя». Бригады имени Островского и Корчагина работают на «Красном выборжце», «Электросиле» (Ленинград), на заводе измерительных приборов (Краснодар), на нефтяных вышках (Грозный)… Старый рижский токарь с электротехнического завода «ВЭФ» подходит к молодому бригадиру и говорит: «— Какое имя носит твоя бригада? — Олега Кошевого! — Я собрал девушек и тоже организую бригаду. Они хотят назвать ее именем Павла Корчагина…» Эстонский поэт Юхан Шмуул написал поэму «Парни из Ярвесуу». Это поэма о молодежной бригаде, работающей на строительстве колхозной электростанции. Бригада состоит из двенадцати безусых юнцов, и электростанция, которую они строят, становится тем самым путем, что ведет их в большую, настоящую жизнь. Кто же напутствует их? Кто учит их преодолевать преграды и итти только вперед? Поэт рассказывает:
Сходит к нам с книжной страницы
сам
Корчагин.
И просит слова.
…Боярка. Осень. Разбитый разъезд
уныньем ночным их встретил.
Из самых невероятных мест
пронзительный дует ветер…
…слушают жадно, с открытым ртом,
уставившись взглядом вдаль,
о том, как учила борьба,
о том,
как закалялась сталь.
Ну, книга!
Попробуй такое, мудрец,
чернилами напиши.
Так может лишь кровью писать боец —
знаток человечьей души!
Великая книга!
Любая из строк
вопросом стоит отныне:
— Смогу ли
то, что Корчагин смог?
Смогу ли,
что Павел вынес?
 Пароход «Н. Островский» на Азовском море (1950).
Пароход «Н. Островский» на Азовском море (1950).
Девушка-колхозница отказалась было от трудного задания; она считала себя неподготовленной и боялась его. Но вот она открыла книгу и, прочитав напечатанные в ней строки, почувствовала, что краснеет до корней волос. «Трус в нашей стране — это презренное существо, — читала она. — Мы не понимаем, мы не можем себе представить, откуда могут рождаться трусы, когда жизнь прекрасна, когда каждый шаг борьбы зовет нас к победе… Мужество рождается в борьбе, мужество воспитывается изо дня в день в упорном сопротивлении трудностям. И девиз нашей молодежи — это мужество, это упорство, это настойчивость, это преодоление всех препятствий». Ее охватило волнение. Устами Николая Островского говорила с ней ее совесть. «Несколько раз я перечитала это место»[123], — пишет она. И девушка взялась за дело: она стала звеньевой, мастером высокого урожая. Ей присвоили звание Героя Социалистического Труда. Можно привести множество подобных фактов — ярчайших свидетельств сегодняшней живой и активной силы Островского. Машинисты водят паровозы «Николай Островский», летчики — самолеты «Николай Островский», танкисты — танки «Николай Островский», моряки-пароходы «Николай Островский», комбайнеры — комбайны «Николай Островский»… Молодежь свободной демократической Болгарии строит новую жизнь, следуя примеру советской молодежи. Среди отрядов строителей Димитровграда есть отряд имени Павла Корчагина. Болгарский писатель рассказывает о строительстве железобетонного моста через горный перевал на Хаинбоазе и называет молодых героев стройки «юными Корчагиными». Не умереть страшно было Островскому — страшно было не жить. Но он жил и жив! Он жив сегодня и будет жить в поколениях. Бессмертно счастье героя, который стал единым целым со своим великим, героическим народом, ведущим человечество вперед и выше — к коммунизму.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. А. ОСТРОВСКОГО
1904, 29 сентября (по новому стилю) — В селе Вилия Острожского уезда бывшей Волынской губернии (ныне Ровенская область УССР) в семье рабочего винокуренного завода Алексея Ивановича Островского родился сын Николай. 1910–1913 —Годы учения в церковно-приходской школе села Вилия. 1914 — Николай проводит лето с отцом в селе Турия После начала войны — эвакуация из пограничного села в Шепетовку. 1915 — Николай Островский поступает в Шепетовское двухклассное училище, но весной, по настоянию законоучителя, его исключают. Сентябрь — Николай поступает кубовщиком в вокзальный буфет при станции Шепетовка. 1917, февраль — Хозяин буфета отказывает Островскому в работе. Он нанимается в материальный склад пилить дрова для паровозных топок. Август — Снова двухклассное училищ». Знакомство с рабочим-большевиком И. С. Линником, впоследствии председателем Шепетовского революционного комитета. 1918 — Островский работает подручным кочегара на электростанции. Одновременно учится во 2-м классе высшего начального училища. Шепетовка захвачена петлюровцами; ревком уходит в подполье, и Николай становится связистом ревкома. Он расклеивает листовки. 1919 — Рискуя жизнью, Островский помогает бежать арестованному члену ревкома Федору Передрейчуку. 20 июля — Николай Островский вступил в члены коммунистического союза молодежи Украины. 9 августа — Вместе с частями Красной Армии, оставившими Шепетовку, Н. Островский уходит на фронт. 1920 — Участие в боях с белополяками (в составе бригады Г. И. Котовского). Июнь — Вступление в ряды Первой Конной армии. Август — Рейд на Львов. Островский тяжело ранен в живот и в голову. Октябрь — Демобилизован из армии по состоянию здоровья. 1921 — Работа в органах ВУЧК в Киеве. Затем губком комсомола направляет Островского в Главные мастерские Юго-западной железной дороги. Он работает помощником электромонтера и избирается секретарем комсомольской организации. Одновременно поступает в электротехническую школу. Осенью — участие в строительстве железнодорожной ветки к станции Боярка. Заболевание брюшным тифом и ревматизмом. 1922 — Возвращение в Киев на прежнюю работу в железнодорожные мастерские. Вновь учеба в электротехнической школе. Август — сентябрь — Курс грязелечения в Бердянске. Ноябрь — Участвует в спасении лесосплава на Днепре. Заболевает и уезжает в Шепетовку. Врачебная комиссия признает его инвалидом. 1923, январь — Шепетовский ОК КСМУ направляет Островского секретарем берездовской организации. Одновременно он комиссар 2-го батальона всеобщего военного обучения. 27 октября — Секретарь райкома комсомола Островский принят кандидатом в члены КП(б)У, как «самый выдержанный и стойкий член КСМ». 1924 — Переведен в Изяславль секретарем райкома комсомола. 21 мая — Избран членом Шепетовского окружного комитета КСМУ. 25—28 июня — Делегат 8-го Волынского губернского съезда комсомола. Избран кандидатом в члены губкома. 9 августа — Принят в члены КП(б)У. Временно исполняет обязанности секретаря Шепетовского окружкома комсомола. Сентябрь — Тяжелое обострение болезни. Сентябрь 1924 — июль 1926 — Лечение в различных клиниках и санаториях (Славянск, Харьков, Евпатория). 1926, июль — Приезд в Новороссийск. Знакомство с Р. П. Мацюк, которая становится женой Н. А. Островского. Сентябрь — Поездка в Харьков и в Москву. Октябрь — Возвращение в Новороссийск. 1927 — Болезнь навсегда приковывает Островского к постели. Он работает пропагандистом, ведет на дому занятия с партийно-комсомольскими кружками. Занимается самообразованием. Июнь — август — Лечение серными ванными на курорте «Горячий Ключ» близ Краснодара. Осень — Возвращение в Новороссийск и работа над рукописью о боевых делах бригады Котовского. Декабрь — Зачислен слушателем заочного Коммунистического университета имени Свердлова (курс окончил в 1929 году). 1928 — Рукопись о котовцах послана в Одессу на отзыв к товарищам котовцам. Получена одобрительная оценка. Но рукопись (единственный экземпляр) не вернулась: она была утеряна почтой. Июнь — Курс лечения в санатории № 5 «Старая Мацеста» в Сочи. По окончании курса Островский остается в Сочи на постоянное жительство. Ноябрь — Потеря зрения. 1929, октябрь — Отъезд в Москву для лечения. С 7 октября 1929 до 4 апреля 1930 — лечение в клинике 1-го МГУ. 1930,22 марта — Тяжелая и безрезультатная операция удаления паращитовидной железы. Апрель — Островский поселяется в доме № 12 по Мертвому переулку в Москве. Май — Поездка в Сочи на повторный курс лечения мацестинскими ваннами. Октябрь — Возвращение в Москву. Начало работы над романом «Как закалялась сталь». 1931, ноябрь — Окончание работы над 1-й частью романа «Как закалялась сталь». 1932, февраль — Рукопись одобрена редакцией журнала «Молодая гвардия». 28 марта — Обсуждение книги в Доме писателя. Апрель — Первая часть романа начинает печататься в журнале «Молодая гвардия». Н. А. Островский принят в члены Московской ассоциации пролетарских писателей. 27 июня — Отъезд в Сочи, в санаторий «Красная Москва». Там начата работа над 2-й частью романа. Декабрь — Выходит первое издание 1-й части романа «Как закалялась сталь». 1933, июнь — Окончание работы над 2-й частью романа. 1934, 1 июня — Н. А. Островский принят в члены Союза советских писателей СССР. Сентябрь — Выходит в свет 2-я часть романа «Как закалялась сталь». Декабрь — Начало работы над романом «Рожденные бурей». 1935, апрель — Первые пять глав «Рожденных бурей» печатаются в газете «Сочинская правда». 16 мая — Бюро Сочинского горкома ВКП(б) на квартире Н. А. Островского слушает творческий отчет писателя. 26 июня — Подписано к печати первое издание рома на «Как закалялась сталь» в двух частях. Май — сентябрь — Работа над сценарием для кинофильма «Как закалялась сталь». Июль — октябрь — В №№ 7—10 журнала «Молодая гвардия» публикуются первые главы романа «Рожденные бурей». 1 октября — Указ Центрального Исполнительного Комитета СССР о награждении Н. А. Островского орденом Ленина. 2 октября — Н. А Островский обращается к товарищу И. В. Сталину с письмом, в котором горячо благодарит партию и правительство за высокую награду и выражает горячие чувства любви и преданности родине, партии, великому вождю и учителю. 12 октября — Радиоперекличка городов Украины (Киев и Шепетовка) с любимым писателем. Н. А. Островский рассказывает по радио о своей работе над романом «Рожденные бурей». 23 октября — Н. А. Островский выступает по радио на собрании сочинского партийного актива с речью «Каким должен быть писатель нашей страны». 24 ноября — Вручение ордена Ленина Н. А. Островскому. 27 ноября — Закладка дома, который правительство Украины решило построить в Сочи в подарок писателю. 6 декабря — Выступление по радио на конференции писателей Азово-Черноморского края. 9 декабря — Отъезд в Москву для продолжения работы над романом «Рожденные бурей». 11 декабря — Островский приезжает в Москву и поселяется в предоставленной ему квартире по ул. Горького, 40 (ныне — Государственный музей квартира Н. А. Островского). 1936, январь — Написаны две последние главы романа «Рожденные бурей». Островский взят на учет Политического управления РККА как военный корреспондент с присвоением звания бригадного комиссара. 7 января — Комсомольская организация г. Шепетовки избирает Островского своим делегатом на IX Всеукраинский съезд комсомола. 1 февраля — Винницкая областная конференция комсомола избирает Островского своим делегатом на X съезд ВЛКСМ. 6 апреля — Н. А. Островский выступает по радио на IX Всеукраинском съезде комсомола. 17 апреля — Подготовлены тезисы выступления на X съезде ВЛКСМ. Выступление не состоялось ввиду резкого ухудшения здоровья. 28 апреля — Скончался отец писателя Алексей Иванович Островский в возрасте 86 лет. 17 мая — Н. А. Островский возвращается в Сочи. Он поселяется в новом доме. 17 августа — Окончание работы над первым томом романа «Рожденные бурей». 22 октября — Отъезд в Москву. 15 ноября — Заседание президиума правления Союза советских писателей в московской квартире Островского, посвященное обсуждению романа «Рожденные бурей». 11 декабря — Закончено редактирование первой книги романа «Рожденные бурей». 16 декабря — Жестокий приступ болезни почек. 22 декабря в 19 час. 50 мин. Николай Алексеевич Островский скончался. 25 декабря — Тело писателя предается кремации. 26 декабря — в день его похорон — вышло в свет первое издание романа «Рожденные бурей».
 Роман «Как закалялась сталь» в изданиях, вышедших за рубежами Советского Союза.
Роман «Как закалялась сталь» в изданиях, вышедших за рубежами Советского Союза.
 Роман «Как закалялась сталь» в переводах на языки народов СССР.
Роман «Как закалялась сталь» в переводах на языки народов СССР.
БИБЛИОГРАФИЯ
I. Основные издания произведений Н. А. Островского
Как закалялась сталь. Часть 1. Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1932. Как закалялась сталь, Часть 2. Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1934. Как закалялась сталь. Роман в двух частях. Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1935. Рожденные бурей. Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1936. Н. Островский и М. Зац. Как закалялась сталь. Киносценарий. Изд-во «Искусство», 1937. Речи. Статьи. Письма. Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1940. Речи. Статьи. Письма. Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1946. Сочинения. Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1947. Как закалялась сталь. Рожденные бурей. Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1948. Романы. Речи. Статьи. Письма. Государственное издательство художественной литературы, 1949. По сведениям Всесоюзной книжной палаты к началу 1950 года произведения Н. А. Островского были изданы э СССР на русском языке 136 раз и на других языках народов СССР —150 раз.
Книги Н. А. Островского, кроме русского языка, изданы в СССР на следующих языках: на адыгейском, азербайджанском, алтайском, армянском, башкирском, белорусском, бурятском, грузинском, даргинском, еврейском, казахском, каракалпакском, карельском, киргизском, коми, коми-пермяцком, латышском, лезгинском, литовском, марийском-горном, марийском-луговом, молдавском, мордовском-мокша, мордовском-эрзя, осетинском, таджикском, татарском, тувинском, туркменском, удмуртском, узбекском, уйгурском, украинском, финском, хакасском, чувашском, эстонском, якутском. Кроме того, по сведениям Всесоюзной государственной библиотеки иностранных языков, произведения Н. А. Островского изданы за границей в следующих странах: в Албании, Англии, Аргентине, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Голландии, Греции, Дании, Италии, Китае, Корее, Монголии Норвегии, Польше, Румынии, США, Уругвае, Финляндии Франции, Чехословакии, Швеции, Югославии, Японии.
II. Основная литература о Н. А. Островском
Е. Балабанович. Николай Островский. Гослитмузей, М., 1946. И. Бачелис, С. Трегуб. Счастье Корчагина. Изд-во ЦК ВЛКСМ. «Молодая гвардия», М., 1944 г. Н. Венгров, М. Эфрос. Жизнь Николая Островского. Детгиз, М — Л., 1949. «Музей Николая Островского». Издание музея Н. Островского, Сочи, 1948. Л. Розова и Е. Островская. Н. Островский в школе. Учпедгиз, М., 1949. «Николай Алексеевич Островский». Сборник материалов. Краевое книгоиздательство, Краснодар, 1940. М. Серебрянский. Литературные очерки. Статьи о советской литературе. Изд-во «Советский писатель», М., 1948. (См. статью «Николай Островский»). С. Трегуб. О Николае Островском. Библиотека «Огонек». Изд-во «Правда», М., 1938. Его же. Николай Островский. Гослитиздат, М., 1939. Его же. Герой нашего времени. (От Павла Корчагина к Олегу Кошевому.) Стенограмма публичной лекции, прочитанной 25 сентября 1948 года в Центральной лектории Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний в Москве. Изд-во «Правда», М, 1948. Е. Усиевич. Пути художественной правды. Критические статьи. Изд-во «Советский писатель», М., 1939. (См. статью «Николай Островский».)
Последние комментарии
24 минут 31 секунд назад
1 час 33 минут назад
13 часов 31 минут назад
13 часов 44 минут назад
17 часов 10 минут назад
1 день 21 часов назад