С. Я. Штрайх КОВАЛЕВСКАЯ

В ДЕРЕВЕНСКОЙ ГЛУШИ
Имение генерала В. В. Корвин-Круковского, деревня Палибино, Витебской губернии, было расположено близ границы Литвы. В огромном его хозяйстве паслись многочисленные стада коров и овец, была обширная запашка. Сады и огороды, молочная ферма, скотный и другие дворы, водочный завод занимали много места и на большом расстоянии окружали господский дом, выстроенный, подобно большинству помещичьих домов середины XIX столетия, с трехэтажной башней и двухэтажными флигелями. Длинная березовая аллея отделяла помещичью усадьбу от крестьянского жилья. Дом был громадный — четыре большие семьи разместились бы в нем с удобством; были обширные залы, домашняя сцена, комнаты для гостей, буфетные, много служебных помещений. Всюду толкалась несчетная прислуга. В эту деревню переехал в 1858 году, почти перед самой отменой крепостного права, только что вышедший в отставку артиллерийский генерал Василий Васильевич Корвин-Круковский со своей женой Елизаветой Федоровной и тремя детьми. Старшей дочери, Анюте, было тогда 15 лет, вторая — Софа — родилась 3/15 января 1850 года в Москве, где отец занимал должность начальника арсенала, сыну Феде не было еще трех лет. Отец и мать занимались детьми очень мало. В Москве и Калуге, куда был переведен незадолго до выхода в отставку Василий Васильевич, он был занят днем на службе, а вечера проводил в клубе. Елизавета Федоровна совсем не была подготовлена к роли матери-воспитательницы: любила выезды и приемы гостей, была большая охотница потанцовать. По воспитанию, по мягкому, безвольному характеру, по тому, что была двадцатью годами моложе мужа, который сразу после брака поставил ее в подчиненное положение, она не сумела приобрести влияния на своих детей; часто получала в их присутствии резкие выговоры от мужа, и вся дворня смотрела на нее скорее как на старшую сестру маленьких Корвин-Круковских, чем как на руководительницу их воспитания и образования. Из сохранившегося в семейном архиве дневника Елизаветы Федоровны за первые годы замужества видно, что Василий Васильевич Корвин-Круковский был типичный представитель крупнопоместного дворянства: вне службы он проводил все время за карточным, столом или в кутежах с песнями и плясками цыган. Как полагается благородному дворянину, имел до женитьбы на содержании какую-то немку Амелию, а после свадьбы счел нужным рассказать молодой жене об этой связи. С грубостью николаевского солдафона он часто сравнивал жену со своей бывшей подругой, не скупясь на циничные намеки, оскорблявшие ее достоинство жены и матери. Подобно своему господину — императору Николаю Павловичу, заставлявшему краснеть жену наследника своими казарменными шутками о молодцах, которых она должна дать России, генерал Корвин-Круковский смеялся над своей женой по поводу того, что она «наполняется материнством». Через месяц после свадьбы Елизавета Федоровна записала! в дневник, что «вчера утром» она «была веселой, оживленной, цветущей; сердце прыгало от радости и надежд; а сегодня; всю ночь проплакала, и муж лежал рядом бесчувственный и храпел». Еще через неделю жизнерадостная молодая женщина отмечает, что у нее «появилась чуждая доселе: робость, сердце полно волнений», и оплакивает мечты и надежды своей юности. Затем, на протяжении шести лет, в дневнике Епизаветы Федоровны чаще всего повторяются с удручающим однообразием такие записи: «муж в клубе, сижу рома одна; день нашей свадьбы, муж в клубе, где поют цыгане; я больна — дома, муж в клубе; муж обедал в клубе; муж в клубе, вернулся в полночь». Такой образ жизни совмещался у Василия Васильевича с издевательскими остротами по адресу жены, с запрещением ей выезжать из дому, лишением ее всякого общества. Поступая так с женой, он самовластно и бесконтрольно распоряжался не только общим семейным имуществом, но и частным достоянием Елизаветы Федоровны. Накануне рождения Софы генерал сильно проигрался в клубе, и жене пришлось отдать все свои бриллианты для избавления его от крупной неприятности. Карточный долг дворянина неизмеримо выше его обязанностей по отношению к семье, тем более, что проигрыш можно было наверстать увеличением поборов с крепостных. При всем этом В. В. Корвин-Круковский считался, и действительно был, далеко не худшим представителем своего класса. Артиллерист по специальности, он был хорошо образован, знал и любил математику, вел знакомство с людьми науки и литературы. В доме Корвин-Круковских можно было встретить профессора математики артиллерийской академии П. Л. Лаврова, гениального хирурга Н. И. Пирогова, художника Ф. А. Моллера, профессора арабской словесности и журналиста О. И. Сенковского; впрочем, они принадлежали к знакомым Елизаветы Федоровны через семью ее отца, Ф. Ф. Шуберта. По отношению к своим крепостным Василий Васильевич также вел себя культурнее многих дворян, получивших за преданность монархическому строю праве распоряжаться жизнью и, достоянием крестьян, их жен и детей. В своих чрезвычайно правдивых «Воспоминаниях детства» Софья Васильевна много рассказывает о мерзкой стороне помещичьей жизни, говорит о суровости ее отца по отношению к крестьянам, об его глубоком убеждении в правильности и законности крепостного строя, но не приводит сцен истязания и порки взрослых крестьян, описываемых всеми мемуаристами ее среды. Быть может это объясняется отдаленностью крестьянских жилищ от господской усадьбы в Палибине, что лишало помещичьих детей возможности наблюдать повседневную деревенскую жизнь. Но из рассказа Софьи Васильевны об одном' деревенском происшествии видно, как Василий Васильевич относился к своим рабам. В числе господской дворни находилась в Палибине швея, много лет жившая у Корвин-Круковских по вольному найму, Марья Васильевна. В молодости она была крепостной и получила вольную после того, как потеряла красоту по вине приехавшего в отпуск офицера, сына помещицы. В доме Корвин-Круковских швея приобрела уважение аккуратностью и хорошей работой, но на свою беду влюбилась а пожилого палибинского садовника-немца и, чтобы добиться его взаимности, дарила ему мелкие безделушки, которые таскала из комнаты господских детей. При этом она подстроила так, что в краже заподозрили прислуживавшую в детской десятилетнюю дочь палибинской скотницы, Феклушу. Девочку «хорошенько выпороли» и отослали в деревню к матери. Вскоре раскрылись козни Марьи Васильевны, и генерал счел нужным применить всю полноту власти образованного и богатого помещика. Сначала он велел послать за полицией, чтобы засадить виновную в; тюрьму, потом смягчился и согласился оставить швею в Палибине, потребовав от нее торжественного извинения перед Феклушей с целованием руки при всей дворне. К общему удивлению швея согласилась на это унижение, и несмотря на просьбы Феклуши отменить этот обряд, Василий Васильевич настоял на своем. Когда Марья Васильевна, в присутствии помещичьей семьи и сотни дворовых, подошла! к девочке, из! ее уст вырвалось каким-то болезненным криком слово «прости», и она схватила Феклушнну руку. Как только Марья Васильевна поднесла эту руку к губам, судорога передернула все ее лицо, и пена показалась вокруг рта. Она упала на землю, корчась и испуская пронзительные крики. После этого несчастная прожила в доме Корвин-Круковских еще два-три года и умерла в тяжких мучениях. По распоряжению помещика ей устроили пышные похороны, на которых присутствовал сам барин. Таков был один из наиболее культурных представителей класса помещиков. При воспитании своих детей он пользовался приемами более мягкими, по такого же педагогического достоинства. Как у огромного большинства дворян, дети Корвин-Круковских находились на попечении невежественных нянек из крепостных. По сложившимся при феодальном строе обычаям, комнатная прислуга помещиков пользовалась правами домочадцев и большим влиянием на детей. В редких случаях, при хорошем воспитательном руководстве со стороны родителей, это влияние могло быть благотворным. В большинстве семей, где родители видели детей только в особо торжественной обстановке, влияние нянек было вредным в (нравственном и физическом отношениях. Своей косностью, моральной неустойчивостью и физической нечистоплотностью они противодействовали введению в детскую тех скромных начал гигиены и разумной дисциплины, которые пытались вносить туда иностранные гувернантки и учителя. В семье Корвин-Круковских велась борьба между двумя группами людей, обслуживавших детей. Входит, например, гувернантка-француженка в детскую, где спят две дочери и сын Корвин-Круковских, их няня и Феклуша. В комнате тяжелый воздух от испарений многих тел, от ладана и деревянного масла — неизбежных принадлежностей няниного богомолья, от чада сальных свечей, которыми освещались жилые помещения, и от какой-то неведомой настойки, которой няня, в дополнение к молитвам, лечила себя и детей при всяких недомоганиях. Француженка брезгливо зажимает нос платком и на своем ломаном русском языке просит няню отворить форточку. Няня обижается поведением и замечанием гувернантки, нехотя отворяет форточку, по, по выходе француженки из комнаты, закрывает ее и раздраженно говорит: «Вот что еще выдумала, басурманка! Стану я отворять форточку, чтобы господских детей перепростудить!» Сцена эта повторяется каждое утро, точно так же, как установленный нянею обычай кормления детей завтраком в постельках, неумытыми и нечесанными. Утомленные возней дети снова засыпают, а гувернантка долго ждет их в классной комнате. Потеряв терпение, француженка вбегает в детскую и, увидя своих учениц спящими, сердито говорит, что пожалуется генералу. «Ну и ступай, жалуйся, змея, — говорит няня по уходе гувернантки, — уж господскому дитяти и поспать-то вдоволь нельзя. Опоздала к твоему уроку! Вот велика беда! Ну и подождешь, не важная фря!» Затем няня подметает комнату, поднимая целые облака пыли, вытирает детям: лица и руки мокрым полотенцем, одевает их и считает дело сделанным. Гулять она водила детей только в (исключительно хорошую погоду, а, большей частью сидела с ними в комнате, куда сходились горничные и другая прислуга. Тогда начинались разговоры и пересуды, к которым дети прислушивались с жадным и болезненным любопытством. В первое время деревенской жизни Василий Васильевич с непривычного досуга стал присматриваться к детям. С изумлением открыл, что надзор за ними очень плох и воспитаны они скверно. Няню перевели на должность смотрительницы белья, уличенную в чем-то нехорошем француженку отослали в город, а, к детям пригласили новую гувернантку — англичанку. После этого Василий Васильевич считал свой отцовский долг выполненным и мог подумать о себе самом. Пожив немного в Палибине, он перезнакомился с окрестными помещиками, стал часто выезжать в уездный город Невель, где в клубе велась большая игра, и вскоре был признан лучшим кандидатом в губернские предводители дворянства. После избрания пришлось, конечно, отлучаться из Палибина надолго, и генерал мог уделять детям внимание лишь изредка. Елизавета Федоровна могла бы в деревне больше заниматься детьми, но не сумела использовать, в этом отношении свой досуг. Дочери поступили в полное ведение гувернантки-англичанки, родившейся в России, но сохранившей духовную связь со своей родиной и до конца жизни не умевшей привыкнуть к русским обычаям. Старшая дочь Корвин-Круковских, Анюта, избалованная, самовольная, не признавала никакой дисциплины. К приезду в Палибино англичанки Анюта выровнялась в высокую, стройную, миловидную девушку, постоянно мечтала о роли блестящей светской барышни и страдала от условий деревенской жизни, которая не прельщала ее даже своими поэтическими сторонами. С гувернанткой она повела открытую борьбу, из которой вышла победительницей. Читала Анна Васильевна без всякой системы, увлекаясь поочередно всеми модными вопросами эпохи, и превратилась в тоскующую барышню-отшельницу. Наконец, занялась философией. Семья видела ее только за обедом. Остальное время она проводила в своей комнате, где изучала Аристотеля и Лейбница и заполняла целые листы выписками и рассуждениями. «Никогда она ни к кому не подсаживается со своим рукоделием, — огорчалась сестра Елизаветы Федоровны, гостившая в Палибине в 1862 году, — никогда не принимает участия в прогулках. И только вечером, когда остальные сидят за карточным столом, она, погруженная в свои философские размышления, иногда большими поспешными шагами проходит через зал». Тетка считала непростительным, что родители допустили свою дочь избрать такой ложный и опасный путь- Иногда она заводила с Анютой серьезные или шутливые споры по этому поводу, но девушка не обращала! внимания на ее советы и продолжала поступать по-своему. Положение младшей дочери Корвин-Круковских в семье было совершенно иное. Вся материнская нежность Елизаветы Федоровны, все инстинктивное стремление к ласке в течение первых семи лет ее замужества были направлены только на Анюту. Софу она почти не замечала. Мисс Смит немного повоевала с Анютой, махнула на нее рукой и занялась исключительно Софой, которую перевоспитывала на английский лад с энергией, переходившей в ожесточение. Вся обстановка деревенской жизни палибинской семьи — разобщенность всех ее представителей, их постоянная занятость своими личными делами, огромные размеры помещичьего дома, — все благоприятствовало экспериментам англичанки. Отделив Софу от всех остальных домашних, ограждая ее, как от заразы, от влияния старшей сестры, мисс Смит установила для девочки определенный распорядок, который осуществлялся неукоснительно. Это дало впоследствии положительные результаты. Ровно в семь часов утра, зимою и летом, осенью и весною, будили Софу. Первое время девочке трудно было вставать, но гувернантка разгоняла ее сонливость угрозой наиболее чувствительного для детей наказания — навешивания на спину бумажки с надписью «лентяйка» или с перечислением других провинностей. Софа вскакивает с постели, бежит к умывальнику. Горничная обливает ее ледяной водой, и у девочки захватывает дух от холода. Через секунду это сменяется ощущением кипятка, пробегающего по жилам, и после энергичного обтирания мохнатым, полотенцем Софа испытывает приятное чувство необыкновенной живучести и упругости. Девочка кипит избытком молодой, здоровой жизни, ей хочется резвиться, поиграть с кем-нибудь, но приходится сесть за чайный стол сам-друг с проглотившей аршин англичанкой. Софа пытается пошутить с Маргаритой Францевной, но больная печень не располагает гувернантку к веселости. Она строго напоминает своей воспитаннице, что пора перейти к урокам и что. во время занятий смеяться не полагается. Учение начинается полуторачасовыми музыкальными упражнениями, которые сопровождаются выстукиванием гувернанткой такта, охлаждающим чувство софиной жизнерадостности. За музыкой следуют другие уроки, проходящие для Софы в тоске одиночества, после того как Анюта перестала учиться вместе с ней. Большую роль сыграл в детском развитии Софьи Васильевны брат ее отца, Петр Васильевич. Он был старший в [роде, но не проявлял обычного, в таких случаях в дворянских семьях властолюбия. Напротив, был добродушен, непомерно уступчив и совершенно пренебрегал имущественными интересами. Вследствие этого все смотрели на него как на чудака и фантазера и помыкали им. После смерти жены П. В. Корвин-Круковский передал свое большое имение единственному сыну, выговорив себе незначительную ежемесячную сумму. Оставшись без определенного дела, он часто приезжал в Палибино и гостил там неделями. Приезд его всегда считался праздником.
 Ф. Корвин-Круковская (70-е годы)
Ф. Корвин-Круковская (70-е годы)
 В. В. Корвин-Круковский (70-е годы)
В. В. Корвин-Круковский (70-е годы)
Дядя Петр Васильевич читал запоем и долго просиживал в палибинской библиотеке. С жадностью поглощал он газеты, поступавшие туда раз в неделю, и потом долго сидел и обдумывал: «что-то нового затевает этот каналья Наполеошка?» Кроме политики, П. В. Корвин-Круковский интересовался также научными открытиями, особенно в области модного тогда естествознания. Найдя в каком-нибудь журнале описание нового важного открытия в области естественных наук, дядя заводил об этом разговор после обеда. «А читали ли вы, сестрица, что Поль Бер придумал? — обращается он к Елизавете Федоровне. — Искусственных сиамских близнецов понаделал. Срастил нервы одного кролика с нервами другого. Вы одного бьете, а другому больно. А, каково? Понимаете ли вы, чем это пахнет?» После этого в гостиной начинается жаркий спор. Елизавета Федоровна и старшая дочь присоединяются к Петру Васильевичу. Гувернантка, мисс Смит, по свойственному ей духу противоречия, почти всегда начинает доказывать неосновательность и даже греховность описываемых опытов. А Василий Васильевич изображает из себя скептического, насмешливого критика, подчеркивая в своих высказываниях слабые стороны спорящих. Софья Васильевна долго помнила, какую бурю подняли в Палибине две статьи французского журнала: одна — об единстве физических сил (отчет о брошюре Гельмгольца), другая — об опытах Клод-Бернара над вырезыванием частей мозга у голубя. Наряду с политикой и научными открытиями дядя Петр Васильевич увлекался также романами, описанием путешествий и историческими статьями. Всем прочитанным он немедленно делился со своей младшей племянницей и таким образом приохотил Софу к чтению. Но чтение это носило такой же бессистемный характер, как чтение и научные разговоры самого дяди. Забравшись в библиотеку, где на столах и диванах были разбросаны соблазнительные томики иностранных романов или книжки русских журналов, к которым гувернантка запретила девочке прикасаться, Софа жадно глотала одну книгу за другой. Боясь гувернантки, которая посылала туда Софу не для чтения, а для, игры в мяч, девочка иногда из предосторожности делала несколько ударов мячиком, чтобы мисс. Смит слышала, что ее воспитанница играет, как ей приказано. Большей частью хитрость удавалась, но раза два гувернантка накрывала Софу на месте преступления. Тогда, как и вообще после всякой важной провинности, мисс Смит посылала Софу к отцу с приказанием самой рассказать ему, как она провинилась. Василий Васильевич, как уже указывалось выше, мало интересовался подробностями, относящимися к воспитанию его детей. Меньше всего, конечно, подозревал Корвин-Круковский, какой сложный внутренний мир успел уже образоваться в голове той маленькой девочки, которая приходила к нему с повинной и ждала приговора. Хорошо понимая маловажность проступка дочери, он, однако, твердо верил в необходимость строгости при воспитании детей. Раз уже прибегли к вмешательству главы семьи, он должен проявить свою власть. Чтобы не ослабить своего авторитета, Василий Васильевич строгим и негодующим голосом говорит Софе: «Какая ты скверная, нехорошая девчонка. Я очень тобой недоволен. Поди, стань в угол!» Двенадцатилетняя девица, которая за несколько минут перед тем переживала с героиней прочитанного украдкой романа самые сложные психологические драмы, становится, как малый ребенок, в угол. В тяжкой обиде она стоит там так тихо, что, случается, отец забудет о ней, а девочка из гордости ни за что не попросит сама прощения. Наконец, папа вспомнит о Софе и отпустит ее со словами: «Ну, иди же, и смотри не шали больше!» Через несколько минут Василий Васильевич забывает об этом мелком эпизоде, а Софа уходит из его кабинета с чувством недетсткой тоски и огромной незаслуженной обиды. Таково было семейное воспитание Софьи Васильевны,' которая через все детство пронесла твердое убеждение, что она нелюбима в семье. Дети поместного дворянства получали общее образование в закрытых институтах, устроенных по типу монастырей и отличавшихся всеми их особенностями: оторванностью от жизни, затхлостью нравственной атмосферы, скрытым развратом и внешним фарисейским, благочестием. Родители, понимавшие; вред этой растлевающей обстановки, приглашали в свои дома так называемых домашних учителей на все время ученья. Такой способ обучения также имел свои плохие стороны; главной из них была почти совершенная разобщенность учащихся от сверстников. В отношении учителя Корвин-Круковским посчастливилось. Переехавший в Палибино Иосиф Игнатьевич Малевич был порядочный человек и добросовестный преподаватель, он обладал достаточными знаниями для общего ознакомления учениц с литературой, историей и математикой, всем, что требовалось от дворянских дочерей. В долгие зимние вечера, когда не было гостей, Малевич составлял Василию Васильевичу компанию за карточным столом или развлекал беседой Елизавету Федоровну. Когда старшая дочь Анюта стала устраивать домашние спектакли, Малевич и тут помогал — хлопотал и возился за кулисами, безропотно играл все роли, которые навязывала ему шустрая ученица. Больше всего Софа полюбила математику и этим радовала сердце генерала, который по своей специальности артиллериста хорошо знал эту науку и любил: ее. Развитию в девочке влечения к математике способствовали беседы ее дяди, Петра Васильевича, и некоторые; другие обстоятельства. Дядя часто говорил своей маленькой племяннице о квадратуре круга, об асимптотах — прямых линиях, приближающихся к кривой в бесконечно далекой точке, и тому подобных мудреных вещах, представлявшихся Софе чем-то таинственным и в то же время особенно привлекательным. К этому влиянию дяди прибавилась еще одна счастливая случайность. Когда отделывали палибинский дом в 1858 году, не хватило обоев для оклейки одной детской комнаты. Посылать в, Петербург за обоями было слишком хлопотно. Решили оклеить стены софиной комнаты бумагой, валявшейся на чердаке. Взяли литографированные записки лекций по диференциальному и интегральному счислению знаменитого математика М. В. Остроградского, которого в молодости слушал Василий Васильевич. Софа часами простаивала возле этих обоев и разбирала выведенные на них чертежи. Она нашла здесь вещи вроде тех, о которых говорил дядя Петр Васильевич, и просила у него разъяснений. Дядя не знал того, что интересовало Софу. Малевич тоже не был достаточно сведущ в этих вопросах, но дал своей ученице имевшиеся у него книги из разных областей высшей математики. Девочке приходилось доискиваться смысла чертежей собственным размышлением. В этом отношении с Ковалевской произошло то же, что с гениальным Гельмгольцем, который в детстве, строя домики из палочек, так хорошо изучил геометрию, что впоследствии основные ее теоремы не были для него новостью. Так было и у Ковалевской. Когда она через несколько лет после рассматривания чертежей на палибинских обоях брала в Петербурге первый урок диференциального счисления у известного преподавателя математики А. Н. Страннолюбского, тот удивился, как скоро, Софья Васильевна охватила и усвоила понятия о пределе и о производной, «точно наперед их знала». Учитель так именно и выразился. «И дело, действительно, было в том, — пишет Ковалевская, — что в ту минуту, когда он объяснял мне эти понятия, мне вдруг живо припомнилось, что все это стояло на памятных мне листах Остроградского, и самое понятие о пределе показалось мне давно знакомым». Софа увлеклась математикой настолько, что стала пренебрегать другими предметами. В виду этого Василий Васильевич решил было запретить дочери заниматься математикой, но отменил свое решение, когда старый друг его, профессор физики в морской академии Н. Н. Тыртов, после беседы с девочкой заявил, что Софа имеет исключительные способности к этой науке. С тех пор генерал стал гордиться своей второй дочерью и даже разрешил ей, когда по зимам семья проживала в столице, брать уроки у известного петербургского преподавателя математики А. Н. Страннолюбского. Так от добродушной снисходительности к увлечению Софьи Васильевны «мужской» наукой семья Корвин-Круковских перешла к признанию ее необыкновенного дарования и права на занятия высшей математикой. Но чтобы дочь родовитого дворянина и крупного помещика училась в университете! Чтобы Софа посещала аудитории и лаборатории! вместе со студентами! Это не укладывалось в голове Корвин-Круковского. Движение 60-х годов было, однако, сильнее феодальных предрассудков палибинского помещика.
ЗНАКОМСТВО С Ф. М. ДОСТОЕВСКИМ
Первой заявила отцу о желании уехать в Петербург, чтобы учиться в высшей школе, Анна Васильевна. Все предварительное воспитание старшей Корвин-Круковской было таким, что деревенская жизнь ее совершенно не удовлетворяла. Она не любила ни гулять, ни собирать грибы, ни кататься на лодке. Одно лето пристрастилась к верховой езде, но больше из подражания героине какого-то романа. О занятии Анюты хозяйством не могло быть и речи: такое предложение показалось бы нелепым! и ей самой, и всем окружающим. Назначение старшей дочери Корвин-Круковских — царить на балах. «Нашу Анюту, когда она вырастет, хоть прямо во дворец вези. Она всякого царевича с ума сведет», — говаривал Василий Васильевич, разумеется, в шутку, а Анюта принимала эти слова всерьез. Часто приходила Анна Васильевна к отцу и со слезами на глазах упрекала его за то, что он ее держит в деревне. Василий Васильевич большей частью отшучивался. Иногда он снисходил до объяснения и серьезно доказывал дочери, что в связи с упразднением, крепостного права обязанность каждого помещика жить в своей деревне. Бросить теперь имение значит разорить всю семью. После таких разговоров Анюта уходила в свою комнату и горько плакала. Зимние поездки в Петербург разжигали в девушке вкус к удовольствиям. Только втянется в столичную жизнь, возвращайся в Палибино: опять безлюдье, безделье, скука, скитанье целыми часами из угла в угол по огромным комнатам деревенского дома, чтение романов и романы в мечтах. Порешила Анна Васильевна поступить в медико-хирургическую академию. Пришла к отцу и просит отпустить ее одну в Петербург — учиться. Василий Васильевич пытался обратить просьбу дочери в шутку. Анюта не унималась, горячо доказывала, что из необходимости родителям жить в имении не следует еще, что и ей надо запереться в деревне. Генерал рассердился и прикрикнул на дочь, как на маленькую: «Если ты сама не понимаешь, что долг всякой порядочной девушки жить со своими родителями, пока она не выйдет замуж, то спорить с глупой девчонкой я не стану!» Анюта сдалась, но отношения между нею и отцом стали очень натянутыми; взаимное раздражение росло с каждым днем. В семье был полный разлад. Елизавета Федоровна страдала за дочь, но не знала, как помочь ей. В дело вмешался Малевич. До поступления в семью Корвин-Круковских он был учителем в семье мелкопоместного дворянина Псковской губернии, Ивана Егоровича Семевского. С одним из своих бывших учеников, офицером гвардейского пехотного полка, а затем учителем в кадетском корпусе, Михаилом Ивановичем, Малевич сохранил дружеские отношения, и молодой Семевский часто навещал Иосифа Игнатьевича в Палибине. В 1861 году М. И. Семевский вышел в отставку с небольшим офицерским чином и занялся, главным образом, литературной деятельностью. Еще до того он напечатал в журналах несколько исторических статей, доставивших ему глубокое уважение Малевича. Последний решил, что 19-летняя мечтательная, поэтически настроенная дочь богатого помещика будет хорошей женой для Михаила Ивановича, имевшего очень скромное состояние, и постоянными рассказами об отличных качествах Семевского привлек внимание Анны Васильевны к своему воспитаннику. Елизавета Федоровна готова была помочь налаживавшемуся роману, ей хотелось вывести Анюту из тяжелой обстановки, создавшейся в Палибине. Но если для пленения экзальтированной девушки достаточно было рассказов о демократичности М. И. Семевского и о его стремлении помочь нуждающимся, если Елизавета Федоровна относилась безразлично к общественному и материальному положению зятя, — была бы только Анюта довольна, — то генерала Корвин-Круковского такой жених прельстить не мог. Выход молодого офицера в отставку и желание его полностью отдаться литературе, которою, главным образом, занимались разночинцы и поповичи, — были в глазах богатого помещика доказательством совершенной непригодности Семевского к роли мужа для девушки из старинного рода. Семевский настойчиво сватался, Малевич подзадоривал Анюту, а генеральша поощряла обоих. Василий Васильевич устроил жене с дочерью несколько сцен и прогнал неугодного ему жениха. Так как умеренный и аккуратный Семевский не был настоящим героем романа Анны Васильевны, то она успокоилась очень скоро. Анюта покорилась отцу, но еще больше стала уединяться в своей комнате на верхушке башни, где устроила себе помещение по образцу жилища героини одного из прочитанных ею романов. Что делала Анюта в башне, Софа не знала, но ее сильно огорчало высокомерное отношение старшей сестры. На приставания Софы рассказать, о чем она думает, что делает, Анна Васильевна отвечала презрительно: «Ах, отстань, пожалуйста! Слишком ты еще мала, чтобы я тебе все говорила». Недолго выдержала Анна Васильевна свое гордое одиночество. Потребовала у младшей сестры обещания, что та никому, никогда, ни под каким видом не проговорится, и доверила ей «большую тайну». Позвала Софу в свою комнату, подвела к старому б ро, в котором хранила свои самые заветные секреты, и из него большой конверт с красной печатью: «Журнал Эпоха». Конверт — на имя Домны Никитишны Кузьминой, палибинской экономки, которая всей душой предана Анюте и за нее готова пойти в огонь и в воду. Из большого конверта сестра вынула другой, поменьше, на котором было ее имя, извлекла из него письмо и по дала Софе. Письмо было от редактора «Эпохи», Ф. М. Достоевского, сообщавшего Анне Васильевне, что он получил ее рассказ и начал читать его не без тайного страха: редакторам журналов часто приходится разочаровывать начинающих писателей, присылающих свои литературные опыты на оценку. В данном случае, по мере чтения, страх Достоевского рассеивался. Редактор все более и более «поддавался обаянию юношеской непосредственности, искренности и теплоты чувства, которыми проникнут» присланный рассказ, и решил напечатать его в ближайшей книжке журнала. Анна Васильевна наслаждалась почтительным изумлением младшей сестры, после некоторого молчания бросилась ей на шею и рассказала, как у нее завязались сношения с Достоевским. «Понимаешь ли ты, понимаешь, — говорила она, — я написала повесть и, не сказав никому ни слова, послала ее Достоевскому. И вон видишь, он находит ее хорошею и напечатает в своем журнале. Так вот сбылась-таки моя заветная мечта Теперь я русская писательница!» В помещичьих домах на печатное слово смотрели, как на что-то приходящее издалека, из неведомого, чуждого вира. Сестры Корвин-Круковские никогда не видели человека, который что-нибудь, напечатал, а Василий Васильевич относился к писателям с презрением. Личное знакомство с поэтессой Е. П. Ростопчиной не изменило его мнения о литераторах, а женщины-писательницы были для него «олицетворением всякой мерзости»; он относился к ним с наивным ужасом и негодованием и считал каждую из них способной на все нехорошее. Василий Васильевич на всю жизнь запомнил из прочитанной им еще в 1837 году повести Рахманного «Женщина-писательница», что такое занятие для женщины — «состояние противоестественное и порок», что писательница «сбрасывает с себя покрывало стыда и этим перестает быть женщиной». Письмо Достоевского к Анне Васильевне относится к концу августа 1864 года. С тех пор писатель почти на полтора года вошел в жизнь сестер Корвин-Круковских, знакомство с которыми относится к эпохе создания одного из его лучших произведений — романа «Преступление и наказание». Для уяснения тогдашних обстоятельств личной жизни Достоевского надо вернуться несколько назад и бегло проследить его отношения женщинами после освобождения из «Мертвого дома». По возвращении из Сибири «штудирование и анализ характера которой-либо из знакомых дам или девиц… составляло одно из любимых его развлечений», — свидетельствует один из приятелей молодых лет Достоевского. Первая женитьба Достоевского на вдове сибирского чиновника, М. Д. Исаевой, принесла ему несчастье. 6 февраля 1857 года 36-летний Федор Михайлович обвенчался с нею в Кузнецке и вскоре отправился с женой в Семипалатинск — к месту своей ссылки. За ними следовал из Кузнецка 25-летний учитель Варгунов, у которого, по словам дочери Достоевского, Марья Дмитриевна накануне своей свадьбы «провела ночь». Когда Достоевскому разрешили вернуться в Россию, Марья Дмитриевна была тяжела больна, и супруги большей частью жили раздельно: муж — в Петербурге, жена — в Твери. Перед выездом в 1862 году за границу Достоевский был уже знаком с Аполлинарней Прокофьевной Сусловой. Дочь крепостного, вышедшего в купцы, человека образованного и давшего хорошее образование своим детям, сестра Н. П. Сусловой, которая была близка кругу друзей Н. Г. Чернышевского, А. П. Суслова принимала участие в деятельности радикальных кружков 60-х годов и была на подозрении у жандармов. Знакомство с нею Достоевского, завязавшееся на почве литературных упражнений Сусловой, перешло в страсть, которая захватила писателя глубоко и прочно. Отношения его с женой благоприятствовали этому увлечению. Марья Дмитриевна оставалась в Твери, когда Достоевский вернулся из-за границы и снова впрягся в тяжелую работу руководителя журнала «Время». Отношения с Сусловой продолжались и официально определялись сотрудничеством ее в журналах братьев Достоевских, хотя литературные произведения Аполлинарии Прокофьевны были весьма посредственны. Летом 1863 года Достоевский снова отправился за границу, много играл в рулетку, изредка выигрывал, но большей частью проигрывался; дотла. В этот раз он был за границей вместе с Сусловой, встретившись с нею по предварительному сговору. В Париже, на почве нового романа Сусловой, произошел первый открытый разрыв между нею и Достоевским. Затем выяснилось, что герой парижского романа — негодяй, и она снова сошлась с Федором Михайловичем. По возвращении Достоевского из этой поездки, Марья Дмитриевна, в связи с ухудшением своего здоровья переехала в Москву. У Достоевского много было хлопот в Петербурге с новым журналом, заменившим закрытое «Время», но, несмотря на это, в самый разгар подготовительной работы по выпуску «Эпохи», ему подолгу приходилось жить в Москве с тяжело больной женой Так прошла вся зима 1863–1864 годов. После смерти Марьи Дмитриевны (15 апреля 1864 года) Достоевский вернулся в Петербург, где застал дела «Эпохи» в печальном состоянии. Брат его Михаил в это время был болен, Достоевский же собирался за границу списываясь об этом с Сусловой. В первой половине июля брат Достоевского умер, и Федор Михайлович за границу не поехал. Все дело и семья брата остались на его руках. Обстоятельства сложились чрезвычайно тяжело. Достоевский изнемогал под гнетом всех обрушившихся на него бед, при постоянном безденежьи и продолжавших его мучить отношениях с А. П. Сусловой. Все вокруг Достоевского стало холодно и пустынно. В это-то время получил он от экзальтированной дочери витебского губернского предводителя дворянства письмо, тронувшее его своей милой непосредственностью и юношеской искренностью. Письмо понравилось Достоевскому, а приложенный к письму рассказ молодого автора, под названием «Сон», произвел на него хорошее впечатление. Собственно, рассказ Корвин-Круковской не блещет художественными достоинствами, но Достоевский заинтересовался опытом палибинской барышни и напечатал его в ближайшем номере журнала. Автору был немедленно переведен гонорар, хотя тяжелое материальное. Вложение журнала и более чем запутанные собственные денежные дела заставляли Достоевского расплачиваться с другими сотрудниками почти всегда с запозданием. Между редактором «Эпохи» и автором «Сна» завязалась тайная переписка — через палибинскую экономку Корвин-Круковских и петербургскую подругу Анны Васильевны. Как рассказывает Софья Васильевна, первый успех Анюты придал ей бодрости, и она тотчас же принялась за другое произведение, которое вскоре отослала редактору «Эпохи». Второе письмо Достоевского попало с остальной почтой в руки Василия Васильевича в день семейного праздника. В Палибине были гости, было торжественно и шумно. Генерал заперся в своем кабинете, позвал туда жену, распушил ее за недосмотр и обещал расправиться с Анютой после разъезда гостей. То, что дочь тайком получает деньги от незнакомого мужчины, показалось ему таким позором, что ему сделалось дурно. Когда все разъехались, Василий Васильевич потребовал Анюту к себе, разнес ее и, между прочим, сказал, что «от девушки, которая способна, тайком от отца и матери, вступить в переписку с незнакомым мужчиной и получать от него деньги, можно всего ожидать!» Постепенно все успокоилось. Сначала примирилась с фактом писательства Елизавета Федоровна. Муж ее долго сердился, но, в конце концов, сдался и прослушал Анютину повесть, даже прослезился в наиболее трогательных местах. Затем разрешил дочери переписываться с Достоевским, с условием, что все письма она будет показывать отцу. Получив от Корвин-Круковской вторую повесть— «Послушник», более обширную по размерам, но столь же скромную по художественному выполнению, как и рассказ «Сон», Достоевский решил напечатать ее и высказал автору свое мнение о повести в обширном письме от 14 декабря 1854 года. Здесь редактор «Эпохи» сообщал, что с повестью пришлось повозиться в цензуре, потребовавшей вымарок и исправлений и заменившей название «Послушник» названием «Михаил». «Некоторые из этих исправлений, — писал Федор Михайлович, — и по моему личному убеждению были нужны… От этого сокращения повесть становится короче, сжатее и нисколько не темнее. Все ясно». При этом Достоевский прибавляет, что «величайшее умение писателя, это — уметь вычеркивать. Кто умеет и кто в силах свое вычеркивать, далеко пойдет. Все великие писатели писали чрезвычайно сжато. А главное — не повторять уже сказанного или и без того всем понятного». Достоевский сообщает также Анне Васильевне мнение критика «Эпохи» Н. Н. Страхова и других членов редакции о том, что у нее «большое прирожденное мастерство и разнообразие», и добавляет от себя: «Вам не только можно, но должно смотреть на свои способности серьезно. Вы — поэт. Это уж одно многого стоит, а если при этом талант и взгляд, то нельзя пренебрегать собою. Одно — учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное». Новый автор так заинтересовал редактора «Эпохи», что вторую повесть он напечатал в следующей же книге журнала после первого рассказа; это делается обыкновенно с произведениями писателей с установившейся репутацией. Вторая вещь Корвин-Круковской напечатана на первом месте, и автору выказана предупредительность в смысле гонорара: «Михаил» рассчитан, до сокращений, т. е. за него заплачено больше, чем следовало по занятому в журнале месту. Разрешив дочери переписываться с Достоевским, отец вынужден был позволить ей и видеться с редактором. Когда Елизавета Федоровна собралась в начале 1865 года в Петербург с дочерьми, Василий Васильевич дал жене инструкцию: «Помни, Лиза, что на тебе будет лежать большая ответственность. Достоевский — человек не нашего общества. Что мы о нем знаем? Только что он журналист и бывший каторжник. Хороша рекомендация! Нечего сказать! Надо быть с ним очень и очень осторожным». И строго приказал Елизавете Федоровне, чтобы она непременно присутствовала при знакомстве Анюты с писателем, ни на минуту не оставляя их вдвоем. По приезде в Петербург Анна Васильевна послала Достоевскому письмо (от 28 февраля 1865 года) с приглашением притти к ней, чтобы познакомиться лично. Достоевский пришел в назначенный день. Первое его посещение вышло очень неудачным. «Я тоже выпросила позволение остаться во время его визита, — рассказывает Ковалевская. — Две старые тетушки-немки поминутно выдумывали какой-нибудь предлог появиться в комнате, с любопытством поглядывая на писателя, как на какого-то редкого зверя, и, наконец, кончили тем, что уселись тут же на диване, да так и просидели до конца его визита. Анюта злилась и упорно молчала. Федору Михайловичу было и неловко, и не по себе в этой натянутой обстановке; он конфузился и злился… Мама изо всех сил старалась завязать интересный разговор. С своею самою светскою, любезною улыбкой, но, видимо, робея и конфузясь, она подыскивала, что бы такого приятного и лестного сказать ему и какой бы вопрос предложить поумнее». Достоевский отвечал односложно и резко. Через полчаса он ушел, неловко и торопливо раскланявшись и никому не подав руки. Анюта со слезами убежала к себе. В другой раз Достоевский пришел более удачно: матери и тетушек дома не было, Анюта и Софа были одни. Лед как-то сразу растаял: «Федор Михайлович взял Анюту за руку, они сели рядом на диван и тотчас заговорили, как два старых, давнишних приятеля. Анюта и Достоевский как бы торопились высказаться, перебивали друг друга, шутили и смеялись». 15-летней Софе также было радостно и весело. В довершение счастья она услышала от Достоевского похвалу своим стихотворным упражнениям. Вернувшись домой, Елизавета Федоровна сначала даже испугалась: «Что сказал бы на это Василий Васильевич?» Но скоро успокоилась, приняла участие в беседе и пригласила Федора Михайловича бывать запросто. Достоевский стал своим человеком в доме петербургских родственников Корвин-Круковских и приходил к ним раза три-четыре в неделю. Однажды Е. Ф. Корвин-Круковская устроила званый вечер, на который пригласила Достоевского и всех своих высокочиновных и сановных родственников. Писатель чувствовал себя в этой звездоносной и мундирной компании очень стесненно, знакомился с гостями как бы нехотя и поспешил завладеть всецело Анютой. Это шло в разрез со всеми приличиями света; к тому же и обращение его было далеко не светское: он брал барышню за руку, говоря с ней, наклонялся к самому ее уху.
 Ф.М. Достоевский С гравюры на дереве В. А. Фаворского
Ф.М. Достоевский С гравюры на дереве В. А. Фаворского
 Софья Ковалевская (1865 г.)
Софья Ковалевская (1865 г.)
Елизавета Федоровна пыталась дать понять Достоевскому, что его поведение не хорошо. Она прошла, якобы ненарочно, мимо писателя и дочери и позвалапоследнюю. Анюта поднялась, но Федор Михайлович удержал ее: он еще не все досказал. Мать потеряла терпение и заметила Достоевскому, что Анюта, как хозяйка дома, должна занимать и других гостей. Федор Михайлович совсем рассердился, забился в угол и злобно смотрел на всех. Особенно ненавистен был ему один из родственников Корвин-Круковских со стороны Шубертов, полковник генерального штаба Андрей Иванович Косич. На правах троюродного брата он ухаживал за Анной Васильевной, когда встречал ее у тетушек, давая понять, что «имеет виды». Делал это чинно, благовоспитанно, никого не шокируя. Анюта принимала его ухаживания так же сдержанно и по-салонному приветливо. Вид этого светского, приглаженного, самодовольного красавца, ласковая улыбка, с которой Анна Васильевна слушала его спокойную, уверенную речь, раздражали Достоевского. Он стал нервничать, вмешался в беседу тетушек с какими-то сановными родственниками на тему о различии и сходстве между православием и протестантизмом и стал рубить сплеча евангельскими изречениями, резавшими слух аристократических гостей. Сказал он также что-то о матерях, только и думающих, как бы повыгоднее пристроить дочек. Слова Достоевского произвели, по воспоминаниям Софьи Васильевны, удивительный эффект. Все благовоспитанные немцы примолкли и таращили на писателя глаза. Затем сообразили неловкость сказанного им и заговорили разом. Достоевский еще раз оглядел всех злобным, вызывающим взглядом, потом опять забился в свой угол и до конца вечера не проронил больше ни слова. Добрая Елизавета Федоровна скоро простила Достоевскому этот скандал, но дружба между двумя писателями — знаменитым 43-летним и начинающим 22-летним— пошла врозь. «Отношения между Анютой и Достоевским как-то совсем изменились с этого вечера, — рассказывает Софья Васильевна, — точно они вступили в новый фазис своего существования. Достоевский совершенно перестал импонировать Анюте; напротив того, у нее явилось даже желание противоречить ему, дразнить его. Он же, со своей стороны; стал обнаруживать небывалую нервность и придирчивость по отношению к ней; стал требовать отчета, как она проводила те дни, когда он у нас не был, и относиться враждебно ко всем тем людям, к которым она обнаруживала некоторое внимание. Приходил он к нам не реже, а пожалуй, чаще и засиживался дольше прежнего, хотя все почти время проходило у него в ссорах с моей сестрой». Почти все беседы Федора Михайловича с Анютой, во время его дальнейших посещений Корвин-Круковских, состояли в спорах, главным образом, на тему о нигилизме. Споры продолжались иногда далеко за полночь. Чем дольше оба говорили, тем больше горячились и высказывали взгляды гораздо более крайние, чем те, каких действительно придерживались. «Вся теперешняя молодежь тупа и недоразвита — кричал иногда Достоевский. — Для них всех смазные сапоги дороже Пушкина!» — «Пушкин действительно устарел для нашего времени», — спокойно замечала Анна Васильевна. Достоевский, вне себя; от гнева, уходил, торжественно объявляя, что с нигилисткой спорить бесполезно и что больше он к ней не придет. На другой день Федор Михайлович приходил, как ни в чем не бывало. По мере того, как отношения между Достоевским и Анной Васильевной, видимо, портились, дружба 15-летней Софы с писателем возрастала. «Я восхищалась им с каждым днем все более и более и совершенно подчинилась его влиянию, — пишет Ковалевская. — Он, разумеется, замечал мое беспредельное поклонение себе, и оно ему было приятно. Постоянно ставил он меня в пример сестре». Софа краснела от удовольствия и была уверена, что Федор Михайлович интересуется ею больше, чем старшей сестрой. Даже наружность девочки он хвалил в ущерб Анютиной. В эту пору Софа Ковалевская имела, по словам одной из ее родственниц, красивые, влажные, блестящие глаза, настолько выразительные, что их было бы достаточно, чтобы признать ее красивой, если бы даже все черты ее лица были совсем незначительны. Несмотря на самый неблагоприятный, переходный возраст, девочка была очаровательна со своим умным и живым смуглым лицом, с хорошенькой ямочкой на подбородке. Софа была очень чувствительной, придавала огромное значение любви и успеху у тех людей, которых сама любила, ценила ласку, Анюта же называла это «китайскими церемониями». Дней за шесть до отъезда Корвин-Круковских в Палибино, когда Елизавета Федоровна и ее сестры уехали на весь вечер, пришел Достоевский и застал Анюту и Софу одних. Пока он беседовал со старшей, младшая решила сыграть любимую сонату Достоевского, увлеклась игрой и не замечала, что делается вокруг. Окончив, оглянулась — в комнате никого, обошла смежные комнаты — нет сестры и гостя. Наконец, Софа услыхала голоса в маленькой угловой иной, подошла и увидела там Федора Михайловича с Анютой. «Но что я увидела? — рассказывает Софья Васильевна. — Они сидели рядом на маленьком диванчике. Комната слабо освещалась лампой с большим абажуром; тень падала прямо на сестру, так что я не могла разглядеть ее лица; но лицо Достоевского я видела ясно: оно было бледно и взволновано. Он держал Анютину руку в своих и, наклонившись к ней, говорил тем страстным, порывчатым шопотом, который я так знала и так любила: «Голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты, как вас увидел; да и раньше, по письмам уже предчувствовал. И не дружбой я вас люблю, а страстью, всем моим существом». У девочки помутилось в глазах, и она убежала. Шум быстрого движения встревожил беседующих. На другой день Анна Васильевна высмеяла Софу за ее детскую влюбленность и ревность и на взволнованный вопрос сестры ответила, что очень любит Достоевского, но «не, так, как он, не так, чтобы пойти за него замуж». Корвин-Круковские уехали в деревню, но Достоевский продолжал переписываться с Анной Васильевной. Отец ее решил вмешаться в эту переписку. В чрезвычайно язвительном письме от 14 января 1866 года Василий Васильевич приглашал «каторжника» и человека «не нашего круга» приехать в Палибино, напоминал Достоевскому, что тот уже весьма и весьма пожил, а Анюта еще дитя несмышленое, старался «поставить» писателя «на место», указать ему «свой шесток». Достоевский все-таки после этого писал Анне Васильевне (17 июня 1866 года), что собирается погостить в Палибине, и спрашивал, будет ли он иметь возможность работать там, не помешает ли кому-нибудь. Но в Палибино писатель не собрался. Возможно, что Корвин-Круковские виделись с Достоевским в начале 1866 года. По крайней мере, в архиве Достоевского сохранилось письмо к нему М. И. Семевского от 27 февраля 1866 года с извещением, что он «узнал вчера о приезде сюда общих наших знакомых, Е. Ф. Корвин-Круковской с дочерьми», и с просьбой сообщить ему, где они остановились. Когда Достоевский разошелся с А. П. Сусловой и женился (15 февраля 1867 года) на стенографистке А. Г. Сниткиной, он рассказал ей о своих отношениях к Корвин-Круковской. «Анна Васильевна — одна из лучших женщин, встреченных мною в жизни, — передает A. Г. Достоевская рассказ мужа. — Она чрезвычайно умна, развита, литературно образована, и у нее прекрасное, доброе сердце. Это девушка высоких нравственных качеств; но ее убеждения диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может, слишком уж она прямолинейна. Навряд ли поэтому наш брак мог бы быть счастливым. Я вернул ей данное слово и от всей души желаю, чтобы она встретила человека одних с ней идей и была бы с ним счастлива». По возвращении Анны Васильевны после Парижской Коммуны в Россию, она часто встречалась с Достоевским; писатель подолгу беседовал с нею и, по словам его жены, любил общество своей бывшей невесты. После смерти Федора Михайловича, его вдова поддерживала дружбу с Анной Васильевной и оказала ей большую услугу в 1887 году, когда мужа ее, коммунара B. Жаклара, высылали из России. С. В. Ковалевская говорит о своей детской влюбленности в Достоевского в переведенных на все европейские языки «Воспоминаниях», где дана яркая художественная характеристика знаменитого писателя. В бумагах Софьи Васильевны, хранящихся в архиве Академии наук СССР, есть написанный по-русски отрывок из автобиографического романа «Сестры Раевские», являющегося по существу переделкой «Воспоминаний детства». Рассказ представляет собой значительный интерес, как образец художественного воплощения ранних воспоминаний автора. Здесь Ковалевская, называя себя Таней, описывает свою влюбленность в Достоевского. «Нет сомнения, — пишет Софья Васильевна, — что, если бы Достоевский мог заглянуть ей в душу и прочитать ее мысли, догадаться хоть на половину, как глубоко ее чувство к нему, он был бы тронут тем безграничным восторгом, который она к нему испытывала. Но в том-то и беда, что увидеть это было нелегко. На вид Таня была совсем еще ребенком… Но в том-то и заключается главное несчастие того переходного возраста, который переживала Таня: чувствуешь в это время глубоко, почти как взрослый, а выражается всякое чувство смешно, по-детски, и трудно догадаться взрослому о том, что происходит в душе иной 14-летней девочки. Таня понимала Достоевского. Чутьем догадывалась она, сколько в душе его заложено чудных, нежных порывов. Она благоговела не только перед его гениальностью, но и перед теми страданиями, которые он вынес. Ее собственное одинокое детство, постоянное сознание, что она в семье менее любима, чем другие, развили ее внутренний мир гораздо сильнее, чем это обыкновенно бывает у девочки ее лет. С самого раннего возраста сказывалась в ней потребность к сильной, исключительной, всепоглощающей привязанности, и теперь с той интенсивностью, которая составляла сущность ее характера, она сосредоточила все свои мысли, все силы своей души на восторженном поклонении первому гениальному человеку, которого она встретила на своем пути. Она постоянно думала о Достоевском». Софья Васильевна также встречалась с Достоевским, когда после гейдельбергского и берлинского учения поселилась в Петербурге. Об этих встречах и продолжительных беседах Ковалевской с Федором Михайловичем, а также об его влиянии на ее литературную деятельность — скажу далее. Здесь отмечу, что все крупные литературные произведения С. В. Ковалевской так или иначе связаны с памятью о Достоевском. Лучшая глава «Воспоминаний детства» посвящена его характеристике; в романе «Сестры Раевские» говорится о детской влюбленности Софьи Васильевны в Федора Михайловича; о главной героине романа «Нигилистка» Ковалевская много беседовала с Достоевским в 1876–1877 годах.
САЛОННЫЙ НИГИЛИЗМ
Достоевский, по словам его второй жены, признавался, что рад был бы, до знакомства с ней, жениться на «умной, доброй и талантливой, обладавшей высокими нравственными качествами» Анне Васильевне; этому помешали «диаметрально противоположные убеждения». Софья Васильевна передает слова сестры о том, что она очень любила и уважала Федора Михайловича, но любила «не так, как он, не так, чтобы пойти за него замуж». Оба рассказчика несомненно были искренни, писали так, как преломлялись в их сознании слова действующих лиц. Достоевский якобы не мог жениться на Анне Васильевне, потому что она исповедывала нигилизм. Изложенный выше спор его с Корвин-Круковской о Пушкине и нигилистах происходил тогда, когда во всех русских журналах велась ожесточенная полемика на ту же тему. В этой полемике Достоевский выступил одним из главных застрельщиков со статьей «Господин Щедрин или раскол в нигилистах», появившейся в печати за полгода до его встречи с Анной Васильевной. В раздиравших радикальную журналистику боях Достоевский был противником обеих групп расколовшихся нигилистов, был в том лагере крепостников, реакционеров, славянофильствующих прогрессистов и либералов, которые пытались сделать Пушкина своим союзником' в борьбе с революционным движением. Имея все это в виду, можно понять, как Достоевский негодовал по поводу нигилистических высказываний Корвин-Круковской. Собственно нигилизмом называли движение 60-х годов дворянское правительство и его прислужники всех оттенков. Жандармы, например, называли участников общественного движения, безотносительно к степени их революционности, «ярыми нигилистами-коммунистами», для которых «нет ничего святого». Идейные руководители движения именовали свое мировоззрение реализмом, а своих последователей — мыслящими реалистами. Враги подхватили прозвище «нигилисты» у И. С. Тургенева, который обозначал Так в романе «Отцы и дети» отрицателей всякого любования внешней красивостью, якобы не признающих чистой любви и готовых разрушать все старое ради одного только разрушения. Но еще до Тургенева, до реакционных защитников старого строя, это слово применил критик Н. И. Надеждин. За 30 лет до появления в свет романа «Отцы и дети» он выступил в печати со статьей «Сонмище нигилистов», где изобразил людей, не признающих никаких руководящих начал в искусстве и литературе. Между тем нигилизм 60—70-х годов, как отмечалось в литературе еще в 1872 году, «был полон веры и потому положительных стремлений». Это было течение, отрицавшее основные установки классово-дворянской культуры: религиозные предрассудки, поддерживавшие невежество; эстетические суждения, устаревшие формы семейной жизни, обусловленной фарисейским церковным браком; мораль, проповедывавшую незыблемость права собственности дворян и фабрикантов и обязанность трудовых масс безропотно работать на помещиков и купцов и т. п. Отрицателями всего этого были разночинцы — выходцы из рядов мелкобуржуазной интеллигенции, к которым примыкали, с одной стороны, редкие представители рабочей и крестьянской среды, с другой — представители так называемого кающегося дворянства, выходцы из помещичьих семей, сознавшие вину своего класса перед трудовым народом. Эта молодежь охотно приняла кличку «нигилисты». Но, при одинаковом словесном определении своих общественных и политических взглядов, отдельные группы «нигилистов» вкладывали в это слою разное содержание, по-разному осуществляли свое учение. Нигилисты «бурые», вышедшие, главным образом, из разночинной среды, и примкнувшая к ним, отвергавшая все условности буржуазной культуры, часть радикальной молодежи из помещичьих семей — умели преодолеть давление общества. Эти нигилисты выдвинули лучших деятелей русского революционного движения. Они создали партию землевольцев-семидесятников, которых В. И. Ленин еще в 1902 году, в своей знаменитой книге «Что делать?», называл революционерами высшего типа, корифеями революционного движения (Сочинения, т. IV, стр. 442 и след.). В противоположность «бурым» нигилистам — «чистые», салонные нигилисты, отвергавшие на словах всякие условности, не сумели окончательно порвать со своим классом и со старым бытом. Постепенно перерождаясь под его влиянием, они либо погибали вследствие духовного раздвоения, либо превращались в «кающихся» либералов и объединялись с откровенными реакционерами для борьбы с подлинным народным революционным движением. После позорного исхода Крымской войны сильно развивавшийся в России торгово-промышленный капитализм заставил правящие классы согласиться на некоторые уступки. Под давлением многочисленных крестьянских восстаний, угрожавших не только собственности помещиков, но и самой их жизни, пришлось отменить так называемое крепостное право, дававшее дворянам возможность распоряжаться личностью, трудом и имуществом крестьян. Разными мошенническими ухищрениями помещики ограбили освобожденных рабов: забрали лучшую землю и назначили большой выкуп за плохие наделы, предоставленные крестьянам. В обмане трудового народа были виновны и либералы. Сначала они требовали всяких свобод для всех слоев населения, но когда увидали, что настоящая народная свобода угрожает их собственности, то испугались и предпочли присоединиться к тем, кто всегда жил за счет крестьян и рабочих. В. И. Ленин в статье «Пятидесятилетие падения: крепостного права» объясняет такой исход главнейшей буржуазной реформы шестидесятых годов тем, что «народ, сотни лет бывший в рабстве у помещиков, не в состоянии был подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за свободу. Крестьянские восстания того Времени остались одинокими, раздробленными, стихийными «бунтами», и их легко подавляли» (Сочинения, т. XV, стр. 108). Говоря в другой статье («Крестьянская реформа и пролетарско-крестьянская революция») о роли либерального буржуазного общества в уничтожении крепостного права и показав, каким образом правящий класс под видом освобождения крестьян сумел ограбить их, В. И. Ленин пишет: «Либералы так же, как и крепостники, стояли на почве признания собственности и власти помещиков, осуждая с негодованием всякие революционные мысли об уничтожении этой собственности, о полном свержении этой власти» (Сочинения, т. XV, стр. 143). Либералы пошли на соглашение с дворянским правительством, довольствуясь мелкими уступками в буржуазном духе. Либеральные круги, получившие от царизма целый ряд незначительных уступок в разных областях жизни все-таки не сумели к концу шестидесятых годов добиться для своих дочерей права получать высшее образование Это рассматривалось, как большая опасность для государственных устоев. Правящие классы феодально-крепостнической России считали совершенно достаточным для женщин умение болтать по-французски, прочитать роман и составить письмо к подруге. Женщинами, достойными приобщиться к тайнам этой премудрости, считались только супруги и дочери помещиков и чиновников. Жены и дочери купцов и мещан обречены были на полное невежество. Крестьяне и рабочие, предназначенные исключительно для обслуживания господ, к науке не допускались; их жены и дочери даже не считались людьми. Изредка какая-нибудь смелая дочь помещика или разбогатевшего вольноотпущенника из графских управляющих получала разрешение посещать отдельные лекции в университете, но обычно скоро изгонялась из храма науки. Наиболее решительные уезжали за границу. Им завидовали остальные, как редким счастливцам: девушкам было нелегко вырваться из родительского дома с его теремньм укладом. Замужние находились в более благоприятном положении. Так или иначе девушкам надо было освободиться от бессмысленной и угнетающей родительской опеки. Развились фиктивные браки. Прямо от венца молодые разъезжались: муж к своим прежним занятиям, жена — в Швейцарию или Германию для поступления в университет. «Мы ищем людей, подобно нам горячо преданных делу, которых принципы были бы тождественны с нашими, — писала в 1868 году одна из участниц кружка сестер Корвин-Круковских другой, — людей, которые не женились бы на нас, а освободили бы, сознавая, что мы необходимы, будучи полезны в настоящей обстановке». Фиктивные браки приводили иногда к тяжелым драмам. Окончив учение, обладательница диплома испытывает потребность в устройстве семейной жизни, но в большинстве случаев у нее с фиктивным мужем нет ничего общего. Хочется соединить судьбу с человеком по сердцу, а получить в царской России развод было еще труднее, чем добиться права на учение. Фактический брак без церковного оформления также причинял обоим супругам страдания бытового порядка, особенно в деле воспитания детей. Попы и полиция отравляли жизнь «гражданской» семьи. Нужна была большая решимость, чтобы выйти замуж фиктивно ради учения или освобождения вообще. Был момент в деревенской жизни Анны Васильевны, когда она чуть не подпала под влияние настоящего; нигилиста, из «бурых». Сын палибинского приходского священника по окончании семинарии поступил на естественный факультет университета. Приехав в первый же год на каникулы домой, он решил просветить отца и рассказал ему, что человек происходит от обезьяны и что профессор Сеченов доказал, что души нет, а есть рефлексы. Бедный священник в ужасе схватил кропильницу и стал кропить сына святой водой, чтобы выгнать из него беса. Ведя знакомство с помещичьей дочерью, молодой вольнодумец стал и ей внушать свои мысли, старался развить ее и давал ей соответствующую литературу. В. В. Корвин-Круковский, конечно, не знал об этом и смотрел снисходительно на появление молодого человека в его доме. Так было до тех пор, пока попович вел себя почтительно и выказывал уважение к помещику. Став студентом, сын священника решил, что все люди равны, и вздумал явиться к генералу запросто в гости. Василий Васильевич не принял его и выслал; лакея сказать, что «генерал принимает людей, приходящих к нему по делу, и просителей только по утрам, до часу». Анюта, узнав о происшедшем, прибежала к отцу в кабинет и, задыхаясь от волнения, выпалила: «Зачем ты, папа, обидел Алексея Филипповича?! Это ужасно, это недостойно так обижать порядочного человека». Отец глядел на дочь изумленными глазами и в первую минуту даже не нашелся, что ответить дерзкой девчонка Но Анютин припадок смелости выдохся так же быстро, как и возник, и она поторопилась убежать в свою комнату. Встречаясь после этого с поповичем, Анюта под влиянием разговоров с ним и чтения; доставляемых им книг решила осуществить проповедуемые им идеи. Она стала одеваться в простые черные платья, с гладкими воротничками, стала зачесывать волосы назад, под сетку. О балах и выездах говорила с пренебрежением. Затем Анна Васильевна стала учить дворовых ребятишек грамоте и подолгу разговаривала с деревенскими бабами. В это же время она объявила отцу о Своем желании учиться, но сравнительно спокойно подчинилась его отказу. Вывозя жену с дочерьми на зимние месяцы из витебского захолустья в Петербург, Василий Васильевич не сумел уследить за всеми знакомствами Анюты. За шумом танцев, на глазах у занятых картами родителей дочери спесивых помещиков сговаривались с молодыми людьми о своих делах. Им достаточно было, как рассказывала впоследствии С. В. Ковалевская, намека, взгляда, жеста, чтобы понять друг друга и узнать, что они находятся среди своих, а не среди чужих. И когда они убеждались в этом, то чувствовали себя счастливыми от сознания, что с ними находится молодой человек, с которым, быть может, раньше и не встречались или едва обменивались несколькими незначащими словами, но который одушевлен теми же идеями, теми же надеждами, тою же готовностью жертвовать собою для достижения известной цели. Личные отношения с Достоевским не помогли Анне Васильевне сделаться заправской писательницей. После петербургских встреч с Федором Михайловичем писательское вдохновение больше не посещало ее. Опять она читала разные философские книги, угрюмо шагала по комнатам, мечтала об освобождении от родительского гнета и умилялась решимости знакомых барышень, уходивших из сшей в коммуны. О том, чтобы самой последовать их примеру, и мысли не было. Так никогда, может быть, она и не справилась бы с отцовским засильем. Меньше всего ждала Анюта помощи оттуда, откуда она явилась. Из девочки, смотревшей на все глазами старшей сестры и перед ней благоговевшей, Софа стала девушкой с характером твердым и самостоятельным целеустремленным и настойчивым. В этом сказалось влияние воспитательной системы мисс Смит. Софа казалась тогда моложе своих восемнадцати лет, и детская наружность доставила ей среди знакомых прозвище воробышка. Но этот воробышек обладал большой нравственной силой. Маленького роста, худенькая, с круглым личиком и коротко остриженными вьющимися волосами каштанового цвета, с необыкновенно выразительным и подвижным лицом, с глазами, постоянно менявшими выражение, то блестящими и искрящимися, то глубоко мечтательными, Софа, по словам одной из ее тогдашних подруг, представляла оригинальную смесь детской наивности с глубокою силою мысли. Она привлекала своей безыскуственною прелестью сердца всех — старых и молодых, мужчин и женщин. Глубоко естественная в обращении, без тени кокетства, Софья Васильевна как бы не замечала производимого ею впечатления. Она не обращала внимания на свою наружность и туалет, который был очень прост с примесью некоторой беспорядочности, не покидавшей С. В. всю жизнь. Анюта рассказала Софе, что вот-де такая-то и такая-то девицы вышли фиктивно замуж и теперь имеют возможность учиться. Младшая сестра ухватилась за эту идею и уговорила старшую искать кандидатов в женихи. Не важно, кто будет: лишь бы согласился немедленно после венчания оставить жену в покое, не заявлять никаких прав на нее. Конечно, жениха надо искать для Анюты. Родители ни за что не позволят Софе выйти замуж раньше старшей сестры. К тому же Софа и не собиралась еще замуж, даже фиктивно. Софья Васильевна уже рисовала себе в мечтах «хорошую и полезную» жизнь, непременно вдвоем с Анютой и непременно «аскетическую». Когда Софья Васильевна думала об аскетизме, ей представлялась маленькая, очень бедная комнатка в Гейдельберге, очень трудная, серьезная работа и полное отсутствие общества. Два раза в неделю получаются письма от Анюты, которая очень занята, но также готовится к отъезду в Гейдельберг, куда привезет несколько других барышень, которых развила и освободила. В этой «аскетической» обстановке Софа готовится к экзамену и пишет диссертацию. Анюта приводит в порядок свои путевые заметки. Затем Софья Васильевна едет в Сибирь, где находит «пропасть трудностей, разочарований, но пользу непременно» принесет. Потом Анюта пишет «замечательное сочинение», а Софе удается сделать открытие. Они устраивают женскую и мужскую гимназию; имеют «свой» физический кабинет. Возле обеих собирается целая семья «освобожденных» генеральских дочерей. «Ну, чем эта жизнь не блаженство? А ведь это самая аскетическая жизнь, которую я могла придумать, и она зависит только исключительно от нас двоих», — умиляется Софья Васильевна.
ФИКТИВНЫЙ БРАК
Всю зиму и весну 1868 года Анна Васильевна безуспешно искала подходящих кандидатов в фиктивные мужья. Наконец, ее познакомили с В. О. Ковалевским. Сын бедного помещика из обруселых поляков, родившийся в 1843 году, Владимир Онуфриевич Ковалевский провел невеселое детство в отцовской деревне Шустянке, Динабургского уезда, Витебской губернии, так как между родителями его были нелады. Отец стремился направить будущее сыновей по своему пониманию и в раннем детстве поместил их в дорогостоящие пансионы. Младшего сына, Владимира, отец отдал в петербургский пансион англичанина Мегина, где воспитывались сыновья крупнопоместной знати и столичной аристократии. Здесь Владимир Онуфриевич приобрел то глубокое и серьезное знание новых европейских языков, которое впоследствии дало ему возможность изучать в подлинниках иностранную научную литературу и писать свои выдающиеся палеонтологические исследования сразу по-французски, по-немецки и по-английски. Кроме того, он знал, как свои родные, языки и польский и русский, в Школе изучил латинский, а в зрелом возрасте — итальянский. Отец хотел устроить сыновей так, чтобы они по завершении образования могли сделать хорошую жизненную карьеру. Для этого старшего, Александра, по окончании пансиона он определил в петербургский институт инженеров путей сообщения, рассчитав, что при развитии железнодорожного строительства знания инженера будут хорошо оплачиваться и должность его будет чрезвычайно прибыльной. Владимира же отец сумел, при содействии высокопоставленных покровителей, устроить в училище правоведения, готовившее крупных администраторов. Владимир Онуфриевич Ковалевский учился вместе с целым рядом будущих государственных деятелей царской России — министров, сенаторов, губернаторов и тому подобных больших ловцов чинов, наград и всяких материальных благ. Сам он, однако, пошел совсем другим путем. Еще в младших классах училища Ковалевскому приходилось прирабатывать на свои расходы помощью в приготовлении уроков, в писании сочинений и другими услугами состоятельным, но малоспособным товарищам. После смерти жены дела Ковалевского-отца дошли совсем плохо, и ему пришлось прекратить всякие денежные выдачи сыновьям. Владимир Онуфриевич помог себе сам: в 15-летнем возрасте он сумел добиться «перевода с собственного содержания на казенное, проявив при этом незаурядную практическую сметку, удивившую товарищей. В последних классах училища В. О. Ковалевский усердно и успешно занимался переводами „самых разнообразных книг с иностранных языков на Прусский, работая на гостиннодворских и апраксинских. издателей. В конце пятидесятых годов А. О. Ковалевский, вопреки запрещению отца, оставил инженерный институт и поступил на естественное отделение петербургского университета. Приходивший к нему в отпускные дни Владимир Онуфриевич, под влиянием брата и его товарищей, стал интересоваться естественными науками, постепенно отдаляясь от своей юриспруденции. Он хотел даже оставить училище правоведения, но не сумел выйти из подчинения отцовской вше. Как ни мало времени уделял В. О. Ковалевский учебным занятиям, он, благодаря своим природным способностям, отлично сдавал переходные экзамены и окончил в 1861 году курс по первому разряду. Это давало ему возможность получить хорошее служебное место, успешно продвигаться в чиновной иерархии, делать карьеру. В. О. Ковалевский предпочел другое. Обязанный за свою стипендию отслужить некоторое число лет по указанию начальства, он поступил в мае 1861 года в сенат, а в толе уже взял отпуск за границу для лечения болезни. Еще правоведом Владимир Онуфриевич сблизился с петербургскими студентами и через них с радикально-революционными Кружками. По окончании курса он эти связи расширил и углубил. Таким образом, Ковалевский был в дружеских отношениях с поэтом М. Л. Михайловым, писателями Н. В. Шелгуновым, В. А… Зайцевым, польским революционером П. И. Якоби, руководителями студенческого движения Е. П. Михаэлисом, С. И. Ламанским, Л, Ф. Пантелеевым. Отправившись за границу для лечения, В. О. Ковалевский поездил по Германии, Италии и Франции и, наконец, обосновался в Лондоне. Здесь он познакомился с А. И. Герценом, стал вхож к нему, давал уроки его второй дочери, Ольге. Не вернувшись в срок из отпуска, Ковалевский просил продления его по болезни; начальство отказало и уволило Владимира Онуфриевича со службы, обязав его по выздоровлении отбыть свой срок по ведомству юстиции. За исполнением этого не следили. Первое время лондонской жизни Ковалевский продолжал еще занятия юридическими науками, начал даже писать специальное сочинение из области права. Скоро он увлекся освободительным движением и решительно порвал с правоведением. В начале 1863 года Ковалевский отправился вместе с П. И. Якоби в русскую Польшу. Оба участвовали в польском восстании. Якоби был ранен, Владимир Онуфриевич отделался благополучно в медицинском и полицейском отношениях. По крайней мере, нет известий об осведомленности жандармов относительно этой стороны деятельности Ковалевского. Вернувшись в 1863 году в Петербург, В. О. Ковалевский снова принялся за переводы и сам втянулся в издательскую деятельность. Увлечение естествознанием вызывало большой спрос на соответственную литературу. Целые организации занимались распространением ее для пропаганды материалистических идей. Владимир Онуфриевич издавал книги исключительно с пропагандистскими целями. За два-три года он выпустил много сочинений западноевропейских ученых: Брэма, Фохта, Келликера и других — по физиологии, анатомии, физике, химии, зоологии. Несмотря на значительный элемент фактической изворотливости в его характере, Владимир Онуфриевич оставался все время типичным шестидесятником, альтруистом и освободителем. П. Д. Боборыкин хорошо знал тогда Ковалевского и сообщает, что еще студентом-правоведом он поражал своей любознательностью, легкостью усвоения всех наук, изумительной памятью, бойкостью диалектики. Продолжались также сношения В. О. Ковалевского с «радикальными и революционными кружками, которым он оказывал содействие, но прямого участия в их, деятельности не принимал. К этому времени относится; сближение В. О. с радикально-научными кругами в лице И. М. Сеченова, П. И. Бокова, Н. Д. Ножина. Откликаясь на все веяния эпохи, Ковалевский в середине шестидесятых годов снова поехал в Европу, чтобы участвовать в походе Гарибальди за освобождение Италии, и находился все время среди ближайших помощников самого вождя. С поля сражения он посылал корреспонденции в «Петербургские ведомости» о ходе военных операций и о продвижении освободительной армии. В это же время начинаются злоключения В. О. Ковалевского. Сначала возникли, затруднения в издательских делах. Книг он выпустил много и все в кредит: под векселя добывал бумагу и печатал, векселями же платили ему книгопродавцы, а переводчиков и авторов Ковалевский удовлетворял своими изданиями по удешевленной цене. Когда волна увлечения естествознанием схлынула, книги стали залеживаться на складах, книгопродавцы объявляли себя банкротами, издателям стали отказывать в кредите. Владимир Онуфриевич пустил в ход всю свою предприимчивость, но при совершенном отсутствии в его характере коммерческой выдержки и настойчивости, изворотливость еще больше расстраивала его дела. Затем произошла какая-то история между В. О. Ковалевским и его невестой, Марией Петровной Михаэлис. Она также вращалась в радикальных кружках и в день гражданской казни Н. Г. Чернышевского, 19 мая 1864 года, участвовала в демонстрации в честь осужденного писателя. За это она была арестована и выслана из Петербурга под надзор полиции на год. По возвращении Марии Петровны в столицу, была уже назначена свадьба ее с В. О. Ковалевским, но, как рассказывает сестра невесты, Л. П. Шелгунова, «часа за два до венчания, перед тем, чтобы одеваться, жених и невеста завели какой-то разговор, после чего пришли к матери и заявили, что свадьбы не будет, что они расходятся». Однако, разрыв между Ковалевским и Марьей Петровной не повлиял на его отношения ко всей семье Михаэлис. Не только Л. П. Шелгунова сохранила с ним дружбу, но и мать ее, женщина строгих принципиальны» взглядов, попрежнему уважала Ковалевского и готова была помогать ему в его личных делах. Между прочим, через несколько лет она соглашалась укрыть у себя в деревне С. В. Корвин-Круковскую, когда В. О. Ковалевский предполагал увезти ее из Палибина в случае отказа отца выдать ее замуж прежде старшей сестры. Когда В. О. Ковалевский узнал, что необходим фиктивный жених для освобождения А. В. Кррвин-Круковской от родительского гнета, он предложил свои услуги, но кандидат в освободители показался ей непривлекательным с точки зрения внешней красоты. Наружностью жених был неказист: тщедушный, рыжеватый, с большим мясистым носом, Владимир Онуфриевич вероятно никогда не обратил бы на себя внимания сестер Корвин-Круковских. Они, не заметили бы его добрых, умных и живых глаз, большого белого лба и того поистине братского отношения к женщинам, которому он оставался верен всю свою жизнь. Но последнее качество и делало Ковалевского особенно ценным для роли фиктивного мужа. Хуже обстояло с материальными средствами Ковалевского и с его положением в свете. Правда, Владимир Онуфриевич — настоящий дворянин и окончил училище правоведения; многие товарищи его по школе занимают видные служебные посты. Но сам он службу в сенате давно бросил и занимается не дворянским делом: переводит и печатает книжки о зарождении человека, о свободе женщины, о силе и материи, о происхождении Земли. Выгоды от них никакой, а других средств к жизни нет: имение у Ковалевского общее с братом и дает очень мало дохода. Главное все-таки есть: дворянское звание и поместье. Сестры надеялись уладить остальное: родители должны, наконец, понять что не век же сидеть Анюте в девушках! Препятствие возникло с другой стороны. Когда Анюта познакомила Ковалевского с Софой, он заявил, что женится только на младшей. Он согласен быть фиктивным мужем и не будет стеснять жены, но если требуется жертва для освобождения девушки от родительского гнета, то пусть это будет, по крайней мере, с пользою для науки. А Софья Васильевна так страстно хочет учиться и любит естественные науки, которые влекут к себе и самого Ковалевского. Анюта совсем растерялась при таком обороте дела. Софа сказала, что все уладит: добьется согласия родителей на свой брак с Ковалевским и убедит их отпустить старшую сестру за границу с нею, как с замужней женщиной. Так и порешили. Раньше всего нужно было официально познакомиться с Владимиром Онуфриевичем в гостиной у людей, занимающих видное общественное положение, затем сказать родителям об интересной встрече и представить им нового знакомого. Ковалевский взялся устроить встречу с сестрами Корвин-Круковскими в обстановке, приемлемой для их родителей. Пока виделись тайно у знакомых, причем Анюта и Софа говорили родным, что идут в церковь. В. О. Ковалевский старался ускорить освобождение сестер Корвин-Круковских, но встречал различные препятствия. В апреле 1868 года он писал Софье Васильевне, что «дело официального знакомства устраивается не так легко, как казалось вначале». Владимир Онуфриевич выражал радость по поводу знакомства с ними. «Право, — писал Ковалевский, — знакомство с вами заставляет меня верить в сродство душ, до такой степени быстро, скоро и истинно успели мы сойтись, и, с моей стороны, по крайней мере, подружиться. Последние два года я от одиночества, да и по другим обстоятельствам, сделался таким скорпионом и нелюдимым, что знакомство с вами и все последствия, которые оно необходимо повлечет за собою, представляются мне каким-то невероятным сном. Вместо будущей хандры у меня начинают появляться хорошие, радужные ожидания, и как я ни отвык увлекаться, но теперь поневоле рисую себе в нашем общем будущем много радостного и хорошего». Сделаться «скорпионом» и «впасть в хандру» Ковалевского заставили обстоятельства, изложенные выше, и те, о которых будет сказано впоследствии. Обнаруженное Владимиром Онуфриевичем сродство душ с младшей Корвин-Круковской окрылило его радостными надежами. «Вам следует смотреть теперь на меня не как на человека, оказывающего вам услуги, — пишет он Софье Васильевне, — а как на товарища, который сообща с вами стремится к одной цели. Я даже придумал исход для Анны Васильевны, если бы наша свадьба не освободила ее, — кажется, все наши расчеты составлены верно, не надо только торопиться, чтобы не испортить дела; а это будет слишком тяжелый удар, если бы все счастье, которое так несомненно, рушилось от неосторожности». В этом же письме Ковалевский высказывает свой взгляд на литературные упражнения Анны Васильевны, которой «необходимо продолжать писать, но вместе с тем приняться за серьезное изучение иностранных литератур и сочинений великих критиков, особенно английских; только такой серьезный труд может сделать человека истинно хорошим беллетристом. Все великие даже таланты совсем не изливали своих хороших произведений вдруг, как бы по вдохновению, но сильно работали над своими произведениями». Когда Софа рассказала матери, что любит В. О. Ковалевского и хочет выйти за него замуж, добрая и мягкосердечная Елизавета Федоровна противилась недолго. Для убеждения отца пришлось прибегнуть к более решительному средству. Владимир Онуфриевич писал брату в мае 1868 года, вскоре после знакомства с родителями Софьи Васильевны, что «мать хорошая женщина и. была очень рада этому исходу, более всего с романтической стороны». Отец, хоть и сказал, что «очень доволен», но «решил во что бы то ни стало расстроить свадьбу, так как думает, что дочери его должны выйти чуть не за князей». «Будучи вежлив наружно, — писал Ковалевский из Петербурга брату, — он зол в душе до бешенства, и это все усиливается с каждым днем. Часто говоря со мной любезно, я вижу, что у него губы дрожат от злости, тем более, что мы ведем себя так, как будто никаких сомнений относительно брака и существовать не может, а он рвет себе наедине волосы, что его дочь вешается на шею и не умеет вести себя. Господин этот — страшный аспид, он был артиллерийский генерал, надут и злобно желчен до невероятия; житье бедным девочкам неистовое, и я, конечно, не обольщая себя, уверен, что желание вырваться вероятно повлияло с своей стороны на развитие привязанности ко мне — человеку другого круга». Василий Васильевич пригласил. Ковалевского в деревню для лучшего знакомства с Софой, а «затем, узнавши друг друга, всегда успеем сыграть свадьбу». Но так как заговорщики понимали, что в деревне, где отец чувствует себя царем, он круто переменит свое отношение к жениху и выживет его из дому, то послали ему в Палибино письмо с требованием решительного согласия и назначения дня свадьбы. В случае отказа со стороны отца, Софа решила просто уехать с Ковалевским. Она понимала, что отец посердится с год и лишит ее средств к жизни, но это было «все равно» и ей, и (фиктивному жениху: не в деньгах счастье. Кроме того Елизавета Федоровна обещала свою поддержку. Владимир Онуфриевич, соглашаясь на фиктивный брак с младшей Корвин-Круковской, сам того не замечая, увлекся ею. В письме Ковалевского к брату о достоинствах Софьи Васильевны это прорывается помимо его воли и сознания, «Ты не думай, — писал он А. О. Ковалевскому про обеих сестер, — чтобы это были просто девочки с хорошими намерениями или желаниями (ими же вымощен ад), но это сильно работящие и замечательно развитые существа». Сообщив, что старшая написала несколько повестей, в которых даже при «строгом отношении нельзя не узнать положительного таланта», Владимир Онуфриевич переходит к дарованиям младшей: «Мой воробышек — такое чудное существо, что я и описывать ее не стану, потому что ты естественно подумаешь, что я увлечен. Довольно тебе того, что Марья Александровна (жена известного физиолога И. М. Сеченова.—С. Ш.), великий женоненавистник, после двухкратного свидания решительно влюбилась в нее, а Суслова (Н. П. — первая женщина-врач.—С. Ш.) не может говорить, не приходя в совершенный восторг… Несмотря на свои 18 лет, воробышек образована великолепно, знает все языки, как свой собственный, и занимается до сих пор, главным образом, математикой. Работает, как муравей, с утра до ночи и при всем этом жива, мила и очень хороша собой. Вообще, это такое счастье свалилось на меня, что трудно себе и представить». Через несколько дней после первого письма Владимир Онуфриевич послал брату новое, где рассказывал, как Софье Васильевне удалось заставить отца согласиться на ее брак с Ковалевским. Она решила «крупно компрометироваться», и за день до отъезда в Палибино убежала на квартиру к Владимиру Онуфриевичу, сказав, что не поедет домой. Приехала мать, была сцена, слезы и т. д. наконец, Софья Васильевна уехала кродителям, которые обещали устроить осенью ее свадьбу. Как предвидел Владимир Онуфриевич, в деревне В. В. Корвин-Круковский возобновил свои попытки расстроить брак дочери с неродовитым женихом. «Дела наши идут совсем не блестящим образом, — писал Ковалевский брату, — и я никак не могу добиться срока свадьбы. Мне бы и ей самой хотелось покончить все к сентябрю месяцу, но я сильно боюсь, что нас оттянут до зимы, а это будет очень печально». Однако, время у Ковалевского не пропадало: наряду с обязательным ухаживанием за невестой он готовился к экзаменам по математике и физиологии, так как хотел в предстоящую поездку за границу поступить в университет, на естественное отделение. Он не верил в свои силы и полагал, что «уже не способен для научных и теоретических занятий», но хочет после подготовки запяться исследованием Камчатки, Уссури, южной границы Сибири или Кавказа. А в глубине души надеялся, что может быть еще найдутся способности заниматься наукой. Когда Владимиру Онуфриевичу пришлось по делам уехать из Палибина, В. В. Корвин-Круковский возобновил атаку на Софу, надеясь, что ему удастся убедить ее отказаться от поспешного выхода замуж. Но Софья Васильевна была непоколебима. Чтобы отец не слишком наседал со своими сожалениями и советами, она просто перестала с ним разговаривать, ссылаясь на то, что сильно занята оставленными ей женихом переводами и подготовкой к университетским лекциям. «Без вас очень скучно в Палибине, — писала Корвин-Круковская жениху, — но я много занимаюсь и надеюсь, что шесть недель пройдут себе как-нибудь. Мы с Анютой целый день сидим в своей комнате; я почти уже кончила первый лист переводов и повторила довольно много из химии, но больше всего занимаюсь математикой. Мне позволили писать вам даже без цензуры. Каково? Но я не знаю, будут ли читать ваши письма; во всяком случае, я сама буду открывать их, поэтому приложите пост-скриптум. С отцом мы видимся только за обедом и ужином, и эти краткие свидания проходят, в том, что отпускаем друг друга колкости; впрочем, я больше отмалчиваюсь». В конце концов благодаря упорству Софьи Васильевны все препятствия к браку преодолены. 15/27 сентября 1868 года состоялась в Палибине свадьба младшей Корвин-Круковской с Ковалевским. В тот же вечер они уехали в Петербург, условившись с Анютой, что выпишут ее скоро к себе. За месяц до свадьбы Владимир Онуфриевич снял в Петербурге квартиру. Первое время после свадьбы Софья Васильевна сильно краснела, когда ей приходилось говорить при посторонних с В. О. Ковалевским, как с мужем. Она также чувствовала себя неловко, оставаясь с ним одна. Несмотря на кажущуюся полноту и логичность ее жизни вне родительского дома, Софа ощущала какую-то неуловимую фальшивую ноту в своих отношениях с Ковалевским. Даже острое сознаний счастья учиться и жить на свободе не могли устранить эту фальшь. Нежное, порою трогательное, без навязчивости внимание Владимира Онуфриевича к своей названной жене, предупредительное отношение к ее желаниям и нуждам, готовность исполнить всякую ее прихоть, его самоотверженные заботы — смущали Софью Васильевну, вызывали чувство благодарности к нему. Ей казалось порою, что она начинает любить своего фиктивного мужа, Но проверив себя, вдумавшись в свое чувство, она сознавала, что это — любовь сестры к брату, притом к младшему брату. Ковалевский сам часто проявлял беспомощность, сам нуждался в поддержке. Уже в первые месяцы совместной жизни с Владимиром Онуфриевичем его фиктивная жена заметила его безволье, упадочное настроение, охватывавшее его часто в связи с запутанностью издательских дел. При каждой заминке в этих делах Ковалевский, по словам его жены, вешал голову и целый день только охал. Постепенно Софья Васильевна стала привыкать к мужу, но все обстоятельства их жизни приучили ее относиться в Владимиру Онуфриевичу с оттенком превосходства. Софья Васильевна гордилась тем, что она является героиней необычного романа: брак фиктивный, а муж влюблен, как в настоящем романе. Софе было «смешно и весело» видеть, как все относятся к ней с некоторым почтением, точно к «настоящей даме». Ковалевские появлялись вместе на лекциях, в театрах и в других общественных местах. Многие, знавшие подлинную сущность их брака, жалели Владимира Онуфриевича за то, что его милая жена никогда не будет принадлежать ему вполне.
В ПЕТЕРБУРГЕ
Софья Ковалевская вошла в Петербурге в избраннейший круг людей шестидесятых годов. Она познакомилась там с живыми героями романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», встречалась с деятельнейшими проповедниками идей материализма и дарвинизма, с людьми, вводившими в жизнь новый быт личным примером и жертвами. Видела их стремления согласовать теорию с практикой и наблюдала тщетность их усилий не отделять дела от слова, поступков от проповеди. Это был круг И. М. Сеченова, П. И. Бокова, М. А. Обручевой, Н. П. Сусловой, А. О. Ковалевского, И. И. Мечникова, родных Н. Г. Чернышевского — круг радикальной интеллигенции, смыкавшийся с деятелями революционного движения. Одни из этих людей до конца жизни сохранили верность идеалам молодости и с радостью приветствовали наследников и преемников своего дела. Другие отошли от движения, скрылись в тихую обитель «чистой», «отвлеченной» науки или мелкой земской деятельности, не узнавая в могучем революционном потоке родственной струи свободной мысли. Третьи отреклись от того, чему поклонялись, пошли в стан врагов трудового народа. С первыми познакомимся сейчас. Они создали обстановку, в которой 18-летняя Софья Ковалевская начинала свою самостоятельную жизнь. Иван Михайлович Сеченов появился на кафедре в эпоху развития в русском обществе интереса к естествознанию. Своими лекциями в высшей школе и на публичных собраниях он усилил этот интерес и дал мощный толчок развитию в России материалистических идей. Особенно ярко сказалась эта роль Сеченова после напечатания в 1863 году его труда «Рефлексы головного мозга», в котором изложены выводы его учения. «Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению — мышечному движению, — говорил Сеченов. — Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при первой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге, — везде окончательным фактом является мышечное движение». Величайший физиолог нашего времени, И. П. Павлов, полвека спустя говорил об этой работе Сеченова, как о «гениальном взмахе мысли», как о «важном физиологическом открытии, которое произвело сильное впечатление в среде европейских физиологов и было первым вкладом русского ума в важную отрасль естествознания». Правительство и лакеи реакции сразу поняли революционизирующее значение идей Сеченова, преследовали его и его книги. Позднее Сеченов написал основанный на многочисленных исследованиях и опытах «Очерк рабочих движений человека», который является единственным научным руководством в этой области и для нашего времени.
 С. В. Ковалевская (1868 г.)
С. В. Ковалевская (1868 г.)
 В. О. Ковалевский (1869 г.)
В. О. Ковалевский (1869 г.)
Петр Иванович Боков учился в медико-хирургической академии, из которой был выпущен со званием ветеринара. После сдачи в 1859 году экзамена на звание лекаря, примкнул к революционной организации «Земля и воля»; за распространение прокламаций «Великорусса» был арестован и сидел в крепости. Был одним из ближайших друзей Н. А. Добролюбова и Н. Г. Чернышевского. Жандармские агенты, наблюдавшие за Чернышевским в последний год его пребывания на свободе, сообщали в своих донесениях III отделению, что из подозрительных в политическом отношении лиц чаще всех посещает писателя доктор П. И. Боков. Чернышевский рекомендовал молодого врача учителем к сестре офицера-революционера В. А. Обручева, Марье Александровне. Разделявший взгляды Чернышевского о полном и всестороннем равноправии женщины с мужчиной в новом обществе, Боков решил помочь своей ученице освободиться от деспотического произвола ее отца, и вступил с нею в фиктивный брак. Дав жене возможность учиться, Боков жил с ней на общей квартире так, как описана в романе «Что делать» жизнь Лопухова с Верой Павловной, предоставляя Марье Александровне полную свободу и не предъявляя ей прав мужа. Вскоре Марья Алексеевна увлеклась Боковым: их брак стал фактическим. Через год или два Марья Александровна близко познакомилась с И. М. Сеченовым, полюбила его и, по соглашению с Боковым, стала женой своего профессора. Боков сохранил с ними дружеские отношения на всю жизнь и продолжал в семидесятых годах заботиться об удобствах своей бывшей жены, а она тогда еще называла его своим мужем. После ссылки Н. Г. Чернышевского в Сибирь, П. И. Боков заботился об его сыновьях. До глубокой — старости он чтил память великого писателя-революционера, любил собирать у себя молодежь, разъяснял ей революционный смысл произведений Чернышевского и Добролюбова. В своей врачебной деятельности, с первых ее лет и до конца жизни, Боков был верен заветам шестидесятых годов и относился к ней, как к общественному служению. Марья Александровна Бокова (1839–1929) росла в семье своего отца, тверского помещика и генерала Обручева, в обстановке, сходной с условиями жизни сестер Корвин-Круковских. Когда помещичье правительство, испугавшись стремления женщин к высшему образованию, удалило их из медико-хирургической академии, М. А. Бокова-Сеченова уехала доучиваться в Швейцарию. В Цюрихе она получила диплом врача и защитила весной 1871 года докторскую диссертацию. Затем работала в Вене и Лондоне. Вернувшись в Россию в середине семидесятых годов, работала по своей специальности окулиста, переезжая из города в город вместе с Сеченовым. Отношения Сеченовых и Бокова были одним из примеров созидания нового быта, новых семейных начал. В романе Чернышевского «Что делать?» выведены: Марья Александровна— под именем Веры Павловны, Сеченов — под фамилией Кирсанова, Боков — под фамилией Лопухова. Лишь в конце восьмидесятых годов Марье Александровне удалось получить официальный развод с Боковым и оформить свой брак с Сеченовым. М. А. Сеченова пережила всех своих друзей-современников, умерла в Москве 90 лет от роду. Умерла «нигилисткой» шестидесятых годов, героиней романа Чернышевского. В завещании писала: «Ни денег, ни ценных вещей у меня не имеется… Прошу похоронить меня без церковных обрядов, как можно проще и дешевле». Надежда Прокофьевна Суслова (1843–1918) была дочерью крепостного крестьянина графов Шереметевых, у которых он после был главноуправляющим. В начале шестидесятых годов Н. П. Суслова была допущена в медико-хирургическую академию, откуда устранена правительством в 1864 году. Она поехала в Швейцарию; где в 1867 году окончила Цюрихский университет и первая из женщин получила степень доктора медицины. Суслова участвовала в радикальных петербургских кружках 60-х годов и с 1865 г. состояла под надзором полиции «за открытое сочувствие нигилизму и за сношение с неблагонадежными лицами»; за участие в Интернационале и сношения с эмигрантами ей был воспрещен в 1873 году въезд в Россию, но в том же году это запрещение было отменено. Писала повести, которые печатались в «Современнике», в 1864 году. Как первая женщина-врач, Суслова имела огромное влияние на стремление русских женщин шестидесятых и семидесятых годов к медицинскому образованию, как средству служения народу. Этим же влиянием вызвано желание С. В. Ковалевской учиться медицине и поехать врачом на женскую каторгу. В начале шестидесятых годов, когда все эти люди выступили на арену научной и общественной деятельности, реакционные круги уже требовали отмены тех скромных реформ, которые помещичье правительство вынуждено было ввести под давлением крестьянских восстании. Все-таки Сеченов в своих «Рефлексах головного мозга», в этом манифесте материалистического движения эпохи, мог еще иронизировать по адресу тех, кто «в колебаниях общественного мнения видит только хаотическое брожение неустановившейся мысли», кто требует, чтобы «общество оставалось всегда скромным, тихим, благопристойным». Сеченов мог свободно призывать своих учеников работать, «работать всеми силами», помнить, что они «получают высшее образование на последние гроши русского обездоленного мужика, являются неоплатными должниками его». Реакция вскоре совсем разнуздалась. Когда Сеченов незадолго до приезда Ковалевской в Петербург, попытался выпустить свои «Рефлексы» отдельной книжкой, против него было возбуждено судебное преследование, явившееся по существу преследованием свободной научной мысли, преследованием идей материализма, подрывающих царство обмана и эксплоатации. В своем отношении к Сеченову реакционное помещичье правительство встретило поддержку со стороны либерального общества. Так, например, петербургские профессора, избрав в феврале 1869 года почетным членом университета И. М. Сеченова, поспешили одновременно избрать в почетные члены главного врага «материалистических теорий» и руководителя всех сеятелей религиозного дурмана, московского митрополита. Известный либеральный деятель, бывший профессор К. Д. Кавелин, заявивший, что правительство хорошо поступило, арестовав Н. Г. Чернышевского, писал друзьям, что не желает встречаться с Сеченовым, как с человеком дурного тона и неучтивым. В такой обстановке женщинам, конечно, трудно было добиться доступа в высшую школу. Рассказы о 1861 годе, когда их допускали к слушанию университетских лекций в Петербурге и других городах, казались невероятными. Когда в конце шестидесятых годов министру народного просвещения было подано ходатайство о разрешении учредить на общественные средства специальные высшие женские курсы, он сказал явившимся делегаткам, что все это затея праздных женщин, а масса вовсе не стремится к науке. Что касается посещения женщинами университета, то министр решительно заявил, что никогда «этого не допустит». Наперекор реакционной деятельности правительства и поддерживавших его имущих классов, ширилась и углублялась деятельность радикальных и революционных кружков. Изучая естественные науки, главным образом для подготовки себя к служению народу в качестве врачей, учителей и т. п., молодежь собиралась также в кружки для выработки приемов пропаганды в народных массах, для борьбы с царизмом вообще и самодержавием в частности. Уже выявился состав кружков чайковцев, которые через год-два прямо с Аларчинских и подобных им научно-образовательных курсов идут в народ, а вернувшись из этого хождения, приступают К организации революционного общества «Земля и воля». Одновременно с реакционной жестокостью правительства и либеральным прекраснодушием умеренных слоев общества, кипела и бурлила мысль всего честного и нравственно-здорового, думавшего об униженных и обиженных, не хотевшего итти торною дорогою мещанского благополучия и личного самоуслаждения. Софья Васильевна Ковалевская приехала осенью 1868 года в Петербург вполне подготовленная к протесту против бессмысленного деспотизма родительской власти и домостроевского семейного уклада, но совершенно неприспособленная к настоящему революционному действию. Она наслышалась разговоров о нигилизме, но восприняла его с одной только внешней стороны. Не сумев порвать со своим классом, Ковалевская так и осталась на всю жизнь протестующей интеллигенткой, говорящей о революционном деле, даже понимающей его сущность и значение, но не умеющей претворить свое слово в дело. В самый день приезда Ковалевская вошла в кружок Боковых-Сеченовых и их друзей. На квартире Софа нашла записку от Боковой с приглашением к обеду. Здесь были Марья Александровна, Сеченов, Боков и товарищ последнего, Н. А. Белоголовый, молодой талантливый врач из сибирских богатых купцов. При содействии всех этих влиятельных лиц, а также дяди П. В. Корвин-Круковского, Софья Васильевна стала посещать лекции и практические занятия в медико-хирургической академии. Пришлось прибегать к хитростям и уловкам, чтобы иметь возможность учиться, проникать в аудитории. В поисках средств ускорить освобождение сестры. Софья Васильевна и ее муж решили предложить Сеченовым, чтобы Иван Михайлович, который официально числился неженатым, заключил фиктивный брак с Аннон Васильевной. Намекнули об этом Марье Александровне, но та отнеслась к такому предложению весьма сдержанно. Такое расхождение между словом и делом возмутило Софу и, как она ни любила Марью Александровну, у нее часто вырывались резкие эпитеты по адресу Сеченовой. Доставалось попутно и ее мужу. Софья Васильевна не могла понять, как это Сеченовы отказываются помочь «своим» людям. Теперь она видит, что «в них и в нас есть, какие-то два совсем различные начала, и мы совершенно никогда не сойдемся с ними, хотя они и мы хорошие люди». Учебные занятия шли не так, как хотелось Софье Васильевне. Лекции в медико-хирургической академии она стала посещать на другой день по приезде в Петербург. Первым из столичных профессоров приобщил ее к науке Сеченов. Еще накануне Ковалевская радостно писала сестре, что «Сеченовские лекции начинаются завтра; завтра в 9 часов утра начинается моя настоящая жизнь». С трепетом и волнением ждала Софья Васильевна этой важной для нее минуты, ей хотелось бы обставить торжественно свое вступление в храм науки. Вместо того пришлось пойти в академию под конвоем целого ряда мужчин, чтобы проскользнуть в аудиторию незаметно, укрыться от начальства и любопытных студенческих взглядов. Ковалевская вошла в старое здание на Выборгской стороне, где некогда работал и преподавал великий Пирогов, под прикрытием своего фиктивного мужа, дяди Петра Васильевича, П. И. Бокова и других знакомых. На первый раз все обошлось благополучно: начальство не заметило Софью Васильевну, а студенты «не пялили глаз» на нее; ближайшие соседи проявили товарищескую предупредительность и нарочно смотрели в сторону, чтобы отвлечь внимание какого-либо сберегателя ветхозаветных устоев, который мог бы случайно зайти в аудиторию. Софья Васильевна слушала лекции очень внимательно, старалась не проронить ни слова, записывала все. Лекции Сеченова привлекали в аудиторию очень много слушателей. Наряду со студентами разных курсов их посещали офицеры, врачи, представители разных слоев общества. Аудитория была переполнена. Не хватало мест на скамьях, приходилось записывать стоя. При этом надо было все время прятаться от инспекторов, нельзя было продвинуться ближе к кафедре, чтобы присмотреться к любопытным опытам профессора. В таких неудобных условиях можно было слушать и работать еще у двух-трех особо благожелательных профессоров, можно было, наконец, заниматься анатомией практически дома, благодаря П. И. Бокову, который принес скелет. Это были занятия случайные, не систематические, в плохой обстановке, под гнетом мысли, что «начальство, кажется, заметило» и «что будет завтра?» Всплыл было проект переодеть Софу в мужской костюм. Поделившись мыслью об этом с сестрой, Ковалевская получила из Палибина такое негодующее письмо, что вынуждена была оправдываться перед Анной Васильевной: придумала она этот проект шутя, сама вполне сознает его нелепость и никогда не решится осуществить его. Все занятия по обширному кругу медицины пришлось ограничить тремя предметами: физиологией, анатомией, зоологией. С физикой дело обстояло хуже. Профессор Ф. Ф. Петрушевский, крупный ученый в своей области, был большим трусом в смысле общественном. О допущении женщин в свою аудиторию и рабочий кабинет он и слышать не хотел, ссылаясь на «законы». Не хотел даже посоветовать, как обойти это препятствие, отказывался порекомендовать частного преподавателя. К другим профессорам и не пытались обращаться. Только с математикой устроилось сравнительно благополучно. Еще в свои зимние приезды с матерью из Палибина Софья Васильевна пользовалась частными уроками известного в Петербурге преподавателя А. Н. Страннолюбского. Он и теперь согласился давать Софе частные уроки. Александр Николаевич Страннолюбский (1839–1903) пользовался большой популярностью в петербургских кружках радикальной молодежи 60—70-х годов. Он много работал в области развития женского образования, преподавал на Аларчинских женских курсах, представлявших собой зародыш женского университета; был сторонником преподавания без принуждения и наград; ввел в школе обучение ремеслам, экскурсии на заводы и фабрики для ознакомления учащихся с производством. Одновременно с Ковалевской учились у Страннолюбского известные революционерки А. П. Прибылева-Корба, А. И. Корнилова-Мороз и другие. Все они свидетельствуют, что Страннолюбский сделал очень много для поднятия уровня знаний у женщин преподавая математику, он старался развивать в своих ученицах логическое мышление. Он говорил им: будьте всегда логичны и вы будете непобедимы». Рассказывая об обширном уме Страннолюбского, одна из этих революционерок сообщает также, что он ненавидел монархический строй и, в особенности, царствовавшего тогда деспота, Александра II. Страннолюбский занимался с Ковалевской очень охотно, урок продолжался иногда по четыре-пять часов подряд. Эти занятия окончательно выявили математические способности Софьи Васильевны. Отказавшись от мысли стать врачом и лечить сосланных на каторгу женщин, Ковалевская решила уехать за границу для получения систематического образования в избранной ею области. Осуществить это было не легко и при фиктивном браке. Препятствия возникали со всех сторон. Пока Ковалевские собирались за границу, они помогали другим помещичьим дочерям уйти из родительского дома. Две из них занимают видное место в биографии Софьи Васильевны: А. М. Евреинова и Ю. В. Лермонтова. Первая, типичная шестидесятница, нигилистка салонного типа, принимала впоследствии участие в общественно-литературных делах 80—90-х годов. Вторая навсегда сохранила непоколебимую преданность Ковалевской, была ей верным другом в самые тяжелые моменты ее жизни. Анна Михайловна Евреинова (1848–1919), дочь генерала, заведующего городом дворцового ведомства Петергофом — первая русская женщина, получившая ученую степень доктора прав. С молодых лет ей, по собственным ее словам, «стали невыносимы балы, выезды и наряды»; она не захотела быть «дамой гостиных», «попала в кружок передовых людей», стала читать книги по естествознанию и праву, «увлеклась Бентамом». Подготовившись путем разных ухищрений к вступительному университетскому экзамену, она тщетно просила отца отпустить ее за границу учиться. Генерал сказал, что «лучше увидит дочь в гробу, чем в университете». Когда Ковалевская была уже в Гейдельберге, Евреинова решилась бежать из России. 10 ноября 1869 года она перешла границу «дорогою контрабандистов, — как рассказывала сама, — не без риска для жизни». Уход Евреиновой из дому, не в пример таким случаям со многими другими девушками из помещичьей среды, вызвал много толков в столичном обществе. Он сопровождался обстоятельствами, невероятными с точки зрения нынешних студенток, но довольно обычными и условиях царского строя. Дело в том, что красивая дочь петергофского коменданта понравилась брату императора, великому князю Николаю Николаевичу, а ее отец, по установившемуся при царском дворе обычаю, поощрял домогательства великого князя и готов был продать ему свою дочь в интересах своей карьеры. Выведенная из терпения, преследуемая с двух сторон, Жанна хотела утопиться, но, как передают мемуаристы, по совету «жены Ковалевского, издателя многих хороших книг, учащейся чему-то в Гейдельберге, которой она писала о своем безвыходном положении», решила уехать за границу. Помогли ей в этом друзья В. О. Ковалевского из радикальных кружков. Отдохнув у Ковалевской в Гейдельберге, Евреинова отправилась в Лейпциг, где блестяще сдала экзамены в 1873 году. Затем она объездила с научной целью Францию, Англию, Италию, разные славянские страны, изучала обычное право южных славян по документам в монастырях Адриатического побережья. Закончив свое образование, Евреинова стала ревностной поборницей женского равноправия; выступала с докладами в России, в других странах Европы и в Америке; печатала статьи по юридическим вопросам (преимущественно в связи с вопросами женского равноправия). После закрытия «Отечественных записок» Евреинова издавала (с 1885 по 1889 годы), при материальном содействии А. В. Сабашниковой, «Северный вестник», куда привлекла Н. К. Михайловского, В. Г. Короленко и Гл. И. Успенского. Однако, она не сумела выдержать радикального направления журнала и уклонялась в сторону славянофильского национализма. Под влиянием преследований со стороны царского брата и неудачного личного романа, Евреинова стала упрямой ненавистницей мужчин, и нам придется еще встретиться с нею в роли строгой хранительницы нерушимости фиктивного брака Софьи Васильевны с Владимиром Онуфриевичем. Теперь остановимся на ее встречах с Ковалевской в Петербурге в 1868 году и на их совместных стараниях «освободить» своих подруг. В качестве одного из освободителей намечался, между прочим, Петр Никитич Ткачев (1844–1885), участник революционного движения и даровитый писатель радикального лагеря. Между прочим, Ткачев рекомендовал для А. В. Корвин-Круковской каких-то фиктивных женихов, но при этом предлагал «не делать особых справок, иначе не позволят» ее родители. В ноябре 1868 года Евреинова писала Ю. В. Лермонтовой в Москву в ответ на ее запрос об одной статье Ткачева: «Действительно, эта статья — того самого, которого я знаю, и всякий раз, что бываю в Петербурге у сестер (Корвин-Круковских.—С. Ш.), всегда урываюсь и к нему. У него могу я встретить людей, которые бы охотно оказали услугу освободить нас. Личность эта далеко не обыкновенная, но хорошая и глубоко сочувствующая женскому делу. Крайний радикал по убеждениям и вообще мы сходимся, очень сходимся во многом, касающемся дела. Познакомилась я с ним именно вследствие названной вами статьи. По прочтении ее в книжках «Дела» я нашла должным заявить ему полное и искреннее сочувствие, как женщина, борцом за которую он так выказал себя». Интересовавшая кружок Корвин-Круковских статья Ткачева «Люди будущего и герои мещанства» написана по поводу романов Ф. Шпильгагена «Один в поле не воин», Дж. Элиот «Феликс Гольт — радикал», Ж. Занд «Леди Меркем» Н А. Лео «Возмутительный брак», в которых «затрагиваются интересы современной жизни», которые «рисуют… современного человека не только таким, каким он есть, но и каким он должен быть по понятиям мыслящего меньшинства». Напечатана статья в журнале «Дело» за 1868 год, в № 4 и 5. Интересовала также Ковалевских и Евреинову переводная работа Ткачева — книга Бехера «Рабочий вопрос в его современном значении и средства к его разрешению», за которую Ткачев был привлечен к суду. Рабочий вопрос привлекал уже тогда внимание людей, вдумывавшихся в пути; развития русской экономической жизни. С середины шестидесятых годов стал сильно ускоряться рост русской индустрии. Вместе с тем росло число занятых в производстве рабочих. Жестокая эксплоатация последних вызвала стачки, обращавшие на себя внимание общества и беспокоившие правительство. Уже в 1859 году произошла сильная вспышка забастовочного движения среди рабочих, занятых на постройке железных дорог в разных местах России — в Поволжьи, в Крыму, в Петербургской губернии. Возникали они случайно, перебрасывались с одного строительного участка на другой и ликвидировались бесчеловечными массовыми наказаниями участников. Рабочих пороли розгами, рвали у них бороды, топтали ногами, расстреливали десятками. Изредка рабочие оказывали сопротивление, как, например, в Алтайском округе, где в 1869 году 39 человек заперлись в доме и отстреливались. Через год министр внутренних дел сообщал губернаторам о стачке рабочих на одном из самых обширных предприятий, на Невской бумагопрядильной фабрике близ Петербурга, и тревожно отмечал, что поводом к стачке было стремление рабочих вынудить хозяев увеличить заработную плату. Интересовались рабочим вопросом и в кружке Ковалевских-Евреиновой. Анна Михайловна писала в 1868 году Ю. В. Лермонтовой о своем убеждении, что «только научно-экономическим путем возможно достичь переворота к лучшему. Неопровержимая аксиома политической экономии это, что единственный регулятор в определении богатства — труд. Последний находится в рабской зависимости от капитала, — честные научные люди поняли, что первая забота их должна заключаться в освобождении труда». Теперь это не оказало большого влияния на политическое и социальное мировоззрение Софьи Васильевны. Серьезнее интересовалась она социальным движением в начале восьмидесятых годов, когда лично познакомилась с Г. Фольмаром, П. Л. Лавровьм, М. В. Мендельсоном и другими деятелями революционного движения. Но и тогда эти вопросы не настолько глубоко захватили Ковалевскую, чтобы заставить ее отдать свои незаурядные силы и энергию на прямое и непосредственное служение трудящимся массам. Юлия Всеволодовна Лермонтова (1848–1918), дочь директора московского кадетского корпуса, не обладала ни узостью феминистических взглядов своей двоюродной сестры Евреиновой, ни ее решимостью и отвагой. Это была одна из многочисленных помещичьих дочерей, увлекавшихся во второй половине шестидесятых годов изучением естественных наук. Добившись, при значительном содействии кружка Корвин-Круковских, разрешения родителей на поездку за границу, она училась в Геттингенском университете, получила там в 1874 году степень доктора химии, затем работала некоторое время в Петербурге у знаменитого химика А. М. Бутлерова. Сохранилось письмо Бутлерова от 5 октября 1880 года к Ю. В. Лермонтовой, в котором он убеждает ее не бросать работы в химической лаборатории высших женских курсов, так как ее отказ «ставит нас в порядочное затруднение и несомненно компрометирует чувствительно успех дела… Ваш отказ я очень склонен считать способным превратиться в полную и совершенную разлуку с химией навсегда. Неужели оно так и будет?» Так и вышло на деле. Лермонтова не сумела отдаться целиком науке, как сделала С. В. Ковалевская, перед которой она преклонялась за это. Софья Васильевна затратила зимою 1868–1869 года много энергии на освобождение Лермонтовой из родительской тюрьмы. Ездила даже для этого на три дня в Москву. Ее письма к Юлии Всеволодовне по этому поводу дают ценный материал для выявления общественно-политических взглядов Ковалевской — чрезвычайно пассивных, характерных для выходцев из крупнопомещичьей среды. Письма Ковалевской любопытны также отдельными «нигилистическими» штрихами, рисующими взаимоотношения отцов и детей конца шестидесятых годов. Радуясь тому, что в Москве и Петербурге устраиваются подготовительные курсы, в том числе и для девушек, Софья Васильевна отмечает в письме от 19 января 1869 года, что в ожидании будущих благ большинство подготовленных женщин бежит за границу, и некоторые учатся в Цюрихе. Она и сама ждет не дождется времени, когда сумеет уехать за границу, и не может себе представить «более счастливой жизни, как тихой, скромной жизни в каком-нибудь забытом уголке Германии или Швейцарии между книг и занятий». Ковалевская уверена, что и для Лермонтовой такая жизнь представляется «верхом благополучия». Таковы мелкобуржуазные идеалы Софьи Васильевны. Затем начинается конспирация против родителей, заговор освобождения Лермонтовой из золотой отцовской клетки, от собственного дома, от своих лошадей, от поваров и сладких блюд. «Мне нечего и говорить вам, — заявляет Ковалевская в следующем письме, — что я вполне согласна на официальную переписку», и прилагает официальное послание для родителей Лермонтовой. «Я чуть не плакала, — продолжает она там же, — когда читала ваше письмо, моя бедная, моя милая Юлия. Меня просто злость берет, когда я думаю, как бы мы хорошо зажили с вами и как бы вы дельно и полезно устроили вашу жизнь, если бы этому не мешали два любящие вас существа». Ковалевская понимает, как должно быть Лермонтовой тяжело, видя слезы и отчаяние родителей; но следует призвать на помощь «все мужество и даже всю жестокость», на которую только способна девушка, желающая учиться. «Мужайтесь! Если очень будут трогать вас огорчения родителей, то думайте о собаках, которых пришлась бы вам резатъ, если бы вы достигли вашей цели, и которые смотрели бы на вас жалобными, плачущими глазами». Только не надо терять мужества и решимости. Это ужасно плохо; в трудном деле освобождения может помочь только чрезвычайно сильная воля. Ковалевская и ее подруги признавали сильную волю и непреклонную решимость только в применении к уходу от родителей. Твердость и решительные действия в революционном движении пугали их. «У нас в Петербурге ужасно скверно, — писала Софья Васильевна в марте 1869 года Лермонтовой. — Студенты медицинской академии затеяли бунт и результатом было, конечно, то, что медицинскую академию заперли, на место доброго Нарановича (П. А.) начальником назначили мерзавца Козлова (Н. И.), 60 студентов арестовано, некоторые из них уже высланы в дальние губернии, но что нам всего печальнее — это то, что женщин, которых было уже совсем, пустили в академию, теперь, конечно, снова выгонят. Это все ужасно грустно и тем грустнее, что причина всей истории самая ничтожная». Причина студенческой истории в медико-хирургической академии не была ничтожной, как казалось Софье Васильевне. Развившееся под влиянием общего революционного брожения в России середины 50-х годов, вызванного усиливавшимися крестьянскими восстаниями, и подавленное в 1861 году, студенческое движение в Петербурге возобновилось в конце шестидесятых годов. Большое значение для усиления его имела проповедь М. А. Бакунина, основоположника воинствующего безбожия и анархизма, имевшего большое влияние на выработку идей народничества. Тогда как Маркс считал необходимым завоевание пролетариатом государственной власти, укрепление диктатуры пролетариата и усиление классовой борьбы, подготовляющих ликвидацию классов и отмирание государства, — Бакунин, как мелкобуржуазный революционер, проповедывал, вместо использования пролетариатом государственной власти в качестве орудия борьбы за свое освобождение, разрушение всякого государства немедленно, а также отрицал диктатуру пролетариата.
 Автограф С. В. и А. В. Корвин-Круковских (1868 г.)
Автограф С. В. и А. В. Корвин-Круковских (1868 г.)
 Н. П. Суслова (60-е годы)
Н. П. Суслова (60-е годы)
В первом номере своего женевского журнала «Народное дело» за 1868 г. Бакунин указывал молодежи на бесплодность мирных средств борьбы за освобождение трудового народа от эксплоатации: «Не будем себя обманывать и скажем себе, что… путь освобождения народа посредством науки для нас загражден; нам остается поэтому только один путь, путь революции». В помещенной там же программе «Народного дела» между прочим заявлялось: «Мы, сторонники атеизма и материализма, мы хотим уравнения прав женщин, уничтожения семейного права и брака, как церковного, так и гражданского; капитал и все орудия производства должны принадлежать работникам, земля — тем, кто ее обрабатывает своими руками». В своих прокламациях студенты требовали возвращения им тех прав, которые им были уступлены после смерти Николая. Они заявляли, что лучше пойдут в Сибирь и крепость, чем уступят: «Общество должно поддержать нас, потому что наше дело — его дело. Относясь равнодушно к нашему протесту, оно кует цепи рабства на собственную шею. Протест наш тверд и единодушен, и мы скорее готовы задохнуться в ссылках и казематах, нежели задыхаться и нравственно уродовать себя в наших академиях и университетах». Софья Ковалевская больше всего боялась твердых и единодушных протестов на политической почве. Она готова была мириться со всякими прядками, установленными правительством в высшей школе, лишь бы позволили женщине учиться. Софья Васильевна и ее подруги считали необходимым бороться за раскрепощение женщин от цепей буржуазного строя, но совершенно не были подготовлены к мысли о борьбе за полное раскрепощение всех трудящихся. Это казалось им опасным и вредным увлечением. «Нигилизма» Ковалевской хватило на робкие, полуфантастические мечтания об устройстве гимназии для девочек и мальчиков, о врачебной деятельности среди ссыльных женщин. Типичная, хотя и лучшая, представительница своего класса, она с ужасом смотрела на попытки революционных групп начать великую историческую борьбу с дворянством и царизмом. Анна Васильевна не сумела проявить настойчивости и твердости даже в деле собственного освобождения. Ковалевские звали ее в Петербург, подбадривали, убеждали, стыдили, Софья Васильевна приводила в письмах к сестре слова Владимира Онуфриевича о том, что та «избаловалась, не выдержит сцены с родителями», когда он приедет за ней. Ковалевский твердил, что она должна быть самостоятельной. Он готов приехать выручать ее: только бы у Анюты хватило решимости поддержать его, когда он наткнется на сопротивление генерала. Анюта бродила по комнатам, точно «забытая», по словам родных, тосковала, плакала, ни на что не решалась. Ковалевским писала, что готова на все, да вот боится, не будет ли Владимиру Онуфриевичу трудно ехать. Уж лучше обвенчаться с кем-нибудь. Поиски фиктивных женихов для Анны Васильевны были безуспешны. После свадьбы Софы Корвин-Круковский был очень строг по отношению к кандидатам в мужья для его старшей дочери. Приходилось искать людей, отвечающих представлению Василия Васильевича о настоящем дворянстве, о солидности в смысле материального обеспечения. Пытались было использовать для нее «нигилистические» настроения старшего брата Софиного мужа, А. О. Ковалевского, который был женат, имел уже в 1868 году дочь, но не удосужился за разъездами по научно-исследовательским делам оформить свой брак. Александр Онуфриевич Ковалевский (1849–1901), как сказано было выше, ушел в 1859 году из корпуса инженеров путей сообщения на физико-математический факультет Петербургского университета, где после полуторагодичного перерыва для занятий в Гейдельберге получил в 1862 году степень кандидата. После этого он снова уехал для научных занятий за границу, возвращаясь в Россию только для выполнения неизбежных формальностей, связанных с получением кафедры: для защиты магистерской и докторской диссертаций; кратковременного чтения лекций в качестве приват-доцента и т. п. В 1868 году А. О. Ковалевский был профессором зоологии в Казани и пользовался значительной известностью во всем ученом мире. Его работы в области развития беспозвоночных уже тогда доставили ему славу пролагателя новых путей в естествознании и расценивались в Европе так же высоко, как работы Дарвина в области развития позвоночных. Познакомившись с А. О. Ковалевским, Софья Васильевна нашла его «очень, милым». В первую же встречу с братом и его фиктивной женой Александр Онуфриевич «толковал» им «о необходимости тесной связи и любви между детьми и родителями». Софья Васильевна видела в этом желание старшего поучать младших, вполне «простительное в отце семейства». Это не лишало ее надежды осуществить план фиктивного брака между Александром Онуфриевичем и Анютой, так как «в остальном он нигилист сильный» и даже советовал Софе «непременно переодеться мальчиком», если ей не позволят посещать лекции в качестве женщины. Симпатичный Софье Васильевне с точки зрения «нигилизма», А. О. Ковалевский казался ей «далеко неприятным и вообще нелепым человеком во многих отношениях», но фиктивному браку это мешать не должно. Однако, фактическая жена А. О. Ковалевского, Т. К. Семенова, была в деле фиктивного брака ее мужа с Анютой такого же мнения, как М. А. Сеченова относительно Ивана Михайловича. Через несколько лет она оформила свой союз с Александром Онуфриевичем. Тем не менее она всю жизнь сохраняла чувство неприязни к Софье Васильевне, так как вообще не любила никаких «нигилизмов» и «нигилисток». Ковалевская перенесла свои надежды на И. И. Мечникова (1845–1916) — молодого, талантливого зоолога, хорошего знакомого Владимира Онуфриевича и ближайшего друга и товарища его старшего брата. Правда, Мечников чужд «нигилизму», даже салонному, дворянскому, самому «возвышенному», но придерживается передовых взглядов вообще, бесконечно предан науке и, конечно, должен выручить девушку, желающую освободиться от гнета предрассудков и косности. При первом же свидании она заговорила с ним о фиктивном браке и сразу увидела, что «надежд на него никаких не может быть» — он все время толковал о семейном счастье. После этого разговора Софья Васильевна демонстративно «не стала обращать на него внимания». Наконец, убедили Анюту поговорить с отцом решительно, и Василий Васильевич отпустил старшую дочь в Петербург. Он даже разрешил ей отправиться за границу, но с непременным условием, что Анюта будет находиться все время при младшей, замужней сестре. До него доходили слухи о чем-то ненормальном в Софином браке, но все-таки она дама, а девице, даже великовозрастной, лучше быть в семейной обстановке. В начале апреля 1869 года Ковалевские вместе с Анной Васильевной выехали из Петербурга. Софья Васильевна с сестрой отправлялись в Германию, В. О. Ковалевский предполагал обосноваться для учения в Вене.
В ГЕЙДЕЛЬБЕРГЕ
Софья Васильевна Ковалевская уезжала из России с восторженными мечтами о предстоящем ученьи в Гейдельберге. Она предвкушала радость от возможности погрузиться в лучший источник чистой науки, была счастлива при мысли о том, что сможет учиться физике и физиологии у Гельмгольца, химии — у творцов спектрального анализа Бунзена и Кирхгофа, прослушает курс математики у Кенигсбергера — ученика Вейерштрасса. В. О. Ковалевский выезжал из Петербурга с тяжелым сердцем и печальными предчувствиями ввиду плохого оборота издательских дел: он оставлял грозящих неприятностями кредиторов, которым должен был около 20 000 рублей. На разных складах за ним числилось изданий на сумму в 100 000 рублей, но, как он сам говорил брату, актив был проблематичный, а пассив весьма реальный. Ковалевский бежал от опротивевших ему издательских дел. Он отдал весь огромный запас своих изданий А. А. Черкасову и В. Я. Евдокимову только за то, что они взяли на себя обязательство выплачивать его долги из поступлений от продажи его книг. Проездом через Вену Ковалевская получила оттамошнего профессора физики Ланге разрешение посещать его лекции. Однако, она этим разрешением не воспользовалась, а к другим профессорам, и не обращалась. Во первых, Софья Васильевна слышала плохие отзывы о венских математиках, во вторых, жизнь там была не по карману Ковалевским. Генерал Корвин-Круковский определил Софе очень небольшое содержание на ее заграничную жизнь; из этой скромной суммы приходилось помогать другим освобожденным. Фиктивный муж Софьи Васильевны не мог давать, ей денег: ему с братом едва хватало доходов от их Шустянки на самую скромную жизнь. Все это время в переписке А. О. и В. О. Ковалевских встречаются жалобы на безденежье или сообщения о том, что они жалкими грошами выручали друг друга из тяжелого материального положения. Софья Васильевна отправилась в Гейдельберг — обетованную землю всех своих желаний. Гейдельбергский университет — древнейший в Германии. Богатая библиотека и другие удобства привлекли в Гейдельбергский университет лучших немецких ученых. Очень часто там собиралась целая группа выдающихся исследователей, делавших своими открытиями переворот в науке. Таким же было положение дел в университете в середине XIX столетия. Несмотря на это, в Гейдельберге, как почти во всех других немецких университетах, на женщин смотрели, как на элемент, не только не содействующий развитиию науки, но прямо-таки нежелательный в высшей школе. Русской женщине было почти так же трудно попасть туда, как и в отечественные университеты. Немецкие профессора значительно превосходили тогда русских в научном отношении. В политическом смысле они быль такие же трусы и филистеры, как царские чиновники на кафедрах. Немецкие филистеры считали тогда, как и в наше время, что «главная задача женщины состоит в том, чтобы облегчить супругу его тяжелый жребий и работу его ума, держа его вдали от неприятностей повседневной жизни; этим она дает человечеству самое лучшее, что с своей стороны может дать, и доставляет себе и мужу максимум счастья». Тупые пошляки в своих общественно-философских рассуждениях, эти выдающиеся специалисты в научной области заявляли, что «женщины нашего времени, независимо от расы и национальности, не годятся для выдающихся научных работ»; что влияние женщин ведет к «радикальному подавлению оригинальности»; что вообще следует «предпочитать тех женщин, которые охотно и с радостью участвуют в сохранении рода». Конечно, исповедывавшие такие взгляды на роль женщин в науке гейдельбергские профессора были против допущения женщин в их аудитории и лаборатории. Ковалевская в Гейдельберге рассчитывала на помощь знавшего ее профессора Фрибрейха, но тот был в отсутствии. Пришлось обратиться к профессору Кирхгофу. Творец спектрального анализа Густав Кирхгоф (1824–1887) был выдающийся ученый, превосходно знал математику, плодотворно прилагал эти знания к физике и механике, обладал огромной способностью обобщать явления природы. Маленькое, худое тело Кирхгофа было измучено болезнями, и он передвигался на костылях, но в этом теле жил большой, острый ум. Кирхгоф был чрезвычайно учтив и любезен. Но когда к нему явилась молодая русская женщина и заявила, что хочет учиться физике, профессор изумился и сказал, что это необыкновенное желание ему непонятно, что за разрешением посещать его лекции надо обратиться к проректору университета. Софья Васильевна пошла к проректору, профессору Коппу, и передала ему рекомендательную карточку Фрибрейха, вернувшегося к тому времени в Гейдельберг. Профессор Копп прочел рекомендацию, внимательно осмотрел просительницу и сказал, что не может взять на себя «такое неслыханное разрешение». Пусть каждый профессор поступает в этом вопросе так, как считает нужным. Ковалевская пришла в отчаяние и обратилась снова к Кирхгофу. Последний удивлялся этой русской, с такой странной настойчивостью стремящейся учиться, и сказал, что со своей стороны будет рад иметь ее в числе своих слушателей, но что «все-таки надо еще переговорить с профессором Коппом». Так почтенные профессора отсылали один к другому молодую женщину, пришедшую к ним учиться. Наконец, проректор объявил, что передает дело на обсуждение особой комиссии. Задерганная волокитой, Ковалевская хотела уже уехать из Гейдельберга, но совершенно неожиданно дело устроилось. Софье Васильевне удалось случайно узнать, что гейдельбергские светила науки смущены ее семейным положением. Одна барыня, никогда не видевшая Ковалевскую, сообщила профессорам, что эта русская, заявляющая будто она замужем, — вдова. Кирхгофу это показалось подозрительным и опасным. Был еще один пункт, вызывавший сомнение немецких профессоров по вопросу о допущении русской женщины в университет. В начале 60-х годов они утверждали, что только длинноголовая раса обладает всякими талантами. Русские же, как короткоголовые, отличаются, в лучшем случае, одной лишь способностью подражания, а вообще они варвары. Эти умные вещи ученые немецкие профессора сообщали в начале шестидесятых годов в присутствии своих русских слушателей. Но к концу десятилетия, когда через немецкие университеты, и, главным образом, гейдельбергский, прошли такие русские, как Д. И. Менделеев, А. П. Бородин, И. М. Сеченов, А. А. Потебня, С. П. Боткин, Александр Веселовский, И. И., Мечников и многие другие, немецкие ученые филистеры стали признавать, что отдельные короткоголовые могут способствовать развитию наук. Однако, допускали они это лишь в виде исключения для мужчин и совсем не признавали этого свойства за русскими женщинами. Недоверие немецких профессоров к учащимся славянам усилилось после покушений поляка Березовского и русского Каракозова на племянника их короля, русского царя Александра II. Немецкие профессора были верными подданными своего монарха и вместе со всей феодально-буржуазной Германией готовились под руководством Бисмарка к походу на Париж. Полицейский патриотизм мешал им понимать научные и социальные стремления русской революционной и радикальной молодежи. Спокойнее и вернее будет — не допускать русскую женщину в университет. Софье Васильевне пришлось выписать в Гейдельберг мужа, послать его к недоверчивым профессорам, как живое свидетельство ее семейной благонадежности. Владимир Онуфриевич сумел успокоить подозрительных профессоров ссылкой на свое близкое родство с А. О. Ковалевским, научная репутация которого стояла высоко в их глазах. Комиссия решила, в виде исключения, допустить Софью Васильевну к слушанию лекций у двух-трех профессоров — по математике и физике. Ковалевская торжествовала: все-таки в Западной Европе легче, чем в любезном отечестве, преодолеть политическую косность и обойти полицейскую благонамеренность ученых чиновников. Она радовалась также при мысли о том, что другим женщинам это удастся легче и скорее, чем ей. Но долго еще преследовали Софью Васильевну мещанские сплетни гейдельбергских университетских обывателей. В июне 1869 года Владимир Онуфриевич сообщал брату в Казань: «Про Софу в здешних газетах пишут разный вздор, и все здешние профессора, а особенно доценты, сплетничают отчаянно». Софья Васильевна старалась не обращать внимания на сплетни и пересуды. Она записалась на целый ряд курсов в отведенной ей области; набрала 18 часов лекций в неделю, а вскоре довела их до 22 часов, из них 16 — чистой математики; хотела прилежанием и усердием пристыдить фарисеев, доказать, что женщины способны заниматься наукой и могут содействовать ее развитию. Гейдельбергские студенты шестидесятых годов были типичные немецкие бурши, занимавшиеся пирушками, попойками и дуэлями. В свободное от занятий время они прогуливались по городу со своими огромными догами, наряженные в разноцветные костюмы своих землячеств, с шелковыми лентами через плечо, в самых причудливых головных уборах. Они принадлежали в большинстве к классу крупных помещиков, и пренебрежительно смотрели на своих немногочисленных товарищей из мещан. Проникшись вместе с табачным дымом и пивным перегаром средневековыми взглядами своих учителей на роль и назначение женщин, гейдельбергские бурши как удостоверяет учившийся в Гейдельберге одновременно с Ковалевской К. А. Тимирязев, глазели на Софью Васильевну с глупо-недоумевающими физиономиями. Но Софа не замечала этого: она рада была возможности учиться у знаменитых профессоров, студенты казались приятными и ласковыми, заботящимися об ее удобствах, старающимися не смущать ее взглядами. Все хорошо в университетском городке, вплоть до изумительной чистоты тротуаров и мостовых. Но особенно хороша там природа! Гейдельберг находится в одной из лучших по климату местностей Германии, в красивой узкой долине на левом берегу реки Неккара, притока Рейна. На высоком холме над городом — старый, пышно разросшийся парк, живописные здания и обросшие плющем развалины замка, относящегося к началу XIV века. Вместе с приехавшей вскоре из Москвы Ю. В. Лермонтовой и перекочевавшим из Вены В. О. Ковалевским, Софья Васильевна совершала прогулки в окрестностях Гейдельберга. Уходили далеко от города. Владимир Онуфриевич занимался своими палеонтологическими и геологическими поисками. Ковалевская и Лермонтова резвились, как малые дети. Радости и веселья было много. Софа была счастлива безмерно. С мужем у нее установились особенные, чисто поэтические отношения. С ним приятно было проводить время в восторженных спорах о всевозможных отвлеченных предметах. Строили планы «хорошей» жизни, служения человечеству, работы для чистой науки. Ковалевская победила мещанские предрассудки гейдельбергских университетских кругов. Убедившись, что Софья Васильевна, не принадлежит к тем «опасным русским нигилистам», которые покушаются на целость алтарей и тронов, подвергая риску домашний уют благонамеренных людей, профессора отказались от своего предвзятого мнения о молодой женщине. Ее трудолюбие, работоспособность и быстрое постижение научных истин привлекли к ней симпатии различных слоев гейдельбергского общества. Профессора, у которых Ковалевская занималась, приходили в восторг от ее способностей, были очарованы ею. Слухи об удивительной русской студентке распространились по городу. Матери показывали ее на улицах своим детям, как пример благонравия и скромности. При отъезде весною 1869 года из России, Ковалевские обещали родителям Софы приехать на лето в Палибино вместе с Анютой, но обманули их. Каждого из них по-своему закружил, завертел вихрь заграничной жизни. Вместо Витебской губернии Софья Васильевна с мужем отправились на последние гроши в Лондон. Здесь познакомились с учеными, писателями, мыслителями: с Гексли, Спенсером, Ральстоном, Льюисом, Джорджем Элиот и другими. Знаменитая английская романистка Джордж Элиот (литературный псевдоним Марии-Анны Эванс, 1819–1880) знала уже о Ковалевской от одного английского математика, слышавшего о ней в гейдельбергских профессорских кругах. Она захотела познакомиться с интересной русской женщиной, пригласила ее с мужем на свой приемный воскресный день и повторяла эти приглашения во все время пребывания Ковалевских в Лондоне. В своем дневнике Джордж Элиот записала 5 октября 1869 года: «В воскресенье я принимала визит одной интересной русской парочки — Ковалевских: она, премилое существо, чрезвычайно привлекательное и скромное в речах и обращении, изучает в Гейдельберге математику, а он — симпатичный и умный человек, занимается изучением конкретных наук, специалист по геологии». У Джордж Элиот и состоялось знакомство Ковалевской с английским буржуазным философом и социологом Гербертом Спенсером. Представляя их друг другу, романистка нарочно не назвала Софье Васильевне имя ее собеседника, но подзадорила обоих несколькими словами о роли женщины в умственной жизни человечества. — Как я рада, — сказала она Спенсеру, — что вы пришли сегодня. Я могу вам представить живое опровержение вашей теории — женщину-математика. — Позвольте вам представить моего друга, — продолжала она, обращаясь к Софье Васильевне. — Надо вас только предупредить, что он отрицает самую возможность существования женщины-математика. Он согласен допустить, в крайнем случае, что могут время от времени появляться женщины, которые по своим умственным способностям возвышаются над средним уровнем мужчин, но он утверждает, что подобная женщина всегда направит свой ум и свою проницательность на анализ жизни своих друзей и никогда не даст приковать себя к области чистой абстракции. Постарайтесь-ка переубедить его. Спенсер уселся рядом с Ковалевской и посмотрел на нее с любопытством. Разговор между ними велся, конечно, на тему о правах и о способностях женщин и о том, будет ли вред или польза для всего человечества вообще, если много женщин посвятят себя изучению наук. Собеседник Софьи Васильевны сделал несколько полуиронических замечаний, главным образом, с целью вызвать ее на возражения. Живо помнившая еще борьбу в отцовском доме за право заниматься любимой наукой, только что воевавшая за это в Гейдельберге, 20-летняя Ковалевская во всем, что касается женского вопроса, была восторженной неофиткой. Ее обычная застенчивость пропадала, когда ей приходилось отстаивать права женщин на занятие наукой. Увлеченная спором, Софья Васильевна не заметила, что все остальные гости мало-помалу смолкли, прислушиваясь с любопытством к разговору, который становился все оживленнее. Три четверти часа длился ее диспут с Спенсером, пока Джордж Элиот не решилась прекратить его. — Вы хорошо и мужественно защищали наше общее дело, — сказала она, наконец, Ковалевской с улыбкой, — и если, мой друг Герберт Спенсер все еще не дал переубедить себя, то я боюсь, что его придется признать неисправимым. Тут только узнала Софья Васильевна, кто был ее противник, и поняла, что все буржуазные ученые — неисправимые реакционеры в области философии и политики. Из Лондона Ковалевские вернулись на континент и застряли в Париже из-за отсутствия денег на дальнейшее путешествие. Заложили часы, чтобы добраться до Гейдельберга. В тогдашних письмах Софьи Васильевны часто встречаются сообщения об отсутствии денег. «Несмотря на все мое желание помочь твоей протеже, — пишет она мужу в 1870 году, — нам решительно невозможно взять ее к себе. Куда нам! Мы эту зиму только того и смотрим, как бы самим не попасть в горничные». Это был ответ на предложение Владимира Онуфриевича гейдельбергской колонии «нигилисток» приютить, хотя бы в качестве прислуги, какую-то немку, желавшую учиться. Денег не было, а Софье Васильевне сильно хотелось побывать в Венеции, во Флоренции, Неаполе или «каком бы нибудь другом таком славном месте», где имеется хороший театр. Материальные затруднения переживались, однако, легко. Молодость и научный энтузиазм скрашивали жизнь, делали ее веселой и содержательной. Но счастливая и содержательная жизнь с подругами и фиктивным мужем продолжалась недолго. Так как в квартире, где жили Софья Васильевну с Лермонтовой и В. О. Ковалевский, не было места для других жильцов, то Владимир Онуфриевич переехал на новую квартиру, уступив свою комнату для приехавшей в Гейдельберг А. М. Евреиновой. Жена часто посещала его и проводила у него целые дни; иногда они предпринимали вдвоем большие прогулки. Софья Васильевна делала это тем охотнее, что жившая первое время в Гейдельберге Анюта и Евреинцова часто, по словам Лермонтовой, «нелюбезно обращались с Ковалевским; у них были на то свои причины». Вскоре хорошие отношения между членами кружка испортились. В фиктивном браке Ковалевских наметились трещины. Евреинова была гораздо старше Софьи Васильевны, более ревностная сторонница освобождения женщины и страстная противница мужчин. Она болела за Софу при виде намечающегося сближения между фиктивными супругами, оберегала «воробышка» от Владимира Онуфриевича и сурово требовала от обоих соблюдения первоначального договора: фиктивный брак должен оставаться нерушимым. Эти взгляды Евреиновой разделяла Анна Васильевна. Под их влиянием отношения между фиктивными супругами испортились. К этому времени В. О. Ковалевский уже бесповоротно решил заниматься специально палеонтологией, что требовало постоянных разъездов по разным странам Европы, а это, в свою очередь, ухудшало отношения между ним и женой. Усиленные занятия Владимира Онуфриевича совершенно не радовали Софью Васильевну. Личная непритязательность Козалевского раздражала ее, а его постоянные разъезды по научным делам она считала оскорбительными для себя. По словам Ю. В. Лермонтовой, Софья Васильевна начала ревновать мужа к его занятиям, так как ей казалось, что они ему вполне заменяют жену и что она при этом отступает на задний план. Тут и сказалась та черта ее характера, о которой она еще до свадьбы писала сестре: «Для меня только трудно жить одной; мне непременно надо иметь кого-нибудь, чтобы каждый день любить». В. О. Ковалевский также жаловался на тяжелое положение, созданное для него фиктивным браком. Подробная характеристика супружеских отношений Ковалевских дана в большом письме Владимира Онуфриевича к брату из Парижа от 10 ноября 1871 года. Приведу из него небольшой отрывок: «Я бы желал, Саша, чтобы разные вещи, которые я буду писать о своих отношениях с Софою, остались только между нами двумя и, так как этот вопрос тебя интересует, то я потолкую об нем подробно. Я Софу чрезвычайно люблю, хотя не могу сказать, чтобы я был, что называется, влюблен; еще вначале это как будто бы развивалось, но теперь уступило место самой спокойной привязанности. Во время нашей жизни я, конечно, если бы очень хотел этого, мог бы быть ее мужем, но решительно всегда боялся этого по многим причинам; во-первых, уже потому, что как-то нехорошо, сойдясь так, как мы сошлись, и заключивши брак по надобности, вдруг перешли бы в настоящий; я как будто стянул бы себе жену, и это мне неприятно; во-вторых, Софа, по-моему, решительно не может быть матерью; это ее решительно погубит; она и сама боится этого ужасно; это оторвет ее от занятий, сделает несчастною и, кроме того, я думаю, она будет дурною матерью; в ней нет ни одного материнского инстинкта, и ребят она просто ненавидит. В-третьих, я сам не могу взять на себя ответственности быть мужем и отцом, особенно с таким человеком, как Софа. Я буду дурным в обоих отношениях. Софа такой человек, о котором надо заботиться, как об ребенке, непременно быть всегда неотступно с нею; одна она решительно вечера провести не может и разлюбит сейчас человека, который не будет с нею постоянно, и полюбит такого, на которого, ей покажется, что она может положиться и что он никогда не будет оставлять ее. И в моем характере и в моем занятии — некоторое кочевание и шлянье; она ненавидит это; железная дорога и поезд наводят на нее отвращение. — Обещать, что я изменюсь и стану Симеоном-столпником, я не могу и буду несчастен глубоко, чувствуя, что привязан я месту; за мною она не поедет или, поехавши из нужды, будет тосковать. Ей нужна спокойная и, главное, веселая жизнь на одном месте и много коротких знакомых и друзей; я ей этого доставить не могу; напротив, я расхожусь сейчас с людьми, с которыми она коротка; все-таки является ревность, мелочи и т. д.». Ни до чего дотолковаться не могли. Дошли до того, что и «нигилизм»-то свой проклинали. «Надо бы стараться расстроить законными путями однажды сделанную глупость, которая для нее, конечно, еще тяжелее, чем для меня, — писал В. О. Ковалевский в октябре 1872 года. — Ведь подумать страшно, какое же ее положение; а в будущем, а любовь, а дети! — Все это страшно усложнит дело… Я даже просил Софью Васильевну, когда она станет писать работы, не писать их под моею фамилиею, потому что уж и теперь люди надоедают справками, а тогда проходу не будет. В России-то это не важно, а входя в семейные дома за границей, особенно здесь, совсем иное дело. Здесь все подобные нигилистические шутки дурно пахнут». Эта каторга тянулась все пять лет учения Ковалевских за границей. Софья Васильевна и Владимир Онуфриевич то съезжались, то разъезжались, мирились и вновь ссорились, никак не могли преодолеть ненормальности своих отношений. Это зависело, с одной стороны, от крепостнических условий церковного брака, с другой стороны, от их собственной нерешимости, от неумения порвать с бытовыми условиями буржуазного правопорядка. Как завидовала, например, С. В. Ковалевская другой генеральской дочери, прибывшей по ее примеру в Гейдельберг учиться математике, Наташе Армфельд (1850–1887). Дочь профессора и инспектора одного из самых привилегированных женских учебных заведений, Николаевского института в Москве, Н. А. Армфельд училась там же среди дочерей других генералов и крупных помещиков. Как и многие ее подруги, она завела связи в радикальных кружках и прониклась революционными идеями эпохи. Решив служить трудовому народу в области просвещения, Наташа захотела раньше пройти университетский курс и отправилась в Гейдельберг. Поселившись в квартире, где жила Софья Васильевна, Армфельд при ее содействии добилась разрешения слушать лекции Кенигсбергера и других профессоров. Веселая и жизнерадостная, она, наряду с успешными занятиями математикой, уделяла также много времени музыке и живописи, в которых проявила незаурядные способности. Придя к заключению о необходимости посвятить свои силы делу народа, Н. А. Армфельд скоро поняла, что мирным путем — только одними дипломами немецких университетов — не добиться в царской России ни освобождения народа вообще, ни раскрепощения женщины в частности. Она решила оставить Гейдельберг для непосредственной работы среди крестьян. Царское правительство сурово преследовало распространение знаний в народной массе нелегальным путем, и Наташа сделала из этого дальнейшие выводы. Она перешла к активной революционной деятельности, примкнула в 1873 году к московскому кружку чайковцев, занималась пропагандой среди крестьян. Несколько раз Армфельд подвергалась арестам, скрывалась, в 1879 году была арестована в Киеве после вооруженного сопротивления и послана на каторгу. При всех обстоятельствах своей тяжелой, изобилующей страданиями жизни, Наталья Александровна никогда не теряла веры в торжество того дела, которому служила. С пути на каторгу она писала своей подруге по революционной работе, В. Н. Батюшковой, что не поддается унынию, уверена, что «скоро, скоро братья» по делу «будут отомщены». «Я живу накануне революции, чувствую ее». На каторгу Армфельд отправлялась, как сама заявляла, «с определенной целью — пожертвовать собой за известное дело». Умерла Н. А. Армфельд на Каре, в вольной команде, от туберкулеза легких, нажитого вследствие самоотверженности и пренебрежения своим здоровьем. С. В. Ковалевская не сумела полностью освободиться от власти классовых предрассудков своего класса, и это предопределило направление ее дальнейшей жизни. Научные занятия Софьи Васильевны в Гейдельберге шли успешно. Там окончательно определился ее дальнейший математический путь. Кенигсбергер признавал, что Ковалевская достаточно подготовлена для занятий под руководством величайшего математика эпохи — Вейерштрасса. Надо было переходить в Берлинский университет. Но прусское юнкерство, готовившееся под руководством Бисмарка к созданию Германской империи, не менее русских помещиков боялось ученых женщин. Рабски прислушивавшиеся к политическим мнениям своих господ, берлинские профессора не хотели впустить Софью Васильевну в свой университет в качестве студентки. Пришлось продолжать занятия на старом месте. Анна Васильевна Корвин-Круковская не долго пожила в Гейдельберге. Уезжая из России, она не ставила себе специально-образовательных целей. Анюта надеялась найти за границей «хорошее» дело, осуществить смутные грезы палибинского отшельничества. Ей хотелось развить свой писательский талант, а для этого совсем не нужно было жить взаперти вместе с Софой в ее студенческой комнате. Ей хотелось изучать жизнь, посещать театры, жить в литературном центре: вырвавшись из-под родительской опеки, надо смело пробивать себе дорогу. «Анна, которой однообразие жизни в Гейдельберге быстро прискучило, отправилась в Париж, не спросив на это у родителей позволения и даже не уведомив их о своем переезде», — сообщает Ш. Леффлер со слов Софьи Васильевны и Лермонтовой. Чтобы скрыть это преступление от родителей, Анюта сносилась с ними через Софу, которой посылала свои письма для отправления в Палибино из Германии. Но родители как-то дознались, что Анюта ушла из-под присмотра младшей сестры, и Василий Васильевич перестал посылать старшей дочери деньги. Пришлось искать других источников существования. «В Париже живет Анюта, — писал В. О. Ковалевский брату в августе 1869 года, — так как она не хочет ехать в деревню, то поступила там в типографию и уже выучилась порядочно набирать; надеется, что через месяц будет зарабатывать 120 франков».
В ПАРИЖСКОЙ КОММУНЕ
Анна Васильевна, собиралась в Париж на короткое время, надеясь, что отец не узнает об ее самовольном отъезде от замужней сестры, а если узнает, то она сумеет вымолить у него прощение. Анюта не знала, что в Париже воплотятся в жизнь мечты о служении трудовому народу, о слиянии с ним, о содействии радиальному перевороту. Маркс в заключительных строках к «Восемнадцатому брюмера Луи Бонапарта» еще в 1852 году писал, что «гонимый противоречивыми требованиями своего положения… Бонапарт погружает все буржуазное хозяйство в сплошной хаос… срывает священный ореол с государственной машины, профанирует ее, делает ее одновременно отвратительной и смешной». Но движение против смешного и отвратительного режима Наполеона III приняло серьезный характер только в начале шестидесятых годов, когда передовые французские рабочие стали втягиваться в политическую борьбу. С образованием в середине этого десятилетия парижских секций Интернационала, среди французских рабочих масс велась деятельная социалистическая пропаганда, и либеральные уступки правительства второй империи перестали удовлетворять требованиям самых широких буржуазных и мелкобуржуазных слоев населения. Радикальная студенческая молодежь сближается с рабочими, знакомит их с историей революционного движения и проникается через них пролетарским мировоззрением. Благодаря такому взаимодействию, движение растет вширь и вглубь. К концу шестидесятых годов кризис назревает, нужен только внешний повод для свержения монархии. Смысл происходящего ясен даже для людей, чуждых пролетариату, он ясен даже для дочери крупного русского помещика и генерал-лейтенанта царской армии. Все читанное Анной Васильевной в русских радикальных изданиях, все слышанное в петербургских нигилистических кружках; приобретает значение живого дела, когда она занимает место в рядах парижского пролетариата, становится членом семьи типографских рабочих. Здесь же она знакомится со своим сверстником, студентом-медиком Виктором Жакларом, участником революционного движения с 1865 года, завершившим свое политическое воспитание в тюрьмах, одним из близких людей вечного узника Огюста Бланки. Виктор Жаклар, родившийся в 1843 году в Меце, происходил из крестьянской семьи. В 1863 году он переехал в Париж и поступил в высшую медицинскую школу. Тогда же он познакомился с Огюстом Бланки, который произвел на него большое впечатление и вовлек в социальное движение. В 1865 году Жаклар был за это исключен из университета, а в 1866 году за участие в манифестации студентов-бланкистов приговорен к тюремному заключению. Отбыв наказание, Жаклар стал заниматься агитацией среди парижских рабочих. В 1868 году он вступил в «Альянс социальных революционеров», основанный М. А. Бакуниным для подготовки всеевропейской социальной революции, и постепенно стал освобождаться от политического влияния Бланки, сохранив, однако, хорошие отношения с «вечным узником». А. В. Корвин-Круковская посещала рабочие собрания, участвовала вместе с Жакларом в заседаниях революционных кружков, готовилась к социальной революции. Родителям, конечно, не сообщала ни о переезде в Париж, ни о своем фактическом браке, который заключен был, по-видимому, в конце 1869 года. Наполеон III прибегнул к испытанному и несколько раз оправдывавшему его надежды средству для укрепления своего шатающегося трона — к войне. Провоцируя войну с Пруссией, он усилил преследования французских революционеров. Создавались специальные процессы против членов Интернационала. К одному из них притянули Жаклара, которого обвиняли в заговоре против императора. В это время франко-прусская война была уже объявлена. Жаклару грозило тяжелое наказание, и он убежал с женой в Швейцарию. Из Женевы Анна Васильевна сообщила родителям, якобы из Гейдельберга, о встрече с Жакларом и о своем желании вступить с ним в брак. Отец ничего не ответил. Анна Васильевна волновалась, писала сестре и Евреиновой, что с их стороны бессовестно оставлять ее без известий о том, что делается в Палибине: «Как непостижимо, что от родных все еще нет ни слуху ни духу. Я объясняю это очень худо; уж не узнали ли они что-нибудь про нашу жизнь в Париже и не озлились ли так, что и отвечать не хотят». Чтобы выйти из тупика, надумала написать родителям снова, объявить им о своем отъезде из Гейдельберга в Женеву и о том, что, «не получая от них ответа и не желая долее медлить, решила переехать к Жаклару». А так как паспорта не достаточно для оформления брака, то Анюта настоятельно просит выслать ей документы, чтобы прекратить ее неловкое положение. Жаклар в качестве беглеца и эмигранта не мог зарабатывать достаточно средств для содержания жены. Василий Васильевич не высылал денег. Софа могла уделять очень мало в помощь сестре. Анюте пришлось приняться за уроки: проживавшие в Женеве русские нуждались в учительницах для своих детей. В Женеве Анна Васильевна сблизилась с русской эмигрантской колонией, с некоторыми подружилась. Вступила в русскую секцию Интернационала и перевела для ее издательства, как сообщала С. В. Ковалевской, «кое-какие брошюрки Маркса по Интернационалу», для приложений к номерам «Народного дела», русского журнала, издававшегося в Женеве в 1868–1870 годах под редакцией М. А. Бакунина, А. А. Серно-Соловьевича, Н. И. Утина и других. В это время главным редактором журнала был Утин, который до самой середины семидесятых годов был одним из наиболее близких к Марксу русских революционеров-эмигрантов. Какие именно брошюры Маркса перевела тогда А. В., установить не удалось. Кроме того Анна Васильевна написала тогда детскую сказку «Маленький савояр» для журнала «Семейные вечера», издававшегося С. С. Кашперовой. Софью Васильевну и Владимира Онуфриевича начало франко-прусской войны, объявленной 19 июля 1870 года, застало в Гейдельберге. Учиться стало там невозможно. Ковалевский давно собирался в Англию для уточнения и углубления своих знаний. Софья Васильевна тоже хотела поработать с английскими математиками. Супруги поехали в Лондон, где поселились недалеко от Британского музея. У обоих — «твердое намерение сильно работать», но со дня объявления войны «ничего научного не лезет в голову, и эти подлые военные известия вытесняют из мозга и те соображения, которые там были». Война мешает заниматься, отвлекает внимание, но Владимир Онуфриевич думает, что к его и Софиному приезду в Париж последний «успеет сделаться прусским городом, и это для французов будет здорово, собьет, может быть, с них желание быть военной нацией и, главное, опрокинет навеки всех Бонапартов. Вообще время такое интересное, что страсть». Ковалевский надеется, что «французы сделают революцию и республику», и на этот случай приглашает брата «на зиму в Париж». Жаклар тоже волновался известиями из Парижа. Министров и генералов Наполеона III хватило только на провокацию войны. Вести ее они не сумели и сразу привели французов к целому ряду поражений. Революционное движение во Франции разрасталось. Долг революционера призывал Жаклара в Париж. Анна Васильевна переживала все события так же, как ее муж. Она сообщила сестре, что Жаклар ждет с нетерпением точных известий от своих друзей о настроении умов в Париже и опасается, что в случае поражения Наполеона «прощай на несколько лет революция и придется, пожалуй, раскаяться, что упустили такой случай, когда Париж был свободен от войск». Жаклар и Анюта решили ехать в Париж, несмотря на опасности, которые для Жаклара могли еще увеличиться вследствие военного положения и тяготевшего над ним приговора по прежним делам. «Но перед настоящими обстоятельствами нельзя оставаться в бездействии, — пишет Анна Васильевна, — и недостаток в людях с головою и решимостью слишком ощутителен, чтобы думать о спасении своей кожи… Я вовсе не делаю себе иллюзий относительно всех трудностей. Условия для хорошего и прочного водворения республики очень плохи. Безденежье, поражение и неприятель на границе, а может быть и под самым Парижем — все это не очень благоприятствует «социальному» движению… Но тем необходимее для республиканцев не быть в одиночку, и каждый порядочный человек может быть теперь полезен. Ковалевские, с своей стороны, радовались перспективе падения императорского Парижа. В конце августа Владимир Онуфриевич сообщал брату о занятиях своих и Софьи Васильевны, об их жизни, интересовался политическими новостями вообще: «Где мы будем зимою, аллах ведает; ведь еще неизвестно, будут ли семестры. Пожалуй, война затянется, потому что французы едва ли уступят Альзас, чего требуют подлецы пруссаки. Я молюсь за одно: чтоб пруссаки побили французов так, чтоб те прогнали Наполеона, а затем республиканские войска уничтожили бы пруссаков». Анна Васильевна жила революционными событиями. В конце августа она сообщала сестре, что решила написать отцу всю правду о своих отношениях с Жакларом, даже рассказать ему о политическом положении мужа, который, во всяком случае, сумеет обеспечить ее в материальном отношении. Указывая Софье Васильевне, что при создавшихся обстоятельствах «безрассудно, да и бесполезно» для Ковалевских ехать в город, которому предстоит через несколько дней выдержать осаду, Анна Васильевна полагает, что и самый въезд туда невозможен для них. «Едва ли впустят туда иностранцев; теперь только о том и заботятся, как бы избавиться от лишних и бесполезных жителей. Лучшее для вас — это оставаться до поры до времени в Лондоне». Что касается ее и Жаклара, то они жалеют о необходимости отложить свою поездку в Париж «в долгий ящик». «Нам пришлось, — пишет Анна Васильевна, — увидаться здесь с разными парижанами, только что приехавшими оттуда, и все в один голос утверждают, что кроме апатии или безалаберного, искусственно поддерживаемого энтузиазма к Трошю (генерал, диктатор Парижа, по низложении Наполеона — глава временного, буржуазного правительства и предатель рабочих. — С. Ш.), Париж не представляет ничего, могущего дать пищу деятельности революционной партии». Пока развертываются события, Жаклары волнуются из-за бытовых мелочей. «Не могу тебе сказать, до какой степени мне ощутительна невысылка моих бумаг, — пишет Анна сестре, — на днях я написала письмо матери, а Жаклар написал отцу. Неужели и это не подействует?» Наконец, в сентябре Жаклары собрались в Париж: известие о сдаче Наполеона (2 сентября) в плен придало им решимости. Анюта понимает, какими опасностями эта поездка грозит революционерам: «Но делать нечего, когда человек хочет, чтобы его убеждения и поступки были приняты за известное дело, он должен рисковать собою». Если бы даже Анюта могла своим влиянием удержать Жаклара, то ни за что на решилась бы употребить его. А ее «страшно как интересует то, что происходит в настоящую минуту» в Париже. Жаклары поехали в Париж через Лион, где при них была провозглашена республика. Виктор Жаклар выступал там на собраниях, был выбран народным комиссаром для сношений с комитетом общественного спасения; наконец, в качестве члена делегации от Лиона к правительству национальной обороны, отправился в Париж и остался там. Анна Васильевна целиком вошла в политическую жизнь осажденного города, и судьба ее сильно беспокоила Ковалевских, так как в Лондон не доходили известия из Парижа. Из прусского лагеря сообщали, что в Париже была сильная перестрелка и канонада. «Мы боимся, — пишет Владимир Онуфриевич брату, — не попробовали ли красные стать во главе». И добавляет:, «Если, действительно, только красная республика может разбудить энтузиазм в народе, то и такая попытка может быть оправдана!!» Софья Васильевна хочет вместо Парижа отправиться в Берлин, и научные занятия Ковалевского требуют ряда поездок. Ждут только вестей из Парижа: может быть придется ехать туда выручать Анюту. Жаклар приехал с женой в Париж, когда там была уже провозглашена республика и образовано так называемое правительство национальной обороны во главе с монархистом и контрреволюционером генералом Луи Трошю, при участии виднейших представителей парламентской оппозиции. Каково было отношение этого правительства к революции, давшей ему власть, видно хотя бы из следующего факта. Почти перед самым падением монархии, при обсуждении вопроса об образовании нового правительства, буржуазные республиканцы проявили себя яростными врагами рабочего класса и страстными противниками социализма. Они заботились, главным образом, о том, чтобы отмежеваться от «компрометирующего хвоста» т. е. от участия в составе правительства крайних левых, хотевших бороться со старым строем революционными средствами. Жаклар остался в Париже, так как был вовлечен в работу наблюдательных комитетов, организованных во всех двадцати округах столицы, и возглавлявшихся Республиканским центральным комитетом, в котором преобладали члены Интернационала. Подпись Жаклара имеется под воззваниями революционных организаций уже через две недели после образования республики. Тогда же он стал начальником батальона национальной гвардии. С развитием событий Жаклар вступал в частые конфликты с реакционными генералами, продолжавшими командовать парижскими войсками. По поводу реакционной выходки одного генерала он напечатал в газете «Отечество в опасности» письмо от 12 октября 1870 года, в котором, обращаясь к солдатам, заявлял: «Реакция подымает голову. Вспомните, как падают республики, как низвергаются в пропасть самые большие и самые героические нации. Республиканцы, будьте осторожны!» В начале ноября Жаклар был арестован и заключен в тюрьму, откуда он послал прокурору республики протест. Но буржуазная власть выпустила его из тюрьмы только 5 января 1871 года, чтобы тут же предать военному суду за прежние дела. В начале марта Жаклар был оправдан судом и вскоре избран помощником мэра Монмартрского округа. При низложении правительства национальной обороны и провозглашении Коммуны 18 марта 1871 года, он был начальником войск самого ответственного участка. Анна также принимала деятельное участие в событиях эпохи, делила с Жакларом все опасности революции и во время Коммуны работала в разных правительственных комиссиях, главным образом, по народному образованию. Ее подписи имеются на разных воззваниях, выпущенных во время Коммуны, о рей упоминается в материалах парламентской следственной комиссии по поводу революции 18 марта и в одном декрете последних дней Коммуны. Вместе с писательницей-революционеркой Андрэ Лео Анна Васильевна основала газету «La Sociale», которая во время Коммуны выходила ежедневно с 31 марта до 17 мая. Эта газета была наиболее выдержанным, в социалистическом духе органом Коммуны, в ней печатались серьезные статьи по социальным вопросам. С. В. и В. О. Ковалевские решили перебраться в Париж. А. Ш. Леффлер передает рассказ Софьи Васильевны о том, как ей с мужем удалось пройти через немецкие лагеря: «Они шли пешком, затем ехали лодкою по Сене, под угрозою быть расстрелянными, но тем, не менее счастливо перебрались на противоположный берег и незамеченными вошли в Париж. Они были там при первом взрыве Коммуны. Софья много лет спустя собиралась обработать в литературной форме свои воспоминания об этом времени, хотела написать рассказ под заглавием «Сестры Раевские во время Коммуны». В нем она собиралась описать одну ночь, проведенную ею в госпитале, где она и Анна ухаживали за больными и где они встретились с несколькими молодыми девушками из их прежнего круга в Петербурге. Пока бомбы падали и все новых и новых раненых приносили в больницу, девушки шопотом обменивались воспоминаниями о своей прошлой жизни, представлявшей такую глубокую противоположность с настоящею и с тою обстановкою, в которую они теперь попали, что все это казалось им сном». Вернувшись после этого в Берлин, Ковалевские с тревогою следили за парижскими событиями. «Подошли раздирательные вести из Парижа», — писал Владимир Онуфриевич брату 28 мая. — Что там делается — просто страсть; июньские дни 1848 года — игрушка в сравнении с нынешними гуртовыми убийствами и расстреляниями; очень много из наших хороших знакомых убиты и расстреляны; об Анюте и муже ее мы не имеем никакой вести и очень боимся за него, хоть он и вышел за две недели до конца от службы, но все-таки, если его поймают, то могут приговорить к смерти или ссылке. Возможно, что мы бы опять поехали, но вход в Париж закрыт положительно для всех. Мы уехали 12 числа, а 22 Париж был взят… Лучшие и энергичные люди расстреливались на всех углах. По-моему, инсургентов нельзя винить в том, что они жгли общие здания. Я бы сделал то же в виду смерти или ссылки; конечно, лучше взорвать дом, в котором меня режут, чем отдать его на спокойное пользование моим палачам. У них было до 200 заложников, и так как версальцы расстреливали всех, то и инсургенты, не добившись обмена или амнистии, расстреляли 63 человека, в том числе архиепископа, много важных попов, бывшего президента сената Бонжана и множество других. Версальцам, конечно, ничего не стоило выручить их, но они нарочно не сделали этого, чтобы весь одиум убийства заложников пал на инсургентов… Читая ужасные описания того, что делается в Париже, получаешь ужасную ненависть к политике и вообще человечеству. А вся Франция, смотревшая, не говоря ни слова, два месяца, пока резали Париж! Мне в самом деле кажется, что французы — нация, клонящаяся к падению, — иначе нельзя объяснить себе ни этой камеры (реакционной палаты депутатов), ни этих выборов (8 февраля — в Национальное собрание, оказавшееся в большинстве монархическим), ни всего, что там происходит». Коммуна была задушена потому, как писал В. И. Ленин в статье «Памяти Коммуны», что «для победоносной социальной революции нужна наличность, по крайней мере,двух условий: высокое развитие производительных сил и подготовленность пролетариата. Но в 1871 году оба эти условия отсутствовали. Французский капитализм был еще мало развит, и Франция была тогда по преимуществу страной мелкой буржуазии (ремесленников, крестьян, лавочников и пр.). С другой стороны, не было налицо рабочей партии, не было подготовки и долгой выучки рабочего класса, который в массе даже не совсем ясно еще представлял себе свои задачи и способы их осуществления. Не было ни серьезной политической организации пролетариата, ни широких профессиональных союзов и кооперативных товариществ… Но главное, чего не хватало Коммуне, так это времени, свободы оглядеться и взяться за осуществление своей программы. Не успела она приступить к делу, как засевшее в Версале правительство, поддержанное всей буржуазией, открыло против Парижа военные действия. И Коммуне пришлось прежде всего подумать о самообороне. И вплоть до самого конца, наступившего 21–28 мая, ей ни о чем другом серьезном подумать не было времени. Впрочем, несмотря на столь неблагоприятные условия, несмотря на кратковременность своего существования, Коммуна успела принять несколько мер, достаточно характеризующих ее истинный смысл и цели… В чисто социальной области она успела сделать немного, но это немногое все-таки достаточно ярко вскрывает ее характер, как народного, рабочего правительства» (Сочинения, том XV, стр. 158–159). Маркс в работе о «Гражданской войне во Франции», напечатанной немедленна после разгрома Коммуны, указывал, что самое важное значение Коммуны в том, что «она была, до сути дела, правительством рабочего класса, результатом борьбы производительного класса против класса присваивающего, она была открытой, наконец, политической формой, при которой могло совершаться экономическое освобождение труда». Именно за это, отмеченное Марксом, стремление Коммуны добиться освобождения труда, за подчеркнутый Лениным характер Коммуны, как народного, рабочего правительства, буржуазно-республиканские контрреволюционные версальцы мстили парижскому пролетариату. После того, как Париж был, по выражению Ковалевского в его письме к брату, продан версальцами пруссакам, Владимир Онуфриевич с женой снова поспешили в столицу Франции. Пришлось выручать не только Анну Васильевну, но и Жаклара. Версальцы праздновали победу «законности и порядка». Кровь коммунаров заливала улицы Парижа и его предместий. Буржуазная французская республика укреплялась при содействии Бисмарка и Мольтке. Контрреволюционный республиканец Тьер и свирепый убийца генерал Галифе устроили парижскую «кровавую неделю» (около 30 000 «казненных»). Несколько лиц, которых принимали за Жаклара, были расстреляны версальцами. Но Жаклар был арестован спустя две недели после окончательного усмирения восстания, когда первая горячка убийств уже прошла. Поэтому его не расстреляли на месте, а оставили для публичной казни. Сидел он в тюрьме в самых ужасных условиях.
 С. В. Ковалевская и Ю. В. Лермонтова (1871 г.)
С. В. Ковалевская и Ю. В. Лермонтова (1871 г.)
 А. В. Корвин-Круковская (1865 г.)
А. В. Корвин-Круковская (1865 г.)
Отправляясь с Софьей Васильевной в Париж, Владимир Онуфриевич имел в виду свою научную работу, но трагедия, коммунаров занимала его помыслы, мешала работать, меняла планы. В письме из Парижа от 11 июня Ковалевский сообщает брату о положении Жаклара и Анны Васильевны и о своем решении сопровождать мужа Анюты в ссылку. Готов для этого отказаться даже от палеонтологии. «Пишу тебе, как видишь, опять из подлого Парижа, из которого нам и выезжать-то никогда не надо было. Жили мы в Берлине смирно, вдруг пришло известие о взятии Парижа; стали беспокоиться, затем письмо от Анюты, что все благополучно и что они оба, т. е. она с мужем, успели скрыться; вдруг через день новое письмо, что он взят и что ему предстоит, если не расстреляние, то ссылка; конечно, в тот же день мы поехали в Париж и приехали очень кстати, так как уже на дороге прочитали в газетах, что и Анюта тоже арестована; последнее к счастью оказалось пока несправедливым, хотя полиция охотилась за нею и взяла Андрэ Лео; в этом положении Анюта, конечно, не могла быть полезной, и потому мы ее как можно скорее выпроводили вон из Парижа, а сами остались здесь хлопотать о нем. Я вчера был в Версали, где он содержится; не мог получить свидания, но сегодня получил; сомнения нет ни малейшего что он будет сослан; куда — неизвестно; вероятно, в Новую Каледонию. Положение теперь вот каково: Анюта, конечно, последует за ним, но так как его повезут вместе с другими ссыльными на транспортных судах вокруг мыса Доброй Надежды, то Анюте надо будет ехать одной, что, я думаю, невозможно. Софа рвется ехать с нею, что, я думаю, нелепо, потому что это помешает ей кончить свои математические занятия и выдержать экзамен, а это, вероятно, может случиться через шесть или восемь месяцев; очевидно сама сила обстоятельств говорит, что сопровождать Анюту через Суэц, Цейлон и Мельбурн придется мне; кроме того, так как я человек свободный, то мне и придется поселиться с ними в Новой Каледонии, а Софа, выдержавши экзамен в Берлине, приедет к нам туда. Видишь ли, дорогой друг мой, какой странный оборот приняли дела; но иначе, рассудя строго, поступить невозможно, Софа и Анюта стали совсем мне родными, так что разлучиться с ними будет невозможно… Еще один важный вопрос: через 6 или 8 месяцев Софа хочет присоединиться к нам; если тебе доставят деньги на проезд, согласишься ли ты привезти ее в Новую Каледонию? Напиши обо всем этом обстоятельно. Суд еще не начался, и, по всей вероятности, раньше пяти месяцев или четырех нам не придется уезжать; значит, мы можем очень обстоятельно списаться по этому предмету». Слух об аресте русской коммунарки был широко распространен в Париже. Интересовался им, и секретарь русского посольства в Париже Обрезков, который писал главному начальнику царских жандармов, графу П. А. Шувалову про Анну Васильевну, как про «мегеру», «достойную супругу некоего Жаклара, отмеченного среди начальников-коммунаров своей кровавой натурой»; о ней говорится, что она была «замешана в насилиях Коммуны, в арестах и последних неистовствах сопротивления». Обрезков злорадствует по поводу ошибочного известия о том, что жена Жаклара «несколько дней спустя после ареста ее мужа перевезена в Версаль, где эта вполне подходящая друг другу пара ждет своей участи; она, вероятно, найдет утешение в своем близком вдовстве в Новой Каледонии, пенитенциарную колонию которой предназначено заселить петрольщицами», т. е. поджигательницами, как буржуазное республиканское правительство называло коммунарок. Царское правительство не только сочувствовало разгрому Коммуны, но приняло также меры, чтобы участники ее не могли как-нибудь проникнуть в Россию. Немедленно после кровавой победы Тьера и Галифе, 6 июня 1871 года, правительство императора Александра II разослало всем пограничным русским жандармским управлениям соответственный циркуляр. «Имея в виду, — сообщалось здесь, — что с подавлением восстания в Париже многие из зачинщиков и участников совершенных там преступлений будут стараться спастись бегством от заслуженного наказания… государю императору благоугодно было повелеть… принять самые действительные меры к невпуску в наши пределы подобных личностей, к какой бы национальности они ни принадлежали, и к задержанию тех из них, которые пытались бы тайно проникнуть на территорию империи». Пограничным жандармам «предписывается о всех лицах, которые ими задержаны будут, не передавая этих лиц в ведение местной полиции, тотчас уведомлять по телеграфу III отделение» для дальнейшей расправы. В поисках путей для спасения Анютиного мужа Ковалевские решили вызвать в Париж В. В. Корвин-Круковского, которому тогда было свыше 70 лет от роду, надеясь с помощью царского генерала кое-чего добиться у французского буржуазно-республиканского правительства. «К 1 июля приехали с той же целью родные из Питера, — писал Владимир Онуфриевич брату, — и мы живем теперь здесь вчетвером и кое-что успели сделать для облегчения его (Жаклара) участи. Рассказов у меня есть для тебя десять томов». Есть несколько различных версий о том, как удалось Жаклару спастись от мести версальцев. Шведская писательница А. Ш. Леффлер сообщает, со слов Софьи Васильевны, что В. В. Корвин-Круковский использовал для этого свое давнишнее знакомство с Тьером, который будто бы дал генералу понять, что бегство его зятя можно устроить при переводе из одной тюрьмы в другую. Польская революционерка М. В. Залесская-Мендельсон, также на основании рассказов Софьи Васильевны, пишет, что «отец Анюты, любезно принятый Тьером, устроил Жаклару побег с согласия властей». Француз Оливье Пэн в статье «Бегство коммунаров из Парижа», напечатанной в русском журнале «Слово» за 1880 год, когда там сотрудничал и Жаклар, сообщает, что побег последнего устроила его сестра вместе с одним приятелем ее мужа. Все эти версии не исключают одна другую. Приезд русского генерала, во всяком случае, облегчил спасение французского коммунара. В обширном письме к Александру Онуфриевичу от 9 октября 1871 года, из Франкфурта, Ковалевский сообщает об удавшемся бегстве Жаклара. «В прошлое воскресенье мужу Анюты удалось бежать из тюрьмы из Версаля; мы его быстро снарядили и выпроводили вон, а затем и сами уехали: они (Корвин-Круковские) просили меня проводить их до границы и до Франкфурта… Софа с родными поехала в Берлин, а я должен вернуться доканчивать работу в Париж». Судя по одному позднейшему письму Анны Васильевны, ее муж воспользовался при бегстве из Парижа паспортом В. О. Ковалевского. Анна Васильевна выжидала в Гейдельберге результатов соединенных усилий всей семьи. Кузина Корвин-Круковских, Софья Аделунг, рассказывает, что мать ее в это время видала Анюту «в Гейдельберге, где она жила со своей матерью после своей роковой поездки в Париж. Анюта была так измучена физически и морально, что целых восемь суток находилась в тяжелом сне. Пробуждалась она только для принятия пищи и тотчас снова засыпала. Легко себе представить, что переживали в это время ее родители». Василий Васильевич с женой повидали обеих дочерей, познакомились с мужем Анюты, переправили ее с Жакларом в Швейцарию, отвезли Софу в Берлин, а сами вернулись в Палибино. Генерал и помещик Корвин-Круковский признал фактический брак своей старшей дочери с французским революционером. Великий урок Коммуны оставил у Ковалевских только сожаление об ее жертвах и уважение к памяти героических борцов за новое общество. У Софьи Васильевны появлялось еще иногда желание обработать в литературной форме свои воспоминания о Коммуне. Оно осталось невыполненным, так как Ковалевская, по ее собственным словам, «во времена Коммуны была еще слишком молода и к тому же слишком сильно была влюблена в свою науку, чтобы иметь правильное представление о том, что происходит вокруг» (письмо к Г. Фольмару от 4 мая 1882 года). С. В. Ковалевская не могла иметь в 1871 году правильного представления об идее Коммуны вследствие своей политической неподготовленности, не могла в позднейшие годы быть преданной идее Коммуны вследствие общей политической отсталости России. В статье «Памяти Коммуны» В. И. Ленин писал в 1911 году, что «только рабочие остались до конца верны Коммуне. Буржуазные республиканцы и мелкие буржуа скоро отстали от нее: одних напугал революционно-социалистический, пролетарский характер движения; другие отстали от него, когда увидели, что оно обречено на неминуемое поражение. Только французские пролетарии без страха и устали поддерживали свое правительство, только они сражались и умирали за него, т. е. за дело освобождения рабочего класса, за лучшее будущее для всех трудящихся» (Сочинения, т. XV, стр. 158). Частая близость во время Коммуны и общие волнения по поводу парижских событий в связи с участью Анны Васильевны и ее мужа не улучшили отношений между Софьей Васильевной и Владимиром Онуфриевичем. Ковалевский продолжал свои научные скитания по Европе. Софья Васильевна училась математике то в Гейдельберге, то в Берлине.
ГОДЫ УЧЕНИЯ И СКИТАНИЙ
Мечта Софьи Васильевны учиться у Вейерштрасса осуществилась. Видя, что упрямства берлинских профессоров не одолеть и в университет в качестве студентки не попасть, она пошла к знаменитому профессору на дом и попросила его заниматься с ней частным образом. Роль и значение Вейерштрасса в развитии математики освещены в многочисленных специальных исследованиях, принадлежащих его ученикам в разных странах Западной Европы и в России. Все они, а также другие авторы говорят о выдающихся заслугах Вейерштрасса в науке: о совершенно новом направлении, созданном им и его учениками в исследовании многих отделов математики; о философском направлении его ума, отразившемся в научном методе, глубоком и вместе с тем простом и ясном; о бесчисленном множестве идей, пущенных им в научный оборот непосредственно своими исследованиями и через работы учеников. Вейерштрасс и его ученики занимались, главным образом, теорией функций. Один из новейших историков развития точных наук, француз П. Таннери, обзор которого недавно появился в русском издании, пишет о Вейерштрассе как о творце теории, стремившейся дать «новое, строго рациональное обоснование всему математическому зданию». Вейерштрасс излагал свой предмет так увлекательно, что ему приходилось читать в самой большой аудитории университета, вмещавшей несколько сот слушателей. В первый раз Софья Васильевна явилась к Бейерштрассу на дом в сумерки, с опущенной на лицо вуалью, чтобы скрыть свою робость и смущение. Но профессор и не взглянул на нее. Принял он странную посетительницу только потому, что через гейдельбергских профессоров был хорошо осведомлен об ее любви к математике, но отнесся недоверчиво к рекомендации своих младших товарищей, полагая, что те приняли увлечение модой за нечто серьезное. Поговорив немного с Ковалевской, Вейерштрасс дал ей для решения несколько задач. Вопросы были сложные и трудные, профессор рассчитывал, что Ковалевская не справится с ними и отстанет от него. Когда же молодая женщина не только удовлетворительно, как профессор допускал на крайний случай, но прямо-таки блестяще решила задачи, Вейерштрасс был растроган. Он убедился, что имеет дело с глубоким влечением, и радостно согласился руководить занятиями Ковалевской. Раз в неделю Софья Васильевна приходила к Вейерштрассу на дом, где, после занятий, сестры его беседовали с ученицей, как с нежно любимой родственницей. Раз в неделю профессор посещал Ковалевскую. В Берлине Софа жила вместе с Лермонтовой, которая часто ходила с нею в гости к Вейерштрассам в неположенное для занятий время. В денежном отношении приходилось жаться еще больше, чем в Гейдельберге, так как Ковалевская помогла Анюте. Жили материально плохо не столько от недостатка денег, сколько вследствие своей непрактичности. Занимали неудобную комнату, питались скверно, развлечений не было никаких; даже любимый театр был заброшен. Софья Васильевна целые дни сидела за вычислениями и так измучила себя, что скоро совсем расстроила здоровье. Она похудела, глаза смотрели грустно и печально. Настроение ухудшилось обстоятельствами фиктивного брака. То, что казалось Софе таким заманчивым, таким романтичным в ее союзе с Владимиром Онуфриевичем, обернулось теперь другой стороной. С одной стороны, родители сердились за ненормальность ее семейных отношений, с другой, — неловко и перед Ковалевским, которому за его трогательную самоотверженную любовь она не могла сказать ласкового слова от всего сердца. А себя жалко до слез: как нелепо проходит молодость! Сильно надоедали также постоянные расспросы соотечественников, наблюдавших нежное отношение Ковалевского к жене и холодность Софьи Васильевны к нему. «Иногда на Софу набегала волна нежности к Владимиру Онуфриевичу. В эти редкие моменты она вела себя так, как-будто никогда не раскаивалась в своем замужестве, как будто привыкла всегда делить с Ковалевским все свои чувства и переживания. Тогда она позволяла Владимиру Онуфриевичу при посторонних расчесывать ей волосы, поправлять туалет и т. п. Сплетни о Ковалевских перекатывались по всем европейским университетским центрам, где учились русские, попадали в Россию и причиняли огорчения родным фиктивных супругов. В. О. Ковалевский часто жаловался брату на страддания, испытываемые им и Софьей Васильевной от их семейного положения. Но он обманывал себя самого, когда старался уверить Александра Онуфриевича, что влюбленность в Софу уступила место спокойной привязанности. Все знавшие тогда Ковалевского утверждали что он страстно любил свою фиктивную жену и не мог думать о другой женщине. Все это делало его трагически несчастным. Избегнув мести версальцев, Жаклары некоторое время провели в Женеве среди парижских коммунаров, затем переехали в Берн. Здесь Жаклар вернулся к изучению медицины, но зарабатывать на жизнь ничего не мог. Анюта безуспешно искала уроков. Пришлось довольствоваться скромными средствами, высылавшимися Василием Васильевичем и чрезвычайно недостаточными при дороговизне бернской жизни. Трудно было Анюте сводить концы с концами; она просила Ковалевского устроить ей перевод для французских издателей новой книги Дарвина, с которым Владимир Онуфриевич был в коротких отношениях. В письмах Анны Васильевны, относящихся к этому периоду, имеются указания на какую-то ее переписку с Марксом. «Письмо Маркса меня чрезвычайно изумило, — пишет она В. О. Ковалевскому, — так как я никогда не предпринимала перевода его «Капитала». Он же вовсе не предлагает перевод, а просит уже будто бы готовую рукопись, чтоб сличить с заказанным им переводом, которым он, кажется, недоволен, хотя переводчик уже перевел всего Фейербаха на французский язык». Письмо Маркса к А. В. Жаклар в литературе неизвестно; об ее переводе каких-то «брошюр» Маркса говорилось в предыдущей главе. По поводу французского перевода «Капитала» Маркс писал 28 мая 1872 года Николаю-ону (Н. Ф. Даниельсону): «Хотя французское издание, выходящее в переводе г. Руа, переводчика Фейербаха, и выполнено великим знатоком обоих (немецкого и французского) языков, тем не менее он переводил временами чересчур уже буквально. Поэтому я был вынужден переделать по-французски целые отрывки». Маркс и Энгельс лично знали Анну Васильевну и ее мужа. Еще 14 апреля 1870 года Маркс писал Энгельсу: «Лафарг познакомился в Париже с одной весьма ученой русской (подругой его друга Жаклара, превосходного молодого человека). Она ему сообщила, что Флеровский… сослан в Сибирь». Здесь упоминаются французский социалист П. Лафарг (1842–1911), зять Маркса, и русский социалист-утопист В. В. Берви-Флеровский (1829–1918), участник революционного движения 70-х годов, автор интересовавшей Маркса книги «Положение рабочего класса в России». 4 ноября 1871 года Энгельс писал В. Либкнехту из Лондона: «Ты верно уже знаешь, что бежавший с Околовичем из тюрьмы Жаклар, один из лучших, благополучно пробрался в Берн». Спустя много лет, 9 августа 1881 года, Маркс писал Энгельсу из Аржантейля, близ Парижа, о встрече с Анной Васильевной: «Вчера к завтраку здесь был Жаклар со своей русской женой, милая пара». Анна Васильевна усердно старалась наладить отношения между сестрой и В. О. Ковалевским. Она пыталась устроить Софу студенткой Цюрихского университета, объединенного с политехникумом и единственно доступного тогда для женщин. Однако, в письме к В. О. она высказывает опасение, что «то, что повидимому должно бы заставить склониться весы, т. е. мое присутствие в Цюрихе, может подействовать на нее наоборот, и она не захочет иметь наше буржуазное счастие перед глазами». План Анны Васильевны был задуман хорошо, и через несколько месяцев ей удалось перекинуть, по-видимому, прочный мост через брешь в семейных отношениях Ковалевских. Но до этого Владимиру Онуфриевичу пришлось перенести одно из очередных унижений, также имевшее отрицательное влияние на его отношения с Софьей Васильевной. Два года усиленных занятий в университетах и музеях Германии, Франции, Голландии и Англии, два года неутомимого труда, одушевленного любовью настоящего энтузиаста науки, подготовили Владимира Онуфриевича к самостоятельным исследованиям в области палеонтологии позвоночных. После коммуны он принялся, как писал брату, «за ископаемых млекопитающих, чтобы ближе ознакомиться с ними; через месяц пришла идея специальной работы». Это был результат изучения незадолго до того добытого одним французом скелета анхитерия — трехпалого ископаемого животного, предка современной лошади. В письме Владимира Онуфриевича к брату от 9 августа 1871 года с изложением основных идей этой работы, по словам академика А. А. Борисяка, виден «в зачатке весь будущий Ковалевский, основатель новой палеонтологии, и уже проглядывает его колоссальная эрудиция». Объездив музеи континента, Ковалевский отправился осенью 1871 года в Лондон. В Британском музее Владимиру Онуфриевичу, как он сам заявляет, «несомненно удалось найти» то, что палеонтологи искали со времен великого Кювье: «Вопрос этот для палеонтологии млекопитающих и вообще для соображений о переходе типов очень важный. Таблицы мои готовы в Париже и, как только приеду в Вену, засяду писать работу начисто. Она выходит довольно большая, и я много надеюсь на нее. Для Дарвиновой теории, я убежден, она сделается одним из столпов, потому что переход видов во времени… будет доказан по всем мелочам… Как произошла та или другая форма, как она дошла до той формы, как мы ее видим? Вот все это даст и даже отчасти дает разумная палеонтология с дарвинизмом. До сих пор она положительно не существовала, и мне кажется это поле очень благодарное для будущего пятидесятилетия…». Здесь Владимир Онуфриевич сильно преуменьшил научное значение, своих идей. Через 57 лет после этого письма академик А. А. Борисяк, исследовавший вопрос о месте Ковалевского в истории палеонтологии, поставил его рядом с величайшими мировыми учеными: «С именем Кювье, — говорит ученый специалист, — связано основание палеонтологии. С именем Ковалевского— ее современное эволюционное направление. Те пятьдесят лет, которые отделяют нас от работы Ковалевского, ознаменовались колоссальным успехом палеонтологии на ее новом пути. Огромные вновь собранные материалы значительно пополнили пробелы палеонтологической летописи; в области палеонтологической мысли они вызвали новые течения и направления. Основа этих успехов заложена в классических работах Ковалевского, и его метод исследования и посейчас остается нашим руководящим методом». Наряду с палеонтологией млекопитающих Ковалевский занимался также начатыми ранее геологическими работами. «С такою же проницательностью, как в палеонтологии, — пишет академик Борисяк, — он и здесь намечает важнейшие для его времени, наиболее животрепещущие темы. В этом сказывается крупный мастер. В палеонтологии его работы положили начало новой эпохе. В области геологии он успел очень мало сделать; но он ясно видел значение намечаемых работ и неоднократно указывал в своих письмах, какой переворот они должны произвести в науке. Такие слова звучали бы непростительной заносчивостью на языке рядового научного работника; но им (если отвлечься от несколько резкого, обычного для его писем стиля) они могли произноситься с полным правом». В марте 1872 года Владимир Онуфриевич приступил к докторским экзаменам в Иене и после блестящей сдачи их защитил диссертацию. Немецкие ученые оценили эти «поистине поразительные» результаты работ Ковалевского и предлагали ему профессуру в одном из германских университетов. Но Владимир Онуфриевич стремился к получению кафедры в России. Для этого требовалось прежде всего сдать магистерские экзамены и защитить диссертацию в каком-нибудь русском университете. «Теперь надо думать о магистре, — пишет он брату немедленно после иенских экзаменов, — и сделать его непременно осенью в Одессе! или где-нибудь, где есть знакомые, чтобы уж не готовиться вновь». На Одессу Владимир Онуфриевич надеется потому, что там, при содействии И. И. Мечникова, недавно избран на кафедру геологии Н. А. Головкинский, который, конечно, на магистерском экзамене не будет придираться к мелочным формальностям. Встретившись с Владимиром Онуфриевичем в Лондоне, И. М. Сеченов несколько разочаровал Ковалевского относительно того, что его примут в отечественных университетах с распростертыми объятиями. Сеченов объяснил ему, что для царского правительства лучше иметь покладистых чиновников на кафедрах, чем людей, увлекающихся политическим радикализмом, хотя бы они и являлись светилами науки. Кроме того, сами эти чиновники постараются не допустить в свою среду чужака: в русских университетах сильны кумовство и непотизм. Ковалевский рассчитывал держать экзамен в Одессе у Н. А. Головкинского. Второго профессора геологии в Одесском университете, И. Ф. Синцова, он ни во что не ставил, так как работы последнего считал студенческими, «чисто описательными, крайне поверхностными». Отзывы эти дошли до Синцова и сильно раздражали его. Тщетно просил А. О. Ковалевский брата быть осторожнее. Владимир Онуфриевич отвечал, что он не боится свободно выражать свое мнение о работе Синцова и «ничем другим, кроме вздора, ее назвать» не может: «ни слова разумного там нет». Конечно, Синцов не мог простить Владимиру Онуфриевичу его резких отзывов. Между тем Ковалевский приехал в Одессу в конце 1872 года, когда Головкинский был в заграничной научной командировке, приехал, не дождавшись выхода из печати своих глубоко-научных работ, и пошел на экзамен к Синцову. Последний воспользовался случаем показать факультету, что дискредитировавший его ракушечные обзоры иенский доктор сам ничего не смыслит в избранной им науке, и разными экзаменационными трюками пытался сбить Ковалевского. И хотя ухищрения Синцова были безуспешны, Хотя факультет признал ответы Владимира Онуфриевича удовлетворительными, Ковалевский напортил себе своей горячностью. Он поддался провокации Синцова, сам потребовал контрольного экзамена, и на этот раз экзаменатору удалось подвести его посредством каверзных, совершенно несущественных вопросов. Противник В. О. Ковалевского использовал создавшуюся обстановку: Н. А. Головкинский был в отсутствии; ученый дарвинист И. И. Мечников переживал тогда тяжелую личную драму — умирала его первая жена, Людмила Васильевна; искренно преданный Владимиру Онуфриевичу физиолог И. М. Сеченов, по свойствам своего характера, не хотел верить, что Синцов способен ставить личное самолюбие выше интересов науки, а по своей щепетильности и ригоризму считал неудобным оказывать давление на главного экзаменатора; примыкавший к группе Мечникова-Сеченова, декан факультета Я. Я. Вальц уже тогда был одержим болезнью, приведшей его впоследствии в сумасшедший дом, и Синцову легко было перетянуть его на свою сторону; все остальные профессора физико-математического факультета в Одессе, по своим специальным занятиям далекие от вопросов о развитии позвоночных, были либо яростными противниками безбожной теории Дарвина, либо чужды всякой научной теории, и предоставили Синцову полную свободу действий. Получился крупный научный скандал. Автор исследования, о котором знаменитый английский естествоиспытатель Гексли за 2–3 месяца до того сказал, что «это самая важная работа в эти 25 лет, и все будущие исследования изменятся выводами, к которым пришел Ковалевский, — был признан в Одессе недостойным скромного звания магистранта. «Так встретила, — писал в 1928 году академик-геолог А. А. Борисяк, — русская официальная наука своего представителя, имя которого уже тогда повторялось с уважением в ученых кругах за границей, а ныне составляет ее гордость». В результате В. О. Ковалевский получил жестокий удар. Софья Васильевна была в это время настолько чужда Владимиру Онуфриевичу, что даже не знала об его тяжелых нравственных страданиях. Четыре месяца спустя после одесского провала В. О. Ковалевского, жена запрашивала его из Цюриха: «Отчего вы не пишете, кончили ли ваш магистерский экзамен или нет? Я уже начала опасаться, не провалились ли вы, и право вы, кажется, уже так о себе замечтались, что было бы вам поделом, и если бы не папа, то от дружеского сердца пожелала бы вам этого. Напишите об этом».
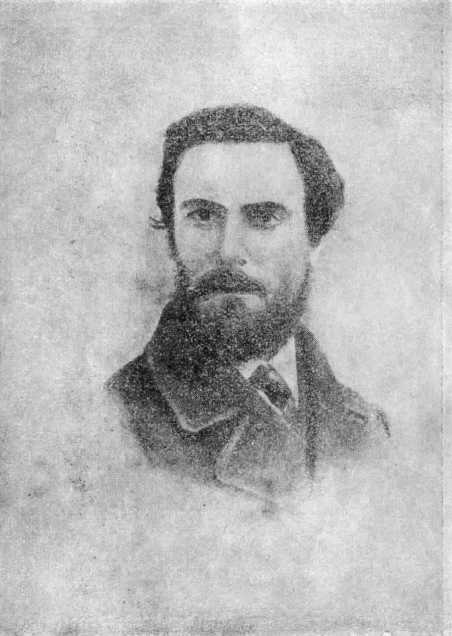 В. В. Жаклар (1870 г.)
В. В. Жаклар (1870 г.)
 И. М. Сеченов (60-е годы)
И. М. Сеченов (60-е годы)
Софья Васильевна не знала, как больно должна была отозваться в сердце Владимира Онуфриевича ее шутка об экзамене. Друзья опасались за него. По случайному совпадению, М. А. Сеченова писала ему в тот самый день из Одессы: «Милый Ковалевский, наконец-то вы отозвались! А я уже начинала бояться, чтобы вы не вздумали чего-нибудь недоброго или не заболели после всех одесских досад и неприятностей». Но хотя синцовская подлость усугубила тяжелое нравственное состояние Владимира Онуфриевича, хотя он чувствовал себя скверно и мерзко до крайности и отчаянно» бранил себя, что «поехал на эту позорную историю, а не ждал, когда мог бы получить магистерство просто за «печатанные работы», он не падал духом и продолжал свои исследования. Отношения его с женой оставались натянутыми, и только после долгой переписки ему удалось, при содействии Анны Васильевны, уговорить жену свидеться с ним в Цюрихе, при родителях, приехавших туда посмотреть на внука, новорожденного сына Жакларов. Одним из решающих мотивов согласия Софьи Васильевны на это свидание было то, что родители удивятся, узнав, что Ковалевский находится за границей и не встречается с женой. «Они это время; до такой степени милы с Анютой и со мной, что я положительно не намерена кормить их баснями», — писала Софья Васильевна мужу, а ей и без того «в разговорах с ними постоянно приходится краснеть, когда разговор коснется какой-нибудь из множества басен, которые им совсем ненужным образом наврали»., Ради стариков Корвин-Круковских бывшим коммунарам пришлось согласиться на приобщение своего сына к официальному православию. Ковалевская пишет мужу, что «крестины произошли в глубокой тайне от французских коммунаров и. русских нигилистов». Софья Васильевна добавляет, что сестра ее после родов «здорова и даже очень похорошела, ребенок поразительно похож на отца, и Анюта так вошла во вкус, что желает маленькому Юрию еще, по крайней мере, с десяток братцев или сестриц». Весною 1873 года в Цюрихе собралась вся семья Корвин-Круковских. Пожив немного с родными, Ковалевские отправились бродить по Швейцарии. Отношения между супругами установились наилучшие. Владимир Онуфриевич писал брату в конце июня, что, хоть они с женой «во многом и не сходятся, но уж так привыкли друг к другу, что едва могут жить отдельно». В письме из Лозанны от 9 сентября В. О. Ковалевский кается, что они с Софьей Васильевной в Люцерне «сильно ленились: горы, озера и т. д. все это не очень способствует занятиям». Погоревав о своей лени, Ковалевские решились бежать в Лозанну, где оба усиленно занимались и строили радужные планы о совместной жизни с 1874 года в Петербурге. Для этого Владимиру Онуфриевичу нужно было сдать экзамен и защитить диссертацию, чтобы получить степень магистра и звание доцента в России, а Софье Васильевне защитить в Германии докторскую диссертацию. Во время пребывания Софьи Васильевны в Цюрихе, получено было и обсуждалось знаменитое «сообщение царского правительства от 21 мая 1873 года о русских учащихся женщинах. В этом «сообщении», напечатанном в официальном «Правительственном вестнике», заявлялось, что с увеличением вообще за границей и особенно в Цюрихе числа учащихся русских женщин среди них ведется политическая агитация и революционная пропаганда. Это увлекает молодые, неопытные головы и дает им «фальшивое направление». «Иные принимают живое участие в преступной пропаганде, другие увлекаются коммунистическими теориями свободной любви и, под покровом фиктивного брака, доводят забвение основных начал нравственности и женского целомудрия до крайних пределов…» Поэтому правительство заявляет, что оно «не может и не должно оставаться равнодушным зрителем нравственного растления… русской молодежи», и предлагает ей прекратить слушайте лекций в Цюрихе, угрожая в противном случае строгим преследованием. Учившиеся вместе с Ковалевской за границей русские студентки сделали боевые революционные выводы из политики царского правительства в мирной области народного образования. Они поняли после долгой и мучительной внутренней борьбы, что при существовавшем в России политическом положении одни только естественные науки не спасут трудовой народ от эксплоатации и гнета помещиков и фабрикантов. Вернувшись на родину, многие из них сорганизовались в кружки «чайковцев» и увлеклись «хождением в народ». Одни пошли в ткачихи или прядильщицы, другие отправились по деревням в качестве фельдшериц, третьи поступили в школы учительницами. Все вели пропаганду в пределах и объеме усвоенных ими социалистических идей. С. В. Ковалевская, как уже отмечалось выше, не сумела полностью оторваться от своего класса. Ее «нигилизм» и «аскетизм» были упражнениями в самоусовершенствовании, в ее мечтаниях об этом было бессознательное желание «честной» и «хорошей» жизни «для себя». В ее стремлении улучшить положение трудового народа не было желания изменить в корне государственный строй России, упразднить систему частной собственности, права наследования, пользования трудом крестьян и рабочих. Поэтому она не увлекалась вместе с «чайковцами», не ошибалась вместе с землевольцами, не заблуждалась вместе с народовольцами. Ковалевская только сочувствовала и тем, и другим, и третьим. По возвращении в Россию после заграничного учения, Софья Васильевна и ее муж, под влиянием окружавшего их общества и тогдашних политико-экономических условий, занялись делами, сильно отличавшимися от дел, и увлечений цюрихских студенток, оклеветанных царским правительством. Заканчивая занятия с Ковалевской, профессор Вейерштрасс предложил ей несколько тем, и за два года своего пребывания в Берлине Софья Васильевна выполнила три работы: по математике — «О диференциальных уравнениях с частными производными», и «О приведении некоторого класса Абелевских функций к функциям эллиптическим», по астрономии — «О форме колец Сатурна». Вейерштрасс был в большом восторге от успехов Софьи Васильевны и делился этим восторгом с другими своими учениками. Один из них, Г. Шварц, бывший тогда профессором в Цюрихе, а впоследствии членом Берлинской академии наук, даже на своих лекциях говорил про Ковалевскую: «О, это замечательная женщина; мне так много пишет о ее занятиях наш общий великий учитель профессор Вейерштрасс. Недавно он прислал мне свои лекции об Абелевских функциях, составленные ею. Вы еще не имеете о них понятия. Это труднейший предмет в математике, и немногие мужчины отваживаются им заниматься». Все-таки Ковалевская по настоянию Вейерштрасса представила свои работы в Геттингенский университет. По словам самой Ковалевской, ее работы были признаны настолько удовлетворительными, что университет, вопреки установившемуся порядку, нашел возможным освободить ее от экзамена и публичной защиты диссертации и прямо присудил ей степень доктора философии. В то же время, первая из работ Ковалевской (о диференциальных уравнениях) была напечатана в знаменитом математическом журнале Крелля. «Это честь, которой удостаиваются далеко не многие математики и которая для начинающего ученого очень велика, так как этот журнал в то время считался самым серьезным математическим изданием в Германии», — с гордостью заявляла Софья Васильевна впоследствии. Годы учения и скитания Ковалевских по университетским центрам остались позади. Прекратилась также мучившая их неопределенность семейного положения. Убедившись, хотя и по различным для каждого причинам и основаниям, что не могут покончить со своим фиктивным браком, Ковалевские решили по возвращении в Россию вместе «делать себе положение в свете». Порывалась связь с революционно-радикальной средой: для Владимира Онуфриевича навсегда, для Софьи Васильевны — на несколько лет.
СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
Летом 1874 г. вся семья Корвин-Круковских собралась в Палибине, все были довольны и радостны. Софья Васильевна охотно принимала рыцарское ухаживание Ковалевского, буквально боготворившего ее. Ей даже становилось неловко от его забот, доходивших порою до смешного. Анна Васильевна была счастлива тем, что все время находится вместе с беззаветно любимым Виктором, что центром палибинской жизни является их крошка Юрик. Смущало ее, что Жаклар как-будто чем-то недоволен, всегда сидит в кресле с усталым видом, принимает ее восторженную любовь рассеянно, без трепетного отклика, словно исполняя долг вежливости по отношению к гостеприимной хозяйке. Но Анюта сознавала, что политический деятель, друзья и соратники которого свалены в братские могилы вокруг Парижа или страдают в каторжных тюрьмах, не может проявлять особенных восторгов в условиях помещичьей жизни. Давно не жилось так приятно и радостно в Палибине. Анна Васильевна устроила домашний театр, на котором играла первые роли, изумляя неискушенных зрителей своим драматическим талантом. К участию в спектаклях привлечены были все, кем Анюта могла распоряжаться: и старый учитель Малевич, живший на покое в Палибине, и Владимир Онуфриевич, который заставлял зрителей хохотать и вызывал рукоплескания исполнением небольшой роли садовника в пьесе Эдмонда Абу «Убийца», и, конечно, весь служебный персонал родительского имения. Жаклара пришлось оставить в покое. Софа также выступала в спектаклях, но поэзию предпочитала сцене. Владимир Онуфриевич часто уезжал по делам в Петербург, и жене становилось скучно в его отсутствие: все в Палибине заняты своими интересами, каждый имеет партнера для бесед и развлечений; математическими и астрономическими вычислениями не хотелось заниматься, да и тетради завалены где-то под домашним скарбом. В один из таких скучных деревенских дней Софья Васильевна написала Владимиру Онуфриевичу следующее стихотворное послание:
Мой друг! Вот целых две недели ежечасно
Тебя я жду и мучаюсь, — но все напрасно.
Зову, пишу фольянты, злюсь, но мне в ответ
Ни самого тебя, ни писем твоих нет.
Наскучило мне ждать и злобствовать часами,
И вот решилась я попробовать стихами
Тебя, злодей, усовестить и устыдить
И чувства верности супружеской внушить.
Как видишь, бес мой или муза из когтей
Не хочет выпустить совсем души моей.
Забыв поваренную книгу, интегралы,
Магистерство и Коркина диференцьялы,
Я рифмоплетствую, бешусь и каждый час
Душою уношусь раз десять на Парнас…
Твоей смуглянке скучно, мужа, ожидает,
Раз десять в сутки на дорогу выбегает.
Собаки лай, бубенцов звонких дребезжанье
В ней возбуждают трепет ожиданья,
И вновь бежит она и, обманувшись вновь,
Клянет мужей неверных и любовь.
Общество пестрое: франты, гусары,
Я — вор! Я — рыцарь шайки той
Из всех племен, наречий, наций,
Что исповедует разбой
Под видом честных спекуляций…
Где в результате — миллион
Или коническая пуля!..
К религии наклонность я питал,
Мечтал носить железные вериги,
А кончил тем, что утверждал
Заведомо подчищенные книги…
ТРАГЕДИЯ КОВАЛЕВСКИХ
Фиктивный брак Ковалевских превратился в фактический. Еще в июне 1875 года Владимир Онуфриевич писал брату, что он отказывается от своих прав на их общее имение: «пусть оно идет твоим ребятам, так как своих у меня что-то не является», хотя Софья Васильевна «очень горюет, что у нее нет детей». Но через три года он сообщает Александру Онуфриевичу: «Ну, милый дружок, мы начали хвастаться друг перед другом своими произведениями, но ты нас зашиб окончательно — трое ребят в школе… Софа взглянула, впрочем, на дело с практической стороны, а именно — торопится, если не перещеголять, то догнать тебя». 5 октября 1878 года у Ковалевских родилась дочь, как сообщал Владимир Онуфриевич брату, «по крайней мере, на 3 недели позже срока и поэтому ужасно велика». «Сие событие, — добавлял отец, — внесет, конечно, более постоянства и солидности, тем более, что мы озаботились и о консолидации своих дел финансовых». Вместо упрочения своих финансовых дел, «консолидации» их, Ковалевские стали сочинять проекты, которые еще больше расстроили их материальное положение. В одном из своих домов, строившихся при помощи кредитных комбинаций, Владимир Онуфриевич решил завести усовершенствований подобно помещику-утилизатору, Констанжогло «Мертвых душ». Он так и пишет брату: «С домом по 9-й линии будет поступлено а lа Констанжогло. Ничто не пропадает; так как теплоты от баков терялась бы бездна, то на чердаке кругом горячих труб и баков устраивается большая оранжерея с даровым отоплением и по всему 3-му этажу бань делаются мансарды. В подвале же, в задней части, должна помещаться прачечная паровая, а спереди — образцовая булочная». Затем пошли проекты строительства на юге; научные рассуждения о преимуществах бетона и пустотелого камня: и тому подобные размышления, не имеющие никакого отношения ни к палеонтологии, ни к доцентуре. Ковалевский пытался связаться с наукой, но это делалось между прочим, для очистки совести. Так, например, в феврале 1876 года был случай получить хоть и небольшое, но все же платное место при Академии наук. Самым привлекательным было здесь то, что эта должность давала возможность систематически заниматься исследованиями и получить через год звание адъюнкта Академии. Но в том-то и было горе, что систематически заниматься исследованиями Ковалевский не мог. Им овладело упадочное настроение, он уже изверился в своей способности заниматься наукой. «Дело подвигается плохо, — пишет он брату в 1878 году, — и в эти проклятые четыре года, которые прошли со времени возвращения из-за границы, опять убито так много того, что проснулось в хорошие годы там, что меня начинает разбирать страх, придется ли еще хорошенько взяться за работу». Софья Васильевна была вся поглощена возней с дочерью. Для девочки пригласили годового врача, ребенка нельзя было купать в той комнате, где она спала, и гулять с ней надо было в особой комнате, а игрушки и детские вещи были разбросаны всюду. Няня не смела поцеловать Фуфу, потому что мало ли чем она, больна, и кормилицей были всегда недовольны по каким-то вздорным причинам, и другая прислуга была без вины виновата. Обычный кавардак в доме усилился, суета еще больше заполнила его, а Софья Васильевна с радостью повторяла: «слава богу, я не совсем истощила свои силы в занятиях математикой; теперь, по крайней мере, моя девочка наследует свежие умственные способности». Это была пора кажущегося расцвета материальных дел Ковалевских. Девочку называли будущей миллионершей. Скончавшаяся через несколько месяцев после рождения внучки Елизавета Федоровна, успевшая только порадоваться тому, что малютка — «вылитая Софа», не обольщала себя насчет богатства ребенка. Она предвидела разорение дочери и зятя и с обычной своей деликатностью предостерегала Софью Васильевну от увлечения спекулятивными делами. Супруги Ковалевские досадливо пожимали плечами. Было уже поздно распутывать создавшееся положение. Надо было прямо рубить узел. На это не было решимости у обоих. Владимир Онуфриевич растерялся. Иногда у него мелькала мысль об отказе от спекулятивных комбинаций, о продаже домов с банями и парниками. Но не было силы воли осуществить ее. По словам В. О. Ковалевского, в это время Софья Васильевна выказала чудеса энергии, ума и настойчивости, и если мы спасемся, то только исключительно благодаря ей». Никакие чудеса не. могли спасти Владимира Онуфриевича, кроме силы воли и решительного поворота к науке. Силы воли у него не было. Научные интересы представлялись ему, чем-то экзотическим. В апреле 1879 года он писал брату, что познакомился с молодые кандидатом в профессора и что ему «несмотря на развившееся нелюдимство, весело было видеть человека для которого вопросы науки составляют самое главное в жизни». Софья Васильевна сохранила больше спокойствия, в ней было больше уверенности в своих силах и она уже подумывала о возвращении к научным занятиям. Она еще делала расчеты доходам от постройки домов, от эксплоатации бань и тому подобных спекуляций; но из писем ее к А. О. Ковалевскому видно, что сама она уже не верит этому и очень жалеет, что дела вынуждают жить в Петербурге. И, что самое главное, Софья Васильевна была уже недалека от решения совсем прекратить свою совместную жизнь с Ковалевским. Слухи об этом стали распространяться, когда она заговорила о желании поехать на короткое время в Берлин — возобновить под руководством Вейерштрасса занятия математикой. Раньше, в виду научного безделья, ей было стыдно предстать перед своим старым учителем и предположение поехать в Берлин в 1878 году осталось не осуществленным. Теперь она могла сделать это благодаря П. Л. Чебышеву, убедившему ее выступить с докладом на шестом съезде естествоиспытателей в Петербурге в конце 1879 года. Почти накануне съезда Ковалевская разыскала в ящике на чердаке свои математические рукописи, в одну ночь перевела на русский язык одну из своих геттингенских диссертаций — «О приведении некоторого класса Абелевых функций к функциям эллиптическим» — и сделала доклад, вызвавший одобрение Чебышева и других членов съезда. Владимир Онуфриевич совсем уже не был в состоянии заниматься наукой. Кроме краха всех его строительных и других коммерческих затей, кроме назревавшего распада семьи, на него обрушился еще один тяжелый удар. Это был поздний отголосок давнего недоброжелательства к Ковалевскому со стороны радикально-революционных кружков. Началось оно во второй половине шестидесятых годов. Выстрел В. Д. Каракозова 4 апреля 1866 года в Александра II вызвал белый террор дворянского правительства против участников революционных и радикальных кружков. Хватали правых и виноватых. Казематы Петропавловской крепости были переполнены арестованными. Среди них были друзья и знакомые Владимира Онуфриевича. Его самого муравьевский террор обошел, как и очень многих других участников общественного движения. Но Ковалевскому это зачлось плохо. В эмигрантских кругах стали говорить о подозрительности его счастья. В письме к А. И. Герцену из Неаполя, от 22 сентября 1866 года, Бакунин сообщал, что слух о том, будто В. Ковалевский — корреспондент III отделения, дошел до него от Н. И. Утина. Так как сам Бакунин имел «дотоле доброе мнение о Ковалевском», то он «потребовал Утина к ответу». Утин отвечал, что он обвинил Ковалевского, не зная его, по сообщениям знакомых, и отказался назвать их. Бакунин указал ему, что «обвинять громко человека в шпионстве, не называя своих источников и не приводя положительных доказательств, не благородно, не честно, а также и не совсем безопасно». На это Утин отвечал, что «с тех пор, как он лично познакомился с Ковалевским, он сам усомнился в справедливости обвинения». «Утин пустой и тщеславный мальчишка, — добавляет Бакунин, — важнее было для меня показание М. — натуралиста, которого я от души уважаю, как человека умного, серьезного и добросовестного. Он сам лично также ничего не знал положительного против Ковалевского, но слышал многое от разных людей в Швейцарии и в Германии». С этим сообщением Бакунин переслал Герцену письмо, полученное им от Ковалевского по поводу сплетен. Письмо Владимира Онуфриевича к Бакунину до нас не дошло, но розысками М. К. Лемке, редактора 22-томного собрания сочинений Герцена, и моими в разных архивах установлено, что отношения III отделения к В. О. Ковалевскому сводились исключительно к переписке об его политической неблагонадежности. Однако, в 60-х годах слухи, исходившие от «пустого мальчишки» Утина и умного, добросовестного М., доползли к Герцену, и он изменил свое хорошее мнение о В. О. Ковалевском. Впрочем, через два года Герцен выражал сожаление о своем плохом отношении к Владимиру Онуфриевичу. Семья Герцена также не придавала значения этим слухам. В 1872 году Н. А. Тучкова-Огарева виделась с А. В. Жаклар в Цюрихе и расспрашивала ее о Владимире Онуфриевиче «без всякого враждебного чувства». В том же году, ожидая полного разрыва с Софьей Васильевной, Ковалевский в письме к брату высказывал радость по поводу того, что он не будет одинок в Париже, так как сумеет бывать там у своих друзей — дочери Герцена, Ольги, и ее мужа Г. Моно. Кто же распространял слухи о Ковалевском, причинившие ему много горя, несомненно отразившиеся на его психическом состоянии и, может быть, не меньше, чем крах спекуляций, послужившие причиной его трагической гибели? Главный распространитель слухов о сношениях В. О. Ковалевского с III отделением, Н. И. Утин, примыкал в 60-х годах к революционным кружкам, но в 70-х годах «раскаялся» и был помилован царем. В эмиграции он строго следил за стойкостью всех вообще революционеров и радикалов. Так он участвовал в конце 60-х годов в насильственном обыске в Женеве у революционера И. И. Бочкарева, без основания подозревавшегося в шпионстве за его «крайнее любопытство» к эмиграции и т. п. Есть сообщение о таком же неосновательном обыске, произведенном эмигрантами у В. О. Ковалевского. К слухам о Ковалевском имел также отношение Г. Н. Вырубов — богатый помещик, занимавшийся естественными науками и философией, живший с конца 60-х годов за границей, преимущественно в Париже. Известный ботаник и дарвинист К. А. Тимирязев сообщает, что когда он в 1869 году уезжал в Париж из Гейдельберга, где жил постоянно в обществе В. О. и С. В. Ковалевских, то Владимир Онуфриевич дал ему рекомендательное письмо к Вырубову. Прочитав это письмо, Вырубов, встретивший Тимирязева любезно, изменил свое отношение к нему Впоследствии С. И. Ламанский объяснил Тимирязеву, что еще до его приезда в Гейдельберг, в эпоху процветания там русской колонии, она делилась на партии. «Была в ней и та, что по современной (до революции) терминологии называется черносотенной, и вот один из ее представителей по злобе на В. О. Ковалевского пустил гнусную сплетню, будто он вертелся около Герцена в качестве шпиона». Теперь о «натуралисте М.», показание которого имело важное значение в глазах М. А. Бакунина, но который сам также ничего не знал положительного против Ковалевского», хотя передавал сплетни о нем. Это — хороший знакомый Владимира Онуфриевича, ближайший друг и товарищ его брата по научной работе, знаменитый зоолог И. И. Мечников, Впоследствии В. О. Ковалевский много раз возвращался в своих письмах к брату к вопросу об участии И. И. Мечникова в распространении неаполитанских слухов, но, в конце-концов, недоразумение сгладилось, и отношения между ними стали дружескими. Итак, постепенно толки о шпионстве улеглись, В. О. Ковалевский мог, казалось, забыть один из страшных кошмаров своей жизни. Но Владимиру Онуфриевичу не суждено было избавиться от него навсегда, и последние годы его тяжелой и сложной жизни вновь были отравлены всплывшей клеветой об его подозрительном счастьи при арестах деятелей радикальных и революционных кружков. Спекуляции с домами, постройка бань, участие в «Новом времени», наконец, почти явный разрыв с женой, — все это вызвало новые разговоры о нем в эмигрантских кружках. В результате этого в № 20, за февраль 1879 года, женевской русской газеты «Общее дело», издававшейся радикальной интеллигенцией, появилась огромная статья под заглавием «Нечто о шпионах». Автор статьи начинает с заявления, что разоблачать шпионов надо осторожно, ибо «всякая ошибка в этом случае непростительна и равняется убийству, да пожалуй еще хуже, потому что порядочный человек, конечно, предпочтет, чтобы его убили, чем быть заподозренным в этой полезной государственной деятельности». После этого переход к «биографии шпиона, далеко недюжинного, имеющего интерес вполне общественный». «В самом начале 60-х годов, — говорится в статье, — когда затевалось столько дел великих и малых, геройских и смехотворных… везде и всюду, и в Гейдельберге, и в Лондоне, и в Петербурге, в кружках смехотворных и в обществах серьезных, мелким бесом вертелся, вьюном извивался, петушком забегал один еще юный в то время субъект… Прошло это время… Громадное большинство знакомых нашего юного героя очутились кто на виселице, кто в эмиграции, кто в крепости, кто в ссылке; другие, из более благоразумных, подвизались кто в земстве по устройству банков, кто по тюремным комитетам, кто в адвокатах, кто и в прокурорах. Один герой ни в огне не горел, ни в воде не тонул… Он занялся делом, небезвыгодным в материальном отношении и делавшим ему честь в нравственном, именно изданием книжек по части естествознания… Но этого было мало для честолюбия юноши. Он не прерывал с одной стороны своих прежних связей, часто посещая Герцена в Лондоне и Женеве, а с другой стороны, не пренебрег и открывшимся в то время женским вопросом… Он слишком ясно показал свою несгораемость, когда летом 1866 г., в самый разгар муравьевщины, явился, как ни в чем не бывало, либеральничать среди русской эмиграции в Швейцарии. Его попросили выйти. С другой стороны, в Петербурге около того же времени обнаружилось, что женский вопрос он понимает слишком односторонне, в смысле сводничанья доверяющихся ему девиц с нетрезвыми капиталистами, имея в виду вступить потом за известную сумму в брак с этими жертвами его сводничанья и капиталистической похотливости, для прикрытия греха. По обнаружении подобных прелестей наш герой на некоторое время исчез с петербургского горизонта… Он, как пробка, всплыл опять и опять-таки на женском вопросе. Оказалось, что одна очень молоденькая и неопытная, хотя способная девушка, дочь весьма богатых родителей, признала в нем рыцаря, готового на помощь угнетенным красавицам, и предала свою судьбу в его руки». Затем в статье говорится об участии героя в суворинском «Новом времени», о том, как он пытался обобрать Суворина, а когда «Суворин отстоял свое добро», то герой «открыл торговые бани в собственном доме». Автор статьи уверен, что его герой «не замедлит открыть вскоре образцовый публичный дом для продолжения своей торговли мясом». Заканчивается статья так: «Мы было и забыли сообщить имя «героя нашего времени». Мужа этого зовут Владимир Онуфриевич Ковалевский». Вздорность обвинения «Общего дела» против В. О. Ковалевского очевидна после всего рассказанного о его издательской деятельности, о его связях и отношениях с радикальными кружками, о его фиктивном браке, о его увлечении спекуляциями, после приведенных выше его политических высказываний по поводу Коммуны 1871 года. Статья «Нечто о шпионах» не подписана, но установлено, что автором ее является известный критик и революционер В. А. Зайцев (1842–1882), с которым В. О. Ковалевский был знаком по радикальным кружкам первой половины шестидесятых годов. Оба они участвовали также, вместе с другими товарищами В. О. по училищу правоведения — В. В. Яковлевым и князем А. С. Голицыным, в издании радикальной газеты «Народная летопись», выходившей в Петербурге в 1865 году. Зайцев имел какие-то счеты с Владимиром Онуфриевичем из-за своей сестры Варвары Александровны, в связи с ее фиктивным браком. Эта «красивенькая, но надутая», как характеризует ее современник, барышня хотела освободиться от гнета отца, крупного чиновника, разошедшегося с женой вследствие несочувствия ее радикальному образу мыслей и революционным связям своих детей. С этой целью Зайцева фиктивно вышла замуж за участника нигилистических кружков 60-х годов князя А. С. Голицына. Потом она выехала в Швейцарию, где сошлась с другом Ковалевского, участником польского восстания доктором П. И. Якоби. С последним у Ковалевского тоже были временные недоразумения на почве денежной помощи, которую Владимир Онуфриевич ему оказывал. Когда В. О. Ковалевский узнал, что Якоби живет с Зайцевой, он писал брату, что после этого его хорошие отношения с товарищем «должны кончиться, или, по крайней мере, охладиться». В. А. Зайцев до конца жизни не отделался от неприязни к В. О. Ковалевскому. Что касается вопроса о шпионах, то борьбу с ними он вообще считал одной из важнейших задач писателя-революционера и требовал в этом деле исключительной бдительности. Через два года после статьи о Ковалевском, в статье «Теоретические основания суда над шпионами», Зайцев писал: «Всякий, заподозрив лицо в шпионстве, не только имеет право, но и прямую обязанность высказать открыто подозрение, хотя бы с риском обвинить невинного. Опасность повредить одному лицу совершенно исчезает перед риском сделаться сообщником гибели сотни людей… Разумеется, не должно возводить обвинений легкомысленно; надо иметь для этого полное нравственное убеждение; оно назревает само собой и помимо нашей воли; но раз почувствовав его, надо иметь мужество высказать его громко, не ожидая никаких улик, так как их в этом деле быть не может». Конечно, в появлении статьи о Владимире Онуфриевиче сыграла роль отмеченная новейшим исследователем публицистической деятельности В. А. Зайцева «чрезмерная склонность» последнего «к поспешным непродуманным выводам». Но побудительным толчком для автора несомненно послужили разговоры о широком размахе спекулятивной деятельности Ковалевского, о преступно-пышной, с точки зрения радикальных кружков 70-х годов, обстановке его домашней жизни, о том, что он продал свое научное первородство зачечевичную похлебку, толки о его знакомствах среди столичной плутократии. Статья запрещенной газеты не могла получить в России широкого распространения, но неаполитанские слухи 1866 года снова поползли по петербургским гостиным. Душевный покой Владимира Онуфриевича был нарушен окончательно. Материальное банкротство Ковалевских было неотвратимо. Их делами уже распоряжались нетерпеливые кредиторы. Софья Васильевна извещала об этом А. О. Ковалевского в январском письме 1880 года. Начато было письмо Владимиром Онуфриевичем, но он никак не мог собраться продолжать его, и жене пришлось доканчивать сообщение о делах, в которых Александр Онуфриевич был заинтересован своими крохами. «Как мы справимся с этим делом, я решительно и представить себе не могу, — пишет В. О., — у Софы все еще существуют какие-то надежды на устройство дела, но у меня их положительно нет и по той простой причине, что здание возведено в таких размерах и в такой стоимости, что оно не окупает всех процентов и следовательно неминуемо должно погибнуть». Софья Васильевна никаких надежд на устройства дела не имела, что и высказала в своей приписке: «Я почти рада, что эта операция уже окончена, так как один из главных страхов уже пережит. Что будет дальше — и сказать пока невозможно. Лишь только что-нибудь выяснится, я намереваюсь убежать с Фуфкою (дочерью) из Петербурга». В начале 1880 года Ковалевские разделались со всеми своими коммерческими предприятиями: их домами, парниками, банями, коровами, садом завладели другие лица. Сами они уехали в Москву, где оба пытались снова заняться наукой. Софья Васильевна вступила в математическое общество при Московском университете, но там отнеслись несочувственно к ее увлечению теорией Вейерштрасса. Московские математики настолько не знали тогда эту теорию, что Софья Васильевна писала Миттаг-Леффлеру: «Меня больше почти не удивляет, что наши русские математики, знающие всю эту теорию лишь по книжкам Неймана и Брио, проявляют такое глубокое равнодушие к изучению этих функций. Поверите ли вы мне, например, если я вам скажу, что мне еще недавно пришлось выдержать горячий спор с несколькими профессорами математики Московского университета, считавшими, что еще не доказана возможность серьезного применения абелевских функций и что вся эта теория еще настолько запутана и бесплодна, что она совершенно не может служить предметом для университетского курса!» Тем не менее Софья Васильевна решила сдать в Москве экзамены на звание магистра, и вступила в переговоры с профессорами физико-математического факультета. С своей стороны Владимир Онуфриевич подал заявление о зачислении его преподавателем университета. Ковалевские рассчитывали на переживавшийся тогда русским просвещением период либерального восторга: министром был молодой, принадлежавший к группе прогрессивных сановников, «правовед» А. А. Сабуров, незадолго до того сменивший мракобеса и вождя оголтелой реакции Д. А. Толстого. Но почтенные московские профессора знали цену сабуровской прогрессивности и, стараясь подслужиться к министру, лишний раз показали, чего стоит свободолюбие либерала. Небольшие отрывки из двух писем Софьи Васильевны к А. О. Ковалевскому чрезвычайно любопытны для характеристики русского либерального общества в эту пору. «Володя уже, конечно, писал вам, что его избрание в штатные доценты при здешнем университете становится довольно вероятным и что он этого весьма сильно желает, так как надеется комбинировать служение маммоне со служением геологии. Что до меня касается, то я было подала прошение о допущении меня к магистерскому экзамену, но Бабухин (профессор гистологии) и Снегирев (профессор акушерства), услышав об этом, пристали к Володе с тем, чтобы я взяла прошение обратно, ибо в университете существует весьма сильная партия ненавистников женского вопроса, которых рассуждения обо мне могут восстановить и против Володи, что значительно повредит вопросу о его избрании. Хотя Бугаев (Н. В. — профессор математики, отец писателя Андрея Белого) и утверждает, что это все вздор, но я все-таки не желаю итти на риск и решилась магистерство отложить». В другом письме Софья Васильевна говорит о том же: «Володя уехал за границу… Он, конечно, писал вам, что его избрание в университет становится чрезвычайно вероятным… Что до меня касается, то мои дела идут далеко не столь блестящим образом; несмотря на то, что и профессор Давидов (А. Ю., московский математик) и ректор Тихонравов (Н. С.) лично обращались к министру с просьбою допустить меня к магистерскому экзамену, но министр (А. А. Сабуров) решительно отказал и даже одному моему знакомому, д-ру Покровскому, тоже имевшему случай говорить с министром, выразился так, что и я, и дочка моя успеем состариться прежде, чем женщин будут допускать к университету. Каково? Кто бы мог ожидать подобного от столь либерального молодого человека, как наш Сабуров?». Для Софьи Васильевны это было «вдвойне досадно», потому что она хорошо подготовилась к экзамену и московские математики относились к ней «очень сочувственно», несмотря; на непонимание теории Вейерштрасса; обещали ей поставить «требования самые законные» и признавали одну из ее геттингенских работ пригодной для магистерской диссертации. «Ну что же делать? — заканчивает Ковалевская. — В виду того, что мне теперь особенно важно наготовить как можно больше математических работ, чтобы хоть этим поддержать нашу женскую репутацию, я решаюсь на довольно тяжелый для меня риск». Софья Васильевна собиралась уехать на месяц или полтора в Берлин — позаниматься под руководством Вейерштрасса, и риск заключался в том, что приходилось оставить маленькую дочь на попечении Ю. В. Лермонтовой, а самой отправиться в путешествие без денег. Пока шли переговоры с профессорами и министром, Ковалевские занялись, «на время», практической деятельностью для получения средств к жизни. Еще в Петербурге они познакомились с инженером П. Н. Яблочковым (1847–1894), изобретателем применения электричества к освещению улиц, и оказывали ему материальную помощь. Во второй половине семидесятых годов Яблочков выпустил электрическую свечу, имевшую большой успех, и продолжал работать над своим изобретением. По инициативе Софьи Васильевны была образована компания для усовершенствования изобретения Яблочкова: сам автор, супруги Ковалевские и Ю. В. Лермонтова. Изобретение в области электротехники должно было, по мысли С. В. Ковалевской, поправить их расстроенные дела. Во время занятий электротехническим изобретением Ковалевский снова заболел спекулятивной горячкой, на этот раз неизлечимо. Случай свел его с компанией крупных спекулянтов, во главе с В. И. Рагозиным, который в 60-х годах вращался в тех же радикальных кружках, что и Владимир Онуфриевич. Арестованный в 1862 году за распространение «возмутительных воззваний», Рагозин просидел в крепости 2 месяца и выпущен был на поруки тестя, богатого предпринимателя А. П. Шипова. Хотя В. И. Рагозин был выпущен из крепости под надзор полиции, но тесть сумел устроить его управляющим своего крупного волжского пароходства. Здесь Рагозин развил большую энергию и в 70-х годах сам стал заводить акционерные компании. Он печатал брошюры и многотомные книги по вопросам, связанным с его промышленными предприятиями. Рагозин имел склонность к большим аферам, и в конце 70-х годов развернул в международном масштабе дело по переработке русской нефти в смазочные масла. При содействии других крупных аферистов он добился права котировки акций его общества на французской бирже, и стал стричь доверчивых владельцев небольших капиталов. Одним из участников товарищества Рагозина был Н. А. Новосельский — аферист с чрезвычайно представительной внешностью, распространявший о себе слухи, что он «незаконный» сын Николая I от одной из фрейлин, и пользовавшийся этим для своих финансовых дел. Специальностью Новосельского было устройство акционерных компаний. Как никто другой, он умел привлечь к делу казенный и частный капитал, придать предприятию солидный вид и поставить его на широкую ногу. Никакого серьезного дела он вести не умел, и в финансовом мире знали, что единственная цель Новосельского — сорвать полагающийся ему по аппетиту куш и удалиться. Этой компании так же были полезны качества В. О. Ковалевского, как человека делового и энтузиаста всякого дела, за которое он брался, как в свое время они и пригодились Лихачеву и Суворину. Товарищество Рагозина могло использовать знания Ковалевского в области естественных наук и его диплом правоведа. Недолго пришлось убеждать Владимира Онуфриевича вступить в товарищество директором миллионного предприятия, которому предстоит огромное будущее, тем более, что предложенная работа давала ему очень хорошее при его безденежьи материальное обеспечение и должна была отнимать у него мало времени. Кроме того, Ковалевского соблазнили записью на его имя нескольких паев товарищества, цена, которых росла буквально по часам. В. О. Ковалевский передал жене и Ю. В. Лермонтовой мелкие дела по усовершенствованию изобретения Яблочкова, а сам занялся крупными делами нефтяного товарищества. Ни жена Ковалевского, ни брат его не только не удерживали Владимира Онуфриевича от вступления в компанию темных дельцов и спекулянтов, но даже поощряли его к этому. Даже робкую Ю. В. Лермонтову убедили купить паи товарищества. Опять зажили Ковалевские, как заправские миллионеры. Они наняли в Москве барскую квартиру, обзавелись дорогой, массивной мебелью и стали устраивать приемы. Мишура их счастья обманывала московских ученых. Профессор А. Г. Столетов рассказывает в своих воспоминаниях о Софье Васильевне, что он тогда познакомился с Ковалевскими, бывал у них в Петровских линиях и радовался приятному знакомству, живой и разнообразной беседе мужа и жены, их умению найти общие интересы с собеседником. Вряд ли это были университетские интересы: о них упоминается в письмах Владимира Онуфриевича за это время только мимоходом. Больше места уделяет им Софья Васильевна, хотя Ковалевского избрали в декабре 1880 года штатным доцентом геологии, а в январе он должен был начать чтение лекций. Уезжая осенью 1880 года по делам Рагозиных за границу, Владимир Онуфриевич был уверен, что вернется В Москву вовремя и с нового года начнет читать лекции. Штатная доцентура давала право и уверенность в скором переходе к профессуре, так как занимавший кафедру 80-летний Г. Е. Щуровский давно выслужил все сроки, а другого кандидата на этот раз не было. Обстановка благоприятствовала Ковалевскому— при устаревшем профессоре он мог с особенным блеском выявить свои глубокие научные знания, мог легко и свободно заниматься своими исследованиями, беспрепятственно делиться их результатами со студентами. Ради нефтяных дел В. О. Ковалевский оставался за границей до половины февраля, пропустив начало весеннего семестра. А вернувшись в Россию, думал не о лекциях, а радостно сообщает брату, что Рагозины встретили его «сердечно и дружески», никто не заявил «ни малейшей претензии за продолжительное отсутствие». Ковалевский счастлив, что хозяева «без единого слова попрека, тотчас же впрягли» его в дело, «всадили в расчеты об устройстве двух новых предприятий товарищества: бондарни и керосинового завода; ни одного еще камня этого завода не заложили, а уж продукцию его запродали на сотни тысяч рублей». В эту пору друзья уже замечали в Ковалевском признаки душевного расстройства. Владимир Онуфриевич стал чуждаться жены, не говорил ей о своих опасениях в связи с делами Рагозиных, — напротив, уверял, что все идет прекрасно и что он вскоре обеспечит семье хорошую жизнь. Софья Васильевна истолковала новое отношение к ней Владимира Онуфриевича, как охлаждение с его стороны. Выступление Софьи Васильевны в конце 1879 года на съезде естествоиспытателей и настойчивые напоминания Вейерштрасса разбудили в ней влечение к математике, заглохнувшее после получения геттингенского диплома. Научные стремления властно заговорили, возобладали над всеми остальными. Неудача московских попыток работать в научной области, неправильно истолковываемое отчуждение мужа, явно надвигающийся крах рагозинских предприятий, — все это толкнуло Ковалевскую на решительный шаг. Вместо того, чтобы попытаться спасти Владимира Онуфриевича, убедить его в необходимости бросить мечты о легкой наживе и отдаться только науке, вместо того, наконец, чтобы облегчить ему тяготы расплаты за увлечение «опасными» делами товарищества, на которые он шел отчасти по ее совету, Ковалевская решила уехать из России. Ее не остановила мысль о том, что такой отъезд равносилен разрыву с мужем. Спасая себя, бессознательно, инстинктивно, не обдумав всех возможных последствий своего шага для Владимира Онуфриевича, она предоставляла Ковалевского его собственному безволию и трагическому стечению обстоятельств. Весною 1881 года Софья Васильевна уехала с дочерью в Берлин. Владимир Онуфриевич проводил их на вокзал и сам тотчас же уехал в Одессу к брату. Вернувшись осенью в Москву, он заболел и лежал один в снятой им комнате. Некому было ухаживать за больным, подать ему лекарство. Не желая огорчать жену, Ковалевский писал ей, что все в порядке, с огромными усилиями добывал деньги для отсылки ей. Жена отвечала ему холодно, писала, главным образом, о себе. «Очевидно мне необходимо жить одной и развивать в себе те признаки женщины с твердой волей, которых к сожалению так недостает мне, — читаем в одном ее письме. — Теперь я опять пришла в себя и во мне опять проснулась решимость и самостоятельность… Ты пишешь совершенно справедливо, что ни одна еще женщина ничего не совершила, но ведь в виду этого мне и необходимо, благо есть еще и энергия, да и материальные средства с грехом пополам, поставить себе в такую обстановку, где бы я могла показать, могу ли я что-нибудь совершить, или умишка на то не хватает Ты человек настолько энергичный и талантливый, по самому твоему темпераменту, я же, наоборот, такая олицетворенная пассивность и инерция, что живя с тобой я невольно начинаю жить только твоей жизнью становлюсь «примерная жена и добродетельная мать» а о том, чтобы самой что-нибудь совершить, совершенно забываю». Живя в Берлине, Софья Васильевна усердно работала, и Вейерштрасс говорил, что ее новый труд будет принадлежать к самым интересным работам десятилетия. Поэтому она просила Владимира Онуфриевича не быть слишком нетерпеливым и не ждать от нее таких скорых результатов, какие он сам имеет в своих научных работах: «дай мне пожить и поработать так, как это сообразно с моей природой, — т. е. не торопясь и исподволь» И обещает «вернуться на зиму домой», если Владимир Онуфриевич этого захочет. Совершенно выбитый из нормальной колеи, Ковалевский метался от одного проекта разбогатеть к другому и не замечал, что шайка, дельцов расставляет ему ловушки, втягивает его в дело откровенно уголовного свойства. Брат убеждал В. О. Ковалевского не пренебрегать университетом, напоминал о необходимости готовить докторскую диссертацию. Владимир Онуфриевич был утвержден доцентом с января 1881 года, а лекции начал не раньше осени, стараясь взять минимальное количество их, чтобы не пострадали нефтяные дела. Когда же рагозинские аферы подошли к концу, В. О. Ковалевский был совсем непригоден для университетских занятий: от его московской профессорской деятельности не получили ничего ни наука, ни сам Владимир Онуфриевич, ни студенты, несмотря на то, что исследователь он был гениальный, ученый глубокий и лектор блестящий. Бывший в начале 80-х годов студентом Московского университета, а впоследствии профессором зоологии, В. Н. Львов рассказывал, что Владимир Онуфриевич «заставлял своих слушателей подолгу ожидать начала лекций. Однажды, после такого опоздания он входит в аудиторию в пальто, со шляпой подмышкой и с каким-то предметом в руках: оказывается, его задержала на улице убитая ворона, крыло которой он принес с собой. С этим крылом он входит на кафедру и произносит блестящую импровизацию о развитии способности летать у позвоночных». Какие могли быть лекции, когда надвигалась уголовная ответственность по делам Рагозиных, которые все валили на Ковалевского. Сообщая об этом брату, он пишет: «Конечно, я делаю всякие усилия, чтобы не поддаваться горю, и сегодня начал читать свои лекции». Но в письме от 25 ноября — иное: «Все пойдет с публичного торга. Сегодня была лекция, я шел на нее точно на пытку, до такой степени я глупо ослаб, но по счастью прошла хорошо…» В зимние каникулы Владимир Онуфриевич поехал отдохнуть в Одессу. Оттуда он писал Ю. В. Лермонтовой, 4 января 1883 года, как человек, решивший расстаться с жизнью: «Очень и очень виноват перед вами, что не написал тотчас после приезда, все думал, не совершится ли какая-нибудь перемена к лучшему, но все остается так же мрачно, как и прежде. Конечно, живя в семье (брата), я успокоился и позабыл несколько те тяжелые обстоятельства, которые висят надо мною, но совсем их не выкинешь, и они висят грозной тучей… Мне просто больно и страшно смотреть на Фуфу и думать о будущем; что-то с нею будет и как устроится ее воспитание? Я здесь сидел и писал лекции для Москвы, но дело совсем не спорится и здесь». Вернувшись в начале 1883 года в Москву, Владимир Онуфриевич писал брату в том же духе полного отчаяния и о своих делах, и о положении Софьи Васильевны, которая материально нуждалась. «Страшно, то, что я бессилен помочь, хотя это моя прямая обязанность. Безумие построек — начало гибели, а поганое товарищество довершило… Удар страшен. Грозная туча товарищества все висит над нами, и мы не знаем, как она разразится; мне всего тяжелее, так как за мною большой долг». Последнее письмо Владимира Онуфриевича к А. О. Ковалевскому от 15 апреля написано в последний день его жизни. Он пишет о решении закончить диссертацию на степень доктора; сообщает о записке для судебных властей с объяснением своих действий в предприятиях Рагозиных; говорит о «длинной цепи безумных поступков в своей жизни», о том, что изложение дела «выходит страшно трудно и надо сказать — дурно для меня; когда, видишь все черным по белому, тогда совсем другое, чем в снисходительном к своим поступкам воображении». Старается убедить брата, что хочет жить, хотя давно решил умереть. Еще 1 февраля, в неотосланном, письме, он просил Александра Онуфриевича: «Напиши Софе, что моя всегдашняя мысль была о ней и о том, как я много виноват перед ней, и как я испортил ее жизнь». 16 апреля 1883 года пристав 3 участка Тверской части в Москве сообщил ректору университета, что «проживавший в меблированных комнатах доцент титулярный советник В. О. Ковалевский ночью на сие число отравился». Смерть человека, имевшего маленький чин, прошла в газетах незаметно. Только через четыре дня в «Московских ведомостях» была напечатана мелким шрифтом, затерявшаяся среди обширных сообщений о коронации Александра III и отчетов о деле 17 народовольцев, заметка о том, что Ковалевский был найден «на диване одетый, без признаков жизни; на голове у него был надет гуттаперчевый мешок, стянутый под подбородком тесемкой, закрывавший всю переднюю часть лица. Против носа в мешке сделано отверстие, в которое вставлена шейка стеклянной банки, обвязанной по краям; в банке лежало несколько кусков губки, пропитанной, по-видимому, хлороформом, который покойный, вероятно, вдыхал». Суворин перепечатал эту заметку в «Новом времени» со своими лицемерными рассуждениями о том, что Ковалевский умер, как древний мудрец. 18 апреля полицейский пристав сообщил ректору университета, что труп В. О. Ковалевского «будет доставлен в анатомический покой для вскрытия». Гениального ученого похоронила полиция, как бездомного и безвестного бедняка. Софья Васильевна жила тогда в Париже. Получив известие о самоубийстве мужа, она впала в отчаяние и хотела уморить себя голодом. Она не допускала к себе врача и на пятый день лишилась сознания. Этим обстоятельством воспользовался врач, насильно открыл ей рот и ввел таким способом в организм немного жидкой пищи. После этого больная уснула. Продолжительной болезнью вызвана была задержка Софьи Васильевны в Париже в то время, как ее ждали в России. В конце лета она приехала в Москву, откуда писала А. О. Ковалевскому о своих усилиях снять с памяти мужа пятно, наложенное на него участием в делах Рагозиных: «Я так страшно засуетилась это время, что решительно не находила минутки свободной написать вам. Вчера мне удалось достать у судебного следователя все частные бумаги Владимира Онуфриевича. Письмо к Ал. Ив. Языкову от 15-го апреля мне не выдали, но только дали прочитать. Вот приблизительно его содержание: «Дорогой друг и товарищ, Алекс. Ив., я прошу тебя хоть несколько очистить мою честь обнародованием этой записки. Главною причиной моего конца — расстроенные дела, особенно дело Рагозина, но я перед смертью заявляю, что в течение всего моего директорства не сделал ничего сознательно недобросовестного; моя вина состояла лишь в том, что я, полагаясь на успех дела, неосторожно покупал паи, занимая деньги на это у родных и знакомых, а частью в кассе самого товарищества». Софья Васильевна доказала следователю, что Владимир Онуфриевич действовал в рагозинских спекуляциях добросовестно заблуждаясь и не извлекая ни для себя, ни для семьи никакой материальной выгоды. Брак С. В. Корвин-Круковской с В. О. Ковалевским кончился. Вызванный условиями помещичьего быта дореволюционной России, фиктивный брак освободил Софью Васильевну от родительской опеки, дал ей возможность осуществить стремление к научной деятельности. Превратившись в фактический, этот брак принес Владимиру Онуфриевичу, по-видимому, одним только страдания, привел его к трагической смерти. Но, как справедливо замечает исследователь ученой деятельности Ковалевского, жизнь с Корвин-Круковской имела также положительное влияние на его судьбу: «Любовь к Софье Васильевне, хотя и временно, внесла равновесие в умственную жизнь Владимира Онуфриевича; мало того, она помогла ему определить себя. Позволительно даже задать вопрос, стал ли бы Ковалевский ученым, если бы судьба не соединила его с Корвин-Круковской. Но за бессмертное имя в науке он заплатил своею жизнью». Приведенные выше отзывы о громадном значении научной деятельности В. О. Ковалевского дополню заявлением Дарвина, сделанным при жизни Владимира Онуфриевича. Описывая свое посещение Дарвина в 1877 году, К. А. Тимирязев рассказывает, что великий ученый с особенным удовольствием отметил факт, что в русских молодых ученых он нашел горячих сторонников своего учения. Чаще всего он при этом упоминал имя Ковалевского. Когда Тимирязев спросил Дарвина, которого из братьев он имеет в виду, — не зоолога ли Александра, Дарвин ответил: «Нет, извините, по моему мнению, палеонтологические работы Владимира имеют еще более значения». Для С. В. Ковалевской после смерти мужа наступила пора триумфов и славы в области ее специальных научных занятий. Но прежде, чем перейти к рассказу об этом, остановлюсь на ее личных переживаниях и политических интересах в последний период жизни. Как осмысливала тогда Софья Васильевна любовь, осталось невыясненным, но в девятилетием возрасте она снова проявила себя в любви. В Палибино приехал погостить молодой, изящный брат Елизаветы Федоровны, незадолго до того окончивший университет; младшая племянница стала «обожать» его. Но к этому чувству, как пишет Софья Васильевна в «Воспоминаниях детства», примешивалась «какая-то детская влюбленность, на которую маленькие девочки гораздо способнее, чем думают взрослые». Дядя был веселый, жизнерадостный, занимательный рассказчик, и все старались сидеть с ним в гостиной подольше. А Софа хотела, чтобы он принадлежал ей одной, чтобы он рассказывал только для нее и чтобы только она сидела у него на коленях. Когда же не подозревавший о страсти племянницы дядя Федя взял на колени ее девятилетнюю подругу, Софа смотрела-смотрела на это страшное происшествие, затем подскочила к сопернице, «вцепилась зубами в ее пухленькую ручонку, немного повыше локтя, и прокусила до крови». Оля завизжала, дядя назвал племянницу «гадкой, злой девчонкой», а Софа убежала в отдаленную комнату и там наплакалась вволю. Во время своей петербургской влюбленности в Достоевского, пятнадцатилетняя Софья Васильевна ревновала его к сестре. На этот раз обошлось без прокусывания локтей. Когда Софа услыхала, как Достоевский признается Анюте в страстной любви, у нее «помутилось в глазах и кровь горячей струей бросилась в голову». Она убежала в спальню, разделась, легла в кровать и долго плакала, а в сердце была «нестерпимая, новая боль». У девочки явилось «бешеное желание наговорить дерзостей» Достоевскому с Анютой, но ужасный замысел расстроился потому, что у Софы не было спичек, а в темноте она не могла найти одежды, Разбросанной по комнате в припадке ревнивой злобы. В начале семидесятых годов, когда Владимир Онуфриевич, под влиянием обывательских сплетен, приревновал свою фиктивную жену к одному ее берлинскому приятелю, Софья Васильевна писала ему, что к ее прискорбию в ее «новой дружбе очень много поэтического, идеального, она доставляет ей много счастья и наслаждения, но романического в ней ничего нет». Как ни пыталась Ковалевская, а из этой дружбы не удалось сделать даже «маленький роман». В то же время Софья Васильевна, по свидетельству ее подруги, с ужасом думала о том, что Владимир Онуфриевич может, в виду фиктивности их брака, сойтись с другой женщиной. Затем наступил петербургский период жизни Ковалевских, произошло сближение между ними, родилась дочь, но страстности не было в их супружеских отношениях. Без сердечных страданий рассталась Софья Васильевна с мужем после краха их семейной жизни. В ее многочисленных письмах к Владимиру Онуфриевичу один только раз проскользнула нежность. «Как бы я наслаждалась теперь, — писала она Ковалевскому летом 1881 года из Мариенбада, — если бы нам опять пришлось раз путешествовать с тобой. Прежде я ничего не умела ценить, но теперь было бы иначе… Прощай, мой дорогой и милый дружок. Обнимаю тебя крепко. Целую много раз… Ах, если б нам скоро свидеться и притом за границею. Страсть, как хочется повидать тебя… Вся твоя Софа». Это была не вспышка любви к мужу, никогда в действительности не существовавшей, а проявление жалости к Владимиру Онуфриевичу за его большие страдания. Летом 1882 года у Софьи Васильевны завязались в Париже, как она сама говорила А.-Ш. Леффлер, «оригинальные и обостренные дружеские отношения» с молодым поляком-революционером, математиком и поэтом одновременно. Ковалевская снимала комнату в предместьи, и хозяйка не знала, что думать о своей жилице при виде молодого человека, проводившего с нею целые дни и выходившего от нее после полуночи. Между тем Софья Васильевна говорила, что отношения между нею и молодым поляком — самые идеальные. Никто никогда не понимал ее так хорошо, как этот молодой человек; никто не умел разделять так все ее мысли и мечты. Они вместе сочиняли стихи и даже начали писать длинное произведение романтического характера. Но Ковалевская не считала себя вправе принадлежать другому, так как была формально связана с мужем, и ее встречи с молодым поляком были наполнены только отвлеченным анализом чувства: они сидели друг против друга и разговаривали, опьяняя сами себя бурным, неиссякаемым потоком слов. А.-Ш. Леффлер говорит, что Софья Васильевна обменивалась с этим молодым человеком длинными письменными излияниями, но до нас их переписка не дошла. Сохранилось много писем Ковалевской к другому молодому математику, немцу, с которым она познакомилась в Берлине в начале 1883 года. Они встречались на почве общих научных занятий. С конца 1883 года отношения между научными сотрудниками перешли в дружбу; потом немец стал учить Софью Васильевну конькобежному и другим видам спорта, танцам и верховой езде. Вечерами бывали в театре. Некогда было зайти к Вейерштрассу, и старый профессор ворчал, что Соню отрывают от науки. Вейерштрассу было 70 лет: он забыл, что в молодости прерывал математические вычисления ради стихов к своей Гретхен. Софья Васильевна радовалась, как дитя, когда Вейерштрасс и его сестры уехали 21 января 1885 года за город на несколько дней. Старики звали ее с собой, но Ковалевская осталась в Берлине и послала молодому математику записку, помеченную 2 часами пополудни: «Легкомыслие победило, — писала она. — Остаюсь здесь до 28-го. После отъезда моих друзей, приблизительно в четверть четвертого, приду к вам, чтобы усовершенствовать свое образование. Ваш легкомысленный друг. С. К.» Потом ее охватило раздумье, к немцу не пошла, стала укладываться, и молодой математик получил новое письмо, помеченное 7 часами вечера: «Прежний рассудок все же одержал верх. После долгого размышления я решила все же уехать завтра в 3,36. Мне очень жаль, но что поделаешь? С наилучшим приветом, С. К.» Ковалевская убежала от своего приятеля в Швецию. При первой возможности молодой немец приехал в Стокгольм — помогать Софье Васильевне редактировать ее математическую работу для напечатания в немецком журнале. Друзья видели, как расцвела Ковалевская в присутствии своего немецкого собрата: она помолодела и похорошела; вместо черного траурного платья надела светло-голубое; цвет лица стал нежнее, густые темно-каштановые волосы красивыми локонами обрамляли голову; грусть сменилась блестящей веселостью; остроумие сопровождало появление Софьи Васильевны в обществе; смелыми парадоксами была наполнена ее речь; сыпались полу-саркастические и полу-добродушные шутки. Так длилось два года, дальше шуток и парадоксов дело не пошло. Ковалевская не давала голосу сердца заглушить веления рассудка. В это время уже начал «осуществляться план работы о вращении твердого тела, и Софья Васильевна писала М. В. Мендельсон, с которой они взаимно делились всеми сердечными радостями и невзгодами: «Новый математический труд, недавно начатый мною, живо интересует меня теперь, и я не хотела бы умереть, не открыв того, что ищу. Если мне удастся разрешить проблему, которою я занимаюсь теперь, то имя мое будет занесено среди имен самых выдающихся математиков». В то же время Софья Васильевна боялась превратиться «в учебник математики, который открывают только тогда, когда ищут известные формулы, но который перестает интересовать, когда попадает на полку, среди других книг». «Впрочем, — добавляет она, — я провела значительную часть моей жизни в подобном настроении и привыкла к нему. Несмотря на все, я верю в прекрасный сверкающий закат солнца в будущем». А пока не должно быть ничего на свете выше науки, для которой только и стоит жить. Все другое: личное счастье, любовь, восхищение природой, мир фантазии, — «все это пустяки». Но все личное не хотело подчиниться таким рассуждениям. В январе 1888 года Ковалевская познакомилась с 27-летним Фритьофом Нансеном. Молодой зоолог уже замышлял тогда героические походы в полярные страны и дал Софье Васильевне прочитать свой план первого лыжного перехода через ледяное плато Гренландии. Отважный и смелый норвежец пленил воображение Ковалевской. «Я нахожусь в настоящую минуту под влиянием самого увлекательного и возбуждающего чтения, какое мне когда-либо случалось встречать, — писала она в Рим А.-Ш. Леффлер. — А именно, я получила сегодня от Нансена небольшую статью его с изложением плана предполагаемой поездки по льдам Гренландии. Прочитав, ее, я совершенно упала духом. Теперь он получил от датского коммерсанта Гамеля 5000 крон на, это путешествие и, конечно, ничто на свете не в состоянии будет заставить его отказаться от этой поездки. Нансен слишком хорош, чтобы рисковать своею жизнью в Гренландии». Софья Васильевна также произвела сильное впечатление на Нансена, и это знакомство, по свидетельству А.-Ш. Леффлер, могло бы иметь решающее влияние на их дальнейшую судьбу, если бы между ними ничего не стояло. Нансен был уже помолвлен и считал нужным, сдерживать свой порыв. Софья Васильевна колебалась. Ковалевская вообще боялась отдаться одному только чувству любви, мечтала о таком союзе 'между двумя людьми, который представлял бы собою союз двух умов, взаимно поддерживающих друг друга и могущих приносить действительно зрелые плоды только при условии совместной работы. Она ждала встречи с таким человеком и дождалась. Но это оказался не тихий закат последней любви, блаженного умиротворения и покоя, это была жгучая страсть безнадежности и отчаяния. В «Отрывке из романа, происходящего на Ривьере», Софья Васильевна так рисует своего героя — профессора Михаила Михайловича Званцева: «Фигура его была не из таких, которые забываются. Поэтому даже случайные знакомые всегда узнавали его после многих лет разлуки. Массивная, очень красиво посаженная на плечах голова представляла много оригинального… Всего красивее были глаза, очень большие даже для его большого лица и голубые при черных ресницах и черных бровях. Лоб, несмотря на все увеличивающиеся с каждым годом виски, тоже был красив, а нос — для русского носа был замечательно правильного и благородного очертания». Дальше в «Отрывке» — восторженное, дышащее влюбленностью описание всяких достоинств Званцева и подробности из его профессорской и политической биографии. Все, что говорится в «Отрывке» о Званцеве, Точно воспроизводит портрет популярного в 80-х годах во всем культурном мире профессора Московского университета Максима Максимовича Ковалевского, с которым Софья Васильевна впервые встретилась в Париже еще при жизни своего мужа. Встреча была мимолетная, в обстановке, не располагавшей к продолжению знакомства, и не оставила у обоих яркого впечатления. Новая встреча с Ковалевским произошла спустя целый ряд лет при совершенно изменившихся обстоятельствах. М. М. Ковалевский (1851–1916) происходил из богатой украинской помещичьей семьи. Счастливые условия материальной жизни дали ему возможность развить свои богатые природные способности. В 1877 году он имел ученую степень магистра и занял в Московском университете кафедру государственного права и сравнительной истории права. Талантливый и остроумный оратор, он был убежденным конституционалистом, и на своих лекциях говорил студентам: «Я должен вам читать о государственном праве, но так как в нашем государстве нет никакого права, то как же я вам буду читать?» В частных кружках и гостиных Ковалевский был еще более смел и дерзок на язык. Его резкие отзывы о слишком реакционной политике правительства дошли до придворных кругов, и министру народного просвещения было предложено уволить фрондера из университета. Министр И. Д. Делянов поручил своим подчиненным по Москве проследить за вредным профессором, те прислали нужный ему донос, и Делянов уволил Ковалевского в июне 1887 года из университета. Максим Максимович оставил Россию, объездил крупнейшие центры Западной Европы, Балканского полуострова и Америки, всюду выступал с публичными лекциями и мигал эпизодические курсы в разных университетах. После революции 1905 года Ковалевский проявил себя как самый умеренный либерал, стоящий почти в одном ряду с октябристами. В. И. Ленин часто отмечал тогда контрреволюционную по существу роль примиренческого либерализма Ковалевского и всегда указывал на вредное влияние его парламентских выступлений. Но в 1887 году, когда М. М. Ковалевский приехал в Европу в качестве опального профессора, изгнанного из России диким произволом царского правительства, он был одним из самых популярных людей на Западе. Еще в 70-х годах он был в дружеских отношениях со многими выдающимися общественными деятелями, учеными и писателями всего мира, в том числе с К. Марксом и Ф. Энгельсом, ценившими его обширные знания и остроумную беседу. В 80-х годах его популярность на Западе значительно выросла. В разгар этой славы Максим Максимович был приглашен в Стокгольмский университет и в день приезда в столицу Швеции встретился с Софьей Васильевной. Это произошло в январе 1888 года, когда Ковалевская была сильно огорчена предстоящим путешествием Фритьофа Нансена. Через несколько дней она писала А.-Ш. Леффлер, в ответ на утешения последней по поводу отъезда Нансена и сообщения, что у него есть невеста: «Дорогая Анна-Шарлотта. Женщина часто изменчива, безумец тот, кто ей доверяется. Если бы твое письмо с тем же содержанием и с тем же ужасным сообщением было получено мною несколько недель тому назад, оно, конечно, сокрушило бы совершенно мое сердце. Но теперь, к собственному стыду, должна признаться, что, прочитав вчера твои глубоко сочувственные строки, я разразилась громким хохотом. Вчерашний день был вообще тяжелый для меня, потому что вечером уехал М. Ковалевский. Надеюсь, что кто-нибудь из семьи успел уже сообщить тебе о перемене в наших планах, так что незачем распространяться больше на этот счет. В целом эта перемена очень счастлива для меня, потому что, если бы М. остался здесь, я не знаю, право, удалось ли бы мне окончить свою работу. Он такой большой, такой крупный и занимает так ужасно много места не только на диване, но и в мыслях других, что мне было бы положительно невозможно в его присутствии думать ни о чем другом, кроме него. Хотя мы во все время его десятидневного пребывания в Стокгольме были постоянно вместе, большею частью глаз на глаз, и не говорили ни о чем другом, как только о себе, притом с такою искренностью и сердечностью, какую тебе трудно даже представить себе, тем не менее я еще совершенно не в состоянии анализировать своих чувств к нему». Охарактеризовав впечатление, произведенное М. М. Ковалевским на нее, стихами Альфреда де-Мюссе о человеке, который слишком радостен и все-таки хмур, отвратительный сосед и превосходный товарищ, слишком суетлив и очень солиден, наивен и чрезмерно пресыщен, искренен и очень хитер, — Софья Васильевна продолжает восхищаться своим новым приятелем: «К довершению всего, — настоящий русский с головы до ног. Верно также и то, что у него в мизинце больше ума и оригинальности, чем сколько можно было бы выжать из обоих супругов NN вместе, даже если бы положить их под гидравлический пресс». Уже ничто больше не интересует Софью Васильевну, кроме общества Ковалевского, и она отказывается от поездки в Болонью на какое-то юбилейное празднество, на которое собиралась поехать прежде, потому что «эти торжественные собрания слишком скучны». Она предпочитает уехать с Ковалевским в Италию и отправиться оттуда в дальнейшее путешествие с ним. Еще один план возник у Софьи Васильевны в связи с новым знакомством. «Мне ужасно хочется, — сообщает она приятельнице, — изложить этим летом на бумаге те многочисленные картины и фантазии, которые роятся у меня в голове… Никогда не чувствуешь такого сильного искушения писать романы, как в присутствии М. Ковалевского, потому что, несмотря на свои грандиозные размеры (которые, впрочем, нисколько не противоречат типу истинного русского боярина), он самый подходящий герой для романа (конечно, для романа реалистического направления), какого я когда-либо встречала в жизни. В то же время он, как мне кажется, очень хороший литературный критик, у него есть искра божья». Софья Васильевна видела в Ковалевском одни только положительные качества, он был для нее олицетворением всего возвышенного и рыцарственного. Она была уверена, что любовный союз между нею и Максимом Максимовичем будет именно тем союзом двух умов, который может принести зрелые плоды при совместной работе. Но как в браке с Владимиром Онуфриевичем семейному счастью Софьи Васильевны в значительной степени мешало то, что оба супруга представляли собою крупные индивидуальности, для которых их научные занятия были настолько дороги, что они не могли подчинить их никаким чувствам и переживаниям, — так в союзе с Максимом Максимовичем стремление Софьи Васильевны к домашнему покою разбивалось о слишком резкую противоположность их личных особенностей. С. В. Ковалевская была натура целеустремленная и настойчивая, самоотверженная при достижении своей основной идеи. Как ни тянуло Софью Васильевну к спокойной семейной жизни, как ни хотелось ей найти удовлетворение своим сердечным влечениям, но желание проложить женщине путь в высшую школу, желание показать, что женщина может и должна занять место в ряду научных деятелей, — преобладало в ней над всем другим. Максим Максимович по возрасту, по всему складу своего характера, по усвоенным с молодых лет навыкам, не умел ценить прелести домашнего очага и находить удовлетворение в звании мужа знаменитой женщины-математика. А его собственные научные интересы были слишком далеки от ученых занятий Софьи Васильевны и требовали к тому же постоянных разъездов по различным культурным центрам, тогда как С. В. Ковалевская ни за какие блага личной жизни не могла и не хотела в преддверии своего триумфа отказаться от положения, достигнутого с таким трудом и неимоверными лишениями. Скоро обнаружилось, что общение С. В. и М. М. Ковалевских очень далеко от того союза двух любящих друг друга лиц, о котором мечтала Софья Васильевна. Обоим приходилось насиловать себя. Летом, 1888 года Ковалевские встретились в Лондоне и совершили большое путешествие по Европе: устраивали прогулки, посещали музеи и картинные галлереи. Затем, в течение всего года были почти неразлучны, и Софье Васильевне грозила опасность не кончить к сроку свое исследование на конкурс Парижской академии. Работать приходилось урывками, во время отъезда М. М. из Стокгольма, работать напряженно, до синевы под глазами и сердечных припадков. Все это причиняло Ковалевской огромные страдания, отравляло ей творческие радости, сделало постылым даже самый момент ее ученого триумфа. Через несколько дней после получения премии за работу о движении твердого тела, чуть ли не с самого торжественного заседания Парижской академии, на котором присутствовал М. М. Ковалевский, она писала Г. Миттаг-Леффлеру: «Дорогой Гэста! Я только что получила ваше любезное письмо. Как я благодарна вам за вашу дружбу. Да, право, я начинаю думать, что это единственное хорошее, что было послано мне в жизни. И как мне совестно, что я до сих пор так мало сделала, чтобы доказать вам, как глубока я ценю ее. Но не вините меня за это, дорогой Гэста, я, право, совершенно не владею собою в настоящую минуту. Со всех сторон мне присылают поздравительные письма, а я, по странной иронии судьбы, еще ни разу в жизни не чувствовала себя такою несчастною, как теперь. Несчастна, как собака! Впрочем, я думаю, что собаки, к своему счастью, не могут быть никогда так несчастны, как люди, И в особенности, как женщины… В настоящую минутуединственное, что я могу сделать, это сохранить про себя свое горе, скрыть его в глубине своей души, стараться вести себя возможно осмотрительнее в обществе и не давать поводов для разговоров о себе». С. В. Ковалевская страдала от сознания, что математика становится между нею и Максимом Максимовичем, она понимала, что, добытая ценою почти полного физического изнурения, слава вызывает его охлаждение к ней. Она говорила, что певица или актриса, осыпаемые венками, могут легко найти доступ к сердцу мужчины, благодаря своим триумфам. Того же может достигнуть женщина, вызывающая своей красотой восторги в гостиной. Но что привлекательного для мужчины в женщине, преданной науке, трудящейся до красноты глаз и до морщин на лбу над математическим сочинением на премию? Софья Васильевна мучала себя и М. М. Ковалевского своими требованиями: устраивала ему, по словам А.-Ш. Леффлер, страшные сцены ревности; они много раз совершенно расходились в сильном взаимном озлоблении, снова встречались, примирялись и вновь резко рвали все отношения. Когда же случайные недоразумения разъяснялись и Софья Васильевна в Стокгольме получала от Максима Максимовича успокоительное письмо, она оживала, смеялась от радости и, кружась в восторге по комнате, восклицала: «О, что за счастье! Я не в силах вынести этого! Я умру! Что за счастье!» И в тот же день, бросив дела и лекции, мчалась в Париж. Не в одних только развлечениях и празднествах проходило время Софьи Васильевны в Ницце или в Париже, куда она чаще всего ездила из Стокгольма. М. М. Ковалевский имел большие знакомства в кругах международной эмиграции, на его вилле собирались представители разных западноевропейских политических партий, русские революционеры и либеральные общественные деятели. Никакой революции на вилле Болье не готовили, но беседы велись бесконечные. Софья Васильевна, по словам Ковалевского, отдыхала там от преклонения перед ее математическим гением и оживала в страстных спорах на тему, скоро ли настанет конец реакции в России и как достигнуть этого, — довольствоваться ли одной культурной работой или заниматься пропагандой в народе. Она выказывала в этих беседах всю силу своего ума, поражала способностью быстро разобраться в совершенно чужой, области и редкой памятью, позволявшей схватывать то, что многим дается только путем продолжительного изучения. Она умела ясно различать главное от второстепенного, метко направляя удары в центральное место возводимого противником здания и оказывая необоснованность его положений. Проявляя большой интерес к общественным вопросам, она жестоко высмеивала профессиональных политиков, у которых не хватало смелости додуматься до конечных решений. В Париже Софья Васильевна часто встречалась и была в дружеских отношениях с П. Л. Лавровым, Г. Ф. Фоль-маром, с польскими революционерами, с русскими народовольцами. Она принимала близко к сердцу их революционные дела, волновалась за их судьбу, спрашивала в переписке с друзьями об участи арестованных, помогала им в пределах своих возможностей и старалась создать в шведском обществе атмосферу сочувствия к русским революционерам. Так, например, в конце 1883 года С. В. Ковалевская просила П. Л. Лаврова указать ей где можно достать издания русских революционеров, появившиеся в последнее время. Они были нужны для известного путешественника А. Норденшельда, которого царское правительство не допустило к профессуре в Финляндии за радикальные политические убеждения и который просил у Софьи Васильевны сведений о положении социализма и нигилизма в России. «Я думаю, — добавляет она, — что это очень полезно распространять здесь всеми способами сочувствие к нигилизму, тем более, что Швеция такая естественная и удобная станция для всех, желающих покинуть матушку Россию внезапно). Возмущала ее, во время недавнего пребывания на родине, трусость либерального общества, представлявшего собой безотрадную картину: под влиянием реакции все были там охвачены апатией, недоверием друг к другу и откровенным желанием быть в стороне от всякой политики. Софья Васильевна не могла даже разузнать в России, точно ли Чернышевского вернули и в каком он находится положении. Никому и в голову не приходило серьезно интересоваться этим. «Вернули — ну, пусть вернули; здоров он или с ума сошел, это не наше дело!»
 С. В. Ковалевская (1876 г.)
С. В. Ковалевская (1876 г.)
 М. М. Ковалевский (80-е годы)
М. М. Ковалевский (80-е годы)
Особенно ярко выражен интерес С. В. Ковалевской к социальным вопросам в ее переписке с Г. Фольмаром (1850–1922), который в начале 80-х годов примыкал к левому крылу немецкой социал-демократии. Так, в апреле 1882 года Софья Васильевна писала Фольмару, что считает своевременным возвращение к жизни учреждения, подобного Интернационалу, «только с более строгой организацией и с более определенными целями. Я особенно утверждаюсь в этой мысли при наблюдении нашей русской эмиграции, погибающей от недостатка деятельности, — подчеркивает она. — И все-таки, не думаете ли вы, что эта эмиграция, бесспорно проявляя энергию и здесь, в Западной Европе, могла бы сослужить хорошую службу общему делу при хорошем руководстве? В последнее время я много фантазировала на эту тему». По-видимому, Софья Васильевна склонна была тогда принять деятельное участие в политической жизни вообще и в революционных организациях в частности. Несомненно, под влиянием величайшей популярности партии «Народная воля», Ковалевская писала в мае 1882 года Фольмару: «При современных условиях спокойное буржуазное существование для честного и мыслящего человека возможно только в том случае, если намеренно закрыть на все глаза, отказаться от всякого общения с другими людьми и отдаться исключительно абстрактным, чисто научным, интересам. Но тогда следует самым тщательным образом избегать всякого соприкосновения с действительной жизнью; иначе возмущение несправедливостью, которую видишь всюду вокруг тебя, станет так велико, что все интересы побледнеют перед интересами великой экономической борьбы, развертывающейся перед нашими глазами, а искушение самому вступить в ряды борцов станет слишком сильно. До сих пор я сама всегда придерживалась первого. В эпоху французской Коммуны я была еще слишком молода и слишком сильно влюблена в мою науку, чтобы иметь правильное представление о том, что происходит вокруг меня, С того времени я не выходила из тесного круга моих товарищей по науке и некоторых семейных друзей. Я сама, правда, считала себя за социалистку (в принципе и с некоторыми оговорками), но должна вам признаться, что решение социального вопроса казалось мне столь далеким и темным, что захватывающе отдаваться этому делу мне казалось не стоящим для серьезного ученого, способного сделать нечто лучшее. Но теперь, после того, как я прожила пять месяцев в Париже и вошла в тесное общение с социалистами разных национальностей, даже нашла среди них одного очень дорогого мне друга, для меня все совершенно переменилось. Задачи теоретического социализма и, размышления о способах практической борьбы теснятся передо мною столь неотразимо, так занимают меня постоянно, что я действительно с трудом только могу принудить себя сосредоточить мои мысли на моей собственной работе, стоящей так далеко от жизни. Нередко даже мною овладевает мучительное чувство, что то, чему я отдаю все мои помыслы и мои способности, может представлять некоторый интерес только для очень небольшого числа людей, тогда как теперь каждый обязан посвятить свои лучшие силы делу большинства. Когда мною овладевают подобные мысли и сомнения, я весьма склонна завидовать тем, кто уже так захвачен практической деятельностью, что им не остается больше никакого выбора и никакой возможности самостоятельного решения, ибо вся их деятельность строго предписывается обстоятельствами и требованиями их партии». Все эти высказывания не были основаны на глубоком убеждении Софьи Васильевны в необходимости отдать свои силы служению революции предпочтительно перед занятием чистой наукой. Это были только временные настроения. Все-таки они чрезвычайно характерны для Софьи Васильевны, которая высказывала такие мысли в ту самую пору, когда многие, более близкие в недавнем прошлом к революционным и радикальным группировкам, отказались от своих идеалов и в лучшем случае стали проповедывать теорию так называемых малых дел. После переезда Софьи Васильевны в Швецию, в ее письмах уже не встречаются сожаления по поводу того, что она не занялась своевременно революционной деятельностью. Однако, она часто запрашивала П. Л. Лаврова и свою близкую приятельницу, польскую революционерку М. В. Мендельсон-Янковскую, о разных революционерах. Летом 1890 года С. В. и М. М. Ковалевские совершили большую поездку по Европе, закончившуюся самой сильной их размолвкой. После этого Софья Васильевна писала А.-Ш. Леффлер в ответ на ее запрос о том, как обстоит ее дело с Максимом Максимовичем: «решила никогда больше не выходить замуж, не желая поступать так, как поступает большинство женщин, которые при первой возможности выйти замуж забрасывают все свои прежние занятия и забывают о том, что они считали раньше своим призванием». Но хотя Софья Васильевна и заявила так уверенно, что «решила никогда больше не выходить замуж», друзья ее и Максима Максимовича ждали предстоящего летом 1891 года оформления их брака; об этом после смерти Софьи Васильевны писала в ее биографии М. Бунзен. Это подтверждает и заявление племянника Максима Максимовича, Е. П. Ковалевского, который после смерти дяди писал: «Пребывание в Стокгольме закрепило и углубило его отношения к Софье Васильевне, вначале только дружеские, а позднее чуть не приведшие к браку. Этот союз не состоялся, и вряд ли он даже мог быть особенно счастлив: слишком самобытны и крупны были обе личности. Однако теплота отношения М. М. к этой замечательной женщине сохранилась и пережила ее на 25 лет… Письма ее к М. М. многочисленные и интересные, были им сохранены до конца жизни». Браку Софьи Васильевны с Максимом Максимовичем не суждено было свершиться вследствие смерти Ковалевской. Тогда М. М. Ковалевский пытался усыновить ее дочь, но и это не осуществилось по разным причинам. Он сохранил в своем архиве различные рукописи С. В. Ковалевской, поступившие впоследствии вместе с его бумагами в собрание Академии наук, принял самое деятельное участие в осуществлении посмертного издания литературных произведений Софьи Васильевны и выпустил за границей ее историко-революционный роман «Нигилистка».
С. В. КОВАЛЕВСКАЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И НАУКЕ
Литературные стремления Софьи Васильевны зародились в середине 70-х годов, во время бесед с Достоевским, Тургеневым и писателями, группировавшимися вокруг «Нового времени» в первый период существования газеты. После петербургских опытов, прерванных уходом Ковалевских из «Нового времени», Софья Васильевна снова занялась литературой в середине 80-х годов. Вся ее писательская деятельность прошла в Стокгольме. Выпустившая до приезда Ковалевской в Швеции целый ряд беллетристических и драматических произведений, А.-Ш. Леффлер заявляет, что знакомство с Софьей Васильевной имело сильное влияние на ее дальнейшее писание. Способность Ковалевской схватывать и понимать мысли других была так велика, одобрение ее, когда она что-нибудь хвалила, так горячо и проникнуто пылким энтузиазмом, ее критические замечания, когда ей что-нибудь не нравилось, так метки и верны, что шведская романистка быстро подпала под ее влияние и не могла ничего писать без ее одобрения. В начале 1886 года Ковалевская и Леффлер задумали совместно большую драму, разделенную на два представления и состоящую из десяти актов. Идея принадлежала Софье Васильевне, Леффлер должна была обработать ее и написать реплики. «Я не помню, — рассказывает шведская писательница про Софью Васильевну в это время, — чтобы я когда-нибудь видела ее такою счастливою, буквально сияющею от счастья, как в это время. На нее находили такие припадки жизненной радости, что она должна была уходить в лес, чтобы выкричать там свою радость под открытым небом. Мы ежедневно делали продолжительные прогулки в лесу Лилль-Янс, прилегавшем к нашему кварталу, и здесь она, как ребенок, прыгала с камня на камень, пробиралась через кусты, бросалась мне на шею, танцовала и громко кричала, что жизнь невыразимо хороша, а будущее восхитительно и полно самых чудных обещаний». Содержание пьесы заключалось в апофеозе любви и картине будущего идеального общества, где все живут для всех, а двое любящих людей друг для друга. На многих сценах и репликах пьесы отразились личные переживания Софьи Васильевны и мечты ее о семейном счастьи. Драма написана в короткий срок, ставилась в Швеции и несколько раз прошла в России под названием «Борьба за счастье». Видевший пьесу крупный европейский театральный деятель, руководивший театрами в Париже, Берлине, Мюнхене и Копенгагене, талантливый датский романист Герман Банг (1858–1912) писал, что он любит «эту необыкновенную драму, которая с математическою точностью доказывает всемогущую силу любви, доказывает, что только она и одна она составляет все в жизни, что только она придает жизни энергию или заставляет преждевременно блекнуть. Она одна дает возможность развиваться и сделаться сильным и могучим. Только благодаря ей можно неуклонно итти вперед, исполняя свой долг». Известный московский театральный критик Н. Е. Эфрос, смотревший пьесу Ковалевской на русской сиене, также отзывается о ней с похвалой. Он отмечает, что героиня «Борьбы за счастье» Алиса «говорит, иногда с острою душевною болью, иногда с пламенным энтузиазмом, то, что лежало на душе у Ковалевской; четко отпечатлелся на драме весь духовный строй русского автора». «Драма не загостилась в русском репертуаре, может быть, потому, — пишет Н. Е. Эфрос, — что в ту пору характер ее был слишком необычен, не прошел еще русский зритель через школу ибсеновской драматургии. В пьесе этой, помимо тех глубоких философских предпосылок, из которых исходило творчество автора, социальных его воззрений и грез о лучшем укладе социальных отношений, заключен и богатый чисто драматический материал. В оригинальном разрезе дан конфликт человека и среды, гения и толпы. Ковалевская сумела дать ряд ярких сцен, в которых театральная эффектность и внутренняя содержательность уживаются мирно, не насилуя одна другую, не мешая одна другой. Сила — не в одиночестве, сила — в единении, — таков последний, торжественный аккорд «Борьбы за счастье». Личные переживания и социальные воззрения автора отражены в той или иной форме во всех других литературных трудах Софьи Васильевны. Наиболее известное из всех ее произведений — «Воспоминания детства», написанные приблизительно в 1888 году, представляют собою мемуары, обработанные на основании позднейших впечатлений, научных знаний и философских взглядов Ковалевской. Они имеют вполне заслуженную репутацию одной из лучших художественно-психологических картин деревенской жизни крупнопомещичьей семьи в эпоху подготовки и осуществления крестьянской реформы. С большим мастерством здесь обрисованы домашний быт дворянства, обстановка и условия воспитания детей и представлены взаимоотношения его со своими дворовыми. Примеры выбраны единичные, но достаточно яркие и впечатлительные. Ясно и четко выписаны портреты-характеристики целого ряда представителей эпохи. Наиболее удавшимися из них является образ старшей сестры автора — Анны Васильевны Корвин-Круковской и художественно-правдиво воспроизведены ее беседы с Ф. М. Достоевским. Затем следует единственный для определенного момента и чрезвычайно интимного круга переживаний незабываемый портрет Ф. М. Достоевского в эпоху создания «Преступления и наказания. Знаменитый писатель представлен в «Воспоминаниях» со всем своим страстным темпераментом, со всеми особенностями своего отношения к условностям быта так называемого верхнего слоя общества, со всей пылкостью своей речи, с его романическим увлечением Анной Васильевной. Рассказ Софьи Васильевны о Достоевском дает интересный материал для его биографии и является ценным вкладом в литературу о нем. Превосходен детский образ самой Ковалевской: хорошо показано превращение девочки в подростка, формирование целеустремленного и настойчивого характера Софьи Васильевны. Из других литературных произведений Ковалевской к воспоминаниям-характеристикам относится обстоятельный литературно-психологический портрет известной английской писательницы Джорж Элиот. Здесь дан живой и проницательный разбор произведений английской романистки и своеобразно, хотя эскизно, обрисованы Жорж Занд, Альфред де-Мюссе и Герберт Спенсер. Большой художественный интерес представляет собою автобиографический очерк под названием «Отрывок из романа, происходящего на Ривьере», Все перечисленные произведения показывают Софью Васильевну, как писательницу, обладающую лирическим талантом и творческим воображением. Здесь имеются уже налицо все признаки большой литературной силы, которая не могла выявиться полностью вследствие недолговременной писательской деятельности Ковалевской и слишком ранней смерти, ее. Переход Софьи Васильевны к художественной беллетристике обнаруживается в двух набросках к роману, напечатанных под названием «Vae victis» («Горе побежденным»). Единственный роман Ковалевской в прямом смысле слова, «Нигилистка», — произведение незаконченное и не дает достаточного представления о литературно-художественном таланте автора. В печати роман появился в сводном тексте, составленном друзьями Софьи Васильевны из отдельных глав, написанных ею на разных языках — по-шведски, по-французски и по-русски. М. М. Ковалевский заявляет, что он «принужден был восполнить немногими вставками не особенно значительные пропуски». Конечно, С. В. Ковалевская сильно переработала бы этот роман в художественно-композиционном и стилистическом отношениях. Но и в настоящем виде он представляет значительный интерес. Содержание романа следующее. Молодая графиня Вера Баранцова, происходящая из старинного дворянского рода, старшие представители которого принадлежат к правящей верхушке, увлекается народническими идеями. Проникнутая жертвенным настроением, она решает ценою собственной свободы и отказом от всех житейских удобств и навыков облегчить участь одного из осужденных по большому процессу революционеров-cемидесятников. Жертва приносится для студента-медика, еврея Павленкова, которого Баранцова никогда не видела, но который, единственный из всех осужденных по процессу, не имеет родственников, Неимоверными усилиями и чрезвычайной настойчивостью Вера добивается разрешения обвенчаться с лишенным всех гражданских прав Павленковым — просто потому, что это единственное средство спасти его. Баранцова узнала, что женатым осужденным дают в пути и в Сибири некоторые льготы, а их женам разрешается следовать за ними. Обвенчавшись с Павленковым в тюремной церкви, «нигилистка» отправляется с ним на каторгу. Ковалевская не сумела или, вернее, не успела обобщить выбранный для романа случайный эпизод из истории народнического движения; во всяком случае, не завершила его развития, логически вытекающего из всего произведения. В лице Веры Баранцовой она представила экзальтированную мечтательницу — фигуру наименее характерную для поколения революционерок-семидесятниц. Мотив жертвенности и неспособности возвыситься до революционного действия проходит через всю книгу. Более ярко намечается в романе образ Павленкова, который, по-видимому, должен был стать центральной фигурой второй части произведения. При многих своих недостатках роман «Нигилистка» имеет большие достоинства, как документ для восстановления картины экономических и бытовых изменений, происшедших в России после отмены крепостного права. В этом отношении роман представляется ценным дополнением к соответственным местам из «Воспоминаний детства», давая вместе с ними большое и яркое полотно русского помещичьего быта в эпоху преобразования феодально-крепостнического государства в промышленно-капиталистическое. «Нигилистка» при жизни автора по-русски не печаталась; несколько раз выпущена была за границей после смерти Ковалевской, издана в России в 1906 году и переиздана в СССР в 1928 году; роман много раз выпускался за границей на других языках под названием «Вера Воронцова». До первой революции и после 1906 г. было несколько попыток легально ввезти роман «Вера Воронцова» в Россию. Правительство всякий раз запрещало распространение книги. В некоторых изданиях к роману был приложен отрывок из «Воспоминаний» Ковалевской о польском восстании 1863 года, что также служило поводом к запрещению книги в России, в виду сочувствия автора повстанцам и отрицательного изображения главного усмирителя восстания — Муравьева-вешателя. Софья Васильевна высказывалась о своей литературной деятельности несколько раз. Наиболее полно отражен ее взгляд на писательство в письме к романистке А. С. Шабельской-Монтвид. «Я понимаю, что вас так удивляет, что я могу заниматься зараз и литературой и математикой, — писала Ковалевская. — Многие, которым никогда не представлялось случая более узнать математику, смешивают ее с арифметикою и считают ее наукой сухой. В сущности же это наука, требующая наиболее фантазии, и один из первых математиков нашего столетия говорит совершенно верно, что нельзя быть математиком, не будучи в то же время и поэтом в душе. Только, разумеется, чтобы понять верность этого определения, надо отказаться от старого предрассудка, что поэт должен что-то сочинять несуществующее, что фантазия и вымысел одно и то же. Мне кажется, что поэт должен только видеть то, чего не видят другие, видеть глубже других. И это же должен и математик. Что до меня касается, то я всю жизнь не могла решить: к чему у меня больше склонности, к математике или к литературе. Только что устанет голова над чисто абстрактными спекуляциями, тотчас начинает тянуть к наблюдениям над жизнью, к рассказам, и, наоборот, в другой раз вдруг все в жизни начинает казаться ничтожными и неинтересным, и только одни вечные, непреложные, научные законы привлекают к себе. Очень может быть, что в каждой из этих областей я сделала бы больше, если бы предалась ей исключительно, но тем не менее я ни от одной из них не могу отказаться совершенно». В своих воспоминаниях Ковалевская говорит, что еще в раннем детстве она любила поэзию. Самая форма, самый размер стихов доставляли ей необычайное наслаждение, и она с жадностью поглощала все отрывки из произведений русских поэтов, какие попадались ей на глаза. Баллады Жуковского долго были единственными известными ей образцами русской поэзии, так как в доме не было ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Некрасова. Только из хрестоматии Софья Васильевна познакомилась с этими поэтами и несколько дней после этого повторяла вполголоса строфы из «Мцыри» или из «Кавказского пленника». «Размер стихов всегда производил на меня такое чарующее действие, что уже с пятилетнего возраста я сама стала сочинять стихи», — рассказывает Ковалевская, после которой осталось несколько стихотворений философского и автобиографического содержания, не отличающихся большими художественными достоинствами. В последний год своей жизни С. В. Ковалевская работала над повестью о великом революционном писателе Н. Г. Чернышевском. «Теперь я заканчиваю еще одну новеллу, — писала она в октябре 1890 года своей приятельнице, польской революционерке М. В. Мендельсон. — Путеводной нитью ее является история Чернышевского, но я изменила фамилии для большей свободы в подробностях, а также и потому, что мне хотелось написать ее так, чтобы и филистеры читали ее с волнением и интересом. Я окончу ее через несколько дней». В печати эта повесть не появлялась и в литературе о ней ничего не известно, а в рукописях С. В. не найдено черновиков, относящихся к этой теме. В период увлечения С. В. Ковалевской спекуляциями и светской рассеянной жизнью, Вейерштрасс был уверен, что она не изменит науке и что потребность творчества тем сильнее вспыхнет у нее, чем длительнее будет период воздержания. Старый профессор, до которого доходили слухи о петербургской жизни Ковалевских, пользовался всяким случаем напомнить своей любимой Соне об ее истинном призвании. Хотя Ковалевская подолгу не писала Вейерштрассу даже после того, как Миттаг-Леффлер лично передал ей привет учителя, Вейерштрасс продолжал ободрять ее и поощрять к занятиям математикой. Миттаг-Леффлер пытался в конце 70-х годов устроить для Софьи Васильевны должность доцента в Гельсингфорском университете, и Ковалевская склонялась к мысли о принятии такого предложения. Но кроме формальных препятствий к осуществлению этого плана, которые можно было, в конце концов, преодолеть, профессура в Финляндии грозила порвать тонкую нить, поддерживавшую семейную жизнь Ковалевских. Меж тем Софья Васильевна не решалась тогда на такой шаг: еще не были твоем изжиты мечты о богатстве, а формальная связь между Ковалевскими укрепилась рождением дочери. Миттаг-Леффлер не оставлял мысли привлечь Ковалевскую к преподаванию в высшей школе. В 1881 году он был избран профессором во вновь учрежденный Стокгольмский университет и выдвинул проект приглашения туда Софьи Васильевны в качестве доцента. Стокгольмский университет был основан в 1878 году. Либеральные круги общества организовали его в противовес древнему шведскому университету в Упсале, где сильны были консервативные традиции. Упсальский университет, основанный в конце XV столетия, страдал недостатками всех старых университетов в маленьких европейских городах, где общественная жизнь застыла на уровне средневековья. Самостоятельной умственной жизни в Упсале не было: во время разъезда студентов на каникулы городок, по выражению одного историка, погружался в сон, и мухи дохли там от скуки. Профессора жили замкнуто, в тесном кругу своих семейных интересов, и по-семейному вершили университетские дела. Кумовство процветало всюду, главным образом, в деле замещения освобождающихся кафедр. В затхлую атмосферу маленького городка, насчитывавшего меньше 20000 жителей и являвшегося центром церковного управления страны, трудно было проникнуть новым идеям. Все это, конечно, не нравилось сильно разросшемуся буржуазному населению Стокгольма. Кроме того семьи столичной буржуазии испытывали неудобства от необходимости посылать своих сыновей за высшим образованием в Упсалу, за 66 км. от Стокгольма. Поэтому организаторам университета было очень легко собрать в самый короткий срок крупные пожертвования среди имущего населения столицы. Городское управление также отпустило на это дело большие средства, а затем и правительство, под давлением общественного мнения, стало принимать участие в расходах на содержание нового университета. Вместе с тем новой высшей школе удалось сохранить независимость от правительственных чиновников. Софья Васильевна написала Миттаг-Леффлеру, что с радостью примет место доцента в Стокгольме, если оно будет предложено официально. Ей очень хотелось бы получить возможность преподавать в высшей школе, чтобы этим путем открыть женщинам доступ в университет, разрешавшийся им до сих пор лишь в виде особой милости, которая может быть во всякое время отнята, как в большинстве университетов. Заявляя, что вопрос о вознаграждении не имеет для нее значения, так как у нее есть достаточно средств, чтобы жить независимо, Ковалевская пишет Леффлеру, что она желает главным образом служить всеми силами дорогой для нее идее и работать в среде лиц, занимающихся тем же делом, что и она. Это счастье, которое никогда не выпадало ей на долю в России. Однако, по разным причинам приглашение это в 1881 году не состоялось. После смерти мужа Ковалевская охотно приняла новое предложение своего шведского друга. Письмо Миттаг-Леффлера в 1883 году Софья Васильевна получила в России, куда приехала разбираться в делах, оставленных Владимиром Онуфриевичем, и радость сознания, что излюбленная мечта претворяется в жизнь, облегчила ей печальные переживания этого года. Предложение Миттаг-Леффлера окрылило творческую мысль Ковалевской и она выступила осенью 1883 года с ученым докладом на седьмом съезде естествоиспытателей в Одессе. Тогда же она была избрана членом математического общества в Париже. Благодаря Миттаг-Леффлера за неизменную дружескую заботливость, Софья Васильевна писала ему, что считает себя мало подготовленной к исполнению обязанностей преподавателя, так как сомневается в своих силах. Но поощряемая его дружбой и ободрением их общего знаменитого учителя Вейерштрасса, Ковалевская готова приступить к своей новой деятельности с глубокой благодарностью молодому Стокгольмскому университету и с горячим желанием полюбить Швецию, как родную страну. «Именно поэтому, — продолжает Софья Васильевна письмо к Миттаг-Леффлеру, — мне хотелось бы не приезжать к вам, пока я не буду считать себя заслуживающею хорошего мнения, которое вы составили обо мне, и пока не буду надеяться произвести на своих слушателей хорошего впечатления». Тогда же она написала Вейерштрассу и просила его разрешить ей приехать на 2–3 месяца в Берлин для занятий под его руководством, чтобы лучше проникнуться его идеями и пополнить некоторые пробелы в своих математических познаниях. Софья Васильевна хотела приехать в Стокгольм только в январе 1884 года, но Миттаг-Леффлер торопил ее, так как ему удалось устроить для нее в университете частный курс. Следовало ковать железо, пока оно горячо, пользуясь создавшейся в стокгольмском обществе обстановкой. Зная свою среду и понимая, что ее снисходительность к женскому равноправию надо вызывать специальными приемами, Миттаг-Леффлер устроил вокруг приглашения Ковалевской в университет рекламную шумиху. В некоторых шведских газетах появились такого рода заметки: «Сегодня нам предстоит сообщить не о приезде какого-нибудь пошлого принца крови или тому подобного, высокого, но ничего не значащего лица. Нет, дело идет о совершенно другом и несравненно важнейшем: принцесса науки, г-жа Ковалевская почтила наш город своим посещением и будет первой женщиной приват-доцентом во всей Швеции». В других писали: «С званием профессора мы привыкли соединять в воображении нашем фигуру старого господина в очках, с несколько согнутой спиной, с длинными седыми волосами, с бородой и в весьма небрежном костюме. К тому же еще, если он настолько рассеян, что смотрит на флюгер трубы, когда хочет знать который час, или надевает жилет сверх фрака, когда идет в общество, то мы заключаем, что он высокоученый профессор. Но наше время — время необыкновенных явлений; вот потому в собрании естествоиспытателей нам пришлось видеть, в противоположность старому и седоволосому педанту в, очках, молоденькую даму-профессора». Затем рассказывается о родстве Софьи Васильевны через польского графа Круковского с венгерским королем; об ее влюбленности в Ковалевского, чуждого предрассудков и потому давшего своей 16-летней жене возможность учиться; о том, как Ковалевская «безостановочно трудилась над одной задачей» и доказала, что «при добродетельном сердце женщина способна обладать и самым возвышенным умом ученого». Говорится также, что новый профессор вызывает всеобщее одобрение не только своими познаниями, но и своею очаровательною женственностью, своим терпением и всесторонними способностями.
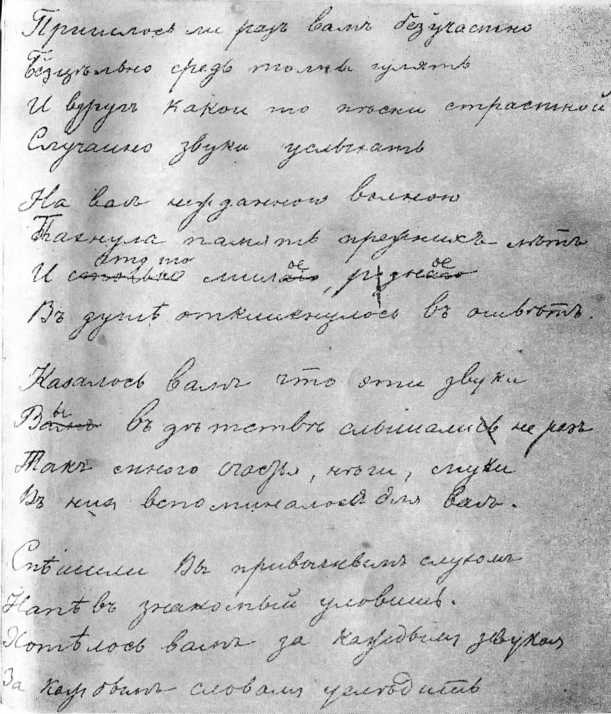 Отрывок стихотворения С. В. Ковалевской (1886 г.)
Отрывок стихотворения С. В. Ковалевской (1886 г.)
 С. В. Ковалевская с дочерью (1886 г.)
С. В. Ковалевская с дочерью (1886 г.)
В личных беседах Миттаг-Леффлер также непрерывно воскурял фимиам, ожидаемой гостье и окружил ее, по словам противников, целым облаком хвастовства… Как передает в недавно изданных по-шведски воспоминаниях дочь профессора Ледгрена, писавшая, на основании личных впечатлений и слышанного от разных лиц, Леффлер заявлял, что Ковалевская путешествует с компаньонкой и каммерфрау. Профессорши всполошились: как им принимать такую знатную даму в своих простеньких квартирах? Особенное же негодование вызвало утверждение Леффлера, что Ковалевская, благодаря своему положению, может не делать им визитов, а лишь отдавать таковые. Тогда профессора вступились за своих жен и объявили, что если Ковалевская не хочет подчиниться обычаям, страны и сама сначала побывать у дам, то они к ней тоже, с поклоном не пойдут. Вся эта кампания, вопреки ожиданиям ее вдохновителя, чуть было не закончилось плохо для Ковалевской. Кроме реакции против газетной шумихи, со стороны профессоров проявилась боязнь конкуренции и типичный для них антифеминизм. Сначала заволновалась упсальская профессорская среда. Когда в Стокгольме было официально объявлено о лекциях Софьи Васильевны, упсальские студенты-математики тотчас вывесили такие же объявления в своем клубе и стали собирать группы желающих поехать в столицу — послушать нового ученого. Негодование упсальских профессоров было так велико, что они устроили специальное заседание совета для изыскания мер борьбы с этим злом. В заседании говорилось, что у Ковалевской нет никаких научных заслуг, сообщались самые чудовищные сплетни о ней и о причинах ее приезда в Стокгольм. Сплетни перешли из зала совета в городские профессорские и близкие им круги, оттуда перекочевали в Стокгольм. Миттаг-Леффлер поспешил исправить свою ошибку. Воспользовавшись фактической неточностью в сообщении одной газеты, он послал письмо в редакцию, в котором попутно сообщал, что Ковалевская будет читать не постоянный и обязательный курс для студентов, а выступит с циклом лекций по наиболее трудному отделу высшей математики для тесного круга желающих. Это, однако, не успокоило стокгольмских профессоров и их жен. В шведской столице русскую «королеву математики», как стали иронически называть Софью Васильевну еще до ее приезда, ждали с известной долей недоброжелательства. Ко всем враждебным Софье Васильевне настроениям присоединилось выступление талантливого шведского писателя Августа Стриндберга, который начал свою литературную деятельность в демократическом духе, но с развитием шведского рабочего движения перешел в лагерь самых яростных реакционеров-церковников. Особенно сильно нападал он в своих драмах, романах и повестях на женское равноправие и доходил в этом отношении до религиозного бреда. По поводу приглашения Ковалевской в Стокгольмский университет Стриндберг напечатал газетную статью, в которой доказывал, по шутливому выражению Софьи Васильевны, «ясно, как дважды два — четыре, насколько такое чудовищное явление, как женский профессор математики, вредно, бесполезно и неудобно». Не только сам профессор: Миттаг-Леффлер, но и его брат — поэт Фриц Леффлер, их сестра — шведская романистка А.-Ш. Эдгрен-Леффлер, вся их семья, пользовавшаяся уважением в Швеции по своим старым культурным связям, — старались сгладить путь Ковалевской на первых порах ее пребывания в Стокгольме. Чтобы сразу ввести ее в столичное общество, Леффлеры, вскоре по приезде Софьи Васильевны, устроили вечер, на который пригласили профессоров с их женами, представителей литературы и других областей искусства. Перед прибытием Ковалевской хозяева обходили гостей и просили присутствующих быть как можно приветливее с приезжей. Личной привлекательностью Софья Васильевна очаровала шведов. По словам Ледгрен, своей естественностью, высокой культурностью, отсутствием всякой кичливости, она победила тех, кто вначале относился к ней с предубеждением. Хорошее знание главных европейских языков и необыкновенная способность к изучению их помогли Софье Васильевне очень быстро усвоить шведский язык и объясняться на нем, но в университете она первое полугодие читала по-немецки. Софья Ковалевская скоро стала чрезвычайно популярна в Швеции. Однако, счастливой она себя не чувствовала. Напоминали о себе недавние переживания в связи с трагической кончиной Владимира Онуфриевича, давала себя знать материальная необеспеченность и беспокоила возможность исков со стороны кредиторов по петербургскому строительству. Сообщая А. О. Ковалевскому, что лекции ее начнутся только в январе 1884 года, Софья Васильевна писала ему в декабре из Стокгольма, что трусит «страшной минуты», когда ей придется встать на кафедру и читать: многое в дальнейшей жизни зависит от того, «пойдут ли, лекции на лад» и получит ли она в университете штатное место. Упомянув о заметках шведских газет по поводу ее приезда, она пишет: «Вот я и в принцессы произведена. Лишь бы они мне жалованье назначили». Лекции Ковалевской начались 30 января 1884 года, и в тот же день она записала в дневнике: «Прочитала сегодня свою первую лекцию. Не знаю, хорошо ли, дурно ли, но знаю, что очень было грустно возвращаться домой и чувствовать себя такою одинокою на белом свете. В такие минуты это так особенно сильно чувствуется». После второй лекции, 2 февраля, Софья Васильевна, вернулась домой также «ужасно печальная и сидела, погруженная в созерцание своего одиночества». Не весело было и дальше; под 21 февраля в дневнике записано: «Ну уж денек! С утра всякие неудачи. Одни за другими. Такая находит иногда усталость, что бросила бы все и убежала. Тяжело жить одной на белом свете!» Профессорские дела Софьи Васильевны шли успешной «Мои лекции идут, слава аллаху, хорошо — писала она в конце февраля А. О. Ковалевскому. — Я не могу достаточно похвалиться, моими слушателями. Правда, что нам достаются самые лучшие — поплоше идут в Упсалу. Я теперь только и думаю, что об одном — как бы добиться ординатуры». Так прошел семестр. В начале апреля Ковалевская послала уехавшей в Лондон А.-Ш. Леффлер отчет о своей первой стокгольмской зиме: «Что сказать вам о моей жизни в Стокгольме? Если она не могла назваться особенно содержательною, зато она была очень шумною и стала под конец достаточно утомительною. Ужины, обеды, вечера следовали непрерывно один за другим, и было нелегко поспевать везде и находить вместе с тем время для подготовки к лекциям и продолжения начатых работ. Сегодня мы на две недели прекратили чтение лекций по случаю пасхальных вакаций, и я, как ребенок, радуюсь этому перерыву в занятиях». Успех лекций Софьи Васильевны обеспечил ей дальнейшую профессору, а за первый, частный, курс Миттаг-Леффлер устроил ей, вознаграждение из специально пожертвованных для этой цели сумм. По окончании весеннего семестра Софья Васильевна уехала в Россию, а Леффлер стал проводить учреждение штатной профессорской должности для нее. Кроме указаний на хорошую подготовленность Ковалевской и на успех ее у слушателей, Леффлер ссылался на то, что новый профессор не обременит университетского бюджета: популярность Софьи Васильевны помогала ее друзьям собрать в стокгольмском обществе сумму, необходимую для вознаграждения профессора в течение пяти лет. Но и после этого Леффлеру и другим либеральным профессорам пришлось выдержать упорный бой с консервативной профессурой, не хотевшей допустить женщину в свою среду. Наконец, 1 июня 1884 года Ковалевская получила телеграмму о том, что она избрана штатным профессором Стокгольмского университета. Телеграмма была предана в Берлин, где Софья Васильевна пыталась получить разрешение прослушать вместе с тамошними студентами специальный курс Вейерштрасса. Берлинские профессора, несмотря на просьбы их знаменитого собрата, не могли позволить женщине осквернить своим присутствием храм науки. Не разрешили ей этого и в последующие годы. Для Софьи Васильевны имела огромное значение в первое время после смерти ее мужа поддержка, оказанная ей А. О. Ковалевским. Поддерживая с ней дружественные отношения, А. О. Ковалевский в значительной мере пресекал всякие сплетни на ее счет, а взяв в свою семью дочь Ковалевских на все время устройства Софьи Васильевны в Стокгольме, он оказал ей большую материальную помощь. Окончательно устроившись в Стокгольме, Софья Васильевна перевезла туда свою дочь и одновременно с чтением лекций продолжала научные исследования. В первый год пребывания в Швеции она закончила начатую в Париже работу «О преломлении света в кристаллах». Тема эта, возникла у нее под влиянием работ знаменитого французского физика Ламе. В одном автобиографическом рассказе Ковалевская говорит по этому поводу, что «вообще в математике на самостоятельные исследования, в большинстве случаев, приходится наталкиваться путем чтения мемуаров других ученых», и добавляет, что эта работа «произвела некоторое впечатление в математическом мире, так как вопрос о преломлении света далеко еще недостаточно разъяснен», она же рассмотрела его «с совершенно новой точки зрения». Работа о преломлении света напечатана в 1884 году в стокгольмском журнале «Acta mathematica», где появились впоследствии и другие исследования Ковалевской, в том числе геттингенская диссертация об Абелевских функциях. Писала Ковалевская свои математические труды по-французски и по-немецки, печатая их во французских и немецких изданиях.
 Запись из дневника С. В. Ковалевской (1884 г.)
Запись из дневника С. В. Ковалевской (1884 г.)
Об одной из первых работ Софьи Васильевны московский профессор П. А. Некрасов заявлял в 1891 году, что из трудов С. В. Ковалевской по чистой математике он «прежде всего должен указать на труд ее по интегрированию уравнений с частными производными. Эта труднейшая из областей чистого математического анализа в то же время играет существенную роль в прикладных математических науках, каковы механика, физика, астрономия. В уменьи интегрировать эти уравнения лежит ключ к разъяснению почти всех тайн природы, обнимаемых этими науками. Вот почему эта область интересовала как величайших чистых математиков, так механиков и физиков». Указав далее, что Софье Васильевне пришлось в своей работе преодолевать «огромные трудности», П. А. Некрасов пишет о «сложности того анализа, который укладывался в уме С. В. Ковалевской, приводившем в стройную ясность и логическую последовательность обширнейшие формулы и вычисления… С тактом, знатока дела С. В. Ковалевская обходит все трудности. Искусный такт ее выражается в ловко придуманной постепенности перехода от более простого к более сложному, в мастерском умении свести, весьма сложное к менее сложному. В результате С. В. Ковалевская дала теоремам, об интегрировании уравнений с частными производными, помощью рядов окончательную форму, неоставляющую чего-либо желать по точности выражения и по строгости, и простоте доказательств». Подробное извлечение из геттингенской диссертации Ковалевской помещено в учебном курсе известного парижского профессора Гурса об интегральных уравнениях; есть ссылки, на ее работы, и в других руководствах. Постепенно втягиваясь в новые интересы, развлекаемая дружеской семьей Леффлеров, Софья Васильевна отделалась от гнетущих впечатлений своих личных обстоятельств первой половины 80-годов. Она стала откликаться на все явления жизни, принимать участие в занятиях стокгольмского общества, проявляла свои разносторонние способности. Яркое изображение этого периода жизни Ковалевской дано в ее мартовском письме за 1885 год к одному молодому берлинскому математику, о котором была речь в предыдущей главе. Прося у своего корреспондента извинения за долгое молчание, Софья Васильевна объясняет это сильной загруженностью. «Расскажу вам все, что я делала, — пишет Ковалевская. — 1. Прежде всего я должна была позаботиться о своих трех лекциях в неделю на шведском языке. Я читаю алгебраическое введение к теории Абелевских функций, и повсюду в Германии лекции эти считаются наиболее трудными. У меня чрезвычайно много слушателей, и все они остались верными мне, за исключением двух-трех. 2. Я за это время написала небольшой математический трактат, который намереваюсь на днях отправить к Вейерштрассу с просьбой напечатать в журнале Боргарта, 3. Я совместно с Миттаг-Леффлером начала большую математическую статью, от которой мы оба обещаем себе много удовольствия… 4. Я познакомилась с одним очень симпатичным господином, только что приехавшим из Америки, который теперь состоит редактором одной из самых больших газет в Швеции. Этот господин заставил меня работать также и для своей газеты, и так как я (что вы, вероятно, заметили) никогда не могу видеть своих друзей занимающихся чем-нибудь без того, чтобы не принять участия в их занятиях, то я и на этот раз поступила по обыкновению, и написала ряд небольших газетных статей для него. До сих пор напечатана только одна из них: «Из моих личных воспоминаний», которую и посылаю вам, так как вы отлично понимаете по-шведски. 5. Можете ли вы себе представить, что, как это ни кажется невероятным, а из меня выработался очень искусный конькобежец. Вплоть до последней недели меня можно было почти каждый день встретить да льду. Мне было очень жаль, что вы не могли видеть, как я под конец начала хорошо бегать. С каждым новым успехом я вспоминаю о вас. Теперь я довольно хорошо умею скользить назад, а вперед катаюсь отлично Я очень быстро… Все мои знакомые здесь удивились, что я так быстро выучилась этому трудному искусству. Чтобы вознаградить себя несколько за исчезновение льда, я со страстью предалась верховой езде вместе с одной из моих подруг (А.-Ш. Леффлер). Скоро наступит пасха, и у нас будет несколько свободных недель: тогда я думаю кататься по крайней мере по часу каждый день. Верховая езда меня страшно забавляет, и я не знаю, право, что мне больше нравится: катание верхом или катание на коньках. Но этим еще не заканчивается повесть о моем легкомыслии. 1 апреля устраивается здесь большое народное празднество. Празднество это, как говорят, будет носить чисто шведский характер, — это будет нечто в роде базара. Сто дам, в том числе и я, в самых разнообразных костюмах, будут заниматься продажею всевозможных вещей в пользу народного музея. Я, конечно, намереваюсь нарядиться в цыганский костюм, так что на меня будет страшно посмотреть. Я убедила нескольких дам разделить мою судьбу. Мы образуем цыганский табор, и нам дадут в помощники нескольких молодых людей, наряженных также в цыганские платья. У нас будет русский самовар, при помощи которого мы и будем поить чаем желающих. Что вы скажете на все это мое легкомыслие?» Но Софья Васильевна чувствовала себя хорошо только осенью и зимою. Весна, особенно северная весна, была для нее самым тяжелым временем. Светлые ночи делали Софью Васильевну нервною, беспокойною, нетерпеливою, полною горячих стремлений к другой жизни, непохожей на ту, которую ей приходилось вести: «Это вечное солнечное сияние», — говорила она, — «как бы дает массу обещаний, но ни одного из них не выполняет: земля остается такою же холодною, как и была, развитие идет назад так же успешно, как и вперед, и лето мерещится где-то вдали, точно мираж, которого никогда не удастся достигнуть». Весною она торопилась оставить Швецию и при первой возможности отправлялась в Россию — отдохнуть в подмосковной у Ю. В. Лермонтовой, которая часто и подолгу брала к себе ее дочь; ездила в Берлин — поработать с Вейерштрассом или в Париж — побеседовать с французскими математиками. Приходилось Ковалевской приезжать в Россию и к больной Анне Васильевне, которая поселилась в 1874 году с мужем и сыном в Петербурге. Здесь Жаклар сначала преподавал французский язык в женских учебных заведениях, а в начале 80-х годов печатал политические статьи в русских радикальных журналах «Дело» и «Слово», которые были закрыты правительством за «вредное направление». Анна Васильевна помогала мужу в его литературной деятельности, подвергая его статьи стилистической обработке. Сама она напечатала в 1886 и 1887 годах в журнале своей приятельницы А. М. Евреиновой «Северный вестник» две повести. Возобновились также встречи и беседы Анны Васильевны с Ф. М. Достоевским, и она стала большой приятельницей его жены Анны Григорьевны. Жаклары устраивали у себя вечера. Студенческая молодежь охотно посещала их, с любопытством слушала воспоминания интересного хозяина о встречах его с выдающимися революционерами, но тщетно ждала от него рассказов о героических днях Коммуны. Жаклар должен был соблюдать осторожность, так как III отделение было осведомлено о его прошлом и за ним велось систематическое наблюдение. По объявлении во Франции амнистии бывшим коммунарам, Жаклар переехал в Париж, но в материальном отношении не сумел там устроиться и часто приезжал в Петербург — навещать больную жену. Поездками в Россию Жаклар пользовался для установления, связи между русскими, и западноевропейскими революционерами. Это стало известно царским жандармам, которые после раскрытия организованного А. И. Ульяновым, и его товарищами в 1887 году покушения на Александра III, предложили Жаклару выехать из России. На семейном совете признано было, что больная Анюта не выживет, если останется без мужа в Петербурге, и что он должен взять ее с собою в Париж. Но так как в два дня было невозможно собрать тяжело больную, то А. Г. Достоевская решила просить большого друга ее покойного мужа, главного вдохновителя русской правительственной реакции, обер-прокурора святейшего синода К. П. Победоносцева, устроить бывшему коммунару, и радикальному журналисту отсрочку. Департамент полиции дал Жаклару отсрочку в десять дней для сборов с женою. Анну Васильевну перевезли в Париж, где она, скончалась в октябре 1887 года после неудачной операции. Жаклар и после этого поддерживал связи с Россией и печатал в петербургской либеральной газете «Новости» статьи о французской политической жизни. Первое время после смерти сестры Софья Васильевна встречалась с Жакларом в Париже и даже пользовалась иногда его знакомством с редакторами французских журналов для помещения там своих литературных произведений. Парижская академия наук назначила на 1888 год в третий раз конкурс на соискание борденовской премии в 3000 франков за лучшее сочинение на тему о движении тяжелого твердого тела вокруг неподвижной точки. Темой, между прочим, занимались знаменитые математики Эйлер (1707–1783), Лагранж (1736–1813) и Пуансо (1777–1852), давшие несколько частных решений ее. Вопрос имеет важное практическое значение, так как обнимает теорию маятника. В то же время это один из самых классических вопросов в математике. Разрабатывали тему и другие ученые, которым не удалось представить решений, прибавляющих что-нибудь к работам их великих предшественников. Так как два предыдущих конкурса были безрезультатны, то, конечно, математический мир интересовался исходом третьего, тем более, что борденовская премия за предшествующие 50 лет была выдана всего десять раз и только два раза полностью, в размере 3000 франков. На третий конкурс было представлено 15 работ. Комиссия признала, что сочинение под девизом «Говори, что знаешь; делай, что обязан; будь, чему быть» — является «замечательным трудом, который содержит открытие нового случая»; что «автор не удовольствовался прибавлением результата еще большего интереса к тем, которые перешли к нам; по этому предмету от Эйлера и Лагранжа»; что он «сделал из своего открытия углубленное исследование с применением всех возможностей современной теории функций»; что способ автора решить задачу с применением «тета-функции с двумя самостоятельными переменными позволяет дать полное решение в самой точной и наиболее изящной форме». В виду этого комиссия предложила присудить автору полную премию, увеличив ее с трех до пяти тысяч франков. По вскрытии конверта с девизом оказалось, что автор премированной работы — Софья Ковалевская. Есть в литературе указание на недовольство некоторых членов комиссии тем обстоятельством, что победитель в этом блестящем конкурсе — женщина, но им с огорчением пришлось подписать решение. 24 декабря 1888 года состоялось торжественное чрезвычайно многолюдное заседание Парижской академии наук с участием С. В. Ковалевской, которой после ряда хвалебных речей вручили премию. Софья Васильевна заявила после конкурса, что мысль о работе по вопросу о движении твердого тела возникла у нее еще в студенческие годы и она много раз возвращалась к этой теме: «В истории математики не много вопросов, которые, подобно этому, заставляли бы так сильно желать своего решения и к которым было бы приложено столько лучших сил и упорного труда, не приводивших, в большинстве случаев, к существенным результатам. Не даром среди немецких математиков он носит название «математической русалки». Поэтому можно себе представить, как я была счастлива, когда, наконец, мне удалось достигнуть действительно крупного результата и сделать в решении столь трудного вопроса важный шаг вперед». Имеющий огромные заслуги перед советской авиацией, один из основателей Аэродинамического института в Кучине и Центрального Аэрогидродинамического института в Москве (ЦАГИ), известный ученый Н. Е. Жуковский (1847–1921) еще в год смерти Софьи Васильевны заявил, что исследование о движении твердого тела «составляет главным образом ее ученую славу». Рассмотрев соответственные работы Эйлера, Лагранжа и Пуансо и отметив, что Ковалевская «получила результаты, которые составляют ценный вклад в науку». Н. Е. Жуковский пишет, что «анализ ее настолько прост, что его следует включить в курсы аналитической механики». Другой русский ученый, профессор П. А. Некрасов отмечает, что «блестящий труд» Софьи Васильевны о движении твердого тела, наряду с практическим, имеет значение и для чистой математики. «Талантливое открытие С. В. Ковалевской, — пишет П. А. Некрасов, — относящееся к примечательному случаю движения твердого тела, не есть только случайная, счастливая находка; напротив того, открытие это есть результат ее настойчивых, упрямых трудов и глубоких знаний в области чистой математики и, особенно, современного анализа. В самом деле, в этом счастливом открытии ее ей помогли как глубокие сведения в анализе бесконечных рядов в интегрировании при помощи их диференциальных уравнений, так и знания ее по теории ультра-эллиптических и Абелевых интегралов; словом сказать, здесь ей пришла на помощь вся та эрудиция, которая ею обнаружена в трудах ее по чистой математике… С. В. Ковалевская нашла примечательный случай движения твердого тела, именно прибегая к средству, которым она прекрасно владела, — к интегрированию диференциальных уравнений при помощи рядов… Современный математический анализ обладает одним крупным и пока неизбежным недостатком: слишком большою сложностью… Под влиянием этой сложности многие начинают сомневаться в самой пользе современного математического анализа, находя, что именно вследствие этой сложности, он, будто бы, не может когда-либо даже в будущем послужить к выяснению законов и явлений природы. Раздаются скептические голоса, что современный анализ блуждает в непроходимых дебрях, из которых нет выхода. И вот, как раз вовремя, подоспевают нам на помощь такие открытия в области, прикладной математики, которые оживляют наши надежды, рассеивают наши сомнения. Таков именно главный результат, найденный С. В. Ковалевской и изложенный в ее мемуаре о движении твердого тела». Такие же отзывы находятся во всех последующих обзорах трудов Софьи Васильевны, вплоть до появившегося недавно в русском издании очерка П. Таннери о развитии естествознания в Европе за последние триста лет. Здесь отмечена связь теоретических работ Ковалевской с запросами жизни. «Несмотря на всю абстрактность своих изысканий, — пишет автор очерка, выдающийся французский ученый П. Таннери, — чистая математика все время поддерживала связь с миром реальных явлений. Изыскания эти вызывались к жизни необходимостью найти общие методы решения конкретных задач и потребностью построения физических теорий в гораздо большей степени, чем это принято думать. Софья Ковалевская открыла своей работой новый случай интегрируемости диференциальных уравнений движения при помощи тета-функций двух независимых переменных и дала замечательный пример приложения новейших аналитических теорий к механике». Работа о движении твердого тела упрочила положение Софьи Васильевны как профессора, и она могла быть спокойной за свою! дальнейшую судьбу в материальном отношении. Ей хотелось приложить свои знания на родине. Но, по уставу российских университетов, женщины не допускались к занятию кафедры, и двоюродный брат Ковалевской, крупный военный деятель, генерал А. И. Косич, возбудил вопрос о приглашении ее в Академию наук. От имени президента академии, посредственного поэта, но ближайшего родственника царя, великого князя Константина Константиновича, заигрывавшего с либеральной общественностью, был послан Косичу такой ответ: «Его императорское высочество, августейший президент императорской Академии наук изволил приказать мне сообщить вам, что Софья Васильевна Ковалевская, приобревшая за границею громкую известность своими научными работами, пользуется не меньшею известностью и между нашими математиками. Особенно лестно для нас то, что г-жа Ковалевская получила место профессора математики в Стокгольмском университете. Предоставление университетской кафедры женщине могло состояться только при особо высоком и совершенно исключительном мнении об ее способностях и знаниях, а г-жа Ковалевская вполне оправдала такое мнение своими, поистине, замечательными лекциями». Из этих признаний президент императорской Академии сделал вывод, что Ковалевской не место в царской России: «Так как доступ на кафедры в наших университетах совсем закрыт для женщин, каковы бы ни были их способности и познания, — заявляет царский родственник, как нечто само собою разумеющееся и не подлежащее оспариванию, — то для г-жи Ковалевской в нашем отечестве нет места столь же почетного и хорошо оплачиваемого, как то, которое она занимает в Стокгольме. Место преподавателя математики на Высших женских курсах гораздо ниже университетской кафедры; в других же наших учебных заведениях, где женщины могут быть учителями, преподавание математики ограничивается одними элементарными частями». Академические математики загладили эту фарисейскую выходку великого князя и поспешили официально признать ученые заслуги Софьи Васильевны. Не имея возможности предоставить ей штатное место в Академии, они избрали Ковалевскую членом-корреспондентом и быстро провели это дело через общее собрание 8 ноября 1889 года. Софья Васильевна получила в Стокгольме следующую телеграмму из Петербурга: «Наша Академия наук, только что избрала вас членом-корреспондентом, допустив этим нововведение, которому не было до сих пор прецедента. Я очень счастлив видеть исполненным одно из моих самых пламенных и справедливых желаний. Чебышев». Софью Васильевну это избрание могло радовать только как моральная победа. Однако, через полгода, когда Софья Васильевна приехала в Петербург, академики показали, что это внимание было случайным. Когда Ковалевская представила в мае 1890 года в Петербургскую Академию свою новую работу, то некоторые академики проявили к ней самое грубое недоброжелательство, возникшее на почве их групповых взаимных дрязг и склочничества. А когда она захотела, в качестве члена-корреспондента Академии, присутствовать на заседаниях математического отделения, то ей заявили, что это, не в обычаях Академии. Более существенным во всех отношениях было для С. В. Ковалевской признание ее научной деятельности со стороны Шведской академии, которая присудила ей в 1889 году за дальнейшее развитие темы о движении твердого тела вокруг неподвижной точки премию в 1500 крон. Профессор Н. Е. Жуковский пишет, что при встрече в 1889 году в Париже с знаменитым математиком Анри Пуанкаре, он заговорил с ним о работах Софьи Васильевны. Французский ученый заявил, что задуманная Ковалевской новая работа несомненно разрешит еще более важный математический вопрос. Профессор Миттаг-Леффлер заявляет, что этот труд Софьи Ковалевской, по своему заданию и по намеченному пути к его разрешению, мог быть поистине гениальным. Но смерть прервала ученую деятельность Софьи Васильевны, и при оценке результатов ее научной работы задуманное исследование не может быть учтено. В статье о научной деятельности С. В. Ковалевской и о значении ее работ в ряду сочинений других женщин-математиков профессор А. В. Васильев говорит, что она «несомненно, оставила неизгладимый след в двух областях, занимающих весьма важное место в общей системе математических наук. Эти две области, во-первых, интегрирование диференциальных уравнений с помощью степенных рядов и, во-вторых, вопрос о движении твердого тела около неподвижной точки. Исследования ее и в той, и в другой области тесно связаны с классическими работами ее учителя, знаменитого немецкого математика Карла Вейерштрасса. Когда Софья Васильевна оставила Берлин, их дружба поддерживалась оживленною перепискою. К сожалению, Вейерштрасс после смерти Ковалевской сжег все ее письма к нему; но сохранилось до восьмидесяти писем Вейерштрасса, которые, представляя большой интерес для математика, позволяют верно судить об отношениях Вейерштрасса и Ковалевской. Скептикам, склонным преувеличивать влияние Вейерштрасса и его участие в мемуарах ученицы, эти письма должны представить особенный интерес, как признание учителем талантливости и самостоятельности Ковалевской». В одном письме 1874 года к Софье Васильевне Вейерштрасс заявляет: «Твое замечание об уравнениях с частными производными много объяснило мне в этом вопросе и служило мне побуждением к очень интересным исследованиям. Я желаю, чтобы в будущем моя дорогая ученица этим путем вознаграждала своего учителя и друга». С. В. Ковалевская оправдала надежды своего знаменитого учителя и, как отмечает проф. Некрасов, своей кратковременной научной деятельностью, прерванной в том возрасте, когда многие только начинают самостоятельно работать, она доказала, что умела искуснейшим образам пользоваться научными методами, распространяла их, делая совершенно новые, блестящие открытия и легко управляясь в своих исследованиях с громаднейшими затруднениями. Смерть преждевременно прервала научную работу Софьи Васильевны. В день нового 1891 года она по пути из Италии в Швецию простудилась и по прибытии в Стокгольм заболела воспалением легких. Болезнь протекала бурно, осложнилась гнойным плевритом, и 29 января—10 февраля 1891 года Софья Васильевна Ковалевская скончалась. Всеми обстоятельствами своей сложной, исполненной борьбы и лишений жизни, всей своей интеллектуальной деятельностью С. В. Ковалевская завоевала себе место в ряду самых выдающихся русских женщин XIX столетия, принесших много жертв в борьбе с отсталостью и предрассудками в нашей стране, — от жен декабристов до участниц революционного движения всех группировок и направлений. В одной из своих записных книжек Ковалевская приводит французское стихотворение декабриста С. И. Муравьева-Апостола о том, как он пройдет по земле незнаемый никем и только перед его внезапно озаренным концом мир поймет, кого лишился. Списывая из нелегального издания это сентиментальное стихотворение, Ковалевская, конечно, имела в виду себя. Действительно, после смерти Софьи Васильевны весь культурный мир интересовался ею и говорил о ней. Но не потому, что конец ее жизненного пути был озарен так же трагически, как конец пути декабриста, повешенного Николаем I. Смерть Софьи Васильевны была подобна смерти сотен миллионов женщин. Интересовались русской женщиной, не имевшей на своей родине возможности быть студенткой высшей школы и занявшей профессорскую кафедру университета одной из культурнейших стран Европы. Женщина-профессор математики, — это было беспримерным явлением даже для самых передовых стран буржуазного мира. Для советского читателя жизнь и деятельность Софьи Ковалевской также представляют собою большой интерес, но не тот интерес, который привлекает к ней внимание читателей буржуазных стран, где до сих; пор женщина должна бороться за равноправие во всех областях жизни. В Стране советов женщина занимает одинаковое место с мужчиной: от должности десятника на новостройках, через все виды технической и умственной деятельности, до участия в управлении государством. Сотни женщин руководят в СССР занятиями в высшей школе и работают в научной области. С этой стороны Софья Васильевна не представляется для нас исключительным явлением. Советским девушкам не приходится устраивать фиктивные браки или тайком убегать от родителей, чтобы учиться в университете. Жизнь и деятельность С. В. Ковалевской, с одной стороны, представляют собою для нас интерес исторический. Одна из наиболее талантливых и разносторонне одаренных представительниц 60—70-х годов XIX столетия, Софья Васильевна полнее и ярче многих других замечательных женщин своего времени отразила взлеты и падения русской интеллигенции. С другой стороны, пример С. В. Ковалевской и в наше время показывает, как хорошо направленная целеустремленность и упорный труд преодолевают всякие препятствия на пути к овладению вершинами знания, дают возможность принять участие в развитии науки и в дальнейшем ее распространении.
Последние комментарии
5 часов 49 минут назад
10 часов 8 минут назад
11 часов 55 минут назад
13 часов 9 минут назад
14 часов 15 минут назад
15 часов 24 минут назад