
Манфред Грегор Мост
Посвящается матерям
Предисловие
Эта книга появилась следующим образом. Мюнхенское издательство Курта Деша несколько лет тому назад объявило конкурс на лучшее произведение начинающего писателя. Чуть ли не из тысячи рукописей, поступивших со всех концов Федеративной Республики Германии, издательство отобрало одну — роман «Мост», написанный никому не известным молодым человеком по имени Манфред Грегор, — и опубликовало ее. Роман покупался нарасхват, он был переведен на многие языки, по нему был сделан фильм, пользовавшийся огромным успехом. К Манфреду Грегору пришла слава. Такова история этой книги; по крайней мере так ее рассказывает издательство Курта Деша, одно из самых богатых и влиятельных издательств Западной Германии. Оно не оставило своими заботами автора, которого ввело в литературу. Следующую книгу Манфред Грегор написал на сюжет, непосредственно предложенный ему издательством. Вскоре в этом же издательстве вышел и его третий роман. В этих новых книгах уже известного писателя трудно узнать автора «Моста». Обилие пикантных ситуаций, находящихся на грани допустимого в печатном тексте, детективные сюжетные построения, согласно которым добрые немецкие полицейские ловят хороших в душе, но запутавшихся малолетних преступников, мелодраматичность, и сентиментальность, и откровенно спекулятивные политические выводы — все в этих книгах говорит о том, что автор искал дешевого успеха и у нетребовательной публики и у официозной прессы. Несмотря на шумную рекламу, вторая и третья книги Манфреда Грегора не имели у читателей и десятой доли того отклика, который выпал на долю его первенца. Издательство стремится во что бы то ни стало связать воедино все три произведения, «подкрепить» новые книги успехом романа «Мост». И делает это с настойчивостью, которая доказывает, что и оно тревожится за писательскую репутацию своего питомца. Можно только пожалеть, если Манфред Грегор разделит судьбу тех недостаточно стойких талантов, которых буржуазное общество развращает славой и деньгами. Но каков бы ни был дальнейший путь Манфреда Грегора, роман «Мост» так же как и фильм, снятый на его основе, остается ярким антивоенным произведением. Молодой писатель вложил в него все, что накопилось в его душе за годы юности, пришедшейся на время фашизма, войны, разгрома фашизма и его возрождения на Западе Германии. Эта книга не случайно привлекла к себе внимание молодых читателей и в Германии и за ее пределами Чем же она интересна?* * *
О событиях второй мировой войны уже создана огромная литература чуть ли не на всех языках мира; у каждого народа она отражает своеобразие его исторического развития. Особый характер носит литература о второй мировой войне в Германии — той стране, народ которой позволил своим преступным правителям увлечь себя на путь агрессии. Принеся неисчислимые страдания народам, немцы сами заплатили за нее огромными жертвами, оказавшись в результате несправедливой войны на грани национальной катастрофы. И вряд ли случайно то обстоятельство, что немецкие писатели обычно обращаются в своих книгах к последнему периоду войны, к дням горького похмелья, когда на развалинах гитлеровского райха решался вопрос о будущем немецкого народа. Последствия войны коренным образом изменили исторические судьбы Германии. Перед освобожденной от гитлеризма страной открывались возможности свободного, демократического, миролюбивого развития, но использованы эти возможности были только на Востоке, на территории Германской Демократической Республики. Семнадцать лет разного исторического развития наложили отпечаток и на немецкую литературу наших дней. Сегодня мы уже не можем сказать «немецкая литература», не добавив, о какой немецкой литературе идет речь — о западной или о восточной. Прилавки магазинов Западной Германии буквально завалены книгами самого разнообразного характера о второй мировой войне. Литература этого рода в моде; книги легко находят спрос, печать широко рекламирует их, но по большей части это литература, о которой Иоганнес Бехер сказал, что она только внешне является послевоенной, «а по существу — предвоенной литературой, подготавливающей третью мировую войну». Чуть ли не сразу же после поражения гитлеризма в Западной Германии стали появляться милитаристские книги; Гримм, Юнгер, Двингер, Боймельбург, излюбленные писатели гитлеровских времен, пропагандисты расовой ненависти и добродетелей солдата-наемника, снова были в почете. История повторялась: как и после первой мировой войны в Веймарской республике, которую сменил фашизм, книжный рынок чем дальше, тем больше стал наполняться мемуарами битых генералов, планами реванша, «военными романами», описаниями «большевистских зверств» и т п.; литературная милитаризация шла рука об руку с политической. Рядом с откровенно реваншистской литературой в Западной Германии давно уже существует милитаристская литература замаскированная; она высмеивает Гитлера, осуждает эсэсовцев, обвиняет фашизм в падении Германии — и готовит «пушечное мясо» для третьей мировой войны. Ее самый частый и опасный прием — изображение войны с точки зрения «простого солдата». Этого солдата не интересует политика (следовательно, он не связан с идеологией фашизма), он не ищет высоких постов и богатства (следовательно, он не грабитель), он воюет потому, что таков приказ. О противнике в таких случаях говорится, как правило, с уважением, и война — даже если в ней много ужасного — превращается в род «равной игры», одинаково справедливой или несправедливой, честной или бесчестной и с той и с другой стороны. Таинственным образом такие книги всегда в той или иной степени содержат апофеоз немецкого солдата-профессионала, который все-таки лучше, умнее, находчивее своего противника (в поражении виноваты начальники!). Конечно, милитаризация в жизни и в искусстве вызывает протест у многих писателей, живущих в Федеративной Республике Германии. Более того, особенность современной западногерманской литературы, самым наглядным образом свидетельствующая о преступном характере боннского государства, состоит именно в том, что единственным плодотворным течением в ней стало течение антивоенное. Еще в первые годы после разгрома гитлеризма рано умерший Вольфганг Борхерт, считающийся родоначальником этого течения, призывал своих соотечественников сказать «Нет!» войне. В основе книг Генриха Бёля, Ганса Вернера Рихтера и других близких к ним писателей, при всем различии между ними, лежит одна и та же мысль — прошлая война, развязанная Гитлером, была преступна, а новая война, угроза которой вырисовывается все явственнее на горизонте политической жизни Западной Германии, будет еще более преступна и самоубийственна. Антивоенный пафос этих книг, как правило, непоследователен; авторы их избегают говорить о тех, кто решительно и действенно боролся вчера и борется сегодня против фашизма и войн. Часто на первый план, как основная сила антифашистского сопротивления, выдвигается католическая церковь (католические мотивы вообще сильны в современной западногерманской литературе). В антивоенных книгах западно-германских писателей тем больше знаков вопроса, недоумений, недоговоренностей, подчас прямых искажений правды, чем больше они уклоняются от ответа на вопрос о том, каковы же пути активной борьбы против возрождения фашизма и новых войн. Книга Манфреда Грегора «Мост» находится в русле этой литературы; ей свойственны как ее сильные; так и слабые стороны. Но есть в ней и новая нота, заставившая по-иному зазвучать старую тему. Она написана не от имени тех, кто был внутренне не согласен с фашистским режимом и развязанной им преступной войной (а таков герой почти всех этих книг); она написана от имени той молодежи, которая была воспитана в фашистской школе и отравлена фашистской пропагандой. Читая даже лучшие романы западногерманских писателей о второй мировой войне, можно подумать, что гитлеровская армия состояла из нескольких закоренелых преступников и людей, по моральным соображениям с самого начала внутренне не согласных с фашистским режимом. Но как же тогда гитлеровцам удалось увлечь за собой миллионы немцев? Писатели Западной Германии по большей части уходят от ответа на этот вопрос. Судьбы героев романа «Мост» раскрываются перед читателем по-иному. Семь однокашников, превращенных в солдат за несколько дней до конца войны оказываются в маленьком городке единственными, кто до конца не за страх, а за совесть защищает гитлеровский райх. Преступники в военных мундирах еще продолжают бессмысленную войну, трусы спасаются, благоразумные стремятся как можно скорее окончить кровопролитие, а семь подростков умирают во имя лживой идеи, в которую уже никто не верит, во имя преступного государства, которое уже не существует. Так было не только в маленьком южнонемецком городке, описанном Манфредом Грегором; так было по всей Германии. Это печальная истина, которую не следует забывать. Именно в среде молодежи, выросшей в условиях фашизма, воспитанной фашистской школой, гитлеровцы в последние дни своего существования находили самых стойких, самых фанатичных защитников. Свидетельства этому мы можем найти и в других книгах, в том числе и у писателей Германской Демократической Республики, принадлежащих к тому же поколению, что и Манфред Грегор (в ГДР это поколение часто называют «enttauscht», то есть «прошедшее через разочарование», «вырвавшееся из обмана»). Немало трагического могут рассказать об этом советские люди, которым довелось с оружием в руках идти до самого Берлина. Случаи неповиновения преступным приказам, дезертирства из фашистской армии, прямых выступлений против начальников становились все чаще и чаще по мере приближения фронта к немецким границам; однако массовым явлением они не стали даже тогда, когда сражения шли на немецкой земле. Если пожилые солдаты последних «тотальных» мобилизаций часто разбегались или сдавались в плен, то молодежь, как правило, готова была умирать ради не только неправого, но уже и безнадежно проигранного дела. В сознании школьников крепче, чем в головах их отцов и старших братьев, сидела гитлеровская пропаганда, демагогия «крови и почвы», «единства народа и фюрера». И крепче, чем думалось, оказался тот пруссаческий моральный кодекс чести, который глубоко проник в сознание немецкой молодежи, — псевдогероизм беспрекословного послушания, красота смерти, стоическая поза обреченности и «подвига ради подвига». В немецких архивах сохранилась кинохроника, снятая в последние дни гитлеровского райха и изображающая Гитлера за раздачей орденов школьникам, сражавшимся на улицах Берлина против Советской Армии. Эти кадры оставляют гнетущее, непереносимо тяжелое впечатление. Гитлер с оплывшим лицом, вытянув вялую, уже какую-то неживую руку, вглядывается остановившимися глазами в лица подростков, стоящих перед ним в военной форме, словно гипнотизируя их. А лица этих школьников, взявшихся за оружие, когда уже никто ни на что не мог надеяться, полны по большей части смешанного чувства ужаса и обреченности, но иногда — гордости за выпавшую на их долю честь; лица людей, готовых умереть ради фюрера. Что же говорит нам роман «Мост» об этой молодежи? Когда писатель садится за книгу о войне более десятилетия спустя после ее окончания, он делает это не просто ради воспоминаний, даже самых личных. Он ставит перед собой определенную цель, которая диктуется его отношением к современности, его пониманием будущего. Замысел Манфреда Грегора ясно виден уже в композиции книги: описание короткого боя за мост он прерывает каждый раз, как только смерть настигает очередную жертву, и рассказывает о недолгой жизни погибшего. Это делается не столько для того, чтобы объяснить его поведение в бою, сколько для того, чтобы читатель мог остро почувствовать бессмысленность, противоестественность гибели этих юношей, умирающих по приказу генерала, для которого весь этот бой — только несколько часов отсрочки в уже давно проигранной войне. В немецкой литературе немало книг, рисующих войну как хаос бессмысленной жестокости. Их было много в прошлом, их особенно много теперь, после второй мировой войны. Эти книги объективно всегда играют реакционную роль, так как они внушают мысль, что с войнами, как со стихийными бедствиями, нет возможности бороться. Такой подход к изображению войны особенно лжив, когда речь идет о второй мировой войне, в которой преступный фашизм столкнулся в открытой схватке с социализмом и был побежден. «Мост» Манфреда Грегора далек, однако, от этой литературы. Брошенные всеми, герои романа ведут заведомо безнадежный бой. Они умирают на «потерянном посту», как любят выражаться милитаристские немецкие писатели, из поколения в поколение доказывающие, сколь прекрасна и возвышенна такая смерть. Эта ложь — одна из самых ядовитых, потому что она приспосабливает естественные благородные человеческие чувства к нуждам тех, кто ведет реакционные, захватнические войны. Умирай, не спрашивая, за что, умирай, не рассуждая, не думая, — этим ты исполнишь свой долг, но твоя смерть будет прекрасна вдвойне, если ты стойко сражался, зная, что обречен! Множество продажных писак в течение многих десятилетий вдалбливали эту мораль солдата-наемника в головы немецкой молодежи; мораль преступную, ибо она подразумевает, что прекрасно не знать и не интересоваться, во имя чего умираешь. Читая «Мост», видишь, какую откровенно служебную роль играет этот лозунг; именно на его действие рассчитывает генерал, когда говорит: «Несколько тысяч таких орлов, и мы могли бы еще выиграть войну». Самое сильное в романе «Мост» — описание душевного мира этих юношей, их сомнений и страхов, их готовности к самопожертвованию, их боязни показаться трусами, их недоумений. Здесь много человеческой правды, хотя подчас и очень ограниченной, не проверенной большой правдой истории. Какой бы маленький участок второй мировой войны ни был показан писателем, правдиво изобразить события, правильно оценить поведение героев можно только в том случае, если автор до конца осознает преступный характер гитлеровской войны и историческую справедливость поражения фашистской Германии. «Молодежь не бывает ни плоха, ни хороша. Она такова, каково время, в которое она живет», — говорит Манфред Грегор. Это, конечно, слишком легкое решение вопроса о личной ответственности каждого человека за то, куда идет его время. Поэтому Манфред Грегор постоянно подчеркивает детскость, неискушенность своих героев; для них бой, который они ведут, — это своего рода «игра в индейцев». Фашистская песня «Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра — весь мир!» проходит через книгу как иронический комментарий к их «подвигам»; война предстает перед нами как бессмысленное преступление фашистов против своего народа. Но до осознания преступности ее по отношению к другим народам Манфред Грегор не поднимается. И все же, хотя эти школьники умирают не рассуждая, они думают, и по крайней мере один из них додумывается до того, что генерал, которому они, как и полагается немцам и солдатам, беззаветно верили, — их убийца. Этот переворот в сознании героев, точнее — одного героя, лишь намечен в книге, робко, «пунктиром», но и этого достаточно, чтобы читатель поверил автору, когда последние защитники моста открывают огонь по немецкой саперной команде, прибывшей по приказу генерала, чтобы взорвать «их мост».* * *
Читатель должен внимательно прочесть коротенькие главки в начале и в конце книги, между которыми — как воспоминание — и заключена повесть. Действие их происходит в наши дни, в 1955 году. Рассказчик — единственный оставшийся в живых герой книги — десять лет спустя стоит на мосту, где погибли его товарищи. На дне реки он видит сохранившийся с того времени автомат; из этого автомата немец стрелял по немцам, школьник, одетый в форму гитлеровского солдата, в приступе отчаяния и ненависти стрелял по тем, в ком он видел воплощение обманувшей его преступной власти. Мимо мчатся автомашины, шумит крикливая жизнь современной Западной Германии, кичащаяся «экономическим чудом» и не желающая понимать, что «чудо» это оплачено милитаризацией страны и возрождением фашизма. Молодежь не знает и не желает знать о том, что было десять лет тому назад. Забыл об этом и «пожилой господин», отечески снисходительно заговаривающий с героем, — один из тех «отцов», кто посылал сыновей умирать и снова готов посылать их завтра. Герой, который не забыл и не забудет прошлое, смотрит на него с ненавистью, и эта ненависть остается в читателе, когда он переворачивает последнюю страницу книги. Итак, смысл книги — в напоминании о прошлом преступлении, об угрозе нового. Она посвящена матерям. Она ратует против войн. Но недаром герой ёе, стоя на мосту и вспоминая свое кровавое вступление в жизнь, даже сегодня не может найти ответа на вопрос, «в чем смысл того, что тогда произошло», как не мог понять этого десять Лет назад, когда вступился за своего друга, ставшего, с точки зрения нацистской пропаганды, «бунтовщиком, саботажником и предателем». Здесь та точка, до которой простирается взгляд писателя, тот искусственный горизонт, который он сам очертил вокруг замысла своей книги, сделав ее по масштабам, по выводам много ограниченнее, чем она могла бы быть. Не пора ли герою книги снова защищать «их мост» — то есть свою родину — от преступников в собственной стране? Сверстники Манфреда Грегора в литературе Германской Демократической Республики — такие, как Вольфганг Нейхауз в повести «Украденная юность», Дитер Нолль в романе «Злоключения Вернера Хольта», — стремятся идти гораздо дальше, исследуют прошлое гораздо глубже. Они тоже на основе своего личного тяжелого опыта выводят в своих книгах ту зеленую молодежь, которую Гитлер бросал на фронт, под ноги неумолимо наступающим армиям только для того, чтобы продлить уже давно сосчитанные часы своего райха. Эта молодежь, однако, в их изображении далеко не так безобидна, как герои книги Манфреда Грегора, — гитлеровская школа успела вдолбить в них идеи фашизма, извратить их естественные человеческие чувства, многих из них превратить в убийц. Писатели смотрят на прошлое с высоты своего сегодняшнего опыта, своего сегодняшнего понимания будущего Германии; это дает им возможность увидеть не только нравственное потрясение, пережитое юношами их поколения в дни разгрома фашизма, но и возможность для лучших из них духовного преображения, очищения от фашистской скверны. Единое поколение пошло разными путями, и многие из тех, кто вчера был так подло предан Гитлером, сегодня — в рядах активных строителей новой, социалистической Германии. Книги немецких писателей о второй мировой войне — в том числе и «Мост» Манфреда Грегора — могут заставить советских читателей задуматься о многом. Они еще раз напомнят им, каким проклятием человечества были и будут войны; они покажут, что в немецком народе никогда не умирал протест против преступной фашистской власти и грабительской войны, и не случайно, а исторически закономерно Германская Демократическая Республика стала сегодня оплотом миролюбивых сил немецкого народа. Но они дадут также понять, что фашизм не умер, что реваншисты, стоящие у власти в Федеративной Республике Германии, смогут и в будущем найти солдат для новых безумных походов, если их не остановят соединенные силы борцов за мир, демократию и социализм. П. Топер
Прошло десять лет, и случай снова привел меня в этот маленький городок. Да и случай ли? Вечером, когда я ступил на мост и взглянул на реку, я уже знал, что привел меня сюда вовсе не случай, а желание еще раз увидеть этот мост. И вот я стою на широком тротуаре у перил и то смотрю вниз, на воду, то любуюсь берегами. Мост красив, и городок может им гордиться. Его массивным опорам не страшен никакой паводок. Дух захватывает, когда стоишь здесь весной, а река мчит талые воды с гор: стволы деревьев, вздымаемые мощным потоком, то и дело с грохотом ударяются о могучие быки, а волны, испробовав силу моста, бессильно разбиваются на мелкие брызги. А как хорошо в погожий летний день смотреть на гребцов, скользящих вниз по реке, на их бронзовые тела в стремительных байдарках! Но в этот майский вечер не было ни паводка, ни гребцов. С высоты моста река казалась совсем мелкой, даже дно было видно. Почти посредине лежала большая гранитная глыба. Она осталась здесь с 1935 года — с тех пор, как построили этот мост. Дно реки за камнем, было почти таким же, как и десятки лет назад. Черная глыба защищала его своей широкой спиной от наносов гальки. Еще и сейчас можно увидеть, что там лежит автомат. Выпуска 1944 года. Магазинная коробка пуста. Вечером 2 мая 1945 года в 17 часов 20 минут автомат выпал из рук немецкого солдата, полетел через перила, зацепился коробкой за край моста и повис. Раскачивался секунду, другую. Потом упал солдат и, падая, столкнул автомат прямо в волны, в самую глубь. За месяц до этого солдату исполнилось шестнадцать лет. И когда он падал, губы его шевелились, словно молили о чуде. Я знал, что не забуду ни его, ни остальных. Это началось десять лет назад в казарме маленького немецкого городка, 1 мая 1945 года. Через город текла река, и ее мягкая излучина делила его пополам. Но от берега к берегу перекинулся могучий мост. Места вокруг были прекрасные. Леса, гряды холмов и ярко-зеленые сочные луга. Однажды на одном из холмов сошлись два путника. — Я хочу, чтобы меня здесь похоронили, — со вздохом сказал один. — А я, — возразил другой, жадно, полной грудью вдыхая воздух, — я хотел бы здесь жить. Но думали они об одном и том же.
I
Карл Хорбер стоял под душем и старался направить струю так, чтобы ледяная вода падала прямо на худые плечи. Делал он это осторожно, и струя равномерно омывала грудь и спину. Возле стены казарменной умывальни и у полуоткрытой двери резвилась «команда», с ехидным любопытством наблюдая за попытками Хорбера смыть грязь, налипшую после учений в поле. Хорбер потешал «команду». С тех самых пор как его однажды поставили следить за рытьем окопов и он весь день сопровождал каждое свое приказание словами «давай, давай», его так и прозвали — Давай. Хорбер был членом «команды» и ее любимцем. Ему, шестнадцатилетнему лопоухому парню с веснушчатым лицом, огненно-красным чубом, не привыкать к насмешкам. Вот и сейчас под душем он совершенно невозмутим, хотя «команда» и не скупится — на советы. — Эй ты, Давай, брюхо не замочи — заржавеет! — Подверни уши, пусть вода и на шею попадет! — Жаль, нет твоей девчонки, нагляделась бы досыта! Громовой смех, за которым следует очередное, еще более язвительное замечание. И Карл Хорбер тоже хохочет. Не потому, что это лучшая форма самозащиты, просто жизнь бьет в нем через край и он радуется хорошей шутке, удачной остроте. Даже если метят в него самого. Хорбер смеялся. Казалось, смеется все его щуплое тело, тощие ноги, живот, сутулая спина и острые лопатки. И тут в дверях вдруг появился Шаубек. Унтер Шаубек по прозвищу Скотина. Кто придумал эту кличку, неизвестно. Да это, собственно, никого и не интересовало. Просто Шаубек мог скрутить в бараний рог самого строптивого рекрута, и все знали это. Пока он молчал, он казался неопасным. Но голос его предвещал беду. Даже когда он с напускной веселостью вдалбливал новобранцам основы воинской премудрости. Еще явственнее, когда он орал, и уж совсем отчетливо, когда переходил на шепот. Сейчас Шаубек шептал. — Хорбер, — шипел он сквозь зубы, — ну и кретин! Вы что, мыться не умеете? Не пригласить ли нам мамашу намылить зад господину Хорберу? Затем громче: — Пустить душ! Хорбер вытянулся под душевой струей в струнку. Шаубек круто, до отказа повернул кран и обрушил на сжавшегося в веснушчатый жалкий комок парня целый поток воды, чтобы тот как следует почувствовал, почем фунт лиха. Как следует. И в этот миг из угла, где сгрудилась «команда» (какая уж тут военная дисциплина), тихо, но вполне отчетливо прозвучало: — Закрой кран, гад! Пауза. — Кто сказал? — рявкнул Шаубек. Молчание. Еще громче: — Кто? Молчание. Тогда Шаубек перешел на шепот: — Вы мне скажете, кто это, понятно? Не то я из вас кишки выпущу! Гнетущая тишина. И вдруг тот же голос: — Ничего не выйдет, гад! Густой, спокойный, почти бесстрастный голос. Каждый в «команде» знал: это Эрнст Шольтен — сноб, страстный любитель музыки, поклонник Баха и женоненавистник. Однажды был арестован за браконьерство. «Команда» гордилась Шольтеном, но все немного робели перед этим шестнадцатилетним юнцом. Развитый не по годам, он совершал поступки, которые не должны были бы и в голову приходить сыну столь почтенных, родителей. Вот и сейчас «команда» не понимала, что ему, собственно, понадобилось. Ну, придрался Шаубек к Хорберу, но в конце концов от струи воды еще никто не умирал. К чему затевать всю эту историю? Они не сразу уразумели, что Шольтен не мог больше выдержать, что он попросту дошел до точки. В эти последние две недели никто из семерки не реагировал так болезненно на бесконечные придирки. Это началось в первый же день, едва только мальчик предстал перед Шаубеком. — Звать? — Шольтен! — Короткая пауза, затем нерешительно: — Эрнст, Эрнст Шольтен. Шаубек удивился: — Дурацкое имя. Шольтен, в первый раз слышу. Как это вообще можно позволить себе называться Шольтеном?[1] Шаубек сострил и ждал одобрения. Но шестеро ребят, что стояли рядом, не смеялись: они еще не усвоили, когда дозволено и когда не дозволено смеяться у Шаубека. Шаубек продолжал: — Слыхали вы хоть краем уха о цивилизации, Шольтен? — Та-ак точно, господин унтер-офицер! — Отвечают не «та-ак точно», а «точно», вы, разгильдяй! Стрижка волос тоже имеет некоторое отношение к цивилизации. Одно из ее завоеваний, понятно? — Та-ак точно, господин унтер-офицер! — Марш корчевать заросли! Начисто! Слышали? Начисто! Предположим, шевелюра Шольтена изрядно отличалась от того, что принято называть солдатской стрижкой. Но до сих пор еще никто и никогда не предписывал Шольтену, следует ему стричься или нет. И когда он, выйдя из казармы, битый час сидел в подвале у полкового парикмахера, ему казалось, что каждый взмах ножниц и каждое движение машинки оставляют на нем позорное клеймо. Множество подобных мелочей, накопившихся у него в душе за эти две недели, словно динамитом начиняли сейчас каждое слово, которое Эрнст Шольтен бросал из своего укрытия прямо в физиономию унтеру. Необычайная по напряженности обстановка: под душем голый, дрожащий, с вытянутыми по швам руками и совсем уже не веселый Хорбер. Задом к нему и лицом к тем шестерым в углу вне себя от злости — унтер Шаубек. А в углу — «команда»: Вальтер Форст, Зиги Бернгард, Альберт Мутц, Юрген Борхарт, Клаус Хагер и Шольтен. Пятеро бок о бок с Шольтеном, но еще не заодно с ним. Правда, они уже почувствовали, что все происходящее совсем не похоже на обычные проделки вождя краснокожих Виннетоу. Прозвище Виннетоу прилипло к Шольтену уже давно. Во всем его облике — черных как смоль волосах, худом желтом лице, длинном носе и остром подбородке — было что-то воинственное. У некоторых людей Шольтен с первого же взгляда вызывал неприязнь. К их числу относился и Шаубек. Чем закончится эта стычка? Да и как вообще она может кончиться? И вот в то время как Шаубек, впиваясь взглядом в каждого, пытался обнаружить виновного, завыла сирена. Воздушная тревога! — Мы еще продолжим разговор, — прошипел Шаубек и поспешил уйти.Унтер-офицер Шаубек и алкоголь

Год рождения — 1903, имя — Алоиз. Итак, Алоиз Шаубек. Кадровый военный. Специалист по новобранцам, материальной части, бабам и выпивке. Качеству баб, а тем более выпивки значения не придает. Главное, чтобы побольше, как можно больше. Предел мечтаний — увольнительная с ночевкой. Что же тогда стряслось с Шаубеком? Как все произошло? Ах, да! Он женился. Скоропостижно. Дней пять знакомства с Китти и… «Душка Китти, сладкая Китти, я буду звать тебя котик, ясно?» Свадьба военного времени.

Это продолжалось четыре недели. Потом Шаубек не пришел ночевать. Появлялся все реже и реже. Китти вернулась на работу, Шаубек — к выпивкам и бабам. А когда сиживал с приятелями в пивной «Орландо», то изредка посматривал поверх обитой медью стойки на Китти и, случалось, после второй, третьей бутылки говорил: — Видишь вон ту рыжую за стойкой? Если хочешь знать — это Китти, была, между прочим, моей женой. Уж мы тогда повеселились, ха-ха-ха! И Шаубек принимался хохотать, шумно, неистово. И снова пил. А когда напивался до чертиков, давал понять, что не чужд изящной словесности. — Известно ли вам… у госпожи хозяйки был?.. Но это еще не все, что можно сказать об Алоизе Шаубеке. Представление о нем будет неполным, если не упомянуть, что подчиненные у него ходили по струнке. Начальники его не уважали, хотя и отдавали должное его «системе воспитания». Никто столь беспрекословно и с такой готовностью не плюхался в грязь, как тот, кто прошел школу Шаубека. Войну Шаубек провел в тылу. Иногда он хвастал каким-то ранением, но при этом не раз попадал впросак, если среди слушателей оказывался кто-то из тех, кто знал, как было дело. — Заткнись, Шаубек, — раздавалось тогда, — не то заработаешь еще одно ранение! Пострадал Шаубек во время уличной катастрофы. Но Эрнсту Шольтену это не было известно.
Семеро побежали к зениткам. Хорбер едва успел натянуть маскировочный костюм и нахлобучить каску. Подтащили боеприпасы. Обстрелянный зенитными батареями американский «мустанг» взмыл в вечереющее апрельское небо и поспешил присоединиться к группе штурмовиков. За какой-то миг он на бреющем полете пронесся над казармой и, не причинив ей вреда, дал очередь по зданию казино для офицеров. Там, потягивая «организованное» где-то красное вино, резались в очко два унтера. Шаубек рассказывал унтер-офицеру Хейльману о случае в душевой. Хейльман хотел было заметить, что терпеть не может, когда ни с того ни с сего придираются к юнцам. Но тут его взгляд скользнул по потолку. Унтер Хейльман оцепенел. Все свершилось с молниеносной быстротой, но он запомнил все. На длинном потолке казино одна за другой появились дырки. Они двигались, как по линейке, прямо на унтера Хейльмана, все ближе и ближе, и тогда Хейльман вдруг рванулся из-за стола и упал на правый бок. Отлетела штукатурка, раздался грохот, треск… Когда Хейльман поднялся, Шаубек висел в странной позе, скрюченный, цепляясь за край стола, весь в алых брызгах. Красное вино и кровь. В широко раскрытых глазах — удивление. Руки сжаты в кулаки.
II
«Команда» в полном составе явилась в казарму с опозданием. Пришел лейтенант Фрелих. Хорбер отрапортовал, и тогда Фрелих, прислонившись к ближайшему шкафу, сказал им следующее: — Ребята! Шаубек убит. Американцы в тридцати километрах отсюда. Дело идет к концу. Мне кажется, вам лучше всего разойтись по домам. И поскорее! Я не могу, не должен вам приказывать. Но часовой у западных ворот оповещен. Он вас пропустит. Так говорил Фрелих. Он долго и пристально смотрел на каждого из них, так что им даже стало не по себе. Затем сказал такое, чего никто не слышал от него до сих пор: — Проклятая, грязная война! Это прозвучало, словно всхлип, какой вырывается порой, когда мучительно сдерживаешь рыдание. Потом круто повернулся и вышел из комнаты. За два часа до тревоги он узнал, что русские начисто уничтожили немецкое подразделение, в котором вот уже три месяца, служил его сын. Всю свою любовь семеро мальчиков отдали лейтенанту Фрелиху. Если не считать унтера Хейльмана, только он в казарме возился с ребятами и не донимал их муштрой. В огромной казарме эти семь юношей совершенно затерялись. Они были последней данью, которую маленький город заплатил войне. В середине апреля их прямо из школы забрали в фольксштурм, обрядили в защитную форму и каждому вручили новенький карабин «К-98». Принял их тогда Шаубек. — Черт возьми! Что это еще за слабосильная команда? Но затем оживился: — Впрочем, конца войне пока не видно, так что из вас еще можно будет сделать людей, сопляки! С тех пор семерку и стали звать «командой». Прозвище так к ним прилипло, что им нередко пользовались даже в служебном обиходе. В последние дни войны в казарме царили страшнейший хаос и неразбериха. Шаубек только и делал, что вдалбливал «команде» основы воинской премудрости. И лишь лейтенант Фрелих и унтер-офицер Хейльман всерьез думали о них. Фрелих подолгу беседовал с каждым, расспрашивал о родных и доме. Хейльман ограничивался неясными, мрачными, как бы мимоходом брошенными, но всегда благожелательными предсказаниями и советами: «Смывайтесь, ребята!» Или: «Разве не видите, все пошло кувырком! Плюньте на все, возвращайтесь домой!» Хейльман нравился им, хотя он редко смеялся, не рассказывал анекдотов и, разговаривая с ребятами, всегда смотрел куда-то мимо них, словно видел, как надвигается беда. Лейтенанта же они любили. Но в тот вечер они почувствовали сострадание к Фрелиху. Несмотря на мундир, он так не соответствовал идеалу немецкого офицера, который еще сохранился у шестнадцатилетних весной 1945 года.Лейтенант Фрелих и Кай Юлий Цезарь

Фрелих не был кадровым военным. Он преподавал в гимназии. Война и стратегия интересовали его постольку, поскольку речь шла о войне и стратегии времен Цезаря. Стратегия второй мировой войны была ему неинтересна. Да и вообще, с тех пор как он оставил школу и своих учеников, у него ко всему пропал интерес. Они призвали и его сына. Этого он понять не мог. Флори был совсем малыш, играл в железную дорогу, в солдатиков. Ну да, в солдатиков. И отец играл вместе с ним. Возводил укрепления, бастионы, рыл окопы, устраивал насыпи, объяснял сыну стратегию, и вдруг ни с того ни с сего Флориана отправили на фронт. В форме, с длинными, не по росту рукавами, в пилотке, под которой худое мальчишеское лицо казалось совсем ребяческим, — таким запомнился Фрелиху сын.

Потом в казарму пришли эти семь мальчиков, и Фрелих однажды увидел, как Шаубек трудится над тем, чтобы сделать из слабосильной «команды» настоящих солдат. Он видел, как Шаубек заставлял коренастого Альберта Мутца приседать с винтовкой в руке. Шаубек считал: — Тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять. Но, но, дохлый тюфяк, подтянись! Тридцать шесть, тридцать семь. И вдруг на месте этого румяного светловолосого крепыша лейтенант Фрелих представил своего сына. Представил себе, как он пошатывается задыхаясь. «Присесть! Встать! Присесть! Встать!» И тогда Фрелих отвел Шаубека в сторону и разделал его под орех. Что еще оставалось у лейтенанта Фрелиха? Там, дома, была жена. Годы сделали ее чужой. Был шкаф, полный книг о стратегии, тактике, Юлии Цезаре и многом другом. Был мундир. Школы не было. Учеников не было. Не было даже сына. Только эти семеро в казарме. «Ты должен думать о них, — твердил он себе. — Будь начеку, Фрелих. Это твой долг».
III
Налет начался около одиннадцати. Завыли сирены. Пронзительно, как во время учебной тревоги. Многие уже крепко спали. Но семерых мальчиков внезапная тревога застала бодрствующими. После разговора с лейтенантом Фрелихом было не до сна. Они спорили далеко за полночь. Следует ли бежать? Послушаться совета и улизнуть через западные ворота? Еще никогда у них не было таких разногласий, как в этот вечер. Хорбер за побег. Шольтен: — Ну ты! Давай, давай беги! Все покатились со смеху. Впервые за много дней заговорил Клаус Хагер по прозвищу Молчальник — он мог часами не раскрывать рта: — Ребята, если мы смоемся, значит мы дезертиры, а дезертиров расстреливают. Спокойнее остаться здесь. Уйти мы еще успеем. Это было так похоже на Хагера. Он никогда не говорил до тех пор, пока всего не взвесит. Пусть то, что он говорил, не всегда было правильно, но зато тщательно обдумано. Альберт Мутц рявкнул на этого труса поганого. Ему хотелось домой, в маленький домик на окраине. Там он смог бы — так ему по крайней мере казалось — спрятать остальных. Эрнст Шольтен разлегся на нарах, наверху, разумеется, там, утверждал он, горный воздух. Шольтен еще не высказался. Только сыпал направо и налево циничными замечаниями и довольствовался тем, что смешил всех. Вальтер Форст не прочь был бы остаться: — Верьте мне, здесь будет еще чертовски интересно. Шольтен: — Ну ясно, будем играть в индейцев! Зиги Бернгард: — Мне безразлично, куда все, туда и я. Юрген Борхарт: — Мне вовсе не хочется подыхать здесь. Я уношу ноги — чего еще ждать! Борхарт сказал это таким тоном, что тому, кто плохо его знал, и в голову не пришло бы усомниться в твердости его намерений. Но «команду» не проведешь. Борхарт уйдет только вместе со всеми. У него всегда есть определенное мнение, но он никогда его не отстаивает. Итак, шестеро высказались. Теперь они хотели выслушать седьмого. Карл Хорбер поднялся с кровати и, театрально потрясая руками, продекламировал: — Друзья, братья по оружию! Внемлите словам нашего мудрого вождя, пусть решает Виннетоу — вождь краснокожих! И предоставил слово Шольтену. Тот заговорил, не поднимаясь с нар и уставившись в выбеленный известкой потолок, словно находился один в комнате: — Если Фрелих говорит, что нам нужно уходить, он желает нам добра. Если пошевелить мозгами, это почти приказ командира. Если пошевелить мозгами. К тому же у него есть опыт. У нас опыта нет. Точнее — совсем мало. Итак, вопрос в том: или смотаться — поскольку у Фрелиха есть опыт, или остаться — поскольку у нас опыта нет? Все, что вы наговорили, курам на смех. Только Форст сказал дело. Будет интересно до чертиков. Что правда, то правда, интересно будет до чертиков. Вопрос только в том, не будет ли чересчур интересно? Я вот все думаю о Шаубеке. С ним тоже получилось интересно… С другой стороны, если мы будем начеку, можно и подождать. А когда уж слишком припечет — смотаться. А главное — если мы смоемся сейчас, не будет ли это, строго говоря, трусостью? При одной мысли о том, что он может оказаться трусом, он вскочил с нар, победно всех оглядел и закричал: — Слушайте! Мы окажемся трусами, если сбежим! Жалкими трусами! Нас не для этого здесь обучали. Разве нам дали форму и карабины, чтобы удобнее было драпать? Друзья! Они еще услышат о нас! Затем спокойнее: — Можете поступать, как хотите, а я остаюсь. Виннетоу останется на посту. Это его долг перед краснокожими братьями. Уф! Я кончил. Хорбер едва дождался, пока тот договорит. Он подскочил и по-обезьяньи уцепился за край верхних нар. Огненно-красный вихор, худое лицо, торчащие уши показались над кроватью. Он зарычал на Шольтена: — А ну, повтори еще раз, что я трус, повтори, и я вышвырну тебя в окно! Шольтен расхохотался ему в лицо и, пока Мутц и Борхарт щекотали Хорберу пятки, заехал ему ногой прямо в нос, так что Хорберу пришлось разжать пальцы и спрыгнуть на пол. Началась отчаянная потасовка. Шольтен свесил ноги и размахивал ими над головами, а затем повалился прямо на дерущихся. Смех, визг, грохот отодвигаемых столов и стульев — а время шло к полуночи. И тут началась тревога. Драка мгновенно прекратилась, все прислушивались к вою сирен. Сигналы повторялись, значит они не ослышались. Кинулись к шкафам, срывая походное снаряжение. И вот уже натянуто линялое обмундирование. Заранее уложенные рюкзаки вскинуты на спину, поясной ремень со штыком, саперной лопаткой и подсумком затянут, каски надвинуты, противогазы перекинуты через плечо, и все семеро устремились к выходу. На бегу схвачены карабины, и «тра-та-та» отстукивают по каменным плитам коридора подкованные походные башмаки. Потом вниз по лестнице, в главный казарменный двор. Там юноши пристроились ко второму взводу, взводу Фрелиха. Подразделения построились по четыре в ряд. Из-под полукруглой арки со стороны Западного шоссе появился серый «джип». Из него вышли трое. — Какие-нибудь важные птицы, — шепнул Шольтен. Командиров рот и взводов вызвали на совещание. Оно длилось почти полчаса. Все это время пятьсот солдат стояли в строю и ждали. Наконец взводные вернулись. Над полем раздалась команда, и подразделения одно за другим пришли в движение. Второй взвод во главе с лейтенантом Фрелихом, фельдфебелем Венхельтом и унтер-офицером Хейльманом направился к спортивному залу. Семеро проследовали за ними. Там все окружили лейтенанта. — Американцы все еще в тридцати километрах от города. Город решено защищать. — Чувствовалось, что слова эти стоят Фрелиху огромных усилий. — Позиции, которые мы займем, очень важны для обороны города. Он словно потерял нить, — и взгляд его устремился на левый фланг, туда, где стояли семеро, словно лейтенант ждал от них помощи. — У нас маловато людей, а мы должны защищать сравнительно большой участок. Мы получим снаряды, оружие, фаустпатроны и неприкосновенный паек! — Фрелих резко повернулся и, тяжело ступая вышел из зала. — Не в ногу ма-арш! — скомандовал фельдфебель Венхельт. Взвод в сорок два человека получил фаустпатроны, по два на каждого, и автоматы. Когда очередь дошла до мальчиков, унтер Хейльман спросил: — Кто из вас умеет обращаться с этой штуковиной? — Я, — ответил Шольтен. Он сказал это так спокойно, словно учитель Фрелих спросил у него, помнит ли он надгробную речь Марка Антония. «Команда» не удивилась. Они уже привыкли к тому, что Шольтен все умел. Так почему бы ему не знать, как обращаться с автоматом? Хорберу досталась русская самозарядная винтовка. — Этот герой даже когда из карабина стреляет, и то вот-вот в штаны наложит, — не преминул высказаться Шольтен. Остальные получили карабины и фаустпатроны. Под конец появился еще ящик с патронами. Каждый старался захватить столько обойм, сколько могли вместить карманы. Спустя полчаса сорок два солдата погрузились на два грузовика, а еще через три минуты лейтенант Фрелих остановил машины на мосту маленького городка. Унтер-офицерХейльман соскочил вниз и буркнул: — Нашли место для слабосильной «команды». Разочарованные ребята выпрыгнули из кузова на землю. — Этот мост — стратегически важный объект, — Пояснил лейтенант Фрелих. — Вы закрепитесь здесь. Унтер-офицер Хейльман примет командование. — И тихо Хейльману: — Как только туман рассеется — по домам! Понятно? Вы отвечаете за это головой, ясно? И тут произошло то, чего тщетно ждала «команда» все эти две недели. По лицу Хейльмана расплылась улыбка, забралась в каждую складочку, в каждый уголок грубоватого широкого лица, и Хейльман сказал: — Слушаюсь, господин лейтенант, понял!Унтер-офицер Хейльман и война

Курсант унтер-офицер Хейльман заработал кличку уже на третий день пребывания в офицерском училище. Его прозвали Старобранец. Он был в то время примерно лет на десять старше тех, кто сидел с ним на одной скамье. Из-за рассудительности и спокойствия, которое от него исходило, он казался даже старше своих лет. Военные наставники не хвалили и не ругали его. И вот что с ним случилось за четыре дня до окончания училища.

Во время занятий по политике руководитель спросил его, может ли немец быть хорошим офицером, не будучи ревностным приверженцем существующего режима. Унтеру Хейльману вопрос показался настолько простым, что против обыкновения, не раздумывая, он громко, на всю комнату ответил: — Само собой разумеется, господин обер-лейтенант! После, экзаменов триста свежеиспеченных офицериков отправились в отпуск на родину, а Хейльман, как и прежде, в чине унтера покатил на восток, обратно в свою часть. Он так и не понял почему. Для того чтобы осмыслить это, потребовалось немало времени. — Что ж, ваше имя, Адольф, сулит вам большое будущее, — сказал командир, ухмыляясь, когда Хейльман предстал перед ним с плохой характеристикой, опоздав к тому же на два дня. — Господин Хейльман, — продолжал он, — вы просто неподражаемы, вы прямо-таки великолепны! — Хейльман, не моргнув, выслушал все это, только — глаза смеялись. 2 мая 1944 года. Наступление против русских, окопавшихся на противоположном скате холма. Русские ожесточенно сопротивляются. Атака отбита. Среди пропавших без вести унтер-офицер Адольф Хейльман. Никто не знал, что с ним случилось. Никто ничего не заметил. Он просто не вернулся. Но этой же ночью часовой соседней воинской части, расположенной километрах в пяти, был насмерть перепуган. В гробовой тишине послышался вдруг какой-то шорох и треск. Он все приближался и приближался, и нервы часового сдали. Солдат забыл об автомате, забыл о ручных гранатах, обо всем забыл. Он ощущал лишь ужас перед тем, что двигалось прямо на него. — Тревога! — заорал он во всю глотку. Потом еще раз: — Тревога, Иван! — Вконец перепуганный собственным криком, прижимаясь спиной к осыпающейся стенке окопа, часовой таращил глаза в темноту. И вдруг «это» оказалось совсем рядом, как раз там, где однополчане, поднятые его криком, задыхаясь от быстрого бега, плюхались в щели и окопы. Совсем-совсем близко он услышал голос: — Заткнись, не то получишь в морду! Кто-то большой, серый, грузный протащился еще несколько метров до немецких позиций, ухнул в окоп и растянулся на земле. На следующий день в роте Хейльмана узнали, что унтер-офицер Адольф Хейльман вовсе не пропал без вести. Тяжелораненый, он с почти нечеловеческим упорством прополз на животе несколько километров и добрался до немецких позиций.
И вот теперь унтера Хейльмана оставили на мосту с семью подростками. Грузовик увез лейтенанта Фрелиха и весь взвод на запад, навстречу американцам. И Хейльман почувствовал, что отныне вся ответственность за судьбу этих мальчиков пала на него.
IV
«Нужно что-то придумать, занять чем-то мальчишек, иначе они начнут нервничать», — думал Хейльман. Но ничего не приходило в голову, абсолютно ничего. И тогда он сказал стоявшему рядом Шольтену: — Пока подождем немного и попьем чаю. А Шольтен, всегда выдержанный и не по годам взрослый Шольтен, скорчил озорную гримасу и спросил бесцеремонно: — Скажите, уважаемый, почему мы должны торчать здесь? Опять пропустим самое интересное. Хейльман ответил устало: — На вашу долю еще хватит интересного. Погодите малость. И вот началось интересное. Теперь, поздно ночью, на мосту появлялись лишь редкие прохожие. Несколько колонн проследовало в западном направлении, навстречу американцам. И больше никого. Семеро стояли, прислонясь к перилам, а Хейльман шагал взад и вперед. «Ничего не придумаю, надо же быть таким болваном!.» Внизу плескалась вода. Река трудилась. Без устали. Она несла песок и камни. После больших дождей она разливалась могучим потоком, а в засушливые летние месяцы струилась маленьким ручейком. Тогда ее, можно было легко перейти вброд. Мальчики писали как-то сочинение на тему «Река — символ нашего города». Карл Хорбер ухитрился заработать высший балл. Он очень образно написал про реку, про зеленую воду и сочные луга, раскинувшиеся по ее берегам. Шольтен же получил неуд. «Не на тему», — стояло на его сочинении. Он заставил реку говорить, словно она человек, но убедился, что это не каждому по вкусу! Среди ночи, когда все они сидели на восточном конце моста, с запада потянулись колонны. Теперь они двигались непрерывным потоком. Автомашины, конные упряжки, орудия, изредка танки. И среди всего этого люди, грязные, изможденные, обессилевшие, с осунувшимися серыми лицами, заросшими щетиной: они шли и шли, повесив головы, будто кто-то сидел у них на плечах и без устали погонял хлыстом. Порой кто-нибудь из колонны говорил сгрудившимся на мосту мальчикам: — Чего вы еще ждете? Бегите, пока не поздно. Тогда ребята, смущенно отворачивались и смотрели в воду, а унтер-офицер Хейльман ругал себя на чем свет, стоит за то, что ему так ничего и не приходило в голову. Начало потихоньку накрапывать. Мальчики вытащили из рюкзаков плащ-палатки и зябко укутались в негнущуюся, жесткую материю. Мимо них проходила колонна за колонной, и с каждой минутой ребята все острее чувствовали, что впереди самое значительное событие в их жизни. И тут им стало страшно. Ни один из них не сказал бы об этом вслух. Ни один. Но это было так. Они закурили. У Хейльмана были сигареты, и он великодушно угощал всех. Зажав мундштуки в зубах, они онемевшими руками зажигали спички и жадно, торопливо затягивались. Альберт Мутц закашлялся. Он всегда кашлял, когда курил. Остальные уже давно привыкли к сигаретам. К концу ночи людской поток немного схлынул и на какую-то минуту иссяк. Потом опять появились машины, а в них под мокрым брезентом смертельно усталые пехотинцы. И так без конца. Машины — затишье, машины — затишье. И вдруг движение прекратилось. Стало страшно и жутко. Только что здесь проходили машины, тащились повозки, люди. А теперь на мосту остались только семеро ребят со своим унтером. А тот все думал и думал. Он даже обрадовался, когда на мост со стороны старого города въехала машина и, скрипнув тормозами, остановилась у маленькой группы. Хейльман шагнул вперед, готовый дружески заговорить с каким-нибудь шофером, и остолбенел. Тот, кто сидел в глубине машины, а сейчас молодцевато спрыгнул на мостовую, был ни много ни мало, как генерал собственной персоной. — Охраняем мост, унтер-офицер Хейльман и семь рядовых, — доложил Хейльман. Ничего умнее он придумать не мог. Но генерал, очевидно, не придавал большого значения формальностям. Он даже не взглянул на семерых ребят — они приплелись сюда, укутанные в свои нескладные плащ-палатки, — и заговорил с Хейльманом тихо, но внушительно. Ребята слышали только ответы унтера. — Так точно, господин генерал!.. — Никак нет, господин генерал!.. — Будет исполнено, господин генерал!.. Потом генерал заговорил громче, чтобы слышали все. — Мост надо удержать во что бы то ни стало! Во что бы то ни стало! Понятно? Я надеюсь на вас. Вы получите подкрепление! После этого генерал уехал так же неожиданно, как и появился. На какое-то мгновение Хейльману показалось, что все это ему снится. Но Юрген Борхарт вернул его к суровой действительности: — Это в самом деле был генерал, господин унтер-офицер? — Да, в самом деле, мой мальчик! — сказал Хейльман и выругался длинно, грубо, зло. Он был взбешен. Ругань не принесла облегчения. «Хотел бы я знать, как выглядит это самое подкрепление! Хотел бы я знать!» Долго ждать ему не пришлось. Появился грузовик. Он въехал на мост с той же стороны, что и генеральский «джип», из него высыпалось с десяток нескладных фигур в защитной форме. Хейльман подошел к ним, чтобы получше разглядеть этих солдат. — Господи! Что за старые чучела! — только и выговорил он. Подкрепление состояло из десяти стариков. Каждому под шестьдесят, если не больше. Должно быть, их забрали в последнюю минуту, прямо из дома, вытащили из-за обеденного стола. И форму они надели только-только. Но что из этого? Мундиры-то уже видали виды, были прострелены, залатаны. Те, кто носил их когда-то, давно в земле, где-нибудь во Франции или России. С них, изувеченных, продырявленных пулями, перед тем как положить на операционный стол, стаскивали мундиры. Они еще послужат! Десять стариков получили такой же приказ, что и шестнадцатилетние мальчишки. Никто не обсуждал его. Ни старые, ни молодые. Просто приняли как должное. Как аттестационный лист в конце года. А унтер-офицер Хейльман всё еще не придумал, что предпринять. Надо было действовать, но как, он не знал. У восемнадцати солдат были ружья, фаустпатроны, боеприпасы и НЗ. НЗ состоял из банки кровяной колбасы, банки говядины и сухарей. За консервы хватались так же, как за фаустпатроны, обеими руками. «Хорошего мало, когда на одном мосту сходятся старики и дети, чтобы выполнить один и тот же приказ, — размышлял Хейльман. — Совсем разные у них взгляды на приказ. И уж, во всяком случае, на войну вообще. И никто из них не знает, как защищать мост. Да и сам я, — признался себе Хейльман, — тоже не знаю. Ясно только, что удержать мост, пока, торчишь здесь, нельзя. Надо занять позиции, господствующие над мостом. Но где? И как? К тому же необходим пулемет». Ну конечно! Это выход. Теперь можно что-то делать. Разумеется, пулемет! — Борхарт, Мутц, Хорбер! Слетайте в казарму и скажите, чтобы на мост прислали пулемет. Ручной пулемет и несколько лент. Лент побольше. Поняли? Трое ответили, что поняли, и отправились в путь. Как здорово, что по меньшей мере на час они избавились от этого бесцельного ожидания на мосту! Старики стояли особняком и о чем-то шептались. Будто даже громко сказанное слово могло накликать беду. Вдруг один из них заговорил громче. У него были жидкие седые волосы и тонкий голос. — Это конец, слышите, конец. Он сказал это куда-то в темноту, потом испуганно оглянулся на Хейльмана. Тот не ответил. Старик вынул часы из кармана куртки. Старомодные карманные часы с отскакивающей крышкой. Должно быть, фирменные. И часы как будто натолкнули его на какую-то мысль. Он выпрямился и объявил: — Я ухожу домой. Никто не ответил, хотя он довольно долго выжидал. Тогда он сказал: — Приказ удержать мост — бессмысленный. — И после короткого молчания снова: — Я ухожу! Старик сказал это без всякого выражения, совсем тихо. Затем осторожно прислонил свой карабин к парапету и быстро засеменил прочь. Это было началом. Старики один за другим ставили оружие к стене и уходили. Вскоре у каменного парапета уже стояло десять карабинов, а на земле лежала куча фаустпатронов. Только НЗ они взяли с собой. Унтер-офицер Хейльман молча наблюдал за происходящим. Он стоял, широко расставив ноги, заложив руки за спину, и смотрел. Он растерялся. «Ты должен что-то предпринять, Хейльман, ты не можешь так вот просто дать им уйти, ведь это бунт!» Мысли теснились у него в голове, но он и пальцем не шевельнул. Когда ушел последний из десяти, Хейльман повернулся к мальчикам и не поверил себе. Они смотрели на него с таким благоговением и восторгом, словно готовы были в ту же секунду исполнить любой приказ, который сорвется с его уст. Хейльман стал героем в их глазах. Именно потому, что дал уйти старикам. «На нас-то он может положиться», — клялись себе мальчики. Вернулись на грузовике Мутц, Борхарт и Хорбер. Они сгрузили два пулемета, много коробок с лентами. Потом машина, громыхая, ушла. — Сначала они вообще ничего не хотели давать, тогда мы пошли к генералу, — хвастал Хорбер. — Это вы здорово провернули, — заметил Хейльман без всякого энтузиазма и стал слушать рассказ о том, что делается в городе, в казарме. «Никакой жандармерии на пути, — отметил он про себя, — никакой опасности, никаких препятствий к бегству». Затем он выдвинул на середину моста оба пулемета и принялся объяснять их устройство так же, как объяснял уже тысячу раз очередным новобранцам. И вдруг осекся. Он чуть было не рассказал, как чистят пулемет. Будто его придется еще когда-нибудь чистить. Когда Хейльман закончил свои объяснения, на востоке уже занималась заря. Теоретическую часть он изложил исчерпывающе, что же касается практической — от нее-то и надо бы их избавить. Хейльман вспомнил вдруг о Фрелихе. Где он теперь? И тут Хейльман в который раз задумался над поручением, которое дал ему Фрелих. «Как только туман рассеется — по домам! Понятно? Вы отвечаете мне за это головой, Хейльман!» Унтер Хейльман больше не колебался. Теперь он знал, что делать. И зачем тянуть? Чему быть, того не миновать. — Ребята! — сказал он. — Выслушайте меня! Все, что здесь делается, совершенно бессмысленно. Дома вас ждут родители, а вы хотите играть в войну. Я обещал лейтенанту Фрелиху, что до этого дело не дойдет. Вы должны помочь мне выполнить мое обещание! Такие длинные и хорошо продуманные речи не часто удавались Хейльману. Он был прямо-таки горд этим. И чтобы не дать мальчишкам опомниться и возразить, продолжал: — Сейчас я незаметно проберусь в город, проверю, все ли спокойно. Через десять минут вернусь, и тогда — по домам! Пока не вернусь — не трогаться с места, а потом все мы с шиком смоемся. В этом тоже есть кое-что интересное! Унтер-офицер Хейльман извлек из рюкзака штатскую куртку и натянул ее поверх кителя, из чего можно заключить, что этот тяжелодум заблаговременно подготовился к превратностям судьбы. И все же он допустил просчет. Едва он прошел перекресток, расположенный у самого моста, и сделал несколько шагов по направлению к старому городу, как в воротах, мимо которых он намеревался проскочить, раздался стук кованых сапог. Две пары неподвижных оловянных глаз из-под нависших касок уставились на него в упор. Блеск двух металлических блях ослепил его. «Полевая жандармерия, — подумал Хейльман. — Значит, конец». Он показал свои документы, вынужден был показать. — Почему в штатском? — с каменным лицом спросил один из жандармов. — Хотел заблаговременно смыться, не так ли? — съязвил другой. Хейльман шел между ними и лихорадочно думал. Он думал не о спасении собственной жизни. Все его мысли были о мальчиках там, на мосту. Голова раскалывалась. «Господи! Как мне сообщить им? Что бы такое придумать? Надо что-то придумать… Надо что-то придумать». Его кулак пришелся прямо по переносице одному из жандармов. Потом Хейльман изо всей силы ударил его в живот коленом. Но со вторым совладать не удалось, и тогда унтер-офицеру Хейльману осталось только одно — бежать, бежать, изо всех сил бежать! Первая пуля, пущенная из «вальтера», прожужжала совсем рядом, ударилась о стенку и врезалась в штукатурку. Стараясь увернуться от пуль, он бежал петляя. «Я как заяц, совсем как заяц!» И тут же почувствовал тупой удар в спину, попытался бежать дальше, но отнялись ноги. Он рухнул на мостовую. Из последних сил еще попытался приподняться на локтях, а потом затих. Унтер-офицер Адольф Хейльман был мертв. В его бумажнике жандарм нашел удостоверение личности, расчетную книжку, восемьдесят восемь марок, медальон в серебряной оправе с изображением мадонны и карточку белокурой девушки в купальном костюме. Бумажник с документами и медальон жандарм засунул в карман своей длинной шинели. Карточку долго рассматривал при свете карманного фонарика. — Шикарная девчонка, — сказал он. Потом вспомнил про товарища, который скрючился у стены и стонал, держась за живот. Семь мальчиков на мосту ждали своего унтер-офицера.V
— Стреляют, — сказал Хорбер, и все прислушались. Дважды раздался этот глухой раскатистый звук. — Должно быть, кто-нибудь застрелился, — прошептал Мутц и почувствовал, как по спине у него забегали мурашки. Но Шольтен считал, что все это вздор. Правда, и у него на душе было не веселее, чем у других. Проклятье! Когда Хейльман вернется? Неприятно чувствовать себя всеми забытыми, торчать на мосту и ждать. Начало рассветать. Из-за холмов на востоке забрезжил свет. Дождь немного утих. — Неужели Хейльман нас бросил?.. — пробормотал Мутц. — Хейльман не мог нас бросить, слышишь, ты, размазня! «Шольтен бывает иной раз чертовски груб, — подумал Мутц, — уж нельзя и слова сказать!» Но Хейльман все-таки бросил их. Десять минут превратились почти в два часа, и семеро на мосту снова заспорили: сбежал Хейльман или его где-то задержали. Наконец спор оборвался. Он не имел никакого смысла, ведь никто ничего не знал. К тому же — это было теперь не так важно. Уже совсем рассвело, а при дневном свете все представлялось не таким страшным, как в темноте. Разрядил атмосферу Хорбер. Он обратился к «команде»: — Ребята, про завтрак-то мы забыли! Все рассмеялись, кое-кто с любопытством наблюдал за попытками Хорбера расправиться с консервной банкой при помощи штыка. Дважды штык соскользнул, один раз Хорбер уколол себе палец. — Друзья! Я истекаю кровью. Несите меня в лазарет. Они давились со смеху, они резвились, словно на прогулке. Послышался звук мотора. Шольтен прислушался: — Помолчите минутку! Теперь вслушивались все. От веселья не осталось и следа. Шум мотора доносился не с запада, а со стороны старого города. И как тогда, ночью, на мост въехала машина и, резко затормозив, остановилась возле них. Генерал на этот раз сидел впереди, рядом с шофером, двое сопровождающих — сзади. Мальчики вскочили, старательно, как их учили, встали по стойке «смирно». Шольтен, заикаясь и сильно покраснев, отрапортовал. Генерал жестом остановил его: — Где унтер-офицер? Шольтен молчал, но Мутц, преисполненный усердия, доложил: — Он ушел, господин генерал! И в ту же минуту понял, что предал Хейльмана (тьфу, черт, «команда» никогда не простит ему этого!), и, не растерявшись, пояснил: — Господин унтер-офицер пошел позаботиться о боеприпасах. Мутц лгал совершенно гладко, совершенно невозмутимо, но вдруг его проняло: «Обмануть самого генерала! Это даром не проходит!» Генерал был краток, немногословен, деловит: — Давно ли он ушел? Мутц побледнел: — Примерно два часа назад, господин генерал! Генерал задумался, и Мутцу показалось, что он похож на Наполеона с картинки из учебника истории. Не хватало только пряди на лбу. А генерал все думал, и вдруг на. его лице появилась усмешка, появилась и тут же исчезла. Он повернулся к машине: — Шлопке! — Слушаю, господин генерал! Человек, сидевший на заднем сиденье слева, выпрямился. Он ел глазами начальство. — Выходите сюда, Шлопке! Вы примете все это хозяйство! — Та же усмешка на лице. — Не так-то уж плохо повоевать немного, пусть за час до конца войны, не правда ли, Шлопке? — Так точно, господин генерал! — ответил Шлопке подобострастно, а про себя подумал: «Черта с два!» С легкостью гимнаста спрыгнул он на мостовую. — Вы должны удержать мост, Шлопке, понятно? Генерал говорил тихо, потом громче: — Посмотрите, какие великолепные парни. Несколько тысяч таких орлов, и мы могли бы еще выиграть войну, Шлопке! Мальчики покраснели, на этот раз от гордости и волнения. Они удержат мост. У них снова есть унтер-офицер. Правда, его зовут не Хейльман, а Шлопке, но назначил его сам генерал. — Желаю удачи, молодцы, я надеюсь на вас, — сказал им генерал и уехал. — Чтоб тебя кондрашка хватил, старый черт! — прошептал ему вслед Шлопке. Затем разъяренно: — Чтоб ты подох, каналья! Семеро доверчиво сгрудились вокруг нового унтера. А тот держал «патриотическую» речь. Тем временем генерал подъехал к крестьянскому домику в четырех километрах восточнее городка, вошел в низкую комнату и принялся разглядывать большую карту на стене. Он стоял, широко расставив ноги, и размышлял. Затем взял мягкий красный карандаш и обвел какое-то место на карте.Генерал и его приказ

Он стал генералом потому, что был способнее своих товарищей по военному училищу. Он был чистюля и терпеть не мог «скользких типов». Приходится, конечно, иметь дело с подобными молодчиками, они бывают нужны, но так и подмывает при первом же удобном случае дать им пинка в зад. Генерал не без удовольствия думал о Шлопке. Если бы не этот Шлопке, генерал забыл бы про мост, приказ-то ведь отдан, и мост перестал для него существовать. Он вспомнил о семи мальчиках. На какую-то долю секунды ему стало не по себе, но в его мозгу сработала какая-то пружинка и вытолкнула эту мысль. Семь человек. Хорошо. Отлично. Подростки, совсем еще дети. Им, конечно, на этом мосту придется не сладко. Но у них есть честолюбие, гордость, а что такое настоящий страх, им еще невдомек. И слава богу. Они примут на себя первый удар американских частей, а это означает — генерал посмотрел на часы, — это означает выигрыш во времени по меньшей мере в два часа.

Внизу, в долине, были войска, почти семь тысяч человек. Их нужно было перебросить в горные районы востока. Ведь есть и другой противник! Два часа могли оказаться решающими. Эти семь тысяч успели бы выбраться из котла, и их можно было бы отправить на восток. Если же американцы захватят мост, если они прорвутся, петля окончательно затянется. Генерал рассуждал: взорвать мост? Сейчас? Этого делать не следует. Американцы узнают об этом до наступления. У них достаточно разведчиков. Тогда они не будут пытаться захватить мост, а пошлют саперов и всю свою чертову технику. Нет, пусть американцы надеются, что смогут без хлопот захватить мост. А когда первый «шерман» появится на мосту, мост надо будет взорвать. Тогда они вынуждены будут отойти, вызвать штурмовиков, после этого наступит десятиминутное затишье, а затем они полезут снова. Всё вместе — генерал еще раз взглянул на часы — займет почти три часа. Да! И после первой атаки надо будет взорвать мост. Как раз тогда, когда начнется вторая. Тогда им придется послать саперов, а на это тоже нужно время. У генерала вспотели руки. Он зашагал по комнате. Первая атака! — Стоп! Затем штурмовики, вторая атака. Вот тут-то мост и взлетит на воздух. И все в целом займет три часа. Генерал потер влажные ладони, чтобы отделаться от противного ощущения. Он опять подумал о семерых. И снова в мозгу услужливо сработала пружинка.
VI
Семеро ребят полны воодушевления. Унтер-офицер Шлопке оказался именно таким, каким нужно. Уж с ним-то они сумеют отстоять мост. Но что значит «с ним»? Они удержат мост при любых обстоятельствах! Это сказал сам генерал. Он сказал: «Желаю удачи, молодцы!» Им оказано такое доверие! Такое доверие! «Патриотическая» речь Шлопке достигла цели. Семеро с восторгом ловили каждое его слово и чувствовали себя мужчинами, когда Шлопке приправлял очередную прописную истину какой-нибудь сальностью. — Один пулемет мы поставим слева у въезда на мост, там, где кончается выступ парапета. — Но там негде! — Ну что ж. Поищем справа! К чему мягко стлать, если не с кем спать? — Там подходяще! Они установили пулемет с восточной стороны за выступом парапета, который как бы замыкал мост. — Шикарная позиция, — сказал унтер Шлопке, и семеро поверили ему. Только Шольтен позволил себе усомниться: — Да разве это позиция! Но Шлопке в два счета утер ему нос: — Ну-ка, расскажи бывалому солдату, что такое настоящая позиция, сопляк! — И добавил: — Только смотри в штаны не напусти, дитятко! Когда Хорбер снова принялся за свою банку с колбасой, унтера Шлопке вдруг осенило: — Ребята! Я отлучусь ненадолго, организую мешки с песком! И был таков. Неторопливо спустился с моста, пересек въезд — и юркнул в проулок, ведущий к верхней части города. Ни слова о том когда он вернется и что им пока делать, ни словечка. — Мешки с песком — это здорово, — заметил Хорбер, снова ковыряя штыком банку. — Ну и покажем мы американцам! Но слова эти были встречены прохладно. — Пари держу, что он не вернется, — сказал Шольтен. — Вернется, как пить дать! — Хорбер был возмущен, он уже справился с банкой, но прежде всего следовало дать отпор этому противному Шольтену. — Не сойти мне с этого места, если Шлопке не вернется! — Смотри, врастешь в землю, болван! — заметил Шольтен.Унтер-офицер Шлопке и жандармы

Шлопке пробирался по улице, как индеец. «Не дремлите, орлиные очи», — подбадривал он себя, оглядываясь на каждом шагу и быстро оценивая обстановку. Но ворот он не заметил. Вернее, он подошел к ним слишком рано. Всего на какие-нибудь пять минут раньше, чем надо. В воротах два жандарма укладывали на мотоциклы пожитки. Один из них остановил Шлопке: — Ваши документы, господин унтер-офицер! Но Шлопке, у которого за все пять лет войны не было ни единой осечки, не желал сесть в лужу за четверть часа до финала. — Ни секунды времени! Особое поручение генерала! — протрещал он. — Из штаба корпуса, понятно? Уж как-нибудь в другой раз, а сейчас не могу. По секрету скажу — задание связано с мостом. Доверие ценится всегда. Его ценили подростки там, на мосту, его оценили и жандармы. Прежде всего потому, что очень торопились. Тот, кто хотел задержать унтера Шлопке, отступил назад и сказал: — Порядок, господин унтер-офицер! Шлопке совершенно хладнокровно продолжил свой путь, ни слишком медленно, ни слишком быстро. Внешне невозмутимый, в душе умирая от страха. Он чувствовал, как пот выступает изо всех пор, и пытался подбодрить себя. «Спокойно, Шлопке, спокойно, не падай духом. Видишь угол там, впереди? Доберешься до него, и тогда порядок. Еще сорок метров, еще тридцать пять! А вдруг они бросятся за мной вдогонку?» Тридцать метров, двадцать пять — и тут началось. Шлопке услышал оглушительный треск мотоцикла за спиной. Первой его мыслью было бежать, исчезнуть, испариться. Но он продолжал идти.
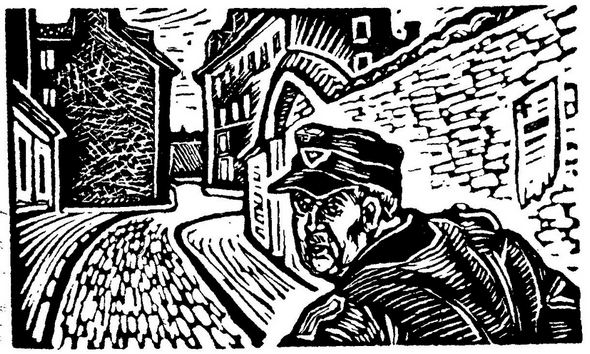
Мотоцикл приближался; еще секунда, и они схватят его, и тогда военно-полевой суд… Машина приближается, вот она поравнялась с ним, но Шлопке не оглянулся. Потом мотоцикл проехал вперед, и жандарм, сидевший в коляске, кивнул Шлопке, а тот, кто сидел впереди за рулем, даже головы не повернул. За ближайшим поворотом мотоцикл исчез. У Шлопке подломились ноги. Его вырвало. «От слишком быстрого бега, должно быть», — утешал он себя. И только потом до него дошло, что он вовсе не бежал.
VII
Карл Хорбер одолел уже полбанки колбасы, когда начался такой грохот, что мост задрожал. Зиги Бернгард поднял голову: — Я тоже думаю, что Шлопке не вернется! Голос самого младшего из семерых звучал жалобно. Шольтен разозлился. — Придет, придет. Только не напусти в штаны! До нас не меньше пяти километров. Да к тому же там наши части, иначе американцы не стреляли бы! Бернгард всхлипнул: — Хорошо, хорошо, Эрнст! — И начал плакать горько, уныло. Должно быть, его здорово разобрало. Форст, Мутц, Борхарт, Хорбер и Хагер смущенно стояли вокруг. Но Шольтен рассвирепел: — Сейчас же прекрати хныкать, или так двину — мокрое место останется! Но Зиги плакал, а Шольтен не тронул его. Он передернул плечами, ушел на противоположный край моста и сел за пулемет. Он тренировался. Вставлял ленту, вращал ствол, вытаскивал ленту и смотрел поверх прицела. Потом вернулся за автоматом и прислонил его к парапету. — Эй, вы, убирайтесь отсюда, — сказал он, — уносите ноги, сопляки! Я и без вас управлюсь! — Но не без меня! — буркнул Хорбер и встал рядом с Шольтеном. Плечом к плечу. Один за другим поднимались остальные и становились рядом, пока Зиги Бернгард не остался один. Он сидел на корточках на восточной стороне моста, хлюпал носом и ждал. Дождь усилился. С неба лило и лило без конца. Плащ-палатки и маскировочные куртки уже давно набухли. Теперь материя всасывала воду, и все семеро до костей промокли. С касок вода стекала на плечи и впитывалась в ткань. Шольтен стянул плащ, дал Хорберу в руки один конец, а другой стал выкручивать. Целые потоки мутной желто-зеленой воды потекли на мостовую. — Ну что за свинство, черт подери! Но вот, наконец, что-то нарушило это нудное, изнурительное ожидание. Какой-то штатский с восточной стороны поднялся на мост и подошел к ним. — Что вы тут делаете? — Он как-то странно пришепетывал. — Расходитесь по домам, не заваривайте здесь кашу. Война все равно проиграна. Шольтен сообразил, почему этот штатский шепелявит. У него нет зубов. Наверно, потерял вставную челюсть или оставил ее дома, чтобы не посеять под конец войны. Новую челюсть достать не так-то просто. Шольтен и Хорбер спокойно дали этому типу выговориться. На какой-то миг черноволосый Шольтен даже посочувствовал ему: «До чего же он ничтожен по сравнению со мной, до чего же ничтожен!» И вдруг ни с того ни с сего в нем вспыхнула ярость. — Мост будем оборонять, приказ генерала! Хорбер с удивлением взглянул на товарища — тот говорил, как взрослый, хладнокровно и резко. И тут до него дошло. Шольтен говорил в точности, как генерал. Он подражал ему, но от этого становилось как-то не по себе. Шольтен закричал. Юношеский высокий голос, который казался всегда таким ровным и бесстрастным, сорвался. — Что вам здесь нужно? Прячьтесь скорее в свое убежище! Живо! Штатский смотрел на них, не понимая. В глазах его был ужас. Потом он зашагал, прошел пять, десять метров и вдруг помчался, словно его травили собаками, и исчез. Семеро подавленно молчали. И тут Хорбер рассмеялся, он прямо давился со смеху, хватался за живот. — Видели? — заливался он. — Ускакал, как кенгуру! Но смех был какой-то ненастоящий. Все почувствовали это, а Шольтен сказал: — Не подавись! Бернгард уже не плакал. Первым заметил это Хагер, он сказал Борхарту, тот — Форсту, и, наконец, новость дошла до Шольтена. Тот не спеша направился к маленькому Зиги, похлопал его по плечу: — Успокоился, малыш? Все не так уж страшно. Тут кому-то понадобилось узнать, который час. Только у Хорбера и Мутца были часы, но они стояли, ведь часы надо заводить, если хочешь, чтобы они шли. Об этом оба как-то забыли. Часы на ближайшей церкви показывали десять. Десять часов утра, в том, конечно, случае, если часы идут. — Завтрак, — объявил Хорбер и снова принялся за колбасу. Дождь был уже не такой сильный, на западе стало проясняться. Все вдруг почувствовали голод и вспомнили о неприкосновенном запасе. Но только они вошли во вкус, как послышался гул самолетов. Любому бывалому солдату такого предупреждения было бы достаточно, но семеро продолжали ковыряться в своих банках. И вдруг над головой разверзлось небо. Мутц первым увидел самолеты. Он сидел на своей каске, выковыривал пальцем мясо из банки и упорно грыз сухарь. Сухарь не поддавался, он был как каменный. Но тут Мутц увидел самолеты. Два двухфюзеляжных самолета. Должно быть, «лайтнинги». Они прошли высоко над мостом. Мутц проводил их взглядом и продолжал есть. Через минуту шум моторов превратился в оглушающий адский рев. Как молния пронеслись самолеты над мостом, в воздухе раздался короткий свист, затем страшный вой, рев, и с неба что-то упало, какие-то штуковины, похожие на продолговатые коробки. Падали они наклонно прямо на мост, одна, вторая, третья, а, четвертая ушла за парапет. Коробки подпрыгнули на метр или полтора в воздух, затем раздался треск — и тишина. Шум моторов заглох, исчез. Глухие раскаты замирали вдали. Шольтен лежал ничком на каменных плитах. Он с ходу бросился плашмя так, что расшиб колени. Вспомнился Шаубек («Лечь, вста-ать, бегом! Лечь, вста-ать, бегом! Лечь, вста-а-ать, бегом!»). Постепенно все поднялись. Ужас охватил их. И когда, сбившись в кучу, бледные как полотно, они взглянули друг на друга, одна и та же мысль пронзила всех — нет Зиги Бернгарда.Зиги Бернгард и его книги

— Просто не знаю, что еще предпринять, господин учитель, у мальчика только книги в голове! Маленькая изможденная женщина потеряла терпение. Она уже не в силах молчать, должна же она хоть раз излить душу. С парнем надо что-то делать. Так продолжаться не может. Он послушен, воспитан, не делает глупостей, но это какой-то странный ребенок. А маленькой женщине с усталыми, натруженными руками хотелось, чтобы сын у нее был, как у людей. Ей хотелось, чтобы он стал дельным человеком. Для этого она отказывала себе во всем, всю жизнь тянула лямку, все эти годы. В конце концов, она, получив табель, где рядом с тройками по немецкому, истории и английскому стояли сплошные двойки, решилась пойти к учителю Штерну. По поведению у Зиги было «отлично», а по прилежанию — «неудовлетворительно». «Этот ученик, будь он немного прилежнее, мог бы при своих способностях учиться гораздо лучше. Во время занятий он часто бывает рассеян и невнимателен». Подпись: «Штерн, классный наставник». Это тоже стояло в табеле. — Скажите, фрау Бернгард, что читает Зиги? — Да, можно сказать, читает все подряд, господин учитель. — И она была права.

Чего она только не испробовала! Откладывала по пфеннигу и на собранные деньги купила ему «Конструктор». Но в его руках тонкое лезвие лобзика сломалось после первой же попытки выпилить что-то. («Не лежит у меня душа ко всему этому!») С великой неохотой вставал он к верстаку в подвале. И если хоть немного занимался физическим трудом, то лишь для того, чтобы не огорчать мать. Как-то раз к нему зашел Мутц, встал к столярному станку и через два часа без всякого напряжения соорудил ту самую модель корабля, над которой безуспешно трудился Зиги. Когда пришла мать и стала восхищаться моделью, Зиги бросил страдальческий взгляд на друга и молча вышел из подвала. — Итак, рыцарь Курциус бросился в пропасть потому… Учитель Штерн вопросительно смотрел на класс: восемь девочек и семь мальчиков. — Скажи нам, Бернгард, что побудило рыцаря Курциуса броситься в пропасть? Бернгард встал и, глядя на учителя своими большими темными глазами, сказал: — Он был герой, господин профессор! И продолжал стоять, но не сказал больше ничего. Хотя во взгляде его было все, что он хотел сказать: «Он был такой парень, этот Курциус, он не знал, что такое страх. Ну, кто из нашего класса решился бы броситься в пропасть?» Он представил себе своих товарищей. Мутц? Ну, нет. Хорбер — тоже нет, конечно, нет. Хагер? Тоже нет, и Борхарт отпадает. Форст? Возможно. А вот Шольтен? Да, этот сможет. — Бернгард, может быть, ты уже выспался и скажешь нам все-таки, что побудило рыцаря Курциуса прыгнуть в пропасть? В голосе учителя слышался укор. Но Бернгард уставился на него широко раскрытыми глазами, и тот подумал: «Хоть бы он не смотрел на меня так». И тут кто-то сзади весьма чувствительно пнул Зиги ногой. Тьфу, черт, как больно! Но зато он вернулся к действительности и совсем ясно услышал подсказку: «Жертва». — Это была жертва, — сказал он, — жертва, господин учитель. Учитель рассмеялся. — Садитесь, Бернгард. Спасибо, Шольтен, я тоже вас слышал. Вот так и учился Бернгард. Он хорошо знал, что это такое, когда добровольно бросаются в пропасть. Это так величественно, что он не мог выразить словами. А Шольтен мог, и другие, как ни странно, тоже могли. И все же Зиги разбирался в этом лучше всех. Ну что они понимают в героизме, Шольтен, Мутц, Форст, Борхарт? Ни черта они не понимают! А он понимает, потому что живет среди истинных героев, только сам он трус. Они ему этого не говорили. Шестнадцатилетние бывают бесцеремонными, грубыми, беспощадными. Многие зубрилы чувствовали это на себе. Но к нему, к Зиги, ребята относились очень снисходительно. А он думал: «Это потому, что я трус, они снисходительны из жалости». Он знал, что существует одно-единственное место на земле, где он становится героем: его комната. Стоило только добраться до книжной полки, вынуть книгу, прочесть две-три страницы… Книги у него были самые разнообразные, но одно их роднило — необыкновенные герои. Итак, сегодня Зиги Бернгард на крыльях своей фантазии перенесся на борт китобойного судна. Он капитан и один усмирил бунт команды, помиловав главарей, хотя все они заслуживали виселицы. А вот он мчится на горячем арабском скакуне по пустыне, выигрывает множество сражений и прощает поверженных врагов. Но в последнее время Зиги не только восстанавливает справедливость в борьбе с разбойниками и жестокими врагами, еще отчаяннее сражается он за то, чтобы спасти от смерти и позора прекрасных дам. И эти дамы почему-то всегда удивительно похожи на маленькую Ингрид из пятого класса. Однажды у Зиги Бернгарда была возможность стать героем. Это случилось накануне праздника тела господня в 1943 году. — Мам! Завтра у нас военная подготовка. Военная игра, понимаешь? — сказал Зиги накануне. Но мать не понимала, точнее — не хотела понимать. — Мы пойдем завтра с церковной процессией, мальчик! — сказала она, и ни слова больше. Зиги испугался: — Но, мама, что же тогда все скажут? — Кто это все? — Мать была непреклонна. — Ну, все ребята из класса! — В один прекрасный день тебе придется начать жить своим умом, без оглядки на одноклассников. Придет день, когда и меня не станет, Зиги! Важно, что делаешь ты сам, а не то, что делают другие! Наутро Зиги пошел с процессией, и ему было очень стыдно. Они шли по главной улице маленького города, когда все это случилось. С громкой песней навстречу им маршировали двести мальчишек в коротких штанах и рубашках военного образца. Впереди вожак — приземистый крепкий парень лет восемнадцати. Песня юнцов заглушила молитву, которую пели верующие. Встретились два мира: Вера и Смирение, с одной стороны, Гордыня и Высокомерие — с другой. Столкнутся ли они? Вожак колонны был уже в десяти шагах от процессии. Все предчувствовали — сейчас что-то произойдет. Юнцы шли прямо на процессию верующих, топая, горланя, готовые издеваться над всем и вся. Вожак колонны двигался нарочито медленно, священник с дароносицей приближался. Все произошло молниеносно. Вожак сделал еще четыре-пять шагов навстречу священнику. От процессии отделился пожилой человек в старомодном черном сюртуке, спокойно подошел к вожаку и намеренно неторопливо ударил его по щеке. Дважды, по правой и по левой. Молча вернулся к молящимся, и процессия двинулась дальше. Вожак побледнел, схватился за щеку, остановился. Остановились и двести мальчишек, хотя команды не было. Они продолжали петь: — Пусть трухлявый мир трепещет перед нами. Нас ничто не остановит. Мы пойдем дальше, хотя бы весь мир лежал в руинах, ибо сегодня нам принадлежит Германия, а завтра — весь мир. Но дальше не двигались. Теперь вожак стал красным, как пион. Он с ненавистью взглянул на процессию, круто повернулся и рявкнул срывающимся голосом: — Отставить! — И повернул обратно, туда, откуда пришел. Двести юнцов поплелись за ним, не в ногу, от воинственного настроения не осталось и следа. Некоторые из ребят хихикали. А процессия двигалась дальше, от алтаря к алтарю, без всяких препятствий и возносила хвалу господу. Зиги больше не стыдился. Он шел рядом с героем. Он и сам был герой, потому что оказался здесь, а не там. В этот день Зиги понял, что и под черным сюртуком может биться мужественное сердце. Шольтен в этот праздничный день удил рыбу. Все остались в городе, значит меньше шансов попасться. Остальные пятеро купались. На следующий день они с удрученным видом рассказывали учителю закона божьего, что были заняты военной подготовкой. — Очень жаль, но ничего не поделаешь… Преподавателю военного дела они днем позже объясняли, что не могли участвовать в военной подготовке, так как родители заставили их пойти с церковной процессией. — Жаль, конечно, но ничего, не поделаешь… Не в первый раз прибегали они к обману, чтобы погулять в такой прекрасный денек, и все сходило им с рук. Правда, на этот раз штандартенфюрер Форст, вернувшись домой, избил своего сына. По губам, по щекам, по затылку… — Это тебе от комитета национал-социалистской партии, — сказал он зло. А Зиги Бернгард мог присоединить к своим книжным героям еще одного. Он вспоминал о подвиге, о том, как слуга божий победил воина. Он не забыл этой сцены и понимал уже, что не сама по себе пощечина решила исход дела, а вся обстановка столкновения. Как бы хотелось Зиги Бернгарду, чтобы и его отец оказался таким же, как этот человек в черном сюртуке! Но отец Зиги не был героем. Он погиб в шахте, там, где работал. Тогда мать Зиги перебралась с трехлетним сыном в этот городок. Она воспитывала его, как умела. Зиги знал свою мать. Она была стойкой, выдержанной, мужественной. Потому он и был так потрясен в тот вечер, когда нужно было идти в казарму. Куда девалась вся ее выдержка? — Не ходи, мой мальчик, — рыдала она. — Останься со мной! Это безумие не может длиться вечно! Я спрячу тебя, умоляю, останься! Но он упрямо твердил одно: — Мама, ведь все идут! Да, теперь это был уже не маленький мальчик, выпрашивающий что-то у матери. Теперь у него было оружие против нее — пример остальных. И она почувствовала, что перед ней не ребенок. Зиги стал другим. И она пошла в комнату укладывать его вещи. Когда Зиги Бернгард впервые увидел гранату, он у прямо стиснул зубы, неуверенно взял ее в руку, дернул за проволочку, швырнул и стал торопливо считать и никак не мог дождаться, когда же граната, наконец, взорвется. Только бы подальше она отлетела, только бы подальше. Он весь съежился в ожидании взрыва. Но взрыване последовало. Зиги недостаточно сильно дернул проволочку, и граната не разорвалась. Она взорвалась после второго броска, и все похлопывали его по плечу и говорили: — Видишь, малыш, все идет как надо. Только спокойнее! Да, он не отставал от других. Карабкался через стенку, бегал по огромному полю, ползал по грязи, старался даже отличаться, этот малыш Зиги. Да, он не отставал от других. Плотно стиснув зубы, сносил все до той самой минуты, когда понял, что унтер Шлопке, назначенный самим генералом, больше не вернется. Тогда-то и рухнула воздвигнутая с таким трудом стена товарищеской солидарности, ее размыли потоки слез. Зиги слышал где-то вдали орудийные выстрелы, и в душе у него был только страх. Но вместо обычного сочувствия он натолкнулся на презрение. Тогда в нем закипела ярость. Он перестал плакать. О! Зиги еще покажет им, что он за парень, он еще покажет… Стоило ему успокоиться, как все опять стали ласковы с ним. Но все равно он им покажет. У него появился аппетит, и он принялся уплетать колбасу. И вдруг самолеты. Он испугался до смерти. Он видел, что все попадали на землю. И тут перед его глазами разверзлась пропасть. «Ложись скорее, идиот! — твердил ему рассудок. — Скорей ложись!» Но Зиги не внял голосу рассудка. Перед глазами стояли все та же пропасть и рыцарь Курциус. — Он был герой, — услышал он свой голос, — герой… герой…
Итак, после налета «лайтнингов» не оказалось Зиги Бернгарда. Но он не исчез, просто его не было видно, потому что он не стоял, как остальные, а лежал вниз лицом, распластавшись на камнях мостовой. Шольтен первым подошел к нему: — Ну, вставай, зайчишка! Злые-презлые самолетики уже улетели. — Он дурачился, словно говорил с трехлетним ребенком. Но Бернгард не шелохнулся. Шольтен легонько толкнул его в бок. — Что же ты, не слышишь, мой дорогой, они улетели, можешь снова приниматься за еду! Бернгард не шевелился, а Шольтен продолжал дурачиться. И только Хорбер, разбитной весельчак Хорбер, что-то заметил. Вернее, что-то почувствовал. Он кинулся к Зиги, схватил его за плечи, повернул к себе. Ни кровинки на мундире. Но глаза — неподвижные, широко раскрытые. — Бернгард, дружище, малыш! Скажи хоть что-нибудь, пошевелись, ну, сделай хоть что-нибудь, Бернгард! Хорбер кричал, орал на Зиги, затем застонал и разрыдался. Бернгард лежал тут же рядом. Казалось, он совершенно невредим. Губы полуоткрыты и слегка искривлены, словно он хотел что-то сказать. На правом виске темнели маленькое пятнышко и две капельки крови. Сразу этого нельзя было заметить. При падении каска соскользнула и прикрыла ранку.
VIII
— К чертовой матери! — выругался Шольтен и начал мерить мост, десять шагов туда, десять обратно, все в одном и том же темпе; потом остановился и с горечью повторил: — К чертовой матери! Остальные притихли, сбившись в кучу. Хагер и Форст о чем-то шушукались. Хорбер все еще стоял на коленях возле Зиги. Он скрестил руки и смотрел в уже заострившееся, почти восковое лицо, словно хотел запомнить его навеки. Но он не сознавал, что смотрит на Зиги. Мысли его были далеко. Он слышал, как безутешно плачет Альберт Мутц, лучший друг и защитник малыша Бернгарда, но и это не доходило до его сознания. Карл Хорбер, весельчак Хорбер, мысленно предстал перед самим богом. Прошло уже два года с тех пор, как он утратил всякий интерес к богу. И вот теперь он, Карл Хорбер, перед ним. Хорбер совершенно отчетливо представлял себе бога. Древний такой старик, в белом одеянии, с длинной серебряной бородой. Именно таким он был нарисован на картине в комнате бабушки. В детстве Карл подолгу смотрел на нее. И вот этот образ вновь возник перед ним, и тут, спустя два года, у Хорбер а появились к нему вопросы. «Господи, — мысленно говорил Хорбер, — господи, почему он? Объясни мне это, или я сойду с ума! Почему поплатился малыш, у которого нет ни отца, ни братьев, ни сестер, одна только бедная старая мать, которая ждет его? Ждет только его одного! — Хорбер в отчаянии доказывал, спорил, но уже минуту спустя умолял: — Прошу, прошу, о боже милостивый! Раз уж так должно было случиться и это не мог быть кто-нибудь другой, прошу тебя, возьми его к себе, сделай так, чтоб ему было хорошо, очень хорошо! У него не было никаких грехов, даже самых крохотных. Он был еще так молод и глуп! Вот посмотри на меня — у меня грехов полно. А он, он был очень хороший!» Рыдания душили озорного рыжего веснушчатого Хорбера. Он весь как-то съежился, пригнулся, закрыл лицо руками и, упершись локтями о камни, притулился рядом с Зиги. Хорбер плакал. Карл Хорбер плакал 2 мая 1945 года, в 10 часов 45 минут утра. Последний раз он плакал 16 апреля 1939 года. Тогда умер его дядя, и десятилетний мальчик решил, что не переживет этого. Шольтен не плакал. Стиснув зубы, ходил он взад и вперед по мосту и время от времени поглядывал на остальных. Те сгрудились, безучастные ко всему на свете. Хорбер между тем встал, взял плащ-палатку и накрыл ею Зиги. Потом подошел к Шольтену: — Надо сообщить матери, Эрнст! — Ты прав, Карл, но кто? Кто из нас должен сказать это матери? Я не уйду с этого моста, Карл, я останусь на этом трижды проклятом мосту и буду его защищать. Иначе нельзя, понимаешь? Вы можете его отнести, можете сказать матери, можете… вы можете, наконец, молиться. Я не могу сейчас ничего, понимаешь, сейчас ничего! Я должен защищать мост. Это все, что я еще могу для него сделать, все! Эрнст Шольтен стал другим. Это чувствовали все. В глазах его появился какой-то фанатичный, дьявольский блеск. И эти глаза на детском еще лице казались совсем взрослыми. Вся сила страсти, вся сила ненависти, на- какую способен был этот шестнадцатилетний юноша — товарищи могли лишь догадываться о ней по коротким и бурным вспышкам, — теперь прорвалась наружу. Ею дышало все его худое бледное лицо. До сих пор оборона моста была для него лишь приключением с патриотическим душком. Теперь приказ генерала приобрел для него особый смысл. Приказ узаконил решение Шольтена отомстить за погибшего товарища. За какую-то минуту война перестала быть игрой в индейцев и превратилась в сугубо личное дело для Эрнста Шольтена. Теперь ему было совершенно безразлично, как поступят остальные. Уйдут — хорошо, останутся — тоже хорошо. Он будет лежать за этим пулеметом и ждать. Он будет ждать до тех пор, пока кто-нибудь с той стороны не вступит на мост. «На мой мост», — думал Шольтен. Он будет целиться в этого человека очень точно до тех пор, пока промах станет невозможным. Он направит дуло очень точно, прямо в грудь, а не в голову. Потом он упрется в приклад, нажмет на спуск, и, как бы тот ни вилял и ни бросался из стороны в сторону, он будет стрелять до тех пор, пока не изрешетит его. Да, пока не изрешетит! А потом он скажет: — Видишь, зайчишка, это первый. Я дарю его тебе! — Точно так он и скажет. Подошел Хорбер и сообщил, не поднимая глаз, что они перенесли Зиги. Неподалеку от моста есть небольшая огороженная площадка, там стоит памятник старому военачальнику — отпрыску одной из самых аристократических фамилий города. — Мы сможем рассказать об этом его матери, если останемся целы, — прошептал Хорбер, и мальчики взглянули друг другу в глаза. Шольтен чувствовал, что после смерти Зиги перед ними снова встает вопрос, оставаться ли здесь, или потихоньку разойтись по домам. Он знал, что для всех пятерых родной дом очень, очень дорог, для всех, но не для него. — Отправляйтесь восвояси, — сказал он снова, — не мучайте своих. — Он должен был это сказать, он был просто обязан это сказать. Но Хорбер не ответил, он продолжал сосредоточенно возиться со своей винтовкой. Ответил Юрген Борхарт: — Или мы уходим все — тогда все в порядке, либо остаемся здесь — и тогда тоже все в порядке. Если ты скажешь: «Я ухожу!» — это еще не значит, что уйдут все. Но если уж ты говоришь: «Я остаюсь!» — значит, остаются все. Это же ясно, дружище! Подошел Альберт Мутц. На щеках у него были грязные полоски, соленые отметины слез. — Я все равно остаюсь здесь, — сказал он с ожесточением. — Мои старики забьют меня до смерти, если я вернусь, — загудел Хагер. Впервые после смерти маленького Зиги в «команде» раздался смех. Сдержанный, правда, и мимолетный, но все-таки смех. Со времени налета штурмовиков прошло около часа с четвертью. Стрелка на башенных часах показывала половину двенадцатого. Им нечего было делать, но о еде никто и думать не мог. Хорбер перешел было на другую сторону моста и набрел на ту самую банку, из которой он еще недавно с таким аппетитом уплетал колбасу. Как бы ненароком он толкнул ее ногой, она отлетела на край моста и, описав дугу, плюхнулась в реку. Злой как черт, Хорбер круто повернул обратно. Пятеро удивленно смотрели на него. И вдруг все оцепенели. Артиллерийский залп, совсем рядом. Стреляли, должно быть, с расстояния километров в пять по цели, расположенной не дальше чем в километре от них. Не дальше. Вне всякого сомнения, не дальше. — Если так, — заключил Хорбер, — спектакль состоится самое позднее через полчаса! — Хорошо, если так, — Мутц усомнился даже в этом. Но Шольтен снова напомнил им, что впереди еще есть немецкие войска. Не для собственного же удовольствия стреляют американцы. — А не пора ли нам тоже заняться делом? — буркнул Шольтен. — Кто возьмет второй пулемет? — Я! — выпалил Хорбер, опередив Мутца. Тот надулся. Ведь, ей-богу, он, Мутц, стреляет лучше. Но Шольтен, который, будто это само собой разумелось, принял на себя командование группой, стал на сторону Хорбера. — Итак, все ясно, — заявил он примирительно. — Мутц! Пойдешь со мной. Захвати побольше коробок. Будешь подавать ленту, а когда надо, поддерживай сошки, чтобы не тряслись. Ты, Клаус, — он повернулся к Хагеру, — будешь вторым номером у Хорбера. Форст захватит три фаустпатрона и ляжет за парапет. Ты, Юрген, возьми у Хорбера самозарядную винтовку и забирайся на каштан. Последнее предложение привело всех в восторг. Здорово придумал Шольтен! Блестящая идея! Каштан стоял на западном берегу реки, метрах в двадцати от въезда на мост. — Прихвати еще и карабин, — предложил Шольтен, — кто его знает, может, эта штучка быстро выйдет из строя. И еще возьми обоймы, естественно, с патронами, возьми столько, сколько сможешь унести и припрятать. Целую кучу, понимаешь, Юрген? Когда начнется заваруха, ты не сможешь слезть, чтобы сбегать за патронами, не до этого будет. Смекаешь? Юрген подтвердил, что понял абсолютно все. И благодарит за исчерпывающие указания; сам он, конечно, до этого бы не додумался. Затем он скорчил Шольтену страшную рожу, взял плащ-палатку из запаса, вытащил из груды боеприпасов ящик с патронами и стал набивать обоймы. К нему подсел Хагер, потом Форст. Они набивали и набивали, пока совсем не осталось пустых обойм. Каждый из них заглянул в свой подсумок и проверил, в порядке ли боезапас. У Хагера недоставало пяти патронов. Он взял обойму из плащ-палатки. Шольтен осмотрел еще два диска для своего автомата. Они были полны. — Ну, пора приступать, — сказал Шольтен и взял три фаустпатрона. Он отнес их к парапету у западного конца моста, положил за небольшим выступом и поманил Форста. — Вальтер! Собака! У тебя железные нервы. Я это знаю. Это все знают. У меня есть идея. Я придумал, как задать этим парням жару. Взгляни-ка туда, вниз! От слов сурового Шольтена Форст зарделся так, словно его похвалил сам генерал, и перегнулся через перила. Между рекой и одетым в гранит берегом, под первым пролетом моста, видна была песчаная отмель. За долгие годы течение нанесло сюда песок и гальку. — Если ты, — рассуждал Шольтен, — станешь под этим пролетом, в каких-нибудь восьми метрах от тебя будет поле обстрела шириной в сорок метров. Тут уж не может быть промаха. Они скорее разродятся, чем поймут, кто подбивает их танки. А другого пути на мост нет. Только через эту улицу. Форст пришел в восторг. Именно о таком задании он и мечтал. Взяв два фаустпатрона, он отнес их под пролет, потом вернулся, взял еще два, и так много раз подряд. Когда он собрался унести в укрытие два последних фаустпатрона, все возмутились, а Хорбер сказал кротко: — Твой папаша, конечно, важная шишка, но оставь хоть что-нибудь и нам. — Форст не обиделся. Он слышал это не в первый раз, к тому же сейчас ребята были правы. Он ушел под мост и занялся своими фаустпатронами, стал снимать их с предохранителей один за другим. Шольтен понес ему карабин, который тот оставил на мосту, и в ужасе отпрянул назад. — Сумасшедший! Разве можно снимать с предохранителей все эти штуковины и складывать в кучу? Одно неосторожное движение — и ты взлетишь в воздух! — Тогда беги скорей, Эрнст, не то взлетишь вместе со мной! — Форст ослепительно улыбнулся. — Он продолжал возиться с фаустпатронами. — Все знаю, — криво усмехнулся он. — Но ведь тебе известно, что инструкций для меня не существует. Шольтен ответил сдержанно и сухо: — Желаю счастья, Вальтер, — и протянул ему руку. Но Форст не унимался. — Шольтен, — сказал он, в точности повторяя интонации учителя Штерна, — прочти-ка это, из Гельдерлина… «Ты грянь, о битва, уже спускаются юноши с холмов… спускаются в долину…» Ну, как там дальше, Шольтен, как, старый барбос? И Шольтен, этот шестнадцатилетний насмешник и циник, бросился из-под моста наверх, к остальным. Смех преследовал его. «Странно, — думал он потом. — Сейчас снова все нормально, а там, у Форста, меня охватило странное чувство, очень странное чувство. Наверное, это был страх. И я забыл про маленького Зиги, а я не должен забывать о нем — тогда мне не будет страшно, конечно, тогда не будет страшно». И он стал думать о Зиги. Ему удалось разжечь в себе прежнюю ярость, холодную, беспощадную ярость. Но тут же мелькнула мысль: «Хоть бы они пришли поскорее, а то может случиться, что мой гнев иссякнет». А Борхарт между тем уложил свои пожитки в плащ-палатку. Перекинул через плечо самозарядную винтовку и карабин, попросил Хагера поднести плащ-палатку и направился к каштану. — Нужна веревка, — решительно заявил он, — а то придется все эти штуковины втаскивать по отдельности. Где только ее взять? — И тут он заметил маленький спасательный плот. Плот был пришвартован длинной толстой веревкой. Хорбер сбежал вниз и попробовал перерубить веревку штыком. Но от нее отщеплялись тонкие волокна. Тогда он положил ее на бревно и стал бить штыком, как секирой. Он вернулся с веревкой, и все, кроме Вальтера Форста, торчавшего у своих фаустпатронов и напевавшего что-то о ярком солнце Мексики, стали помогать Борхарту устраиваться на каштане. — Забирайся на толстый сук так, чтоб укрыться за стволом, — решил Шольтен. — Карабин повесь рядом, и плащ-палатку с патронами пристрой поближе, а самозарядную винтовку укрепи на каком-нибудь суку поудобнее для упора, чтобы бить наверняка. — Премного благодарен, — поклонился Борхарт, скорчил рожу и, словно обезьяна, мигом вскарабкался на дерево, захватив веревку. — Будь у тебя красный зад, ты вполне сошел бы за павиана, — сострил Хорбер. Потом вспомнил о Зиги, и ему стало стыдно. Наконец Борхарт сообщил, что он устроился совсем как в кресле, и спустил вниз веревку. Постепенно он перетащил к себе все свое имущество и стал ломать голову над тем, как разместить его поудобнее. Четверо стояли внизу и смотрели наверх. И в это время снова появился тот самый человек, что и утром. Теперь он привел маленькую женщину, она едва поспевала за ним. — Скажите, — спросил он, — неужели вы действительно собираетесь заварить здесь кашу? На этот раз он держался довольно уверенно. — Мы уходим к знакомым в восточную часть города. Их убежище надежнее. По эту сторону никого уже не осталось. Сегодня я за целый день не встретил ни души. — Никакой каши мы не завариваем, — сказал Шольтен, — у нас есть приказ удержать мост. Вот и все. Ясно? Человек ушел, маленькая женщина засеменила рядом. — Приказали удержать мост, — бормотал он, — горсточке детей! — Этот тип приносит нам несчастье, — прошептал Хорбер. — Я еще утром это подумал. — Просто старый болтун, — проворчал Шольтен. — Обыкновенный старый болтун! Шольтен стал каким-то озлобленным. Все это чувствовали. Вот он вскинул на плечо автомат, схватил пулемет, подозвал Мутца и сунул ему в руки две коробки с пулеметными лентами. Они перешли на левую сторону и стали укрепляться там за выступом выложенного из бутовых камней парапета, который почти на полметра заходил на тротуар. Шольтен установил пулемет и залег, а Мутц тем временем спустился на берег, где лежали оставшиеся от строительства моста обломки бута, и, с трудом ворочая большие глыбы, вкатил четыре штуки на тротуар. Он уложил их прямо возле выступа, так, что ствол пулемета высовывался оттуда, словно из бойницы. Шольтен проверил, свободно ли вращается ствол, отодвинул сначала один камень, потом другой, попробовал еще раз, пока не убедился окончательно в том, что все в порядке. Он подошел к Хорберу и Хагеру, показал на пулеметное гнездо и сказал: — Посмотрите хорошенько и сделайте так, как у нас. Те оглядели укрепление, решили, что все это выглядит весьма внушительно, и тоже отправились к берегу за камнями. Но они не ограничились четырьмя, а втащили двенадцать бутовых глыб, причем некоторые из них были так велики, что их можно было волочить только вдвоем, и возвели у правого парапета настоящее укрепление. Шольтен осмотрел его, а Хорбер сказал: — Теперь нас не продует, понимаешь, Эрнст? — и ухмыльнулся. Артиллерийский обстрел, который так напугал их, прекратился. Но никто не обратил на это внимания, каждый был занят своим делом. И вдруг все почувствовали гнетущую тишину. Ни звука, только река шумит, а под мостом поет Вальтер Форст:— Кто отстал, тот не догонит…
Душистое сено лежит на лугу,
В долине трава растет,
Как только увижу девчонку мою,
Радость в груди поет.
Так будь же беспечна и весела
И знай, что из дальних стран
К тебе я вернусь, лишь дай нам добить
Янки и англичан.
Мы бросили якорь у мрачных скал
Острова Мадагаскар.
Чума на борту, и каждый день
Смерть косила людей,
А он все думал о крошке своей,
Он думал только о ней.
И, глядя на море, он вспоминал,
Как нежно ее целовал,
И, глядя на волны, он думал о том,
Как далеко родимый дом…[2]
Учитель Штерн и наставница любовь

Он был из тех редких людей, у кого нет врагов. Еще в детстве он стал калекой. Когда после тяжкой болезни он вернулся в школу, на него обрушилось, как удар, сострадание окружающих. И ему пришлось нести этот крест. Товарищи его щадили, учителя ему помогали. — Ну, как дела, Штерн? — спрашивали его зачастую, когда весь класс в поте лица трудился над очередной задачей по математике. И учитель наклонялся над его тетрадью, чтобы помочь, а остальные принимали это как должное: всем было понятно, что этот человек нуждается в помощи. Но людское сочувствие терзало сердце ученика Штерна, и чем больше горбилась его спина, чем тяжелее был недуг, тем чище и светлее становилась его душа, и пришел день, когда он понял, что в убогом теле может жить здоровый могучий дух. И он учился, учился без устали. — Спокойной ночи, — говорила ему мать. И он осторожно гасил свет, чтобы через десять минут снова зажечь его и до полуночи сидеть над книгами. Когда первая мировая война окутала тенью страну, Штерн сдавал на аттестат зрелости. Он сдал экзамены лучше всех в классе. И когда все решили проситься на фронт, он пошел вместе со всеми. Но когда они с горящими глазами, полные воодушевления, под ликующие возгласы провожающих и бравурную музыку шли на вокзал, он смотрел на улицу из-за занавески.

И клеймо «негоден», так же как раньше людское сострадание, жгло его сердце. Он сидел в полупустой аудитории университета и слушал лекции, когда стали приходить первые письма с фронта. Он давал частные уроки сынкам состоятельных родителей, когда в газетах появились первые сообщения о гибели друзей и одноклассников. И когда по вечерам, убогий и согбенный, брел он по улицам города, ему казалось, что все указывают на него пальцем: «Смотрите, он сидит дома, а наши сыновья проливают кровь!» И он снова попросился на фронт, но его снова не взяли. И сказали при этом: «Вам следовало бы радоваться тому, что вы непригодны. Тысячи других были бы счастливы, а вы жалуетесь!» В первый год после войны он окончил университет, и тогда появилась Гизела. Как-то вдруг вошла в его жизнь. Он познакомился с ней в ночном ресторане, во время пирушки с молодыми коллегами; а когда он проводил Гизелу домой и простился с ней у ее двери, он уже знал, что это та самая девушка, о которой он мечтал всю жизнь. Они провели вместе чудесные месяцы, потом пришло лето, и Гизела стала все чаще и чаще уклоняться от встреч с ним: как раз именно сегодня она собралась плавать или кататься на лодке… Однажды он отправился с ней, надел купальные трусы и стал ждать ее на берегу. Она прибежала в голубом купальнике, молодая, здоровая, безукоризненно сложенная. Он не мог отвести от нее глаз. Ему казалось в тот день, что каждое ее слово полно сострадания. Все в нем восставало против этого, но он не мог отказаться от девушки. Спустя два дня он принял приглашение друзей и привел с собой Гизелу. Сначала все шло хорошо. Они пили кофе на террасе. Потом один из его товарищей предложил Гизеле сыграть партию в теннис. Горбун одиноко сидел на террасе и смотрел, как там, на корте, они ловко отбивают мячи, как Гизела, стройная и гибкая, радостная и полная жизни Гизела, царит на площадке! Тогда он поднялся и ушел. Никогда больше он не видел Гизелу. На следующий день он покинул большой город и уехал в провинцию, где получил место школьного учителя. Он был хороший педагог, специалист в своей области, но плохой воспитатель. Ученики боялись его. Он был справедлив, но суров. Однако все изменилось в тот день, когда малыш Штепке, только что поступивший в его класс, подошел к нему после урока и, глядя большими доверчивыми, глазами, спросил, не согласится ли он руководить их кружком. Они хотят строить модели настоящих кораблей, но у них нет руководителя. И тут учитель внезапно почувствовал, что этот малыш не испытывает к нему никакого сострадания и не только воспринимает его физический недостаток как нечто само собой разумеющееся, но и ждет от своего учителя помощи и участия. И Штерну захотелось сблизиться со своими учениками, полюбить их, излить на каждого нерастраченную душевную теплоту. Он добился того, что школьное начальство отвело ему обширное помещение на чердаке, и на свои собственные средства устроил там мастерскую, которая стала потом гордостью школы. Они простаивали там за верстаками все свободное время. Пилили, шлифовали, приколачивали, до блеска зачищали борта своих моделей. И вот долгожданный день настал. С четырьмя изящными моделями кораблей они направились в бассейн и устроили гонки судов. И когда он взглянул на этих ребят — они стояли у края бассейна на коленях и не сводили глаз со своих кораблей, — он понял, что в этих детях смысл его жизни. Долг, который он должен выполнить, несмотря на тяжкий недуг. И когда на большом чердаке он устроил настольный теннис и очень быстро стал обыгрывать любого противника, он подумал о Гизеле. «Какой же я был идиот!» Следующей зимой он отправился вместе с учениками на две недели в лыжный поход, и, когда болезнь давала себя знать, любовь и доверие детей придавали ему новые силы. …Это был самый маленький из его классов — всего семь мальчиков и восемь девочек. Еще никогда ему не удавалось так сблизиться с учениками. Каждое утро он радовался, глядя в их милые юные лица. Он не жалел сил, чтобы пробудить в каждом из них лучшие задатки и искоренить дурные. Он хорошо знал их всех, но узнал еще лучше, когда побывал дома у каждого. В тот вечер, когда к городу подошли американцы и начался бой за мост, учитель Штерн стоял в церкви и молился: — Боже милостивый! Пощади моих мальчиков.
IX
Ребята сидели молча. Каждый думал о своем. Шел дождь. Не сильный, но после бессонной ночи их бил озноб. Форст опять пустил пачку сигарет по кругу. Оставалось всего четыре штуки. Табак военного времени. Три сигареты поделили между собой, четвертая — про запас. Форст сунул ее обратно в карман. Все задымили. Крупная капля дождя погасила сигарету Шольтена. Он оторвал намокший кончик и еще раз зажег окурок. Но бумага так пропиталась влагой, что шов расклеился. — Дерьмо, — выругался Шольтен и бросил окурок в мутную лужу у самого тротуара. Они сидели на своих касках с таким видом, словно совсем позабыли, для чего их, собственно, прислали на этот мост и что на этом мосту ждет каждого из них. Но уже через секунду им напомнили об этом. Издалека донесся приглушенный грохот и рев, которые неудержимо нарастали, близились. Все шестеро вскочили, словно их подбросило, прислушались, обернувшись лицом на запад, потом посмотрели друг на друга: смертельно бледные, с огромными, неестественно расширенными, горящими глазами. Потом надели каски, никто не проронил ни слова. Борхарт ринулся к каштану, ухватился за ствол, подтянулся два-три раза и оказался на первом суку, потом быстро, по-обезьяньи вскарабкался наверх и исчез в ветвях где-то у самой кроны. Вальтер Форст, все еще покуривая сигарету, подчеркнуто небрежно спустился с моста к своим фаустпатронам. Шольтен присел у левого пулемета, потом залег и стал смотреть поверх прицела в пространство между выступом парапета и завалом из бутовых глыб. Его напарник Альберт Мутц открыл одну коробку с пулеметными лентами, потом вторую, подвинул их к себе поближе и принялся перебирать ленты. Хорбер залег у пулемета на правой стороне моста и сделал знак Хагеру открыть коробку и вставить ленту. Все застыли в ожидании, нервы были напряжены до предела. Хорбер чувствовал, как овладевает им волнение. Если бы можно было нажать спусковой крючок, дать короткую очередь, хоть одну, только для того, чтобы разрядить бесконечное зловещее напряжение! Но он не сделал этого. Он лежал и ждал, как и все. Тем временем шум моторов стал отчетливее. Вот-вот они окажутся здесь. «Что же тогда? — спрашивал себя Альберт Мутц. — Чем все это кончится? Смерть… А долго ли умирают? Успеваешь ли что-нибудь почувствовать? Или это замечают только оставшиеся в живых: а вот, мол, и Мутцу конец пришел!» «Тогда уж пусть скорее приходят, — думал Шольтен, — пусть скорее. Минуты две я еще выдержу, но не больше, никак не больше. Начну считать до ста двадцати, и, когда досчитаю до конца, пусть они будут здесь!» И Шольтен принялся считать: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь… тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять…» Потом бросил. Борхарт сидел на дереве и не мог ни о чем думать. Он укрылся за стволом, направил самозарядную винтовку на улицу, по которой должны были двигаться американцы. Весь как заряд взрывчатки: стоило только слегка потянуть указательным пальцем за спуск (все дело в каком-то сантиметре!) — и этот заряд взорвется. Борхарт машинально подергивал за спуск, используя свободный ход, — то доводил крючок до упора, то опять отпускал. Хагер толкнул локтем Хорбера: — Кажется, сейчас начнется! — И вдруг все они застыли: четверо на мосту и пятый на дереве. Отчетливо послышался свист. Свистел Вальтер Форст. Слабый звук как-то очень резко выделялся среди надвигавшегося грохота моторов. Вальтер Форст насвистывал мелодию знакомой песни:Сегодня нам принадлежит Германия,
А завтра — весь мир!
Эрнст Шольтен и Иоганн Себастьян Бах

Мать Альберта Мутца была удивительная женщина. Муж ее, с которым она прожила двадцать лет и которому родила двоих сыновей, оказался неудачником. В жизни, на службе, даже в семье. Другая на ее месте потерпела бы года два-три, а потом взяла бы обоих мальчиков на руки и убежала от такого мужа домой, к родителям, куда глаза глядят. А с такой внешностью, как у матери Альберта Мутца, скорее всего куда глаза глядят, чем к родителям. Но фрау Мутц этого не сделала и осталась верна семейному долгу. Она принадлежала к той категории женщин, чья наружность внушает мужчинам желание заботиться о них, баловать, угождать им, только бы всегда иметь их рядом.

Когда по воскресным дням штурмовики собирали на улице пожертвования в фонд «Зимней помощи», они говорили ей: — У вас и вашего брата, конечно, найдется что-нибудь… Братом они считали ее младшего сына Альберта. Он обожал свою мать. Любовался ею, когда они по воскресеньям шли вместе в церковь. Мог без конца смотреть на нее и чувствовал себя возле нее бесконечно счастливым. Особенно по вечерам, когда она сидела за роялем и под ее пальцами оживали бессмертные творения Баха, Шопена, Бетховена: В такие минуты Альберт Мутц закрывал глаза, прикорнув у ног матери, и уносился в мечтах далеко-далеко. Однажды вечером он привел домой худощавого неуклюжего мальчика. Невидный такой паренек с желтоватым, болезненным лицом и иссиня-черными, непослушными и нечесаными вихрами. — Эрнст Шольтен, мой товарищ по школе, — представил его Мутц. — Он очень любит музыку. Фрау Мутц особой симпатии к новому приятелю сына не почувствовала. «Черный какой-то, совсем чертенок», — подумала она. Но Эрнст Шольтен пришел еще раз. Он принес с собой флейту; этот четырнадцатилетний мальчик играл с таким чувством и мастерством, что аккомпанировавшая ему фрау Мутц часто хотела остановиться и взглянуть на него. — Твоя мать необыкновенная женщина, — нередко говорил Шольтен Альберту Мутцу после таких вечеров. При этом его голос, обычно такой суховатый, теплел. Альберт Мутц слегка ревновал его к матери. Что за человек этот Шольтен? Как разобраться, что у него на душе? С учителями он держался вызывающе, подчеркнуто вызывающе. И вдруг один пошел против всего класса, когда ученики задумали подложить на стул учителю закона божьего канцелярские кнопки. На уроках Шольтен частенько задавал ему вопросы, а когда перестали преподавать закон божий в школе, он вместе с некоторыми другими стал дважды в неделю посещать беседы священника в церкви. Шольтен жил в небольшой крестьянской усадьбе. Туда отослали его родители, когда большому городу на западе, откуда он был родом, стали угрожать воздушные налеты. А ему только того и надо было. Родителей своих он и дома видел нечасто. Отец был постоянно в разъездах, на разных совещаниях, конференциях и собраниях… Мать пропадала у приятельниц, посещала благотворительные вечера, а иногда принимала гостей у себя. Тогда от мальчика старались поскорее отделаться: — Эрнст, марш в постель! А утром в гостиной стояли неубранные с вечера рюмки с недопитым крепким ликером. И все в комнате было пропитано пряным ароматом французских духов матери. Как он ненавидел эти духи! Он не мог никому рассказать об этом — ему некому было рассказать. На книжной полке в его комнате можно было найти Спинозу, Шопенгауэра, Рильке, причем томик Ницше стоял между второй и третьей книгой «Виннетоу» Карла Мая. Он читал, но был не в силах переварить все прочитанное, и у него стало складываться причудливое, расплывчатое и искаженное представление о мире. В усадьбе на окраине небольшого городка все было по-другому. С утра Эрнст вместе с коровницами отправлялся в хлев и вскоре без трудов постиг премудрости сельского бытия. Ездил на велосипеде в школу, а после уроков часами бродил один по окрестным лесам. В шкафу у него висело два малокалиберных ружья. Иногда он прихватывал ружье с собой на прогулку и изредка приносил домой то зайца, то дикую утку, а однажды подстрелил даже косулю. Ему было известно, что это запрещено. Но, сидя в засаде, никаких угрызений совести он не чувствовал. Он знал:«Попадаться нельзя, иначе я вылечу из школы и начнется грандиозный скандал!» Именно поэтому он был осторожен. Рыбная ловля была его страстью. Часами он. мог сидеть на берегу реки или брести босиком вверх по какому-нибудь ручейку, выискивая, где лучше клюет. Но часто он не брал с собой ни лески, ни ружья и бесцельно слонялся по лесам. Целые вечера мог он проводить где-нибудь в укромном уголке; сидя на поваленном дереве, тихо наигрывая на флейте и мечтая. Какими бесконечно долгими казались ему ночи в его комнатушке! Особенно летом, когда духота струилась из открытых окон и темные грозовые тучи скапливались на горизонте. Часами не мог он уснуть, а когда слышал, как ворочалась за стеной девушка-батрачка, сон окончательно бежал от него, он лежал весь в поту на грубых льняных простынях, и в мозгу стучало: пойти к ней! Посмотреть, как это происходит! Но он изменил бы себе, если бы пошел. Однажды в разгар лета он спустился к реке, стояла невыносимая жара. Он стащил с себя потертые суконные брюки, стянул через голову клетчатую рубашку и бросился в воду. Потом улегся на каменных плитах набережной, глядя в безоблачное голубое небо; вдруг его вспугнул какой-то шум. Не прошел он и тридцати метров вниз по течению, как, пробравшись через заросли ивняка, увидел перед собой на песке двоих. Казалось, они борются друг с другом. Он хотел подбежать к ним, но тут же замер на месте. Они вовсе не боролись. Зардевшись от стыда, он ушел прочь и торопливо оделся: «Так вот как это бывает, — думал он, — так вот, значит, как!» Спокойнее спать он не стал, но с тех пор его больше не тянуло в соседнюю комнату. Иногда он встречался с товарищами по школе. И всегда что-нибудь придумывал. Дважды они опустошали курятники на одной из птицеферм, после чего блаженствовали, уплетая горы яиц и почти не чувствуя укоров совести, а яичный ликер заглушал последние сомнения даже у Альберта Мутца и маленького Зиги Бернгарда. Да, иногда им все же, удавалось попировать. Каждый захватывал с собой что-нибудь из дому. Несколько сигарет из письменного стола отца, банку варенья из погреба матери или бутылку вина. Однажды они отправились в заброшенный рудник. С карманными фонариками в руках забрались они в штольню, и, когда Борхарт, Хагер и Хорбер запротестовали и вместе с маленьким Зиги повернули назад, Мутц, Форст и Шольтен двинулись дальше. Добравшись без особых приключений до конца штольни, трое мальчиков повернули назад. Стоило с потолка штольни сорваться комку земли, как у отважной троицы душа уходила в пятки. Однако никто из них ни за что не признался бы в этом. Вдруг послышался глухой шум. Все трое бросились бежать, но вскоре остановились перед грудой земли, камня и щебня. Каждый мгновенно сообразил, что это означало. — За дело! — сказал Шольтен, бледный как полотно. — Дорога каждая секунда! Он погасил фонарик, все трое взобрались на груду щебня и принялись лихорадочно рыть землю руками. — Если это дерьмо так и будет сыпаться, нам крышка, — прошептал Шольтен, — но все-таки попробуем! Никто не знал, долго ли они трудились, но в конце концов Форсту удалось отрыть небольшую щель, и он, как уж, пролез в нее. А те двое ждали, пока не послышался его голос, звучавший глухо, как бы очень издалека: — Я выкарабкался! Мутц и Шольтен один за другим протиснулись в щель и на животах головой вперед сползли на дно штольни по ту сторону завала, увлекая за собой кучу мелких камешков. Потом все трое молча двинулись к выходу. Впереди мелькнул слабый отблеск солнечного света, и они бросились бежать; только выбравшись наверх, они по-настоящему поняли, какой опасности избежали. — Тьфу, черт! — выругался Эрнст Шольтен и сплюнул. Они рассмеялись, но смех звучал как-то. неестественно. Товарищи их были неподалеку, играли в индейцев. Шольтен, Мутц и Форст не торопились присоединиться к ним. На полдороге Шольтен обернулся: — Пусть все останется между нами! В третьем райхе вся молодежь должна была состоять в каких-нибудь организациях. Каждую среду после уроков школьники встречались на спортплощадке либо в молодежном клубе на «военной подготовке». Шольтен тут считался «пассивным». Он не являлся ни на какие занятия, у него даже формы не было; должно быть, он вообще не числился в списках организации «Гитлерюгенд». Тем не менее в четверг он мог подойти перед началом уроков к классному наставнику Штерну: «Прошу извинить, господин учитель, но я не выучил стихотворения. Ведь вчера была военная подготовка!» Шольтен говорил: «Была военная подготовка». Он не говорил: «Я был на военной подготовке». Для него это было неравнозначно. Первое — удачная уловка, второе — ложь, а Шольтен никогда не лгал. Вот если бы учитель спросил: «Сколько времени ты потратил на военную подготовку?» — Шольтен непременно сознался бы: «Я вообще там не был!» — и спокойно принял бы заслуженный выговор. Ему это было не впервой. Когда пришла повестка с предписанием в тот же вечер явиться в казарму, Шольтен упаковал вещи, взял рюкзак в одну руку, флейту — в другую и отправился к Альберту Мутцу. Он терпеливо ждал, пока Альберт возился со своими вещами, а потом попросил его мать: — Пожалуйста, сыграйте нам на прощание. Та молча села за рояль и заиграла. А Эрнст Шольтен тем временем подошел на цыпочках к стенному шкафу, осторожно открыл его и положил туда свою флейту: — Ну, вот и все, до свидания, мама! — сказал Альберт Мутц и взял рюкзак. Мать подошла к стоящей возле двери чаше со святой водой, окунула кончики пальцев и начертала на лбу сына крест. Положила руки ему на плечи и поцеловала. Шольтен стоял рядом с Альбертом, и во взгляде его черных глаз, лихорадочно блестевших на бледном лице, чувствовались решимость и едва сдерживаемая, боль. — Храни тебя господь, мой мальчик, — сказала мать Альберту и вдруг встретилась взглядом с Шольтеном. Тогда она привлекла к себе черноволосого худощавого юношу. — Позаботьтесь о моем сыне и о себе! — сказала она ему. Альберт Мутц повторил: — Ну, вот и все, до свидания… А Эрнст Шольтен произнес деревянным голосом: — Прощайте, сударыня! Только когда они ушли, она спохватилась: он сказал «прощайте». А когда укладывала ноты в шкаф, увидела флейту. Эрнст Шольтен любил жизнь. И вот теперь, стиснув зубы, лежал он за пулеметом, выполняя приказ генерала. Но разве он здесь только для того, чтобы выполнить приказ? Разве совсем иное чувство не руководило им уже давно? Какое-то необъяснимое упорство, заставившее его остаться… Руки Шольтена крепко сжимали ложу пулемета. Палец застыл на спусковом крючке. Танк был уже в десяти метрах от моста, солдаты — метрах в пятнадцати-двадцати. — Пора! — сказал Шольтен и рванул спуск. В ту же секунду дрожь пулемета отдалась в плече.
Х
Все шестеро прошли военную подготовку в течение каких-нибудь двух недель. Их обучили только действиям одиночного бойца на местности и кое-как научили владеть оружием. И если шестнадцатилетним юнцам у моста все же удалось ошеломить противника, то лишь потому, что выбранная ими позиция находилась в вопиющем противоречии с элементарными правилами военной науки, да и вообще вся оборона моста была бессмысленна с точки зрения мало-мальски разумной тактики. Она больше походила на «индейскую засаду», которую куда скорее разгадали бы их заокеанские сверстники — бойскауты, чем кадровые военные. Приклад пулемета больно ударял Шольтена по плечу. Он не старался бить по разным целям, а взял на мушку одну-единственную фигуру в светло-зеленом и метил только в нее. Он видел, как слева и справа от мишени отскакивали фонтанчики штукатурки, и продолжал стрелять. Пулемет трясся и рвался с двуноги. — Ну, крепче, Мутц! Держи, тебе говорят! — вопил Шольтен, и Мутц, лежа на спине, левой рукой прижимал сошки к земле, а правой подправлял ленту, А Шольтен все нажимал и нажимал на спуск. Он увидел, как солдат стал падать вперед, медленно, очень медленно, но продолжал стрелять, пока тот не распластался во весь рост на земле. Карл Хорбер строчил из пулемета как одержимый. С искаженным лицом, крича во все горло, строчил и строчил по солдатам, прижавшимся к стенам домов. И тут начался кромешный ад. Точно неуклюжий, сытый дракон, танк изрыгнул огонь, он залязгал гусеницами по левой, потом по правой стороне улицы. Вспышка пламени, треск и грохот разрыва, барабанная дробь осколков, и через секунду все повторилось снова. Светло-зеленых как ветром сдуло с улицы, лишь трое или четверо остались лежать на земле. Но теперь уже и ребята на мосту попали под обстрел. Пули со звоном отскакивали от выступа парапета, щелкали по бутовым глыбам и разлетались во все стороны. Тогда и Шольтен, подобно Хорберу, стал бить наудачу, бешено вращая ствол пулемета. Лента кончилась. Мутц подсунул новую, руки и ноги тряслись. Шольтен вставил ленту, она заклинилась, он еще раз отдернул крышку ствольной коробки и поправил ленту. И с перекошенным лицом снова нажал на спуск. «Пока только одного», — подумал он, и перед его глазами возник малыш Зиги. И тут же вновь он обнаружил светло-зеленых. Они успели укрыться в домах и теперь нещадно палили из окон верхних этажей. А у въезда на мост по-прежнему торчал танк, изрыгая огонь и тяжело переваливаясь, точно допотопное животное. Юрген Борхарт по-прежнему сидел на своем дереве. Он уже давно сменил самозарядную винтовку на обычный карабин. — Куда годится эта дрянь? — выругался он и взялся за «К-98». Чувствуя себя в безопасности, он спокойно и методично брал на прицел одно окно за другим. Засевшие там, видимо, никак не могли догадаться, откуда такая напасть. То один, то другой из светло-зеленых высовывался из окна и выпускал очередь по пулеметным гнездам на мосту, подставляя себя под пули Борхарта. Тот видел, как после его выстрелов от окна испуганно отпрянул сначала один, потом второй, а третий повалился на подоконник, безжизненно свесив руки. Вальтер Форст просидел у себя под мостом, пока не завязалась перестрелка. А теперь он лежал на откосе, у самых перил моста, далеко от своего надежного укрытия, и следил за танком. Тот двигался то вправо, то влево, стреляя из всех стволов, а один раз пополз было прямо на него, на Вальтера Форста, и тот уже был уверен, что его заметили, но вскоре танк повернул и направил башенное орудие в противоположную сторону. После того как это повторилось несколько раз кряду, к Форсту вернулось самообладание. «Ни черта они из своего танка не видят, — решил он, — иначе не стали бы так бессмысленно палить в белый свет, как в копеечку». Он медленно подсунул свой фаустпатрон под перила и замер. «Надо бить в самую середину, — сверлило в мозгу, — надо влепить точно между башней и корпусом. Это заткнет им глотку». Танк опять пополз по той стороне моста, где залег Форст. «Почему они топчутся на месте? Почему не пытаются уничтожить нас с тыла?» — спросил себя Вальтер Форст и тут же нашел ответ: они думают, что здесь засела команда подрывников, которая выжидает подходящий момент, чтобы взорвать мост. — Если он еще раз подойдет поближе, я выстрелю, — прошипел Форст. — Можешь поставить на себе крест, — погрозил он танку. — Я не шучу!.. Тут танк опять пополз прямо на него. — Вот только поверни — тут тебе и каюк! — прошептал Вальтер Форст, и глаза его заблестели. Он лежал, притаившись, все в нем дрожало от напряжения. Танк снова повернул в сторону. Форст прицелился поточнее, нажал на спуск. Из трубки, зажатой под мышкой, вырвалась огненная струя. Ему показалось, что прошли секунды, минуты, часы, а на самом деле не прошло и десятой доли секунды, как крышка люка взлетела в воздух и из отверстия повалил черный дым. Танк завертелся на месте со скрежетом, лязгом и грохотом, будто захмелевший великан. А потом остановился. — Это я его! — завопил Форст. — Это я! Ребята, я подбил танк, ура! Вальтер Форст словно рехнулся. Изо всех глядящих на мост окон трещали выстрелы, а он поднялся во весь рост и закружился в индейском танце. Остальные наблюдали за взрывом со злобной радостью. «До чего же хладнокровен, сукин сын! — мелькнуло у Шольтена. — Ну и спокоен, собака!» — И он продолжал вести огонь по окнам. — Влеплю ему заряд прямо в задницу, если он сию же секунду не уберется, — заскрежетал зубами Борхарт. — Вот провалиться мне на этом месте! Но Вальтер Форст уже исчез; пригнувшись, он одним прыжком укрылся под мостом. Вверх по улице ползли еще два танка. Без пехоты. Солдаты давно уже попрятались где-то, черт их знает где. Вероятно, в домах. «Шерманы» остановились в двадцати метрах от въезда на мост и открыли огонь. Из вращающихся башен вырывался огонь то по правому, то по левому пулеметному гнезду. Шольтен лежал за пулеметом и расстреливал уже третью ленту. Теперь он бил и по танкам. «Какая дичь, — думал он, — с пулеметами против танков, бред какой-то!» Но продолжал стрелять. И Хорбер тоже продолжал стрелять. Первым заметил их Борхарт: за дымовыми трубами на крышах оказались солдаты. Они начали стрелять по пулеметам, лежавшим перед ними как на ладони. А Форст сидел на корточках возле кучи фаустпатронов и ругался на чем свет стоит, потому что танки еще держались на почтительном расстоянии: — Ну, давайте сюда, черт вас побери совсем, и я покажу вам, где раки зимуют! Ну, давайте же, ползите поближе! И тут Форст, этот одержимый, с фаустпатроном в руках ринулся от моста к углу ближайшего дома и выстрелил по танку. Не попал и по-заячьи поскакал обратно. — Вы только полюбуйтесь на этого психа! — вспылил Шольтен. Борхарт внимательно следил за солдатом, стрелявшим из окна напротив. Только и ждал, чтобы тот высунулся. А чтобы выстрелить в бегущего Форста, ему — хочешь не хочешь — пришлось бы высунуться. Но выстрелить американец так и не успел: уронил винтовку и рухнул. — Ну, это свинство, — злился Форст. — Надо ж так напортачить! Чуть-чуть промазал, самую малость! — Он лежал под пролетом моста и рыдал от досады и отчаяния. Американцы, очевидно, выискали более удобные позиции или получили подкрепление. Во всяком случае, их огонь усилился, хотя по-прежнему никого не было видно. Особенно досаждали ребятам танки. — Только бы подобраться к ним поближе!.. — бесился Форст. И тут его вдруг осенило. Он возьмет два-три фаустпатрона, вползет по откосу, проберется с черного хода в один из домов, подыщет подходящее окошечко с видом на улицу и расколет проклятые коробки под самым носом у американцев. Ну, почему это не пришло ему в голову раньше, просто зло берет! Вальтер Форст взял два фаустпатрона из груды и отправился в путь: пополз вперед, прижимаясь всем телом к каменистой почве откоса. Сантиметр за сантиметром, в сторону от моста, вниз по течению. «Если меня заметят, — думал он, — пришьют как миленького. Но тут уж ничего не попишешь». А сам все полз и полз, пока не оказался перед угловым домом. Тут он поднялся с земли и, пригнувшись, помчался к зданию. Одна из дверей вела к реке, все дома здесь имели выход к реке. Там приятно было посидеть вечерком после тяжелого трудового дня. Форст дернул дверную ручку, затем нажал на нее и очутился в темном коридоре. Там стоял человек. — Убирайся, слышишь, сейчас же убирайся! Я не хочу неприятностей! — Заткнись! — грубо отрезал Форст и оттолкнул его в сторону. «Если он сейчас даст мне по морде, все полетит к чертям, — думал Форст, — а ведь правильно сделает, если даст!» Но человек не ударил его, а засеменил сзади. — Пожалуйста, — испуганно умолял он, — пожалуйста, уходите! Ведь американцы уже здесь, в этом доме. Деритесь себе на здоровье где угодно, только оставьте в покое мой дом! Тут до Форста дошло. — Где американцы? — Наверху, на крыше. Они же перебьют вас всех до единого. Уходите, пока не поздно! Но Форст уже услышал все, что ему было нужно. Держа оба фаустпатрона наготове, он пробрался по коридору в глубь дома и толкнул последнюю дверь. За ней оказалась уборная. «Это даже забавно», — подумал Форст, он взобрался на унитаз и выглянул на улицу сквозь маленькое окошечко. Сердце испуганно екнуло: прямо перед ним, в каких-нибудь шести метрах, высилась громада танка. Казалось, вот он, только руку протяни. Форст зажал фаустпатрон под мышкой и выстрелил. Уборная наполнилась дымом и чадом. «Здорово, — подумал Форст, — а теперь надо смываться, с улицы заметят дым». Он распахнул дверь, выскочил в коридор и с размаху налетел на долговязого американца. На какую-то долю секунды оба замерли, уставившись друг на друга. Форст сжимал фаустпатрон, американец — винтовку. Потом Форст спокойно прислонил фаустпатрон к стене. Американец зорко следил за каждым его движением. Форст хладнокровно поднял руки вверх и начал медленно пятиться к двери. Американец так же медленно двинулся за ним, все время держа его под дулом. И тут Форст наткнулся спиной на ручку двери. «Сейчас или никогда, — подумал он, — может, на мое счастье, тот тип не запер дверь, хоть бы не запер, хоть бы не запер…» Резко отпрянув в сторону, он рванул дверь и одним прыжком оказался на улице. От двери полетели щепки. Это стрелял американец. Но Форст уже бежал изо всех сил и оказался в своем укрытии раньше, чем тот открыл дверь. Только теперь Форст вспомнил о танках и выглянул из-под моста. То, что он увидел, преисполнило его гордостью. Второй танк стоял как вкопанный, из него валил густой дым. Третий вообще исчез. «Видно, пошел за подкреплением», — решил Форст. И лишь теперь он осознал весь ужас происшедшего в коридоре. Он съежился в своем укрытии. «Хватит с меня геройских подвигов», — вяло подумал он. Вокруг трещали выстрелы. А Вальтером овладела странная апатия. «Скорей бы уж кончилась вся эта возня!» — всплыла мысль. И немного погодя другая «Странно, странно, я вовсе не испытываю страха? Может, я герой, раз мне не страшно? А может, я просто отпетый болван?» Потом ему опять вспомнились подбитые им танки и он снова обрадовался. Но радость эта как-то сразу померкла. До сих пор он видел перед собой только серо-зеленые стальные коробки, окутанные дымом, а тут он неожиданно осознал: ведь в этих танках сидели люди! Такие же, как и он! Он содрогнулся: вспомнил о клубах дыма, вырывавшихся из-под крышки люка. — Хоть бы они больше не лезли, — подумал он вслух. — Теперь у меня уже, пожалуй, не хватит духу. Ко всем чертям! — Он вздрогнул. — Сколько их может быть в таком вот танке? — И вдруг его словно подбросило: там, на мосту, один пулемет умолк. Шольтен и остальные вообще не заметили вылазки Форста. У них и своих забот хватало. Теперь пули все чаще прижимали их к земле. Ударялись о выступы парапета и о глыбы бута, так что осколки камней сыпались дождем или с воем проносились прямо у них над головой. Вдруг и второй танк задымил. Шольтен и Мутц переглянулись: Хорбер и Хагер оторопело уставились друг на друга. Никто не понимал, как это произошло. Не могли же они подбить танк из пулемета. Как бы там ни было, танк был подбит. Третий «шерман» повернул обратно. Он угрожающе повел стволом, выплюнул огонь и исчез в том же направлении, откуда появился. Но пехота прочно засела в домах, и четверо на мосту чувствовали это на своей шкуре. Им даже показалось, что американцы заняли более выгодные позиции. Тут Шольтен опять заметил фигуру в светло-зеленой форме в воротах одного из домов и нажал на спуск. Но пулемет только тявкнул и замолк. Шольтен отдернул крышку ствольной коробки. Гильза застряла, заклинилась, никак не поддавалась. Шольтен рывком вытащил пулемет из проема между парапетом набережной и завалом, схватил лежащий под рукой. автомат и прижал приклад к плечу. Потом дернул за спуск. Одиночный огонь! «Нужно беречь патроны, — подумал он, — неизвестно, как еще все повернется». Юрген Борхарт чувствовал себя на своем дереве в полнейшей безопасности. По нему еще никто не стрелял. Зато он сам бил методично, как на стрельбище. Спокойно, не торопясь и выбирая цель. Он тоже заметил американца, появившегося в воротах дома. «Интересно, чего ему надо? — подумал Борхарт и взял его на мушку. Американец вскинул винтовку и прицелился в серое пятно на фоне каштана. — А ведь это он в меня, — удивился Борхарт, — я должен его опередить!»Юрген Борхарт и укрощение плоти

Рост — метр семьдесят семь, вес — шестьдесят два килограмма, глаза голубые, волосы светлые. Хорошая выправка, дисциплинирован, таким парнем родители могут гордиться. — Значит, ты хочешь стать офицером, Юрген? — Да, папа! — А ты хорошо обдумал свое решение? — Конечно, папа! — Но ведь это трудная профессия, Юрген. Надо уметь подчиняться. А это не всегда легко. Придется делать и то, в разумности чего ты не убежден! Тебя возьмут в ежовые рукавицы, мальчик! — Все это я знаю, папа. Потому-то я и хочу пробиться повыше! — Что ты имеешь в виду? — Надо добиться права приказывать другим, тогда можно будет все делать разумно! — Но ведь это мало кому удается. Большинству приходится подчиняться до конца своих дней. Словом, утро вечера мудренее, завтра тоже будет еще не поздно. Не обязательно все решать сегодня!

Этот разговор между полковником Клаусом Борхартом и его единственным сыном Юргеном происходил в декабре 1944 года в кабинете отца. В тот же день Юрген отослал заявление и все необходимые документы. А вечером он вместе с матерью проводил отца на вокзал. Тот возвращался на фронт. Его отпуск кончился. Полковник Клаус Борхарт поцеловал на прощание жену. Потом крепко пожал руку Юргену. — Не осрами меня, сынок. Поезд тронулся. Полковник Борхарт глядел из окна вагона. И они махали ему рукой, пока поезд не скрылся из виду. Через неделю Юрген получил повестку. Он поехал, сдал экзамен по спортподготовке, его взвесили, измерили, подвергли медицинскому осмотру. Он быстро и четко отвечал на все вопросы и произвел блестящее впечатление. Две недели спустя он получил из части уведомление о зачислении его курсантом офицерского пехотного училища. Этот маленький белый клочок бумаги обрадовал его так, словно то был приказ о производстве в лейтенанты. С той же почтой пришел конверт с траурной каймой. Полковник Клаус погиб в тот самый день, когда сын его выдержал экзамен в офицерское училище. — Возьми обратно свое заявление, — потребовала мать. — Нет! — ответил Юрген. — Возьми обратно, если у тебя есть сердце! — Но это же нелогично, мама, я не могу взять заявления обратно. Именно потому, что у меня есть сердце. Как ты думаешь, что сказал бы отец, если бы я теперь забрал заявление? Мать замолчала. Она молчала весь день, молчала и следующий. Она надолго замолчала и скупо роняла лишь самые необходимые слова. Как-то Юрген пытался пробить эту стену молчания: — Мама, постарайся же понять меня, я просто не мог этого сделать, я бы со стыда сгорел! Но мать вспыхнула: — Никто никогда не хотел понять меня! Твой отец не хотел, ну, а ты тем более! И он прекратил свои попытки. Но Юрген никак не мог понять свою мать, при всем желании не мог. Еще ни разу в жизни он не ударил лицом в грязь. Ни в школе, ни в спорте. Он всегда был в числе лучших. Почему же теперь она хотела склонить его к поступку, которого пришлось бы стыдиться? Он не понимал, что мать боялась потерять и сына. Ведь в один прекрасный день она могла получить еще один конверт с траурной каймой, а через несколько дней — простреленный бумажник на память о единственном сыне. Юрген Борхарт был лучшим спортсменом класса. На стометровке он не выходил за пределы двенадцати секунд, прыгал намного дальше шестиметровой отметки и сбивал планку только на высоте 1,55 метра. Гранату бросал почти на всю ширину спортивного поля, плавал быстрее всех и только в боксе однажды потерпел поражение, причем, как назло, от Форста. Побежден он был не потому, что Форст был сильнее или подвижнее, а лишь потому, что тот уже первым прямым ударом без всякого стеснения хватил его по носу, в то время как Юргену понадобилось два раунда, прежде чем он, наконец, решился ударить в это прыгающее, мелькающее перед глазами лицо. Два-три раза ему удалось нанести удар, но это привело только к тому, что Форст стал бить еще резче, еще настойчивее обрабатывал кулаками его лицо, пританцовывая и увертываясь с ловкостью дьяволенка. И Борхарт обрадовался, когда тренер прервал бой. Победителем объявили Форста. Вот с этим он никогда не мог примириться, хотя решение было совершенно справедливым. Юрген Борхарт не привык, чтобы кто-нибудь из их класса побеждал его в каком-либо виде спорта. В его распорядок дня неизменно входили весьма напряженные тренировки. Начинались они с утра принятием холодного душа и зарядкой, жимом лежа и приседаниями, продолжались на ежедневных уроках гимнастики и достигали кульминации, когда Юрген Борхарт в полном одиночестве бегал по гаревой дорожке стадиона. День заканчивался еще одним холодным душем, за которым следовало не меньше десяти упражнений с гирями при открытых окнах. Юрген не давал себе пощады и тренировался до одурения, если только замечал малейшие признаки слабоволия. Это было верным средством держать себя в узде. В этом он был убежден. По крайней мере до того дня, когда после уроков ему пришлось вернуться в душевую, чтобы захватить забытые там утром тапочки. Он распахнул дверь, вбежал в раздевалку и остановился как вкопанный. Потом пролепетал: «Прошу прощения», — и красный как рак выскочил вон. А двадцатисемилетняя Зигрун Бауэр, преподавательница гимнастики у девочек, продолжала как ни в чем не бывало извиваться и крутиться под душем, хохоча ему вслед, и по-прежнему оставляла дверь в душевую открытой. Она терпеть не могла запертых дверей. Уже издали заметив преподавательницу гимнастики, Юрген старался избежать встречи. Но вечером, когда он оставался один в своей комнате, все шло отнюдь не так гладко. Ее нагое тело так и маячило у него перед глазами, едва только он гасил свет. Пробовал бороться с этим, двадцать, тридцать раз выжимал гири. А однажды даже шестьдесят, после чего совершенно выбился из сил. И все же ему не удалось обуздать свою плоть. В классе к нему относились неплохо. Но как-то не принимали всерьез. Слишком часто он пытался идти всем наперекор, а потом все же уступал. И это всякий раз наносило урон его авторитету. Когда пришел вызов в казарму, он испытал горькое разочарование. Ведь Юрген собирался стать офицером, и ему совсем не хотелось затеряться в серой солдатской массе. Но он не решался использовать связи отца — стыдился товарищей. И вот теперь он сидел на ветвях каштана у самого моста и целился в американского солдата, который, в свою очередь, направил на него свой автомат. «Я должен его опередить», — подумал Юрген. И еще: «Надо попасть в него во что бы то ни стало, иначе мне крышка. Ведь этот тип меня заметил». Юргену не удалось выстрелить первым. Эрнст Шольтен услышал какой-то шум и треск в ветвях каштана. Затем послышался глухой удар. Как крупные градины, посыпались из плащ-палатки обоймы на распростертое под деревом тело. «Прощай, Юрген», — подумал Шольтен. Если смерть маленького Зиги Бернгарда привела его в ярость, то сейчас он ощутил нестерпимую боль. Его так и подмывало бросить винтовку и бежать, но в эту минуту он взглянул на Хорбера. Тот лежал, за пулеметом, ни о чем не подозревая, и палил вовсю. «Интересно знать, — подумал Шольтен, — в кого это он?» Альберт Мутц схватил карабин и стрелял без передышки. Но человек, укрывшийся за домом, тот, кто, вероятно, и убил Борхарта, все еще стоял там. И Шольтен почувствовал, как ярость подступила к горлу. Он даже почти обрадовался — злость притупляла боль. Прижал к плечу приклад автомата, установил его на непрерывный огонь, поймал в прицел человека, укрывшегося за углом дома, и дал длинную очередь. Ствол автомата так и рвался вверх, и Шольтен изо всех сил удерживал его в горизонтальном положении. Но человек за углом исчез, как только первые пули забарабанили по стене. «Надо сказать остальным, что Борхарт погиб», — подумал Шольтен.
XI
Сколько времени длилась перестрелка? Мальчишки на мосту не поверили бы, скажи им, что с момента появления первого танка не прошло и получаса. Ребята лишь чувствовали, что силы их иссякают. Они устали, выдохлись, были готовы махнуть на все рукой. Теперь один лишь инстинкт самосохранения мешал им вскочить и удрать, без оглядки. Даже Шольтен больше не вспоминал о генерале и его приказе. Ему, как и всем остальным, хотелось выбраться отсюда, хотелось домой, в постель. Хотелось проснуться на следующее утро, натянуть свои видавшие виды штатские брюки и клетчатую шерстяную фуфайку и отправиться бродить по лесам и полям. Уйти далеко-далеко, чтобы ничего не слышать: ни треска выстрелов, ни грохота разрывов. Хотелось покоя, только покоя. Но прежде всего — уйти с этого моста. Ему вовсе не улыбалось валяться здесь, покорно дожидаясь конца. «Двоих, — думал он, — уже не стало!» И впервые вспыхнуло в нем что-то похожее на ненависть, ненависть к тем, другим, которые бросили их здесь на произвол судьбы. Но то, что произошло потом, сразу же завладело его мыслями. Один из американских солдат, маленький, коренастый, стремительно вылетел из ворот дома, словно взяв старт на гаревой дорожке. Вот он помчался, часто перебирая ногами, к каштану возле моста и скрылся за могучим стволом прежде, чем Шольтен успел поймать его на мушку и выстрелить. «Чего ему надо? — насторожился Шольтен. — Ведь он может прикончить нас одной гранатой!» И все-таки, несмотря на страх, Шольтен невольно почувствовал симпатию к смельчаку. «Великолепный спринтер, — подумал он, — наверняка классный спортсмен!» Тут из-за каштана высунулся ствол винтовки, — за ним показалось светло-зеленое плечо и рука, а потом и голова: стальная каска и под ней белое пятно — лицо. «Ведь ничего не стоит влепить ему пулю в лоб, — пронеслось в голове у Шольтена, — отчаянный все-таки парень!» Но палец замер на спуске, американец же все стоял, прижавшись к стволу, и не стрелял. «Он что-то задумал», — почувствовал Шольтен. И тут солдат из-за дерева крикнул: — Stick’em up, boys, stick’em up, we don’t fight kids[3]. И потом на ломаном немецком языке: — Война кончилась, закрывайте лавочку, ребята, иначе вам всем капут! «Не трону его, — решил Шольтен, — рука не поднимается. Этот парень мне прямо-таки нравится!» И он нарочито медленно навел на американца дуло автомата. Тот мгновенно спрятался за дерево. Только тогда Шольтен нажал на спуск и выпустил целую очередь. Но стоило ему прекратить стрельбу, как американец снова высунулся. — Give up, you son of a bitch, or I’ll blow your brains out![4] — заорал он, и опять Шольтен выпустил длинную очередь по стволу дерева, от которого во все стороны полетели куски коры. Тут американец бросился назад. Шольтен и Мутц переглянулись. — Очумелый какой-то, — проговорил Шольтен. И еще: — Просто не могу, духу не хватает! Светло-зеленый пробежал, вероятно, уже половину пути, Шольтен и Мутц молча провожали его взглядом. Внезапно с правой стороны моста застучал пулемет. Он выплюнул короткую очередь — одну, вторую. Не добежав метров семи до ворот, американец, вдруг резко повернулся, поднял, словно для присяги, левую руку вверх и выронил из правой винтовку. Он рухнул всей тяжестью и с отчаянным криком покатился по земле, корчась и дергая ногами. Шольтен лишь один раз в жизни слышал, чтобы человек так кричал. Это случилось во время футбольного матча, когда маленькому Зиги Бернгарду, теперь безмолвно лежащему у памятника, ударили бутсой пониже живота. Раненый извивался по земле и вопил так, что все вокруг, казалось, умолкло. Страшный вопль заглушил все другие звуки. Альберт Мутц прижался лицом к земле, отбросил карабин и обеими руками заткнул уши. Он просто не мог этого слышать. «Видит бог, я не стрелял, не стрелял, — билось в мозгу у Шольтена, — а этой безмозглой скотине приспичило!» Холодное бешенство овладело им. И он крикнул Хорберу: — Полюбуйся, гад, полюбуйся! Кончай, слышишь, прекрати сейчас же, гадина, ведь это твоих рук дело! Но американец вдруг умолк. Совсем. И Карл Хорбер ничего не ответил. Он молча лежал за пулеметом. Когда же Клаус Хагер начал трясти его, он завалился набок.Карл Хорбер и нечистая совесть

Он и сам не понимал, почему все так получилось. Но сколько он себя помнил, совесть у него всегда была нечиста. Вечно он совершал какие-то ошибки, делал все не так, как надо, говорил что-нибудь обидное или забывал что-нибудь важное. Причем отнюдь не нарочно. Наоборот, ему хотелось все делать как можно лучше. Хотелось быть хорошим мальчиком, примерным учеником и полезным членом общества, как выражался его отец, всеми уважаемый владелец парикмахерской Фриц Хорбер. Свою первую ошибку Карл Хорбер совершил при рождении: он стоил жизни своей матери. Конечно, он не был за это в ответе, но вместе с тем так походил на мать, что, глядя на него, отец постоянно вспоминал покойницу; и Карла всю жизнь преследовало какое-то чувство вины перед отцом. Взглянув на сына, тот обычно тяжело вздыхал и спешил в парикмахерскую, чтобы, работая и болтая с клиентами, забыть свое горе. С тех пор как умерла мать, счастье ушло из дома, и в конце концов Фриц Хорбер стал воспринимать все, что случалось в их семье, как удары судьбы.

А уж сынок старался, чтобы всегда что-нибудь да стряслось. Как правило, ничего серьезного, но иной раз события принимали дурной оборот. Началось с того, что однажды в парикмахерскую явился полицейский, отдал честь и сказал Хорберу-старшему: — Весьма сожалею, но должен сообщить вам печальную весть. Ваш сын Карл попал под машину. Он лежит в больнице. Увы, почти безнадежен! Полицейский помялся, смущенно откашлялся и, наконец, ушел, а Фриц Хорбер словно окаменел, в полной растерянности уставившись на зажатую в правой руке бритву. Но как ни безнадежно было состояние маленького Карла, через три месяца он вернулся домой, а еще через две недели стал таким же дерзким, неотесанным и наглым, как прежде. «Дерьмо не тонет», — обычно заявлял Хорбер-старший чуть ли не с гордостью, когда клиенты заговаривали с ним об этом. Может быть, именно из-за своих веснушек, огненно-рыжих волос и торчащих ушей Карл Хорбер еще в самом раннем детстве стал находчивым и бойким на язык. Он очень быстро сообразил, что самые изящные поклоны и самое беспрекословное послушание не помогут снискать ему симпатию окружающих. Он не был привлекательным ребенком, а потому и не пытался им казаться. Над его внешностью потешались уже с первого класса, да так усердно, что он скоро привык к этому. И злословить стали реже. Все же он довольно часто служил мишенью для острот. В подобных случаях он делал то, что свойственно было его веселому нраву: сам громче всех смеялся, когда слышал насмешки, направленные в его адрес. И тем самым обезоруживал остальных. Он любил прихвастнуть, но и с этим все примирились. Относились к нему в общем неплохо. И все-таки не проходило дня без затрещины или выговора. Он был типичным законченным неудачником. Высадят, скажем, оконное стекло втроем, но полицейский наверняка пойдет не к Мутцу и не к Форсту. Нет, он явится в парикмахерскую и, уведомляя Хорбера-старшего о последнем проступке его отпрыска, непременно придаст своему лицу выражение искреннего сочувствия к человеку, на долю которого, надо признать, выпали тяжкие испытания. Полицейский сообщал все это таким тоном, как если бы хотел сказать: «И ты, и я избавились бы от лишних хлопот, если бы положение твоего сына, когда он лежал в больнице, действительно оказалось безнадежным». Для полицейского выбитые стекла были одним из «недозволенных деяний», о которых он обязан был еженедельно докладывать начальству. Но выбитыми стеклами дело не ограничилось. И когда однажды ночью сгорел стог сена и свидетели показали, что его подожгли подростки, полицейский пошел прямо к своему старому приятелю Фрицу Хорберу, и Карл авансом получил положенные ему оплеухи, хотя начисто отрицал свою вину. Прошло немало времени, прежде чем он сознался, что в тот вечер был в кино на фильме для взрослых. Хорбер-старший был удовлетворен вдвойне: и стога сена сын не поджигал, и оплеухи получил не зря. Учился Хорбер сравнительно не плохо. Впрочем, мог бы и намного лучше, если бы отличался большим прилежанием. Но он брал в руки учебник лишь тогда, когда ему неминуемо грозила плохая оценка. — Чрезвычайно одарен, — сказал о нем классный наставник Штерн, — но безнадежно ленив. Однажды они писали контрольную работу по химии. Хорбер справился с заданием довольно быстро и передал листок с ответами Вальтеру Форсту, который подавал отчаянные сигналы бедствия. Списав, Форст вернул листок. Через восемь дней работу роздали. Хорбер получил самый низкий балл. «Все списано у Форста», — резюмировал учитель. Форст пошел к классному наставнику и объяснил, как все случилось, да что толку?.. «Это хорошо, что ты такой честный, — сказал тот. — Но, к сожалению, я вынужден и тебе поставить тот же балл». Именно тогда Вальтер Форст и задумался впервые, есть ли смысл помогать другу, если тем самым только вредишь себе. Карл Хорбер никогда над этим не задумывался. В сущности, он был трусоват, но, может быть, именно поэтому и оказывался непременным участником самых невероятных проделок. Славой отчаянного парня и сорвиголовы он был обязан в первую очередь своему длинному языку. И тщательно избегал всего, что могло нанести ущерб этой славе. Одной из самых любимых игр в классе была игра в «слабо». Правила ее отличались чрезвычайной простотой. Едва только кто-либо из ребят похвалится, что выкинет какой-нибудь из ряда вон выходящий номер, как остальные тут же хором кричат: «Слабо!» И если пообещавший не был трусом, ему приходилось держать слово. Странно, но Шольтен, Мутц, Форст, Хагер, да и все остальные попадали в столь щекотливое положение, может быть, раз в месяц. Хорбер же почему-то почти ежедневно. Однажды учитель Штерн задал им на понедельник довольно много. Хорбер кичливо заявил: — Знаете, что я сделаю? Ни черта не сделаю, и все тут. Приду в понедельник в школу и скажу: «Простите, господин учитель, но мне показалось, что вы задали чересчур много!» Говоря это, он не придавал своим словам никакого значения. Ему просто захотелось еще раз показать, что ему все нипочем. Класс это тоже понимал, и едва Хорбер закрыл рот, со всех сторон посыпалось: — Слабо тебе, Хорбер, спорим, что слабо! В ту же секунду Хорбер почувствовал, что опять зарвался. Но признаться в этом он не мог. Только бы не стать посмешищем для ребят! Он сделает то, что обещал. В понедельник, когда учитель Штерн велел открыть домашние тетради, тощий рыжий Хорбер поднялся и деланно небрежным тоном протянул: — Простите, господин учитель, но я не выполнил домашнего задания, вы задали… — Хорошо, — перебил его Штерн, не дав ему договорить, — побеседуем об этом после урока. Но Хорбер не успокоился и начал еще раз: — Господин учитель, вы задали… — Я же тебе сказал, побеседуем об этом после урока! Тут уж Хорбера понесло, ведь речь шла о его чести. — Господин учитель, вы задали чересчур много, и поэтому я ничего не сделал. Уф, наконец-то! Пусть теперь кто-нибудь попробует сказать, что ему слабо сдержать свое слово! Для него вообще не существует этого «слабо»! Но его самоотверженное выступление не дало ожидаемого эффекта. — Послушай, Хорбер, — сказал учитель Штерн-,— я вижу, ты немного взволнован. Прогуляйся-ка на свежем воздухе. Вернешься, когда придешь в себя! — В классе сдержанно захихикали, и Хорбер почувствовал, что опять остался в дураках. После урока он подошел к Штерну, чтобы извиниться. — Простите, господин учитель, я не хотел сделать ничего дурного. Просто не желал показаться трусом! — Хорбер, — спросил его Штерн, — а если я сейчас пойду в класс и расскажу всем о нашей с тобой беседе, что тогда? Хорбер покраснел. — Лучше не надо, господин учитель, — смущенно пробормотал он. — Понимаешь, Хорбер, по-моему, собственное достоинство теряешь именно тогда, когда дразнишь учителя только для того, чтобы отличиться перед классом! Хорбер ещё раз извинился, сказал, что он отважился на все это, не подумав, просто так, без всякого умысла, а потом уже не мог пойти на попятный. Учитель долго молча смотрел на него, а потом сказал: — Хорбер, я вообще никогда не обижаюсь на своих учеников. Ведь я и сам когда-то был сорванцом! Но не, забывай об этом случае и на будущее возьми себе за правило: сначала подумай, потом говори! Вне себя от радости, что так дешево отделался, Хорбер тут же наобещал с три короба и в тот момент был твердо убежден, что, выполнит свое обещание. Но ровно через два часа, во время последней перемены, Хорбер заявил: — В такую погоду просто срам протирать штаны за партой! Хорошо бы смыться с последнего урока и махнуть на речку! Оглушительный хохот всей компании, а потом реплики: — Слабо, Хорбер, наверняка сдрейфишь, спорим, что сдрейфишь! Карл сложил свои книжки и ушел, не успев даже сообразить, что делает. Он преспокойно вышел из ворот школы и направился к пляжу. И только на берегу ему пришло в голову, что у него ведь нет с собой ни плавок, ни полотенца, и он, раздосадованный, поплелся домой. А после уроков его особой занялся педагогический совет, и, как ни защищал его классный наставник Штерн, ему все-таки влепили выговор, уже третий по счету. Хорберу-старшему опять пришлось пойти на поклон к директору и просить его сменить гнев на милость. Всего один-единственный раз Шольтен пригласил на рыбалку своего дружка Хорбера, и, конечно, не замедлило произойти то, чего никогда не случалось с самим Шольтеном. Их накрыли. Собственно говоря, накрыли-то одного Хорбера. Шольтен сориентировался быстрее и спрятался в кустах прежде, чем арендатор водоема успел схватить его. И снова в салоне Хорбера-старшего появился полицейский, и опять посыпались звонкие оплеухи. Но Хорбер уперся на том, что рыбачил совсем один и что арендатор, несомненно, ошибается, утверждая, что видел двоих. Благодаря уважению, с которым в городе относились к его отцу, дело еще раз замяли, и все обошлось без серьезных последствий. В этой истории было только одно «но». Отныне Фриц Хорбер стал требовать от сына точного отчета о каждой минуте, проведенной вне дома, и на визиты к школьным приятелямбыл наложен строжайший запрет. Ведь друзья могли приходить к нему домой. У него наверху они могли беситься сколько душе угодно. Особенно часто в мансарде у Карла засиживались Форст и Мутц, и отец не имел ничего против, если они занимались иной раз до поздней ночи. А чем только мальчишки не занимались! Играли они, к примеру, в пленника. До чего же увлекательная игра! Одного связывали, а двое других следили по часам, сколько времени уйдет у него на то, чтобы выпутаться. Ставили они и химические опыты, с одной лишь целью — получить порох. Однажды Мутц поднес какую-то адскую смесь слишком близко к пламени спиртовки, раздался оглушительный взрыв, и все разлетелось вдребезги. Отец Хорбера, задыхаясь, примчался к ним наверх: — Что тут у вас случилось, господи, что случилось?! Увидев ребят целыми и невредимыми, но с опаленными бровями и ресницами и покрытыми копотью лицами, он набросился на них: — Черт побери, кто это вас научил этим мерзостям? — Наш учитель химии, — с невинным видом ответил Карл Хорбер, стоически принимая здоровенную затрещину, которую отвесил ему отец. После истории с порохом они долго не собирались в мансарде у Хорбера. И вообще Хорбер стал удивительно замкнутым. — Уж не завелась ли у малютки Хорбера какая-нибудь зазноба? — поддел его Форст, и Хорбер мгновенно залился краской. Но Форст тут же забыл о своей догадке и больше к этому не возвращался. В жизнь Карла и на самом деле вошло нечто пробудившее в нем жгучее любопытство. В парикмахерской его отца появилась новая помощница, девушка лет двадцати двух. У нее были длинные иссиня-черные волосы, смуглая кожа, придававшая ее облику что-то цыганское, и зеленые глаза. Поверх белого халата она носила узкий черный поясок из лакированной кожи, настолько туго стягивавший талию, что Карл не раз задавался вопросом, как только бедняжка не задохнется. В их доме все изменилось с тех пор, как она стала жить и работать там. Отец отвел ей каморку под крышей, рядом с комнатой сына. Он полагал, что знает его по крайней мере в этом отношении, и имел на то известные основания. И действительно, в жизни Карла Хорбера внешне не наступило перемен, разве только он стал появляться в салоне чаще, чем обычно, чтобы сказать несколько незначащих фраз и уйти. Теперь он почти все вечера проводил дома и непривычно рано поднимался к себе в комнату. Он сам не понимал, как относится к Барбаре — так звали девушку, — но, не отдавая себе в том отчета, он упорно старался держаться поближе к ней и всегда оказывался дома, если знал, что она никуда не собирается. Однако стоило ей заговорить с ним, как он краснел, отвечал бестолково, невпопад и тут же уходил. Иногда ему казалось, что он влюблен в Барбару, но потом его отталкивала ее манера говорить, двигаться, изгибаясь и слегка покачивая бедрами, и мерить клиентов расчетливо оценивающим и в то же время кокетливым взглядом. Как только он оказывался в ее обществе, его начинали раздирать несовместимые желания: хотелось и быть с ней и в то же время удрать от нее подальше. Ко всему этому примешивалось любопытство. В один прекрасный день Карл Хорбер вырезал из дерева небольшую втулку и принес из подвала молоток. Он приставил втулку к одному из больших сучков в дощатой перегородке, отделявшей его комнату от каморки Барбары. Двух-трех ударов оказалось достаточно, чтобы сучок вылетел. Он вбил в него маленький гвоздик, так что в любое время мог воткнуть сучок в гнездо или вынуть его оттуда. Потом отшлифовал сучок наждачной бумагой и смазал маслом. В тот день он отправился спать особенно рано. Заслышав на лестнице ее шаги, он выключил свет в своей комнате, выскользнул из постели и прокрался к противоположной стене. Ловко вытащив сучок из гнезда, он прижался глазом к отверстию, а сердце его колотилось так громко, что он боялся, как бы Барбара не услышала. Она вошла к себе. «То, что я сейчас делаю, не очень красиво, — думал Карл. — Ах, черт побери, как некрасиво! Но ведь она не знает об этом, да и никто не знает!» В груди у него бушевали самые противоречивые чувства. Он уже хотел было тихонько нырнуть обратно в постель, но любопытство взяло верх. Ждать ему пришлось довольно долго. Девушка прилегла на кровать, взяла, не глядя, с ночного столика сигарету и спички и долго лежала так, глядя в потолок и медленно, глубоко затягиваясь. Казалось, этому конца не будет. Карл почувствовал, что его босые ноги совсем окоченели, и уже вторично собрался было вернуться в постель. Но тут Барбара встала, сбросила белый халат на спинку стоявшего возле кровати стула и разделась. Он потерял ее на время из виду, но слышал, как она наливала воду в тазик, растиралась полотенцем и чистила зубы. «Какие, в сущности, обычные звуки, — размышлял Хорбер, — ничего волнующего!» Потом он увидел, как она подошла к кровати, надела ночную рубашку, откинула одеяло и погасила свет. Но и в этом тоже не было ничего волнующего. Абсолютно ничего. И все же на следующий вечер Хорбер опять стоял у перегородки, подсматривал через отверстие и слышал, как колотится его сердце. Повторилось это и на третий и на четвертый день. Через неделю ежевечернее дежурство у перегородки уже прочно вошло в его распорядок дня. «Это моя тайна», — думал Хорбер. Тайна, которой он не поделился бы ни с кем. Даже на исповеди. Однажды они целой компанией отправились на пляж и разлеглись на солнышке. Всеми овладела блаженная истома. Вдруг Форста осенило: — Давайте полезем в воду, нырнем под перегородку и познакомимся с женским пляжем поближе. Все в восторге. И Мутц, и Форст, и Хагер. Только Хорбер отмахивается. — Бросьте, детки, то, что вы там увидите, только охоту отобьет, — произносит он тоном знатока и лениво переваливается на спину, жмурясь на солнце. — Ну ладно, брось загибать, — возмущается Форст. — Ты просто скулишь, потому что тебе слабо переплыть на ту сторону. Это верно. Хорбер плохо плавает и боится глубины. Все хохочут. И тогда у Хорбера, хвастунишки Хорбера, обещавшего учителю больше никогда не бахвалиться, опять получается «короткое замыкание». — То, что вы там увидите, дети мои, я вижу каждый день, — произносит он небрежно. — Только крупным планом, как в кино! О чем это он? Трое навострили уши. О пикантных книжках? Или картинках? Время от времени среди мальчиков ходят по рукам такие вещи. Правда, не часто, но все же… Кто-кто, а Форст-то знал, с какой стороны приняться за Хорбера, чтоб развязать ему язык. — Ну, это ты загнул, Карл! — Загнул? — вспыхивает Хорбер. — Возьми свои слова обратно, слышишь? А то получишь по физиономии! Но Форст не унимается. — Докажи, Хорбер, — язвительно тянет он, — мы ведь тоже не прочь взглянуть, что у тебя там такое. А загибать каждый умеет! И Хорбер, вновь распалившись и не соображая, что делает, брякнул: — Да пожалуйста! Если угодно, приходите сегодня в восемь вечера ко мне. Собрались, мол, сыграть в скат. Ясно? Вечером они встречаются в комнатке Хорбера, Хагер принес колоду карт. На маленьком круглом столике посреди комнаты тускло светится ночничок. Между стеной и столом — ширма. — Послушай, включи-ка нормальное освещение! — требует Мутц, как только они входят. — Светлее нельзя, — шепчет Хорбер с таинственным видом. — Иначе зрелища не получится. Должно быть совсем темно, особенно там, у стены. Совесть у него нечиста, и в глубине души он побаивается. Побаивается, что свет все-таки проникнет сквозь отверстие в соседнюю комнату. Но старается держаться бодро. — Ребята, сейчас мы сядем за карты. По моему сигналу каждый из вас повторит вслед за мной все, что я покажу. Но говорить можно только о картах, и ни о чем другом. Ясно? Они уселись за стол и начали играть. Их было четверо, поэтому каждому поочередно приходилось пасовать. Спустя некоторое время они услыхали, что кто-то поднимается по лестнице, и Хорбер сказал: — Теперь я сыграю соло. Он положил карты на стол, на цыпочках подкрался к стене и заглянул в отверстие. Потом высунулся из-за ширмы и знаком подозвал Хагера. Тот надолго прилип к отверстию. Наконец Хорбер потянул его за рукав: — Дай сыграть и другому, Хагер. Форст лишь взглянул в отверстие, обернулся к сидящим за столом и многозначительно подмигнул. Потом отошел от стены и присоединился к остальным: — Ого, Хорбер! Заходишь сразу с козырей! — и цинично ухмыльнулся. Наконец очередь дошла до Мутца. Он всем телом прильнул к стене. «Красивая какая! — подумал он. — Сколько в ней прелести!» Но потом его вдруг охватила острая жалость к девушке, и он резко обернулся: — Хорбер, это просто подло! Гадко и подло! Этого я от тебя не ожидал! Хорбер испуганно приложил палец к губам и подмигнул Мутцу. — Не бойся, Хорбер, — сказал Мутц. — Я не стану портить тебе игру. Но ты не заставишь меня участвовать в ней! Мутц схватил пальто со спинки кровати и вышел из комнаты, хлопнув изо всей силы дверью. — Не горюй, Хорбер, — утешал его Форст, — из него никогда не выйдет настоящего игрока! Хагер, — толкнул он того локтем, — тебе сдавать! Но Хагеру тоже расхотелось играть. Правда, он считал, что Мутц хватил через край и вел себя, как маменькин сынок. Но в чем-то Мутц был прав, и это Хагер сознавал. Ему было совестно перед красивой смуглой девушкой, находившейся там, за перегородкой, хотя она и не подозревала о его существовании. Настроение упало. Вскоре ушел и Форст. В конце концов Хорбер остался в комнате один. Он готов был провалиться сквозь землю от досады. Опять сел в лужу из-за своего проклятого бахвальства! Теперь его тайна известна другим, и вдобавок на него разозлился Альберт Мутц, чьей дружбой он особенно дорожил. Но на следующее утро Мутц был приветлив, как всегда, и Хорбер решил еще раз заговорить с ним обо всем происшедшем. — Не сердись на меня, Альберт, я ведь не хотел никого обидеть! — Знаю, — мягко возразил Мутц. — А если бы не знал, дал бы тебе вчера как следует. Я сержусь на тебя не за дырку в стене. Меня возмущает то, что ты этим хвастал. Ведь это подло, понимаешь? Подло и то, что все мы об этом знаем, а она нет. И что сегодня вечером ты опять прилипнешь к этой дырке, и завтра тоже, и что она каждый вечер невольно участвует в этом свинстве, доверяя своим четырем стенам, в которых чувствует себя дома и в безопасности. Понял теперь, что к чему, трепло несчастное? Все это Альберт Мутц произнес ровным приветливым тоном, за которым, однако, чувствовалась сдерживаемая ярость. А Хорберу не терпелось во что бы то ни стало и как можно скорее помириться с другом. — Я заделаю отверстие, Мутц! Сегодня же, обещаю тебе! — Смотри сдержи слово, Хорбер! — голос Мутца звучал уже не сухо, а задушевно и весело, как обычно. По пути домой Хорбер все еще был полон решимости заделать отверстие. Но, проходя через парикмахерскую в жилые комнаты, он увидел Барбару, склонившуюся над столом. Отверстие в стене осталось, и Карл по-прежнему каждый вечер первым поднимался к себе. Он отдалился от Мутца, всячески избегал разговоров наедине с этим крепким светловолосым юношей, который умел так испытующе глядеть другому в глаза. Вообще же Хорбер по-прежнему любил поболтать и становился замкнутым, только когда речь заходила о «бабах». Он уже не мог говорить о них цинично и нагло, как прежде, и, если случайно оказывался в компании, где рассказывали похабные анекдоты, ему начинало казаться, что за его спиной стоит Альберт Мутц и сверлит его затылок пронзительным взглядом. Иной раз он даже оборачивался, чтобы проверить, не стоит ли Мутц на самом деле у него за спиной. В их классе лишь трое избегали подобных разговоров: Мутц, Шольтен и маленький Зиги Бернгард. Борхарт и Хагер слушали, но в беседе участвовали редко. Хорбер же и Форст всегда были заводилами. Теперь это изменилось. Хорбер стал, как острили приятели, «тихим омутом». В один прекрасный день Хорбер понял, что влюбился в Барбару. Теперь его интересовала не только ее внешность, постепенно он узнал о ней многое. А главное — что она одинока. И самоуверенный весельчак и хвастун Хорбер мучительно размышлял над тем, как ему подступиться к этому загадочному существу с копной пышных черных волос. Он продолжал тайно подсматривать за ней, но потом все чаще мучился угрызениями совести. Чуть ли не каждый день он клялся накрепко заделать отверстие в тонкой перегородке, разделявшей их комнаты. Но едва наступал вечер, он снова бросался» на постель и, сгорая от нетерпения, ждал, когда она начнет подниматься по лестнице. Однажды вечером он стоял у стены и смотрел, как Барбара готовилась ко сну. Вдруг с лестницы донеслись чьи-то тяжелые шаги, в соседнюю дверь тихонько постучали. Он видел, как девушка обернулась, как дверь открылась. В комнату вошел мужчина, и свет погас. Лицо вошедшего он увидел лишь мельком, но все же сразу узнал его. Это был отец. В ту ночь Карл Хорбер не сомкнул глаз. Ему хотелось плакать, и он удивлялся тому, что слез не было. На следующее утро он заделал отверстие. А когда днем вернулся из школы, его ожидала повестка. И он решил, что это к лучшему. Прощаясь с отцом, он не мог глядеть ему в глаза. И когда отец сказал, чтобы он попрощался с Барбарой, Карл только молча покачал головой. — Не беспокойся, сынок, — похлопал его по плечу отец, — мы позаботимся, чтобы здесь все было в порядке. — Ясно, вы позаботитесь, — пробурчал Карл, взял свой рюкзак и портфель, набитый съестным, приготовленным Барбарой, и ушел из родного дома. Среди товарищей он сразу почувствовал себя лучше. В тот же вечер Хорбер снова хохотал и дурачился, лишь изредка вспоминая о доме. Он быстро примирился с тем, что и в казарме ему придется играть привычную роль штатного остряка и балагура, паясничать и хвастать, забавляя остальных. Только на мосту, увидев убитого Зиги Бернгарда, он потерял способность шутить.
Он лежал за пулеметом и строчил изо всех сил. Увидев, что какой-то американский солдат вдруг побежал к углу дома, он машинально повернул ствол и стал садить по нему, пока тот не свалился. Разве мог он знать о тех невидимых нитях, которые протянулись от Шольтена и Мутца к этому человеку? Черт его знает, о чем он думал, лежа за пулеметом! Может быть, он думал о своем отце, о маленьком Зиги Бернгарде, о Барбаре — и стрелял. Он не услышал, как Шольтен орал на него. Не успел услышать. Выпустив по бегущему американцу еще одну очередь, он почувствовал резкий толчок в лоб, и череп его словно раскололся на две части; перед глазами поплыли огненные круги. Потом все окуталось тьмой. Пуля попала в лоб чуть-чуть ниже каски.
XII
Случай с американцем доконал Шольтена. Он слышал, как Мутц, лежа, рядом с ним, вдруг заплакал, и почувствовал, что разрыдается сам, если не наступит хоть какой-нибудь перелом. Взглянув на другую сторону моста, он увидел, что Хагер изо всех сил трясет Хорбера за плечи, и содрогнулся от ужаса. Хорбер перекатился на спину, его правая рука соскользнула с ремня и вяло шлепнулась в мутную лужицу на каменных плитах тротуара. Там она и лежала теперь, желтая и безжизненная. «Это сон, — твердил Шольтен сам себе, — ведь не может же все это происходить наяву! Ведь не может быть, чтобы Хорбера убили! Дружище Хорбер, ведь это неправда? Ведь еще вчера вечером ты был такой веселый! Ведь еще сегодня ты сидел тут, с нами…» И еще Шольтен подумал: «Как меня проняло несколько часов назад, когда ты заплакал! Впервые я видел тебя плачущим, а теперь ты мертв!» Он толкнул Мутца в бок. — Его убили, Альберт, — сказал он и показал глазами на Хорбера. Мутц обернулся, потом опять уронил голову на руки и зарыдал еще безутешнее. «Бедняга Мутц, — подумал Шольтен, — все это и тебе не под силу!» И жалость к этому крепкому парню, который лежал рядом с ним и рыдал, как маленький, вдохнула в него новые силы. А на той стороне моста Хагер все еще пытался поднять Хорбера. Он видел рану на лбу товарища, но до него как-то не доходило, что означала эта страшная зияющая дыра на переносице. С тупым упорством он все старался усадить недвижимого Хорбера, тряс его за плечи. И Шольтен, не сводивший с него глаз, подумал: «Надо перебежать к Хагеру, а то еще и его подстрелят. Сидит за парапетом, почти не пригибаясь; подними он голову на десять сантиметров выше — и все будет кончено». Он посмотрел в проем, служивший ему бойницей, на фасады домов напротив. Шесть-семь открытых окон — черные, разверстые пасти. Если американцы там — значит, у них выгодные позиции. Куда уж лучше! Сами все видят, а их не видно. Шольтен знал: только оттуда и могла грозить опасность. Подъезды и ворота были все на виду. Он взглянул на крыши, ближайших домов. Но и на них было пусто. Тут Шольтен забеспокоился. Он почуял что-то неладное и вдруг понял, что его встревожило. Тишина. Не только они прекратили огонь, американцы тоже притихли. «Не верится как-то, — подумал Шольтен, — неужели они и впрямь отошли?» — Мутц, — сказал он. — Эй, Мутц, послушай, ты ничего не замечаешь? Мутц поднял голову, все еще всхлипывая. Прислушался, потом обернулся к Шольтену. Робкая улыбка промелькнула на его забрызганном грязью, посеревшем лице. — Они ушли, Эрнст, их нет! Шольтен и Мутц оживились, но все еще боялись поверить обманчивой тишине. Шольтен решил действовать наверняка. — Послушай, Альберт, — сказал он, — возьми-ка мой автомат. И когда я побегу, не смотри мне вслед. Следи только за открытыми окнами напротив. Заранее возьми их на мушку. И как только что-нибудь заметишь, жми на всю железку! Он схватил автомат и сунул его Альберту. Но тот затряс головой: — Не сердись, Эрнст, но я больше не могу. Да и не хочу. После всего, что произошло… — И он кивнул в сторону американского солдата, распростертого у подъезда. — Ладно, Мутц, — сказал Шольтен, помолчав. — Я побегу и так. Авось пронесет! Увидев, что Шольтен не шутит, Мутц покорно взял автомат, высунул ствол и направил его на открытые окна, потом прижал приклад к плечу и положил палец на спуск. — Держи крепче, Мутц, — прошептал Шольтен, — а то он у тебя торчком станет! Это прозвучало цинично. Шольтен подполз к краю завала. Потом вскочил и стремглав помчался на ту сторону, к Хагеру. Мутц увидел вспышки выстрелов в двух окнах, в ту же секунду до него донесся ненавистный ноющий звук, и он едва удержался от соблазна обернуться и взглянуть на Шольтена. «Господи боже, — взмолился Мутц, — пусть хоть его не убьют! Только не его, не его… Лучше меня!» Он еще успел удивиться, что всерьез готов умереть вместо Эрнста, и, не прекращая молитвы, нажал на спуск. Он не сумел бы объяснить, откуда взялась у него эта уверенность. Но был уверен, что попал. По крайней мере в того, который стрелял из левого окна. Настолько уверен, что поднялся во весь рост, оперся локтем о камни завала и, стоя, выпустил очередь по второму окну. Но там тотчас же мелькнула огненная вспышка, послышался свист, и в тот же миг Альберт почувствовал, как руку его обожгло. А Шольтен с той стороны заорал не своим голосом: — Ляжешь ты или нет, идиот безмозглый?! «Слава богу, — вздохнул Мутц, — орет — значит, жив. С ним ничего не случилось!» Он плюхнулся на землю, услышал, как вторая пуля просвистела над ним, и опять подумал: «Он жив, с ним ничего не случилось!» И лишь после этого посмотрел на Шольтена. Он увидел, что тот стоит на коленях у парапета и, яростно жестикулируя, втолковывает что-то Хагеру. А Хагер безучастно сидит перед ним и, как пьяный, раскачивается из стороны в сторону. Потом Мутц увидел, что Шольтен принялся хлестать Хагера по лицу. Справа, слева, наотмашь. Мутц не понимал, в чем дело. Через некоторое время Хагер, видимо, пришел в себя. Он заслонил лицо рукой, как бы говоря: «Ну, хватит!» Шольтен просто не мог найти другого средства. Когда он прибежал сюда, Хагер сидел подле мертвого Хорбера, и вид у него был такой, будто он рехнулся. — Так вот, значит, как ведут себя, когда спятят! — сказал Шольтен. Хагер уставился на него невидящими, дико сверкающими глазами. Он пел:Сегодня нам принадлежит Германия,
А завтра весь мир!..
Клаус Хагер и страх перед жизнью

В сущности, он ничем не выделялся среди других. Насколько они могли припомнить, он всегда был среди них, только и всего, но никогда не старался как-то отличиться. «Хагер не хочет выделяться, — думали остальные. — Добряк, ему ничего не надо, лишь бы его оставили в покое». Как они ошибались! — Сколько раз тебе говорить, не садись с грязными руками за стол! — кричала на него мать. Он должен был каждый раз перед едой мыть руки, так же как Альберт Мутц, Вальтер Форст или любой другой из его товарищей. Но Хагеру, вероятно, слишком часто приходилось это слышать, так что он уже не мог подходить к крану без отвращения. В шесть-семь лет он день за днем являлся к столу с немытыми руками, иногда получал за это затрещины, иногда его просто отсылали в ванную, а иной раз его спасала рассеянность матери. В такие дни Клаус чувствовал себя победителем. — Не смей таскать в дом всякую пакость! Клаус Хагер не мог спокойно смотреть на животных. Завидев где-нибудь кошку, птичку, ящерицу или мышь, он сейчас же загорался желанием поймать ее и принести домой. Хорошо еще, что эта ему редко удавалось. А то бы его мать пришла в отчаяние. Она ненавидела всякую живность. Один раз он поймал маленького дрозда, поранившего крыло. Дом а он любовно устроил ему гнездышко в коробке, заботливо ухаживал за ним и чуть ли не всю ночь напролет просидел возле своего маленького пациента. Утром, едва проснувшись, он первым делом вспомнил о птичке. Выскочил из постели, босиком побежал к коробке, но она была пуста. Полчаса он искал дрозда по всей комнате, пока не нашел. Тот лежал под шкафом. Его тельце уже закоченело. Мальчик впал в такое отчаяние и так горько рыдал, что родители всерьез забеспокоились. Отец купил ему попугая. — Вот тебе другая хорошенькая маленькая птичка! Но Клаус нахмурился: — Не надо мне маленькой хорошенькой птички! — Он кричал и плакал, топал ногами. — Хочу моего дрозда! Он похоронил его в саду, положил сверху каменную плиту, на которой отец сделал надпись, поставил деревянный крест. Так делали до него многие дети, и многие будут так делать после него. Но смерть дрозда надолго омрачила душу маленького Клауса, так что родители впали в уныние. Они всячески старались изолировать мальчика от вредных, на их взгляд, влияний. И когда Клаус Хагер с опозданием на год впервые пошел в школу, он все перемены простаивал на школьном дворе в полном одиночестве.

Через некоторое время он обзавелся товарищами, но, казалось, лишь для того, чтобы ссориться с ними. Однажды он пришел домой в разодранных штанах. Его избили за то, что он наябедничал. — Милый мой мальчик! — воскликнула мать, рыдая. — Что они с тобой сделали? — Она причитала над маленьким Клаусом до тех пор, пока он сам не разревелся. А когда пришел отец, Клаус очень удивился, увидев, что родители ссорятся. — Нельзя так баловать парня, — говорил отец, — ведь он же не девчонка, пойми, наконец, Эмели! Но Эмели не желала ничего понимать, и с той поры отец ежедневно ровно в двенадцать встречал своего отпрыска у ворот школы. Клаус приносил домой отличные оценки. Поразмыслив, родители решили отдать его сразу после третьего класса начальной школы в гимназию. Так Клаус Хагер наверстал потерянный год и догнал своих сверстников. Он был тихим, внимательным, не смеялся и не болтал на уроках. В гимназии к нему относились в общем неплохо. Охоту ябедничать у него отбили еще в начальной школе. Мутц, Шольтен и Форст, к которым он больше всего тянулся, приняли его в свою компанию. Никогда никто ему не грубил, с ним обходились, пожалуй, даже мягче, чем с маленьким Зиги Бернгардом. Если собирались на прогулку, он получал особое приглашение. — Ну как, Клаус, поедешь сегодня после уроков купаться? — Этот вопрос задавали Мутц или Шольтен. Хагер мялся: — Ах, я не знаю, вы всегда ездите слишком быстро, да и велосипед у меня не совсем в порядке. Право, не знаю… — Ладно, ладно, — перебивал его Шольтен. — Мутц пойдет с тобой и спросит у твоей матери, можно ли тебе поехать с нами! Хагер сразу преображался. Куда девалась его нерешительность! — Ты в самом деле пойдешь, Мутц? Да? Тогда я поеду с вами, с удовольствием поеду! Дело в том, что обычно Хагеру ничего не разрешали, разве только за него приходил просить рассудительный и благовоспитанный Мутц, тогда еще можно было надеяться. Но Хагер никогда не признался бы в этом открыто. Всегда у него находились отговорки, и другие добродушно подыгрывали ему, пока им не надоедало. Чаще всего не выдерживал Шольтен, он обрывал Хагера, обещая ему, что кто-либо из них зайдет к его матери и попросит разрешения. Однажды Шольтен сделал это сам, но в тот день Хагера не отпустили. — Скажи, Клаус, — спросила мать, — кто этот чернявый неприятный мальчуган с болезненным цветом лица? Он из твоего класса? А как он учится? За ним, небось, уже водится всякое. Он никогда ни о чем таком не рассказывает? Да ведь ты мне все равно не скажешь, какими гадостями вы там занимаетесь! — Мамочка, — решился перебить ее Клаус, — мамочка, ты к нему несправедлива, ей-богу! Я его очень хорошо знаю. Право же… — Ну, раз ты так рьяно заступаешься за него, значит тут что-то неладно! — отрезала мать и решила заняться этим Шольтеном поосновательней. Она явилась к классному наставнику Штерну и просветила его насчет Шольтена. — Этот мальчик закоренелый негодяй, — сказала она, — посмотрите только на его глаза! — И шепотом: — Уверяю вас, прирожденный преступник. И этот субъект учится в одном классе с моим сыном! Учитель Штерн с облегчением вздохнул, когда Эмели Хагер вышла из учительской, и подумал: «Бедняга Клаус!» Клаус Хагер во всем был середнячком. Никто и не ожидал от него чего-либо особенного. Но вот однажды мать нашла его в постели без сознания. Их постоянный врач позаботился, чтобы его немедленно доставили в больницу, и там ему едва успели промыть желудок. Дозы веронала, взятой им из ночного столика матери, хватило бы на всю семью. Мать бросилась в школу. — Это вы виноваты, — напустилась она на учителей, — вы придирались к моему сыну! Досталось и супругу: — Это ты виноват, ты совсем забросил мальчика! «Никто не виноват, — написал Клаус Хагер на клочке бумаги, — просто мне все надоело!» — Не дергайте его, не издевайтесь над ним, но и не деликатничайте чересчур, — предупредил учитель Штерн ребят. — Держитесь с ним, как обычно, — продолжал он, — и тогда он скоро придет в себя. В жизни, дети, иногда случается такое «короткое замыкание». Мы все должны оберегать Клауса, но так, чтобы он этого не заметил! — Уважаемая сударыня, — сказал он Эмели Хагер, — может быть, не стоит винить во всем других. Постарайтесь сами быть разумной матерью. Меня волнуют не ваши беспочвенные упреки в адрес учителей, а судьба мальчика. Ведь в другой раз он проделает это более умело, можете быть уверены! — В другой раз? — Эмели Хагер изменилась в лице, и по дороге домой она почти решила пересмотреть свое отношение к сыну. Но именно «почти». Учитель Штерн пошел к директору и рассказал о случившемся. Директор гимназии, добродушный и представительный пожилой человек, молча слушал. — Ему нужен друг, уважаемый коллега, — сказал он, и когда Штерн с сомнением переспросил: — Друг, господин директор?! — тот поправился: — Или подруга, дорогой коллега, да, именно — маленькая подружка. — И он пояснил свою мысль: — Надо дать Хагеру какое-нибудь задание, которое отвлекло бы его от мыслей о себе. Надо поручить его заботам какое-нибудь беспомощное, беззащитное создание, которое пробудит в нем потребность заботиться и защищать. — А не чересчур ли это… — Штерн запнулся, не находя подходящего слова, и сказал все-таки: — Рискованно? Он почувствовал, что сказал не то, что хотел. Но директор понял. — Все зависит от того, какая подружка, коллега Штерн, — и оба подумали о маленькой застенчивой девчушке, которую два дня назад родители определили в гимназию и которая в понедельник должна была впервые появиться в классе. Девочке будет нелегко сразу освоиться. Следует ли рискнуть? Не получится ли вместо желаемого результата полный провал? — Вы должны действовать очень осторожно, коллега Штерн, — сказал директор, и, когда Штерн вышел, он еще долго размышлял об этом случае. Не проще ли было предоставить Клауса влиянию однокашников? Директор взглянул на покрытый слоем пыли бюстик Песталоцци, стоявший на массивном книжном шкафу. «Учить детей — значит любить их, — подумал он, — хотя зачастую гораздо проще только учить!» В понедельник пришла новенькая. Класс встретил ее с подчеркнутым безразличием. Обычная история. В конце концов не навязываться же каждой пигалице! Новенькая тихонько сидела за партой, низкорослое бесцветное создание. Она приехала с востока. Ее родители эвакуировались, потому что линия фронта приближалась к их городу; оба ее брата были в действующей армии. Учитель Штерн записал ее анкетные данные: Феллер Франциска, год рождения — 1929. Он спросил, кроме того, о вероисповедании, имени и профессии отца и велел девочке задержаться после урока на несколько минут в классе. Когда звонок возвестил вторую перемену, ребята ринулись во двор. Штерн и маленькая Франциска остались в классе. Он подробно расспросил ее о прежних оценках. Потом сказал: — В общем, ты, очевидно, не отстанешь от класса. Меня слегка беспокоит только твоя отметка по латыни. Я попрошу кого-нибудь из твоих новых товарищей помочь тебе немного. Так нашелся повод сблизить Клауса Хагера с Франциской Феллер. Клаус был чувствительной и тонкой натурой. Он знал об этом, но никак не мог справиться со своей чувствительностью. Не понимал, в чем ее причина, что ее возбуждает. Однажды он присутствовал на военных похоронах. Умер командир одной из частей, старый полковник. В сумерки улицы, ведущие к кладбищу, заполнила густая толпа, куда затесался и Клаус. С душевным трепетом следил он за процессией. Солдаты в длинных шинелях, с траурным крепом на низко надвинутых касках, отчего их лица выглядели еще мужественнее. Военный оркестр, игравший траурный марш, за ним покрытый черным полотнищем орудийный лафет с гробом, и опять солдаты, нескончаемые серые колонны. Мрачное, жуткое, потрясающее зрелище! Клаус с трудом сдерживал подступившие к горлу рыдания. Музыка кончилась, и только глухие удары литавр вторили тяжелой поступи колонны. Долго простоял он так, не трогаясь с места, хотя процессия давно уже исчезла из виду. Зеваки разошлись. Клаус услышал издали звук трубы, затем загрохотали залпы. Когда процессия возвращалась с кладбища, люди выбежали из домов, в верхних этажах открыли окна и жители высунулись наружу. Те же солдаты, которые только что мрачно и торжественно шествовали за гробом, теперь шагали с кладбища под звуки бравурного марша. Над серыми колоннами звенела бодрая строевая песня. Войска шли, гулко печатая шаг, барабаны гремели, флейты заливались, а потом в небо снова взметнулась лихая, звенящая в ушах песня:
Солнце, солдатам ярче свети!
Кто знает, что ждет нас, друзья, впереди?
XIII
— Пошли, — сказал Шольтен Мутцу. — Идем домой! — А Форст? — вдруг вспомнил Мутц. — Ведь он все еще лежит под мостом и ждет, когда придут танки. Осмотревшись по сторонам, они спустились к Вальтеру. Он привалился плечом к куче фаустпатронов, и обоих пронзила одна и та же страшная мыль: «Неужели и его?..» Но, подойдя поближе, они увидели нечто совсем уж невообразимое. Форст лежал, раскинув руки и слегка похрапывая: Вальтер Форст спал. Он проспал весь бой! Шольтен пнул его ногой в бок. — Вставай, дерьмо! — крикнул он грубо. Форст потянулся, сонно зевнул и лишь после этого открыл глаза. Некоторое время он еще продолжал лежать на спине, удивленно таращась на Шольтена и Мутца. Потом прислушался. И вдруг просиял: — Ребята, я проспал всю войну! — Одним рывком он вскочил на ноги. — Пошли, — бросил Шольтен, — пора сматывать удочки. — Где американцы? — спросил Форст. — Смылись, — ответил Шольтен. В этот момент послышался вой авиационных моторов. Ребята хотели выбраться из-под моста, но было уже поздно. Воздух наполнился свистом и ревом, три «мустанга» прочесывали на бреющем полете мост, раздался лай крупнокалиберных пулеметов и уханье реактивных снарядов. — Надеюсь, они не станут бомбить, — прошептал Мутц. — Из пулемета их, пожалуй, можно бы достать, — заметил Форст. — Не трогаться с места! — приказал Шольтен и прислушался. Самолеты сделали второй заход, опять открыли огонь, опять раздалось отвратительное уханье. Еще трижды возвращались самолеты к мосту, после чего шум моторов затих вдали. Шольтен и Мутц вскарабкались по откосу и вошли на мост. Форст ковылял за ними. На мосту он увидел трупы товарищей и онемел от ужаса. Асфальт проезжей части был изрыт крупными воронками, на тротуаре и перилах следы пуль. Пулемет, из которого напоследок стрелял Шольтен, разбит. Весь искореженный, словно стиснутый гигантской рукой, он уставился вывернутым стволом в небо. Они бросили последний взгляд на запад, и Шольтен проронил: — Пошли! — А как же приказ? — голос Форста звучал неуверенно. — Плевать я хотел на твой приказ! — грубо отрезал Шольтен. — Всему на свете есть предел! Никто не имеет права посылать нас на верную смерть. Да если бы и послали, толку от этого все равно не будет. Нам приказали удержать мост, и мы его удержали! Четверо из нас погибли, может, хватит? Форст пробормотал: — Да я как все! Это же ясно! А Шольтен вспомнил о генерале. «Так как же, — спрашивал он себя, — выполнили мы приказ или нет? Если мы его и теперь не выполнили, тогда, значит, генерал только того и хотел, чтобы мы тут дрались до тех пор, пока всех нас не перебьют! Черт возьми, — осенило его, — значит, смерть тех четверых на совести генерала. Мог ли генерал желать их гибели? Это ведь невероятно!»XIV
Генерал стоял в низкой комнате крестьянского дома и смотрел на часы. Дверь поминутно открывалась, вбегали связные, поспешно отдавали честь и вручали донесения. В последнем говорилось: «Дивизия оставила квадрат Ц-4 — Б-2 и в полном порядке отходит к указанному в приказе пункту. Арьергард занял оборону на восточной окраине города». Генерал облегченно вздохнул. Вдруг он заметил, что на лбу его выступила испарина. Он вытащил из-за обшлага носовой платок и вытер лицо, потом снял фуражку и провел платком по массивному затылку и шее. «Итак, все удалось», — подумал генерал. И ощутил гордость полководца, расчет которого оправдался. Он опять взглянул на часы — было ровно пять. Явился еще один связной. Он прибыл с наблюдательного пункта на колокольне городской церкви. В донесении сообщалось: «Обнаруженные ранее передовые части американцев после короткой перестрелки у въезда на мост отошли. Мост в наших руках. Уничтожено два танка противника». «Черт побери, — подумал генерал, — ну и молодцы эти ребята!» И перед ним, правда очень смутно, промелькнули лица мальчиков. Генералу приходилось видеть слишком много лиц, чтобы запоминать каждое в отдельности. Все произошло в точности так, как он рассчитывал. Американцы выслали к мосту усиленный дозор, были встречены огнем и согласно приказу отступили. Генерал ясно представлял себе дальнейший ход событий. Штурмовики, артиллерия, разведывательный дозор и снова штурмовики, артиллерия, разведдозор, до тех пор пока разведчики не доложат: «Мост очищен!» Так американцы теснили немецкие войска, начиная от самой границы. Что за чертова стратегия! Ее цель — во что бы то ни стало сберечь своих солдат. Самолеты и артиллерия, самолеты и артиллерия снова и снова перепахивают землю, пока солдаты в серо-зеленой форме, измотанные, обессиленные, истекающие кровью, не вылезут из своих нор и не потащатся, шатаясь, на восток, чтобы через два-три километра опять зарыться в землю. И тогда все начинается снова — самолеты и артиллерия, самолеты и артиллерия… Прибыл еще один связной. Наблюдатель на колокольне докладывал: «Три штурмовика противника типа «мустанг» атакуют мост бортовым оружием и реактивными снарядами. Бомб не сбрасывают». Перед мысленным взором генерала вновь смутно промелькнули семь ребячьих лиц, но тут он обратил внимание на последние слова донесения: «Бомб не сбрасывают». Все ясно: американцы хотят сохранить мост. Генерал опять посмотрел на часы. 5 часов 6 минут. Он приказал вызвать лейтенанта — командира саперов, расположившегося со своими людьми перед домом и уже несколько часов ожидавшего боевого приказа. — Хампель, — сказал генерал, — мы все-таки еще преподнесем американцам небольшой сюрприз. Мы взорвем мост. Возьмите шесть человек и отправляйтесь. Будьте осторожны, Хампель, возможен налет штурмовиков и даже встреча с танками! Хампель отдал честь и направился к двери. Но прежде чем он вышел, генерал сказал: — Минутку, Хампель. Передайте ребятам там, на мосту, что они могут идти по домам. — Слушаюсь, господин генерал! Хампель опять повернулся к двери, но генерал снова задержал его на пороге: — И еще, Хампель, скажите ребятам, что я горжусь ими! Он сказал это так, словно пытался оправдаться перед самим собой. И стал собираться в дорогу. А выйдя из помещения, вспомнил, что оставил в столе портрет жены. Он вернулся и вынул из ящика фотографию в изящной серебряной рамке. «Жаль всё-таки, — подумал генерал, и лица мальчиков у моста опять замаячили у него перед глазами, — жаль, что у нас нет детей». И он остановился, неприятно задетый внезапной мыслью: «А ты отдал бы этот приказ, если бы среди них был и твой сын?». Генерал сунул портрет в карман. «Странно, — подумал он, стараясь отогнать мысль о семи подростках, — после трёх лет пребывания в России я вдруг стал сентиментальным!».Трое на мосту решили уходить. — Ступайте вперёд, — сказал Вальтер Форст, — я догоню вас, только гляну ещё разок, всё ли в порядке, а то как бы там внизу чего не вышло. Он помахал им рукой. Шольтен перекинул автомат через плечо. Мутц взял карабин, и они вдвоём пошли по мосту на восточный берег, где остановились, поджидая. В ту же минуту раздался грохот взрыва, справа и слева от моста сероватым едким туманом взвивался дым, и сразу же их настигла воздушная волна. Шольтен и Мутц бросились сквозь дым назад. — Что случилось, Вальтер? — кричали они. Ответа не было.
Вальтер Форст и штандартенфюрер.
В сущности, его никто не любил. Был он коренаст, но не казался сильным, держался ловко и уверенно, но был холоден и необщителен. Дома, сколько Вальтер себя помнил, никто никогда ему не приказывал, исключая, разумеется, штандартенфюрера, но на его приказания сын отвечал подчёркнутым пренебрежением. Возможно, из него вышел бы неплохой вожак организации «Гитлерюгенд». Для этого у него были все данные. Но он доставил бы тем самым удовольствие штандартенфюреру, а одного этого было достаточно, чтобы Вальтер отклонил любое предложение такого рода. Отца он ненавидел. Активный член нацистской партии, его отец в отношении вышестоящих был угодливо и лицемерно почтителен, а с подчинёнными так жесток и груб, что иногда это отдавало садизмом. Особенно жестоко штандартенфюрер обращался с женой, матерью Вальтера. В школе мальчику часто доводилось слышать, как отзывались о людях подобных его отцу. Поэтому, приходя на товарищеские вечеринки, он нередко вынимал из кармана пальто покрытую пылью бутылку доброго старого бургундского, ставил на стол и говорил: — Вот и нам от бонз перепала бутылочка. В одном отношении он, бесспорно, внушал доверие: в его присутствии товарищи могли ругнуть военную муштру, рассказать свежий политический анекдот, чем, в общем, и исчерпывались их суждения о политике. А по вопросам «красоты и верности» Вальтер Форст сам слыл первым знатоком. Чуть ли не каждый день он являлся в школу с новым запасом скабрезных историй. Когда на уроке разбирали легенду о докторе Фаусте, и Вальтер начал читать за Мефистофеля, у остальных мурашки забегали по спине. К нему даже пристала кличка «Мефистофель». И Вальтер был доволен. Но потом кличку забыли, потому что Вальтер Форст мог быть и совсем другим. Лучший декламатор класса, он читал гётевского «Прометея» так, что это становилось гвоздём любого школьного праздника. Вальтер Форст, ближе остальных соприкасавшийся с господствующим режимом, был единственным в классе, кто пытался критически разобраться в нём. Об этом режиме он судил по своему отцу и, ненавидя отца, ненавидел режим. Одно событие осталось в его памяти на всю жизнь. Это было в ноябрьский вечер 1938 года. Вальтеру только что исполнилось девять лет. По соседству с Форстами жила семья Фрейндлихов. У них была небольшая лавка. Дела, видимо, шли удачно, потому что Аби Фрейндлих, их сын, ровесник Вальтера, был всегда хорошо одет, да и сами они жили довольно широко и считались уважаемыми людьми. Аби Фрейндлих, его полное имя было Абрам, очень дружил с Вальтером. Они то возились и шумели в детской у Вальтера, то составляли большую электрическую дорогу у Аби, куда Вальтер часто прибегал после обеда. Однажды, когда мальчики играли в квартире Форстов, неожиданно вернулся штандартенфюрер. Вальтер услышал возбуждённые голоса, доносившиеся из соседней комнаты. Его родители о чём-то спорили. Одну фразу, сказанную отцом, мальчик разобрал совершенно отчётливо: — В который раз говорю тебе! Наш сын не должен дружить с евреем! Вальтер взглянул на маленького Аби. — Ты еврей, правда? — спросил он удивлённо. У Аби навернулись было на глаза слёзы, но он сдержался. Только молча кивнул головой и выбежал из комнаты. С тех пор он не приходил, а Вальтеру строго-настрого запретили бегать к Фрейндлихам. Но запрещение исходило от штандартенфюрера, поэтому мальчик продолжал посещать своего друга. Отвечая на вопросы отца, он лгал уверенно и хладнокровно. Всё шло хорошо до того памятного дождливого вечера в ноябре 1938 года. Он снова услышал, как спорили родители. После ужина мальчик ушёл в свою комнату и погрузился в чтение увлекательной книги из жизни индейцев. Вдруг до него донёсся гневный бас отца и звенящий от негодования голос матери. — Ты не смеешь требовать, — кричала мать, — чтобы я участвовала в твоих гнусностях! Затем хлопнула дверь. Штандартенфюрер ушёл. Через несколько минут дверь в комнату Вальтера отворилась. Вошла мать. Мальчик взглянул на неё, она была смертельно бледна. Мать вложила в конверт маленькую записку, всего несколько строк. — Уже довольно поздно, Вальтер, — сказала она, — но ведь ты пойдёшь сегодня к Аби поиграть, не так ли? — Он же запретил мне, — ответил мальчик удивлённо, — и если я пойду вечером, он сразу заметит. — Сегодня это не имеет значения. Очень важно, чтобы ты пошел. Речь идет о твоем друге. Понимаешь? Ты передашь его маме письмо. А они что-нибудь придумают. Вальтер плохо понимал, почему мама придает такое значение маленькой записке, однако послушно надел дождевик и побежал к Фрейндлихам. Дверь отворил отец Аби. — Мама вам кланяется и шлет это письмо, — сказал Вальтер, вручая записку. Старый Фрейндлих смотрел то на письмо, то на мальчика. Наконец Вальтер спросил, можно ли ему немного поиграть с Аби. — Ну, конечно. Он будет рад, — ответил Фрейндлих и как-то странно улыбнулся. Вальтер вбежал по лестнице в комнату Аби, и они занялись своей железной дорогой. Из-за двери доносился какой-то шум, в доме непрерывно стучали, хлопали, бегали. Наконец в дверь просунулась голова госпожи Фрейндлих. — Аби, на минутку! Некоторое время Вальтер играл один. Потом вернулся маленький Аби в пальто и шапке; за ним вошли старый Фрейндлих с женой; тоже одетые по-дорожному, с сумками, зонтами и рюкзаками в руках. — Передай маме большой привет, — сказал старый Фрейндлих, а мать Аби поцеловала Вальтера. Мальчик отвернулся: он терпеть не мог, когда взрослые нежничали с ним. Потом подошел Аби, взгляд его был серьезен, как у взрослого. — Нам нужно уходить, а железную дорогу возьми себе. И они пошли, а Вальтер бежал следом по лестнице и кричал: — Ты не шутишь, Аби? Она теперь в — самом деле моя? — Не ходи ты за нами, не кричи… тише, тише… — остановил его старый Фрейндлих. — Да, она твоя, ступай наверх и собери ее. Возьми, пока не унес кто-нибудь другой. Ну, беги, беги, малыш! Они пошли по улице, а Аби и Вальтер еще долго махали друг другу рукой, пока туман не поглотил удаляющиеся фигуры Фрейндлихов. Потом Вальтер вернулся в детскую, словно был у себя дома. Он присел около железной дороги, разглядывая сокровище, столь неожиданно ставшее его собственностью. Включал трансформатор, переводил стрелки, подавал сигналы, соединял вагоны, пока, наконец, скорый поезд с черным паровозом не помчался, грохоча, по рельсам. Мальчик успел предотвратить крушение, переведя в нужном месте стрелку. Он настолько был поглощен игрой, что забыл обо всем на свете. Потом кто-то затопал по лестнице, но мальчик не слышал. Только когда загремел чей-то бас, он весь съежился и оцепенел от страха: Вальтер узнал голос отца. — Эй, Фрейндлих! Куда же ты запропастился, старый плут? — орал штандартенфюрер. Кто-то ответил: — Эге… Кажется, пташка-то упорхнула! Дверь в детскую отворилась, и в щель просунулась голова в коричневой фуражке. — Они забыли мальчишку, штандартенфюрер! — рявкнул незнакомец, уставясь на Вальтера. — Это тоже кое-что… — раздался голос отца, и вслед за тем сам он появился в дверях. — Добрый вечер, — робко сказал Вальтер и тут же почувствовал на щеке ожог от пощечины. — Он же подарил мне эту железную дорогу, — рыдая, оправдывался мальчик. Но отец, багровый от бешенства, со вздувшимися на лбу жилами, продолжал избивать его. Он не успокоился до тех пор, пока Вальтер, перепачканный кровью, сочившейся из ушей, из носа, изо рта, не свалился рядом со своей железной дорогой. — И это мой сын! — прорычал штандартенфюрер. — Полюбуйтесь на него! Вскоре они ушли. Затем появился какой-то человек в коричневой форме и отнес тихо всхлипывающего мальчика домой. В этот вечер мать Вальтера долго ждала мужа. Он пришел пьяный и еще в передней, снимая шинель, ткнул в грудь служанку, отворившую дверь, так, что девушка ударилась о стену. Потом, шатаясь, прошел в комнату. — Хорош твой сыночек, — заорал он при виде жены. — Якшается с евреем. Позорит отца! Кто предупредил Фрейндлихов? Он остановился в двух шагах от жены, огромный, на голову выше ее. Но женщина не шелохнулась. — Фрейндлихов предупредила я, и, если ты посмеешь тронуть мальчика, я убью тебя! Убью! Слышишь ты, скотина, подлое животное, ты… ты… мразь! — А ну повтори! Повтори — и я засажу тебя за решетку! — Возможно, — тихо проговорила женщина, но прозвучало это как угроза. — Возможно! Но и ты сядешь! Я продумала все заранее. Не так я глупа, как ты думаешь. Мой адвокат знает все, нужные документы у него в сейфе, и он отошлет их, если ты хоть пальцем тронешь меня или сына. И имей в виду, мой адвокат тоже член вашей партии. А теперь можешь упрятать меня за решетку, если посмеешь! С этими словами она вышла из комнаты. Штандартенфюрер позвонил служанке и потребовал коньяку. Когда она принесла бутылку, он налил себе и усадил девушку на колени. А маленький Вальтер лежал в это время в детской на кровати. Шум ссоры доносился и до него. «Как я его ненавижу! Как я его ненавижу!» — думал он, засыпая. Мать с тревогой замечала, с какой невероятной легкостью ее сын мог из милого мальчика превратиться в маленького садиста. Он же, любя мать и всячески стараясь показать ей это, всегда жалел потом о своих злых выходках, но никак не хотел понять, что отнюдь не все способны забывать его проказы так же быстро, как он сам. Вооружившись духовым ружьем, он мог часами выслеживать птиц во фруктовом саду возле дома. И когда маленькое тельце падало, кувыркаясь, на землю, в глазах у него вспыхивал опасный огонек. Однажды он плохо прицелился, и черный дрозд с жалобным писком стал метаться по земле, волоча крыло. Вальтер пробовал прицелиться лучше, но все попытки кончались неудачей. Потом пришел старший дворник, он взял палку и одним ударом покончил с птицей. Раздался едва слышный хруст. Больше ничего. Но этот хруст стоял у мальчика в ушах, все разрастаясь и не давая покоя. Он бросился на террасу и, размахнувшись изо всех сил, разбил ружье о стену. Потом побежал к матери и разрыдался. А мать, утешая его, думала: «Нет, мальчуган у меня не плохой, в нем, как и в каждом, уживается добро и зло. А вот отец его — тот неисправимый негодяй…» Вальтер становился старше, и с возрастом его жестокость, его способность ненавидеть и причинять зло все глубже скрывались за холодной расчетливостью и непринужденной благовоспитанностью. Редко кто проникался к нему теплым чувством. Самый задушевный разговор товарищей он мог отравить циничным замечанием и почти в любой сказанной при нем фразе выискать двусмысленность. Иногда Вальтера награждали одобрительным смешком, но не больше. Его не любили, и он, видимо, понимал это. Он мог совершенно сознательно оскорбить товарища, по-дружески обратившегося к нему, и нередко создавалось впечатление, будто ему нравится, чтобы его боялись, будто это желание внушать страх переполняло его и искало выхода. Праздновали день рождения фюрера. Все ученики собрались в актовом зале. Директор гимназии произнес ничего не значащую речь. Потом включили радио, и все стали слушать более внимательно. Первым забеспокоился классный наставник Штерн. — Пакость какая! — шепнул он директору. — Что вы, дорогой коллега! — ответил тот. — Вы меня не так поняли, господин директор, — усмехнулся Штерн. — Здесь в зале воняет какой-то пакостью! Теперь и другие почувствовали вонь. Сероводород! Узнается легко и безошибочно! Пришлось всем выйти. На том месте, где был выстроен шестой класс, нашли три раздавленные пробирки и пробки от них. Преподавательница гимнастики Зигрун Бауэр потребовала расследования. Но класс молчал, хотя виновник не мог положить пробирки на пол незаметно. Подозревали всех, по крайней мере всех мальчиков. Исключая Вальтера Форста, сына штандартенфюрера. Хотя виновником был именно он. Штерн занимался расследованием без должного рвения, его даже не раз упрекали в этом. — Я не имел бы ничего против, если бы вы, коллега, взяли все в свои руки, — сказал он преподавательнице гимнастики, уставясь на нее сквозь толстые стекла очков. Она поспешила отойти, потому что в его присутствии всегда чувствовала себя несколько неловко. Про себя Штерн называл ее распутной, однако произносить это слово вслух опасался. Юрген Борхарт был не единственным, кто, забежав после уроков в душевую при гимнастическом зале, чтобы взять забытые вещи, к своему ужасу, застал там преподавательницу Бауэр. С Вальтером Форстом произошло то же самое. Но он и не пытался улизнуть, встал на пороге, нагло глядя в упор на Бауэр, и под этим взглядом смех застрял у нее в горле. Когда она крикнула, чтобы он убирался, Вальтер молча повернулся и ушел. На следующий день в тот же час, сразу же после уроков, он снова хотел заглянуть в душевую. Оттуда слышался звук льющейся воды, но дверь была заперта. Он явился на третий, на четвертый день, и так всю неделю. Но потом, по-видимому, то низменное, что было в Зигрун Бауэр, пересилило страх. На шестой день дверь оказалась незапертой. Вальтер вошел, бесцеремонно оглядел ее и, не сказав ни слова, вышел. Через две недели ученик Вальтер Форст и учительница Зигрун Бауэр поехали купаться на озеро в окрестностях городка. Домой Вальтер возвратился, познав то, чего так домогался. Два дня спустя он праздновал свое пятнадцатилетие. А еще через две недели ему стало известно, что вечер на озере не прошел без последствий. Они встретились в конце дня за спортплощадкой. От эксцентричности и заносчивости Бауэр не осталось и следа, рядом сидела убитая горем, потерянная девушка. — Вам не следовало оставлять дверь незапертой, — безжалостно заявил Форст. А в ответ на взрыв отчаяния, последовавший за этим, цинично посоветовал: — Свалите все на моего отца. Каждый поверит. Когда же она подняла руку, чтобы дать ему пощечину, он схватил ее за кисть левой руки и сжал, как тисками, потом рассмеялся и исчез в темноте. В конце концов Зигрун Бауэр во всем покаялась директору. Тот вызвал Форста, но Вальтер и понятия ни о чем не имел. — У меня просто нет слов, господин директор! — лгал он легко и убежденно. — А история с душевой? — Это верно, господин директор, она, видимо, нарочно оставляла дверь незапертой, но я не единственный, кто видел ее там. Можете спросить остальных. Спрашивать директор не стал. А других доказательств не было. И Вальтер вышел из воды сухим, да еще сохранив вид оскорбленной добродетели. Только Штерн не сомневался в виновности Форста и высказался за удаление его из гимназии. Но совет выступил против. Бауэр перевели, и дело обошлось без скандала. Только завсегдатаи пивнушек чесали языки по этому поводу. Однокашники Вальтера тоже болтали потихоньку об этом и еще больше отдалились от Форста. Но они не презирали его, потому что во многом чувствовали его превосходство. Однажды Вальтер избил неизвестного человека и должен был предстать перед судьей по делам о несовершеннолетних. Никто не знал, как это произошло. Пока длилось расследование, Вальтера удалили из гимназии, и он болтался дома, скучая и бездельничая. Но когда к ним поселили молодую белокурую женщину, эвакуированную из большого города, Вальтер вдруг оживился. Притащил с вокзала ее чемодан, помог ей уютно устроиться и с первого же дня не отходил от нее ни на шаг. Штандартенфюрер тоже оказывал гостье большое внимание и чаще оставался теперь по вечерам дома. В такие дни Вальтер в душе ликовал, безнаказанно ставя отца в глупое положение. Однажды штандартенфюрер задумал устроить вечеринку. Вальтер заранее узнал об этом и использовал все свои связи, чтобы получить из Швейцарии набор новых джазовых пластинок. И как только штандартенфюрер, поглаживая тонкую руку стройной блондинки, разразился речью по поводу, несомненно, победоносного конца войны, из соседней комнаты раздалась мелодия модной песенки, сочиненной американским майором Гленом Миллером, «Американский патруль». Вальтер запустил пластинку на полную громкость и нахально развалился в кресле перед проигрывателем. После первых же звуков за дверью наступила тишина. Bсe прислушались. «Жаль, что мама ушла к себе, — подумал Вальтер, — неплохо бы ей поглядеть». Отец вломился в комнату со сжатыми кулаками, задыхаясь от злости. Сын стоял перед ним, скрестив на груди руки, с холодными, как сталь, глазами. — А ну, попробуй, ударь! — сказал он. Выражение его лица не оставляло никакого сомнения в том, что случится, если штандартенфюрер действительно решится ударить. Отец повернулся и молча вышел из комнаты. Гости поспешили разойтись. А штандартенфюреру пришлось коротать остаток вечера один на один с бутылкой коньяку. Потом он ощупью пробрался через темную переднюю к комнате эвакуированной, хотел было нажать ручку и войти, но наткнулся на что-то мягкое: кто-то притаился у двери. — Смотри не споткнись, — раздался голос сына. Он дождался, пока отец ушел, и отправился к себе. «Интересно, — подумал он, — почему же я сам не вошел туда?» Разбор дела у судьи окончился в пользу Вальтера. Как и раньше в полиции, он и здесь показал, что мужчина, который был им избит, предложил ему пойти в кусты. — Он заговорил со мной и схватил меня за руку. Я почувствовал, что мне грозит опасность, а главное, я считал задетой свою честь, честь немецкого юноши, — врал он находчиво и без тени смущения. А сам думал: «Молодчина, Вальтер, вывернулся! На это всегда клюют!» Оказалось, что мужчина, которого он избил, уже не раз сидел за гомосексуализм, и это возымело решающее значение. Однако Вальтер Форст умолчал о том, что человек этот вовсе не угрожал ему. Он умолчал также и о том, что, не заговори тот с ним, Вальтер все равно хладнокровно избил бы его. Он часто сидел с Хельгой (так звали эвакуированную блондинку) в саду за домом. Читал ей вслух какую-нибудь из своих книг, участливо расспрашивал, что пишет с фронта муж, и каждое его слово было рассчитано. Вальтер разыгрывал из себя чистого и наивного мальчика. Он сам не знал, зачем ему это. Но вскоре выяснилось, что это был правильный ход. Однажды вечером он робко постучался к ней и спросил, нет ли у нее чего-нибудь почитать. После минутного молчания Хельга ответила: — Почему ты не войдешь, Вальтер? Он отворил дверь и увидел, что она сидит в халате перед зеркалом и расчесывает свои длинные светлые волосы. Когда он вошел, она поднялась, халат ее распахнулся. Он оставил ее в заблуждении, что она совратила его. Среди ночи Вальтер проснулся в ее постели и услышал, что она рыдает. Ему стало стыдно. Молча покинул он ее комнату. Потом они ни разу не вспоминали о случившемся. А когда через несколько дней она съехала, потому что, по ее словам, нашла лучшую комнату, он был рад. Вальтер снова пошел в школу. После затеянной им драки его стали считать не только беззастенчивым и жестоким, но и физически сильным. Некоторые товарищи сторонились его еще больше. Мутц как-то показал фотографию своей кузины, милой девочки лет пятнадцати в светлом летнем платье. Форст посмотрел на нее оценивающе и объявил тоном знатока: — Со временем из нее выйдет преаппетитная бабенка. Это произошло во время маленькой перемены. Мутц только проронил: — Поговорим после уроков. — Порядок, — ответил Форст. После уроков все мальчики их класса собрались на спортплощадке. Мутц разделся и остался в одних трусах. Форст последовал его примеру. Четыре школьных портфеля отмечали границы ринга. — Бокс? — спросил Форст. — Как тебе угодно, — ответил Мутц. И бросился на Форста. Получив два-три удара, Мутц затем заставил своего противника попотеть. Сделав быстрый поворот, он наступил Форсту на ногу. Вальтер растянулся на земле. Мутц подождал, пока он поднимется, и, сделав вид, будто собирается нанести левый прямой удар в подбородок, изо всей силы ударил правой в солнечное сплетение. Вальтер упал на колени, хватая ртом воздух. Мутц ждал. Не успев даже разогнуться, Вальтер бросился на него. Удар Форста пришелся Мутцу по горлу, он закашлялся, его вырвало. И в тот же миг он снова получил удар, сваливший его с ног. Мутц чуть было не завыл от ярости, но сдержался. Медленно поднялся, в ожидании новой атаки Вальтера выставил правую руку, затем, быстро убрав ее, изо всей силы поддал коленом в живот и тут же нанес сокрушительный удар левой рукой в подбородок Вальтера. Вальтер рухнул навзничь, скорчился от боли и лежал неподвижно. Прошло не менее двух минут, прежде чем его привели в чувство, а когда он встал и, согнувшись, поплелся прочь, его шатало из стороны в сторону. — Ну, что ты теперь скажешь о моей кузине? — вкрадчиво спросил Мутц. — Прелестная девочка, — простонал Форст. А затем повел себя так, что сумел вернуть уважение класса. Когда все они гурьбой покидали площадку, Вальтер внезапно остановился и, поддавшись первому порыву, протянул Мутцу руку. — Забудем, Мутц? — сказал он. — Забудем, Форст! Однажды их послали собирать хмель. Всем классом. И учитель Штерн был с ними. В первый вечер ребята собрались у маленького деревенского пруда поболтать. Форст курил. Неожиданно около них остановилась машина. Из нее вышел человек в коричневой шинели и, подойдя к Вальтеру, ударил его по лицу так, что сигарета, описав искрящуюся дугу, полетела в пруд. Форст тут же дал сдачи. Сделай ему штурмбан-фюрер только замечание, Вальтер немедленно выбросил бы сигарету. Но то, что ему влепили пощечину ни слова не говоря, взбесило Вальтера. Первым же ударом Вальтер в кровь разбил верхнюю губу офицера. — Перестань, Вальтер! — крикнул Мутц и хотел было удержать Форста. — Не забудь, на нем форма! Но Форст был в исступлении. — Плевать мне на его форму! — и снова бросился на штурмбанфюрера. Он избил бы его, если бы ребята вшестером не навалились на Вальтера. На следующее утро Форст исчез. Примерно в то самое время, когда штурмбанфюрер, на этот раз в сопровождении двоих полицейских, обыскивал дом хмелевода, Вальтер сидел в кабинете у штандартенфюрера. — Скажи, наконец, что мне с тобой делать? — в ярости орал отец. — На этой истории и я, и ты, и все мы можем свернуть себе шею! — Ну, в таких-то делах у тебя есть опыт, — невозмутимо отрезал Вальтер. — Не правда ли? И это была правда. Штандартенфюрер уладил и это дело. После каникул все снова сошлись в школе и, будто сговорившись, ни словом не обмолвились об этой истории. Но даже Штерн не мог понять Вальтера. Однажды Форст пришел к нему и предупредил: — Господин учитель, против вас что-то затевается. Мне кажется, вас хотят упечь в солдаты. Кому-то из наших бонз вы пришлись не по вкусу. Штерн вопросительно посмотрел на Форста: — Почему ты мне об этом рассказываешь, Вальтер? — Терпеть не могу, когда кому-нибудь делают пакость. Конечно, я имею в виду пакости такого рода, — добавил он, ухмыльнувшись. Против каких пакостей Форст совсем не возражал, учитель понял, разумеется, сразу. — Н-да… Во всяком случае, благодарю тебя, Вальтер. — Не стоит, — ответил Форст и ушел. Штерн действительно получил вызов на повторное освидетельствование. Но, увидев искривленный позвоночник учителя, врач всплеснул руками: — Как ни верти, а толку от вас все равно не будет. Оставайтесь лучше в школе и учите ребят чему-нибудь хорошему! Штерн ответил, что с удовольствием последует его совету, и вернулся в школу. И хотя Вальтер, по существу, ничем не помог Штерну, учитель часто думал о нем. Он пытался разобраться в противоречивом характере мальчика. Но не смог. На берегу реки стоял маленький сарай. Он принадлежал одному из влиятельных членов городского управления, приятелю штандартенфюрера. Как-то за обедом Вальтер услышал разговор по поводу «черной свиньи», которую будто бы держал этот приятель отца. Вальтер тут же сообразил: черной свинью называли потому, что ее не зарегистрировали в отделе продовольствия магистрата, и решил этим заняться. В течение двух дней он рыскал вокруг сарая и высмотрел все. С помощью Шольтена — кого же еще можно было подбить на такое дело? — он притащил по берегу вверх по течению двухместную байдарку и примерно в ста метрах от сарая собрал ее. Затем расстелил в ней брезент, столкнул лодку на воду и привязал к камню. Выждав, пока из сарая все ушли, ребята пересекли участок и вошли в маленькую пристройку, где находилась свинья. Форст вынул завернутый в кусок холста пистолет штандартенфюрера и двумя выстрелами убил свинью. Потом они поволокли пятипудовую тушу к берегу реки и, обливаясь потом, втащили тяжелый груз в лодку. Форст сел верхом на корму, свесив ноги с обоих бортов, и стал спокойно грести по направлению к городу, в то время как Шольтен, уничтожив все следы, благополучно улизнул. «Добыча недурна», — подумал Вальтер, продолжая не спеша грести. Начало смеркаться. Ниже по течению, в ивняке, невдалеке от города, его ждали Шольтен, Мутц и Хорбер. Они вытащили тушу из лодки, Хорбер искусно разрубил ее, и каждый взял свою долю. Из всех троих только Мутц боялся последствий. — Не волнуйся, — успокаивал его Форст, — если этот тип сообщит о пропаже, его прежде всего спросят, каким образом могли украсть свинью, которой у него не было, ведь никакой свиньи за ним не числится. На следующий день за обедом штандартенфюрер с возмущением рассказывал, что у его приятеля стащили свинью, которую тот даже не успел еще как следует откормить. Он был крайне раздосадован тем, что у него из-под носа стянули жирный кус. — На днях у нас на обед будет свинина, — сообщил Вальтер сухо. И так как на это не последовало ответа, добавил: — Кстати, в твоем пистолете не хватает двух патронов. Вчера я его опробовал. Только теперь штандартенфюрер понял все. Он с ненавистью взглянул на сына и ничего не ответил. Ни слова. А через несколько дней уписывал свинину за обе щеки. Вальтер на день раньше других получил повестку с предложением явиться в казарму. Вечер он провел дома в полном одиночестве. Мать в последнее время чувствовала себя все хуже и хуже и поэтому легла рано. Штандартенфюрера дома не было. Вальтер спустился в погреб и достал бутылку вина. Из письменного стола отца он вытащил пачку египетских сигарет мирного времени, поставил одну из своих заграничных пластинок, удобно растянулся в большом кресле, курил, пил, слушал. После первой бутылки он почувствовал себя на верху блаженства. Запустил стаканом с вином в висевший на стене портрет фюрера: ему почудилось, будто это портрет отца. Стекло разлетелось на множество длинных безобразных осколков. А на стене под картиной появилось темно-красное пятно. «Совсем как кровь», — подумал Вальтер и рассмеялся. Потом он позвал служанку и велел ей все прибрать, а сам с любопытством заглядывал ей под юбку каждый раз, когда она нагибалась. Снова спустился в погреб, принес вторую бутылку, опять поставил пластинку и, наслаждаясь музыкой, отбивал ногой такт. «Смешно, — мелькнуло у него в голове, — немного вина, и жизнь становится куда легче!» Потом, охваченный внезапным приступом ярости, заметался по комнате, срывая со стен картины, опрокидывая вазы и пепельницы, и снова повалился в кресло, задыхаясь от хохота. Внезапно он заметил царивший вокруг беспорядок, позвал служанку и приказал: — Эй, ты, убирай! А когда девушка, окончив уборку, хотела пройти мимо него к двери, поднялся, еле держась на ногах, и схватил ее за рукав… «Вот это и будет гвоздем программы!» — ухмыльнулся он пьяно и облапил ее. Потом девушка сердито сказала: — Твой отец куда любезнее! Его начало мутить, но он не успел дойти до уборной, и его вырвалов коридоре. В ванной, стоя под струей холодной воды, он думал: «Ну и дрянь же я! Ну и дрянь!» Потом быстро поднялся в комнату матери, стал на колени перед кроватью и, зарывшись лицом в одеяло, всё ей рассказал. — Господи, что у меня за сын! — с тоской думала она. — Что это за мальчик такой! Ты знаешь, господи, в каких муках произвела я его на свет, но он готовит мне еще большие муки! Уж лучше бы он молчал! Зачем он говорит мне обо всем этом?» А когда Вальтер стал шепотом рассказывать ей, с каким наслаждением он избил тогда мужчину, мать прошептала про себя: «Будь милостив к нему, о господи!» …После того как дым под аркой моста рассеялся, Шольтен и Мутц не увидели ничего, кроме воронки в береговой гальке. Воронка была около двух метров глубиной, и в нее медленно просачивалась вода. На ферме моста повис клочок маскировочной куртки, в двадцати метрах дальше лежала стальная каска, полная крови. Альберт обнял за плечи Эрнста, и они в полном молчании пошли к восточному берегу.XVI
Молча шли они рядом, пошатываясь от слабости: казалось, вот-вот кто-нибудь из них потеряет равновесие. Только сейчас они ощутили, до чего устали. Смертельно устали! — Пойдем быстрее, — предложил Мутц, — американцы могут оказаться здесь в любую минуту! — Все равно, — ответил Шольтен. — Плевать! Посреди моста он вдруг остановился и посмотрел на Мутца пустым, ничего не выражающим взглядом. — Скажи, Альберт, это ведь ты? Это ведь мы с тобой ходили в школу? Не так ли? Дай мне разок по морде, или пни меня хорошенько в зад, или сделай что-нибудь такое, чтоб до меня дошло. А то мне все кажется, будто я сплю. Или схожу с ума! Не сошел ли я в самом деле с ума? Это же все неправда? Не верю я этому! Шольтен почти кричал: — Не может все это происходить наяву, Альберт! Еще вчера вечером нас было семеро! И вдруг он запел, вернее — завопил, нет, просто завыл: — Сегодня нам принадлежит Германия… Германия… Германия, А завтра весь мир! Потом вдруг совсем тихо: — Мы должны пойти к ним домой, Альберт. Мы должны рассказать об этом их матерям, их отцам. Всему миру… И Шольтен, горестно всхлипывая, как маленький мальчуган, со стоном уткнулся в плечо друга. У Альберта было так плохо на душе, что он не понимал даже, почему спокойно идет рядом с Шольтеном, поддерживает его и лишь пассивно наблюдает, вместо того, чтобы сделать что-нибудь отчаянное, безрассудное. Он только сказал: — Не спрашивай меня, Эрнст, я сейчас ни о чем не могу думать. Я уже ничего не соображаю. Не понимаю самых простых вещей. Знаю только: мне хочется спать. Долго-долго. Я ужасно устал, Эрнст! Так подошли они к восточному берегу. Шольтен снял руку с плеча Мутца, остановился, но Мутц не отпускал его. — Идем, — проговорил он, — идем ко мне домой. — Домой? — переспросил Эрнст, неподвижно глядя перед собой. — Ах да, домой… И тут оба услышали шум мотора. Грузовик! — Это машина идет из города, — удивленно заметил Шольтен. — Не послал ли генерал людей нам на смену? Оба застыли в ожидании. Грузовик остановился как раз возле мальчиков. С машины спрыгнули пять-шесть солдат, из кабины вылез лейтенант Хампель и шумно приветствовал забрызганных грязью, осунувшихся подростков, которые настороженно уставились на него. — Давай! Давай! Тащите гостинец сюда! — крикнул он своим людям. — Да поживее, у меня вовсе нет охоты получить пулю в лоб за два часа до конца войны! Затем повернулся к мальчикам: — Ну, как дела, вояки? Дрались вы роскошно. Генерал приказал выразить вам благодарность! Отчаянные ребята! Два танка, это ведь не пустяк! Да… Ну, а теперь вы можете идти по домам! У лейтенанта в запасе было много подбадривающих словечек, но что-то в лицах ребят, в их нелепо сгорбленных фигурах мешало ему продолжать в том же духе. «И все-таки они здорово держались, — подумал он, — этого тоже нельзя забывать. Молоды еще, нет настоящей солдатской закалки. Их многому нужно учить… Н-да, но только не я, — добавил он мысленно, — только не я. Надо бы им еще что-нибудь сказать, — мелькнуло у него. — Но что? — И вдруг его осенило. — Ну конечно!» — Похвала генерала чего-нибудь стоит, ребята. Он не больно-то часто хвалит! Скажите об этом остальным! Ясно? И тут Шольтен, тот самый Шольтен, который минуту назад совершенно разбитый висел на руке друга, словно очнулся. — А не скажете ли вы это нашим товарищам сами? — спросил он с вызовом. «Чего это он взъелся? — подумал лейтенант. — Подозрительно». В чем дело, он не понимал, но чувствовал: парень раздражен, бунтует. Вот-вот сорвется с привязи. Он хорошо знал таких юнцов, только что с учебного плаца. С ними нужно держать ухо востро. Их строптивость надо подавлять без промедления. Но тут лейтенант вспомнил: скоро конец. Возможно, и ему и этому парню доведется попасть в один и тот же лагерь для военнопленных. И он постарался сохранить добродушие. — Генерал благодарит каждого из вас! Вы держались молодцами! Каждый из вас герой! Ясно? — Они будут очень рады, — сказал Шольтен. — Прямо-таки безумно рады! Потом добавил, сделав такой размашистый жест, что ошеломленному лейтенанту пришлось на шаг отступить: — Господин лейтенант, там, внизу, они ждут награды генерала! Тёмные глаза на худом юношеском лице лихорадочно блестели. Взгляд их был полон ненависти. «Он свихнулся! — мелькнуло у Мутца. — Совсем свихнулся!» — Нам хотелось бы домой, господин лейтенант, — обратился он к Хампелю. — Мы очень устали. — Можете сматывать удочки, — милостиво разрешил тот. Мутц отдал честь, схватил Шольтена за руку и потащил за собой. Эрнст покорно сделал несколько шагов. — Чем занимаются эти свиньи на нашем мосту, Альберт? Не видишь, с чем они там возятся? — внезапно спросил он, остановившись. — Выгрузили ящики, открыли люки в устоях моста и суют туда свой груз. Молча прошли они еще минуты две, еле передвигая ноги. — Ящики, говоришь? — переспросил Шольтен и снова остановился. Затем добавил, дернув Мутца за рукав насквозь промокшей от дождя маскировочной куртки: — Ящики? Понимаешь, чем это пахнет? Мутц уставился в горящие глаза друга. «Свихнулся», — снова подумал он. — Они собираются взорвать мост, — сказал Эрнст и тут же почувствовал, как острая боль пронзила его. — Они хотят уничтожить мост — просто так, чтобы никому не достался, ни нашим, ни вашим! Зачем же мы тогда его обороняли? Во имя чего, спрашивается, погибли те пятеро, что лежат внизу? Взглянув Шольтену в глаза, Мутц, наконец, понял, что взволновало его друга. — Ну, нет! — процедил сквозь стиснутые зубы Шольтен. И с мрачной решимостью добавил: — Наш мост им не взорвать! Клянусь, им это не удастся! «Он сказал «наш мост», — подумал Мутц, — «Наш мост»! — И еще — Да разве он не прав? Разве это, в сущности, не наш мост?» Но Мутц не испытывал при этом никакого волнения и озадаченно стоял перед товарищем. Шольтен дрожал от возбуждения, глаза его горели бешенством. Он резко повернулся и пошел обратно. Мутц попоплелся за ним. Он видел, как Шольтен снял с плеча автомат, вынул магазин, остановился на мгновение, осмотрел его и снова вставил на место. Шольтен слышал, что Мутц идет за ним. Он подумал, что тот хочет удержать его и сделает это, если догонит, а потому бросился бежать. В шести метрах от лейтенанта Шольтен остановился. — Не трогать мост! — сказал Эрнст тихо, и Хампель снова подумал: «Опасный парень!» Но молча повернулся и пошел к своим людям у люков Снаружи оставалось еще четыре ящика. Один из солдат прыгнул в люк и стал их принимать. Двое других на противоположной стороне моста сгружали с машины оставшиеся ящики. Шольтен не отставал от лейтенанта. Тем временем Мутц подбежал к другу и схватил его за рукав. Но Шольтен только обернулся и поглядел на него. Всего лишь какую-то секунду. Мутц сразу же отпустил его руку. — Порядок, Эрнст, — сказал он хрипло, — ты же знаешь, я твой друг! Шольтен остановился перед Хампелем. — Вы не взорвете мост! — повторил Шольтен, взяв автомат на изготовку. Его рука легла на спуск. — Не делайте глупостей! — умоляюще сказал лейтенант, и в глазах у него появился страх. Правая рука скользнула по поясу, нащупывая кобуру. — Не сметь! — угрожающе произнес Шольтен. — И убирайтесь с моста! Тогда все будет в порядке! Люди в люках бросили работу. Они молча ждали, что будет дальше. Хампель повернулся к ним: — Приказа «отставить» не было! Делайте свое дело! И взорвите его, наконец, ко всем чертям! — Его голос сорвался — Здесь вам не детский сад! У нас еще пока война! Лейтенант посмотрел на часы. «Черт возьми! Мы уже давно должны были убраться отсюда!» — подумал он и снова рявкнул на солдат: — Быстро! Кончайте возню! И скорее шнуры по два на шахту. После этого сматываться! Один из солдат снова было протянул руку к ящику. — Руки прочь! — повернулся к нему Шольтен. В тот же миг лейтенант, вытащив пистолет, левой рукой отвел предохранитель. Но спустить курок уже не успел. Его настигла пуля, выпущенная почти в упор из армейского карабина образца «К-98». Альберт Мутц, смертельно бледный, опустил оружие.Альберт Мутц и пятая заповедь

«Не убий!» — гласит заповедь, и Альберт Мутц верил, что никогда в жизни, даже в помыслах своих, не нарушит ее. На раскрашенной иллюстрации к Ветхому завету, который стоял в книжном шкафу у матери, было изображено, как господь гневается на Каина, убившего Авеля. Каждый раз, когда маленький Альберт разглядывал картинку, его пугал испепеляющий взгляд бога. И он верил, что никогда в жизни никого не убьет. Но когда ему было шесть лет, он задушил бы своего черного котенка, если бы вовремя не вошла его мать. Котенок мирно лежал у него на коленях, а когда ему захотелось соскочить и мальчик стал его удерживать, котенок вцепился коготками Альберту в руку. Альберт выпустил было его, потом схватил обеими руками и вне себя от боли и ярости стал душить.

Мать молча дала ему пощечину и оставила одного. Он стоял, а слезы градом катились у него по щекам. Но вдруг он почувствовал, что котенок, мурлыча, потерся об его ногу. В порыве раскаяния мальчик поднял его, прижался лицом к мягкой шерстке, и ему страстно захотелось как-нибудь загладить свою вину. Мать с тихой ласковой улыбкой наблюдала за ним. За ужином она поставила перед сыном тарелку с картошкой и овощами и как бы между прочим заметила: — А колбасу я отдала котенку. Ведь я правильно поступила, Альберт? Он мужественно кивнул в ответ, хотя только что глотал слюнки в предвкушении вкусного ужина. Вечером в постели он молился: «Добрый боженька, прости меня за то, что я мучил котенка, сделай так, чтобы котенок на меня больше не сердился». И добрый боженька доказал маленькому Альберту, что он услышал его молитву. Когда мать вошла в комнату, чтобы окропить мальчика святой водой, котенок тихонько прокрался за ней на своих мягких лапках, вспрыгнул на кровать, улегся на плечо Альберта, прижавшись бархатной спинкой к щеке мальчика, и замурлыкал. Альберт заснул, счастливый. А мать погасила свет и, выходя из комнаты, растроганно улыбнулась. В тот день мальчик понял лишь одно: нельзя мучить животных. И когда два дня спустя к нему пришел товарищ и они вместе стали рассматривать мамины альбомы с фотографиями, возник спор. Оба хотели смотреть один и тот же альбом. И тогда Альберт, ослепленный яростью, схватил тяжелый альбом и изо всей силы ткнул им приятеля в живот. Тот завопил, будто его режут. Мать отшлепала своего отпрыска выбивалкой от ковра, которая в ту минуту оказалась у нее в руках. На следующий день они пошли в церковь. Мать остановилась перед изображением жутких мучений грешников в чистилище. Мальчик долго смотрел на эту страшную картину, освещенную слабым светом мерцающих свечей. — Что они делают, мама? — спросил Альберт с таким ужасом, что мать едва удержалась от улыбки. — Они искупают свои грехи, Альберт. — Что значит — искупают? — Когда кто-нибудь совершит зло, то боженьке становится очень больно. Ведь боженька, создавший и тебя и меня, любит всех нас. И он не хочет, чтобы мы причиняли друг другу зло. Это его огорчает. Делать зло — значит совершать грех. А в грехах нужно каяться. Их следует искупать. Поэтому-то люди, которые совершают зло, испытывают страх. Это и называется нечистой совестью. — Я никогда не буду больше делать зло, — пообещал Альберт. — Пойдем отсюда, мама! — И они вышли. С тех пор минуло два года, мальчик получил в подарок духовое ружье, о котором давно и страстно мечтал. Его подарила одна из теток; мать была против такого подарка. В коридоре квартиры Альберт устроил тир. На входной двери мать повесила толстый войлочный ковер и приколола к нему мишень. Альберт стрелял, рядом стоял его приятель, тому тоже не терпелось стрельнуть хоть разок. Прождав с полчаса, он, наконец, сказал: — Альберт, позволь и мне выстрелить! Но Альберту хотелось сделать еще три выстрела, потом еще три и так без конца, пока приятель не потерял терпения. Он схватил ружье за ствол, Альберт держал его за приклад. Так стояли они некоторое время, вцепившись в ружье, и громко спорили, кому стрелять. Вдруг Альберт неожиданно резко рванул ружье к себе, и его приятель сразу же с ревом отступил. Мушка на конце ствола разодрала мальчику руку во всю ширину ладони. Мальчуган орал, уставясь на рану, из которой на пол стекала струйка крови. Альберт оцепенел. Он насмерть перепугался и чувствовал себя виновным. Забинтовав руку пострадавшему и сведя его к врачу, мать снова отколотила своего отпрыска. Она всегда с болью в сердце решалась на подобные экзекуции. Он мог посреди побоев вдруг сказать своим тоненьким голоском: «Хватит, мама!» И она спешила поскорее выйти из комнаты. Но она считала телесные наказания необходимыми. После обеда Альберт опять кинулся было искать ружье, но мать объявила ему: — Я подарила его твоему другу, Альберт. Оно принесло ему столько страданий, что он вполне заслужил его. Ты согласен со мной? И Альберт, снова проглотив слезы, храбро кивнул. Жили они очень скромно. На те ограниченные средства, которые мать ежемесячно получала, она должна была не только вести хозяйство, одевать мальчиков и покупать им учебники. Ей приходилось еще и выплачивать долги мужа. Об этом она говорила неохотно… Когда Альберту было около года, муж, суливший ей вначале золотые горы, бросил ее с малолетними сыновьями, оставив в наследство неоплаченные долги. Госпожа Мутц справилась с этим. Ее обаяние, мужество, а главное, сознание, что она нужна своим мальчикам, помогли ей. Самым памятным в ее жизни был тот день, когда ее Альберт праздновал свое десятилетие. Утром радио объявило, что немецкие войска вошли в Польшу для защиты каких-то там интересов Германии, потом восемнадцатилетний Конрад Мутц сообщил матери, что он подал заявление в офицерское летное училище, и, наконец, последний кредитор написал ей, что он готов удовлетвориться полученной им суммой и в дальнейшем имеет намерение жениться на госпоже Мутц, если последует ее благосклонное согласие. И все это в один день! Вечером мать долго сидела у раскрытого окна, пытаясь понять, что же принес ей этот день. Хорошее или плохое? Для нее, пожалуй, хорошее. И все же страх перед войной, страх за старшего сына омрачал все. С нежностью глядела она на маленького Альберта, играющего на полу со своими солдатиками. «Слава богу, хоть его-то у меня не возьмут! Хоть он-то останется со мной!» — думала она. Позже она написала последнему кредитору мужа обстоятельное письмо. Она благодарила его за великодушный поступок и давала понять, что его предложение льстит ей. Тем не менее, говорилось далее в письме, она видит цель своей жизни в том, чтобы поставить на ноги сыновей и сделать их достойными людьми. Она надеется, что может считать его своим другом, хотя и не имеет возможности принять его предложение. Когда она уже сидела за туалетным столом и расчесывала свои длинные светлые волосы, вошел Альберт, чтобы пожелать ей спокойной ночи. Взглянув на нее, он остановился, пораженный: — Какая ты красивая, мама! Она рассмеялась: так по-детски это прозвучало. И тут Моника Мутц поняла: слова эти были самым хорошим, что принес ей этот день. Через две недели Конрад Мутц направился к месту назначения. Вначале он писал длинные письма. Потом они стали короче, и все чаще в них попадались фразы вроде: «Если ты случайно сможешь раздобыть копченой колбасы, а также пирог, который не так скоро портится…» Или: «На сигареты я могу выменять у моих товарищей мясные талоны». И Конрад и Альберт привыкли к тому, что они всегда были сыты. Мальчики не знали роскоши, но не видели и нужды. Им никогда не приходилось ложиться спать голодными. Рубашки и штаны часто бывали заплатаны, носки заштопаны. Но рваного на них никогда ничего не было. Далеко за полночь, когда оба мальчика уже спали, мать все еще сидела за швейной машинкой, шила, штопала. Они и представления не имели о том, как ей удается свести концы с концами. Однажды Альберт пришел домой очень довольный собой и, помахав бумажкой в пять марок, сказал, сияя от гордости: — Это я дарю тебе! Он был очень удивлен, увидев, что мать ничуть не обрадовалась. Наоборот, она казалась даже расстроенной. — Откуда у тебя деньги, Альберт? — Я собирал ягоды вместе со всеми, — ответил он испуганно. — Мы разложили их в пакетики и продали, по тридцать пфеннигов за пакетик. А деньги потом поделили. Что ж тут дурного, мама? Нет, в этом нет ничего дурного. Но ей бы этого не хотелось. Ей не нравится, когда у мальчиков водятся деньги, и вообще она не хочет, чтобы он имел дело с деньгами. Если ему что-нибудь нужно, пусть придет к ней и скажет. Разве она могла объяснить или хотя бы дать ему понять, что боится, как бы со временем он не стал походить на отца? Могла ли она наказывать его за то, что он собрал ягоды и продал их, как это делают все дети? Нет, он не понял бы ничего, ведь он не знал, что произошло с его отцом. Но когда-нибудь ему это станет известно. — Послушай, Альберт, — обратилась она к мальчику, — не знаю, поймешь ли ты меня правильно. У нас ведь тоже есть гордость, верно? И будет очень неприятно, если ты предложишь какой-нибудь женщине купить у тебя ягоды, а она потом станет говорить: «У Мутцев бог знает до чего дошло, меньшому уже приходится торговать ягодами, чтобы добыть деньги». Альберт выжидающе смотрел на мать, но она ничего больше не добавила. Тогда он сказал: — Понимаю, мама. Мы не можем этого себе позволить. Я предложу ребятам, чтобы мы разделились на две группы. Одни будут собирать, другие — продавать. Я буду только собирать, и тогда никто ничего не узнает. И мать поняла, что ее мальчик был не только милым, сердечным и задиристым, но и обладал той гибкостью ума, которую даже кредиторы отмечали у его отца. «Боже милосердный, — молилась она в этот вечер, — пусть только он возьмет лучшее от отца и от меня! И больше мне ничего не надо!» Альберт мог быть жадным и одновременно расточительным, как мот. Если он видел на школьном дворе мальчика, который голодными глазами впивался в его завтрак, он мог как бы мимоходом с величественным видом отдать ему весь сверток, сказав: — Возьми, дарю его тебе! Такую же щедрость он предполагал и в других. Как-то одному из его приятелей в день рождения подарили десять марок. До этого Альберт никогда не видел такой крупной купюры. Ему тотчас же пришла в голову идея: во-первых, лучше всего на эти деньги купить игрушек, и, во-вторых, сделать это надо сразу же после уроков. Вместе с приятелем они отправились в магазин. Альберт выбрал себе прекрасный танк, который мог на ходу вести огонь из двух пушек и легко брал препятствия. Обладателю десяти марок Альберт великодушно рекомендовал купить маленький пароходик. Он поглядел, как бумажка в десять марок исчезла в кассе, потом зажал свой танк под мышкой и отправился домой. Только когда увидел мать, у него зародилось легкое сомнение. Одобрит ли она подобную операцию? Мать не одобрила и била его до тех пор, пока он не объявил, что до конца постиг разницу между «твоим» и «моим». Тогда она отправила его в магазин, где он вернул танк и получил обратно деньги, и эти несколько марок она послала родителям приятеля. Такой рассерженной Альберт видел свою мать очень редко. На будущее он зарекся приобретать что-либо самостоятельно. У него появился даже страх перед деньгами. И ко Дню матери он не стал покупать ни салатницу, ни фарфоровую пудреницу, а решил сам сочинить и подарить ей стихотворение. Но оказалось, что времени у него не хватает и он не успеет придумать конец. Тогда он вынул из шкафа книгу в красном переплете и списал оттуда недостававшую строфу. Затем сравнил ее со своими стихами, и они совсем ему не понравились. Поэтому он выбросил свои стихи и списал из красной книги все стихотворение целиком. А перечитав его вслух, пришел в полный восторг. Стихи звучали превосходно! Мать была рада подарку и даже посмеялась, хотя Альберту казалось, что в стихотворении не было ничего смешного. — Ты это сам? — спросила она. И он кивнул, вспыхнув от тщеславия. — Да. Я сам списал их из красной книги. Знаешь, из той? Ну, конечно, она знала. Ее десятилетний сын посвятил ей стихотворение Иоганна Вольфганга Гёте «Ганимед». До четырнадцати лет Альберт был обязан сообщать матери, где он проводит свободное время. Вечерами ему полагалось сидеть дома. Потом она стала менее строгой, однако все же хотела знать, где он бывает. Но он и без того почти безвыходно торчал дома. Его любимым местом был чердак. Другие мальчики увлекались электрической железной дорогой, Альберт же был страстно привязан к своим оловянным солдатикам. Для школы он делал только самое необходимое. Быстро покончив с домашними занятиями, он стремительно несся на чердак и погружался в игру. Какими бы скромными ни оказывались рождественские подарки матери, все же двух или трех солдатиков он обычно получал. Да и тетки — их у него было не менее пяти — знали его страсть и не обманывали его надежд. На чердаке был построен настоящий город из старых картонок от обуви, холщовых лоскутков и оберточной бумаги. По его улицам маршировали длинные колонны войск с оркестром во главе. За городом возвышался холм, откуда генералы обозревали поле боя. Желая сделать сыну рождественский подарок, мать по ночам возилась на чердаке и своими руками смастерила это поле. Здесь были окопы, надолбы, несколько блиндажей, множество лощин и высот. Игрушечные солдаты в немецких, английских и французских мундирах стояли друг против друга, там был даже один марокканец в белом бурнусе, угрожающе вскинувший винтовку. Гусары, размахивая сверкающими саблями, шли в атаку бок о бок с пехотинцами в серо-зеленых мундирах. У Альберта был медицинский пункт с санитарными машинами и носилками, зенитная установка с прожектором, а также множество орудий и несколько тяжелых танков. Орудия, заряженные резиновыми пробками и пистонами, стреляли на добрых два метра. В углу чердака находился блокгауз, гарнизон которого состоял из трапперов. У блокгауза рыскали индейцы, некоторые из них плясали вокруг столба, к которому был привязан бледнолицый, еще не потерявший надежды на спасение. Все эти богатства Мутц держал на чердаке и там же устраивал и свои сражения. Если же в игре принимали участие еще один или двое товарищей, его восторгу не было границ. При этом необходимо было соблюдать одно правило: войско, которым командует Альберт, непременно должно было побеждать, независимо от того, французы это, немцы, англичане, трапперы или индейцы. И друзья без возражения принимали это условие. Прежде чем вывести войска на линию огня, Альберт произносил перед ними пламенную речь. При разделе оружия, главным образом пушек, он старался получить именно то, что по опыту считал лучшим. И он никогда не задумывался над тем, есть ли какая-нибудь связь между сражениями, бушевавшими на чердаке, и войной, которая в это время потрясала мир. По средам после уроков он ходил на военную подготовку в молодежный клуб или на спортивную площадку. Ходил он туда в общем очень охотно, так как там часто пели веселые песни и время от времени проводили военные игры, по существу мало чем отличавшиеся от игры в индейцев. Как-то в школу пришел человек в серо-зеленой форме и провел беседу о войне и о доблести немецкого оружия. В заключение он спросил, кто из них хотел бы стать офицером. Все, кроме Мутца, выразили готовность. — А ты кем хочешь быть, мальчик? — Мне бы очень хотелось стать машинистом. — Как раз за день до этого Альберт совершил поездку по железной дороге. — Но Германии нужны солдаты, почему же ты не хочешь быть солдатом? — Потому что мне больше хочется стать машинистом, — упрямо повторил Мутц. Тут вмешался штурмбанфюрер и под смех всех остальных сказал: — Мутц — размазня, вот почему он и не хочет быть солдатом! Альберт не привык, чтобы его так называли, да еще в присутствии других. Слезы брызнули у него из глаз. — Я не размазня! — крикнул он, схватил фуражку и выбежал из класса. Штурмбанфюрер заорал, чтобы он вернулся, но Мутц упрямо шагал к выходу. Спотыкаясь, сбежал по каменной лестнице и вышел на улицу. На другой день штурмбанфюрер встретил мать Альберта и, сделав вид, что не заметил ее, не поклонился ей. Мать лишь вскользь упомянула об этом дома, а когда Альберт, встретив его на улице, нарочно прошел совсем рядом, нахально уставившись на него, и демонстративно не поздоровался, штурмбанфюрер потребовал объяснения, он обозвал Альберта жеребенком и заявил, что и на него найдется узда. Мутц тихо, но решительно ответил: он не видит никаких оснований здороваться с штурмбанфюрером, поскольку тот оскорбил его мать. На следующий день пришла повестка, где черным по белому было написано, что за неуважение к властям Мутц лишается права носить форму. С той же почтой мать получила письмо от старшего сына. Его отметили высокой наградой. С этим письмом госпожа Мутц отправилась в штаб. — Послушайте, — сказала она штурмбанфюреру, — я не позволю, чтобы такая тыловая крыса, как вы, издевалась над моим мальчиком, в то время как мой старший сын ежедневно рискует жизнью на фронте. — И ушла. Штурмбанфюрер не успел и рта раскрыть. Но все обошлось. А учитель Штерн заметил как-то на уроке, что немецкий народ, по его мнению, нуждается в машинистах даже больше, чем в солдатах. — Правильно! — сказал Форст вполголоса и ухмыльнулся. Штерн покраснел. — Ты меня не так понял, Форст, — сказал он мягко. А Альберт Мутц был очень доволен. Откуда ему было знать, что двумя днями позже к учителю Штерну явится господин в штатском и спросит его, что он имел в виду, говоря о машинистах? — Только то, что я сказал, — сухо ответил Штерн. Может быть, он сомневается в благополучном исходе войны? Штерн заявил, что в исходе войны у него нет никаких сомнений. На этом беседа и кончилась. Но Штерн долго ломал себе голову, «то же из класса так ему удружил. А между тем это был сам Альберт Мутц. Он с радостью рассказывал всем, кого встречал в тот день, как учитель Штерн поддержал его. Спустя две недели в школу явилась комиссия. Первым по расписанию был урок Штерна. Ровно в восемь часов он вошел в класс в сопровождении троих пожилых мужчин — двоих штатских и одного военного. Класс встал, затем дежурный Мутц торжественно произнес очередной лозунг: — Молодежь — надежда нации! Это прозвучало очень эффектно. Но с задней парты отчетливо раздалось: — В братской могиле! Воцарилась тишина. Штерн покраснел. Трое мужчин с удивлением взглянули на него. — Странно, очень странно, — сказал, наконец, один из них, — вы этого не находите, коллега? — И он снова посмотрел на Штерна, который мучительно искал выхода из положения. — Форст, — обратился он к Вальтеру, — что за глупое замечание и что ты хотел этим сказать? Вальтер Форст медленно поднялся со скамейки. Теперь ему тоже было не по себе. Ведь его слова предназначались только для сидящего перед ним Эрнста Шольтена, а вовсе не для комиссии. Но теперь он должен ответить так, чтобы вся эта история не приобрела политической окраски. Но что сказать? И тут его осенило: — Господин учитель, я сказал это потому, что Мутц мне не симпатичен. Мне хотелось, чтобы это замечание приписали ему. На одно коротенькое мгновение Мутц обернулся и подмигнул Форсту. «Слава богу, — подумал Форст, — он понял меня и смекнул, в чем суть!» Но дело этим не кончилось. Теперь Мутц сам подтвердил, что он и Форст терпеть не могут друг друга, а учитель Штерн, обращаясь к комиссии, добавил: — Никакого сладу с ними нет. Это лучшие ученики, но они все время стремятся перещеголять друг друга. Обвиняют друг друга в самых ужасных вещах и всячески стараются напакостить один другому. — Странно, дорогой коллега, — повторил тот же член комиссии, — Это бросает тень на всю школу. — И, обратившись к Форсту, спросил: — Кто твой отец, мальчик? — Штандартенфюрер, — любезно ответил Форст. Член комиссии повернулся к Штерну и понимающе посмотрел на него. Тот пожал плечами, как бы говоря: увы, тут ничего не поделаешь. Впрочем, во время занятий у комиссии сложилось хорошее впечатление о классе. После ее ухода Штерн сделал то, чего не позволял себе еще никогда в жизни. Быстрыми мелкими шажками подошел к Форсту и влепил ему пощечину. — Негодный мальчишка, до чего же у тебя длинный и дерзкий язык! Ты осрамил весь класс! И Форст, который не давал никому дотронуться до себя, только кивнул головой, будто хотел сказать: «Я заслужил это!» В один прекрасный день приехал в отпуск Конрад Мутц. Альберт в таком восторге шествовал рядом со своим братом, одетым в мундир лейтенанта, что у Конрада не хватило духу переодеться в штатское. Каждый раз, когда мимо проходил солдат и молодцевато отдавал честь старшему брату, Альберт заливался краской. Но постепенно он освоился с этим и под конец даже, случалось, толкал брата локтем в бок, говоря: — Ты видел? Этот нас не приветствовал! Конрад только смеялся. Но дома, когда он разговаривал с матерью, он даже не улыбался. Они беседовали так тихо, что Альберт почти ничего не мог разобрать. Вскоре лейтенант Мутц уехал, а Альберт в тот же вечер побежал на чердак — он так долго там не был! Здесь он застал полный разгром. Солдатики растоптаны и изломаны, орудия покорежены. Все сооружения разрушены каким-то безумцем, все опустошено, раздавлено чьим-то тяжелым сапогом. С ревом помчался Альберт за матерью. — Глупый Конрад, — сказала она, растерянно оглядывая чердак, — будто этим можно что-нибудь изменить. — Но Альберт так и не понял, что она имела в виду. Вероятно, он еще долго переживал бы это, если бы в день своего рождения — ему исполнилось четырнадцать лет — не подружился с одной девочкой, новенькой из их класса. Она была шатенка, одного с ним роста и понравилась ему с первого взгляда. В день своего рождения он с разрешения госпожи Мутц пригласил новенькую на чашку кофе. Девочку звали Траудль, она была из состоятельной и почтенной семьи. В окрестностях их городка у ее родителей было имение, и они послали сюда Траудль, когда воздушные налеты стали учащаться, и теперь девочка жила под присмотром своей бабушки и тетки в большом загородном доме. Через два дня Альберт с восторгом принял ответное приглашение. На него произвели огромное впечатление и большой парк, посередине которого был расположен помещичий дом, и маленький бассейн, и ухоженный газон, и просторный птичник. Они мирно играли в мяч всю вторую половину дня. И когда Траудль в легком полотняном платьице, дурачась, бежала вприпрыжку за мячом, он окончательно понял, что она ему нравится. Между тем мяч угодил в бассейн. Мутц ринулся было искать палку, но девочка со смехом и визгом прыгнула в воду и выбросила мяч на лужайку. А когда она вылезла из бассейна, мокрое платье облепило ее, четко обрисовывая стройную фигурку. Альберт уставился на девочку. — Ха-ха-ха! — прыснул он и с трудом проговорил — Какая ты смешная! Он буквально задыхался от смеха. Траудль оглядела себя, бросилась в дом и остановилась в прихожей перед большим зеркалом. С ужасом разглядывала она свое отражение. Потом побежала по лестнице в свою комнату, упала на кровать и разрыдалась. А Альберт сидел внизу у бассейна и терпеливо ждал. Наконец он пошел за ней в дом. Она спускалась ему навстречу с лестницы в легком цветастом платье. Остановилась на верхней площадке, глубоко оскорбленная: — Ты просто глупый мальчишка! Уходи отсюда! Альберт удивленно взглянул на нее и смутился: он понял — его выгоняют! Красный от стыда и возмущения, выбежал он из дома, сел на велосипед и так нажал на педаль, что оборвалась цепь. Теперь вдобавок ко всему он должен еще и тащиться пешком! Вечером на вопрос тети, почему же милый мальчик не остался пить кофе, девочка, чуть не плача, поделилась с ней своей обидой. Тетя внимательно выслушала ее и улыбнулась. — А по-моему, Альберт Мутц хороший и прямой мальчик. Совсем не такой, как другие. Я бы на твоем месте еще раз подумала обо всем. Мальчики, которые в таких случаях смеются, нравятся мне больше других. Альберт тоже рассказал матери все, что произошло у бассейна. — Вот видишь, ты тоже смеешься, мама! — возмущенно воскликнул он. — Конечно, Альберт, — ответила мать со смехом. — Я отлично понимаю, почему тебе было смешно! Но она сочла правильным тут же объяснить сыну, почему девочка обиделась. И, не ограничиваясь этим, рассказала ему, для чего природа создала два пола — мужской и женский. Альберт был очень польщен: мать разговаривала с ним, как со взрослым. Но до конца так и не уяснил всего. — Когда-нибудь тебе это станет понятно. Мне бы только хотелось, чтобы ты всегда приходил ко мне со всем, что у тебя на сердце. И он обещал. Как-то Вальтер Форст объявил: — Мутц еще совершеннейший младенец, у него ярко выраженное позднее зажигание! Мутц считал это позорным и долгое время страдал. А потом забыл. Но однажды на уроке им дали перевести латинскую фразу, в которой упоминалось, что у древних юноши и девушки купались вместе и без одежды, причем только девственники. Альберт немедленно подал голос: — А почему, фрейлейн? Почти весь класс разразился хохотом. Мутц покраснел. Учительница в наказание оставила его на час после уроков, а ему, как назло, хотелось поиграть со всеми. Он возмущенно рассказал об этой истории матери, которая попыталась все объяснить ему. — Пожалуйста, пойди к директору и уговори его, чтобы отменили наказание, — попросил Альберт. Но мать решительно отказалась: — Ничего с тобой не станется за этот час. И действительно, этот час прошел даже интересно. Учительница принесла с собой огромную стопку тетрадей для проверки и предложила Альберту перевести несколько латинских фраз. Некоторое время он прилежно работал, потом посмотрел на парту, где сидела учительница. Лучи заходящего солнца бросали неяркий отсвет на ее темные волосы. Серьезная, сосредоточенная, углубившаяся в работу, она показалась вдруг Мутцу очень симпатичной. — Фрейлейн! — тихо позвал он. Она не слышала. Тогда он повторил немного громче: — Фрейлейн! Учительница подняла голову. — Я хочу извиниться. Я… — он помедлил. — Я ведь задал этот вопрос совершенно всерьез. Досадно, что я так глуп, но теперь моя мама мне все объяснила. Учительница подошла к нему и села рядом за парту. — Послушай, Альберт, когда все ученики засмеялись, я решила, что все это было подстроено. Теперь мне и самой неприятно! Ты сердишься на меня? Альберт снова покраснел: так с ним не разговаривал еще никто из учителей. — Нисколько! — ответил он смущенно. — Ну, а теперь ступай домой и передай от меня привет твоей маме. Я напишу ей. — Когда он выбежал из класса, она улыбнулась ему вслед. На следующий день мать получила два письма. В одном сообщалось, что ее сын Конрад попал в плен к англичанам. В другом учительница писала, что мать Альберта может им гордиться. Всем сердцем порадовалась она обоим письмам. Конрад был теперь в безопасности. Война для него закончена. Перед отъездом на фронт он сказал матери: «Мама, я боюсь, что меня убьют». — Уповай на него, Конрад! — ответила она, указывая на черное распятие над дверью. Перед летними каникулами Альберт упросил мать, чтобы она отпустила его с Эрнстом Шольтеном на юг к большому озеру. Они поедут на велосипедах, спать будут в палатке и вообще вести себя благоразумно. Ей-богу! Мать провела несколько бессонных ночей, пока, наконец, не разрешила сыну эту поездку. И вот все позади! Наступили каникулы. Да какие чудесные! С плащ-палаткой, огромным рюкзаком и целым коробом наставлений и добрых советов Эрнст Шольтен и Альберт Мутц пустились в путь-дорогу. Добравшись до места, они пристроили свои велосипеды, наняли лодку за смехотворно низкую цену и, счастливые, доплыли до маленького пустынного островка с отлогим каменистым берегом. Разбили палатку, приготовили на спиртовке свой первый чай. Эрнст Шольтен достал флейту и заиграл. Утром они вылезли из палатки в тренировочных костюмах, скинули брюки, майки и бросились в ледяную воду. Потом позавтракали и, наконец, в полном блаженстве растянулись рядышком на берегу, подставив обнаженные тела солнцу. Это были ничем не примечательные и все же незабываемые дни. Друзья мало разговаривали, ни о чем не спорили и подолгу торчали в воде или носились по острову. Как-то после обеда они снова разлеглись на берегу и вздремнули. Внезапно Мутц проснулся. Эрнста Шольтена рядом не было. Мутц поискал глазами лодку, ее тоже не оказалось на месте. Успокоившись, он хотел было снова повернуться на бок, но тут же поднялся и стал всматриваться в даль. Лодки нигде не видно. Озеро было неспокойно, мелькали белые барашки волн. Вдруг Мутца охватил необъяснимый страх. «С Эрнстом что-то случилось, — подумал он. — Наверняка с ним что-то случилось! Иначе я бы его увидел». Он пробежал вдоль острова, оглядывая каждый уголок, но не нашел друга. Альберт заплакал. — Эрнст утонул! Что же мне делать? Наверняка он утонул! Озеро не казалось ему теперь уже приветливым и ласковым, волны стали угрюмыми, а ветер холодным. Он начал молиться. «Господи, сделай так, чтобы с Эрнстом ничего не случилось! Обещаю тебе уйти в монастырь, если с ним ничего не случится!» И как раз в этот момент он заметил вдали крохотную лодку и мелькающие весла. «Вот негодяй! — подумал Мутц. — Он там катается на лодке, наслаждается, а мне теперь идти в монастырь или мучиться оттого, что я не сдержал слова!» И когда Эрнст причалил к берегу и вышел, Альберт сказал ему, что по его милости он должен теперь уйти в монастырь. «У Мутца солнечный удар, — подумал Шольтен, — с ним нужно обращаться помягче». — Кому ты пообещал? — спросил он его вкрадчиво. — Кому, кому? Богу, конечно! — буркнул Мутц. Шольтен озадаченно свистнул сквозь зубы. У него это здорово получалось. «Дело дрянь», — подумал он, а вслух сказал: — Но ты же не знаешь, захочет ли еще бог, чтобы ты шел в монастырь? — Конечно, — ответил Альберт мрачно, — но слово есть слово, это ясно как день! — Ну, у тебя еще есть время. Ты можешь все спокойно обдумать. На том основании, что привольному мальчишескому житью Альберта скоро конец, Эрнст на следующее утро предложил ему поехать и осмотреть рыбачьи сети. В первой же сети они нашли двух отличных сигов и этим удовольствовались. Через день, опять-таки ссылаясь на то, что предстоит суровая монастырская жизнь, Шольтен уговорил своего друга взять из сетей еще три рыбы. На четвертый день к острову причалил старик стражник, разъяренный, взмокший от пота. Эрнст Шольтен встретил его совершенно спокойно, даже отдал ему честь. «Дисциплинированные ребята, — подумал старик, — такие не станут красть. Хотя…» — Да нет же, мы терпеть не можем рыбы, — с ледяным спокойствием заверял его Эрнст и покосился на торчащий меж скал ивовый прут, на котором висели четыре сига, вынутые этим утром из сетей. Они предложили стражнику свои услуги. Они готовы каждое утро объезжать сети и проследить, не возится ли кто-нибудь около них. — Это были двое парней, — сказал стражник. — Обоих видели. Затем он снял фуражку и вытер лоб большим красным платком. Они угостили его чаем и проводили на своей лодке довольно далеко по озеру. — Ну, дружок, — ликовал Шольтен, — теперь мы можем хоть каждый день на законном основании очищать сети с благословения полиции. Но Альберт был уже сыт по горло. Да и все имеет свой конец. Даже чудесные каникулы. И вот настал день, когда Альберт вернулся домой. Там его ждало письмо от тетки. Если Альберт хочет, он может провести у нее две недели и помочь при сборе урожая. Еще бы! Конечно, хочет. В школе его наверняка отпустят. Через два дня он уже уехал в усадьбу тетки и две недели работал там до седьмого пота. Чудесное было время. Большинство батраков в усадьбе были французы, поляки и югославы и только один немец, почти семидесятилетний старик. В хлеву работали одна француженка, две польки и три немецкие девушки. Все они, казалось, ладили друг с другом. Еды хватало, и во время работы их никто не подгонял, хотя бы только потому, что тетя панически боялась батраков из иностранцев. Вечерами батраки сидели на гумне и пели, кто-нибудь принимался играть на гармонике, и тогда остальные пускались в пляс. Польки, вальсы и другие веселые мелодии сменяли одна другую. Появлялась бутылка водки, и голоса мужчин становились громче, а иногда возникали небольшие стычки. Альберту не разрешалось ходить на гумно. В такие вечера его тетя сидела в большой кухне за натертым до блеска дубовым столом и читала газету. Рядом на скамейке лежал огромный пистолет. Батраки нагоняли на нее такой страх потому, что она не понимала их языка. Женщины-батрачки также частенько сиживали на гумне, и никто не обижал их. Во всяком случае, ничего не делалось против их воли. Раза два среди ночи тетка вызывала стражника, чтобы он пришел и приглядел за ними. Тот подкатывал на велосипеде к усадьбе и сразу шел на гумно. Кто-нибудь подносил ему бутылку, он отхлебывал и, удовлетворенный, уезжал. Как-то вечером Альберт, несмотря на запрет, все же пошел туда. Вначале никто не обратил на него внимания, потом кто-то подвинулся, жестом приглашая его подсесть. Альберт слушал гармонику, подпевал вполголоса и чувствовал себя отлично. Когда по кругу пошла бутылкаводки, не обнесли и его. Сивуха обожгла горло, и Альберт, сделав два-три глотка, поперхнулся. Мужчины со смехом похлопали его по спине. Потом начались танцы. Притоптывая ногами по неровному полу, мужчины двигались под музыку и вдруг расступились, образовав широкий круг. Музыкант встал, растянул мехи гармоники, и сразу же послышалась веселая зажигательная мелодия. Мелькнула фигура женщины. Альберт узнал француженку, батрачку, ту, что работала в хлеву. Она стояла в середине круга босая, в светлой юбке и огненно-красной кофте, с высоко поднятыми руками. И вдруг она начала кружиться, все убыстряя темп, пряди черных волос упали на лицо. Вихрем неслась она по кругу, то приближаясь к мужчинам, то увертываясь от протянутых к ней рук, открывая в хищной улыбке два ряда жемчужных зубов. А в глазах её был манящий блеск. Наконец музыка оборвалась. Женщина, шатаясь, подошла к хороводу и упала в объятия мужчины, стоявшего бл иже всех к ней. Парень опять заиграл на гармонике, мужчины запели. После минутного отдыха француженка снова вышла на середину с сигаретой в руке. Она запела какую-то грустную песню, слова которой были непонятны Альберту. Потом музыкант заиграл что-то веселое, быстрое, женщина бросила сигарету, наступила на нее босой ногой и пустилась в пляс. Она кружилась, юбка взлетала высоко вверх, и мужчины, облизывая пересохшие губы, пялили глаза на ее голые ноги и стройные бедра. Альберт почувствовал, что общее возбуждение передалось ему, и поспешил уйти. В дверях он задержался и оглянулся еще раз, словно желая запомнить всю эту картину: плясунья в кругу изголодавшихся по женщинам мужчин. В эту ночь Альберт не мог уснуть. Он понял теперь, что имела в виду мать, когда говорила: «Это приходит к каждому, придет и к тебе!» Все увиденное будоражило и одновременно отталкивало его. Особенно отвратительными казались ему мужские лица. Спать он не мог. В конце концов он оделся, сел на велосипед и поехал. Он ехал вдоль ручья, и ему в голову пришла мысль искупаться. Он оставил велосипед в канаве, разделся, бросился в холодную воду и нырял до тех пор, пока его не стал бить озноб. Тогда он вернулся в усадьбу. Проходя мимо комнаты, где жили батрачки, он увидел в окне свет. И заглянул туда как раз в тот момент, когда женщина, танцевавшая на гумне, стягивала с себя рубашку. «Она очень хороша, — подумал он, — лучше, чем я предполагал. — И мысленно добавил: — А купанье-то не помогло». Но стоило ему лечь в кровать, как он почувствовал вдруг страшную усталость и быстро уснул. На. следующий день Альберт уехал домой. Дома его ждала приятная неожиданность: Траудль при встрече снова ответила на его приветствие, была, мила и любезна, как раньше, до всей этой истории с бассейном. Вечером они пошли в театр. Заезжая труппа давала «Ифигению». Траудль с увлечением следила за игрой, в то время как Альберт немного скучал. Когда на сцене произносились значительные и возвышенные тирады, он всё поглядывал на девочку. Потом проводил её домой. Они ехали рядом, и Альберт думал, что иногда велосипед бывает помехой. Перед подъемом, который он обычно брал легко, Альберт сошел с велосипеда, но Траудль не поняла его; быстро перебирая ногами, она въехала наверх и остановилась там, поджидая, пока он подойдет. «Никакого чутья, — подумал Альберт, — но я все равно ее поцелую!» У главного входа в парк это, наконец, свершилось. Он осторожно коснулся ее губ. Она не сопротивлялась. Совсем легкое, как вздох, мимолетное прикосновение. И все же как это много! Альберт почувствовал что-то нежное, воздушное и вкус какого-то крема на губах, когда прикоснулся к ним языком. «И все-таки что-то не то, — подумал он. — Это не настоящий поцелуй!» Пока он размышлял, Траудль, стоя в воротах, уже протягивала ему маленькую холодную руку. Он машинально пожал ее и долго смотрел вслед девочке. Потом вдруг окликнул ее. Траудль обернулась и снова подошла по усыпанной гравием дорожке к воротам. Он прислонил велосипед к столбу и быстро вошел в сад. — Я забыл одну вещь, — пробормотал он и, крепко сжав ее голову руками, поцеловал. Теперь это продолжалось довольно долго, до тех пор, пока Траудль не ударила его по щеке. — Пошляк! — крикнула она и убежала. Альберт, изо всех сил нажимая на педали, запел:
В окопах на сырой земле я растянусь, усталый!
XVII
Когда раздался выстрел, Шольтен обернулся. Увидев, что лейтенант лежит, стал искать глазами Мутца. Тот стоял, словно изваяние, слегка наклонившись вперед, с карабином в руке. Он как-то сразу постарел. «Молодчина Альберт!» — подумал Шольтен. В нем поднялась волна глубокой нежности и благодарности к Мутцу, который всегда оставался настоящим другом. С какой радостью обнял бы он его! Но сейчас для этого не было времени. Возвращаясь на мост, Шольтен воображал, что стоит ему пригрозить автоматом — и взрыва не будет. Но это оказалось иллюзией. «А мост теперь все-таки нужно отстоять, иначе то, что сделал для меня Мутц, было бы бессмыслицей!» — решил он. — Проваливайте! — приказал он солдатам. — И поживей! Не то я стану стрелять! — Заткнись ты, — угрюмо ответил ему один из них. — Видишь, и так уходим. И солдаты двинулись к грузовику. Только сейчас Шольтен и Мутц заметили, что те безоружны. Все пятеро. — А теперь мы выбросим эту дрянь в реку, — сказал Шольтен, — и дело с концом. Он думал только о взрыве, о мосте, об убитых товарищах, о своем друге Альберте. Он совсем не думал о лейтенанте Хампеле. И главное, он не знал, что эти солдаты прошли всю войну со своим лейтенантом, что они вместе строили мосты, взрывали их и нередко делили с ним последнюю сигарету. Не подумал он и о том, что пятеро солдат оставили свое оружие в грузовике, потому что во время работы на мосту оно не было нужно. А солдаты уже стояли в машине. Вот она медленно тронулась, вот пересекла въезд на мост у восточного берега и свернула за угол дома. И тут Альберт сообразил, что шум мотора, вместо того чтобы постепенно удаляться, неожиданно совсем затих. — Эрнст! — закричал он. — Будь начеку! Машина не уехала! Они возвращаются! В это время Эрнст уже взвалил первый ящик на перила. «Надеюсь, не взорвется», — подумал он и выпустил ящик из рук. Он услышал глухой всплеск и взвалил на перила второй ящик. А когда четвертый ящик бултыхнулся в воду, слева от его каски просвистела первая пуля. Эрнст нырнул в открытый люк и увидел, что Мутц на другой стороне моста сделал то же и, приложив карабин на ящик, настороженно смотрит на восточный берег. Отдает ли он себе отчет в том, что произойдет, если в ящик, набитый взрывчаткой, попадет пуля? Но Мутц и не думал об этом. Он и не подозревал, что ему тоже грозит опасность. Его единственным желанием было прикрыть Шольтена, пока тот не сбросит в реку всю взрывчатку. Шольтен вытащил еще один ящик, подвинул его на полметра к краю моста и столкнул вниз. Проделал то же самое еще раз. На этом все кончилось. По крайней мере по эту сторону моста. С восточного берега просвистели еще две пули. Шольтен высунул руку, подтянул к себе автомат и снова нырнул в люк. Мутц на своей стороне тоже начал подталкивать ближайший к нему ящик со взрывчаткой к краю моста. Шольтен высунул голову. — Быстрее! — заорал он, но тут же снова скрылся: рядом опять просвистела пуля. Немного погодя он увидел, что Мутц пытается стащить еще один ящик и никак не может с ним справиться. «Надо перейти к нему. Один он не осилит», — подумал Шольтен. Он осторожно вылез из люка, чуть приподнялся и в тот же миг получил в левое плечо удар, едва не сбивший его с ног. Тогда он взял правой рукой автомат, навалился на перила моста и что было сил прижал приклад к плечу. — Не к чему обманывать себя, — сказал он себе, — это конец. Шольтен увидел, как на восточном берегу сверкнул огонь, и в ту же секунду выстрелил сам. Всем телом, навалился на вздрагивающий автомат, стараясь во что бы то ни стало заставить левую руку подняться и удержать дрожащее оружие, но она не повиновалась и висела плетью. Стиснув зубы, Шольтен продолжал стрелять. Его охватила злая радость, когда он услышал крик. Он уже больше не был солдатом. Он снова играл в индейцев. Он был Виннетоу, великий вождь. Кто-то из бледнолицых ранил его в левое плечо. Он убьет бледнолицего. Эрнст очень устал, сон одолевал его, и, хотя пальцы все еще были на спусковом крючке, оружие молчало. Магазин был пуст. «Где же эти трусы? — мелькало у Шольтена в мозгу. — Пусть только покажутся, и я сниму с них скальпы. Со всех!» Донесся шум мотора, но Эрнст уже не понимал, что это такое. Мысли путались: «Как мог сюда, в прерии, попасть грузовик?..» И еще: «Где же я оставил свою флейту?» Мутц тоже слышал шум мотора, но одновременно с запада донесся грохот танков. «Они идут, — пронеслось в голове, — и теперь уж никто их не остановит! Никто!» Посмотрел на Шольтена и испугался. Эрнст прислонился к перилам, опустив подбородок на грудь; казалось, он спит стоя. — Устал, — прошептал Альберт, — и я тоже. Господи, даже невозможно сказать, как я устал! Он подтащил оставшиеся ящики к самому краю моста и стал подталкивать их ногой. Ящики один за другим полетели вниз. Тогда он подошел к другу. — Идем, Эрнст, — сказал он и с горечью добавил: — Мы свое сделали! Отстояли мост! Потеряли пятерых товарищей! Предотвратили взрыв! А я… я убил человека! И Мутц заплакал. Только тут он заметил, что Шольтен недвижим. — Эрнст! — закричал он и стал его трясти. Тогда Шольтен поднял голову и посмотрел на Альберта. Это было лицо мертвеца, лишь глаза, широко открытые, горящие странным огнем, устремлены куда-то вдаль. Он смотрел на Мутца и не видел его. — Благодарю моего белого брата за то, что он спас мне жизнь, — прошептал Шольтен. — Эрнст, — умолял Мутц, — очнись ты, бога ради, и не болтай чепухи! Скажи, куда тебя ранило?. Нужно уходить. Американцы сейчас будут здесь. — Американцы? Шольтен не понимал. Но вот на миг сознание вернулось к нему. Его глаза расширились еще больше, он узнал Мутца и попытался улыбнуться, но вместо улыбки получилась ужасная гримаса. — Альберт, — чуть слышно прошептал он. — Мост… он цел! Видишь? Мы удержали его! — Казалось, он с большим трудом пытался собраться с мыслями. — Что там такое было с генералом? Что там было, Альберт? — Теперь это уже неважно, — ответил Альберт, слезы текли у него по щекам. — Неважно. Нам нужно убраться отсюда. Ты слышишь меня, Эрнст? Надо уходить! Но взгляд Шольтена был снова устремлен куда-то вдаль. Его лицо все больше бледнело. Внезапно он разжал правый кулак, и только тут Мутц понял, что друг его до последней минуты сжимал немеющей рукой автомат. Затем он увидел, как автомат скользнул под перила. Мутц прислушался. Но звука падения не было. Автомат зацепился за край моста и повис, раскачиваясь. Когда Альберт нагнулся, чтобы поднять его, Шольтен стал оседать. Альберт подхватил друга и медленно опустил его на землю. Левая нога Шольтена задела автомат, и тот полетел вниз. Эрнст лежал на каменных плитах тротуара, губы его шевелились. Казалось, они молили о чуде. Мутц наклонился к бледному лицу и приложил ухо к дрожащим губам. Шольтен с трудом дышал. Едва подбирая слова, он пытался говорить: — Не забыть… не забыть… не… — Тут рот его раскрылся, и из него хлынула кровь. Он пытался вздохнуть еще раз, но голова бессильно опустилась. Шольтен затих навеки.Альберт закрыл огромные остекленевшие глаза. Казалось, тот спит. — Господи, — молился Альберт. — будь к нему милостив! — Он машинально шептал молитву, не думая о словах. Взгляд его был прикован к лицу друга. Рокот танков слышался совсем близко.
XVIII
Несколько минут Мутц сидел на корточках возле Шольтена. Случайно взгляд его скользнул по лейтенанту, лежавшему на тротуаре, потом по пистолету, оброненному им. Пистолет упал рядом с правой рукой офицера на гладкий асфальт мостовой. Дуло тускло поблескивало, от верхней части приклада отскочил, кусок эбонита. Ничто не ускользнуло от его взгляда. Для сжавшегося в комок мальчика в пистолете было что-то страшное и притягательное. Не в силах противиться этому, он поднялся, сделал несколько шагов, нагнулся и поднял пистолет, осторожно обходя лейтенанта, чтобы не задеть его. Затем осмотрел оружие. «Это же всего одно мгновение», — шептал ему внутренний голос, и приятное ощущение безразличия ко всему охватило его, когда он повернул дуло к себе и положил палец на спуск. Медленно стал сгибать его, чувствуя, как он немеет все больше и больше. И вот уже палец достиг упора. Он знал: еще одно легкое прикосновение — и все будет позади. Тут он увидел перед собой мать. Увидел ее за швейной машинкой; она сидела, склонившись над работой. Вот она подняла голову и взглянула на него. И он услышал: «На тебе просто все горит, Альберт. Я охотно делаю все, но ты мог бы быть поаккуратнее…» Увидел ее в ванной, когда она намыливала ему спину. Увидел полные тревоги глаза матери, когда у него было тяжелое воспаление легких и врачи уже отступились от него. Мать же никогда не отступалась от него. Потом все заволокло туманом, и он понял, что плачет. С отвращением отбросил он пистолет, подошел к Эрнсту, еще раз всмотрелся в восковое, застывшее лицо. — До свидания, Эрнст! — сказал он глухо. С западного берега несся грохот танков, гул артиллерии, и вокруг него в воздухе с воем и свистом пролетали пули. Где-то в восточной части города с глухим рокотом рвались снаряды.XIX
Альберт ушел с моста. Он брел по городу, все время держась левой стороны. Так идет человек, утомленный долгим странствием, но все же знающий, что цель близка. Два вопроса неотступно сверлили мозг: «Почему все случилось именно так? Какой во всем этом смысл?» Ответа он не находил. Но жизнь и смерть ведь должны иметь хоть какой-нибудь смысл? Вот мост стоит, а его могли взорвать, и он рухнул бы всей тяжестью в воду. «Может быть, в этом и заключался какой-то скрытый смысл?» — думал Мутц. Но мысль эта не принесла облегчения. И все-таки смысл, видимо, есть. Только ему, Альберту, никогда его не постичь. Придется просто поверить, что смысл есть. Он был совершенно опустошен. Он слышал выстрелы американских орудий, вой гранат, взрывы. Воздушной волной его швырнуло к степе дома. Когда он очнулся и побрел дальше, то почувствовал, что рана на руке снова кровоточит. Осколки камней впились в лицо. Он брел сквозь весь этот ад, сквозь грохот, гул, языки пламени, удушливый дым. Он брел сквозь все это и, казалось, был неуязвим. Он больше не чувствовал ни страха, ни опасности. Механически переставлял он ноги, будто все это происходило где-то в другом месте, далеко от него. Он снова видел их всех, Зиги Бернгард — как он дурачился, когда ему засунули за ворот рубашки майского жука. Юрген Борхарт — не знающий поражений спортсмен с фигурой атлета. Карл Хорбер — весельчак и балагур, которому лишь в жалкую щелку удалось подсмотреть одну из тайн жизни. Клаус Хагер — с его страстью к музыке и склонностью к самобичеванию. Вальтер Форст — циничный, испорченный; до боли в сердце обидно за тебя, Вальтер Форст… И Эрнст Шольтен. Мучительная мысль опять засверлила в мозгу: «Почему? Почему?» И в то время как вокруг рвались гранаты, горели крыши и рушились стены домов, он все твердил: «Почему именно я?» И еще: «Что происходит, когда наступает смерть? Кончается ли все? Или приходит что-то новое? Иное?..» И тут же, испугавшись, стал молиться: «Боже милостивый, прости мне мои мысли!» Так брел он своей дорогой. Перед одним из домов он увидел старый автомобиль с бросающимся в глаза красным крестом на белом поле. И в то время как с запада орудия извергали смерть и разрушения, дверь дома отворилась, и двое мужчин вынесли женщину. Альберт подбежал к машине и распахнул дверцу. — Преждевременные роды. Вероятно, результат испуга, — тихо сказал ему один из мужчин. — Но мы спасем его! Машина отъехала, пробираясь между облаками, усеявшими улицу, и исчезла. Альберт почувствовал, что смысл жизни, который он так мучительно искал, где-то здесь, совсем близко. И странное чувство единства с этими людьми овладело им. «Хоть бы спасли ребенка!» — подумал он. Примиренный, продолжал он свой путь. Всепожирающая пустота вокруг него исчезла. Он вспомнил мать, Траудль и почувствовал глубокую нежность. Они начнут строить свою жизнь, когда все это будет позади. Тут он вспомнил, что ему еще нет и шестнадцати лет. Наконец он добрался до своей улицы. Отворяя калитку палисадника, зацепил карабином за столб. Тогда он снял карабин с плеча, долго смотрел на него, вернулся на улицу и со всего размаху швырнул его на землю. Карабин разлетелся на куски. Потом он сел на каменный цоколь лестницы у входа, уперся локтями в колени и уронил лицо на руки. Так и сидел, уставясь в темноту. Он не знал, сколько времени просидел, когда почувствовал, как что-то мягкое, ластясь, трется у его ног. Он поднял котенка, посадил его к себе на колени и стал почесывать у него за ухом. Пальцы его машинально гладили пушистую шерстку. Время от времени Мутц наклонялся и с глубоким волнением слушал его мурлыканье. Орудийный огонь прекратился. И когда в конце улицы загрохотали американские танки, Мутц поднялся и пошел к дому, прижавшись лицом к котенку. — Нам обоим пора домой! — оказал он и нажал кнопку звонка. Дверь отворила мать. Прежде чем войти, он в последний раз оглянулся. На востоке пробивался бледный свет зари, возвещая наступление нового дня…
В тот вечер я долго стоял на мосту. Смотрел на реку. И сегодня, как и десять лет назад, не мог найти ответа на вопрос, в чем же смысл того, что тогда произошло. Позади меня проносились машины, подо мной шумела река. Ее воды омывали автомат, десять лет пролежавший там, внизу. Те, кто восседал в блестящих машинах, проносились на мотоциклах или прогуливались, нарядные и оживленные, ничего не знали об этом автомате. А если бы знали? Рядом со мной стоял пожилой мужчина. Он не смотрел на реку, он глядел прямо на улицу. Кивнув в сторону юношей и девушек, мчащихся мимо на мотороллерах, он сказал: — Вот она, нынешняя молодежь! До чего мы дошли! Мне не следовало бы ему отвечать. Ведь мысленно я был так далек отсюда, перенесся на десять лет назад. И все-таки я ответил: — Молодежь сама по себе ни плоха, ни хороша. Она несет в себе приметы своего времени. А он отечески снисходительно возразил: — Вы еще слишком молоды для таких рассуждений. Вам не мешало бы кое-что пережить и поднабраться опыта, молодой человек. Я молча взглянул на него. И ушел с моста.
Последние комментарии
8 часов 49 минут назад
8 часов 52 минут назад
2 дней 15 часов назад
2 дней 19 часов назад
2 дней 21 часов назад
2 дней 22 часов назад