
Борис Робертович Виппер Итальянский ренессанс XIII–XVI века Том 1
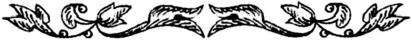
От редакции
В ЦИКЛЕ ЛЕКЦИЙ «Итальянский Ренессанс» нашла свое отражение длительная работа Б. Р. Виппера над проблемами итальянского изобразительного искусства XIII–XVI веков. Специальный курс под этим названием Б. Р. Виппер начал вести в Московском университете в 1918–1923 годы, вел с 1924 года в Риге (Латвийский университет, Академия художеств), читал в 1941–1943 годах в Среднеазиатском государственном университете в Ташкенте и, наконец, с 1943–1944 года — в Московском государственном университете. Около середины 1930-х годов Б. Р. Виппер записал полный текст курса и тщательно отредактировал его как законченный литературный труд. В 1941–1943 годы ученый вернулся к этому тексту и создал новую его редакцию, в которой широко привлек материал своего большого путешествия 1938 года по европейским музеям и выставкам, уточнил и развил характеристики отдельных художников Возрождения (особенно Джотто, Боттичелли и более всего Микеланджело), углубил социологические обоснования художественного процесса. На протяжении 1944–1954 годов многие будущие советские искусствоведы прослушали в Московском университете специальный курс лекций Б. Р. Виппера, посвященный искусству итальянского Ренессанса. Они же участвовали тогда в занятиях семинаров под руководством Б. Р. Виппера, причем важнейшее место среди этих занятий принадлежало семинару по проблемам Ренессанса. Таким образом, содержание публикуемого нами курса уже давно и достаточно широко воздействовало на формирование нашей искусствоведческой мысли, на воспитание молодых специалистов. Подготовляя к печати текст курса после кончины автора, редакторы учли и изучили в личном архиве Б. Р. Виппера все варианты полного курса и отдельных лекций, смежные курсы (например, «Искусство барокко»), сверились с изданными за последнее время работами ученого на близкие темы[1], избрали в каждом случае более поздние варианты (с неизбежными интерполяциями из ранних текстов) и внесли в изложение лишь совершенно неизбежные частные коррективы, связанные с новейшими фактическими данными науки (даты, атрибуции, иконографические детали и т. д.). Курс в целом охватывает обширный исторический материал, начиная от подготовки итальянского Возрождения в изобразительных искусствах и архитектуре XII–XIII веков и кончая искусством Высокого Ренессанса. Различные искусства представлены в лекциях не вполне равномерно: живопись и скульптура освещены более ровно, чем архитектура. Чем дальше, тем менее подробно идет речь об архитектуре, а в XVI веке ей уделено вообще относительно немного места. Этот пробел может быть восполнен содержанием названной в сноске книги Б. Р. Виппера «Борьба течений в итальянском искусстве XVI века», где мастера и памятники архитектуры как раз охарактеризованы в первую очередь. В центре внимания автора неизменно стоит личность художника и анализ его произведений. Всего в курсе рассматривается более ста художников, причем многие из них получают обстоятельные оценки, а крупнейшим посвящены большие разделы. Лаконично, но всегда остро и выразительно даны в тексте лекций биографические подробности, привлекаемые со строгим разбором и чувством меры. Все подчиняется здесь главному — раскрытию творческой концепции мастера, основ его стиля, эстетических свойств его произведений. В многочисленных анализах, то углубленных и подробных, то суммарных и более беглых, то объединяющих группы вещей, то выделяющих лишь детали, с блеском проявляется аналитическое мастерство и литературное дарование автора. Каждый из художников предстает в его оценке как неповторимая творческая индивидуальность. Путь итальянского изобразительного искусства к вершинам Ренессанса освещен в лекциях широко, во всем многообразии и сложности творческих исканий. Он прочерчивается отнюдь не как прямой и короткий: отчетливо показаны реальные отклонения от него, временные усиления и даже победы готических тенденций в отходе от идей Ренессанса, противоречия в развитии художников и, конечно, сложение различных школ и течений в центрах Италии с их всегда своеобразным пониманием господствующих творческих идей времени. Оценивая каждый из периодов внутри эпохи Возрождения (и в подготовке его), Б. Р. Виппер стремится выявить общественно-исторические основы происходящего художественного перелома, вкратце обрисовать историческую обстановку в Италии и тех ее областях, где возникают значительные творческие школы или явления. Этого рода внутренние введения никогда не приобретают в лекциях самодовлеющего значения и носят полностью целеустремленный характер, служа объяснением к дальнейшему. При большой широте взгляда на предмет, при здравой объективности эстетических суждений в курсе лекций Б. Р. Виппера не могли в той или иной мере не сказаться его собственные сложившиеся вкусы, его личные склонности и предпочтения. Он воздает должное Рафаэлю, он высоко ценит Леонардо да Винчи; но главные его симпатии принадлежат вне сомнений Микеланджело. Разумеется, он судит по достоинству стиль Высокого Ренессанса. Но ему лично дороже и интереснее поиски совершенства, трудные и отнюдь не прямые пути к совершенству, именно то, что ведет к Высокому Возрождению, но не само достижение идеала, гармонии, равновесия. Гармоничность в искусстве представляется ему остановкой движения, а диссонанс — подлинным стимулом к нему. У Микеланджело Б. Р. Випперу особенно близки предельно выразительное напряжение чувства и мысли, тот горький диссонанс, который он вскрывает в творчестве мастера. Проблематика творческой борьбы за идеи Возрождения на подъеме к нему (кватроченто), а затем на новом этапе, после него, в атмосфере реакции, когда складывались основы иных направлений и стилей (маньеризм, барокко), в целом больше интересует и затрагивает ученого, нежели проблематика Высокого Ренессанса как таковая. Естественно, что в курсе лекций, посвященных искусству итальянского Возрождения, Б. Р. Виппер не углублялся специально в проблемы послеренессансных десятилетий XVI века, затрагивая их лишь в связи с Микеланджело, Тицианом и некоторыми другими художниками, чье творчество хронологически вышло за пределы Высокого Ренессанса. Эти проблемы он более подробно осветил сначала в другом специальном курсе лекций («Искусство барокко»), а впоследствии широко разработал в монографии «Борьба течений в итальянском искусстве XVI века (1520–1590)». Мы могли бы и избежать здесь столь дальней ссылки, но в курсе «Итальянский Ренессанс» уже явно проступает интерес автора к этому кругу проблем, когда он касается многих явлений XVI века. Даже в пределах периода Высокого Ренессанса Б. Р. Виппер не склонен рассматривать художественные явления вне их внутренних противоречий. Он прослеживает развитие стиля Рафаэля и Леонардо в сторону новых течений к концу деятельности обоих мастеров. Он превосходно показывает сложную эволюцию стиля Микеланджело. Он акцентирует у Корреджо внутреннее перерождение и вырождение идей Ренессанса. На сотнях примеров раскрывает Б. Р. Виппер сложные исторические связи тех или иных художественных явлений. Традиции прошлого и их своеобразное преломление в данной творческой концепции мастера, намечающиеся пути к будущему, предвестие иногда далекого грядущего — вот что постоянно занимает его в анализе. Каждая творческая фигура, каждое значительное произведение существуют для него в плотном историческом контексте. Этот же контекст определяет в любом случае избранный тип анализа, диктует меру подробности, выбор аналогий и круг ассоциаций. Поэтому в лекциях (как и вообще в исследованиях) Б. Р. Виппера бесполезно было бы искать какой-либо один круг приемов для анализа художественных произведений: приемы здесь многообразны и всегда подчинены возникающей задаче. Общая концепция курса складывалась у Б. Р. Виппера на протяжении многих лет. Она прочно связана с традициями русской и советской науки. Достаточно сказать, что среди учителей Б. Р. Виппера был в свое время Н. И. Романов, известный профессор Московского университета, специалист по Возрождению. На материале курса Б. Р. Виппера, как этот курс первоначально складывался в двадцатые — начале тридцатых годов, до известной степени сказалось также воздействие научных концепций крупных зарубежных ученых: Генриха Вельфлина (концепция классического стиля Ренессанса в противопоставлении его барокко), Алоиза Ригля (концепция двух типов художественного мировосприятия — тактильного и оптического), Дагоберта Фрея (концепция двух типов художественного представления — сукцессивного средневекового и симультанного ренессансного)[2]. В раннем введении к циклу лекций «Итальянский Ренессанс» (не вошедшем в данную публикацию) Б. Р. Виппер рассказал об этих концепциях (как и о некоторых других), выделил их сильные стороны и критиковал слабые. С годами воздействие таких концепций у него постепенно преодолевалось, однако некоторые следы их, быть может, ощутимы и в последней редакции курса. Так, понятие «стиль Ренессанса» порою применяется в общей форме с несколько вельфлиновской тенденцией к ограничению его критериев стилем классического искусства Высокого Ренессанса, как он представлен у Рафаэля и Леонардо. Естественно, что этим критериям не удовлетворяет, например, стиль Гиберти или Донателло, и потому у того и у другого автор усматривает, на наш взгляд, слишком много готических, не чисто ренессансных признаков. Время от времени критерии сукцессивного или симультанного изображения выходят на первый план при оценке того или иного художественного замысла, иногда как бы заслоняя другие его стороны. Но в контексте целого все это не более чем слабые следы в основе своей преодоленных, изжитых концепций. Ни на главные идеи курса, ни на важнейшие характеристики и выводы они не оказывают определяющего влияния. Содержание курса «Итальянский Ренессанс» представляет вполне самостоятельную ценность как итог долгого и углубленного труда советского исследователя и педагога. С публикацией этого курса получит свое завершение большой цикл работ Б. Р. Виппера, посвященных истории итальянского искусства («Итальянский Ренессанс. Курс лекций по истории изобразительного искусства и архитектуры», публикуемый ныне, «Борьба течений в итальянском искусстве XVI века», 1956, «Проблема реализма в итальянской живописи XVII–XVIII веков», 1966), и тем самым будет освещена его проблематика на протяжении XIII–XVIII столетий. Подстрочные примечания повсюду в настоящем издании сделаны от редакции. Они вызваны необходимостью ссылок на новейшие данные современного искусствознания, новые атрибуции, уточненные даты, вновь обоснованные точки зрения. Наиболее показательный пример — проблема росписей в капелле Бранкаччи и вопрос об их авторстве (Мазолино или Мазаччо). В настоящее время эта проблема разрешается несколько иначе, чем то было у Б. Р. Виппера, но это не лишает ни его анализы, ни ход его мыслей и догадок своеобразного искусствоведческого интереса. Поэтому, сохраняя основную часть его текста, редакторы лишь оговаривают новое решение поднимаемой проблемы. Такому же принципу подчинены другие, менее существенные редакционные примечания.
Итальянский ренессанс

Курс лекций по истории изобразительного искусства и архитектуры

I
ПРИ ОДНОМ УПОМИНАНИИ слова «Ренессанс» наше сердце бьется сильней, наша энергия возбуждается, наша фантазия закипает. В нашем воображении возникают картины яркой празднично-приподнятой жизни, перед нашим мысленным взором проходят образы людей могучих, величавых и прекрасных, героев, полных смелости, грации и достоинства. Эпоха Возрождения, одна из самых интересных и полноценных эпох в истории человечества, — это синоним личной свободы, совершенства в искусстве, красоты в жизни, гармонии физических и духовных качеств человека. В проблеме художественного наследия Ренессанс приобретает для нас особенно важное значение как культура молодого, полного творческих сил класса поднимающейся буржуазии, которая стремится ниспровергнуть феодальные условия общества. Но попробуем вызвать в нашей памяти образ какого-нибудь одного героя Ренессанса, в котором всего полней и ярче воплотились свойства эпохи. Одни назовут Микеланджело, другие — Рабле или Франциска Ассизского или даже Яна ван Эйка. И можно ли найти какие-нибудь общие признаки у эпохи, вызвавшей к жизни столь непримиримые контрасты? Не удивительно, что понятие Ренессанс может показаться неопределенным, противоречивым, изменчивым — словно настоящий Протей. Люди той эпохи, которая носит название Ренессанс, жили в сознании, что им досталось в удел особенно счастливое время, когда из скудости и упадка мир снова вернулся к чистым источникам знания и красоты. В особенности поколение около 1500 года чувствовало, что овладело извечными нормами мудрости и искусства, было проникнуто идеей обновления жизни к новому пышному цветению. Причину этого возрождения сами его современники вовсе не видели в подражании античной культуре. Обновленное чувство человека «золотого века» отличалось гораздо более широким и общим этическим и эстетическим диапазоном. И если к его горделивому сознанию своей исторической миссии примешивалось восхищение античной культурой, то только потому, что античная культура, казалось, была воплощением чистого знания, красоты и добродетели. Первым, кто это неопределенное сознание эпохи сформулировал в точное понятие «rinascita» — то есть Возрождение — и придал этому понятию значение боевого пароля, был Джорджо Вазари, ученик Микеланджело, знаменитый автор «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», вышедших первым изданием в 1550 году[3]. Историко-художественная концепция Вазари такова. Высшим расцветом он считал античное искусство, за которым следует долгий период упадка, начинающийся уже в эпоху Константина. Готы и лангобарды только докончили этот процесс внутреннего разложения. В течение многих веков Италия знала лишь «нескладную, жалкую и жесткую» живопись византийских мастеров. Первые признаки Возрождения начинаются, по Вазари, с конца XIII века, вместе с двумя великими флорентийцами, Чимабуэ и Джотто. Они отбросили византийские приемы и возвратились к подлинным античным традициям. «Джотто открыл врата истины для тех, кто привел в наши дни искусство к великому совершенству». (Вазари при этом имеет в виду Микеланджело.) В чем же состояло для Вазари великое обновление искусства, произведенное Чимабуэ и Джотто? В непосредственном подражании натуре. Возвращение к античным традициям в устах Вазари — синоним, так как и античное искусство видело свой главный прообраз в натуре. Кто изучает античное искусство, тот находит путь к натуре. Для самих современников Ренессанса понятие Ренессанс не имело ни исторического, ни нормативного смысла; оно было для них боевым кличем, выражением яркого творческого экстаза. Мировоззрение человека Ренессанса не соответствует ни традициям докапиталистического, патриархального общества, ни собственно буржуазному мышлению. Ренессанс был не устойчивой и спокойной, а бурной и противоречивой эпохой. Ренессанс — это период становления буржуазного общества, период, когда спадают оковы средневекового уклада, но ограничивающие условия капиталистического общества еще не успели сложиться. Иначе говоря, Ренессанс представляет собой не состояние, а процесс, и притом процесс переломного характера. Именно этот переломный смысл Возрождения подчеркнул Энгельс в своей краткой, блестящей характеристике: «Королевская власть, опираясь на горожан, сломила мощь феодального дворянства и основала крупные, по существу национальные монархии, в которых развились современные европейские нации и современное буржуазное общество; и в то же время как горожане и дворянство еще продолжали между собой борьбу, немецкая крестьянская война пророчески указала на грядущие классовые битвы, ибо в ней на арену выступили не только восставшие крестьяне — в этом уже не было ничего нового, — но за ними показались предшественники современного пролетариата с красным знаменем в руках и с требованием общности имущества на устах … Рамки старого orbis terrarum были разбиты; только теперь, собственно, была открыта земля и были заложены основы для позднейшей мировой торговли и для перехода ремесла в мануфактуру, которая, в свою очередь, послужила исходным пунктом для современной капиталистической промышленности … Это был величайший прогрессивный переворот, пережитый до того человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страстности и характеру, по многосторонности и учености»[4]. Каковы же предпосылки и специфические обстоятельства возникновения Ренессанса? Почему он пережил свое блестящее цветение в Италии? Почему именно в Италии раньше, чем где-либо, феодальная система хозяйства стала расшатываться под напором капиталистической стихии? Здесь прежде всего сыграло роль исключительно выгодное географическое положение страны, сделавшее ее главной торговой посредницей между Востоком и Европой: в руках итальянских купцов сосредоточилась вся заморская торговля, обмен между Фландрией и Англией, с одной стороны, и Византией, восточными странами — с другой. Все это сильно способствовало быстрому росту благосостояния и культурного уровня итальянских городов. Концентрация капиталов позволила итальянскому купечеству перейти от торговых операций к кредитным, к торговле деньгами в широком международном масштабе. Особенно это относится к североитальянским купцам, которые превратились в банкиров Европы. А вместе с тем уже в эпоху раннего Возрождения в Италии намечается капиталистическое перерождение промышленности, появляются начатки мануфактурного производства (в некоторых предприятиях шерстяной и шелковой промышленности во Флоренции было занято от сорока до ста человек). Такова социально-экономическая база, на которой расцветает молодая культура итальянских городов, полная жизнерадостности и жизнеутверждения, проникнутая — по контрасту со средневековой аскетичностью — материализмом, культом человеческого тела и здоровой вещественностью. Если средневековому искусству человек представлялся существом слабым, ограниченным и зависимым, то в искусстве Ренессанса человек становится единственной реальной и независимой ценностью. Наряду с гуманистическим мировоззрением развивается (и получает выражение в литературе и искусстве) своеобразная индивидуальная этика, основой и целью которой является благо личности, ее совершенствование, оправдание ее успехов и радостей, всестороннее развитие способностей. Культура Ренессанса — это культура общественных верхов, буржуазной аристократии и тонкого слоя интеллигенции. Аристократизмом проникнута и политика, и философия, и эстетика итальянского Возрождения, в значительной мере и его быт. Следует, однако, подчеркнуть, что аристократизм в понимании того времени определялся отнюдь не происхождением и не привилегиями сословия, не размерами состояния (как в феодальном обществе), а прежде всего личными качествами человека и степенью его культуры. Особенно важно, что культура Ренессанса, при всей своей исключительности, отражала и народные интересы (более всего в ранний период развития городской культуры), сумела опереться на народные массы, связать свое культурное творчество с культурой этих масс, «придать своим мыслям форму всеобщности, изобразить их, как единственно разумные, общезначимые»[5]. Никогда еще (даже в Древней Элладе) искусство не имело такого огромного значения и в частной и особенно в общественной жизни, как в эпоху Ренессанса. Культура Ренессанса буквально пропитана искусством. Для человека Ренессанса искусство имело такое же всеобъемлющее значение, как для XVIII века — философия, для XIX — наука, для XX — техника. Все общественные классы были охвачены художественными увлечениями. Образностью искусства окрашены мысль и творчество, политика и классовая борьба, хозяйство и быт, война и дипломатия. Художественный вкус никогда еще не был уделом столь широких слоев общества и не поднимался до такой высоты. Вкусы же прогрессивного общества эпохи Возрождения тяготели к реализму. Постепенно, в борьбе и художественных противоречиях идет сложение реалистического мировоззрения в искусстве Ренессанса. И крайне характерной для эпохи становится связь искусства и науки. Если в готике проступали черты наивного, иллюстративного натурализма деталей, а для барокко всего важнее была экспрессия, эмоциональность, то для зрелого стиля Возрождения особенно важны рационализм и синтетический реализм. Искусство Возрождения интеллектуально; оно не столько выражает, сколько изображает, стремится к установлению объективных законов в передаче натуры, к систематическому подведению научного фундамента под художественное творчество. Но хотя реализм итальянского Возрождения был построен на последовательной рационалистической основе, он вместе с тем обладал ярко выраженным чувственным характером. В эпоху Ренессанса еще не образовалось того противоречия между рационализмом и эмпиризмом, которое столь типично для мировоззрения позднейшего европейца. В этом сочетании чистой, отвлеченной мысли и свежести чувственного опыта и заключались огромная сила и своеобразие искусства итальянского Ренессанса. Однако не следует чрезмерно преувеличивать передовой, рационалистический, светский характер Возрождения и недооценивать роль церкви в культуре эпохи (для художников церковь все еще оставалась главной заказчицей). И точно так же как опрометчиво определение культуры Ренессанса в качестве сплошь антирелигиозной, так же преувеличенно подчеркивание индивидуализма как исключительного свойства Ренессанса. Культура Возрождения отнюдь не однопланна. Новые искания еще смешиваются со старыми традициями как морской прибой, в котором волны то забегают вперед, то откатываются назад, но при этом неукоснительно завоевывают все новые и новые пространства. Наряду с прогрессивными элементами гуманизма и реализма культура Возрождения полна средневековых пережитков: достаточно вспомнить о большом значении, которое в течение всего Ренессанса имели теология и схоластика, магия и астрология, об увлечении общества рыцарской поэзией, об успехе и влиянии монашеских проповедников. Для того чтобы проникнуть в существо культуры и искусства эпохи Возрождения, нужно ясно представить себе противоречия и контрасты, из которых она соткана, — противоречия свободы и рабства, рационализма и магии, чувственности и аскетизма. Эти средневековые пережитки в культуре Ренессанса вполне естественно объясняются целым рядом факторов, тормозивших развитие нового общественного строя. Сюда относится прежде всего малоразвитая техника эпохи Возрождения и застывшая иерархия цехов с их суровым регламентом и консервативным укладом жизни — условия, которые несомненно сильнейшим образом препятствовали свободному развертыванию капиталистической стихии. Кроме того, следует учитывать крайне медленное накопление капитала, так как прибыль промышленных предприятий шла главным образом на личные потребности собственников, на удовлетворение их все возраставшего тяготения к роскоши и утонченному быту, а не на расширение торговли, не на совершенствование производства. Когда же на рубеже раннего и Высокого Ренессанса итальянское бюргерство стало искать применения своим капиталам, феодальные традиции подсказали ему путь вложения капитала в землю. Это перерождение бюргеров в земельное дворянство содействовало возвращению к феодальным нравам и усилению готических пережитков в искусстве позднего кварточенто (а в 1530 годы оно привело к победе феодальной реакции над флорентийским капитализмом). Этой живучести «готики в Ренессансе» содействовала, наконец, также неравномерность экономического и социального развития Италии: рядом с передовой Флоренцией — консервативная Сьена, рядом с патрицианской Венецией — придворно-рыцарская Феррара и т. п. Одним словом, в противовес буржуазной историографии, рассматривающей Возрождение как замкнутую культурно-историческую эпоху с рядом постоянных признаков, следует еще раз подчеркнуть ее динамический характер, непрерывную борьбу, бурные конфликты между старой и новой идеологией. В плане чисто художественной жизни и художественно-теоретической мысли этот процесс означает последовательное превращение искусства из пассивного элемента быта в активно-самостоятельное орудие познания, из анонимного уменья в персональное дарование, из ремесла, повинующегося технически-цеховым традициям, в творчество, основанное на объективной логике законов и принципов. Перспектива, как средство для завоевания глубины, для создания пространственной иллюзии, изучение анатомической структуры человеческого тела, учение об идеально прекрасных пропорциях и перенесение их в архитектуру — все названные рационалистические приемы овладения действительностью были введены художниками итальянского Ренессанса. Основная тема искусства эпохи Ренессанса — человек. Человек, как мера всех вещей, как героическая, независимая, всесторонне развитая личность, как творческая сила в борьбе с натурой и гнетом церковно-феодального принуждения. Этот лейтмотив находит яркое отражение во всех отраслях искусства. В архитектуре он проявляется не только в очеловечении пропорций здания (в отличие от готики), но и в создании идеи этажа как пространственного слоя для жизни и деятельности человека. В ансамбле архитектуры с другими искусствами это означало постепенное отделение скульптуры и живописи (в виде монумента и станковой картины) от здания, от подчинения стене, вертикальной тяге столба, выступу, нише. Усовершенствованная техника масляной живописи и возвращение к бронзе как к пластическому материалу еще более содействовали утверждению самостоятельности картины и статуи, не нарушая вместе с тем идейного и декоративного синтеза искусств, их тесного, органического взаимодействия. О широком диапазоне гуманистических идеалов Ренессанса говорит популярность портретного бюста и увлечение проблемой обнаженного акта. Если мы вспомним блестящее развитие иллюстрированной книги и появление целого ряда новых графических техник (ксилография, резцовая гравюра, рисунок сангиной и итальянский карандаш и т. д.), то перед нами пройдет весь основной цикл приемов и областей искусства Ренессанса, посвященных изучению и прославлению человека. Искусство Ренессанса говорило от лица человека, о человеке и для человека. Именно поэтому оно отличалось таким ярко выраженным пластическим характером на всех стадиях своего развития. Но и сам человек значительно изменился за эту долгую эволюцию, а вместе с ним последовательно менялась и художественная концепция, развиваясь по основной линии от символикодекоративного стиля через стадию аналитического, портретного реализма к реализму синтетическому и возвышенно-классическому. Эту эволюцию обычно делят на три главных хронологических этапа. Первый период, продолжавшийся примерно от 1250 до 1400 года, называют «Проторенессансом», так как искусство этого периода является как бы пробуждением к новой жизни, подготовкой, предчувствием смелых проблем Ренессанса, в течение всего XIV века постоянно сдерживаемых волнами готической реакции[6]. Второй период охватывает весь XV век и носит название «раннего Ренессанса». Это — время наиболее острой борьбы старого с новым, полное смелого анализа, тяги к реализму и к математической точности, но лишенное цельности художественного мировоззрения и часто соединяющее глубокомыслие с наивностью. Наконец, третий период называют «Высоким Возрождением», или «классическим стилем», или «золотым веком итальянского искусства», хотя продолжался он вряд ли более двадцати пяти лет, примерно от 1500 до 1525 года (только в Венеции можно говорить о продолжении Высокого Возрождения еще на десять-пятнадцать лет). Разгром Рима немецкими ландскнехтами и падение буржуазной Флоренции в 1530 году служат как бы сигналом к наступлению феодально-католической реакции, обрывающей тот исторический процесс, который мы называем Возрождением. Для периодизации искусства Ренессанса часто пользуются также итальянской терминологией: треченто (то есть трехсотые годы) называют искусство XIV века, кватроченто (то есть четырехсотые годы) — искусство XV века, или ранний Ренессанс, и чинквеченто (пятисотые годы) — искусство Высокого Возрождения. В середине XIII века, после падения Гогенштауфенов, Италия порывает с Германией и приобретает фактическую независимость от Священной Римской империи. Она представляет собой в это время раздробленную страну, распадающуюся на ряд экономически и политически самостоятельных областей. Южная Италия и Сицилия попадают под власть французов и испанцев. Папское государство под давлением крупных феодалов переживает ослабление папской власти, потерю политического значения Рима. Все это заканчивается так называемым Авиньонским пленением пап от 1309 до 1377 года. Напротив, Венецианская область, управляемая олигархией купеческой патрицианской группы, переживает первый подъем своей заморской торговли. Но самым передовым очагом итальянской культуры в это время становится Флоренция — крупнейший банкирский и промышленный центр не только Италии, но и всей Европы. Здесь уже в XIII веке, в шерстяной и шелкоткацкой промышленности намечаются приемы мануфактурного разделения труда и начинают развертываться капиталистические отношения с характерными для них классовыми противоречиями, которые в 1378 году приводят к так называемому восстанию чомпи («оборванцев») — то есть шерстобитов и чесальщиков шерсти, не входящих в цехи и образовавших флорентийский плебс, своего рода предпролетариат. В течение всего XIII века флорентийские цехи упорно боролись за власть против олигархии патрициата и к концу века достигли решающей победы. Так называемое «установление справедливости», передававшее все политические права цехам, надо рассматривать не только как символ победы флорентийской буржуазии, но и как исходный пункт руководящей, прогрессивной роли Флоренции в истории европейской художественной культуры. Однако буржуазия оказалась тогда еще слишком слаба, чтобы вводить какую-либо парламентарную систему, и во Флоренции постепенно установилась власть тирании. Эта необыкновенно пестрая и противоречивая картина исторического развития Италии обусловила и большую сложность на путях ее искусства.II
ЕСЛИ МЫ ОБРАТИМСЯ К первоисточникам Ренессанса, к так называемому Проторенессансу и искусству треченто, то должны будем прежде всего отметить, что наименьшую самостоятельность, наименьшее предчувствие Ренессанса проявила архитектура того времени. Историю средневековой итальянской архитектуры в грубых чертах можно разделить на два периода. До 1250 года — преобладание восточных влияний и некоторая верность античным преданиям, особенно в Средней Италии; от 1250 и примерно до 1400 года — резкий разрыв с Востоком и античными традициями и поворот в сторону североготических тенденций. Первый период средневековой итальянской архитектуры, соответствующий романскому стилю в Северной Европе, дает чрезвычайно пеструю, лишенную внутренней цельности картину строительства. В Венеции и в Южной Италии с Сицилией господствует в это время своеобразный, экзотический, полуазиатский стиль. Византийские основы этого стиля смешиваются с мусульманскими и северно-европейскими влияниями в самом причудливом сочетании. Наиболее ярким примером этого смешанного византийского стиля может служить собор святого Марка в Венеции, начатый постройкой в 1063 году, освященный в 1095 году, но еще долго, вплоть до XIV века, достраивавшийся и украшавшийся. По своему центрическому крестообразному плану собор святого Марка повторяет типичный образец византийской пятикупольной церкви: его спокойные, величавые внутренние стены, покрытые плоским золотым узором мозаик, находятся в странном противоречии с экзотической сказочностью и беспокойной пестротой наружного облика, где сочетаются романские порталы, византийские капители, арабские килевидные арки и готические балдахины. Еще более запутанную смесь норманнских, византийских и сарацинских мотивов показывает зодчество Сицилии этой эпохи, например дворцовая капелла в Палермо, так называемая капелла Палатина, в которой византийский купол сочетается с коринфскими капителями, с арабскими сталактитовыми сводами и куфическими надписями на деревянном потолке. Наибольшую близость к архитектурным тенденциям Северной Европы обнаруживает зодчество Ломбардии, которую долгое время ошибочно считали родиной романского стиля. Типичную структуру этой ломбардской романики мы найдем, например, в церкви Сайт Амброджо в Милане, где впервые проявляется специфический признак ломбардской архитектуры-обилие скульптурных украшений в виде фантастически-стилизованного животного орнамента. Что касается Рима, то в течение романского периода там прочно держатся традиции древнехристианской архитектуры. Излюбленной формой римского церковного зодчества остается базилика с традиционным планом, плоской крышей и горизонтальным антаблементом на античных колоннах. Если где можно говорить о пробуждении самобытного, местного, народного стиля итальянской архитектуры романского периода, то только в Тоскане. Правда, тосканское зодчество, подобно римскому, упорно придерживалось схемы базилики с плоским покрытием, но к этой традиционной базиликальной схеме присоединилось в тосканских церквах чисто национальное изобретение — пышная наружная оболочка. Этой богатой наружной декорацией тосканские церкви романского периода резко отличаются от нарочито скромного, лишенного всякого декоративного убранства, наружного облика древнехристианских базилик. В истории искусства этот период тосканского зодчества получил название «инкрустационного стиля»: кирпичные стены облицованы мраморными плитами белого, темно-зеленого, иногда красного цвета, образующими геометрический узор. В Пизе, приморском городе Тосканы, поддерживавшем живые торговые сношения с Востоком, в этой мраморной инкрустации явно отразились следы мусульманских влияний; во Флоренции же приемы инкрустации восходят непосредственно к позднеримским декоративным традициям. Близость тосканско-ромайских декоративных приемов к античным и побудила Буркгардта назвать это направление в итальянской архитектуре Проторенессансом. Однако скорее можно говорить о пережитках в «инкрустационном стиле», чем о возрождении античных традиций, так как органическая цельность античной конструкции в тосканском зодчестве по большей части потеряна, но зато обнаруживаются совершенно новые приемы и задачи, незнакомые античному зодчеству. Древнейшим дошедшим до нас образцом «инкрустационного стиля» является так называемая Бадия, то есть монастырь бенедиктинских монахов во Фьезоле (близ Флоренции), на фасаде которой частично сохранились следы мраморной облицовки, особенно тесно примыкающей к античным декоративным приемам. Но самым блестящим созданием «инкрустационного стиля» можно считать маленькую церковку Сан Миньято, чудесно расположенную на холме, господствующем над Флоренций. Церковь Сан Миньято выстроена в течение XII века, и ее мраморная инкрустация как внутренняя, так и наружная дошла до нас в почти полной сохранности. В плане Сан Миньято представляет собой трехнефную базилику без поперечного нефа, с большой криптой под высоким хором. Горизонтальный антаблемент покоится на арках, которые поддерживаются колоннами с коринфскими капителями. Влияние романского стиля сказалось в своеобразном ритме этих опор: вместо каждой третьей колонны поставлены мощные столбы, со всех четырех сторон снабженные полуколоннами; одна из этих полуколонн, обращенная к среднему нефу, выше остальных и поддерживает поперечную арку, переброшенную через центральный корабль. Этот прием особенно интересен тем, что никогда не встречается в античной конструкции, но зато прочно удерживается в тосканской, вплоть до Брунеллески, связывая, таким образом, архитектуру раннего Ренессанса с традициями романского стиля. Внутренние стены Сан Миньято облицованы белыми и черно-зелеными мраморными плитами, образующими простой геометрический узор. Но главную прелесть и своеобразие церкви Сан Миньято составляет инкрустация фасада, законченная уже в начале XIII века и представляющая собой совершенно самобытное, национальное создание тосканской архитектуры. Нижний этаж состоит из пяти слепых арок, находящихся на коринфских колоннах. Арочный фриз и фронтон более узкого верхнего этажа опираются на четыре пилястры, оси которых характерным образом не совпадают с вертикальным делением нижнего этажа. Если в этом произвольном ритме членений сказывается несомненное влияние позднеантичной и византийской архитектуры, то сама идея плоского декоративного фасада является абсолютно новым изобретением, предвещающим архитектурные тенденции Ренессанса. Античной архитектуре, как и средневековой архитектуре северной Европы, вообще было чуждо понятие фасада как лица здания. Понятие фасада предполагает неподвижного зрителя, рассматривающего здание, как картину, с одной точки зрения и читающего в плоскости фасада как бы проекцию его внутреннего пространства. Такое представление пространства, заключающее в себе зародыш центральной перспективы, резко отличается как от пластической, словно всесторонне ощупывающей здание, античной архитектурной концепции, так и от сукцессивной, динамической концепции готики. И в этом смысле «инкрустационный стиль» Тосканы действительно заслуживает название Проторенессанса. Наряду со схемой базиликальной церкви мы находим в тосканской архитектуре романского периода и другой излюбленный тип античного зодчества — здание центрического плана. Эту схему обычно применяли для крещален. Наиболее интересный образец такого центрического здания эпохи «инкрустационного стиля» дает крещальня или баптистерий во Флоренции. История ее возникновения до сих пор еще темна. Согласно средневековому преданию флорентийскую крещальню долгое время считали древнеримской постройкой, храмом Марса. Если это предание и ошибочно, то, во всяком случае, первоначальная конструктивная основа баптистерия восходит к очень древним временам. Некоторые ученые относят его возникновение к раннехристианской эпохе, другие — ко времени лангобардов, к VI, VII веку. Окончательная же внутренняя и наружная облицовка баптистерия белыми и темно-зелеными мраморными плитами принадлежит эпохе от XII до XIII века. Восьмигранное здание баптистерия перекрыто шатровым куполом. Его внутреннее членение несколько напоминает схему римского Пантеона своими гранитными колонками, попарно поддерживающими горизонтальный антаблемент перед плоскими нишами. Однако как и в церкви Сан Миньято, так и в баптистерии мы находим любопытные отклонения от античной конструкции, явно предвосхищающие приемы Брунеллески и других архитекторов раннего Ренессанса. Сюда относится, например, расчленение угла двумя соседними пилястрами, а также сочетание колонны, поддерживающей арку, и пилястра, несущего карниз, — оба конструктивных приема совершенно чужды античному зодчеству, но находят себе частое применение в итальянской архитектуре кватроченто. В самих пропорциях баптистерия, изящнотонких, но вместе с тем чуть угловатых, в самой ясности и суровости линий проявляются характерные особенности тосканского раннего Ренессанса. Важное историческое значение флорентийского «инкрустационного стиля» станет нам особенно ясным, если мы привлечем к сравнению другую, внешне гораздо более блестящую страницу тосканского Проторенессанса — романскую архитектуру Пизы[7]. В политическом и экономическом отношении Пиза за период с XI по XIII век представляла собой значительно более богатый и мощный культурный центр, чем Флоренция. Естественно, что и пизанская архитектура эпохи Проторенессанса, чрезвычайно пышная и богатая, всегда гораздо сильнее привлекала внимание туристов, чем скромный «инкрустационный стиль» Флоренции. Главные постройки пизанского Проторенессанса — баптистерий, собор и знаменитая колокольня или кампаниле, которая благодаря неожиданному оседанию почвы во время постройки приобрела вид падающей башни, — все сосредоточены вместе. Сама идея пизанцев вынести свой собор за пределы города и поместить его в центре совершенно открытой площади для свободного рассмотрения со всех сторон решительно противоречит как средневековым обычаям, так и позднейшим тенденциям архитектуры Ренессанса и говорит о сильных восточных влияниях. Только восточными влияниями может быть объяснен и своеобразный план собора, построение которого было закончено в 1118 году мастерами Бускето и Райнальдо: две базилики, одна пятинефная и другая трехнефная, пересекаются между собой в форме латинского креста. Большое сходство этого плана с древнехристианской базиликой Калат-Симан в Сирии, разумеется, не могло быть случайным. Такой же восточный характер имеет и яйцевидный купол, возвышающийся над скрещением продольного и поперечного корабля. С особенной пышностью обработан наружный облик собора. Фасад разбивается на пять мнимых этажей, из которых нижний расчленен семью арками, а верхние четыре этажа украшены открытыми галереями с тонкими, миниатюрными колонками. Тот же мотив открытых колонных галерей использован и для украшения колокольни. Совершенно очевидно, что здесь мы имеем дело не с сознательным возрождением античных традиций, а с запоздалыми, искаженными, утерявшими свою первоначальную логику пережитками античной конструкции: с идеей греческого периптера, вуменьшенных, почти ювелирных пропорциях перенесенного на круглую, многоэтажную постройку. Наконец, Пизанский баптистерий, законченный постройкой уже в XIII веке, наряду с романскими аркадами и галереями и со странным кеглевидным куполом, обнаруживает явные признаки готических влияний — в декоративных мотивах остроконечных фронтончиков, башенок и так называемых краббов. Все отмеченные свойства пизанской архитектуры романского периода, или так называемого «аркадного» стиля, мало согласуются с понятием Проторенессанса. Перед нами не зарождение новых форм путем сознательного возвращения к античным первоисточникам, а изживание старинных традиций в перекрестном огне самых разнородных влияний. Если где в итальянской архитектуре понятие Проторенессанса имеет право на существование, то только в применении к флорентийскому «инкрустационному стилю», который действительно предвосхищает некоторые национальные особенности итальянского Ренессанса. Руководящую роль в итальянской архитектуре Тоскана и в особенности Флоренция продолжают играть и в следующий период, примерно от 1250 до 1400 года, когда готические влияния все сильнее заслоняют античные предания. Рим в эту эпоху потерял всякое историко-художественное значение. Вследствие непрестанных жестоких распрей между римскими дворянскими родами и особенно вследствие «Авиньонского пленения» пап, которое продолжалось от 1309 до 1377 года, Рим далеко отстал в своем художественном развитии от всей остальной Италии. Что касается Северной Италии, то благодаря своим непосредственным сношениям с готической Европой ее архитектура, правда, усвоила себе принципы и формы готического стиля в наиболее последовательном и развитом виде, но зато совершенно лишилась национальной самостоятельности и оторвалась от главного русла развития итальянской архитектуры. Церковь Сан Петронио в Болонье, Чертоза (то есть монастырь картезианцев) в Павии и собор в Милане могут служить главными примерами этой запоздалой североитальянской готики. Распространение готической архитектуры в Италии связано с деятельностью монашеских орденов, принявших наследие картезианских монахов. Этот монашеский характер итальянской готики естественно предопределил и ее специфические архитектурные формы. Так как Италия заимствовала принципы готического стиля через посредство монахов-картезианцев, то она получила их в том неготовом или упрощенном виде, в каком готика сложилась на родине картезианского ордена, в Бургундии. С развитой готикой Северной Франции итальянская архитектура так и не имела непосредственного соприкосновения. Помимо того, Средняя Италия ограничилась в своих готических заимствованиях только тем, что было пригодно для нищенствующих монашеских орденов и что могло быть приспособлено для целей проповеднической церкви. Эти же цели требовали просторного пространства, которое могло бы включить большой приток слушателей, спокойно внимающих проповеди. Таким образом, уже в силу своего практического назначения итальянская готическая церковь должна была видоизменить коренные предпосылки северной готики. К этому присоединились специфические требования итальянского строительного материала: обычай строить из кирпича и облицовывать его мраморной инкрустацией. Последствиями этой строительной техники было, во-первых, сокрытие естественных свойств кладки, которые были так дороги конструктивному чувству французских готических строителей, и, во-вторых, появление больших, гладких, замкнутых стен, точно так же противоречивших природным особенностям готической конструкции. Проникновение бургундской готики произошло прежде всего в Южную Италию. Старейшей готической церковью в Италии является картезианское аббатство Фоссануовы, выстроенное французскими архитекторами в 1208 году. Отсюда приемы бургундских строителей распространились на север и нашли себе наиболее благодарную почву в Умбрии и Тоскане. Здесь францисканские и доминиканские монахи восприняли наследие картезианцев и развили энергичную строительную деятельность. Первым образцом итальянской готики в точном смысле этого слова можно считать церковь святого Франциска в Ассизи, которая строилась от 1228 до 1239 года и сыграла впоследствии такую загадочную роль в проблеме творчества Джотто. Уступчатый, террасообразный характер почвы обусловил построение церкви в виде двухэтажной базилики. Так называемая «Нижняя» церковь в Ассизи со своими тяжелыми, массивными пропорциями и плоскими сводами производит еще романское впечатление. Напротив, «Верхняя» церковь, более стройная, обнаруживает уже ряд чисто готических признаков, например столбы в виде связки колонн или наружные контрфорсы наподобие южнофранцузской готики. Одновременно готические влияния начинают проникать в Тоскану и морским путем, через Пизу. Изумительная крошечная церковь Санта Мария делла Спина в Пизе представляет собой самый очаровательный образец своевольной итальянской готики. Эта чудесная, ювелирная в своей скульптурной декорации церковка показывает вместе с тем, какие внутренние причины мешали полному усвоению готики в Италии. Готика — это чисто архитектурный стиль, стиль отвлеченных конструктивных сил и отношений. В Италии же художественная жизнь и художественное творчество направлялись главным образом пластическим чувством. Оттого-то главная строительная деятельность треченто находилась не в ведении профессиональных архитекторов, а в руках скульпторов и отчасти живописцев: Джованни и Андреа Пизано, Арнольфо ди Камбио, Джотто, Орканья и т. п. Не удивительно, что природное пластическое чутье заставляло их и в архитектуре добиваться прежде всего разрешения чисто скульптурных проблем. В особенности же это скрытое пластическое начало итальянского архитектурного творчества повлияло на изменение архитектурных пропорций. Готике, как стилю отвлеченно-архитектурному и притом сукцессивному по ряду своих представлений, чужда соотносительность пропорций между человеком и архитектурой. Именно эта «безотносительность» готических пропорций и является причиной того, что готические соборы кажутся столь неизмеримо огромными. Фактически эти размеры вовсе не так велики, если их сравнить с измерениями ренессансных церквей и если, например, вспомнить, что самый грандиозный средневековый собор мог бы целиком поместиться в одном нефе собора святого Петра в Риме. Этой иррациональности северной готики, этой невозможности охватить готическую структуру целиком, в одном взгляде, в одной картине, итальянская готика, сначала бессознательно, в силу своего пластического предрасположения кладет предел. Уже в треченто в Италии зарождается потребность, теоретически обоснованная Ренессансом, видеть в человеке меру всех вещей, согласовать масштаб человеческого тела с пропорциями отдельных элементов архитектурной конструкции, с цоколем, с балюстрадой, размером окон и т. п. Вследствие этой легкой измеримости, ясной соотносительности архитектурных пропорций с человеком, создания итальянской готики приобретают более спокойный, статический и, пожалуй, даже прозаический характер, теряя постепенно ту мистичность, сказочность, которая присуща наиболее совершенным созданиям французской готики. Но зато итальянским зданиям свойственны оптимизм, радость, просторность, светлость. Но возвратимся опять к развитию итальянской архитектуры готического периода. Эпоха расцвета итальянской готики начинается с собора в Сьене. К его построению было приступлено в 1220-е годы; с 1259 года руководство постройкой находилось в руках монахов из Сан Галгано, которые сообщили собору черты ранней, бургундской готики. Наконец в 1284 году во главе строительных работ становится знаменитый скульптор Джованни Пизано, которому и принадлежит проект соборного фасада. В этом фасаде, который продолжает тенденции тосканского «инкрустационного стиля», столь ярко выраженные в церкви Сан Миньято, и заключается решительный контраст между итальянской и северной готикой. Хотя Джованни Пизано включил в свой фасад целый ряд декоративных готических элементов — остроконечные фронтончики, башенки, розетки и т. п., но по существу идея мнимого фасада, как чисто оптической кулисы, закрывающей тело здания своей плоской декоративной игрой, в корне противоречит принципам французской готики. Другое специфическое свойство итальянской готики, которое точно так же предвещает архитектурные принципы Ренессанса, это — преобладание горизонтальных направлений. Правда, Джованни Пизано завершает полукруглые арки портала заостренными фронтонами, правда, в соответствии с повышением среднего корабля он выдерживает вертикальное господство средней части фасада. Но вместе с тем он не позволяет башенкам, которые создавали такое неудержимое устремление кверху в североготических соборах, развивать до конца свою вертикальную энергию; а главное, он сознательно резко подчеркивает все горизонтальные членения фасада: сильно выраженным карнизом над порталами, остро очерченным квадратом центральной розетки и в особенности темными горизонтальными полосами инкрустации, чередующей белые и красные мраморные плиты. Еще сильней эта горизонтальная тенденция цветной инкрустации проявляется во внутреннем облике собора, где полукруглые арки, опирающиеся на редкие, массивные столбы с полуколоннами, создают совершенно непохожее на североготический интерьер впечатление широкого, просторного пространства. Также знаменитый фасад собора в Орвьето представляет собой, с одной стороны, приближение к формам северной готики, с другой стороны, дальнейшее развитие идеи плоского, декоративного фасада. Собор в Орвьето, строившийся в начале XIV века под руководством архитектора Лоренцо Майтани, по своей внутренней структуре примыкает к схеме древнехристианской базилики с колоннами и открытым потолком. Фасад же Орвьетского собора, уступая Сьенскому в кипучести пластической жизни, превосходит его более органическим слиянием отдельных частей в оптическое целое. Вертикальные и горизонтальные членения проведены здесь более последовательно, с точным согласованием нижнего и верхнего этажа; аркадная галерея непрерывно проходит через весь фасад, точно так же, как боковые столбы-башни вырастают непосредственно из цоколя и сплошным пучком линий устремляются кверху. В боковых порталах их движению соответствуют стрельчатые своды. Вместе с тем преизобилие пластических украшений Сьенского собора здесь значительно сокращено, замененное цветным узором мозаик, оно как бы переведено на язык более плоскостный и более красочный. Но нигде итальянская готика не достигает такой чистоты, такой самобытности и вместе с тем такого приближения к Ренессансу, как во Флоренции. К отмеченным мной уже ранее свойствам итальянской готики — согласованию пропорций здания с человеческим масштабом, преобладанию горизонтальных направлений и декоративной плоскости фасада — во Флоренции прибавляются черты, которые явно предвещают эпоху Ренессанса. Из ритмического стиля готика во Флоренции превращается в пространственный стиль. Глаз флорентийца требовал просторного пространства, ровного света, широких стен, которые бы так и просились на фресковые или скульптурные украшения. Вместе с тем флорентийские архитекторы стремятся остановить, стабилизировать непрерывное движение северной готики. Поэтому их совершенно не привлекают столь характерные для поздней северной готики задачи сложных звездных или веерообразных сводов; для них теряют всякий смысл вырастающие прямо из земли, неудержимо устремляющиеся кверху пучки столбов. Опоры теперь опять несут тяжесть; они становятся проще, массивней, короче и реже, интервалы между ними — шире, стены приобретают все большую протяженность, а окна, напротив, делаются все меньше, и из них исчезает оживленный узор цветных витражей. Правда, флорентийская готика некоторое время удерживает форму стрельчатой арки, но как чисто случайный, не связанный с сущностью конструкции придаток, от которого тем легче было вернуться к полукруглой арке романского стиля и тем самым сделать новый шаг в сторону Ренессанса. Столь же резко бросаются в глаза и отличия в наружном облике флорентийских готических церквей, где отпадает не только вся система контрфорсов, но и обе башни по фасаду. Наиболее готический вид имеет стариннейшая из готических церквей Флоренции, церковь доминиканского ордена Санта Мария Новелла, которую так любил Микеланджело и называл своей невестой. Ее строители-доминиканские монахи фра Систо и фра Ристоро, постройка ее продолжалась от 1278 до 1360 года. Благодаря своим гармонически пропорциональным крестовым сводам и мягко расчлененным на полуколонны столбам Санта Мария Новелла, пожалуй, более всех других итальянских церквей приближается к готическому духу. Но вместе с тем ее просторные аркады, ее широкий средний неф по соседству с двумя узкими боковыми создают совершенно чуждое для готики впечатление спокойной, немного суровой простоты. До сих пор не выяснено, нужно ли приписывать случаю или сознательному намерению строителей один из удивительных эффектов Санта Мария Новелла. Дело в том, что эта церковь строилась в несколько приемов и, как ясно видно по плану, имела неравное расстояние между столбами или, по французскому выражению, неравные травеи. Постройка началась с восточной части церкви, с хора, где звенья центрального нефа имеют продолговатую форму. При продолжении постройки на запад аркады были расширены и звенья приобрели квадратную форму. Благодаря увеличению интервалов к западу, в сторону портала, для входящего в церковь посетителя создается удивительный перспективный эффект: пространство среднего корабля кажется значительно более глубоким, чем оно есть на самом деле. Подобная смелая, чисто оптическая игра с пространством была чужда не только готической архитектуре, но даже и Ренессансу, и впервые аналогичное разрешение пространственной проблемы мы встретим лишь в архитектуре барокко. Однако не только внутренность церкви Санта Мария Новелла, но и ее фасад, как мы увидим в дальнейшем, заключает в себе элементы, предвосхищающие стиль барокко. К обработке фасада было приступлено около 1300 года, и в течение XIV века его традиционная флорентийская инкрустация из белых и черно-зеленых мраморных плит была доведена до карниза нижнего этажа. Продолжение работ по фасаду последовало только в середине XV века под руководством Леоне Баттиста Альберти. Именно ему принадлежит блестящая идея маскировки боковых скатов крыши и гармонического слияния верхнего и нижнего этажей путем декоративного мотива так называемой волюты. Так на переходе от готики к Ренессансу, задолго до возникновения стиля барокко, создался один из самых популярных его декоративных мотивов. Как Санта Мария Новелла для доминиканцев, так главным очагом францисканского ордена во Флоренции была церковь Санта Кроче. Ее постройкой начиная с 1295 года руководил один из самых выдающихся художников флорентийского треченто — скульптор Арнольфо ди Камбио. Здесь отступления от принципов северной готики доведены до максимума. В сущности, только стрельчатые арки напоминают о принадлежности Санта Кроче к готическому периоду. За исключением маленьких капелл вокруг хора в Санта Кроче нет пространств, перекрытых сводами. Вместо пучка колонн аркады опираются на простые восьмиугольные столбы. Потолок среднего корабля открыт, по образцу древнехристианской базилики. Его ширина так велика (девятнадцать метров — то есть шире, чем где-либо в Европе; для сравнения напомню, что ширина среднего нефа Кёльнского собора равняется четырнадцати метрам), столбы так редки, аркады так просторны, что создается впечатление одного большого пространства, раскрывающегося во все стороны, — впечатление, совершенно незнакомое северной готике и опять-таки больше напоминающее тенденции стиля барокко, чем Ренессанса. Я обращаю внимание на эти барочные особенности итальянской готики потому, что в искусстве треченто мы не раз еще встретимся со скрытыми предчувствиями барокко. Как Ренессанс есть своего рода возвращение к тенденциям романского стиля, так барокко во многих случаях продолжает художественные искания готики. Но вместе с тем пропорции Санта Кроче столь ясны и строги, ее стены столь просты, столь свободны от всяких декоративных излишков, что тесная преемственность между поздней итальянской готикой и Ренессансом становится несомненной. Ясность и чистота пространственных отношений Санта Кроче еще усугубляется благородным красочным созвучием белых стен, серо-голубых столбов и темно-красного пола со светлыми узорами вставленных в него могильных плит. К сожалению, снаружи церковь Санта Кроче совершенно обезображена безвкусным новым фасадом, который в середине XIX века за миллион лир воздвиг один английский меценат. Последним и самым крупным созданием флорентийской готики является построение собора Санта Мария дель Фьоре на месте старой церкви, посвященной святой Репарате. Так как постройка собора затянулась на очень долгий срок, то его стенам пришлось пережить смену целого ряда архитектурных направлений, и в своем окончательном виде собор лишен настоящего художественного единства. Возведение собора начал в 1296 году уже упомянутый мной строитель Санта Кроче Арнольфо ди Камбио. Смерть прервала деятельность Арнольфо после того, как ему удалось воздвигнуть первые два звена базилики. В 1334 году главным строителем собора был назначен Джотто. Ему принадлежит первый проект знаменитой колокольни (кампаниле) собора и осуществление нижней части ее высокого цоколя. После смерти Джотто руководство постройкой перешло к скульптору Андреа Пизано, который успел закончить цоколь кампаниле и возвести над ним первый двойной этаж. Смерть Пизано опять оборвала строительные работы, пока в 1357 году не был привлечен к руководству постройкой Франческо Таленти, деятельность которого положила наиболее заметный отпечаток на художественный облик собора. Франческо Таленти прежде всего довел до конца постройку кампаниле, бесспорно самой красивой из итальянских колоколен эпохи готики. Следует, однако, отметить, что по своей конструкции и своим контурам и в особенности по своим пропорциям флорентийская кампаниле представляет собой решительное отступление от принципов готики. Прежде всего — отсутствием сквозных вертикальных линий, столь типичных для северной готики, и отсутствием постепенно сужающихся кверху пропорций. Напротив, преобладает характерное для Ренессанса отчетливое деление на этажи с подчеркнутыми горизонталями карнизов. Весьма показательно также, что Франческо Таленти отверг предполагавшееся проектом Джотто остроконечное завершение кампаниле и закончил башню строго горизонтальным срезом верхнего этажа. Во всех этих нововведениях Таленти сказывается ясное предчувствие Ренессанса. В одном отношении Таленти пошел, быть может, даже чуть дальше: постепенное увеличение кверху вышины этажей и в особенности последовательное увеличение размеров световых отверстий напоминает барочные оптические приемы. Ренессанс строил оптическую перспективу здания снизу вверх, барокко же, если так можно сказать, — сверху вниз. Помимо завершения кампаниле Таленти развил энергичную деятельность также и по построению самого собора, почти доведя до конца его продольную базилику. Но в шестидесятых годах XIV века наступил решительный перелом в построении собора, в котором сказалась неудовлетворенность готическими преданиями и потребность в новых архитектурных формах. С этого момента готика в Италии быстро идет к своему окончательному разложению. Вокруг постройки собора разгорается борьба партий, в которой принимает участие почти все население Флоренции. Один проект сменяется другим; объявляются конкурсы на достойное продолжение собора, созываются комиссии из художников и городских деятелей. Наконец, в 1367 году комиссия останавливается на проекте, предусматривающем в завершение продольной базилики огромное купольное пространство. Все предшествующие проекты и модели подвергаются уничтожению, и участники совещания произносят торжественную клятву ни на шаг не отступать от этой «модели художников и мастеров», как она тогда была названа. По новому проекту постройка продолжалась в течение всего XIV и первых десятилетий XV века. Однако задумать огромное купольное пространство было легко, но перекрыть его куполом оказалось делом непосильным для архитекторов треченто. Только в 1420 году идея купола достигла своего осуществления, когда Брунеллески в сотрудничестве со скульпторами Донателло и Нанни ди Банко выработал модель купола, согласно которой его построение и было выполнено в 1436 году. Наконец, уже после смерти Брунеллески и по его плану был воздвигнут фонарь купола. Не приходится удивляться, что в силу своей длительной и противоречивой истории собор Санта Мария дель Фьоре не получил цельного художественного завершения. Наиболее сильное впечатление он производит снаружи, особенно издали, например с холма Сан Миньято, когда господствует над Флоренцией чудесным силуэтом своего темно-красного купола и когда его массивные стены четко вырисовываются в красочных контрастах флорентийской инкрустации. Внутри собор несколько отпугивает своей мрачностью и известной несогласованностью больших пространств. Но, быть может, эта-то несогласованность и свидетельствует лучше всего о творческой силе флорентийского художественного гения, неутомимо преодолевавшего все препятствия к созданию собственного национального стиля. Правда, Флорентийский собор еще нельзя назвать произведением Ренессанса, это все-таки готика, но готика уже лишившаяся ряда своих специфических свойств. Возьмем план собора. Сразу видно противоречие двух его главных частей — продольной базилики и центрического купольного пространства. Войдем внутрь собора. Столбы, поддерживающие своды, так тонки и расставлены так редко (еще реже, чем в Санта Кроче), что зритель находится целиком под впечатлением одного большого пространства. Вместе с тем ширина сводов и аркад совершенно уничтожает иллюзию их вертикального устремления. Это отсутствие вертикального движения сводов Таленти подчеркнул, пожалуй, несколько грубым, но вполне проникнутым духом Ренессанса приемом — широкой горизонтальной полосой галерейки на темных деревянных консолях. В результате зритель совершенно не испытывает характерного для готического собора ощущения неудержимой тяги в небесную высь, не сознает огромной вышины сводов (напомню, что своды флорентийского собора имеют в вышину сорок один метр и что эта вышина сводов превзойдена только в Кёльнском и Амьенском соборах); точно так же, как не сознает зритель и чрезвычайной длины базилики (эта длина, 153 метра, превосходит буквально все как итальянские, так немецкие и французские готические соборы). Подобное впечатление равновесия пространственных измерений, совершенно незнакомое готике, составляет главную оптическую основу стиля Ренессанса. Еще более длина базилики проигрывает от соседства огромного купольного пространства. Достаточно посетителю вступить под покровы могучего купола Брунеллески, как он совершенно забывает о существовании базилики, он явно мыслит себя находящимся в центрическом пространстве. В этом смысле борьба проектов и мнений вокруг Флорентийского собора приобретает символическое значение — борьбы против средневековой продольной базилики за всестороннее центрическое здание, или, иначе говоря, борьбы за статическое восприятие пространства. Однако, как ни велики технические заслуги Брунеллески в перекрытии куполом столь грандиозного пространства, как ни благородны контуры купола снаружи, внутри купольное пространство Флорентийского собора еще обнаруживает много дефектов. Освещение, падающее через круглые отверстия тамбура, слишком скудно; из восьми стен, поддерживающих купол, только четыре имеют оконные проемы, остальные же замкнутой сплошной массой несут тяжесть купола. Заканчивая обзор архитектуры флорентийского треченто, я хотел бы в двух словах упомянуть о светских постройках эпохи. В первую очередь следует назвать два главных правительственных здания Флоренции. Старейшее из них, выстроенное общиной для высоких представителей народной власти, для капитано дель пополо и для подесты, носило название Палаццо дель Пололо, а позднее, когда сделалось резиденцией полицейского начальника, получило прозвище Барджелло и теперь превращено в музей скульптуры. Второе правительственное здание, более крупное по размерам и более массивное по пропорциям, было начато постройкой в 1298 году по плану Арнольфо ди Камбио. Это так называемое Палаццо деи Приори, или делла Синьория, так как оно служило местом совещания старейшин общины, теперь более известное под именем Палаццо Веккьо (то есть «старый дворец»). Для обоих зданий характерно вырастание непосредственно из земли, без всякого постамента, сплошным квадратным массивом. Оба здания врезываются мощным углом в небольшую сравнительно площадь, так что между их массивами и размерами площади нет никакого взаимного согласования. Двумя последовательными взлетами — сначала до выступающего вперед верхнего этажа, а потом до нового выступа башни — мрачный колосс дворца Синьории вздымается кверху, господствуя над всем городом. Стены сложены из грубо обработанного камня (так называемой «рустики»), придающего зданию еще более суровый, воинственный вид. Окна разной величины, расположены несимметрично, с перерывами, без согласования осей. Отсутствие центрального портала и несоразмерно малая дверь в углу подчеркивают чисто готическое впечатление незаконченности, как будто здание находится в непрерывном процессе становления, роста. Под прямым углом к дворцу, отделенная узкой улочкой, примыкает так называемая лоджия деи Ланци, раньше называвшаяся лоджия деи Приори, так как под ее аркады вступали приоры, когда говорили к народу. Замкнутая с двух сторон, перекрытая крестовыми сводами, лоджия открывается на площадь полукруглыми арками, опирающимися на вертикально расчлененные столбы. Опять чисто готическая идея словно провизорной постройки, представляющей собой не само здание, а как бы переход между зданием и площадью, лишенной центра и равновесия. Но так как лоджия деи Ланци высторена во второй половине XIV века, то есть как раз в эпоху наиболее сильного брожения противоречивых художественных принципов, то наряду с чисто готическими формами сводов, столбов и балюстрад она обнаруживает вполне выраженные пространственные представления Ренессанса — просторность аркад и преобладание горизонтального направления. Приближаясь к лоджии, мы испытываем ощущение готической динамики, прогуливаясь под ее аркадами, мыслим себя в статическом пространстве Ренессанса. Обобщая наши наблюдения над итальянской архитектурой треченто, можем сформулировать их следующим образом. Между средними веками и Ренессансом нет резкой демаркационной линии, нет непроходимой пропасти. Архитектура треченто представляет собой одновременно процесс разложения готики и подготовку идей Ренессанса. Но вместе с тем если всмотреться глубже в художественную концепцию треченто, то она обнаруживает больше внутреннего сродства с эпохой, последующей за Ренессансом, чем с самим Ренессансом.III
ИСТОРИЮ ИТАЛЬЯНСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ эпохи Возрождения обычно начинают с Никколо Пизано, как первого представителя Проторенессанса. Во имя полноты изложения мы воспользуемся этой традицией; но с той же оговоркой, какую мы сделали при характеристике архитектуры итальянского треченто: что в скульптуре Никколо Пизано и его последователей идет речь не только о предчувствиях стиля Ренессанса, но и о своеобразном южном преломлении готики в процессе сложения итальянского искусства. Во всяком случае, искусство Никколо Пизано никоим образом нельзя рассматривать только как начало, как нечто абсолютно новое по сравнению с предшествующей ему средневековой скульптурой. Скульптурный стиль Никколо Пизано вырос также из средневековых предпосылок и из непрерывной преемственности античных традиций. Никколо Пизано в этом смысле и новатор и одновременно завершитель по существу своего пластического дарования. Уже на примере Никколо Пизано можно убедиться, что развитие итальянской поэзии и итальянского изобразительного искусства того же времени протекало неодинаково. Поэзия тогда была не профессией, а побочным занятием состоятельных людей; на ней непосредственно не сказывались влияния заказчиков, цеха, ремесленного производства. Она стала звеном общественного роста городов, она отразила подъем индивидуальности, атмосферы политической борьбы раньше, чем изобразительное искусство. Художник в то время был еще связан условиями цеховой организации, дисциплиной устава, своей профессией как ремеслом, требованиями заказчика. Источники поэзии шли из любовной лирики знати; источники скульптуры и живописи уходили в церковное искусство, ограничивались догматическими предписаниями, регламентацией тем. Но и в искусстве отчетливо пробивались новые идеалы и оно все более становилось фактором прогрессивного народного развития. Происхождение Никколо Пизано и первые шаги его художественной деятельности до сих пор еще не вполне ясны. Год рождения Никколо Пизано в точности неизвестен. Ввиду того что первая крупная работа Никколо — кафедра Пизанского баптистерия — закончена в 1260 году, после по меньшей мере пятилетней работы, можно предполагать, что мастер родился около 1225 года. Согласно одному документу сьенского архива от 1266 года, в котором Никколо называет себя сыном некоего Пьетро из Апулии, можно заключить, что семья художника явилась в Пизу — постоянное место деятельности мастера — из Южной Италии, из Апулии. Это предположение подтверждается и свидетельством художественных памятников. При дворе императора Фридриха II, в Апулии и позднее в Капуе, особенно интенсивно поддерживался культ античных традиций. Законченные в 1240 году постройкой триумфальные ворота, так называемая Порта Капуана, в своих скульптурных украшениях обнаруживают чрезвычайную близость к позднеантичному скульптурному стилю. Среди декоративных скульптур Капуанских ворот находим столь редкие в тогдашней Италии круглые статуи (в том числе не дошедшую до нас аллегорическую фигуру Капуи и статую императора на троне). Но и сохранившиеся фрагменты — например, бюст канцлера Пьетро делла Винья — показывают такую ясность кубической формы, такую уверенность техники, что капуанские скульптуры долгое время принимали за античные оригиналы. То основательное знание античной мраморной техники и то пластическое чутье, которое Никколо Пизано обнаруживает в самых первых своих работах, лучше всего может быть объяснено его юношескими впечатлениями в Южной Италии. Путь Никколо Пизано из Южной Италии на его новую родину документально не может быть прослежен. Но бесспорные элементы готики в работах Никколо заставляют предполагать, что по пути в Пизу он имел возможность внимательно изучить памятники французской готики в монастырях Сан Галгано и Фоссануова. Но наиболее важные предпосылки для своего пластического стиля Никколо Пизано нашел в самой Тоскане. Особенно в Лукке, в связи с украшением местного собора, замечается к середине XIII века оживление художественной жизни благодаря появлению из Ломбардии скульптора Гвидо да Комо. Из произведений его школы следует упомянуть прежде всего «Конную статую святого Мартина и нищего» на фасаде Луккского собора. Этот первый образец свободной пластики в Тоскане и вместе с тем первая конная статуя в Италии несомненно оставила крупные следы в творчестве Никколо Пизано. Не менее важно для оценки происхождения стиля Никколо Пизано произведение Гвидо да Комо — кафедра в церки Сан Бартоломео в Пистойе. Кафедра Гвидо да Комо имеет еще традиционную прямоугольную форму и прислоняется одной стороной к стене; ее три колонны опираются на статуи львов; ее рельефы изображают эпизоды из жизни Христа. Наряду с неоспоримыми признаками романского стиля — приземистыми пропорциями, невыразительными лицами и чисто орнаментальной трактовкой складок здесь явно сказываются свойства пробуждающегося реализма. В то время как в рельефах романского стиля головы фигур расположены всегда на одном уровне, Гвидо да Комо свободно варьирует величину фигур. Их тела приобрели большую свободу движений, фронтальная расстановка ног нарушена; и впервые, для достижения пространственной иллюзии, Гвидо да Комо под углом к плоскости рельефа помещает архитектурные кулисы. Все попытки ученых отыскать следы деятельности Никколо Пизано раньше пизанской кафедры до сих пор не увенчались успехом. Кафедра Пизанского баптистерия, законченная в 1260 году, является для нас и до сих пор первым достоверным произведением пизанского мастера. При первом же взгляде на пизанскую кафедру в глаза бросается не близость скульптур Никколо с античными традициями, которую принято так сильно подчеркивать, а неопровержимые признаки готических влияний. Сюда относится прежде всего сама шестиугольная форма кафедры, которую Никколо избирает вместо традиционной прямоугольной, далее — готические рогатые капители, готические трехлопастные арки и пучки колонн, обрамляющих рельефы. Средневековая схоластика дает Никколо главную основу, на которой он развивает теологическое содержание своей кафедры. Над колоннами размещены аллегорические изображения добродетелей. Среди них одна, аллегория «Силы», заслуживает особенного внимания, так как она представлена в виде обнаженной фигуры Геракла: это — первый обнаженный акт итальянской скульптуры. В люнетах — фигуры пророков и евангелистов. Наконец, в главном украшении кафедры в пяти рельефах иллюстрированы события из жизни Христа, которые заканчиваются первым в Италии изображением «Страшного суда». В этих рельефах и проявляется главное эволюционное значение Никколо Пизано — начало той традиции монументального драматического повествования, которое делается основной задачей всего последующего итальянского искусства. Отличие от северной готики сказывается здесь особенно поучительно. Не круглая статуя, а рельеф составляет излюбленную форму итальянской пластики. Не скульптура на декоративной службе у архитектуры, как в северных готических соборах, а самостоятельный язык пластического повествования. На проблему многофигурной композиции, на проблему драматически насыщенного действия и устремлено внимание Никколо Пизано. Первый же рельеф цикла («Благовещение» и «Рождество Христово») вплотную подводит нас к пластическим принципам Никколо Пизано. Особенно внимательно мастер изучал, по-видимому, те памятники позднеримского искусства, которые и теперь еще находятся на пизанском кладбище, — вазу с вакхическим рельефом и так называемый саркофаг Федры. Пизанский мастер очень много воспринял от античных подлинников: и технику с обильным применением бурава и отдельные мотивы (так, например, позу Федры он почти целиком переносит на своего Иосифа, фигура богоматери близко примыкает к изображениям умерших на этрусских саркофагах, Вакх римской вазы почти буквально повторен в фигуре первосвященника на «Принесении во храм»). Наконец монументальный размах обобщенной формы на рельефах Никколо резко отступает от мелко-узорчатой поверхности романских и готических статуй. И тем не менее сразу бросается в глаза, что общая пластическая концепция Никколо чужда духу античного рельефа. Свободному развертыванию античного рельефа в сторону, мимо зрителя, Никколо Пизано противопоставляет чисто готический принцип наслоения композиции вверх, со стремлением заполнить фигурами каждый пустой уголок рельефа. Фигура богоматери, например, повторяется два раза, и притом рядом, но в различном масштабе: типичный прием сукцессивного представления форм — «Благовещение» случилось раньше «Рождества Христова» и поэтому как бы отходит в прошлое, становится меньше. Есть в рельефе Никколо и пережитки раннесредневековой, так называемой «обратной» перспективы, согласно которой пространство воспринимается как бы с точки зрения главного героя и поэтому главная фигура изображается в большем масштабе, чем второстепенные. В последующих рельефах цикла, как, например, в «Поклонении волхвов», разница масштабов все более сглаживается, ритм композиции становится более плавным и спокойным, но сукцессивный характер восприятия остается в полной силе. Чувство пространства — главный стержень искусства Ренессанса — находится у Никколо Пизано еще в зачаточном состоянии. Мастер воспринимает действия и отношения фигур не в их пространственных функциях, а в их временной последовательности. На примере третьего рельефа — «Принесение во храм» — разноречивые источники творчества Никколо Пизано особенно заметны. Античные мотивы в фигуре первосвященника с мальчиком; как я уже говорил, она является точным повторением Вакха с вазового рельефа. И обработка мрамора позднеантичная: с гладкой полировкой обнаженного тела, с глубоко врезанными складками, с обильным применением бурава. Наряду с этим — чисто романские формы архитектурных кулис и романские пропорции приземистых фигур. И в то же время готическое богатство драпировок, совершенно не считающихся с органической структурой тела, и в особенности готическая насыщенность духовного выражения. Дальнейшее развитие Никколо Пизано показывает, с одной стороны, более пристальное изучение натуры, с другой — несомненно усиливающееся влияние северной готики. Некоторые ученые даже склонны предполагать, что объяснение этого поворота к готике — в поездке Никколо Пизано во Францию. Но для такого предположения нет никаких документальных данных. Скорее, мы имеем дело с органической эволюцией стиля Никколо, идущей параллельно общему развитию итальянского искусства. Подобный вывод подсказан и тем обстоятельством, что ближайшие работы Никколо Пизано, в которых начинают преобладать готические элементы, исполнены им в сотрудничестве с его помощником фра Гульельмо, представителем младшего поколения, более чуткого к веяниям готики. Сюда относится прежде всего люнет над порталом Луккского собора, изображающий «Снятие со креста». В рельефе люнета античные традиции отступают перед воздействием французской готики. Об этом свидетельствует плавный ритм масс, непрерывное вытекание одной фигуры, одной линии из другой и та изумительная гибкость, с которой силуэт всей группы вписан в полукруглое очертание рамы. В 1267 году закончена вторая совместная работа Никколо Пизано с его учеником фра Гульельмо и Арнольфо ди Камбио — арка св. Доминика для церкви Сан Доменико в Болонье. Здесь стиль Никколо, несомненно не без участия его младших коллег, еще дальше развивается в направлении готики. Сама тематическая задача, которую поставил себе мастер, говорит о влиянии североготического искусства. Сюжеты, о которых повествуют рельефы, не только не заключают в себе никаких дидактических тенденций, но заимствованы частью (впервые в итальянском рельефе) из современной художнику жизни. Для примера приведу рельеф, изображающий, как «апостол Петр передает святому Доминику правила ордена», и подчеркну те моменты, в которых яснее всего отразились новые художественные интересы Никколо Пизано: реалистические типы круглолицых монахов, проникновенная, почтительная поза святого Доминика с согнутой головой и плечами и готическое здание в фоне рельефа. От прямых античных традиций здесь не осталось уже ни малейшего следа. В 1268 году Никколо Пизано заканчивает вторую свою крупную работу — кафедру Сьенского собора — на этот раз при участии четырех учеников, в том числе сына своего Джованни Пизано. Мастер, с одной стороны, стремится обогатить форму кафедры, с другой стороны, сделать ее пропорции более стройными. Вместо шестигранной формы он избирает на этот раз восьмигранную, увеличивая тем самым количество рельефов. Цоколь средней колонны обогатился новыми аллегорическими фигурами искусств и наук; капители варьируются в своих мотивах; вместо пучков колонн рельефы разделяются теперь статуями — богоматери, пророков и сивилл. Точно так же Никколо уменьшает пропорции фигур в рельефах, но зато увеличивает их количество и стремится к более подробному и более выразительному повествованию. В «Распятии» сьенской кафедры больше трагизма, больше горестного отчаяния; в «Поклонении волхвов» больше оживления и сердечности, чем в соответствующих композициях пизанской кафедры. На «Поклонении волхвов» заметно, что Никколо Пизано еще не изжил приемов «обратной перспективы». Мадонна, как главное действующее лицо, все еще остается самой крупной фигурой композиции, пропорции лошадей, и в особенности верблюдов, все еще слишком малы по сравнению с масштабом наездников. Вместе с тем Никколо Пизано размещает фигуры уже не в два, а в три ряда, и не один ряд за другим, а один над другим, как будто почва под ногами фигур поднимается отвесно, в виде горы. Особенно эта готическая сукцессивная перспектива бросается в глаза в рельефе «Принесение во храм». Характерно, что в рельефах сьенской кафедры Никколо более решительно отступает от характерного принципа античного рельефа — единства места, накопляя в одном рельефе несовместимые с единством действия мотивы: здесь, например, рядом со сценой «Принесения во храм» изображено «Бегство в Египет». Дух готики дает себя теперь знать в самых различных направлениях: и в чисто готических формах архитектурных кулис, и в более стройных пропорциях фигур, и в удлиненном овале лица, и в большей текучести, красноречивости жеста. Есть, наконец, в рельефе «Бегство в Египет» и еще одна черта готического стиля: в левом углу рельефа, на фоне здания, Никколо Пизано помещает свой автопортрет в современном костюме. Это — первый автопортрет художника в итальянском искусстве. Последняя работа Никколо Пизано — колодезь в Перудже, с тремя последовательно сужающимися водоемами, из которых нижний имеет сложную форму двадцатипятиугольника, — была по проекту мастера почти целиком закончена его учениками. В 1287 году один из документов сьенского архива упоминает Никколо Пизано как умершего. Как можно видеть из обзора творчества Никколо Пизано, его историческая роль отнюдь не состояла в возрождении традиций античной скульптуры, но в их окончательномзавершении и преодолении путем приближения к принципам северного европейского искусства. Никколо Пизано можно, пожалуй, назвать инициатором национального итальянского стиля в скульптуре. Он расчистил дорогу готике в Италии и подготовил все предпосылки для величайшего гения итальянской готической скульптуры — для гения своего сына, Джованни Пизано[8]. Джованни Пизано представляет собой гораздо более крупную и яркую личность, чем его отец, Никколо. Он по праву может быть назван одним из величайших мастеров итальянской скульптуры. Почти ровесник Джотто, Джованни Пизано являет, однако, полную противоположность эпическому спокойствию и мудрой сдержанности своего флорентийского современника. Джованни Пизано весь — порыв, кипение страстей, бешенство фантазии. Этот огненный темперамент Джованни Пизано, эти его искания имеют наибольшее сходство с Микеланджело. Годы рождения и смерти Джованни Пизано точно неизвестны. Из того обстоятельства, что в договоре на изготовление сьенской кафедры от 1265 года Джованни Пизано впервые упоминается как подмастерье своего отца, можно сделать вывод, что он родился около 1250 года. Характерно, что беспокойный темперамент Джованни Пизано нашел отзвук даже в тексте договора, где говорится об его участии в работах при условии, «если он захочет прибыть в Сьену и если обещает там пробыть более продолжительное время». Последнее же документальное упоминание имени Джованни Пизано относится к 1314 году, когда король Генрих VII поручил ему изготовление гробницы своей жены Маргариты, умершей от чумы в Генуе. Первые шаги художественной деятельности Джованни Пизано проходят в тесном сотрудничестве с отцом, Никколо. Но уже в этих ранних работах сила и самобытность таланта Джованни проявляется очень заметно, подчиняя консервативную концепцию Никколо новым художественным веяниям. Так, рука Джованни чувствуется и в общей композиции и в отдельных декоративных элементах сьенской кафедры, в которой, как мы видели, Никколо Пизано отдал большую дань готическим тенденциям — несомненно под влиянием своего сына. Еще решительнее творческий дух Джованни проявляется в последней работе Никколо — в колодезе перед Дворцом приоров в Перудже. Этот колодезь — один из первых монументальных образцов того вида скульптуры, который получил в Италии столь блестящее развитие (особенно в эпоху барокко), — был скомпонован по проекту Никколо, но при ближайшем участии Джованни Пизано. В рельефах, украшающих нижний бассейн колодезя, чередуются тематические циклы, типичные для готической эпохи: символические изображения месяцев года, библейские и классические сюжеты, иллюстрации Эзоповых басен и т. п. Нет никакого сомнения, что уже часть этих рельефов исполнена при содействии Джованни Пизано; в особенности это следует предположить по поводу аллегорических изображений свободных искусств. Астрономия, например, держащая в руках шар вселенной, обладает характерной для Джованни гибкостью движений и, вращаясь вокруг своей оси, образует чисто готическую изогнутую спираль. Еще более активное участие Джованни Пизано принял в украшении второго бассейна. Статуи, маркирующие углы бассейна, стремятся как бы отделиться от архитектурной конструкции и наделены характерным для Джованни напряженным и в то же время словно невидящим пророческим взглядом. Особенно же в последнем завершении колодезя сказывается неистощимая фантазия Джованни. Из бронзовой чаши вырастают, как экзотический цветок, полуфигуры нимф, их орнаментально сплетенные руки поддерживают корону из драконов, танцующих вокруг струи фонтана. В фантазии Джованни Пизано готика причудливо смешивается с этрусскими и восточными мотивами. Наряду со скульптурными работами молодой Джованни Пизано уделял много внимания и архитектурно-декоративной деятельности. Его первым опытом в этой области является наружная декорация Пизанского баптистерия, которую Джованни, так сказать, в наследство получил от своего отца. Здесь особенно отчетливо сказывается глубокое различие их художественных концепций. Никколо Пизано принадлежит декорация нижнего этажа, выполненная в классически строгом романском стиле. Над этим спокойным романским фундаментом вырастает фантастически сверкающая готика Джованни Пизано, тончайшее мраморное кружево колонн, фиалов и вимпергов. Над каждой капителью и во внутренней оправе вимпергов — бюсты пророков, из каждой вершины фронтончика поднимается статуя; между фронтонами — четыре колонки, тонкие, как свечи, поддерживают нежные фиалы, похожие на колосья. К сожалению, статуи и бюсты, дополняющие этот архитектурный узор, сильно пострадали. Но даже и в теперешнем искаженном, фрагментарном виде они обнаруживают главное свойство дарования Джованни Пизано — страстную силу духовного выражения. Достаточно взглянуть на голову Христа — с полуоткрытыми губами, с трепещущими ноздрями, с характерным для Джованни острым и невидящим взглядом косо поставленных глаз. Словно внутренний огонь сжигает образы Джованни Пизано. Разумеется, эта пламенеющая эмоциональность образов Джованни Пизано вытекает из общего художественного мировоззрения готики. Но вместе с тем талант Джованни извлек из нее специфические итальянские, национальные черты. Эти национальные черты итальянской готики лучше всего можно наблюдать на статуе богоматери, украшающей люнет над порталом Пизанского баптистерия. Суровое лицо богоматери с затененными глазами и энергичным ртом похоже на лицо сивиллы; ее мощное тело изгибается в округлых движениях, и ее руки без малейшего напряжения поддерживают младенца — Христа. Это не французская, грациозная, хрупкая и изысканная готика; но и не перегруженная искажениями и реалистическими деталями готика германских стран. Это готика драматических коллизий, монументального повествования и классических линий, свойственная Италии.
I. БАДИЯ ВО ФЬЕЗОЛЕ. ВТОР. ПОЛ. XII В.

2. ЦЕРКОВЬ САН МИНЬЯТО ВО ФЛОРЕНЦИИ. КОНЕЦ XI-НАЧАЛО XIII В.

3. ПИЗА. ОБЩИЙ ВИД НА АНСАМБЛЬ СОБОРА. XI–XII ВВ.

4. СОБОР В СЬЕНЕ. 1284 — ОК. 1377 Г.

5. СОБОР В ОРВЬЕТО. ПОСЛЕ 1310 Г.

6. ЦЕРКОВЬ САНТА МАРИЯ НОВЕЛЛА ВО ФЛОРЕНЦИИ. ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XIII В. ВНУТРЕННИЙ ВИД.

7. ЦЕРКОВЬ САНТА КРОЧЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. НАЧАТА В 1295 Г. ВНУТРЕННИЙ ВИД.

8. СОБОР САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ ФЬОРЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1296–1436. ОБЩИЙ ВИД.

9. КАМПАНИЛА СОБОРА САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ ФЬОРЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1334–1358.

10. БРУНЕЛЛЕСКИ. КУПОЛ СОБОРА САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ ФЬОРЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1420–1436.

11. ПАЛАЦЦО ВЕККЬО ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1298–1314.

12. БАРДЖЕЛЛО ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1260–1320 ГГ. ВНУТРЕННИЙ ДВОР.

13. НИККОЛО ПИЗАНО. КАФЕДРА БАПТИСТЕРИЯ В ПИЗЕ. 1260.

14. НИККОЛО ПИЗАНО. СИЛА. ДЕТАЛЬ КАФЕДРЫ БАПТИСТЕРИЯ В ПИЗЕ. 1260.

15. НИККОЛО ПИЗАНО. РОЖДЕСТВО. ДЕТАЛЬ КАФЕДРЫ БАПТИСТЕРИЯ В ПИЗЕ. 1260.

16. НИККОЛО ПИЗАНО. ПРИНЕСЕНИЕ ВО ХРАМ. ДЕТАЛЬ КАФЕДРЫ СОБОРА В СЬЕНЕ. 1265–1268.

17. ДЖОВАННИ ПИЗАНО. СТАТУЯ ФАСАДА СОБОРА В СЬЕНЕ. OK. 1285–1300 ГГ.

18. ДЖОВАННИ ПИЗАНО. ГЕРАКЛ. ДЕТАЛЬ КАФЕДРЫ СОБОРА В ПИЗЕ. 1302–1310.

19. ДЖОВАННИ ПИЗАНО. СИВИЛЛА. ДЕТАЛЬ КАФЕДРЫ ЦЕРКВИ САНТ АНДРЕА В ПИСТОЙЕ. 1301.

20. ДЖОВАННИ ПИЗАНО. РОЖДЕСТВО. ДЕТАЛЬ КАФЕДРЫ ЦЕРКВИ САНТ АНДРЕА В ПИСТОЙЕ. 1301.

21. ДЖОВАННИ ПИЗАНО. КАФЕДРА СОБОРА В ПИЗЕ. 1302–1310.

22. НАДГРОБИЕ КАНГРАНДЕ ДЕЛЛА СКАЛА. ВЕРОНА. 2-Я ЧЕТВЕРТЬ XIV В.

23. АРНОЛЬФО ДИ КАМБИО. ДЬЯКОН. ДЕТАЛЬ ГРОБНИЦЫ КАРДИНАЛА ДЕ БРЕЙ ЦЕРКВИ САН ДОМЕНИКО В ОРЬВЕТО. ОК. 1282 Г.

24. АНДРЕА ПИЗАНО. ЮЖНЫЕ ДВЕРИ БАПТИСТЕРИЯ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1330–1336.

25. АНДРЕА ПИЗАНО. ПИР ИРОДА. РЕЛЬЕФ ЮЖНЫХ ДВЕРЕЙ БАПТИСТЕРИЯ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1330–1336.

26. АНДРЕА ПИЗАНО. ТКАЧИХИ. РЕЛЬЕФ КАМПАНИЛЫ СОБОРА САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ ФЬОРЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1337–1343.

27. ЛОРЕНЦО МАЙТАНИ. РЕЛЬЕФ ФАСАДА СОБОРА В ОРВЬЕТО. 1310–1330.

28. ОРКАНЬЯ. УСПЕНИЕ БОГОМАТЕРИ. ТАБЕРНАКЛЬ ЦЕРКВИ ОР САН МИКЕЛЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1352–1359.
Самую же крупную архитектурно-декоративную задачу Джованни Пизано выполнил по украшению фасада Сьенского собора, над которым он работал с перерывами от 1284 до 1299 года. Архитектурную композицию этого фасада мы уже разобрали в свое время. Столь же решительное отступление от принципов чистой готики, какое мы наблюдали в архитектурной композиции фасада, сказывается и в его пластическом убранстве. Скульптурные элементы северного готического собора находятся на службе у архитектуры, всецело подчиняются ее пропорциям и ее ритму. Их назначение — чисто тектоническое: подчеркивать и продолжать вертикальное направление архитектурных линий. Статуи рассчитаны на рассмотрение издали и не имеют самостоятельных пластических функций. Иначе — на фасаде Сьенского собора. Здесь статуи — живые органические массы, которые своим движением разрывают архитектурное обрамление и словно действительно населяют поверхность здания, прячась в нишах, вырастая над карнизами, отыскивая себе просторные уступы, общаясь, перекликаясь между собой. Не они служат архитектуре, а архитектурный фасад превращается в их фон, в их арену, на которой они развертывают свое динамическое повествование. Такой принцип декоративного убранства можно было бы скорее всего определить как живописный, и с его наиболее блестящим расцветом мы встретимся отнюдь не в эпоху Ренессанса, а в последующие за Ренессансом эпохи. Такое же впечатление мы получим, анализируя скульптурные памятники Сьенского собора по отдельности. В этих апатических образах столько индивидуальной силы и столько драматического напряжения, что глаз зрителя невольно изолирует их от архитектурного обрамления и соединяет в самостоятельные пластические группы. Так в одну группу кажутся соединенными Христос, Иоанн Креститель, орел и ангел, хотя они расположены на различных по высоте и глубине выступа карнизах. Рука Христа благословляет, но его страшные глаза под насупленными бровями мечут молнии. Он не спаситель, а безжалостный судья, мститель, и сопровождающий его Иоанн Креститель, суровый отшельник со спутанной гривой волос, еще усиливает трагическую силу образа Христа. Только еще у одного итальянского мастера мы найдем позднее подобное истолкование идеи Страшного суда — у Микеланджело в Сикстинской капелле. На другом углу фасада — философ Платон и пророк Валаам развертывают свои свитки. Диадема на голове пророка подобна языкам пламени, волосы философа образуют словно крутящийся вихрь вокруг его трагического, изборожденного морщинами лица. Совершенно в духе северной готики тела пророков скрыты под обилием своевольных драпировок; преломляясь глубокими складками, одежда закрывает их ноги. Статуи не стоят на постаментах, но как бы вырастают из них, подобно могучим, корявым стволам деревьев. И все же в статуях Джованни Пизано резко бросается в глаза особенность, существенно отличающая их от принципов северной готики. Они лишены всякого вертикального устремления, легкости, невесомости французской готики. Их плечи и головы сгибаются под тяжестью духовного бремени, ткани, облекающие их тела, широкими массами свисают вниз. Французская готическая статуя нуждается в наивозможно меньшем постаменте; напротив, статуи Джованни Пизано расширяются к постаменту, требуют максимально прочной базы. Здесь опять мы сталкиваемся со свойствами итальянского стиля, покоящегося на материалистических, рационалистических предпосылках. Но было бы ошибкой в этих массивных телесных образах Джованни Пизано видеть предчувствие Ренессанса. Искусство Джованни Пизано — это лишь итальянская разновидность готики, более телесная, более чувственная, но все же готика. Достаточно взглянуть на этого огненного, демонического коня, словно силящегося выпрыгнуть из стены фасада, чтобы убедиться в чисто готическом направлении фантазии Джованни Пизано. И что еще более чуждое духу античности и идеалам Ренессанса можно себе представить, чем страшную волчицу Джованни Пизано, когда-то украшавшую фасад Палаццо Коммунале в Сьене? Римский символ целиком преобразился в готическую химеру, в страшное чудовище, готовое ринуться длинным костлявым телом на врага коммуны и поглотить его своей свирепой пастью. Мы переходим теперь к двум самым крупным работам мастера, снискавшим ему особенную славу, — к кафедре в церкви Сайт Андреа в Пистойе, готовой в 1301 году, и к кафедре Пизанского собора, которую Джованни закончил в 1310 году. Кафедра из Пистойи близко примыкает к конструкции кафедры Никколо Пизано из Сьенского собора. Но именно в тех, на первый взгляд, незначительных изменениях, к которым прибег Джованни Пизано, проявляется огромность пути, проделанного его искусством. Та же восьмиугольная форма кафедры, грани которой подчеркнуты статуями; тот же мотив колонн, опирающихся на львов, те же фигуры пророков в люнетах и тот же порядок сцен из жизни Христа в рельефах. И однако же совершенно иное формопонимание, совершенно иной, новый дух. Чем они обусловлены? Прежде всего тем, что пропорции стали стройнее и яснее проступает гибкий скелет конструкции: в четко очерченных карнизах, в стройных капителях с эластично изгибающимися листьями, но особенно в арках с характерно готическим заострением, придающим размах, динамику всей конструкции. То же самое можно наблюдать и в отдельных статуях пистойской кафедры. Вместо аллегорий добродетелей у Джованни Пизано кружатся жуткие орлы и размахивают крыльями вокруг базы средней колонны. Ко львам, в качестве опоры колонн, присоединяется мотив атлантов, сгибающихся под тяжестью ноши. Эти фигуры атлантов невольно хочется сравнить с образами Микеланджело, с его закованными в цепи «Рабами» или с бородатым пленником в статуе «Победы». Той же динамики полны пророки в люнетах, готовые выскочить из узких рам, с яростной быстротой выбрасывающие свои длинные свитки. Но нигде различие художественных концепций Никколо и Джованни не сказывается так наглядно, как при сравнении статуй сивилл. У Никколо они сидят в спокойном раздумье, в прямых фронтальных позах; у Джованни изгибаются всем телом, готовые соскочить с места, содрогаясь от внезапного прикосновения маленьких гениев, в ужасе прислушиваясь к таинственным голосам пророчества. Обратимся к главному украшению кафедры — к циклу рельефов. И здесь Джованни заимствует у Никколо не только темы и последовательность цикла, но и схему повествования каждого отдельного рельефа. И все же какое огромное различие! Здесь соединены, как у Никколо, в одном рельефе «Благовещение» и «Рождество Христово». Приемы «обратной» перспективы (фигуры «Благовещения» крупнее фигур «Рождества») сохранились полностью и, может быть, даже усилились. Но темп жизни, наполняющий эту старую схему, совершенно иной. Искусство Джованни Пизано несравненно душевней, психологически изощренней, реалистичней в деталях, а главное — динамичней. Посмотрите на сияющую радость ангела из «Благовещения», на неотступное внимание, с которым богоматерь следит за сыном, поправляя его покрывало, на трогательную заботливость, с которой женщины пробуют воду для младенца, на чисто жанровую сценку пастухов — все это полно наивной, но захватывающей искренности чувства. Но в рельефах Джованни Пизано есть еще одно очень важное формальное свойство — абсолютная, хотелось бы сказать, неантичность, антиклассичность самих принципов рельефа. В античном рельефе решающее значение имела передняя, воображаемая плоскость рельефа, позади которой и мимо которой совершалось движение фигур. У Джованни Пизано единство передней плоскости резко нарушено. Рельеф развивается не спереди назад, а сзади наперед: фигуры как бы выскакивают из задней плоскости рельефа, стремясь отделиться от нее как можно дальше. И потом: основой античного рельефа была ясность пластической формы, абсолютная полнота и законченность контура. У Джованни Пизано, напротив, форма взрыхлена, контуры прячутся и прыгают, преобладает впечатление красочных пятен, живописной игры света и тени. Другими словами, свет дороже для Джованни Пизано, чем форма. Мастер готов вступить на путь живописного рельефа. Уже в первом рельефе пистойской кафедры мы могли, следовательно, наблюдать главные предпосылки художественной концепции Джованни Пизано. Я не буду поэтому подробно останавливаться на всех рельефах цикла. Напомню только третий рельеф кафедры с «Вифлеемским избиением младенцев», так как в нем еще нагляднее проявляется вырастание фигур из задней плоскости рельефа и вместе с тем уменьшение пропорций сверху вниз, как бы в обратной перспективе. Таким образом, художественное мировоззрение Джованни Пизано целиком покоится на средневековых, готических основах — на сукцессивном или генетическом восприятии пространства. Вторая кафедра Джованни Пизано, предназначенная для Пизанского собора, знаменует некоторый поворот в творческой эволюции мастера. К сожалению, она сильно пострадала при пожаре собора. Ее фрагменты, собранные в Пизанском соборе, только в самое последнее время удалось тщательно согласовать и реставрировать, так что мы можем наконец получить правильное представление об общей композиции кафедры. Кафедра образует десятиугольник, благодаря своим изгибающимся контурам почти приближающийся к круглой форме, — очень характерная черта для готического классицизма, если так можно выразиться. Увеличение числа рельефов (до девяти) заставило мастера прибавить две новых сцены: «Рождество Иоанна Крестителя» и «Наречение имени». Рельефы по-прежнему отделены фигурами пророков, фигуры сивилл по-прежнему связывают подножия арок. Но многое в общей композиции изменилось. Карнизы, особенно верхний, стали гораздо массивнее, арка потеряла свою готическую стрельчатую форму и получила взамен обрамление из растительных волют. Главное же, что в качестве опор кафедры наряду с колоннами фигурируют теперь статуи и что вообще по сравнению с прежними кафедрами пизанской школы сильно возросло количество круглых статуй. Центральная опора здесь имеет широкую базу с изображениями семи свободных искусств; сама же она состоит из трех аллегорических фигур: Веры, Надежды и Любови. Две другие опоры скомбинированы из целых пяти фигур. В одной из них господствует фигура Христа, которую некоторые ученые истолковывают как символ императорской власти. Другую группу статуй возглавляет аллегория «Земля» или, как думают другие ученые, аллегория «Пизы». У подножия «Пизы» мы видим обнаженную фигуру добродетели, чрезвычайно близко повторяющую мотив Венеры Медицейской, — единственное прямое заимствование Джованни Пизано из античного искусства. Конечно, такое обращение к классическим источникам не случайно — оно вполне соответствует статуарным и монументальным тенденциям позднего стиля Джованни, точно так же, как более широкая, обобщенная трактовка форм и драпировок. Насколько при всем этом Джованни Пизано остался убежденным последователем готики, показывает мотив одной из опор в виде Геркулеса. Несмотря на палицу и львиную шкуру, в статуе Геркулеса нет ни малейшего следа античных, классических идеалов: в его худом, изможденном теле аскета вычерчено каждое ребро, лицо с глубокими впадинами глаз и огромным лбом искажено гримасой страдания. Поучительно сравнение сивилл пизанской и пистойской кафедр. В сивиллах пизанской кафедры нет того внешнего порыва движения, который сотрясает тела сивилл пистойской кафедры. Теперь эта физическая динамика успокоилась; она как бы перешла во внутрь, превратилась в динамику духовную, в трагическое затишье перед бурей. То же самое относится и к пластической концепции рельефов пизанской кафедры. Уже в первом рельефе цикла, который соединяет темы «Благовещения», «Встречи Марии и Елизаветы» и «Рождества Иоанна Крестителя», сразу заметно уменьшение количества фигур, большая концентрация действия, большая глубина и насыщенность переживаний. Одежды трактованы в широких, обобщенных складках, прилегающих к телу и очерчивающих его контуры. В следующей композиции «Рождества Христова» еще заметней новый принцип трактовки рельефа: мастер оставляет больше свободного пространства между фигурами и вырабатывает фигуры в более выпуклом рельефе, еще усиливая контраст света и тени. В третьем рельефе цикла, изображающем «Поклонение волхвов», фигуры совершенно отделились от фона и далеко выступают вперед за плоскость рельефа. Вместе с тем в рельефах пизанской кафедры можно наблюдать тенденцию мастера к объединению отдельных групп в орнаментальную раму общего силуэта (как, например, в правой верхней части рельефа, где линия силуэта младшего волхва продолжается в руке ангела, в очертании скалы и дерева, и образует обрамление для всей группы). К сожалению, последняя крупная работа Джованни Пизано дошла до нас в полуразрушенном виде. Фрагменты надгробия императрицы Маргариты хранятся теперь в палаццо Бьянко в Генуе. Но и по этим фрагментам можно судить о богатстве творческой фантазии у Джованни Пизано и о том, какая совершенно новая пластическая идея была положена в основу его последнего произведения. Гробница Маргариты Люксембургской, более чем какое-либо другое произведение Джованни Пизано, способна раскрыть нам истинное историческое значение пизанского мастера. Еще в конце XIII века ученик Никколо Пизано, уже знакомый нам как архитектор Арнольфо ди Камбио, установил традиционный тип итальянской монументальной гробницы. Первый образец этого традиционного типа Арнольфо ди Камбио дает в гробнице кардинала де Брей в церкви Сан Доменико в Орвьето, законченной в 1282 году. Покойный лежит на нарадном ложе, поднятом на высокий постамент, украшенный колоннами и мраморной инкрустацией, в то время как два дьякона отдергивают занавес перед ложем. Верхняя часть гробницы сохранилась в неполном виде. Представление о том, как должно было выглядеть завершение гробницы кардинала де Брей, может дать гробница папы Венедикта XI в церкви Сан Доменико в Перудже, исполненная в начале XIV века одним из последователей Арнольфо ди Камбио. Этот-то тип гробницы с изображением покойного, лежащего на смертном одре, и сделался исходным пунктом для всей дальнейшей эволюции гробницы итальянского Ренессанса. Джованни Пизано дал в Генуе совершенно новое и неожиданное отклонение от традиционной схемы. Два ангела поддерживают императрицу, разбуженную их голосами, за руки и поднимают ее из могилы. Эта волнующая идея воскресения умершего, воплощенная в изумительной ритмической и выразительной композиции, оказалась совершенно забытой в продолжение всего Ренессанса и была вновь использована только в надгробной скульптуре маньеризма и барокко. Обобщая наши наблюдения над искусством Джованни Пизано, мы должны признать, что оно гораздо больше обязано готике, чем античным традициям, и что значительно более прочные нити протянуты от Джованни Пизано к искусству пост-Ренессанса, чем к самому Ренессансу. После смерти Джованни Пизано Пиза все более теряет свое значение крупного художественного центра. Ученики Джованни распространяют пластические идеи своего учителя по всей Италии, но в самой Пизе художественная жизнь быстро замирает. Тино ди Камаино заносит в Южную Италию, в Неаполь, традиции отчасти Джованни Пизано, отчасти Арнольфо ди Камбио. Специальностью Тино ди Камаино является надгробная пластика, и как наиболее удачное достижение его в этой области можно считать гробницу Марии Венгерской в одной из церквей Неаполя. Тино ди Камаино целиком примыкает здесь к схеме Арнольфо ди Камбио, только обогатив новыми деталями готическое архитектурное обрамление и увеличив количество декоративных статуй. От драматического повествования, таким исключительным мастером которого был Джованни Пизано, Тино ди Камаино совершенно отказывается, ограничиваясь отдельной человеческой фигурой в простых, репрезентативных позах. По сравнению с Джованни Пизано его формы отличаются большим спокойствием и большей компактностью. Та роль, которую в Южной Италии выполнил Тино ди Камаино, в Северной Италии досталась на долю Джованни Бальдуччо из Пизы. Главная деятельность Бальдуччо протекала в Милане, где к пизанским традициям прибавилось воздействие североитальянской школы, возглавлявшейся многочисленными представителями семьи Кампионе. Арка святого Петра Мученика в церкви Сайт Эусторджо в Милане дает наилучшее представление об эклектическом, перегруженном стиле Бальдуччо. Что касается скульптурной семьи Кампионе, то их произведения рассеяны по всей Ломбардии, но наиболее важный след в истории итальянской скульптуры оставила группа Кампионе, работавшая в XIV веке в Вероне. Состоя на службе у веронских тиранов делла Скала, Джованни и Бонино да Кампионе создали новый тип светской гробницы. Прототипом для всех позднейших монументов этого рода послужила более ранняя гробница Кангранде делла Скала, умершего в 1329 году. Нижняя часть этой гробницы, с саркофагом, на котором покоится тело умершего, примыкает к схеме Арнольфо ди Камбио. Но, во-первых, гробница находится не в церкви, а на открытом воздухе, во-вторых, ее балдахин, завершенный высокой пирамидальной башней, служит постаментом для конной статуи Кангранде. Таким образом, в гробнице Скалиджера мы имеем первый в Италии образец скульптурной группы, не подчиненной архитектуре, а свободно возвышающейся на открытом фоне неба. Что касается самой группы, то ее силуэт, благодаря широкой массе попоны, скрывающей тело лошади, проникнут еще совершенно готическим духим и только, пожалуй, в самоуверенной позе и улыбке Кангранде можно видеть предвестие самоутверждающейся личности Ренессанса. Однако решительная граница между художественным мировоззрением треченто и Ренессанса в гробницах Скалиджери проведена не только формальной концепцией, но и материалом: в отличие от аналогичных памятников кватроченто, которые почти без исключения отлиты из бронзы, все конные статуи XIV века выполнены или в камне, или в дереве, поддерживая, следовательно, средневековую традицию. Наиболее же оригинальное ответвление пизанской школы можно наблюдать в творчестве архитектора и скульптора Лоренцо Майтани, с которым мы уже познакомились как со строителем собора в Орвьето. В последнее время ряд ученых приписывает ему, по-видимому, с полным основанием, и пластические украшения фасада. Эти украшения заключаются главным образом в больших, богатых фигурами, мраморных рельефах, расположенных на четырех высоких, пилястрообразных стенах фасада между порталами. События Ветхого и Нового завета чередуются здесь параллельно, обрамленные разветвлениями родословного дерева. Рельефы второго столба, посвященные истории пророков, наиболее архаичны по формам и ближе примыкают к пизанским традициям. Руку самого Лоренцо Майтани более всего обличают рельефы первого и четвертого столба, изображающие сцены сотворения мира и Страшного суда. В отличие от Джованни Пизано Майтани ведет свой рассказ без всякого драматического напряжения, с характерным для представителя сьенской школы мягким лиризмом. Этому лирическому настроению соответствует и пластическая трактовка рельефов — в мягких, почти тающих формах, в ритмически-плавных линиях. От грациозной ритмики рельефов Лоренцо Майтани прямой путь ведет к рельефным композициям Лоренцо Гиберти на дверях Флорентийского баптистерия. Наконец, третью эволюционную ступень в украшении фасада обнаруживают рельефы третьего столба. Есть основание думать, что их автором был какой-нибудь флорентийский скульптор. На это указывает компактность группировок без всяких лирических отступлений, логичность действия, четкость, почти сухость рисунка и, в особенности, развертывание рельефа в глубину. Так трезвая логика флорентийского художественного гения все более оттесняет эмоциональную фантастику пизанской школы. А с середины XIV века господствующее положение в итальянской скульптуре окончательно переходит к Флоренции. Было бы однако ошибочно думать, что с появлением Флоренции во главе художественного движения в Италии сразу восторжествовали идеи Ренессанса. Социальные и эстетические предпосылки художественной жизни долгое время по-прежнему остаются средневековыми. Единство стиля по-прежнему является руководящим стимулом художественной жизни. Пластика и живопись выполняют по преимуществу декоративные функции, подчиняясь архитектурной концепции. Статуи и картины не рассчитаны на самостоятельное существование, но должны действовать в рамках архитектурного целого. Слияние искусств проявляется в том, что один и тот же художник часто объединяет в себе, в своей деятельности несколько видов творчества. Джотто — живописец и архитектор; Андреа Пизано и Франческо Таленти выступают одновременно и как архитекторы и как скульпторы. Часто живописец дает скульптору идею и предварительный набросок для статуи или рельефа; так, например, Джотто — для рельефов, украшающих стены кампаниле, Аньоло Гадди — для статуй добродетелей в люнетах Лоджии деи Ланци и т. п. Вместе с тем господствует коллективный, безымянный способ работы. В договорах, заключенных с художниками, редко говорится об определенной теме или статуе — обыкновенно только о «фигурах вообще», составляющих звено цикла, обрабатываемого целой корпорацией художников. Такой художественной корпорацией, игравшей решающую роль во флорентийской художественной жизни треченто, была так называемая Opera del Duomo, то есть скульптурная и архитектурная мастерская при Флорентийском соборе, которая руководила не только работами по украшению собора, но выполняла и большинство других крупных заказов декоративного характера. Само собой разумеется, что в этих коллективных заказах личности отдельных художников теряли свои индивидуальные очертания, растворялись в общем стиле, и что часто совершенно невозможно различить степень участия этого или другого мастера в данном цикле. Наряду с тем влиятельным положением, которое во флорентийском искусстве занимала эта скульптурная мастерская при соборе, все большее значение во Флоренции приобретает цех ювелиров. Их новые технические приемы, вытекавшие из обработки металлов, накладывают важный отпечаток на дальнейшее развитие флорентийской скульптуры. Характерные особенности флорентийского стиля намечаются уже в первой половине XIV века. Замечательные серебряные рельефы, украшающие алтарь собора в Пистойе, которые в 1316 году исполнял ювелир Андреа ди Якопо Оньябене, могут служить наглядным примером раннего флорентийского стиля. Влияние Джованни Пизано еще дает себя знать, но оно уже переработано в духе специфических флорентийских тенденций: упрощение композиции, компактность группировок, стремление к завоеванию глубины рельефа так же свидетельствуют об этих тенденциях, как обособление отдельных сцен декоративными рамами и как интимные новеллистические приемы рассказа, в отличие от драматического обострения коллизий в искусстве Джованни Пизано. Однако при всей оживленности художественной жизни во Флоренции в начале XIV века ей не хватало выдающегося таланта в области скульптуры. Флорентийцы особенно остро почувствовали этот недостаток, когда возник вопрос о большой скульптурной задаче — об изготовлении бронзовых дверей для баптистерия. Сначала было решено отправить ювелира Пьетро ди Якопо в Пизу для изучения тамошних бронзовых дверей, которые еще в конце XII века изготовил мастер Бонанно. Затем была сделана попытка привлечь для этой работы специалиста из Венеции. В 1330 году заказ был поручен Андреа Пизано. В нем Флоренция наконец нашла выдающегося руководителя местной скульптурной школы. Несмотря на свое прозвище, Андреа ди Сер Уголино не был пизанского происхождения. Он присвоил себе прозвище Пизано как своего рода почетный титул. Родиной Андреа Пизано был тосканский городок Понтедера, где мастер родился, вероятно, около 1290 года. Андреа, несомненно, прошел ювелирную школу, совершенствовался в Пизе в кругу последователей Джованни Пизано; но главную основу своего пластического стиля он почерпнул в живописи Джотто. Насколько скульптурные приемы Андреа разнятся от стиля Джованни Пизано, показывают уже его ранние работы. Успокоение и упрощение — так можно было бы характеризовать главные намерения Андреа Пизано. Он стремится к простому и замкнутому силуэту, к плавному ритму линий, к спокойному равновесию поз. Особенно заметно изменилось отношение между телом и одеждой. Правда, Андреа Пизано удержал средневековую схему изгибающейся в колене и отставленной в сторону ноги, создающей типично готический взлет линий. Но вместе с тем Андреа Пизано стремится преодолеть господствующую роль одежды в пластическом оформлении фигуры, неизбежную для готической скульптуры. Теперь уже не одежда определяет движения и формы тела, но само тело становится основным фактором пластической концепции. В результате постепенно вырабатывается все большая свобода и органичность движения. Голова естественно и мягко посажена на шею и плечи, руки отделяются от торса, тело начинает свободно функционировать во всех своих сочленениях. Еще более важная эволюционная роль принадлежит Андреа Пизано в истории рельефа. От флорентийцев не укрылась новизна и цельность пластической концепции Андреа. Когда в 1336 году бронзовые двери баптистерия были закончены (теперь это — Южные двери), Флоренция встретила их появление как национальный праздник; даже приоры вышли из дворца и вместе с иностранными послами приняли участие в торжестве открытия. Обе створки двери поперечными и продольными полосами разбиваются на четырнадцать полей; каждое из этих полей украшено рельефами, замкнутыми в готическую раму. В приемах обработки обрамления с гвоздями, розетками, львиными головами отражаются пережитки техники деревянных кованых дверей. Из двадцати восьми рельефов верхние двадцать рассказывают события из жизни Иоанна Крестителя, тогда как нижние восемь, служащие как бы постаментом для всего цикла, посвящены аллегорическим изображениям добродетелей. Джованни Пизано никогда не компоновал с такой строгостью и ясностью. Но и само понятие рельефа сильно изменилось. Вместо высокого рельефа с отрывающимися от фона фигурами, с резкими ударами света и тени Андреа Пизано применяет более плоский рельеф, сохраняющий единство передней плоскости. Вместо беспокойного переполнения и динамики — спокойное равновесие немногих фигур. К этой новой концепции рельефа Андреа Пизано пришел, несомненно, под воздействием фресковых циклов Джотто. Влияние Джотто сказалось в целом ряде прямых заимствований (например, фигуры добродетелей навеяны аналогичными аллегориями Джотто на стенах Капеллы дель Арена в Падуе; из того же фрескового цикла Джотто заимствован скрипач на пиру Ирода; тогда как сцена Соломен повторяет композицию Джотто в церкви Санта Кроче), но еще важней влияние Джотто на общий стиль лаконичного и логического повествования Андреа Пизано. Пожалуй, даже Андреа Пизано еще более скуп в подробностях, еще сдержанней в жестах, еще компактней в группировках. В композициях Джотто живет дух Данте, дух монументальной драмы. Андреа Пизано своим гармоническим, лирическим талантом более напоминает Петрарку или Боккаччо. Он не драматург, а новеллист, умеющий даже в трагические сюжеты вкладывать элементы жанровой интимности. Однако как ни отличается пластический стиль Андреа от традиций пизанской школы, он целиком еще находится в пределах художественного мировоззрения готики. Рельефы Андреа Пизано совершенно лишены чувства пространства. Его фигуры принадлежат какой-то отвлеченной сфере, в которой нет ни глубины, ни воздуха. Его фоны представляют собой только декоративные придатки, символически намекающие на место действия. Тем не менее роль Андреа Пизано на переломе от готики к Ренессансу очень значительна. Ему первому в истории итальянской пластики принадлежит попытка остановить поток сукцессивного восприятия и сосредоточить действие рассказа в одном кульминационном пункте. Оформление бронзовых дверей Флорентийского баптистерия, автором которых был Андреа Пизано, — чрезвычайно интересный момент в итальянском искусстве. Скульптура в общем развивается несколько медленнее, чем живопись. Мы увидим впоследствии, что Джотто лет на тридцать раньше Андреа Пизано пришел к тем же результатам, к тому же открытию, столь чреватому для дальнейшей эволюции европейского искусства. Джованни Пизано рассказывал свои события в рельефах таким образом, что они генетически развертывались во времени. То, что происходило, скажем, в левом углу рельефа, было раньше, чем то, что происходило в правом, наверху — раньше, чем внизу. Андреа Пизано делает первую в итальянской скульптуре попытку рассказать событие как нечто одновременное. Поэтому-то он так стремится сократить до минимума количество фигур и по возможности остановить их движение. В эпоху Джованни Пизано фигура жила только тогда, если она двигалась. Ко времени Андреа Пизано представления изменились, и фигуры признаются существующими, если они имеют телесную, пространственную форму. Таким образом, сделан чрезвычайно важный шаг к мировоззрению Ренессанса — идея симультанного представления родилась. И тем не менее до Ренессанса еще очень далеко. Почему? Да потому, что симультанное представление Андреа Пизано относится только к человеку, к предметам, но не к пространству. Достаточно взглянуть на любой рельеф Андреа Пизано, чтобы убедиться, что действие происходит не в реальном пространстве, а в какой-то отвелеченной сфере, что реальное существование художник признает только за человеческой фигурой. Недаром и обрамление рельефа у Андреа Пизано имеет такой сложный, орнаментальный, по-готическому сукцессивный характер. Благодаря этому обрамлению создается впечатление, что изображение находится не позади рамы, а перед рамой. Эти наблюдения станут еще более убедительными, если мы обратимся ко второму циклу рельефов, выполненному под руководством Андреа Пизано. Я имею в виду рельефы, украшающие цоколь Флорентийской кампаниле. Как мы уже знаем, руководство постройкой колокольни Флорентийского собора находилось до 1337 года в руках Джотто, а затем перешло к Андреа Пизано. Гиберти, знаменитый скульптор первой половины XV века, высказал мнение в своих «Комментариях», что Джотто принадлежала идея и программа всего цикла, а также, что по его рисункам выполнены первые рельефы. Проверить справедливость этого утверждения до сих пор не удалось, тем более что до нас не сохранилась ни одна документально удостоверенная скульптурная работа Джотто. Несомненно, во всяком случае, что изготовление большинства рельефов этого цикла приходится на время деятельности Андреа Пизано в качестве строителя кампаниле и что многие из рельефов выполнены Андреа Пизано собственноручно. Программа всего цикла представляет собой своего рода энциклопедию знаний того времени, еще целиком проникнутую схоластическими идеями. Нижняя полоса рельефов начинается с создания Адама и Евы. Следующие рельефы показывают человека в различных областях культурного творчества — первого пастуха, первого кузнеца, первого изобретателя музыки, возглавляемые астрономией; новая группа включает изображения первого законодателя, первого морехода, первого земледельца. В верхней же полосе рельефов представлены те элементарные нравственные силы, которые по схоластическим представлениям управляют жизнью человека: семь планет, семь добродетелей, семь свободных искусств и, наконец, как высшая ступень божественной милости — семь таинств. Все рельефы нижней полосы оправлены в шестигранные рамы, рельефы же верхнего цикла очерчены ромбовидными рамами[9]. Уже сама эта тенденция к сложной орнаментальности рамы, к тому же вытянутой вертикально и не дающей прочного основания, целиком проникнута готическим духом. Задача рельефа сводится, следовательно, не столько к тому, чтобы дать реальный сюжет действительности, сколько к тому, чтобы декоративно заполнить раму, — в орнаментальном согласовании изображения и рамы. Возьмем два наиболее блестящих достижения в этом цикле: рельеф «Ткачихи» из нижнего ряда и «Мессу» из верхнего ряда. Изображение не определяет границ рамы, но, так сказать, вствалено в раму post factum. К этому присоединяется своеобразное отношение между рельефом и фоном. Заметьте, что фон рельефа получает всякий раз особую декоративную обработку поверхности: в одном случае — легкое взрыхление, в другом случае — орнамент, подобный шашечному узору. Эта декоративная обработка фона еще сильнее подчеркивает принципиальный контраст между фигурой и обрамлением. В отличие от рельефа Ренессанса, где фон пробит, где он означаетглубокое пространство, здесь фон непроницаем, выталкивает фигуры вперед и не позволяет им проникнуть в глубь рельефа. Перед нами — последний пережиток средневековой обратной перспективы. Аналогичное понимание рельефа мы можем наблюдать и в украшениях фасада лоджии деи Ланци. Рисунки к рельефам, посвященным изображению «добродетелей», как мы знаем, дал живописец Аньоло Гадди, а сами рельефы выполнены корпорацией Opera del Duomo. Здесь композиция с еще большей последовательностью ограничена только одной фигурой, а обрамлению рельефа придана еще более сложная, орнаментальная форма. Как самый последний предел в развитии рельефа треченто следует рассматривать достижения Андреа Орканья, попытавшегося сочетать композиционные принципы Андреа Пизано с многофигурностью Джованни Пизано. Вазари называет Орканью учеником Андреа Пизано. С живописью этого разностороннего мастера, пробовавшего свои силы также и в архитектуре, мы еще познакомимся. В области скульптуры Андреа Орканья выполнил только одну, но зато капитальную работу — знаменитый табернакль в Ор Сан Микеле, то есть хлебном амбаре, впоследствии превращенном в святилище архангела Михаила. Этот табернакль — одно из самых чудесных созданий флорентийской готики — спереди украшен большой алтарной иконой, а сзади — изображением богоматери, вручающей апостолу Фоме свой пояс. Наибольшего же внимания заслуживают восемь рельефов (по два с каждой стороны кивория), иллюстрирующие жизнь богоматери, — собственноручная работа Андреа Орканьи, законченная им в 1359 году. В первом рельефе цикла — «Рождество Марии» — Орканья удержал сложную форму обрамления, но произвел в нем очень существенное изменение, поставив раму не на угол (как в рельефах кампаниле), но на одну из сторон восьмиугольника и ослабив таким образом вертикальное устремление. Вместе с тем Орканья отказывается от сдержанной, замкнутой группировки Андреа Пизано и пополняет свой рассказ обилием жанровых реалистических деталей. Но самое главное это то, что Орканья стремится углубить и реально мотивировать пространственную арену для своего рассказа. Таких полных и последовательных пространственных указаний не давал еще никто из скульпторов треченто. И все же Орканье не удалось преодолеть сукцессивного метода представлений и объединить фигуры и пространство в одно целое. Для того чтобы достигнуть впечатления, будто фигуры находятся во внутреннем помещении, Орканья прибегает к помощи занавеса. Но фигуры по-прежнему не входят внутрь рельефа, а как бы вываливаются наружу. Красноречивей о прочности готического мировоззрения говорит задняя кулиса рельефа: вместо того чтобы дать внутреннюю стену комнаты, Орканья изобразил наружный фасад со ставнями и арочным фризом. Еще не родилась идея центральной перспективы, согласно которой художник, желая изобразить внутренность комнаты, как бы снимал ее переднюю стену. У Орканьи еще господствует «обратная» перспектива: он одновременно изображает и внутренний и наружный облик пространства. Смелее и грандиознее задуман рельеф «Успения богоматери» на задней стороне кивория. Эту массовую сцену, подобную которой не найдешь даже в творчестве Джованни Пизано, Орканья рассказывает с чрезвычайным богатством оттенков и с большой искренностью и силой чувств. Но схема пространственного построения остается еще вполне готической: перспектива сверху вниз (следует обратить внимание на пропорции фигур в правой части рельефа) спорит с перспективой спереди в глубину. И точно так же не примирено разногласие между фигурами и фоном рельефа. Орканья задумал сцену как бы происходящей внутри пещеры. Но фон по-прежнему выталкивает фигуры вперед, а зазубренный контур пещеры превращается в чисто орнаментальное обрамление. Художественная мысль бьется в поисках выхода, в предчувствии новых идейных и стилистических возможностей, но основные предпосылки для нарождающегося художественного мировоззрения еще не найдены. И как бы сознавая бессилие преодолеть готические традиции, поколение скульпторов, принадлежащее ко второй половине XIV века, сознательно сокращает поле своей деятельности и, отказываясь от рельефа, от повествования, ограничивает свою задачу изолированной круглой статуей. Это затишье в итальянской скульптуре продолжается вплоть до начала XV века, когда новое поколение скульпторов с внезапной решимостью устремляется на борьбу с готическим или, как тогда говорили, варварским духом и на создание принципов нового реалистического стиля.IV
РАЗВИТИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ живописи эпохи треченто проходит сложными путями: в XIII столетии итальянская живопись запаздывает в развитии по сравнению с архитектурой и скульптурой; в XIV же веке, напротив, их обгоняет. Ту историческую роль, которую для истоков итальянского национального стиля сыграл тосканский «инкрустационный стиль», Никколо и Джованни Пизано, в живописи выполнили художники раннего треченто — Дуччо ди Буонинсенья и Джотто. Они выполнили эту роль с запозданием, но зато гораздо полнее и последовательнее. Задержка в сложении самобытной итальянской живописи была вызвана фактором, который не играл существенной роли ни в архитектуре, ни, особенно, в скульптуре XIII века или так называемого дученто, — а именно византийскими влияниями. Итальянская живопись XIII века находилась всецело в плену у византийской схемы, к которой примешивались отчасти еще не изжитые древнехристианские традиции, а с другой стороны — усиливающиеся влияния северной готики. С точки зрения техники мозаика преобладала над фреской и оставляла в тени алтарную картину. Главным центром итальянской живописи в течение всего XIII века является Рим, впоследствии, в XIV веке, теряющий свое значение вследствие «Авиньонского пленения» пап. Три выдающихся художника определяют характер живописи римского дученто: Якопо Торрити, Филиппо Русути и в особенности Пьетро Каваллини. Деятельность всех трех мастеров сосредоточена была главным образом на мозаике. Цикл Торрити в церкви Санта Мария Маджоре, исполненный в 1295 году, мозаики Каваллини в церкви Санта Мария ин Трастевере, начатые в 1291 году, и его же фрески в церкви Санта Чечилия могут служить наиболее совершенными образцами живописного стиля эпохи. Мозаики Торрити и по иконографическим и по стилистическим свойствам целиком примыкают к византийскому стилю. Орнаментальная каллиграфия рисунка, подчинение изображения плоскости, типы — все находится в совершенном согласии с византийским каноном, как его можно наблюдать, например, в мозаиках Кахрие-Джами в Константинополе. Несколько иной характер стиля обнаруживают мозаики Пьетро Каваллини в церкви Санта Мария ин Трастевере («Благовещение»). Наряду с чисто византийскими чертами здесь сильно выступают элементы древнехристианской живописи: в большей концентрации действия, в большей логичности пространственного построения, в более пластической моделировке фигур. В другой мозаике того же цикла, изображающей «Рождество Марии», можно наблюдать очень интересную попытку возвращения к позднеантичным приемам перспективы, которая в истории искусства получила название «аспективы». Возвращение Каваллини к этой своеобразной схеме построения пространства, исчезнувшей в средние века, весьма показательно. Схема состоит в том, что горизантальные плоскости в изображенном пространстве (плоскости пола или потолка) делятся на две половины, причем в каждой половине линии, уходящие в глубину, параллельны между собой и, следовательно, пересекаются не в одной точке, а в ряде точек, лежащих на одной вертикальной линии. Этот прием, которым античная живопись закончила свой путь оптического завоевания пространства, служит отправным пунктом для итальянской живописи треченто. В третьей мозаике цикла Каваллини, изображающей «Поклонение волхвов», мы находим и еще один излюбленный прием позднеантичной живописи: косо, под углом к плоскости изображения поставленные архитектурные кулисы. Несмотря, однако, на эти отдельные вспышки античных художественных традиций, по существу мозаики Пьетро Каваллини полностью сохраняют облик византийского стиля: движение фигур развертывается только в отвлеченной плоскости мозаики, как будто художник пишет их, подобно буквам нанизывая одну на другую слева направо. Последний шаг своего развития Пьетро Каваллини делает во фресках, исполненных им в 1293 году для церкви Санта Чечилия в Риме. Здесь Каваллини обращается к той технике, которая помогла живописцам треченто окончательно преодолеть византийскую схему и которая сделалась главным оружием стиля Ренессанса. И если в типах, в композиции, в пропорциях Каваллини еще остается верен византийскому канону, то в чисто живописных приемах он явно стремится к преодолению византийской техники. Каваллини не кладет краски рядом резко отделенными друг от друга и контрастирующими плоскостями, по византийскому образцу, но начинает согласовывать краски с помощью полутонов. На место резких контрастов вступают более мягкие переходы моделировки, которые отнимают у живописи византийский абстрактный, плоскостный характер. Вазари в своих биографиях итальянских живописцев, основываясь, очевидно, на ложных чувствах локального патриотизма, называет Каваллини учеником Джотто. Это утверждение безусловно неверно. Скорее его можно повернуть в обратное — что искусство Джотто сложилось под впечатлением мозаик и фресок Каваллини и вообще римской школы. Но ошибочно также доводить этот вывод до крайности, как делают некоторые ученые, и объявлять Каваллини основателем национального стиля итальянской живописи. Между живописью треченто и Каваллини лежит та же бездна, как и между скульптурой Никколо Пизано и его предшественников. Искусство Каваллини прочными корнями связано с Византией и ранним средневековьем; дух готики его еще не коснулся. В одной из последних своих работ, в цикле фресок, исполненных им в Неаполе, в церкви Санта Мария донна Реджина, начиная с 1308 года Каваллини бесспорно вовлечен в круг новых живописных проблем, выдвинутых флорентийской и сьенской школами, и делает все усилия идти в ногу с веяниями эпохи. Такая композиция, например, как «Несение креста», не могла возникнуть без обратного влияния на Каваллини Джотто и сьенцев. Но, при всем желании Каваллини усвоить принципы нового драматического повествования, он остается верен типическому, плоскостному, орнаментальному византийскому стилю. Точно так же приходится отказаться и от долго господствовавшего взгляда, согласно которому колыбелью национальной итальянской живописи считали церковь Сан Франческо в Ассизи. Обе части двухэтажной церкви снизу доверху покрыты фресками. К сожалению, документальных данных о ходе этой росписи сохранилось очень мало. Есть основание предполагать, что роспись начата в семидесятых годах XIII века, что к юбилейному 1300 году, когда святилища Ассизи были наводнены богомольцами, важная часть росписи была закончена, но что вместе с тем работы по украшению церкви Сан Франческо продолжались еще и в XIV веке. Старейшую часть росписи составляют фрески, украшающие стены верхней церкви между окнами и изображающие в параллельных циклах сцены из Ветхого и Нового Завета. Так как в литературных источниках не сохранилось никаких указаний на авторов этого фрескового цикла, то ученым, обследовавшим их, пришлось довольствоваться исключительно данными стилистического анализа. Однако до сих пор прийти к вполне неоспоримым результатам все еще не удалось. Можно считать доказанным только, что авторов фресок следует искать в римской школе и что в выполнении фресок участвовало по меньшей мере три художника. Так, например, в группе фресок верхнего ряда (например, в «Рождестве Христовом») с их безотносительным масштабом фигур и с вертикальным развертыванием композиции на плоскости нетрудно уловить близкое сходство с мозаичным стилем Торрити. Напротив, более концентрированная композиция и более пластическая моделировка фигур в группе фресок, к которым принадлежит, например, «Исав перед Исааком», показывает больше сходства со стилем Каваллини. Во всяком случае, весь верхний цикл фресок в целом еще полностью сохранил верность византийскому канону. Что же касается до нижней полосы фресок из верхней церкви, которые изображают жизнь Франциска Ассизского и которые долгое время считали ранними работами Джотто, то, как мы увидим позднее, их авторов нужно искать среди последователей Джотто. То же самое относится и к росписям нижней церкви, которая почти целиком принадлежит уже развитой живописи треченто. Таким образом, роспись церкви Сан Франческо в Ассизи дает образцы итальянской живописи до и после перелома к национальному стилю, но самый решительный момент этого перелома оказывается в Ассизи пропущенным. Проследить главный смысл этого перелома можно только во Флоренции и в Сьене. Уже Данте оценил большое историческое значение своего современника Чимабуэ. Впоследствии Вазари определенно называет Чимабуэ родоначальником нового итальянского стиля. Несмотря на все усилия многочисленных ученых поколебать эту концепцию Вазари, она и до сих пор остается в силе, правда с известным ограничением: Чимабуэ — мастер торжественной, репрезентативной алтарной иконы, и только в этой области ему действительно удалось выйти за пределы византийского канона и предопределить новый язык живописных форм. Архивные документы впервые упоминают имя Чимабуэ, или Ченни ди Пепо, по происхождению флорентийца, в 1272 году, в связи с его пребыванием в Риме; к 1296 году относится пребывание Чимабуэ в Ассизи, и последнее сведение, от 1301 года, отмечает его деятельность в Пизе. Вазари дает довольно обширный перечень произведений Чимабуэ, но среди них только одно — мозаику «Иоанна Крестителя» в апсиде Пизанского собора — можно считать абсолютно достоверным. К сожалению, мозаика очень сильно реставрирована и к тому же самый характер техники мешает сличению ее с произведениями Чимабуэ в области фрески и алтарной иконы. Таким образом, для характеристики стиля Чимабуэ остаются только две его более или менее достоверные работы. Первая из них — «Мадонна» из церкви Санта Тринита во Флоренции, хранящаяся теперь в Уффици. Разумеется, связь творчества Чимабуэ с византийскими традициями неоспорима. Она проявляется в вертикальном, плоскостном наслоении композиции, в тонкой сети золотых бликов в одежде, в византийском типе Мадонны. Но наряду с этими традиционными пережитками «Мадонна» Чимабуэ обнаруживает ряд свойств, которые явно указывают на новое формопонимание, на новый подход к натуре. Сюда относятся прежде всего первые намеки на духовную близость, на духовное общение между богоматерью и младенцем. В особенности же мотив массивного пластического трона, который придает всему изображению более телесный, пространственный характер. Ангелы, в отличие от византийской схемы изображенные в виде крепких подростков, поддерживают трон в воздухе — тоже совершенно новый, рационалистический мотив; Мадонна сидит внутри трона, в его пластическом углублении; полуфигуры святых в нижних вырезах трона дополняют смелую пространственную фантазию художника. Еще свободнее Чимабуэ осуществляет свои новые художественные идеи во фреске верхней церкви в Ассизи. Упростив композицию, Чимабуэ придает ей еще больше мощности и пластической лапидарности. Мотив сидения у Мадонны приобретает теперь настоящую пластическую ясность. Благодаря тому, что видны плиты пола, на котором покоится трон, и боковая стенка трона, фигуры как бы отдаляются от передней плоскости в глубину пространства. Перед нами те же тенденции к телесному, пластическому восприятию натуры, которые мы наблюдали в творчестве Никколо Пизано, но только в характерном преломлении трезвого флорентийского рационализма. Икона превращается в зрелище. Творчество Чимабуэ несколько односторонне в смысле преобладания монументальных, возвышенных, статических образов. Он не любит и не умеет рассказывать, ему не хватает ни динамики, ни драматической силы повествования, которая составляет один из главных стержней итальянской живописи. На этот путь драматического рассказа впервые выступают сьенец Дуччо и флорентиец Джотто. Различие между Дуччо и Джотто сводится прежде всего к различию сьенской и флорентийской школы, даже более того — к различию между сьенской и флорентийской культурой. Сьена — тогда крупный торгово-промышленный центр — была в то же время оплотом тосканских гибеллинов, и ее искусство окрашено церковным и феодальным мировоззрением. Флорентийцы — мастера фрески, сьенцы — специалисты в алтарной картине. Флорентийские живописцы любят концентрированный, драматический рассказ, сьенская же живопись, напротив, рассказывает со всяческими лирическими отступлениями и мелкими подробностями и стремится не столько к пластической ясности, сколько к декоративной звучности композиции. Особенно распространен в Сьене культ богоматери, и в изображениях мадонны сьенские живописцы являются непревзойденными мастерами в течение всего треченто. Вместе с тем сьенская живопись более упорно придерживается византийской традиции. Особенно это сказывается в живописной технике: зеленый подмалевок обнаженного тела и рисунок золотыми линиями в сьенской живописи удерживаются гораздо дольше, чем во Флоренции. С другой стороны, и элементы готики проникают в Сьену скорее и в более крайних формах. Таким образом, сьенская живопись представляет собой более сложный и пестрый комплекс, чем флорентийская, так как факторы национального итальянского стиля часто заглушаются в ней смесью готических и византийских влияний. Решающее направление сьенской школе треченто дает Дуччо ди Буонинсенья. Первое документальное упоминание его имени относится к 1278 году. Так как в этом документе речь идет о чисто ремесленной работе по украшению ларца, то можно предполагать, что Дуччо был тогда еще начинающим молодым художником и что время его рождения относится приблизительно к 1260 году. В 1285 году Дуччо получает заказ на алтарную икону для церкви Санта Мария Новелла во Флоренции (ныне в Уффици). Заказ на самый свой капитальный труд — так называемую «Маэста» для Сьенского собора — Дуччо получил в 1308 году. Через три года, в 1311 году обширная работа была закончена и в торжественном шествии, при ликовании всего населения города, с колокольным звоном и барабанным боем, как пишет современный хронист, была перенесена в собор из мастерской художника. Умер Дуччо в 1319 году, по-видимому, весь в долгах, так как его вдова с семью детьми отказалась от прав на наследство. Был Дуччо меланхоликом, пессимистом, отличался неуживчивым характером, консерватизмом в политических и художественных взглядах. Когда в 1299 году в Сьене утвердилось правительство пополанов, Дуччо отказался принести ему присягу. Прекрасное представление об искусстве Дуччо ди Буонинсенья дает мадонна, написанная им для церкви Санта Мария Новелла во Флоренции. Она в течение нескольких столетий находилась в той же церкви, в капелле Ручеллаи. Чтобы понять все своеобразие стиля Дуччо, лучше всего вспомнить для сравнения мадонну Чимабуэ из церкви Санта Тринита. Они очень похожи по общей схеме: тот же мотив трона с просветами, те же ангелы, поддерживающие трон. И все же насколько различна художественная концепция по существу! Мадонна Дуччо, конечно, архаичней, чем Мадонна Чимабуэ. Это сказывается хотя бы в преувеличенно крупных пропорциях богоматери и младенца по сравнению с ангелами. Но в то же время она и гораздо искреннее, нежнее по чувству, она действительно проникнута той теплотой почитания, которой отмечен культ богоматери в Сьене. Отличается далее мадонна Дуччо и своим орнаментальным изяществом. Дуччо не любит широких, пластических масс, как Чимабуэ, а склонен к мелкой ювелирной работе, тонкому кружеву декоративных созвучий. Мадонна Чимабуэ своим монументальным размахом производит впечатление издали. Мадонну Дуччо хочется рассматривать в деталях, погружаясь в любование золотым фоном, занавесками и обрамлениями трона или нежными переливами крыльев ангелов. В этом смысле впечатление от мадонны Ручеллаи вполне подтверждает свидетельство литературных источников, что Дуччо в молодости много работал в области миниатюры. Мадонна Чимабуэ пространственна и телесна. У Дуччо, напротив, все построено на отношениях в плоскости, на выразительности линии. В его живописи больше византийских элементов, но также больше и готического духа: ни в живописи Чимабуэ, ни в живописи Джотто, мы не найдем ни одной линии, которая была бы подобна в своей чудесной певучести линии, очерчивающей кайму плаща богоматери. Но, будучи архаичней, плоскостней, декоративней, чем Чимабуэ, Дуччо опять-таки превосходит его смелостью своих жизненных наблюдений и отдельных перспективных элементов. Обратите внимание на просветы в резьбе трона: сквозь них просвечивает ракурс скамейки и парча сиденья, создавая сложные пересечения предметов в пространстве. Итак, Дуччо стоит на переломе нового стиля, по своим художественным настроениям принадлежа еще прошлому, но прозорливостью гения предвосхищая многое в будущем. На основании «Мадонны Ручеллаи» ученым удалось подобрать целый ряд мадонн, с несомненностью принадлежащих кисти Дуччо. Они показывают колеблющееся, извилистое развитие мастера, лишенное той последовательности, которая присуща флорентийской школе. Сюда относится прежде всего Мадонна из Сьенской академии с тремя поклоняющимися францисканскими монахами. Здесь мы, по всей вероятности, имеем дело с одним из самых ранних произведений Дуччо. На это указывает миниатюрный размер иконы, схематический узорчатый фон, крошечные пропорции монахов по сравнению с мадонной. Но вместе с тем характерные для Дуччо и для всей сьенской школы черты проступают в этой мадонне с полной ясностью. Обратите, например, внимание на позу мадонны, слегка повернутой в сторону, с наклоненной головой и свободно повисшей рукой, — в этой позе есть та лирическая мечтательность, та мягкая человечность, которая отличает сьенских живописцев треченто от флорентийской рассудочности. И точно так же обличают Дуччо орнаментальные извивы каймы плаща. Но особенно я хотел бы привлечь внимание к младенцу: в его изображении Дуччо обнаруживает исключительную смелость подхода к натуре, не только совершенно покидая византийский канон, но и опережая флорентийскую школу. В отличие от Чимабуэ и его последователей, которые изображали младенца одетым в тунику и закутанным в длинный плащ, по античному образцу, Дуччо изображает младенца полуобнаженным, и его темя наполовину безволосым. Этот мотив Дуччо сьенская живопись подхватывает в многочисленных вариациях, пока, наконец, Амброджо Лоренцетти в середине XIV века не изобразит младенца совершенно обнаженным. Столь же, если не более, архаическое впечатление производит мадонна в церкви Санта Чечилия в Креволе (музей Сьенского собора). И здесь, по-видимому, речь идет о раннем произведении Дуччо. У мадонны еще византийский головной убор, а ее руки нарисованы в условной византийской манере. Но в изображении младенца Дуччо опять отдается реалистическому полету своей фантазии, одевая младенца в прозрачную тунику, сквозь которую просвечивает его тельце, и сажает его в интимной позе со скрещенными ножками. Наконец, в «Мадонне Креволе» есть и еще один любопытный мотив, представляющий собой оригинальное изобретение Дуччо: младенец держится ручкой за плащ богоматери у ее щеки. Этот интимный жанровый мотив также получил распространение только в сьенской школе. Сам Дуччо охотно возвращается к нему и обогащает его новыми подробностями. Так, например, в мадонне, ранее принадлежавшей к собранию Строганова в Риме, а теперь составляющей собственность бельгийского коллекционера Стокле в Брюсселе, Дуччо развивает этот мотив во взаимную игру богоматери с младенцем. Вместе с тем в мадонне из собрания Стокле заметно усиливается готическое влияние. Так несомненным влиянием северной готики объясняется внутреннее покрывало у мадонны, благодаря которому и мотив игры младенца приобретает новое оправдание. Готический дух проявляется и в консольном карнизе, с помощью которого Дуччо хочет создать впечатление, как будто мадонна появляется в амбразуре окна. Дальнейшее развитие и обогащение мотив игры с покрывалом получает в мадонне из Перуджи. Эта мадонна, наглухо закрытая записями XV века, только недавно была расчищена и обнаружена как произведение Дуччо благодаря типично дуччевским ангелам в обрамлении. Наряду с чисто византийскими пережитками — в золотой сети складок, в типично византийской форме длинного, узкого носа — мадонна из Перуджи намечает переход Дуччо к новым, более пластическим флорентийским идеалам. Формы становятся полновеснее, моделировка мягче, рама тесней примыкает к фигурам и как бы вытесняет их наружу. Уже в мадонне из Перуджи мы заметили элементы, которые указывают на ее более позднее происхождение по сравнению с мадонной Ручеллаи. Еще в большей степени это относится к полиптиху Сьенской академии. На рубеже XIII и XIV веков простая форма алтарной иконы уже перестает удовлетворять вкусам современников. С севера проникает более сложная концепция многостворчатой алтарной иконы (триптиха или полиптиха). Дуччо был, по-видимому, первым, кто ввел эту форму в Италии, в ее простейшем виде с полукруглыми арками. Последующие живописцы треченто обогащают обрамление полиптиха типично готическими декоративными приемами — фиалами, краббами и крестоцветами. Мы подошли теперь к самому капитальному произведению Дуччо — к огромной алтарной иконе, так называемой «Маэста», предназначенной в свое время для Сьенского собора, а теперь хранящейся в музее при соборе, причем некоторые ее части попали в Берлинскую и Лондонскую галереи. Алтарная икона, расписанная с двух сторон, была начата мастером в 1308 году. На передней ее стороне центральное положение занимает мадонна, сидящая на массивном троне, на этот раз поставленном фронтально. По обеим сторонам богоматери совершенно симметрично расположены поклоняющиеся ей ангелы и святые. В отличие от обычая флорентийской школы показывать в больших фигурных группах только передние головы полностью, здесь голова каждого святого отчетливо вырисовывается в окружении нимба, высоко поднимаясь над предшествующим рядом. И сильно увеличенный масштаб богоматери, и симметричная группировка, и вертикальное наслоение голов, все это показывает, что Дуччо руководствовался в своей композиции главным образом декоративными намерениями. Обратная сторона иконы в двадцати шести картинах рассказывает историю Христа. Для того чтобы оценить значение этого цикла для живописи треченто, нужно вспомнить, что он возник почти одновременно с грандиозным циклом Джотто в Капелле дель Арена в Падуе, точно так же посвященным жизни Христа. Дуччо уступает Джотто в эпической монументальности рассказа. Его композиции часто перегружены и беспокойны. Дуччо не обладал такой лапидарностью речи, таким мастерством драматического синтеза. Но по остроте своей наблюдательности, по тонкости эмоциональных нюансов Дуччо стоит выше Джотто, и если в вопросах стиля живопись треченто целиком опиралась на Джотто, то в изучении природы она, несомненно, пошла в направлении, указанном Дуччо. Я не буду останавливать внимание на каждой из двадцати шести композиций в отдельности. Пересмотрим некоторые из них, выделив главные живописные приемы Дуччо. И прежде всего бросается в глаза иное отношение между фигурами и их окружением у Дуччо и Джотто. У Джотто фигуры безусловно доминируют над окружением. Джотто не обладал ни развитым чутьем пейзажа, ни интересом к подробностям интерьера. Он довольствовался только самыми общими намеками на фон и обстановку. И сила его гения такова, что эти скупые намеки мы действительно принимали за широкую арену действительности. Иначе у Дуччо. Сьенского мастера антураж часто интересует больше, чем само действие. И именно в развертывании подробнейшей обстановки он обнаруживает свою блестящую наблюдательность. Возьмем, например, сцену «Въезда в Иерусалим». С точки зрения перспективного построения пространства она еще очень примитивна, не свободна от раннесредневекового вертикального наслоения пространства, и в правой группе фигур, приветствующих появление Христа, даже заметны следы обратной перспективы. Но какое изумительное интуитивное чутье пространственных отношений, какое богатство архитектурных типов и жизненных подробностей (маленький ослик, сопровождающий Христову ослицу, сбор фруктов, сложные силуэты и закоулки городской архитектуры и т. п.)! Еще удивительней архитектурный фон в «Исцелении слепого». Здесь мастер дает уже совершенно продуманный архитектурный комплекс. Перед этой картиной можно смело говорить о зародыше архитектурного пейзажа. Нет никакого сомнения, что Амброджо Лоренцетти, написавший в середине XIV века ряд архитектурных пейзажей, исходил в них из тех предпосылок, которые ему дала живопись Дуччо ди Буонинсенья. Но, пожалуй, еще сильней Дуччо в организации внутренних видов архитектуры, в изображении интерьера. Такого законченного, последовательного интерьера, как в «Омовении ног», мы не найдем не только у Джотто, но даже у последователей Дуччо. В продолжение всего треченто итальянские живописцы не в силах были освободиться от сукцессивного способа представлений и, изображая интерьер, одновременно неизбежно дополняли его изображением наружного облика здания. Гениальная интуиция Дуччо позволила ему предвосхитить идею симультанного представления и написать почти чистый интерьер. Дуччо доводит потолочные балки почти до передней плоскости картины. Единственный пережиток средневековых пространственных представлений проявляется в том, что Дуччо срезает спереди потолок и пол комнаты, показывая, таким образом, что между пространством, в котором находится зритель, и пространством изображенным помещается отделяющая их плоскость картины, что эти пространства качественно не равнозначны. О полной же победе симультанного представления можно говорить только тогда, когда плоскость картины перестает существовать как граница реального и воображаемого мира. Но в пространственном построении «Омовения ног» Дуччо дает и еще одно доказательство своей исключительной оптической интуиции. Дуччо делает здесь первую попытку к отысканию единой точки схода для ортогональных линий горизонтальной плоскости. Средняя часть кассетированного потолка, как это можно наблюдать по балкам, покоящимся на консолях, имеет общую точку схода. И как бы в сознании своего смелого достижения, желая его закрепить наглядным символом, Дуччо фиксирует эту точку схода с помощью пластического орнамента розетки. Гений Дуччо отличается непостоянством и непоследовательностью. Наряду с почти непостижимыми вспышками провидения в его творчестве уживаются пережитки самых застарелых традиций. Так, например, мы увидим в его композициях типичный прием древнехристианской живописи — сукцессивный способ рассказа (или «kontinuierende Erzahlungsweise», как называет его впервые анализировавший эту схему рассказа венский ученый Викхофф[10].) Согласно этому приему в одной и той же картине показано несколько последовательных эпизодов рассказа, причем фигура главного героя заново повторяется в каждой сцене. Но наряду с подобными архаизмами Дуччо внезапно осеняет вдохновение и он приходит к концепции, которая немалого труда стоила и развитой живописи треченто, — а именно Дуччо удается объединить две различные сцены в одной и той же композиции не по принципу чередования во времени, а по принципу одновременности в пространстве. Так, например, «Отречение Петра» и «Христос перед Кайафой» представляют собой благодаря архитектурному обрамлению две раздельные сцены, но вместе с тем они происходят одновремению, в одном и том же пространстве. Не менее интересно задуманы и все сцены, которые происходят при участии Пилата. Вы видите «Пилата, умывающего руки» и тут же сцену «Бичевание Христа», происходящую также в присутствии Пилата. Не трудно заметить, что архитектурное обрамление, в котором разыгрываются эти сцены, в обоих случаях совершенно одинаково. Это в наших глазах столь простое и естественное наблюдение в эпоху Дуччо должно было казаться чрезвычайно смелым дерзанием, так как требовало признания совершенно отвергнутого в средние века принципа единства места. Значительно менее свободным чувствует себя Дуччо, когда ему приходится иметь дело не с архитектурным окружением, а с чистым пейзажем. Здесь зависимость его живописи от византийского канона сказывается особенно сильно. В этом смысле особенно поучительны две смежные сцены: «Христос в Гефсиманском саду» и «Поцелуй Иуды». Мы видим здесь и упомянутый уже мной сукцессивный способ рассказа (фигура Христа повторяется два раза в одной и той же композиции) и столь типичный для византийского канона прием «коллективной» композиции, объединяющей фигуры в безличные, отвлеченные группы (например, группы из трех и шести апостолов). Что же касается самого пейзажа, то плоские силуэты деревьев и орнаментально очерченные, словно сверху вниз срезанные скалы еще целиком примыкают к византийской схеме. Тем не менее и здесь Дуччо удалось подняться над уровнем времени и найти какое-то незнакомое византийской живописи эмоциональное соответствие между фигурами и пейзажем. Посмотрите, например как в композиции «Noli me tangere» силуэты деревьев и линии скал откликаются на взаимоотношение фигур. Еще поразительнее созвучие фигур и пейзажа в композиции, изображающей «Трех Марий у гроба господня». Как выигрывает в значительности фигура ангела благодаря выделяющему ее силуэту темной скалы и как падающая линия этой скалы подчеркивает внезапную остановку в движении святых дев! Именно эта эмоциональная чуткость, которая роднит Дуччо с Джованни Пизано, больше всего отличает сьенского мастера от целеустремленного, волевого искусства Джотто. Джотто интересовался главным образом логикой действия, наглядностью ситуации. Его искусство построено на контрастах или созвучиях волевых импульсов. Дуччо же занимают тончайшие нюансы человеческих переживаний, эмоциональность самих средств выражения. В этом смысле самыми совершенными созданиям Дуччо можно считать «Распятие» и «Снятие со креста». Композиция «Распятия» показывает, между прочим, как далеко шагнул Дуччо в изучении обнаженного тела по сравнению с византийским искусством. В «Снятии со креста» вместо героического пафоса Джотто Дуччо дает в образе богоматери нежную и грустную элегию. И посмотрите, как извивы золотой каймы на плаще богоматери ритмом своего падения словно описывают душевное состояние Марии.V
ОТ АНАЛИЗА ЖИВОПИСИ Дуччо естественно перейти к третьему, самому выдающемуся родоначальнику итальянского национального стиля — Джотто ди Бондоне. Искусство Джотто знаменовало собой не звено последовательной эволюции, а реформу, переворот. Он воплотил художественные стремления передовых слоев современного ему общества, предвосхитил Ренессанс, создал предпосылки для сложения европейского реализма в живописи. К сожалению, несмотря на огромную литературу, посвященную Джотто, данные для характеристики происхождения и развития его стиля до сих пор еще остаются крайне противоречивыми. Известно, что Джотто родился в местечке Колле ди Веспиньяно в долине Муджелло близ Флоренции, что его отца звали Бондоне и что он был зажиточным крестьянином. Легенда о социальном происхождении Джотто хорошо вяжется с демократическим характером его искусства, особенно раннего периода. По-видимому, он происходил не из дворянской или купеческой среды, а из тех слоев крестьян, которые во второй половине XIII века, особенно после отмены крепостного права, устремились в города и внесли живую струю в развитие флорентийской культуры. Но даже год рождения Джотто с точностью неизвестен. В стихотворной хронике Антонио Пуччи, состоявшего в 1334 году на службе у города Флоренции, говорится, что Джотто умер в 1336 году, семидесяти лет от роду[11]; другими словами, следует заключить, что он родился в 1266 году. Этому противоречит, однако, сведение Вазари, который называет годом рождения Джотто 1276 год, а также указание комментатора Данте, Бенвенуто да Имола, согласно которому Джотто работал над росписью Капеллы дель Арена в Падуе «будучи еще молодым художником». Если принять во внимание, что цикл фресок в Падуе Джотто закончил вряд ли позднее 1305 года, то характеристика Бенвенуто да Имола больше подходила бы к дате рождения, указанной у Вазари, чем у Пуччи, — сорокалетнего художника трудно было бы назвать «еще молодым». Это противоречие может быть разрешено только стилистическим анализом. Все дело в том, считать ли падуанский цикл работой зрелого, вполне сложившегося мастера и в таком случае видеть документ его раннего стиля во фресковом цикле церкви Сан Франческо в Ассизи, как думает одна группа ученых, или, отрицая авторство Джотто в ассизском цикле, усматривать в падуанских фресках первую крупную работу Джотто. Забегая несколько вперед, замечу, что вторая точка зрения отличается большей убедительностью и что, таким образом, дата Вазари — 1276 год — как год рождения Джотто, должна более соответствовать истине. Вазари рассказывает далее ставшую популярной легенду о том, как маленький Джотто пас овец своего отца и на камне наносил свои первые рисовальные опыты. Случайно проходивший мимо знаменитый флорентийский живописец Чимабуэ поразился дарованию мальчика и взял его в город, в свою мастерскую, чтобы сделать из него великого мастера. Упомянутый уже мною комментатор Данте дает другую версию рассказа: согласно этой версии отец Джотто отдал сына в обучение к торговцу шерстью, но мальчик постоянно убегал из лавки и охотнее всего проводил время в мастерских флорентийских живописцев, пока, наконец, Чимабуэ не убедил Бондоне не препятствовать художественным наклонностям сына. Как бы то ни было, но именно основная предпосылка обеих версий — что Джотто был учеником знаменитого Чимабуэ — вызывает наибольшие сомнения. По-видимому, легенда выхватила имя Чимабуэ только потому, что это имя, как славного живописца Флоренции, было в то время у всех на устах. В действительности же очень трудно построить мост от неподвижного, репрезентативного стиля Чимабуэ, чуждавшегося всяких повествовательных и драматических моментов, к драматическим и как раз в повествовательном отношении совершенным фресковым циклам Джотто. Гораздо больше связи живопись Джотто обнаруживает с мозаиками и фресками римской школы, с кругом Каваллини. И поэтому скорее следует склониться к предположению, что свою главную художественную школу Джотто прошел именно в Риме. Этому предположению вполне соответствуют данные литературных источников, согласно которым Джотто работал в Риме в конце XIII века и в 1300 году исполнил так называемую «NavicelIa» — мозаику для церкви святого Петра по заказу кардинала Стефанески. Эта «Navicella», изображающая чудо на Генисаретском озере, сохранилась до наших дней, но в совершенно искаженном реставрированном виде, так что отнюдь не может служить свидетельством для раннего стиля Джотто. Для того чтобы составить себе более правильное представление об оригинале Джотто, нам приходится прибегать к помощи двух рисунков, сделанных с мозаики Джотто, очевидно, еще в XIV веке. Главную сцену — Христа, спасающего апостола Петра из волн, — мастер помещает в правом углу мозаики и уравновешивает слева идиллической фигурой рыбака. В центре — лодка с мощно изогнутым парусом и драматически жестикулирующими апостолами. В этом глубоком духовном равновесии композиции и в поразительной силе драматической концепции и надо видеть основу будущего стиля Джотто. За пребыванием в Риме следует, по-видимому, деятельность Джотто в Падуе, где Энрико Скровеньи начинает в 1308 году постройку церкви, посвященной святой Марии Аннунциате. В этой маленькой церковке, построенной на месте римской арены и прозванной поэтому Капелла дель Арена, Джотто исполняет свой грандиозный цикл фресок. Так как капелла освящена в 1305 году и скоро после этого Скровеньи был изгнан из Падуи, можно думать, что ко времени освящения капеллы фрески Джотто были почти или совсем закончены. В 1307 году следует возвращение Джотто во Флоренцию, и, вероятно, в скором времени по возвращении Джотто исполняет алтарную икону богоматери для церкви Оньисанти. Некоторые источники относят ко времени около 1310 года посещение Джотто Авиньона, хотя никаких художественных следов этого посещения не сохранилось. Как бы то ни было, в 1317 году Джотто опять находится во Флоренции, так как с этого времени начинается его работа над новым большим циклом фресок, который он исполнил в церкви Санта Кроче, в капеллах Барди и Перуцци. К росписи капеллы Барди Джотто, во всяком случае, не мог приступить раньше 1317 года; именно в этом году был канонизирован святой Людовик, которого Джотто на своих фресках изображает с нимбом. Время с 1329 по 1333 год Джотто без сомнения проводит в Неаполе. К сожалению, все работы, исполненные Джотто на службе у неаполитанского двора, в том числе цикл портретов знаменитых людей (homini famosi), бесследно погибли. С 1334 года и до своей смерти Джотто — опять на родине, где, как мы уже знаем, он занимал почетную должность строителя Флорентийского собора. Таковы более или менее достоверные факты из биографии Джотто. В дополнение сошлемся еще на характерные свидетельства современников. Согласно им Джотто был шутник, острослов, не щадил авторитеты и святыни ради красного словца. В ответ на предложение неаполитанского короля Роберта сделать его первым человеком в королевстве Джотто будто бы ответил, что и без того занимает это место, поскольку живет у королевских ворот. Однажды Джотто представил подданных Роберта в виде осла, взирающего на новое седло и мечтающего о новом государе, и т. п. В обыденной жизни мастер отличался практической сметливостью, приобрел большое имение, давал деньги в рост. Получая очень большую плату, он предпочитал работать для самых видных слоев (Скровеньи — падуанский ростовщик; банкиры Барди и Перуцци; короли, тираны), кого проклинал Данте. По своей политической ориентации Джотто был умеренным гвельфом. Самое важное место для характеристики стиля Джотто занимаютсведения о деятельности мастера в Ассизи. Эта ассизская гипотеза появилась следующим образом. Хронист Риккобальдо из Феррары, умерший в 1319 году, следовательно, близкий современник Джотто, делает в своей хронике следующее замечание: «Qualis in arte fuerit, testantur opera facta per eum in ecclessiis Minorum Assisii, Arimini, Padue …»[12]. («об искусстве Джотто свидетельствуют его произведения в церкви миноритов в Ассизи, Римини и Падуе»). Ни один из литературных источников XIV века, однако, в частности самый достоверный — комментатор Данте, Бенвенуто да Имола, ни одним словом не упоминают деятельности Джотто в Ассизи. В XV веке сведение это опять появляется в «Комментариях» скульптора Гиберти, который называет церковь Сан Франческо в Ассизи местом деятельности Джотто и говорит, между прочим, что Джотто написал там «quasi tutta la parte di sotto» (то есть «почти всю нижнюю часть»[13]). Это сведение Гиберти и положил в основу своей биографии Джотто Вазари. Оно было решающим и для всех последующих историков искусства. В частности Тоде, впервые выдвинувший значение Франциска Ассизского для истории итальянского искусства, считал фресковый цикл в Ассизи, посвященный Франциску Ассизскому, самым важным свидетельством влияния францисканства на искусство и бесспорно достоверной работой молодого Джотто[14]. Положение, однако, круто изменилось лет двадцать тому назад. Остроумный стилистический анализ, который Ринтелен применил к ассизскому циклу, показал шаткость выводов Тоде[15]. Три фрески цикла из жизно Франциска Ассизского по меньшей мере совершенно выпадали из стиля Джотто; а вслед за этими тремя заколебались и остальные. Противоречивое свидетельство художественных памятников заставило более скептически отнестись и к указаниям литературных источников. Справку хроники Риккобальдо признали за позднейшую вставку. Свидетельство Гиберти вызвало сомнение своей неопределенностью. В самом деле, что хотел сказать Гиберти словами, что Джотто расписал «почти всю нижнюю часть» церкви? Значило ли это, что ему принадлежат фрески нижней церкви или что он написал нижнюю полосу фресок в верхней церкви, то есть легенду о Франциске? Так одна за другой пробивались бреши в незыблемом, казалось, историческом факте. В настоящее время историки искусства разбились в этом вопросе на три главных лагеря. Меньшинство по-прежнему настаивает на авторстве Джотто во фресках нижнего цикла и в легенде Франциска Ассизского; вторая группа признает за Джотто общее руководство росписью и исполнение некоторых отдельных фресок; и, наконец, третья группа отрицает всякое непосредственное участие Джотто в работах по украшению церкви Сан Франческо. Для того чтобы и нам выработать самостоятельное мнение по этому сложному вопросу, необходимо сначала ознакомиться с вполне достоверными работами Джотто и только тогда перейти к анализу ассизских фресок. Мы начнем этот анализ с алтарной иконы Джотто из церкви Оньисанти во Флоренции (ныне в Уффици), так как эта икона лучше, чем какое-либо другое произведение мастера, подводит нас к основам его художественного мировоззрения. Достаточно сопоставить мадонну Джотто с трактовкой аналогичной темы у Чимабуэ и Дуччо, чтобы сразу почувствовать индивидуальные свойства стиля Джотто. По общей схеме мадонна Джотто очень близка к мадонне Чимабуэ. Джотто сохранил и увеличение масштаба богоматери и массивный трон, которому он придал, однако, чисто готическое завершение в виде балдахина. Но тем более бросается в глаза внутреннее различие. Мадонна Джотто уже не отвлеченная идея, а реальное существо, земное и телесное, в реальной глубине трона; мотив коленопреклоненных ангелов, держащих хрустальные вазочки с цветами, еще более подчеркивает чисто человеческую близость образа богоматери. Вспомним также взаимоотношение богоматери и окружающих ее фигур у Чимабуэ и Дуччо. У Чимабуэ, например, ангелы составляют как бы орнаментальное обрамление для мадонны: в их головах ритмически декоративно чередуется поворот влево, поворот вправо. У Джотто головы всех ангелов повернуты к мадонне, и направление их взглядов, как лучи, собирается в одном центре, в голове мадонны. Искусство Джотто прежде всего телесно, хотя эта телесность и имеет еще несколько идеализованный, синтетический характер, и, во-вторых, искусство Джотто центростремительно, построено на концентрации: подчинении всех элементов композиции одному главному, физически и духовно, моменту. Само собой разумеется, что мастерство драматической концентрации должно было сделать из Джотто изумительного рассказчика. В решении Капеллы дель Арена Джотто и проявил несравненную силу своего эпического таланта. Эту капеллу, как я уже говорил, в 1303 году заложил Энрико Скровеньи, богатый гражданин Падуи, сын того ростовщика Реджинальдо Скровеньи, которого Данте заставляет кипеть в седьмом котле своего «Ада». Исключительно простые стены Капеллы дель Арена, крытые гладким коробовым сводом, Скровеньи и поручил расписать Джотто. Шесть окон справа и широкое окно на входной стене освещают капеллу ровным, ясным светом. На входной стене по старой традиции Джотто изобразил «Страшный суд»; на противоположной стене, на триумфальной арке, — «Христа во славе»; под ним помещено «Благовещение», еще ниже — «Иуда получает сребреники» в pendant к «Встрече Марии и Елизаветы». Так как капелла посвящена богоматери, то естественно, что цикл повествовательных фресок по боковым стенам капеллы начинается в верхнем ряду с жизни богоматери. Далее, во втором и третьем ряду, следуют сцены из жизни Христа и, наконец, цоколь украшен монохромными изображениями добродетелей и пророков. Что касается хронологической последовательности, в которой написаны фрески, то долгое время господствовал взгляд, что мастер провел роспись в порядке самих изображенных событий, то есть сначала историю богоматери, а потом — историю Христа; иначе говоря, — сверху вниз. Однако шведский ученый Аксель Ромдаль сделал попытку поколебать этот взгляд[16]. По его наблюдениям верхний ряд фресок (из жизни богоматери) отличается более синтетическим стилем, большей свободой композиции, большей простотой концепции (например, «Встреча Иоакима и Анны»). Напротив, фрески двух нижних рядов (хотя бы «Воскрешение Лазаря») этой свободы и простоты стиля лишены. Из своих наблюдений Ромдаль делает вывод, что Джотто начал роспись капеллы с середины, со второго ряда, посвященного юности Христа, закончил оба нижних ряда и только после известного перерыва опять вернулся к работе, чтобы написать верхний ряд фресок. Однако такому хронологическому порядку цикла противоречат прежде всего естественные условия работы во фресковой живописи, так как, выполняя верхние фрески после нижних, художник тем самым несомненно подвергает нижние ряды порче. Главное же, что упустил из виду Ромдаль, это те различия в композиции, которые диктуются самим расположением фресок. Фрески, расположенные выше, естественно, требуют более широких масс, более четкого ритма, более синтетической плоскостной трактовки. Только этим, а не внутренней эволюцией живописи Джотто, и объясняется стилистическое различие верхних и нижних полос фресок. Цикл падуанских фресок Джотто похож на эпическую поэму, рассказанную в шести песнях. Первая песня, нечто вроде пролога к поэме, мирное, почти идиллическое предвестие грядущих драматических событий, рассказывает историю Иоакима и Анны. Она начинается с жертвы бездетного Иоакима и его изгнания из храма главным жрецом и заканчивается изумительной встречей Иоакима и Анны у «золотых врат». В этой песне акцент лежит на рассказе, но рассказе, передающем не героические события, а интимные, почти жанровые детали. Вторая песня рассказывает жизнь Марии от ее рождения до того дня, когда в торжественной праздничной процессии ее невестой ведут в дом жениха. В этой замечательной заключительной фреске второго цикла, по-! жалуй, больше, чем где-либо, сказываются чисто итальянские особенности стиля Джотто — соединение грациозного и монументального в поступи и движении фигур. В этой песне звучит несколько другой тон. Рассказ отступает на второй план. Мистический дух таинства облекает действие в почти неподвижные торжественные формы. Этот мистический тон достигает наибольшей звучности в «Обручении богоматери» и «Встрече Марии и Елизаветы». Полная спокойствия и торжественности последняя сцена вновь подхватывает вместе с тем повествовательный тон первой песни и переводит, таким образом, к третьему циклу, посвященному детству Христа. В этой третьей песне темп как бы несколько ускоряется, и в заключительной ее строфе, во фреске «Вифлеемского избиения младенцев», впервые звучат мрачные, трагические ноты. Изумителен опять-таки переход между третьей и четвертой песней. Сцена «Юный Христос среди книжников в храме» могла бы одинаково принадлежать как детству Христа, так и началу его земной деятельности. В следующей, четвертой песне ритм построен на смене репрезентативных сцен — как «Крещение» или «Брак в Кане» и сцен, насыщенных глубокой духовной силой, — как «Воскрешение Лазаря». К концу песни темп все более ускоряется и в заключительной строфе «Изгнания торгующих из храма» дает как бы последний драматический акцент земной деятельности Христа. Затем следует вторая цезура в последовательном чередовании рассказа: фреска «Предательство Иуды», помещенная на алтарной стене, и декоративно и по содержанию уравновешивает «Встречу Марии и Елизаветы», соответствующую ей с другой стороны стены. Сцена заговора Иуды, где тень дьявола позади предателя представляет собой как бы карикатурное заострение черт его лица, служит мрачным преддверием грядущей драмы. Пятая песня, начинающаяся «Тайной вечерей», охватывает сцены, предшествующие страстному пути Христа. Тон рассказа становится все более значительным, ритм композиции все более тяжелым, сгущенным. «Поцелуй Иуды» может служить наиболее типичным примером этого пятого цикла. Характерно, что в отличие от Дуччо Джотто избегает таких лирически настроенных сюжетов, как «Молитва Христа в Гефсиманском саду» или как в следующей песне — «Христос на пути в Эммаус». Вообще подбор и размещение тем в падуанском цикле Джотто гораздо более индивидуальны, чем в сьенском цикле Дуччо, и свидетельствуют о большем свободомыслии и логической законченности мировоззрения у Джотто. Последняя, шестая песня дает в «Несении креста», «Распятии», «Оплакивании» максимальное напряжение драматической силы и концентрации и затем мягкие, просветленные аккорды, разряжающие трагическую атмосферу в двух последних фресках: «Вознесения» и «Сошествия святого духа» с их яркой красочностью и невыразимо певучим ритмом. Попробуем теперь отвлечься от этой неудержимой силы драматического воплощения, вовлекающей всякого посетителя капеллы в непрерывное кольцо событий, и уловить сущность художественных приемов Джотто. Современников Джотто, как можно судить по литературным отзывам эпохи, больше всего поражала натуральность его образов. «Героям Джотто, — пишет, например, Боккаччо, — не хватает только речи, чтобы быть живыми». Однако понятие натуральности очень растяжимо; каждая эпоха понимает под ним что-нибудь другое. На чем именно, на каких предпосылках покоилось это впечатление натуральности у Джотто? Было бы ошибочно думать, что натуральность Джотто вытекала из непосредственного изучения натуры, из правдивой и детальной передачи индивидуальной действительности. В этом отношении живопись Джотто не выходит за пределы общего готического уровня и во многих случаях даже уступает Дуччо в наблюдательности. Особенно это сказывается в трактовке пейзажа и архитектурных кулис. Один из наиболее подробных и проработанных пейзажей Джотто замыкает действие на фреске «Возвращение Иоакима к пастухам». В изображении деревьев и скал мы видим традиционную средневековую схему, мало отличающуюся от того, что уже наблюдали в пейзажах Дуччо. Быть может, пейзажные формы Джотто превосходят Дуччо в смысле пластической округлости, конструктивной ясности, но вместе с тем пейзажи Джотто лишены той эмоциональной выразительности, которая так присуща пейзажам Дуччо. Как неподвижная масса, скалы плотно замыкают горизонт и оставляют фигурам только узкую полоску пространства для действия. В еще большей степени отсутствие пространственной фантазии и непосредственного наблюдения действительности проявляется в архитектурном окружении джоттовых фресок. Возьмем для примера «Брак в Кане». Где происходит действие, как надо представлять себе формы этого помещения? Идет ли речь о зале четырехугольного или шестиугольного плана, об открытом или закрытом помещении? Джотто как бы одновременно изображает пространство и снаружи и изнутри, и пропорции его архитектуры, несомненно, еще менее соответствуют масштабу фигур, чем у Дуччо. И в том и в другом случае Джотто отстает от сьенской школы в смысле остроты непосредственного наблюдения действительности. Историческое значение Джотто заключается в другом — в совершенно новом композиционном принципе, в открытии нового метода представлений. Мы уже встретились с этим композиционным принципом, знакомясь со скульптурой треченто, в творчестве Андреа Пизано и Орканьи. Но итальянская скульптура в данном случае идет по следам живописи, и именно Джотто был первым, кто сформулировал эти новые принципы с полной последовательностью. Для того чтобы яснее представить себе сущность композционных принципов Джотто, вспомним для сравнения какой-нибудь рельеф Джованни Пизано, например рельеф пизанской кафедры, центральное место в котором занимает «Осмеяние Христа». Мы увидим, что в рельефе Джованни Пизано представлен ряд различных моментов из цикла «Страстей господних»; эти моменты сопоставлены рядом или один над другим без всякого внимания к единству места и времени, в характерном для готики сукцессивном восприятии. Достаточно взять любую из фресок Джотто (хотя бы знакомую нам уже «Встречу Иоакима и Анны»), чтобы убедиться, что Джотто руководствовался совершенно иными принципами симультанной композиции, что он изобразил только один законченный момент действия, с одной определенной точки зрения. Именно вот это-то единство точки зрения и составляет историческое завоевание Джотто. Оптические представления средневекового художника были до сих пор субъективны, независимы от реальной или изображаемой точки зрения наблюдателя. Джотто объективирует это отношение между натурой и наблюдателем, как бы останавливая непрерывное течение времени. В этом смысле Джотто по праву может быть назван самым главным предшественником Ренессанса. А из этих основных предпосылок нового мировосприятия естественно вытекает и ряд других художественных приемов Джотто. Так, например, важное нововведение Джотто касается постановки фигур в пространстве. Со времени раннего средневековья живопись изображала фигуры как бы отрешенными от твердой почвы. Даже в тех случаях, если фигуры изображались стоящими на прочной земле или на постаменте, они как бы чуть касались кончиками пальцев рамы или узкой базы. Они словно витали в безграничном пространстве, лишенные всякой тяжести. Разумеется, этот прием вытекал из стремления средневекового художника отрешить человеческую фигуру от земного, дематериализовать ее. Напротив, во фресках Джотто горизонтальная плоскость земли опять, как в античном искусстве, делается естественной базой для человека. Фигуры стоят прочно, даже массивно, опираясь всей тяжестью своих ступней. Но, помимо того что все фигуры Джотто обладают телесностью и тяжестью живых существ, в каждой их позе, в каждом их движении проявляются определенные органические функции, каждое их движение целесообразно, имеет определенную причину и цель. И в этом смысле живопись Джотто опять-таки очень сильно отличается как от средневекового искусства вообще, так и в частности от искусства Дуччо и Джованни Пизано. Движение фигур в средневековой скульптуре и живописи не выполняет никаких механических функций, оно служит выражению духовной жизни, выражению их сверхчувственной энергии. Готическая живопись и скульптура не столько изображают движение, сколько дают подвижное изображение. Но главная покоряющая сила искусства Джотто заключается в том, что все эти отдельные функциональные действия на его фресках сливаются вместе, служат одной общей цели, концентрируются в одном драматическом пункте. Как раз «Встреча Иоакима и Анны» может служить особенно ярким примером такой концентрации. С одной стороны — идея покоя, выраженная в широком силуэте ворот и в неподвижной фигуре, почти закрытой темным покрывалом (ее называют обыкновенно кормилицей Анны); и на этом статическом фоне — двойное движение, справа и слева, неудержимо устремляется к одному центру — нежному объятию Иоакима и Анны. Пожалуй, еще большей лапидарности и насыщенности рассказа Джотто достигает в «Оплакивании Христа». Обратите внимание, как все линии композиции поистине с роковой силой сосредоточены на духовном центре картины — на голове и руках Христа. Перед нами замкнутый целесообразный мир, каждая частица которого имеет свое назначение, находится в закономерном соответствии с остальными. Не удивительно, что современникам Джотто его искусство должно было казаться каким-то чудом: на их глазах возникали образы и действия, полные реальной действительности. Таким образом, искусство Джотто есть важный шаг к реализму. Но это еще не реализм Ренессанса, основанный на изучении оптических законов и чувственного, оптического восприятия пространства, а реализм умозрительный, основанный на концентрации содержания, на единстве драматического мотива. В этом смысле Джотто еще не перешагнул окончательно границ готики. Однако готика у Джотто чисто итальянская, может быть более итальянская, чем у кого-либо из его современников. Джотто обладал изумительным, чисто итальянским чутьем пластических признаков формы. Гениальны в этом отношении его фигуры, повернутые спиной к зрителю — один из излюбленнейших мотивов Джотто, — в которых не в результате непосредственного изучения натуры, а чисто логическим, умозрительным путем Джотто добивается такой огромной пластической силы. Или повороты фигур чистым профилем, которые Джотто одним из первых ввел в итальянскую живопись. Но более всего поражают у Джотто те фигуры, в которых ему удалось придать пластический облик чисто духовной ситуации. Один из самых потрясающих примеров этой, если так можно сказать, духовной пластики дает фигура напряженно слушающей служанки во фреске, которая изображает «Благовещение святой Анне». Но при всем гипнозе пластической фантазии Джотто совершенно ясно, что он лишен настоящего оптического представления пространства. У Джотто нет глубины, его фигуры действуют только мимо зрителя, то есть в плоскости, иными словами — не в протяженности пространства, а в чередовании времени. Гений Джотто предвосхитил симультанную концепцию Ренессанса. Цикл фресок в церкви Санта Кроче, как мы уже знаем, включает роспись двух капелл — Перуцци и Барди. Между учеными существуют разногласия по поводу того, в какой хронологической последовательности возникла роспись капелл. Как мы увидим в дальнейшем, более веские данные говорят за то, что Джотто начал роспись с капеллы Перуцци. Каждая капелла содержит шесть фресок. Фрески капеллы Перуцци посвящены сценам из легенды о двух святых Иоаннах. На левой стороне капеллы изображена история Иоанна Крестителя, на правой — эпизоды из жизни евангелиста Иоанна. Сопоставляя роспись капелл Санта Кроче с падуанским циклом, мы убеждаемся в том, что стиль Джотто сильно эволюционировал. Эта эволюция по-своему отражает путь бюргерской культуры Флоренции. Падуанский цикл связан с волной демократических успехов, с общественным подъемом после «Установлений справедливости». Цикл Санта Кроче появляется в пору отхода пополанов от активной борьбы к охранению существующего порядка. Конфликт гвельфов и гибеллинов сглаживается, чувствуется явная снисходительность к грандам. Происходит смыкание с феодальной знатью, растет влияние дворянской культуры. Выдвижение финансовых магнатов Барди и Перуцци характерно именно для этой обстановки. Какие же изменения произошли в стиле Джотто со времени падуанского цикла? В нем проступила несомненная холодность, наряду с интеллектуализмом и мистицизмом, возрос интерес к видениям, явлениям, чудесам, апофеозам славы; бросается в глаза, что формат фресок сильно вытянулся в ширину по сравнению с падуанскими фресками (их формат был близок к квадрату). Разумеется, это изменение формата вызвано желанием усилить плоскостной характер изображения и вместе с тем подчеркнуть его повествовательные, временные элементы. В этом же направлении надо понимать и другой прием Джотто: с помощью архитектурного обрамления или самим подбором сюжетов каждая фреска распадается на ряд сцен, на последовательное чередование эпизодов. Композиционное единство стало, пожалуй, еще сплоченней и уравновешенней, чем в падуанском цикле, но позади этого композиционного единства опять с новой силой проступает гипноз сукцессивных представлений. Характерен в этом смысле и самый выбор сюжетов. Теперь Джотто избегает тех насыщенных драматизмом событий, которые он так охотно избирал в Капелле дель Арена, и изображает или мало известные, свободные от трагических конфликтов эпизоды из жизни святых, или моменты с отвлеченным, символическим значением, видения и чудеса (как, например, «Видение святого Иоанна на острове Патмосе» или, как во фресках капеллы Барди, — «Видение в Арле», «Утверждение папой Францисканского ордена», «Испытание огнем» и т. п.). С другой стороны, пластическая речь Джотто сделалась еще лапидарней и монументальней. Архитектурные кулисы задуманы в более ясных и крупных линиях, фигуры и фигурные группы приобрели героическую мощь и высшую просветленную простоту. Фигуры Захария или лежащей Елизаветы напоминают гигантов из эпохи Высокого Ренессанса. Но вместе с тем Джотто еще сильней подчеркивает впечатление статического равновесия композиции. Уже в падуанских фресках Джотто стремился изобразить не столько динамику событий, сколько статику ситуаций. В еще большей степени это относится к циклу Санта Кроче. Здесь события обобщены до какой-то почти абстрактной символики. Если мы сравним фрески капеллы Барди с фресками капеллы Перуцци, то трудно отрешиться от впечатления, что во всех направлениях, которые стиль Джотто намечает во фресках капеллы Перуцци, мастер пошел еще дальше, еще последовательнее в цикле Барди. Его стиль стал еще более возвышенным, абстрактным и еще более плоскостным. Возьмем для примера «Испытание огнем». Святой Бонавентура рассказывает о том, как Франциск, желая обратить султана в христианство, предлагает ему устроить испытание огнем, но перепуганные жрецы отказываются от этого соревнования. В Падуе Джотто, наверно, подошел бы к этой теме с точки зрения ее драматического кульминационного пункта и сделал бы Франциска, восходящего на костер, центральным моментом композиции. Здесь же Джотто трактует тему в отвлеченной, символической форме, разбивая ее на три идейных, генетических фазы. Справа — пылающий костер, на который Франциск собирается вступить; слева — в ужасе удаляющиеся жрецы; и в центре — султан на троне, поворотом головы и жестом руки соединяющий обе группы и в композиционное единство и во временною последовательность. Одним словом, мы видим те же признаки стиля, которые наблюдали в капелле Перуцци. Но теперь они выражены еще сильней, стали еще возвышенней. В цикле Перуцци архитектурные кулисы разработаны более детально и к тому же показаны в сложной косой перспективе. В цикле Барди архитектура всегда строго фронтальна и симметрична и упрощена до роли декоративного обрамления сцены. Так же симметрична, уравновешенна фигурная композиция, причем фигуры сопоставлены почти исключительно или в прямом фасе или в чистом профиле. Аналогичное впечатление мы получим и от другой фрески цикла, изображающей «Смерть святого Франциска». Фон в виде плоской, гладкой стены; справа и слева симметрично дополняющие друг друга два одинаковых крыльца; фигурная композиция разбита на три симметричные группы, причем центр уравновешен чудесным вознесением души святого Франциска на небо. Если в цикле Перуцци фигуры еще воплощают массивность и пластичность падуанского стиля Джотто, то во Фресках капеллы Барди фигуры обратились в совершенно бестелесные, плоские силуэты, очерченные ясными, резкими контурами. Стиль Джотто достигает в капелле Барди максимального классического просветления, но вместе с тем делает решительный поворот в сторону спиритуализма североготических тенденций. Этим поворотом Джотто как бы кладет печать на всю дальнейшую судьбу живописи треченто. Теперь, когда мы проанализировали на достоверных произведениях Джотто основы и развитие его стиля, мы можем обратиться к обзору тех произведений, которые вызывают известное сомнение в авторстве Джотто, и в первую очередь — к спорной проблеме ассизского цикла. Мне уже пришлось коснуться вкратце этой проблемы, одной из самых спорных, сложных и досадных в истории итальянского искусства. Досадных, потому что памятникам церкви Сан Франческо в Ассизи принадлежит такая важная историческая роль в возникновении итальянского стиля, потому что эти памятники сохранились в таком изобилии, но благодаря отсутствию достоверных данных они до сих пор остаются для нас неразрешимой загадкой. И, надо прибавить, вряд ли эта загадка когда-нибудь будет окончательно разрешена[17]. Перечислю вкратце те памятники, о которых в данной связи может идти речь. В верхней церкви это — двадцать восемь фресок, иллюстрирующих легенду о святом Франциске. В нижней церкви, во-первых, четыре аллегории, написанные над алтарем, на сводах средокрестия; далее — восемь сцен из жизни богоматери и юности Христа; три чуда святого Франциска, наконец, роспись двух капелл легендами о святой Магдалине и святом Николае. Написаны ли рукой Джотто все эти фрески, как думает одна группа ученых, или рука мастера не прикасалась ни к одной из них, как думают другие? И если верно второе предположение, то кто эти выдающиеся живописцы, работавшие под сводами церкви Сан Франческо? Тот, кто пробовал углубиться в литературу, посвященную ассизской проблеме, невольно должен был испытать чувство абсолютной беспомощности, как если бы он попал в безвыходный лабиринт. Одно можно считать безусловно доказанным. Местной, ассизской школы живописи не существовало; в Ассизи работали выдающиеся заезжие мастера со всех концов Италии. Начнем с самого больного места проблемы — с цикла фресок, посвященных легенде святого Франциска в верхней церкви. Джотто или не Джотто? Возьмем несколько наиболее характерных примеров. Одно из самых совершенных достижений цикла — «Рождественское чудо в Греччо». Легенда рассказывает о чуде, случившемся во время рождественского богослужения, когда граждане города Греччо увидели, как святой Франциск поднял из яслей младенца Христа. Если ближе присмотреться к этой фреске, то ясно бросается в глаза ряд свойств, которые ее отличают от стиля Джотто. Перед нами массовая сцена, подобную которой мы не найдем ни в Капелле дель Арена, ни в церкви Санта Кроче: толпа народа, широкими волнами с трех сторон вливающаяся в пресвитериум церкви. В этой коллективной массовой композиции, лишенной всякого стремления к индивидуальной характеристике, несомненно, сказываются сильные пережитки византийских традиций. Параллельно с отсутствием индивидуальной характеристики обращает на себя внимание и отсутствие того логического единства, той драматической концентрации, которые составляют отличительное свойство живописи Джотто уже в Капелле дель Арена, но еще больше во флорентийском цикле: монахи с увлечением поют, граждане переговариваются между собой, и только несколько фигур, ближе всего находящихся к главному событию картины, обнаруживают к этому событию непосредственный интерес. Если подойти к ассизским фрескам с этой точки зрения, то они безусловно производят более архаическое впечатление по сравнению с творчеством Джотто. Такой вывод как будто бы вполне соответствует внешним историческим данным. Вазари в своей биографии Джотто указывает, что цикл ассизских фресок был исполнен по заказу Джованни де Муро, который был главою францисканского ордена от 1296 до 1304 года. Если признать правильным это утверждение Вазари, то из него вытекает, что цикл ассизских фресок, посвященный легенде о святом Франциске, был исполнен до начала работ Джотто в Падуе и, следовательно, его с полным правом можно считать ранним, юношеским произведением Джотто. Молодость мастера в таком случае объясняет византийские пережитки и недостаток духовной концентрации. Однако такому выводу резко противоречит ряд других важных свойств анализируемой нами фрески. Во-первых, то обстоятельство, что фигуры с гораздо большей свободой, чем это можно наблюдать у Джотто, распределены в глубоком пространстве. У Джотто движения всегда совершаются только на узкой передней полосе пространства, всегда развертываются только мимо зрителя; здесь же движение идет и из глубины пространства, сзади наперед. Второй, еще более решающий момент — архитектурные кулисы. Ни в одной фреске Джотто из падуанского цикла мы не найдем такого подробного и такого реалистического описания архитектурной обстановки и, что еще важнее, — архитектурной обстановки со столь ясно выраженным готическим характером. Архитектурные конструкции Джотто в Капелле дель Арена отличаются совершенно отвлеченным, идеальным характером. Но даже и во фресках Санта Кроче, где Джотто дает больше простора своей архитектурной фантазии, мы встречаем скорее романские, чем готические, архитектурные мотивы. Сделать из этого наблюдения тот вывод, что ассизский цикл фресок написан Джотто после падуанского и флорентийского, мы не можем, разумеется: такому выводу слишком противоречила бы архаичность фигурной композиции. Та же самая смесь передовых и архаических элементов еще больше бросается в глаза в других, не столь удачных достижениях ассизского цикла, например во фреске, изображающей «Смерть святого Франциска». Мы видим вновь массовую композицию, смело расположенную в глубинном пространстве, видим с чрезвычайно реалистическими подробностями трактованный фасад церкви явно готического стиля — то есть все черты искусства более позднего по сравнению с Джотто. И рядом с этим — вытянутые в длину, бескостные фигуры с маленькими головами и крошечными ручками, типичные пережитки византийской схемы. Таким образом, для нас не подлежит сомнению, что гипотеза об авторстве Джотто наталкивается на непреодолимые противоречия. Выход из этих противоречий как будто бы только один: мастер, иллюстрировавший легенду о Франциске в верхней ассизской церкви, не мог быть Джотто. Он должен был принадлежать к поколению, испытавшему влияние сьенской школы и сильнее проникшемуся воздействиями готики, но вместе с тем мастер не обладал самобытной силой джоттовского гения и не сумел преодолеть закоренелые византийские традиции. Этот вывод усугубляется еще другими обстоятельствами. Более подробное знакомство с ассизским циклом приводит нас к убеждению, что над этими фресками работал не один, а по меньшей мере два, может быть, даже три художника. Возьмем для сравнения первые же две фрески цикла. Трудно отделаться от впечатления, что мы имеем здесь дело с двумя различными живописцами. В первой фреске цикла — «Юродивый предсказывает грядущую славу юному Франциску» — прежде всего привлекает внимание изысканность колорита. Голубая одежда Франциска на фиолетовом фоне архитектуры, на противоположной стороне: в трех фигурах — сочетание красно-бурого, серо-лилового и бледно-зеленого. Перед нами художник, владеющий более сложными смешениями и сочетаниями красок, чем это свойственно среднему уровню тогдашней живописи, перед нами — прирожденный колорист. А этой колористической гармонии соответствует и общее настроение картины — тихое, лирически-мечтательное. С другой стороны, автор фрески «Юродивый предсказывает грядущую славу юному Франциску» был, по-видимому, лишен острого композиционного чутья; центр композиции остается пустым, фигуры робко сдвинуты к самым краям картины и их движения и позы мало содействуют драматической концентрации. Как характерный признак этого художника следует отметить также удлиненные пропорции фигур с маленькими головами и неестественно маленькими руками. Совершенно иное впечатление оставляет другая фреска цикла — «Святой Франциск дарит свой плащ бедному дворянину». Здесь колорит играет второстепенную роль, преобладают традиционные красочные сочетания, нет изысканных оттенков предшествующей картины. Зато автор этой фрески обладал недюжинным пластическим чутьем, может быть, несколько грубой, но убедительной энергией рисунка и композиции. Фигуры, скорее коренастые, очерчены твердо и резко, в их движениях больше определенности, центральная фигура Франциска почти жестко подчеркнута двумя сходящимися линиями скал. В одном случае — изысканный, немного вялый колорист, в другом — грубоватый, но энергичный пластик. Этот контраст можно проследить по всему циклу, причем он усугубляется тем, что колорист предпочитает для своих композиций сложный архитектурный антураж, а пластик охотнее обращается к упрощенным массам пейзажа. Совершенно очевидно, что только два различных художника были способны на столь различные художественные концепции. Но есть основания думать, что в росписи цикла принимал участие еще третий художник, так как последние три фрески цикла обнаруживают опять-таки новую разновидность художественных приемов. Красноречивый пример этой третьей манеры — «Воскрешение непокаявшейся грешницы». По своему направлению автор этой группы фресок ближе к колористу, чем к пластику, но вместе с тем он обнаруживает и некоторые своеобразные особенности стиля. Фигуры в его композициях отличаются еще более удлиненными пропорциями, а, с другой стороны, масштаб фигур по отношению к размерам картины взят гораздо меньше, чем во всех других фресках цикла. Вследствие этого композиции третьего мастера отличаются обилием пустого пространства. Кроме того, специфической особенностью третьего мастера является почти игрушечный характер архитектуры в виде фантастических павильонов с тонкими и очень высокими колонками[18]. Итак, по-видимому, три мастера иллюстрировали легенду святого Франциска в верхней церкви в Ассизи. Стилистические особенности этих мастеров, более всего напоминающие живописную концепцию римских мозаичистов конца дученто, не только с полной очевидностью доказывают, что в их числе не было Джотто, но заставляют даже сомневаться, принадлежали ли они к школе Джотто. Кто они, мы, к сожалению, не знаем, но скорее всего можно предположить, что эти художники принадлежали к римской школе и, как и сам Джотто, вышли из круга Каваллини или Русути. Фресковая роспись нижней церкви в Ассизи отличается другим характером. Здесь дух Джотто чувствуется гораздо сильней; здесь мы имеем дело с непосредственными учениками и последователями великого флорентийского мастера. Во всяком случае, роспись нижней церкви в Ассизи не могла возникнуть ранее двадцатых годов XIV века, так как в ней явно использованы уроки падуанского и флорентийского циклов Джотто[19]. Литературные источники называют нам много имен Джоттовых учеников. Так, например, героем новелл Боккаччо и Сакетти часто является веселый и предприимчивый ученик Джотто, Буффальмакко, Гиберти и Вазари называют ряд произведений других последователей Джотто — Пуччо Капанна и Стефано Фьорентино. Однако попытки ученых точнее очертить художественную физиономию этих учеников Джотто и распределить между ними роспись нижней церкви в Ассизи вряд ли можно признать бесспорными, так как сохранилось слишком мало вполне достоверных следов их деятельности. Из всех росписей нижней церкви, несомненно, наименее похожи на Джотто четыре аллегории на сводах средокрестия, хотя Тоде в свое время и оценивал их как самое совершенное из созданий Джотто. Аллегории эти восходят к основному кругу идей францисканского ордена и содержание их в главных чертах намечено уже в религиозной поэзии Якопоне да Тоди. Цикл четырех аллегорий изображает бедность, целомудрие, послушание и заканчивается апофеозом святого Франциска. Напомню первую фреску цикла, изображающую аллегорию «Бедность». Сама «Бедность» представлена в виде бледной, изможденной женщины, в разорванных одеждах, окруженной терниями. Христос обручает ее со святым Франциском, Любовь и Надежда сопровождают ее с двух сторон, злые мальчики насмехаются над нею и забрасывают ее камнями. Слева юноша жертвует свой плащ нищему, справа ангел взывает к богачам, из которых один держит сокола, а другой жадными руками сжимает кошелек. Нет сомнения, что мастер аллегории многому научился у Джотто; об этом свидетельствует хотя бы центрический характер композиции. Но вместе с тем ему явно не хватает ни драматической силы, ни духовной концентрации Джотто. Простоту Джотто он заменяет перегруженностью, сложной надуманностью деталей. Суровой, лапидарной речи Джотто он стремится придать оттенок жизнерадостный и миловидный, сделать ее более элегантной и декоративной. Создатель четырех аллегорий выписывает тонкие фигуры с изящным, удлиненным овалом лица, они лишены пластической ясности Джотто, но зато с гораздо большим декоративным блеском согласованы с форматом изображения и с его сферической плоскостью. Есть основания думать, что и серия фресок, посвященная юности Христа и сценам из жизни Марии, которая украшает своды северного крыла трансепта, написана тем же автором. Историк искусства ван Марле, пытавшийся составить каталог произведений этого безымянного ученика Джотто, называет его maestro delle vele (то есть мастером парусов, так как он расписал паруса средокрестия нижней церкви)[20]. Одна из композиций этой серии, изображающая «Юного Христа во храме», отличается всеми качествами мягкого, миловидного, декоративного стиля maestro delle vele. Вместе с тем орнаментальное богатство одежд, сложность архитектурных мотивов и уверенность в их оптической конструкции — все это указывает на очень важный симптом в развитии итальянской живописи после Джотто — на сильное влияние сьенской школы. Гораздо ближе и непосредственнее примыкает к Джотто мастер, украсивший фресками капеллу Магдалины в нижней церкви. Капелла была выстроена и украшена по заказу Теобальдо Понтано, сделавшегося в 1314 году ассизским епископом и умершего в 1329 году. Эти годы дают, таким образом, хронологические границы возникновения фресок. Кто бы ни был мастер капеллы Магдалины — некоторые исследователи угадывают в нем Пуччо Капанна, другие — Стефано Фьорентино, — во всяком случае, он является самым верным продожателем художественных идей Джотто. В некоторых композициях, как, например, в «Воскрешении Лазаря», мастер почти буквально повторяет падуанскую схему Джотто. При этом он старается превзойти учителя в пластической силе моделировки, в подчеркнутом контрасте света и тени. Это чутье пластической массы, которого лишены все другие ближайшие последователи Джотто, позволяет ему иногда достигать исключительно монументальных эффектов. Фигура Магдалины, перед которой склонился жертвователь, Теобальдо Понтано, мощными формами тела и широким размахом драпировки даже выходит из стилистических границ треченто и предвосхищает образы Мазаччо. Но «мастер Магдалины» еще и в другом отношении обнаруживает своеобразие своего таланта — своей пейзажной фантазией, своей жаждой более просторной арены для действия фигур. В этом смысле особенно интересна фреска с изображением так называемого «Марсельского чуда». Из сложной легенды мастер выхватил две сцены. В левой нижней части картины изображен остров и на нем тело матери с закутанным в ее плащ ребенком, которых воскресила молитва Магдалины; в правой верхней части фрески представлено прибытие святой Магдалины в Марсель. Такой широкой пространственной перспективы, такого разнообразия пейзажных мотивов не знал ни Джотто, ни вообще флорентийская живопись того времени. Нет никакого сомнения, что и здесь мы имеем дело с результатами сьенского влияния. Интересно отметить, как художник борется с противоречиями готического мировосприятия, как он колеблется между джоттовской центрической композицией и средневековыми сукцессивными методами представлений: композиция фрески уравновешена вокруг центрального мотива лодки, пейзаж в правой части фрески развертывается в глубину, в левой части фрески — сверху вниз, а в эту, более или менее реалистическую картину природы фигуры вписаны по всем правилам «обратной перспективы» — больше всего по масштабу ангелы, далее — фигуры в лодке, затем — женщина, лежащая в лодке на острове, и, наконец, — меньше всего, совсем крошечная по масштабу фигурка марсельского купца, причалившего к острову на самом переднем плане. Этот непреодолимый гипноз сукцессивных представлений лишний раз показывает нам, в какой мере опережала свое время джоттовская попытка духовной концентрации события, когда ей противоречили все основы пространственных и временных представлений.VI
ПОЛОЖЕНИЕ В ИТАЛЬЯНСКОЙ ЖИВОПИСИ после Джотто обыкновенно расценивают как полную остановку развития. Джотто будто бы создал некую священную схему, которая осталась неприкосновенной в течение всего треченто, и последователи Джотто будто бы довольствовались только внесением в эту схему мелких поправок и вариаций. Такая формулировка безусловно искажает значение итальянской живописи треченто. Не схема Джотто определила дальнейшее развитие итальянской живописи, а борьба различных художественных направлений вместе с усилением готических влияний, идущих с севера. Не забудем, как изменилась после Джотто сама историческая обстановка. Ранний флорентийский капитализм столкнулся с феодальным окружением всей Европы, что и привело к длительному кризису флорентийской буржуазии. Банкротство банкирских домов Барди и Перуцци пошатнуло господство крупной финансовойбуржуазии. С другой стороны, тирания так называемого герцога Афинского опиралась на мелкие цехи. Это противоречие подготовило восстание «чомпи». Хотя оно было довольно скоро подавлено, но потребовалось несколько десятилетий, пока гегемония крупной флорентийской буржуазии сложилась в устойчивые формы господства династии Медичи (1434). В этих исторических условиях усилились влияния северной готики с ее мистикой и натурализмом, аристократическими и церковными элементами. И тогда как флорентийская школа треченто взяла на себя роль проводника национальных, синтетических тенденций, симптомы северного готического духа раньше всего проявились в сьенской школе, а затем с новой и еще большей силой хлынули в Северную Италию. Влияние сьенской школы мы отметили уже в кругу последователей Джотто. Значение Сьены, как руководящего художественного центра Италии, еще решительней определилось с появлением Симоне Мартини. Согласно Вазари Симоне Мартини родился в 1284 году. Хотя не осталось ни одного документального свидетельства, называющего Симоне Мартини учеником Дуччо, нет никакого сомнения, что искусство Симоне Мартини выросло под непосредственным воздействием Дуччо. Ни одного достоверного произведения молодого Симоне Мартини не сохранилось, и впервые мы входим в соприкосновение с мастером только в 1315 году, когда он получил заказ от города Сьены на большую фреску для ратуши, изображающую «Маэста». Симоне Мартини, несомненно, заимствовал общую схему у Дуччо, но изменения, которые он произвел в этой схеме, очень значительны — из византийской иконы он сделал готическую икону. Из отвлеченного, торжественного наслоения голов и нимбов он сделал жизнерадостную, свободную группировку фигур под воздушным балдахином. Благодаря тому что фигуры святых и ангелов поставлены косыми рядами по отношению к плоскости картины и заметно пересекают друг друга, вся композиция приобретает пространственный характер; три ступени определяют различный уровень голов, который у Дуччо оставался совершенно необъясненным. Но вместе с тем Симоне Мартини сохраняет все типичные свойства сьенской школы, столь отличные от флорентийского духа. Никакой массивности, телесности, тяжелой поступи, подобной образам Джотто. Трезвая, немного медлительная натура крестьянского сына всегда оставляет свой отпечаток в его искусстве. Живопись Симоне Мартини рядом с Джотто воплощает утонченные аристократические идеалы. Образы Симоне Мартини полны легкой, почти женственной грации; в его линиях всегда есть особая пленительность округлого изгиба; краски Симоне поражают своей светлой, радостной гармонией. Недаром Франчсеко Петрарка так высоко ценил изысканное искусство сьенского мастера. По окончании «Маэста» Симоне Мартини получил приглашение к Анжуйскому двору в Неаполь. От 1317 года сохранился документ, из которого явствует, что Роберт Анжуйский выплачивал Симоне Мартини ежегодную пенсию. Из дошедших до нас неаполитанских работ Симоне Мартини особенно интересна одна, представляющая характерный для мастера образец официального придворного заказа. Картина изображает святого Людовика, возлагающего корону на голову Роберта Анжуйского. Людовик, Тулузский епископ, был братом Роберта Неаполитанского, и Роберту стоило больших усилий провести канонизацию своего брата, умершего совсем молодым, в возрасте двадцати четырех лет. Таким образом, картина Симоне, написанная непосредственно после канонизации, является своего рода религиозно-политической декларацией неаполитанского короля. В этой картине Симоне Мартини проявляет все свои блестящие качества придворного мастера. У святого на простой монашеской рясе одет великолепный, вышитый плащ, скрепленный драгоценной пряжкой. На отворотах плаща и в митре повторяются мотивы и краски анжуйского герба. Картина производит исключительно пышное впечатление — драгоценностью тканей, богатством орнаментики, великолепием устилающего пол восточного ковра. Дух готики все сильнее овладевает творчеством Симоне Мартини: тела его фигур становятся все более бесплотными, главное внимание мастера сосредоточено на поверхности, на нежнейшей трактовке лица и рук. Эта мягкая, словно расплывающаяся в нежных переходах поверхность обнаженного тела особенно бросается в глаза в алтарной иконе, исполненной мастером в 1320 году для города Орвьето (ныне — в музее собора). Ее средняя часть, изображающая мадонну с младенцем, обнаруживает все признаки чисто готической концепции: не только стрельчатую форму обрамления, со вписанной в него трехлопастной аркой, но еще более всем форматом иконы, тонким, вытянутым вверх, с тесно примыкающими к раме фигурами. К 1328 году относится одно из самых важных по историческому значению произведений Симоне Мартини — конный портрет Гвидориччо да Фольяно, написанный для той же залы Сьенской ратуши, что и «Маэста». Гвидориччо, главный сьенский военачальник, только что перед тем одержал блестящую победу над прославленным кондотьером Каструччо Кастракане, терроризировавшим всю Италию, и освободил из-под его ига города Монтемасси и Сассафорте. В благодарность за этот военный подвиг и написан портрет — первый в ряду тех монументальных конных портретов, которыми итальянский Ренессанс чествовал своих кондотьеров. Гвидориччо, с энергичными, почти свирепыми чертами типичного кондотьера, в панцире и маршальской мантии, гарцует на покрытом пышной попоной иноходце. Справа — палатки сьенского лагеря, слева, на вершине скалы, — крепость Монтемасси; всюду развевается сьенское знамя. Фигура кондотьера, придвинутая к самому переднему плану, и своими пропорциями и своей торжественной позой господствует над всем окружающим. Есть нечто демоническое в том, что, несмотря на обилие пейзажных и бытовых подробностей, скалистых уступов и тропинок, палаток и частоколов, усеянных копьями, глаз зрителя не может открыть на картине ни одного живого существа, кроме самого кондотьера. Именно этот пейзаж и составляет главную историческую заслугу Симоне Мартини. Конечно, пейзаж еще очень схематичен, поразительно лишен всяких признаков живой природы; но нельзя отрицать огромного эволюционного шага, сделанного Симоне Мартини по сравнению с Дуччо, Джотто и даже ассизским «Мастером Магдалины». Симоне Мартини первый почувствовал органическую слитность пейзажа. Его пейзаж состоит не из отдельных кулис, а из последовательного и непрерывного развертывания земной поверхности во всех направлениях. С этого момента проблема пейзажа становится одной из самых излюбленных задач художников сьенской школы. Несколькими годами позднее, в 1333 году, Симоне Мартини вместе со своим шурином Липпо Мемми пишет знаменитое «Благовещение», хранящееся теперь в галерее Уффици во Флоренции. Эта картина, которую можно рассматривать как вершину сьенской готики, является вместе с тем одним из самых очаровательных, самых грациозных созданий всего итальянского искусства. Липпо Мемми принадлежат фигуры святого Ансануса и святой Джулитты на боковых створках алтаря, центральная же часть написана самим мастером. Мадонна и хрупкими плечами и поразительно длинным разрезом слегка раскосых глаз похожа на даму высшего света, потревоженную внезапным вторжением. Недоступная, замкнутая красота мадонны еще подчеркнута контрастом с ангелом, таким свежим и нарядным, с пестрыми крыльями, развевающимся плащом и полудетским жестом руки, поясняющим слова, которые вылетают из его раскрытых губ. Лилии в золотом сосуде и хор серафимов, похожих на ласточек, дополняют декоративное очарование этой картины, написанной со свойственной Симоне Мартини тончайшей миниатюрной техникой. До сих пор деятельность Симоне Мартини протекала больше в области алтарной иконы. Теперь он все чаще пробует свои силы в повествовательном стиле фресковых циклов. Переходом к этому повествовательному фресковому стилю служит алтарная икона, посвященная святому Августину и написанная для сьенской церкви Сайт Агостино. В центре иконы изображен святой, на боковых створках — четыре сцены из его легенды. Самый выбор мелкого формата для повествовательных сцен указывает на преемственную связь с Дуччо и его серией маленьких картин на оборотной стороне «Маэста». С таким же, как и Дуччо, увлечением Симоне Мартини развертывает архитектурную обстановку для своих сцен, полную неожиданных просветов и интимных закоулков. Но в одном отношении Симоне Мартини превосходит всех своих предшественников, намечая одну из важнейших проблем живописи Ренессанса. Четыре боковые сцены задуманы в пространственном единстве с центральной картиной: перспектива боковых сцен показана таким образом, что зритель, стоя перед центральной картиной, видит архитектуру створок в соответствующем сокращении слева и справа. Эта попытка оптического объединения пространства, в зародыше заключающая в себе идею центральной перспективы, как мы увидим впоследствии, составляет постоянную заботу живописцев сьенской школы. Что касается самих приемов повествования у Симоне Мартини, то, далеко уступая Джотто в силе драматической концентрации, он очаровывает трогательной интимностью настроения и неожиданной остротой реалистически схваченных деталей. Как пример напомню эпизод из легенды «Чудесного воскрешения ребенка, выпавшего из колыбели», который изображает воскресшего младенца, несущего в церковь благодарственную свечку. Дальнейшее развитие отмеченных нами свойств мы находим в самом крупном фресковом цикле Симоне Мартини, посвященном легенде святого Мартина и исполненном им для нижней церкви Сан Франческо в Ассизи. Фрески, написанные на двух стенах небольшой готической капеллы, перспективно согласованы и объединены по тому же принципу, как и в алтарной иконе святого Августина, причем завершающая цикл фреска, помещенная высоко на третьей стене, задумана как центральная композиция. Цикл начинается с левой стены. Сначала мы видим святого Мартина в виде богатого горожанина, жертвующего свой плащ нищему; далее — сон святого, в котором ему снится Христос, показывающий ангелам разрезанный плащ Мартина. В третьей сцене Симоне Мартини изображает посвящение святого Мартина в рыцари. Император Юлиан опоясывает святого мечом, слуга надевает ему шпоры; двое других слуг императора символизируют два главных занятия рыцаря — войну и охоту, в то время как музыканты и певцы сопровождают торжество посвящения своим концертом. Обряд посвящения Симоне Мартини описывает с полной верностью обычаю своего времени. В этом сказывается несомненное влияние северной готики. Обратите внимание особенно на музыкантов: с какой тщательностью художник фиксирует все подробности их модных костюмов, с каким вниманием присматривается к их профессиональным жестам. Именно в этом стремлении создать реальную атмосферу события и сказывается главная реакция сьенской школы против отвлеченной, безвременной концепции Джотто. В следующей фреске Симоне Мартини рассказывает о том, как святой Мартин оставляет армию императора и, вооруженный крестом, выступает один против врага. К отмеченным нами реалистическим, жанровым приемам здесь присоединяется чрезвычайно смелое композиционное нововведение. Если в трактовке отдельных пейзажных элементов Симоне Мартини не выходит за пределы схемы, выработанной Дуччо и Джотто, то в овладении общим пространством пейзажа ему удается очень важное завоевание. Сьенский мастер не довольствуется джоттовским размещением фигур параллельно передней плоскости картины, но ставит фигуры в пространстве, одну за другой, допуская смелые пересечения. Еще смелей пространственная концепция в правой части фрески, где головы воинов и силуэты палаток выглядывают из-за гребня скалы. Таким образом начинается столь характерная для дальнейшего развития итальянской живописи тенденция к пробитию плоскости изображения иллюзией глубокого пространства. Постепенно Симоне Мартини вживается в требования нового монументального стиля. Пространство становится все глубже, архитектура все массивней, число фигур уменьшается, а масштаб их возрастает. Следующая фреска рассказывает о том, как император Валентиниан преклонился перед святым Мартином. Император запретил святому доступ во дворец и запер перед ним все двери. Но ангел проводит святого Мартина сквозь стены в тронную залу. Разгневанный император хочет выгнать святого, но его трон внезапно объят пламенем и в порыве раскаяния император бросается на колени перед святым. В этой фреске особенно заметно отступление Симоне Мартини от традиций джоттовского эпического стиля: фигура императора с его быстрым импульсивным движением, столь отличным от медлительного темпа Джотто, проникнута чисто северным готическим духом. Но охотнее Симоне Мартини избегает подобных драматически заостренных положений. Если Джотто любил действия, события, физические конфликты, то Симоне Мартини, как настоящий сьенец, предпочитает показывать пассивные душевные состояния. Ни один живописец итальянского треченто не может сравниться с Симоне Мартини в проникновенном изображении пассивных эмоций. Только в живописи Северной Европы можно найти образы, подобные спящему святому Амвросию, согласно легенде заснувшему в Милане и одновременно совершившему обряд погребения святого Мартина в Туре. Полная отрешенность святого Амвросия от всего земного действует тем выразительнее по контрасту с реалистическим прикосновением молодого диакона. Еще сильнее сравнение с северной, особенно нидерландской живописью напрашивается перед последней фреской цикла, изображающей «Отпевание святого Мартина». Симоне Мартини не подчеркивает трагического события жестами отчаяния, как, например, Джотто в капелле Барди, но именно правдивой, бесхитростной повестью о всех случайных обстоятельствах, сопровождающих печальный обряд, о диаконе, целующем руку епископа, об истово поющих клириках, о мальчишке-служке, заботливо следящем, чтобы воск не капал со свечи, — сьенский мастер создает настроение чистой благоговейной тишины. Этот художественный прием невольно вызывает в памяти мастеров нидерландской живописи — Яна ван Эйка или Гуго ван дер Гуса. В 1340 году наступает последний решающий перелом в жизни Симоне Мартини. Как самый знаменитый итальянский живописец своего времени, он получает приглашение ко двору папы Бонифация VII в Авиньон, где мастер и умер в 1344 году. Здесь Симоне Мартини близко сходится с поэтом Петраркой, уже несколько лет проживавшим в Авиньоне. Поэт многократно упоминает Симоне Мартини в своих сонетах и ставит его выше Зевксиса и Фидия. Результатом дружбы между Петраркой и Симоне Мартини явился также портрет возлюбленной Петрарки, Лауры, к сожалению, теперь утерянный. Но один документ дружественных отношений между поэтом и живописцем сохранился. Это — заглавная миниатюра рукописи Вергилия, принадлежавшей Петрарке и теперь хранящейся в Амброзианской библиотеке в Милане. Миниатюра изображает Вергилия в момент поэтического вдохновения и его комментатора Сервия, который отдергивает прозрачную занавеску, скрывавшую поэта и указывает на него Энею, изображенному в виде римского легионера. Фигуры нижней деревенской сцены надо понимать, по-видимому, как намек на поэмы Вергилия — Георгику и Буколику. Миниатюра представляет собой единственную достоверную работу Симоне Мартини в области рукописной миниатюры, в которой сьенский мастер стяжал себе в свое время такую славу и в которой воспитал двух самых выдающихся сьенских миниатюристов — Никколо ди Сер Соццо Тельяччи и так называемого «Мастера кодекса Георгия». Миниатюра Виргилиева кодекса показывает важную перемену, происшедшую в стиле Симоне Мартини. Если до сих пор мы и отмечали сильное влияние северной готики на творчество сьенского мастера, то оно не могло заглушить итальянскую натуру искусства Симоне Мартини. Теперь же, в Авиньоне, он и по формам и по духу делается готиком, проникаясь чисто северным мировосприятием. Драпировка Вергилия, характерный готический изгиб Энея полностью отвечают идеалам тогдашних французских и фламандских миниатюристов. С каждым годом пребывания Симоне Мартини в Авиньоне проникновение мастера в дух северного художественного мировосприятия становится все сильнее и глубже. В картине Ливерпульского музея, изображающей «Возвращение юного Христа из храма» и датированной 1342 годом, Симоне Мартини еще сохранил свою сьенскую грацию — в типе мадонны, особенно же в рыцарской позе юного белокурого Христа со сложенными на груди руками. Но абстрактный фон, отношение между фигурами и готической рамой и, главное, фигура Иосифа со сложным двойным поворотом тела и напряженной мимикой уже полностью примыкают к североготическому формопониманию. В последней, дошедшей до нас работе Симоне Мартини — в антверпенском алтаре — нет почти никаких следов итальянского происхождения мастера. Пока известно шесть частей, относящихся к этому полиптиху; четыре из них хранятся в Антверпене, одна — в Лувре и одна в Берлине. Две большие створки изображают «Благовещение»; в четырех маленьких картинах Симоне Мартини рассказывает историю «Страстей господних». Симоне, мастер пассивных эмоций и созерцательных состояний, захватывает здесь зрителя таким страстным порывом, таким кипучим водоворотом чувств, какие знакомы только северному искусству. В «Несении креста» два момента прежде всего бросаются в глаза. Во-первых, полное охлаждение интереса к завоеванию пространства, к пластической телесности фигур. Все внимание мастера сосредоточено на духовной характеристике, и в угоду ей Симоне приносит в жертву свою сьенскую грацию. Сквозь весь цикл проходит вопль отчаяния, жалоба страданий. Ни в одной итальянской картине того времени не найти такого обилия злобных гримас, уродливых поз, такой смеси типов и нарядов. Во-вторых, быстрота, стремительность, почти судорожность движений, столь отличная от недлительного, эпического темпа повествования итальянских фресковых циклов. Словно какая-то бешеная лавина низвергается композиция по плоскости картины сверху вниз. В третьей композиции цикла — «Снятие со креста» — движение с такой же чисто готической неудержимостью взметается снизу вверх. Но, пожалуй, высшего напряжения своей готической фантазии Симоне Мартини достигает в последней композиции — «Положение во гроб». Ритм композиции, падающей диагональю, здесь не менее стремителен, сила духовного выражения не менее потрясающа (взгляните на горько рыдающего Иоанна или на гримасу женщины, рвущей свои рыжие волосы). Но впечатление еще усиливается благодаря изумительно проведенному эффекту сгущающихся сумерек на фоне красного вечернего зарева. Перед нами — факт совершенно исключительного эволюционного значения — первый в истории европейской живописи опыт светового эффекта. Правда, Симоне Мартини разрешил свою световую проблему путем явного компромисса — преобладанием красных и желтых одежд и рыжих волос в группе оплакивающих. Но то обстоятельство, что он эту проблему почувствовал и осмелился поставить, сыграло решающую роль в дальнейшем развитии североевропейской живописи. Таким образом, начинается перекрестный обмен художественными достижениями между Италией и североевропейским искусством. Симоне Мартини, выросший в Италии на почве готических традиций, с лихвой отплатил готике ее уроки, поставив перед северной живописью ее «природную» проблему — проблему света. И влияние искусства Симоне Мартини распространилось по всей Европе. Его следы можно найти в нидерландской станковой картине, во французской миниатюре, в Чехии и Венгрии, в Кёльне, Париже и Каталонии. Симоне Мартини оставил в сьенской живописи эпохи треченто очень заметный след, но живописцы, находившиеся под его влиянием, как Липпо Мемми, Варна, Ванни и т. д., не обладали достаточно крупным и самобытным дарованием, и в их руках грация и созерцательное спокойствие Симоне Мартини скоро обратилось в манеру. Ярким примером этой сьенской манеры может служить творчество Мино ди Чино Уги. Мино — художник изящный, но чрезвычайно холодный и главным образом репрезентативный. Его привлекают исключительно декоративные эффекты мягко очерченных линий, пышных золоченых нимбов, пестро орнаментированных тканей. Но позади этой декоративной оболочки остается старая, полувизантийская, полуготическая схема. Гораздо большее влияние на дальнейшую судьбу итальянской живописи оказала деятельность братьев Лоренцетти, современников Симоне Мартини, направивших свои художественные искания в несколько иную сторону, чем Мартини. Старшим из братьев считают Пьетро Лоренцетти, так как документы называют его имя уже в 1306 году, в то время как первое документальное упоминание деятельности Амброджо Лоренцетти относится только к 1321 году. Искусство братьев Лоренцетти, которое представляет собой высшую точку развития сьенской живописи треченто, вместе с тем служит переходным звеном к новому возрождению флорентийской школы, несколько отступившей в тень после смерти Джотто. Пьетро Лоренцетти — художник неровный, медленно развивающийся, но в некоторых произведениях достигающий исключительной силы. В свою раннюю пору он находился, по-видимому, вполне под обаянием стиля Дуччо. Об этом свидетельствует, например, его мадонна, написанная для собора в Кортоне. Она воспроизводит традиционную схему мадонны во славе с ангелами, окружающими трон. Совершенно в духе Дуччо мадонна представлена в интимной полуигре, полубеседе с младенцем. Но некоторые свойства будущего Пьетро Лоренцетти уже здесь дают себя знать: известная угловатость движений, пластическая выпуклость форм, характерные типы голов с близко поставленными глазами и низким лбом. Дальнейшее развитие индивидуальных свойств Пьетро мы находим в полиптихе, написанном для церкви Санта Мария делла Пьеве в Ареццо. Это первое датированное произведение Пьетро Лоренцетти исполнено в 1320 году. Преемственная связь со стилем Дуччо еще очень заметна. Она выражается прежде всего в самих формах алтарного полиптиха, а также в легком налете чувствительного настроения. Но Пьетро Лоренцетти гораздо готичнее Дуччо, не в смысле готической элегантности Симоне Мартини, а в смысле сильного духовного напряжения: оно сказывается в том, как фигуры тесно, вплотную охвачены рамой, как образы насыщены внутренней динамикой. Именно эта духовная динамика, более всего напоминающая Джованни Пизано и соединенная с исключительным пластическим чутьем, составляет главную основу творчества Пьетро Лоренцетти. Взгляните, например, на голову мадонны, такую ясную в своей пластической форме, такую определенную в своем повороте, или на ее глаза, так напряженно, испытующе смотрящие на младенца. Без преувеличения можно утверждать, что по-настоящему смотреть, фиксируя определенную цель, человеческие глаза стали только на картинах Пьетро Лоренцетти. Или взгляните, например, на левую руку мадонны, поддерживающую младенца. Эта рука действительно охватывает тело младенца, держит его и несет. Даже у Джотто нельзя найти ничего подобного функциональной энергии этого жеста. Параллельно с однофигурной иконой развиваются и композиционные задачи Пьетро Лоренцетти. Первые шаги мастера в этом направлении показывает алтарь, написанный для монастыря кармелитов в Сьене в 1329 году. К сожалению, алтарь дошел до нас в раздробленном и неполном виде. Наибольший интерес представляют четыре маленькие картинки пределлы (то есть узкого нижнего завершения алтарной иконы), которые изображают эпизоды из истории кармелитского ордена. Например, «Папа Гонорий III утверждает Устав ордена кармелитов». Ее пространство построено много сложнее, чем все попытки Дуччо и Симоне Мартини в этом направлении, пропорциональные отношения между фигурами и архитектурой гораздо ближе к действительности, а главное, — пространство стало просторнее и глубже; в фигурах монахов, посаженных в четыре ряда, с большой смелостью художником вводятся разнообразные повороты спиной, профилем и фасом. Вероятно, уже к концу тридцатых годов относится самое крупное произведение Пьетро Лоренцетти: фрески левого трансепта капеллы Орсини в нижней церкви Сан Франческо в Ассизи. Здесь индивидуальный стиль Пьетро Лоренцетти достигает своего полного развития. Типы мастера становятся острее, аскетичней, словно сжигаемые внутренним огнем; линии приобретают почти металлическую жесткость, тяжелые ткани падают длинными, прямыми складками, лишенными той мягкой, орнаментальной округлости, которая свойственна живописи Симоне Мартини. Какой большой путь развития проделал стиль Пьетро Лоренцетти, показывает сравнение полиптиха из Ареццо с мадонной из Ассизи. Та же внутренняя, духовная напряженность, та же интенсивность словно сверлящего взгляда, та же пластическая четкость жеста, но все сублимированное внешней простотой монументального стиля. Особенно характерен для Пьетро Лоренцетти жест мадонны с указующим большим пальцем. Аристократический Симоне никогда бы не прибег к такому бытовому жесту; но Пьетро Лоренцетти сумел в него вложить поистине гипнотическую силу. Ассизская мадонна очень важна и своим композиционным нововведением. Мадонна с младенцем помещена между двух фигур святых — Франциска и евангелиста Иоанна, но Пьетро Лоренцетти не изолирует фигуры святых отдельными обрамлениями, как требовали византийские традиции, а вовлекает в общее пространство с мадонной, мало того — связывает святых и мадонну общностью действия. Так создается один из важнейших иконографических типов итальянского Ренессанса — так называемая «sacra conversazione», диспут святых вокруг мадонны. Бесспорной вершиной творчества Пьетро Лоренцетти надо считать «Снятие со креста», помещенное на входной арке капеллы Орсини. Я склонен в этой фреске видеть вообще одно из самых сильных произведений итальянской живописи треченто. Невольно напрашивается сравнение со стилем Джотто, которого Пьетро Лоренцетти напоминает здесь силой концентрации и простотою масс. Но по сравнению с Джотто фигуры значительно выросли в пропорциях, приобрели большую выпуклость. Пьетро Лоренцетти не рассказывает, как Джотто, но сгущает выражение чувства до максимальной, сверхчеловеческой остроты. Незабываемое впечатление оставляет тело Христа, перегнувшееся через колено Иосифа, со свисающими вниз волосами. Полон гневной поспешности жест Никодима, стремящегося вырвать гвоздь, пробивший ногу Христа. О поразительной наблюдательности мастера свидетельствует большое пятно, оставленное кровью, сочившейся из руки распятого. Другая фреска того же цикла изображает «Распятие» и, к сожалению, сильно попорчена. Но даже и в теперешнем состоянии она способна дать достаточное представление о могучем таланте Пьетро Лоренцетти. Несмотря на темный, нейтральный фон, фреска воздействует прежде всего чувством глубины и вышины пространства, до сих пор совершенно незнакомых живописи треченто. Проблема бурной массовой сцены разрешена здесь сьенским мастером с совершенно исключительным размахом. В таких приемах, как помещение крестов с разбойниками на более дальнем плане или как движение всадников в глубину картины, Пьетро Лоренцетти является предшественником мастеров кватроченто с Мазаччо во главе. Последнюю достоверную дату из жизни Пьетро Лоренцетти дает 1342 год, когда написан триптих, находящийся теперь в музее Сьенского собора. Его средняя часть изображает «Рождение Марии». Эта картина показывает, что талант Пьетро Лоренцетти не был направлен только в сторону страстной, трагической динамики и что он является предшественником живописцев кватроченто также и в области интимного жанра. Пьетро Лоренцетти изображает интерьер, по смелости перспективной концепции, по богатству реалистических деталей далеко превосходящий все, что до сих пор было доступно итальянской живописи. Композиционное дерзновение Пьетро Лоренцетти состоит в том, что среднюю часть триптиха и его боковые створки он стремился объединить в общей перспективе, все три части алтарной картины он представляет как продолжение одного и того же пространства, и сверх того в левой створке дает просвет в другое, еще более глубокое пространство. Правда, если мы строже проверим перспективную конструкцию, то окажется, что она не имеет единой точки схода, что каждое из трех пространств мастер строит заново и что даже пол и потолок не соответствуют друг другу точно в схождении перспективных линий. Тем не менее участие Пьетро Лоренцетти в завоевании центральной перспективы огромно, и мы увидим, что только его брат Амброджо осмелился пойти дальше в том же направлении. Не менее интересен интерьер Пьетро Лоренцетти и в смысле жанровой характеристики. Пьетро Лоренцетти переносит зрителя во внутренность богатого дворца с замкнутым двориком, окруженным аркадами, вроде того, который и теперь еще имеет Палаццо Пубблико в Сьене. Роженица Анна возлежит на своем богатом ложе в самой нецеремониальной, интимной позе с выставленным вверх коленом. Роженица принимает визиты: светская дама с модным веером сидит у подножия кровати. Ключница приносит поздравительные подарки, а горничная, с кубком вина в руках, снимает с корзины подарков тонко вытканное полотенце. С противоположной стороны сидит Иоаким, полный напряженного ожидания, пока не вбегает паж сообщить ему радостное известие. Здесь мы сталкиваемся с такой долей повествовательного реализма и с такой жаждой наблюдения непосредственной действительности, которая далеко выходит за пределы искусства Джотто и его школы. Есть все основания думать, что этот поворот к интимному реализму произошел в сьенской школе под влиянием северного искусства и в особенности северной — французской и нидерландской — миниатюры. Младший брат Пьетро, Амброджо Лоренцетти, продолжает и увенчивает художественные тенденции Пьетро своим исключительным повествовательным талантом. Если Амброджо Лоренцетти не обладает драматической динамикой Пьетро, то он далеко превосходит его широтой замысла, социальным направлением, силой и последовательностью своего реалистического чутья. К тому же Амброджо Лоренцетти один из самых образованных людей своего времени. Его называют первым гуманистическим художником Италии, и в его творчестве мы впервые наблюдаем ту тенденцию к литературной или аллегорической концепции, которая так характерна для искусства второй половины треченто. Первое документальное упоминание имени Амброджо Лоренцетти относится к 1321 году. Ранний период его творчества характеризует мадонна из Вико л’Абате близ Флоренции. Она показывает, что и Амброджо Лоренцетти начал свою деятельность в мастерской Дуччо и под сильным обаянием византийского канона. Фронтальная поза богоматери, стилизованные черты ее лица, ее византийский чепчик и тяжелые серьги — все это ясно свидетельствует о том, как прочно утвердились в Сьене византийские пережитки. Но вместе с византийскими традициями Амброджо Лоренцетти соединяет мягкую пластическую трактовку форм, свойственную младшему поколению сьенцев. Кроме того, ему принадлежит изобретение нового мотива — младенца, лежащего на руках богоматери. Этот же самый мотив Амброджо Лоренцетти с исключительным блеском развивает в мадонне, хранящейся теперь в семинарии при церкви Сан Франческо в Сьене и написанной всего несколькими годами позднее. Здесь движению младенца Амброджо Лоренцетти придает реалистическое толкование и зарисовывает его со свойственной мастеру пластической ясностью и орнаментальным взлетом: младенец сосет грудь матери, опираясь ногой в ее руку и выкатывая глазенки на зрителя. Сьенская икона Амброджо Лоренцетти обнаруживает и ряд других смелых нововведений. Младенец впервые изображен совершенно обнаженным, только слегка прикрытым прозрачным покрывалом, и в повороте головы мадонны Амброджо Лоренцетти окончательно преодолевает византийскую схему и предвосхищает излюбленный мотив живописи кватроченто — чистый профиль. Следует отметить также важную перемену в технике изображения нимба. Вместо прежней линейной гравировки Амброджо Лоренцетти применяет теперь особый зубчатый инструмент, с помощью которого он разрыхляет плоскость нимба мелкими точками и на фоне картины выделяет светлые буквы священного текста. Однако главных успехов своих Амброджо Лоренцетти достигает не в алтарной иконе, а в монументальной повествовательной фреске. Первые шаги в этом направлении мастер делает в небольшом фресковом цикле церкви Сан Франческо в Сьене. Одна из фресок изображает мучение францисканских монахов в Чеуте. В просторности композиции и в овладении глубиной пространства Амброджо Лоренцетти уже здесь превосходит своего брата Пьетро. Но особенного внимания заслуживает реалистический характер повествования, чрезвычайное разнообразие мимики и наглядность в описании ужасного зрелища. Сьенская школа надолго удерживала этот интерес к жестоким темам мучения — но не из свирепости нрава, а из чисто готической любознательности к гримасам и случайностям натуры. Амброджо Лоренцетти изображает падишаха с его свитой из восточных и европейских рыцарей и монгольских детей, которые бросают камни в жертвы мучения, изображает с такой актуальностью, с таким знанием местного колорита, что естественно возникло предположение, не был ли мастер непосредственным очевидцем подобного события, не побывал ли он на Востоке. К сожалению, скудные биографические сведения о мастере не дают пока достаточного материала для такого предположения. В 1332 году документально удостоверено длительное пребывание Амброджо Лоренцетти во Флоренции, во время которого он исполнил целый ряд заказов. Эта деятельность Амброджо Лоренцетти во Флоренции, как мы увидим, оставила очень заметный след в дальнейшей судьбе флорентийской живописи. Из флорентийских работ сьенского мастера сохранились только сцены из легенды святого Николая (Уффици). Сошлюсь на две картины этого цикла: «Святой Николай одаривает трех дочерей бедного рыцаря», «Святой Николай воскрешает задушенного дьяволом ребенка». Эти сцены дают нам полное представление об изумительном даре рассказчика у Амброджо Лоренцетти и о его богатой архитектурной фантазии. В первой сцене мастер рассказывает о том, как святой Николай через слуховое окно бросает в комнату три золотых шара для спасения дочерей бедного рыцаря. Его архитектурная фантазия отличается свойственной всей сьенской живописи интимностью, но насколько же она конкретнее и увереннее, чем аналогичные построения у Дуччо, Симоне Мартини, Пьетро Лоренцетти. Зритель разбирается в пропорциях и отношениях зданий между собой, узнает узкие сьенские переулки со скамейками у дверей и типичные сьенские интерьеры, простые и уютные, с ларями, кувшинами и вышитыми полотенцами. Еще богаче, и литературно и архитектурно, тема разработана во второй сценке. Амброджо использовал здесь нововведение своего брата — развертывание действия по двум этажам здания, — но он далеко превзошел наивную схему своего предшественника. Наверху, в лоджии, хозяин дома устроил пиршество, его мальчик помогает прислуживать за столом. Но вот мальчика отзывает на лестницу незнакомый посетитель. Это и есть черт, который тут же и душит свою жертву. Внизу мать рыдает над трупом сына, а отец молится святому Николаю. И уже видит священник через окно небесное видение. Мальчик восстал со своего одра, и мать с благоговением протягивает к нему руки. Перед нами яркий образец типично готического способа представлений — сукцессивного или генетического. Зритель как бы не должен сразу охватить взором всю плоскость картины, но постепенно двигаться по ней вместе с рассказом, причем лестница и лучи, исходящие из уст и рук святого Николая, указывают путь для движения глаза. В этом смысле Амброджо Лоренцетти еще полностью стоит на ступени средневекового мировоззрения, и перед его живописью мы яснее видим, насколько «преждевременна» была джоттовская попытка синтетической концентрации действия. От своих предшественников Амброджо Лоренцетти отличается только поразительной натуральностью, наглядностью повествования. Так, например, зрителю почти не приходит в голову мысль о том, что интерьеры Амброджо Лоренцетти возникли в результате поперечного взрезывания дома, в такой мере они естественно открываются перед глазами зрителя своими арками и колоннадами. Не менее оригинальна пространственная фантазия Амброджо Лоренцетти и в двух других картинах цикла. В одной изображено, как святой Николай явился в Миру на раннюю мессу и как почтенный старик одергивает святого, устремляющегося к алтарю, за плащ, не подозревая, что юноша немедленно будет посвящен в епископы и совершит мессу («Посвящение святого Николая в сан епископа»). Здесь Амброджо Лоренцетти дает цельную картину внутренности церкви с постепенно сужающимися боковыми кораблями и со смелым пересечением фигур колоннами. Наконец, последняя картина цикла — «Чудо с зерном» — показывает Амброджо Лоренцетти как пейзажиста. И опять Амброджо Лоренцетти далеко превосходит своих предшественников богатством, наглядностью своих пространственных представлений. Однако и здесь сьенский мастер целиком остается в сфере сукцессивного восприятия пространства. В самом деле, присмотримся внимательней к пространственному построению этого морского пейзажа. Мы видим последовательно проведенное перспективное уменьшение фигур и предметов; но это сокращение пространства идет не спереди назад, а двумя диагоналями — сперва слева направо, а потом справа налево, причем исходным пунктом этого движения в пространстве является фигура святого, как главное тематическое и колористическое ядро композиции. Таким образом, не зрительные представления действительности, а тематическая связь событий дает стержень, путеводную нить, по которой развертывается глубина пространства. Иными словами, Амброджо Лоренцетти, как типичный готик, признает пространство лишь постольку, поскольку в нем что-нибудь происходит. Именно здесь и скрывается коренное различие готики от искусства Ренессанса, которое впервые открыло геометрическое, чисто количественное представление пространства. Из Флоренции Амброджо Лоренцетти возвращается в родную Сьену, чтобы приступить к самой своей капитальной работе, к аллегорическому фресковому циклу в Палаццо Пубблико, который он закончил в 1339 году. Фрески, сильно попорченные и в некоторых частях почти уничтоженные, изображают аллегорию «Доброго и злого правления» и их последствий. Аллегория «Доброго правления» расположена с характерной для Амброджо Лоренцетти двухэтажной композицией, причем по средневековой традиции фигуры верхней зоны, воплощающие идеи и понятия, крупнее по размерам, чем фигуры нижней зоны, изображающие реальных людей. Главную часть верхней зоны занимает длинная, обитая материей скамья, в центре которой восседает старик в королевской мантии, со скипетром и щитом, — символ Коммуны, олицетворение доброго правителя. Направо и налево от него — добродетели, охраняющие идею доброй власти: справедливость, умеренность, великодушие и мудрость, смелость и миролюбие. Значение каждой из фигур объяснено соответствующими атрибутами и надписями. Особенно оригинально задумана аллегория «Мира» в виде юной женщины, возлежащей на подушке в прозрачных одеждах с обнаженными ногами, — нечто вроде античной Помоны. У подножия «Доброго правителя» — волчица с Ромулом и Ремом — символ, которым сьенцы подчеркивали возникновение своего города как римской колонии. Всей этой многофигурной группе соответствует слева аллегорическая фигура «Справедливости». Обеими руками она уравновешивает чаши весов, которые над нею держит «Мудрость», и от этих весов идут красный и белый шнуры, которые соединяются внизу в руке «Согласия». В нижней зоне мы видим торжественную процессию граждан, которые от «Согласия» направляются к «Доброму правителю», а с правой стороны к нему приближается сьенское воинство, ведущее побежденных врагов города. Если эта фреска показывает нам Амброджо Лоренцетти как мыслителя, гуманиста с широким образованием и тонкой литературной изобретательностью, то во фресках, посвященных «Последствиям доброго правления», он во всей полноте развертывает свое чисто живописное дарование. «Последствия доброго правления» Амброджо Лоренцетти характеризует картинами благоденствия города и деревни. И в той и в другой фреске Амброджо Лоренцетти полностью отступает от принципов джоттовского рассказа. Здесь нет никакого определенного действия, сгущенного в драматическом кульминационном пункте. Амброджо Лоренцетти дает картину жизни городской и деревенской вообще, отдельными, случайными ее эпизодами, объединенными в органическое слияние городского и деревенского пейзажа. Перед нами действительно первый городской пейзаж итальянской живописи, в котором турист, знакомый со Сьеной, и теперь еще может узнать портрет родного города художника. Но, конечно, портрет не симультанный (с одной определенной точки зрения), а сукцессивный, раскрывающийся в постепенном блуждании по городу, в рассмотрении его достопримечательностей то снизу, то сверху, то вблизи, то издали. Чрезвычайно показательны для сукцессивного метода представлений те приемы освещения, которые применяет Амброджо Лоренцетти: в левой части картины свет падает справа, в правой же части картины свет падает слева. Вместе с тем композицию в целом следует читать слева направо, так как в правом углу фрески она заканчивается крепостной стеной и главными воротами Сьены, которыми следующая композиция деревенской жизни начинается слева. На этом фоне и разыгрываются в исключительно живой смене сцены благоденствия горожан. Слева благородная дама возвращается в свой дворец, справа в город въезжает купеческий караван, нагруженный товарами. В центре под звуки тамбурина ведут хоровод девушки, одетые по последней французской моде. Вторая фреска, изображающая «Благоденствие деревни», начинается слева теми же сьенскими воротами, из которых по мощеной дороге выезжает кавалькада охотников. Нет никакого сомнения, что в своем деревенском пейзаже Амброджо Лоренцетти использовал композиционные приемы Симоне Мартини, с которыми нас познакомил портрет кондотьера Гвидориччо. Но голую, отвлеченную схему своего предшественника Амброджо Лоренцетти наполнил живым органическим содержанием. Холмы и долины оживлены растительностью, пиниями и виноградниками, прерываются волнами пролива и, сменяя и перерезываядруг друга, уходят в глубину, вплоть до самого горизонта. Перед пейзажем Амброджо Лоренцетти можно действительно говорить о горизонте, так как линия, отделяющая небо и землю, впервые соответствует у него высокой, словно с птичьего полета, точке зрения наблюдателя. Что касается фрески, изображающей «Злое правление», то она настолько испорчена, что ее уже нет смысла привлекать для анализа творчества Амброджо Лоренцетти. Развитие Амброджо Лоренцетти не остановилось на ступени, достигнутой мастером во фресках сьенской ратуши. Работы, исполненные им в сороковых годах, показывают, какое творческое богатство было заложено в таланте Амброджо Лоренцетти. Однако развитие зрелого таланта Амброджо Лоренцетти пошло несколько в ином направлении, чем это можно было предположить на основании его предшествующей деятельности. Можно было думать, что живопись Амброджо пойдет по пути еще более последовательного оптического завоевания действительности, еще большего интереса к овладению глубоким пространством. На самом же деле живописные искания Амброджо Лоренцетти повернули как раз в противоположную сторону: к стилизации, к символике, к орнаментальному укреплению плоскости. С живописью Амброджо Лоренцетти произошло примерно то же самое, что мы наблюдали в эволюции Джотто после падуанского цикла фресок: северный готический дух оказался сильнее южных и национальных стимулов. Переходное положение в этом смысле занимает алтарная картина «Принесение во храм», исполненная мастером в 1342 году и ныне хранящаяся в Уффици. Правда, в перспективном построении интерьера Амброджо Лоренцетти достигает теперь большей точности: впервые ему удалось свести все ортогональные линии пола к одной общей точке схода. Правда, в картине рассыпаны столь характерные для Амброджо Лоренцетти интимные, реалистические подробности, как острый профиль старой Анны или жест младенца, сосущего палец. Но в целом композиция лишена всякой динамики, приобрела черты торжественной, просветленной гармонии, формы теряют свою прежнюю пластичность, складки падают ровными, прямыми линиями. Наибольшее же внимание мастера сосредочено на орнаментальной и символической стороне картины. Амброджо Лоренцетти хочет восстановить облик Соломонова храма во всем его великолепии. Над колоннами он помещает статуи Моисея и Иисуса Навина; на головном уборе первосвященника имитирует еврейскую надпись, а его грудь украшает двенадцатью бриллиантами, олицетворяющими двенадцать колен племени Израилева. Таким же богатством орнаментальных подробностей отличается и готическая рама иконы. Окончательного завершения этот орнаментально-символический стиль Амброджо Лоренцетти достигает в алтаре из Massa Marittima, написанном, вероятно, во второй половине сороковых годов. После фресок в сьенской ратуше эта икона производит впечатление определенной архаизации. Амброджо Лоренцетти как будто отказывается здесь от всех своих живописных приобретений в области пространства и композиции и опять возвращается к схеме Дуччо. Пропорции мадонны опять вырастают до отвлеченных размеров, группы святых опять чередуются плоскими орнаментальными рядами, обрамление нимбов носит декоративный характер. Из реальной близости простых человеческих отношений, в которые поставили мадонну Джотто, Симоне Мартини, Пьетро Лоренцетти, Амброджо снова поднимает ее в отвлеченную сверхчеловеческую сферу. К трону мадонны ведут три ст упени, которые олицетворены изображениями теологических добродетелей — Милосердие, Надежда и Вера — с их символическими атрибутами. Мадонна восседает на подушке, которую поддерживают два коленопреклоненных ангела, и их стилизованные крылья образуют как бы спинку трона богоматери. Последнее документальное упоминание имени Амброджо Лоренцетти относится к 1347 году. Есть основания думать, что уже в следующем, сорок восьмом году он погиб во время страшной чумы, свирепствовавшей тогда не только в Италии, но и по всей Европе. Со смертью Амброджо Лоренцетти великие традиции сьенской живописи треченто внезапно обрываются и художественная гегемония переходит к Флоренции и Северной Италии.VII
МЫ ОБРАЩАЕМСЯ теперь снова к флорентийской живописи, которую оставили со смертью Джотто. Дальнейшая история флорентийской школы (в атмосфере реакции, усиления монашеских орденов) не дала в продолжении всего треченто ни одного мастера исключительной силы, которого можно было бы сравнить с Джотто, или Дуччо, или Пьетро и Амброджо Лоренцетти. Более того, можно сказать, что она почти не выдвинула новых художественных идей и проблем (все новые живописные проблемы треченто рождались или в Сьене, или в Северной Италии). Тем не менее благодаря разносторонности, последовательности и логичности флорентийского художественного гения, начиная примерно с сороковых годов XIV века, флорентийская школа играет господствующую роль в судьбах итальянской живописи: она чутко подхватывает все новые художественные веяния, подвергает их тщательной переработке, синтезирует их, извлекает из них логические последствия. Именно на флорентийской почве борьба между северным и южным художественным миросозерцанием достигает наибольшей остроты, именно на флорентийской почве национальный стиль получает свою окончательную шлифовку. Как это почти всегда бывает с гениальными мастерами, Джотто имел очень много имитаторов (с некоторыми из них мы познакомились по фрескам в церкви Сан Франческо в Ассизи) и очень мало настоящих, сознательных учеников, которые бы продолжали и развивали его художественные идеи. Среди этих непосредственных учеников Джотто цервое место несомненно принадлежит Таддео Гадди. О большой популярности Таддео Гадди у современников мы узнаем из новелл Сакетти. Год рождения художника неизвестен. Впервые художник упоминается в 1327 году. Согласно матрикулам гильдии святого Луки Таддео Гадди умер в 1366 году. По-видимому, одним из юношеских произведений Таддео Гадди нужно считать серию маленьких картинок, иллюстрирующих жизнь Христа и легенду святого Франциска, которая ранее украшала ризничный шкаф в церкви Санта Кроче, а теперь перенесена в флорентийскую Академию. Не трудно видеть, в какой мере близко Таддео Гадци примыкает к Джотто в своих ранних работах: и в типах фигур, и в композиции, и в рисунке архитектурных кулис. Только его рассказ наивнее, элементарнее, ему не хватает джоттовской драматической энергии. Но уже в следующей своей крупной работе (1332–1338), в цикле фресок, украшающем капеллу Барончелли в церкви Санта Кроче, Таддео Гадди делает попытку выйти за пределы джоттовского стиля. В этих фресках, иллюстрирующих легенду богоматери, Таддео Гадди остается таким же наивным, идиллическим рассказчиком, лишенным настоящего драматического пафоса. Но во многих отношениях ему действительно удается развить дальше концепцию Джотто; причем не может быть никакого сомнения, что главный толчок для своих новых живописных исканий Таддео Гадди получил от сьенской школы и более всего от Пьетро и Амброджо Лоренцетти. Таддео Гадди и формально и психологически развертывает свой рассказ не столько в глубину, сколько в ширину — увеличивая число действующих лиц, усложняя архитектуру, обогащая элементы пейзажа. Во «Введении во храм» Таддео Гадди строит очень сложный архитектурный комплекс с пересекающимися лестницами и сквозными портиками, причем смело ставит архитектуру под углом к плоскости картины, сокращая ее пропорции по диагонали. Однако было бы ошибкой видеть в этой диагональной композиции прогресс оптического восприятия пространства, приближение к центральной перспективе. Диагональная ось композиции в живописи треченто есть не что иное, как результат сукцессивных представлений, как развертывание пространства в действии, во времени. Если присмотреться ближе, не трудно найти симптомы той же генетической перспективы, которую мы наблюдали у Амброджо Лоренцетти: масштаб фигур уменьшается не спереди назад, а справа налево и слева направо, причем параллельные линии сближаются то в глубину, то наперед. Еще больше признаков сьенского влияния в композиции Таддео Гадди, изображающей «Обручение богоматери». Перед нами массовая сцена того типа, который охотно культивировался в сьенской живописи, с обилием второстепенных, жанровых фигур, со всеми подробностями сложных модных нарядов. Из Сьены Таддео Гадди заимствует и мотив фигур, рассматривающих главное событие с высоты второго этажа. Но в двух моментах композиции Таддео Гадди идет дальше своих вдохновителей. Прежде всего обратим внимание на две трубы, которые высовываются из-за левого обрамления картины, тогда как сами музыканты еще остаются невидимыми. Это продолжение действия за пределы картины представляет собой одно из важнейших завоеваний европейской живописи эпохи готики. Оно предполагает представление бесконечного пространства, совершенно незнакомое античному мировоззрению. Не менее интересен и другой живописный мотив Таддео Гадди, применяемый им впервые во фресках капеллы Барончелли. Сцена «Обручение богоматери» по джоттовской традиции замыкается сзади светлой стеной. Но Таддео Гадди углубляет пространство и позади стены дает изображение сада, населенного райскими птицами. Однако наибольшую оригинальность и самостоятельность концепции Таддео Гадди обнаруживает в «Благовещении пастухам». Пейзаж трактован чрезвычайно широко, в виде покатых скалистых уступов, поросших деревьями. Явление ангела пробуждает пастухов ото сна; один из них оборачивается и протягивает к ангелу руку, другой закрывает глаза плащом, ослепленный сиянием ангела. Вот эта тенденция к разработке световых эффектов и определяет главную историческую роль Гадди во флорентийской живописи треченто. С проблемой освещения мы сталкивались уже у Симоне Мартини. Но сьенского мастера занимала чисто декоративная сторона светового эффекта. Таддео же Гадди переносит центр тяжести на реалистическую роль света, прослеживая взаимоотношения между предметами и источником света, пользуясь светом как орудием моделировки. В дальнейшем развитии своего творчества Таддео Гадди, однако, начинает отступать от реалистических тенденций, которые он проявил в цикле богоматери. Общение художника с монашескими кругами, в особенности с фра Симоне Фидати, который воплотил свои мистические настроения в поэтическом трактате «Ordine della vita cristiana», поворачивает интересы Таддео Гадди в сторону мистической символики. Его «Мадонна» из Уффици, написанная в 1355 году, хотя и повторяет внешне схему джоттовской мадонны из церкви Оньисанти, но гораздо более проникнута духом мистической торжественности и переводит телесные, пластические формы Джотто в сферу декоративной, церковной символики. С иконографической стороны мадонна Гадди интересна тем, что здесь мы впервые встречаемся с излюбленным мотивом позднейшей итальянской живописи — с птичкой в руках младенца. Еще решительнее мистически-аллегорический уклон Таддео Гадди проявляется в последней работе, исполненной мастером для церкви Санта Кроче в ее трапезной. Центральную часть росписи занимает здесь полное сложных аллегорических намеков изображение мистического древа Бонавентуры. Внизу цикл замыкается «Тайной вечерей». В композиции «Тайной вечери» Таддео Гадди решительно отступает от традиционной иконографической схемы, которой придерживался еще Джотто — с апостолами, сидящими по двум сторонам стола, лицом и спиной к зрителю. Таддео Гадди вводит новую схему, которой суждено было продержаться в течение всего кватроченто, вплоть до Леонардо да Винчи. Христос — в центре длинного стола, с апостолом Иоанном, склонившимся к его рукам, по обеим сторонам Христа — апостолы, и с противоположной стороны стола — одинокий Иуда. Еще более заметны следы сьенского влияния в творчестве Бернардо Дадди. Но если на Таддео Гадди сьенская школа оказала влияние главным образом через посредство Пьетро и Амброджо Лоренцетти, то Бернардо Дадди более близок по духу к Симоне Мартини. Повествовательная фреска мало соответствовала живописному дарованию Дадди; главная его деятельность относится к области алтарной иконы. Что касается фрескового цикла — росписи капеллы Пульчи в церкви Санта Кроче, то эти фрески, изображающие эпизоды из легенд святого Лаврентия и святого Стефана, очень близки к Джотто по типам фигур и по распределению архитектурных кулис. Но в темпе рассказа, более, так сказать, новеллистическом, изобилующем жанровыми подробностями, Бернардо Дадди скорее напоминает сьенцев. Подобно сьенцам, Бернардо Дадди смелее, чем Джотто, обращается с пространством. В «Избиении святого Стефана», например, фигуры палачей свободно расставлены в пространстве вокруг святого. Вместе с тем Бернардо Дадди отказывается от того подчеркивания драматического и композиционного центра, которое составляло одну из важнейших основ стиля Джотто, и стремится к более декоративному заполнению плоскости картины. Это декоративное согласование композиции и составляет главную прелесть алтарных икон Бернардо Дадди. В более ранних произведениях Дадди, как, например, в маленьком триптихе, датированном 1333 годом и хранящемся во флорентийской лоджии дель Бигалло, с его богатой позолотой и произвольными пропорциями, декоративная фантазия Дадди отличается чисто плоскостным, орнаментальным характером. Позднее чутье пространства заметно возрастает у Дадди; мастер свободнее размещает фигуры, вырабатывает пространство в глубину и особенно в вышину. В этот последний период своего творчества Дадди окончательно отходит от пластического и драматического стиля Джотто. Во флорентийской школе треченто Дадди занимает примерно то же место, что фра Беато Анджелико по отношению к Мазаччо во Флоренции кватроченто. Его тонкие, длинные фигуры, очерченные нежными контурами, лишены всякой телесности и излучают атмосферу мистической одухотворенности. Очарование алтарных картин Дадди еще повышается их колористическим воздействием. Бернардо Дадди — несомненно самый крупный колорист среди флорентийцев треченто. Бернардо Дадди умеет достигать того общего тонального согласования красок, которое совершенно отсутствует у представителей школы Джотто. С третьим направлением этой школы знакомит нас группа произведений, объединяемых под именем «Джоттино». Вопрос о художественной личности «Джоттино» является одним из самых трудных и до сих пор наиболее спорных проблем в истории флорентийского треченто. Вина в этой путанице фактов и мнений, которая создалась вокруг имени «Джоттино», несомненно падает на Вазари. В своих «Биографиях» он, очевидно, смешивает личности двух различных художников и объединяет плоды их деятельности под общим именем «Джоттино». Между тем среди произведений, которые приведены в списке Вазари, нет того стилистического единства, которое вытекало бы из авторства одного художника. Ученые напали на след этих противоречий, проверяя данные Вазари с помощью более ранних и более достоверных литературных источников. Так оказалось, что в «Комментариях» Гиберти, заслуживающего наиболее доверия хрониста флорентийского искусства, часть произведений, перечисленных в списке Вазари, упоминается под именем ученика Джотто — Мазо; тогда как другой важный литературный источник Вазари, так называемый «Libro di Antonio Billi», объединяет группу поименованных Вазари произведений под авторством некоего Джотто ди Маэстро Стефано. Окончательное разрешение этой сложной проблемы и теперь еще не достигнуто, но с большей или меньшей уверенностью результаты исследований можно формулировать следующим образом[21]. Мы имеем дело с двумя художниками. Старший из них — Мазо, непосредственный ученик Джотто, автор фресок, иллюстрирующих легенду о святом Сильвестре и украшающих одну из капелл в церкви Санта Кроче. Младший — Джотто ди Маэстро Стефано, по прозвищу «Джоттино», по всей вероятности, сын того Стефано Фьорентино, с именем которого мы сталкивались при анализе фресок в нижней церкви Сан Франческо в Ассизи. Деятельность Мазо, согласно документам, относится к тридцатым годам XIV века. Деятельность же Джоттино протекала бесспорно позднее, в пятидесятых, а может быть, даже в шестидесятых годах, так что он не мог быть непосредственным учеником Джотто, а, вероятнее всего, вышел из мастерской Мазо, что и послужило основанием для позднейшего смешения их деятельности. Фрески Мазо в церкви Санта Кроче очень близко примыкают к позднему стило Джотто, как он выразился в монументальных циклах капелл Барди и Перуцци в той же самой церкви. В левой части люнеты святой Сильвестр показывает императору Константину портреты апостолов Петра и Павла; в правой части происходит крещение императора. Мазо придерживается свойственной поздним циклам Джотто композиционной схемы, связывая несколько отдельных эпизодов в композиционное единство с помощью непрерывно продолжающихся архитектурных кулис. Как и у Джотто, арена действия очень неглубока, замыкается глухой стеной, и движения фигур совершаются в узкой полосе, параллельно плоскости картины. Мазо избегает драматических сцен и динамики движения. Спокойствием, размеренностью ритма веет от его фресок. Главный интерес художника сосредоточен на отдельных фигурах, нарисованных с пластическим пониманием формы, прочно стоящих, крепко построенных. Особенно хороши головы у Мазо, в своей пластической конструкции и экспрессивности далеко превосходящие схематические лики джоттовой школы. Из всех учеников Джотто Мазо наиболее близок к духу своего великого учителя. Те же самые тенденции идеализированного, классического стиля, но только доведенные до еще более крайней степени абстракции, мы находим и у Джоттино. С полной уверенностью можно предположить авторство Джоттино лишь в двух фресках, украшающих капеллу Строцци в церкви Санта Мария Новелла. Одна из них изображает «Поклонение младенцу Христу». Джоттино так же прекрасно рисует, как и его учитель Мазо. Чудесно нарисованы животные, с большой уверенностью показан ракурс Иосифа и перспективное построение навеса над яслями. И точно так же, как Мазо, Джоттино избегает драматических сцен, предпочитая сюжеты статического, созерцательного характера. Но Джоттино идет еще дальше своего учителя, с одной стороны, в смысле пластической лепки фигур, с другой — в смысле синтезирования и абстрагирования композиции. Обратите внимание, с какой орнаментальной четкостью композиция подчинена обрамлению люнета, как строго согласованы главные фигуры с архитектурными линиями навеса. Пейзаж показан в самой схематической форме и вплотную придвинут к передней плоскости картины. Во второй фреске того же цикла — в «Распятии» — Джоттино отказывается и от этих схематических намеков на пейзаж и развертывает всю композицию на абстрактном темном фоне. Если сравнить Джоттино с Джотто, то нет спора — фигуры чрезвычайно выиграли в объеме, в пластической мощи, в органической разработке, но вся концепция в целом потеряла активность, драматическую насыщенность и сделалась более плоскостной и орнаментальной. На основании стилистического сходства с фресками капеллы Строцци Джоттино с некоторым основанием приписывают алтарную икону «Оплакивание Христа» в Уффици. Характерные качества Джоттино нашли здесь свое отражение. С одной стороны, поразительная пластическая ясность и индивидуальное богатство в характеристике отдельных фигур (взгляните хотя бы на ракурс со спины одной из святых дев, держащей левую руку Христа, или на фигуры заказчиц, такие яркие и убедительные в своем портретном сходстве); и с другой стороны — застылость, абстрактность целого, отсутствие того глубочайшего внутреннего единства, которым так покоряло искусство Джотто и которое сменилось здесь внешним, орнаментальным равновесием масс. Отдельные фигуры Джоттино научился воспринимать симультанно, но в концепции целого с тем большей силой проступает сукцессивный способ восприятия. В истории живописи треченто мы подошли, таким образом, к середине века, которая совпадает с несомненным кризисом художественного миросозерцания. Противоречия, которые мы отметили в творчестве Джоттино, естественно, должны были еще более заостриться и привели в конце концов к своеобразному раздвоению флорентийского стиля. В пятидесятых и шестидесятых годах мы застаем во Флоренции два резко враждебных друг другу направления. Одно из них, во главе которого стоит Андреа Орканья, стремится к классической монументальности образов, отвлеченному единству концепции; другое, возглавляемое Андреа де Фиренце, напротив, уходит в детали, увлекается новеллизмом повествования и хитросплетениями литературной символики. Объединяет и то и другое направление тенденция к плоскостной, орнаментальной трактовке композиции, к декоративности общего эффекта. С Андреа ди Чионе, по прозванию Орканья, мы уже познакомились как со скульптором. Не меньшей популярностью Орканья пользовался у современников и в качестве живописца. Первое документальное упоминание его имени относится к 1344 году, когда он был принят в цех Medici e Speciali (то есть врачей и аптекарей), к которому в то время принадлежали живописцы. В 1347 году он один из претендентов на изготовление алтаря для церкви Сан Джованни в Пистойе. В 1357 году он завершает свой капитальный труд — алтарную икону в капелле Строцци в церкви Санта Мария Новелла. Согласно документам, Орканья умер в 1368 году. Живописная мастерская, возглавляемая Орканьей, в которой под его руководством работали его братья Нардо и Якопо ди Чионе и многочисленные ученики, развила чрезвычайно обширную деятельность и в течение двух десятилетий играла господствующую роль во Флоренции. К сожалению, из большого списка оригинальных работ Андреа Орканьи, перечисленных у Гиберти, ни одна не сохранилась, и таким образом, вполне достоверное представление о живописи мастера мы можем получить на основании только одного произведения — алтарной иконы в капелле Строцци в Санта Мария Новелла. Центр иконы занимает Христос в так называемой мандорле; одной рукой он передает книгу святому Доминику, другой — ключи апостолу Петру; шесть святых сопровождают главную сцену. В общей концепции алтарной иконы Орканья примыкает к сьенским традициям и создает первый во Флоренции образец «sacra conversazione»: изолированные ранее на отдельных створках алтарной иконы фигуры святых теперь связаны в общую группу, и только заостренные готические арки, обрамляющие их головы, являются пережитками традиционной схемы полиптиха. Что же касается трактовки отдельных фигур, to Орканья продолжает направление Джоттино. Как прирожденный скульптор, Орканья стремится к прочной конструкции фигур, к равновесию их поз, к твердой, пластической проработке форм. По сравнению со всеми предшествующими живописцами треченто Орканья гораздо большее значение придает моделировке форм светотенью (или, употребляя итальянское выражение, — chiaroscuro) и иллюзорной разработке поверхности. Движения его фигур плавны, размеренны и лишены всякого драматического напряжения. Колорит Орканьи построен на простейших контрастах дополнительных красок, что еще более усиливает впечатление торжественного, спокойного и отвлеченного ритма его композиций. Это декоративное равновесие торжественно-неподвижной церемонии и составляет главную основу стиля Орканьи, отразившуюся во всех больших коллективных работах его мастерской. Наиболее грандиозный из этих коллективных циклов украшает стены той же капеллы Строцци и изображает «Страшный суд», «Рай», «Ад». Как главная идея всех трех композиций, так и выполнение важнейших ответственных мест принадлежали брату Орканьи — Нардо ди Чионе. Всем трем фрескам свойствены совершенно плоскостной характер и отсутствие органического единства. Вся композиция разбита на ряд отдельных сцен и изолированных фигур, которые без руководящих акцентов соединены в декоративную мозаику. Этому отвлеченно-декоративному стилю Орканьи противопоставил свой повествовательнодекоративный стиль другой популярный мастер шестидесятых и семидесятых годов — Андреа Буонайути да Фиренце. Из биографии мастера нам известны только немногочисленные даты. В 1343 году он принят в цех врачей и аптекарей. В 1365 году он заключает контракт, по которому обязуется в течение двух лет закончить грандиозный цикл фресок в Испанской капелле церкви Санта Мария Новелла. В семидесятых годах он работает над росписями пизанского кампосанто. Самая капитальная работа Андреа да Фиренце — роспись Испанской капеллы (Capella degli Spagnuoli) — посвящена прославлению доминиканского ордена. Особенно интересны две гигантские фрески, покрывающие две боковые стены капеллы. На одной представлен «Апофеоз Фомы Аквинского», на другой — «Триумф покаяния». Андреа Буонайути отступает от джоттовской схемы повествования путем отдельных законченных эпизодов и соединяет в одной огромной фреске целый ряд сцен самого различного характера, объединенных только общей аллегорической идеей. Перед нами вообще, так сказать, литература в красках. Андреа да Фиренце строит свою композицию буквально по программе символической поэмы доминиканского монаха Якопо Пассаванти — «Зерцало покаяния». Вершину фрески «Триумф покаяния» занимает Христос во славе, восседающий на радуге среди сонма ангелов. Слева — верующие, которых у небесных врат встречает апостол Петр. Правая часть посвящена радостям жизни: в апельсиновой роще на длинной скамье сидят женщина, играющая на виоле, охотник с соколом, знатная дама с собачкой и размышляющий философ. Под ними дети играют, танцуют, водят хоровод. В нижней половине фрески изображена церковь, в виде точного портрета Флорентийского собора, и у его подножия — светская и церковная иерархия, с папой и императором во главе. Агнцы, олицетворяющие христианскую общину, охраняются собаками — белыми с черными пятнами, которые символизируют доминиканских монахов (domini canes). Подобно циклам мастерской Орканьи, фрески Андреа да Фиренце лишены органического единства, и оптически их объединяет только декоративное расчленение плоскости картины на ряд горизонтальных полос. Но у Андреа да Фиренце с общего декоративного ритма центр тяжести перенесен на мелкие детали рассказа. Только последовательно углубившись в рассмотрение каждой отдельной сцены, угадывая их аллегорическое значение, узнавая современников, изумляясь разнообразию костюмов, можно понять тот огромный успех, которым фрески Андреа да Фиренце пользовались в Италии. Вершины этого декоративно-дидактического стиля достигает неизвестный автор «Триумфа смерти», грандиозной фрески, служащей главным украшением пизанского кладбища. Опираясь на Вазари, ученые приписывают эту фреску то Орканье, то Пьетро Лоренцетти, то местному пизанскому живописцу Франческо Траини. Но ни одна из этих атрибуций не обладает достаточной убедительностью[22]. Правильней, по-видимому, признать, что мы еще не знаем имени этого крупного мастера, сумевшего из традиций флорентийской и сьенской школы создать такое потрясающее зрелище. Нет никакого сомнения, что идея фрески была навеяна страшной чумой, посетившей Италию в 1348 году. Свою непосредственную тему для воплощения аллегории на всемогущество смерти неизвестный автор заимствовал из популярной тогда новеллы о «Трех живых и трех мертвых». Подобно фрескам Андреа да Фиренце, и здесь одна на другую, в виде декоративной мозаики, нанизан ряд обособленных сцен. Слева группа знатных всадников наталкивается на три открытых гроба, позади которых отшельник Макарий указывает на предостерегающую от тщеславия и гордыни надпись. На правой стороне фрески общество дам и кавалеров, вроде того, которое описано во вступлении к «Декамерону» Боккаччо, собралось на лужайке для светских игр. К этой группе приближается смерть в виде страшной крылатой старухи, косящей представителей всех сословий, в то время как старики, нищие и калеки тщетно умоляют об избавлении от тягот жизни. Как ни ярко задуманы некоторые сцены, как ни богата изобразительная фантазия художника (обратите внимание хотя бы на жест придворного, затыкающего нос от трупного смрада), но и автор «Триумфа смерти», подобно Орканье и Андреа да Фиренце, не в состоянии добиться живописного единства композиции, находится целиком во власти словесных, литературных представлений. Мы видим, таким образом, что поколение художников, возглавляемое Орканьей и Андреа да Фиренце, привело живопись к дилемме. Ей угрожала опасность или раствориться во внешних декоративных эффектах, или сделаться жертвой литературной символики, обратиться в дидактическую иллюстрацию. В последней трети XIV века во флорентийской живописи можно наблюдать любопытное явление: происходит возвращение к более старой, до-джоттовской концепции, своего рода сознательная архаизация. Конечно, это не нужно понимать как огрубение искусства, как упадок. В целом ряде направлений флорентийские живописцы конца XIV века продолжают дополнять и развивать приемы своих предшественников. Но основная, общая концепция явно отличается большей примитивностью по сравнению с Джотто и Орканьей. В чем же сказывается эта архаизация? До-джоттовская концепция картины, как ее можно видеть еще у Дуччо, покоилась на сукцессивности представлений: художник в одной и той же картине изображал эпизоды, которые произошли в разное время и в различных пространствах. Джотто первый попытался вступить в борьбу с этой сукцессивностью повествования. Он сократил количество действующих лиц и ограничил повествование всякий раз только одним кульминационным элементом действия. Благодаря этому повествование стало, правда, значительно более сжатым, но зато насыщенным и концентрированным. Последователи Джотто стали наполнять этот повествовательный скелет, эту сжатую схему все более сложными эпическими реалистическими подробностями, пока, наконец, небольшие, замкнутые сцены Джотто не разрослись в грандиозные дидактические поэмы со множеством мелких эпизодов в творчестве Орканьи и Андреа да Фиренце. Но так как законченность джоттовских композиций была основана не на единстве оптических представлений, а на единстве эпического мотива — иначе говоря, на единстве словесных, литературных представлений, — то художники после Джотто, разрабатывая подробности этой литературной канвы, все заметнее стали терять единство зрительного представления натуры. В композиции «Триумфа смерти», например, нет уже никаких признаков раннесредневековой генетической перспективы, в которой главный герой повторяется несколько раз и в которой пространство раскрывается, так сказать, во временной последовательности. Те эпизоды, которые изображены в «Триумфе смерти», — как встреча с гробами, как вопли нищих, как игры светского общества, — все они могли происходить одновременно, они мыслимы одновременно, но их нельзя видеть одновременно, ибо их связывает не единство пространства, не единство зрительных представлений, а только единство картинной плоскости. На этом пути дальнейшее оптическое завоевание действительности было невозможно. Поэтому и наступила естественная реакция: живописцы конца XIV века вновь вернулись к готическому сукцессивному повествованию, но, как мы сейчас увидим, в новой, более прогрессивной форме. Второй существенный момент итальянской живописи конца треченто состоял в обмене художественными проблемами между Средней и Северной Италией. До этого времени Северная Италия в истории итальянской живописи играла второстепенную роль. Теперь, к концу треченто, в Северной Италии образовался ряд местных художественных школ, вступивших в соревнование с прежними центрами итальянской художественной жизни — со Сьеной и Флоренцией. В североитальянской живописи, находившейся в постоянном соприкосновении с искусством Франции, Нидерландов и Германии, дух северной готики проявился с гораздо большей силой и, смешавшись с принципами национального итальянского формопонимания, привел к созданию чрезвычайно своеобразного стиля. В шестидесятых и семидесятых годах в Тоскане впервые появляются кочующие североитальянские живописцы, приносящие с собой новые художественные веяния. Такими первыми провозвестниками североитальянских тенденций во флорентийской живописи были Джованни да Милано и Антонио Венециано. Ни тот, ни другой не обладал особенно крупным художественным талантом и потому не мог произвести полного перелома в судьбах флорентийской живописи. Тем не менее в их творчестве заметно проявляются специфические признаки североитальянского стиля, которые должны были оставить свой след в искусстве Тосканы. С именем Джованни да Милано мы впервые сталкиваемся в 1350 году. В 1365 году он начинает свой капитальный труд — фрески в капелле Ринуччини в церкви Санта Кроче. В 1369 году Джованни да Милано едет в Рим для украшения Ватикана, и с этого момента его след потерян. Напомним одну из фресок капеллы Ринуччини, посвященных жизни богоматери; она изображает «Рождество Марии». Рисунок у Джованни да Милано жесткий, формы и движения угловаты, пространственная схема суха и элементарна, — во всех этих направлениях он далеко уступает и сьенцам и флорентийским «джоттистам». Но у него есть прирожденное чутье реальности, позволяющее ему рассказывать о священных событиях в таких правдивых, интимных тонах, с такими тонкими жанровыми и натюрмортными подробностями, каких мы не найдем даже в сьенской школе. Помимо того, фрески Джованни да Милано гораздо свежее и богаче в колористическом отношении, чем живопись Средней Италии. Что касается Антонио Венециано, то, как показывает его имя, он, вероятно, явился во Флоренцию из Венеции, хотя его живопись не имеет ничего общего с венецианской. Документами установлено его пребывание в Тоскане от 1369 до 1388 года. Из его работ лучше всего сохранились три фрески в пизанском кампосанто, иллюстрирующие легенду святого Раньери. Одна из них соединяет три последовательных эпизода повествования. В левой, наполовину разрушенной части фрески рассказывается о том, как Христос явился святому Раньери и повелел ему отправиться в Мессину — мы видим корабль, на котором на полных парусах плывет святой. Далее, в Мессине святой Раньери совершает чудо отделения вина от воды, и, наконец, в правой части изображена трапеза, которую пизанские монахи дают в честь святого. Чрезвычайно подробны и реалистическая разработка архитектурных кулис и обилие жанровых фигур (Вазари, между прочим, рассказывает, что в разрушенной теперь части фресок были представлены портреты членов семьи Герардески, как бы провожающих святого). Еще важнее другой живописный момент фресок — активная роль света. Обратите, например, внимание на моделировку паруса светом и на фигуру святого, сидящего в тени паруса, или на размещение света и тени в группе, окружающей святого на набережной. Не трудно видеть, что в понимании световых контрастов Антонио Венециано далеко опередил своих сьенских и флорентийских современников. Для него свет уже начинает приобретать значение, как самостоятельное орудие композиции, начинает оказывать воздействие не только на отдельные фигуры, но и на общее пространственное впечатление. Наконец, следует отметить перемену в самом методе повествований. В известном смысле Антонио Венециано архаичнее, чем Орканья и Андреа да Фиренце в своих приемах рассказа. Он трижды повторяет в одной фреске фигуру святого Раньери, он нанизывает на одну нить повествования событий, случившихся в разное время и в разных городах. Но именно в той широкой пространственной арене, на которой Антонио Венециано разыгрывает свои сцены, и в той непрерывности, с какой одна сцена вытекает из другой и которая подчеркивает общую динамику композиции, сказывается несомненный шаг вперед в сторону мировоззрения Ренессанса. Если Антонио Венециано еще далек от оптического единства пространства, то он, во всяком случае, стремится достигнуть оптического единства движения. Насколько прочный след оставил Антонио Венециано в традициях итальянской живописи, видно из того, что Вазари делает его учителем Паоло Учелло, одного из самых смелых экспериментаторов в живописи раннего кватроченто. Все те новые элементы живописной концепции, которые мы отметили у Джованни да Милано и Антонио Венециано, оставили заметный след во флорентийской живописи конца треченто. Три мастера играют господствующую роль в этот переходный период — Аньоло Гадди, Спинелло Аретино и Герардо Старинна. Главной работой Аньоло Гадди, сына ученика Джотто Таддео Гадди, являются фрески в хоре церкви Санта Кроче, исполненные вероятно в восьмидесятых годах и изображающие легенду о святом кресте. В одной из фресок этого цикла река разделяет композицию на две группы. В левой части царица Савская во главе своей свиты преклоняется перед святым древом; по правую сторону реки зарывают древо в землю. По сравнению с живописью Орканьи и Андреа да Фиренце фрески Аньоло Гадди производят определенно архаическое впечатление. Но рядом с бесспорными пережитками стиля Джотто мы видим здесь целый ряд новых живописных приемов, подсказанных, несомненно, североитальянской живописью. Сюда относится прежде всего композиция. Аньоло Гадди не довольствуется одним событием, но разбивает тему каждой фрески на несколько эпизодов, например, на два самостоятельных эпизода. И в то же время Аньоло Гадди стремится перекинуть мост между этими двумя эпизодами — и в прямом и в переносном смысле, связать их в одно пространственное и духовное целое. Точно так же под северным влиянием усиливает он жанровую сторону своих композиций. Наряду с немногими действующими лицами Аньоло Гадди помещает большое количество статистов, наблюдающих, выражающих чувства, подающих советы. Не столько само действие интересует художника, сколько общее настроение, мрачно-сказочное, которое окружает действие. И эту сказочность настроения Аньоло Гадди умеет подчеркнуть опять-таки чисто северным приемом — эффектом загадочного света, мрачными бликами падающего на вершины скал. Те же самые приемы можно наблюдать и в другой фреске цикла, изображающей «Нахождение святого креста». Опять тема разбита на два эпизода, в которых доминируют ракурсы двух крестов и в каждой из которых повторяется фигура царицы Елены. В правой части фрески поднимают из земли крест одного из разбойников, тогда как в левой части крест спасителя совершает чудо, — прикосновением воскрешая мертвого. Но эти два эпизода распределены по двум группам таким образом, что они соединяются в одно непрерывное текучее движение. И опять такое же большое количество сочувствующих и переживающих статистов и такой же сказочный, трагический пейзаж, освещенный загадочным светом. В отличие от искусства Джотто и его последователей, которое было основано на логике действия, на драматическом заострении рассказа, живопись Аньоло Гадди стремится к настроениям и переживаниям, заложенным в самих изобразительных средствах — в ритме композиции, в освещении, в подборе красок. В этом смысле живопись конца треченто гораздо дальше от идеалов Ренессанса, чем Джотто и Орканья, и если где можно искать живописную концепцию, действительно близкую по духу Аньоло Гадди и его современникам, то у позднего Боттичелли и у маньеристов XVI века. Имя Аньоло Гадци запоминается еще и потому, что из его мастерской вышел последний и самый крупный теоретик искусства треченто — Ченнино Ченнини. Из живописных произведений Ченнини, долгие годы проработавшего в мастерской Аньоло Гадди, почти ничего не сохранилось. Тем большую славу приобрел он своей «Книгой об искусстве». (Libro dell’Arte), написанной около 1390 года[23]. Трактат Ченнини имеет характер по преимуществу сборника технических рецептов, но он дает нам возможность познакомиться и с общими эстетическими воззрениями эпохи. По своим воззрениям Ченнини находится как бы на границе между средними веками и Ренессансом. Живопись для него, в духе средневековья, представляет собой, ars mechanica, выросшую из практических потребностей человека. Но вместе с тем Ченнини стремится внести в свою концепцию искусства такие факторы, которые приближают его к теоретикам Ренессанса, — например, фактор фантазии, который превращает живопись из простого ремесла в искусство, давая художнику возможность изображать реально то, что в действительности не существует. В этой тенденции освободить искусство от рамок ремесла и приблизить его к области науки, тенденции, которая красной нитью проходит через всю эстетику Ренессанса, можно видеть главную историческую заслугу Ченнини. Вместе с тем Ченнини обнаруживает ясное сознание необходимости итальянского национального стиля и той огромной роли, которую в его создании сыграл Джотто. Недаром Ченнини пишет, что Джотто первый научил живописцев говорить не греческим (то есть византийским), а латинским языком. С другой стороны, трактат Ченнини по существу своих воззрений на художественную форму построен еще целиком на средневековых традициях, так как целью его является не установление принципов и законов художественного образа как в теории Ренессанса, а сообщение правил, рецептов и прописей по образцу средневековых мастерских. Так, например, он требует, чтобы свет в картине всегда падал с левой стороны; он подробно называет те части лица, на которые должна падать тень, и где нужно класть румяна, чтобы придать выпуклость голове. Его перспективные советы ограничиваются указанием, что верхние карнизы дома нужно изображать опускающимися, а нижние — поднимающимися. Так же нормативны предписания Ченнини и в области пейзажа, — например, его совет держать в мастерской большие камни, копируя которые легче дать правильное изображение скал. Тем же средневековым человеком Ченнини обнаруживает себя и в полном незнании анатомии, в библейском убеждении, что мужчина имеет одним ребром меньше, чем женщина, и в своем требовании раскрашивать мужское тело бурой, а женское — белой краской. Но всего нагляднее средневековые основы мировоззрения Ченнини можно видеть в том, что из своего учения о пропорциях он совершенно изгоняет женщину как существо грешное и недостойное и потому не обладающее телесной гармонией. Наряду с Аньоло Гадди важную роль в переломе итальянской живописи к Ренессансу сыграли Спинелло Аретино и Герардо Старинна. Оба они, как и Аньоло Гадди, принадлежат к направлению архаизаторов,оба в высокой мере готичны, но вместе с тем в их творчестве гораздо более заметны симптомы приближения Ренессанса: в перенесении центра тяжести на отдельную фигуру, в увеличении фигурного масштаба, в упрощении композиции. Свой капитальный труд — фрески в сакристии церкви Сан Миньято аль Монте — Спинелло Аретино выполнил в конце восьмидесятых годов. В шестнадцати сценах фрески изображают легенду святого Бенедикта. Например, фреска, изображающая, как святой Бенедикт разгадал хитрость готского короля Тотилы, который нарядил в корону и королевскую мантию своего конюха, а сам спрятался среди свиты. Архаизация сказывается в подчеркнутых контурах, в остроугольном линейном ритме, в схематизме фигурных групп. Но вместе с тем Спинелло Аретино, подобно Аньоло Гадди, большое внимание уделяет световым эффектам, создавая впечатление какого-то сумеречного, словно призрачного освещения. Особенно же важен новый подбор тем. Интерес Спинелло Аретино привлекают в первую очередь темы психологического склада, причем душевным движениям он стремится придать максимум динамики. Лишенные всякого внешнего действия, композиции Спинелло Аретино отличаются преувеличенной насыщенностью жеста и мимики. В этой повышенной психической динамике Спинелло Аретино заходит дальше, чем кто-либо из его современников. Даже такую идиллическую тему, как, например, во фреске, где святой Бенедикт вызывает из земли источник, Спинелло Аретино наполняет беспокойством напряженных переживаний. Главную причину этого беспокойного впечатления надо искать в противоречии между абстрактным схематизмом общей концепции и обилием мелких реалистических наблюдений — в освещении церкви, в разнообразии растительных пород, в неожиданности жанровых подробностей. Упрощение и идеализация общей композиции заметно вступают здесь в конфликт с жаждой реалистических деталей. Этот конфликт пытается разрешить младший из представителей этой переходной группы тречентистов — Герардо Старинна. Согласно Вазари, Старинна родился в 1354 и умер в 1408 году[24], будучи учеником Антонио Венециано и учителем Мазолино; таким образом, его творчество служит важным связующим звеном между живописной программой итальянской готики и идеями раннего Ренессанса. Главной работой Герардо Старинна являются фрески капеллы Кастеллани в церкви Санта Кроче, посвященные легенде о святом Антонии и святом Николае и написанные в восьмидесятых годах XIV века. В стиле Старинны явно чувствуется стремление избавиться от многоречивости и чрезмерной экспрессивности позднего треченто. Так, в более раннем цикле святого Антония Старинна удерживает еще мелкий масштаб для фигур и уснащает повествование второстепенными жанровыми подробностями. Но уже и здесь, по сравнению с Аньоло Гадди и даже со Спинелло Аретино, заметно бросается в глаза уменьшение количества действующих лиц и упрощение архитектурных кулис. В более позднем цикле святого Николая Герардо Старинна идет значительно дальше по пути упрощения. Фигуры постепенно вырастают в масштабе, становятся все выпуклее в моделировке, все массивнее в своих формах. В эпизоде с тремя дочерьми бедного рыцаря повествование сведено только к основному мотиву и к главным действующим лицам. В сцене «Воскрешения святым Николаем убитых школяров» Старинна, можно сказать, достигает стилистической ступени раннего кватроченто. Фигуры занимают почти всю плоскость картины. Среди действующих лиц замечаем три обнаженных фигуры, моделированные хотя и очень суммарно, но с подчеркиванием главных сочленений тела крепкой светотенью. Перед нами, таким образом, первая попытка изобразить обнаженного человека с натуры, правда еще очень робкая, но по историческому значению исключительно важная: ведь живопись треченто допускала обнажение только для тела Христова. Наконец, следует отметить смелое нововведение и в трактовке архитектуры. Живописцы треченто считали непреложным правилом изображать здание, в котором происходит действие, полностью, с полом и потолком, по возможности изнутри и снаружи. Старинна вводит зрителя определенно во внутреннее помещение и притом показывает только фрагмент архитектуры, только ее нижнюю часть. И все же Старнине не хватает очень важной предпосылки Ренессанса — ему не хватает чувства глубины, емкости, оптической цельности пространства. Старинна все еще остается тречентистом, готиком по существу своего художественного мировоззрения. Если в творчестве Аньоло Гадди, Спинелло Аретино и Герардо Старинны мы могли наблюдать заметные следы североитальянских влияний, то все же преобладающий тон их живописи придают чисто тосканские свойства: логика драматического повествования, абстрактность композиционной схемы, пластическая ясность формы. В самой Северной Италии на первый план выступают другие живописные проблемы. Падуя, как город высокой университетской культуры, и Верона, как важный узел на торговом пути между Италией и Северной Европой, сделались главными центрами в художественной жизни Северной Италии. Двор веронских герцогов Скала был издавна очагом феодально-рыцарской культуры. В этих двух городах и протекала деятельность двух крупнейших живописцев Северной Италии — Альтикьеро да Дзевио и Якопо д’Аванцо. Оба эти мастера выступали почти исключительно в совместной работе, так что до сих пор не удалось провести точного разграничения их индивидуальных манер. Старший из них, Альтикьеро, был, несомненно, главой мастерской, тогда как Аванцо — его наиболее одаренным, верным учеником и помощником. Первая документально удостоверенная их совместная работа — роспись дворца Скалиджери в Вероне — к сожалению, погибла. Зато в достаточно сохранном виде дошли до нас два религиозных цикла мастерской Альтикьеро в Падуе — фрески в капелле Сан Феличе, законченные в 1379 году, и фрески в капелле Сан Джорджо, законченные в 1384 году. Напомню, например, «Поклонение пастухов» из второй капеллы, фреску, в которой главную долю авторства есть основание приписывать Альтикьеро. Альтикьеро не обладал ни даром драматической концентрации, присущей Джотто, ни утонченной экспрессивностью сьенской школы. Его специфический талант лежал в другой сфере: в медленном, пространственном темпе рассказа, в остроте индивидуального наблюдения. Если сьенские мастера обнаружили тонкое пейзажное чутье натуры, то Альтикьеро можно лучше всего назвать портретистом натуры. Каждая его голова портретна; в каждом жесте, в каждом костюме или головном уборе подмечены индивидуальные черты. И с такой же портретной точностью Альтикьеро зарисовывает архитектуру и предметы на своих картинах. Взгляните, например, на хижину святого семейства, с соломенной крышей, с неровной поверхностью дощатых стен, — это не хижина вообще, не идея хижины, как на фресках джоттистов, а какая-то определенная индивидуальная хижина, конструкцию и формы которой глаз художника воспринимал с непогрешимой точностью. Возьмем следующую фреску цикла — «Поклонение волхвов». И здесь опять типы монголов, верблюды в свите волхвов, написаны с поразительным знанием натуры. В творчестве Альтикьеро мы имеем дело уже не с реконструкцией виденного по памяти, но с непосредственным и тщательным его изображением. И что особенно важно — эта непосредственность зрительных впечатлений относится не только к рисунку, но и к краскам. Альтикьеро и Аванцо — это первые итальянские живописцы, которые ставят себе задачу живописного колорита. Краска в их живописи имеет не символическое, а изобразительное значение. Она не просто обозначает предметы, как у Джотто и его последователей, но стремится передать видимость предметов. Мы узнаем на картинах Альтикьеро мех, кожу или шелк, ткани полосатые, глянцевитые или матовые. Краска в живописи Альтикьеро и Аванцо принадлежит не поверхности картины, а поверхности изображенных предметов. Главные стимулы к непосредственному изучению натуры Альтикьеро и Аванцо, несомненно, получили с севера, в особенности из французской миниатюры. На это указывают, например, те изображения северных замков, которыми веронские мастера охотно украшают пейзажи своих фресок. В области перспективы Альтикьеро и Аванцо точно так же превосходят своих флорентийских и сьенских современников. Для примера сошлюсь на сцену «Мучения святого Георгия», автором которой исследователи склонны считать Аванцо. Правда, архитектурные кулисы Аванцо еще очень далеки от оптического единства центральной перспективы, но в одном отношении они указывают на безусловно более развитую ступень пространственных представлений: в отношении пропорций. И взаимная согласованность архитектурных элементов и пропорциональные отношения между архитектурой и фигурами основаны у веронского мастера на более реальных предпосылках, чем во флорентийской и сьенской живописи. Следует отметить также, что, пользуясь излюбленным сьенским мотивом двухэтажной архитектуры, Аванцо извлекает из этого мотива более точные оптические последствия и уменьшает масштаб фигур, находящихся во втором этаже. Чувство глубины пространства подчеркнуто у Аванцо еще и тем, что главное действие происходит не у самой передней плоскости картины, а на некотором от нее отдалении. Помимо всех этих элементов северного реализма, веронским живописцам свойственна еще одна черта, тоже тесно сближающая их с французским искусством, это — аристократический, придворный дух, составляющий очень заметный контраст с буржуазной атмосферой, отраженной во флорентийских фресковых циклах. Особенно ясное ощущение этого придворного тона дает фреска Альтикьеро, украшающая гробницу Кавалли в церкви святой Анастасии в Вероне. Она изображает мадонну на троне, окруженном ангелами; младенец, сидящий на коленях матери, протягивает свои ручонки к трем представителям семьи Кавалли, преклонившим колена перед ним в сопровождении своих святых покровителей. Альтикьеро воспроизводит здесь священную сцену совершенно в духе современной ему светской аудиенции. Годический зал с гербами Кавалли, сами Кавалли в полном рыцарском облачении и их святые покровители, изображенные в виде оруженосцев, наконец, ангелы, с любопытством выглядывающие из-за колонн и из-за занавеса, — все это проникнуто настроением «великосветского жанра». Если мы вспомним теперь в основных линиях развитие итальянской живописи треченто, то оно представится нам в виде все более усиливающегося готизирования, причем Флоренция играла роль постоянной оппозиции этому готическому течению. Сначала североготическая концепция проникла в Сьену, в творчество Дуччо, Симоне Мартини и братьев Лоренцетти, и оттуда влияла на Флоренцию, несмотря на противодействие джоттистов. Позднее готические вкусы привились в Северной Италии, и оттуда новая их волна стала оказывать давление на традиции флорентийской школы. Творчество Антонио Венециано, Аньоло Гадди и Спинелло Аретино может иллюстрировать эту вторую волну готических влияний во Флоренции. И всякий раз за этим наплывом готических вкусов следовала реакция национального художественного сознания. Как Джотто в начале треченто, как Орканья в середине XIV века, так на рубеже XIV и XV веков группа молодых флорентийских художников объявила крестовый поход против готики, против северного варварства. С первыми проблесками этой тенденции мы столкнулись уже в творчестве Герардо Старинны. Но Старинна не обладал размахом и темпераментом настоящего реформатора, у него не было никакой идейной программы. Эту программу национального художественного движения выдвинуло следующее поколение художников, родившихся в семидесятых и восьмидесятых годах XIV века. Из их деятельности и возникли основы стиля раннего Ренессанса.VIII
ЭПОХА КВАТРОЧЕНТО не завершила процесса разложения феодализма. Марксистская наука характеризует кватроченто как борьбу нового со старым, как эпоху, когда феодальная культура теряет силу, а новое мировосприятие окончательно не сложилось. В такие переломные эпохи человеческая личность приобретает особенно крупное значение. Вспомним, что эпоха кватроченто отмечена возникновением и быстрым ростом портретного искусства и культом всесторонней личности, одинаково совершенной в своих физических и духовных качествах. Вместе с тем эпохе кватроченто еще чужда идеализация человека, свойственная Высокому Возрождению: кватроченто расценивает достоинства человека с точки зрения конкретных, практически-жизненных задач. Мировоззрение кватроченто хотелось бы характеризовать как интеллектуализм на эмпирической основе. Но философская мысль кватроченто еще не создала законченной рационалистической системы, она только неудержимо тяготеет к анализу, к логике, к математической точности, находящим себе самую благоприятную почву в рассветных балансах флорентийских банкиров, в теориях архитектурных пропорций, в страстном увлечении художников проблемами анатомии и перспективы. Наконец, сквозь все эти тенденции проходит основной лейтмотив эпохи кватроченто — восхищение перед античным миром, античной моралью, античным общественным устройством, античными памятниками литературы и искусства, в которых человек кватроченто видел опору в борьбе со средневековой схоластикой и аскетизмом и главное орудие для создания своей светской, окрашенной язычеством культуры. Во Флоренции возникает Платоновская академия, идет собирание античных рукописей (библиотека Лауренциана, основанная Медичи), растет большой интерес к реставрации памятников античности. Но вместе с тем в художественной практике существует еще много пережитков средневековья. Симптомы идейно-стилистического перелома, наметившиеся во флорентийской художественной жизни к самому началу XV века, сказались не сразу и не одновременно во всех искусствах, а стали проявляться толчками, отдельными, все более длительными вспышками. При этом было бы ошибочно думать, что с появлением новой художественной программы готическая концепция потерпела окончательное крушение и стиль Ренессанса восторжествовал по всей линии. Напротив, готические традиции продолжали активное существование и во взаимной борьбе с классическими традициями, с новым реализмом часто одерживали победы на протяжении всего XV века. Раньше всего признаки нового стиля проявились в скульптуре. Решающей датой в этом смысле нужно считать 1401 год, год знаменитого конкурса, организованного цехом суконщиков на изготовление вторых бронзовых дверей флорентийского баптистерия (первые двери, как уже говорилось, еще в XIV веке были исполнены скульптором Андреа Пизано). Конечно, не могло быть случайностью, что именно в скульптурной задаче прежде всего смогли воплотиться новые стилистические идеи; это показывает, что именно чувство пластической формы было главной основой нового образа, что стиль Ренессанса был по преимуществу пластическим стилем. Второй важной датой в возникновении нового стиля является 1419 год, когда Филиппо Брунеллески получил заказ на портик Воспитательного дома — первое здание, в котором были воплощены архитектурные принципы стиля Ренессанса. Позднее всего идеи чистого Ренессанса проникли в живопись. Таким моментом можно считать 1427 год, когда Мазаччо принял участие в росписи капеллы Бранкаччи — колыбели живописи Ренессанса. Если же мы спросим себя, кто был тем художником, который первым осознал необходимость реформы и первым ясно сформулировал идеи нового художественного мировоззрения, то двух мнений быть не может — таким художником явился Филиппо Брунеллески. С анализа его творчества мы и начнем поэтому обзор искусства кватроченто. Филиппо Брунеллески родился во Флоренции, в 1377 году. Он сын нотариуса, видного политического деятеля, которому республика не раз давала важные дипломатические поручения. Молодой Филиппо, которому отец предназначил впоследствии свою нотариальную практику, получил высшее по тому времени гуманистическое образование и вырос в духе культа своих «предков» — древних римлян, с ненавистью ко всему чужому, к варварам, разрушившим величие римской империи. Для него, свободно владевшего латинским языком, почитателя Данте и Петрарки, уход от готики казался патриотическим делом. Когда Филиппо Брунеллески почувствовал в себе художественное призвание и оборвал свою юридическую карьеру, мы точно не знаем. Во всяком случае, уже в конце XIV века Филиппо вступил в мастерскую ювелира и одновременно стал изучать математику, соединяя в одном лице ученого, инженера и художника. Первое выступление Брунеллески на художественном поприще связано с упомянутым уже мною конкурсом 1401 года. В этом конкурсе приняли участие семь наиболее выдающихся скульпторов Тосканы, в том числе три впоследствии знаменитых представителя молодого поколения, родоначальники нового реализма — Якопо делла Кверча, Лоренцо Гиберти и Филиппо Брунеллески. Темой конкурса было «Жертвоприношение Авраама», в качестве обрамления — готический «Vierpass»[25], примененный уже в бронзовых дверях Андреа Пизано. К сожалению, из семи конкурсных работ сохранились только две, но зато как раз победителей: рельеф Лоренцо Гиберти и рельеф Филиппо Брунеллески. Оба молодых художника проявили восторженное увлечение классическими образцами, широко используя для своих композиций мотивы античных статуй. Так, Гиберти в фигуре Исаака вдохновлен мотивом бронзовой статуи так называемого «ниобида», тогда как Брунеллески в фигуре Исаака копирует статую так называемого «Юноши из Субиако», а в фигуре пастуха перефразирует знаменитого мальчика, вынимающего занозу. Но по своему темпераменту и по существу своей стилистической концепции они решительно отличаются друг от друга, уже при самом зарождении нового реализма воплощая две противоположные тенденции флорентийского кватроченто. В чисто техническом смысле более опытный в ювелирном деле Гиберти безусловно превосходит своего соперника. Гиберти отливает свой рельеф из одной формы, тогда как Брунеллески отдельно прикрепляет каждую фигуру к фону. Если же мы подойдем к рельефам с точки зрения воплощенных в них художественных проблем, то стиль Гиберти должны будем признать значительно более готическим, более консервативным, чем стиль Брунеллески. Композиция Гиберти построена на чисто готических вертикальных линиях, у Брунеллески в композиции преобладают горизонтальные направления классического искусства. У Гиберти главное воздействие основано на декоративном заполнении рамы, на грациозности движений, на гармоническом течении линий (обратите, например, внимание на мягкий изгиб тела Авраама или на орнаментальный завиток его плаща). У Брунеллески центр тяжести — на драматическом истолковании события: Авраам держит сопротивляющегося Исаака за горло, внезапно вылетающий ангел хватает его за руку. Не красота движений, а их натуральность занимает Брунеллески. Баран, почесывающий ухо задней ногой, осел, утоляющий жажду, — их движения Брунеллески несомненно также подсмотрел в натуре, как и складки плаща, прибитого ветром к стволу дерева. Все эти мотивы полны в рельефе Брунеллески удивительной свежести наблюдения, захватывающей выразительности реалистического мироощущения. Жюри конкурса в своем решении проявило мудрую осторожность. Гиберти, как более верный традициям, как более подготовленный и опытный мастер, был признан победителем, но так как неукротимый темперамент Брунеллески обещал такие перспективы, которых нельзя было ждать от Гиберти, то и Брунеллески было предложено принять участие в работе над дверями баптистерия. Однако Брунеллески не пожелал быть помощником своего соперника и, оскорбленный решением жюри, отныне решил вообще бросить скульптуру и посвятить свои силы исключительно архитектуре. Благодаря этому решению Брунеллески перелом к Ренессансу, готовый уже совершиться во флорентийской скульптуре, временно приостановился. Мы увидим в дальнейшем, что северные двери баптистерия, которые возникли в результате конкурса и над которыми Лоренцо Гиберти с ювелирной точностью проработал в течение двадцати лет, представляют собою шаг назад по сравнению с конкурсными рельефами. Восторженный почитатель и биограф Брунеллески — Манетти — рассказывает, что под тяжелым впечатлением неудачи на конкурсе Брунеллески решил покинуть Флоренцию и вместе со своим другом, скульптором Донателло, отправился в Рим для изучения памятников античного искусства. Новейшие исследования показали, что в отношении Донателло Манетти, безусловно, ошибался, так как римское путешествие Донателло не могло произойти раньше тридцатых годов. Следует ли из этого сделать вывод, что и Брунеллески побывал в Риме только к концу своей жизни, или можно предполагать два путешествия Брунеллески в Рим — одно в начале века, другое совместно с Донателло в тридцатых годах, — этот вопрос остается пока открытым. Как бы то ни было Брунеллески сосредоточил теперь все свое внимание на теоретических и практических проблемах архитектуры. Первое практическое выступление Брунеллески в области архитектуры проходит еще всецело в границах готического стиля. С 1404 года Брунеллески участвует в проектах перекрытия Флорентийского собора куполом и в конце концов добивается единоличного руководства постройкой. Знакомясь с историей возникновения Флорентийского собора, мы видим, что Брунеллески был связан в своем проекте условиями уже готовой конструкции (восьмиугольный тамбур). Поэтому не удивительно, что и в формах купола Брунеллески не в состоянии был отступить от готических традиций (скорее восьмигранный свод, чем купол). Но все же технические достижения Брунеллески были и здесь огромны. Купол сложен из концентрически уменьшающихся вверх горизонтальных рядов кирпича, образующих две самостоятельных оболочки купола — внутреннюю и наружную. При яйцевидном силуэте купола (готическая стрельчатая арка) серые каменные ребра (в контраст красным черепичным лопастям) подобны нервюрам. Но простота и ясность форм, мощная масса, огромный пролет (сорок три метра — превосходит все предшествующие купола) — все это ведет уже к Ренессансу. Гораздо более существенную роль в переломе стиля сыграли теоретические изыскания Брунеллески за эти годы. Нужно сказать, что предшествие теории практике вообще очень характерно для искусства Ренессанса. Только в эпоху Ренессанса мог возникнуть тип художника, подобный, например, Леоне Баттиста Альберти, который любил подчеркивать отвлеченно-интеллектуальную сторону своего творчества в отличие от средневекового понимания искусства как ремесла; художественная деятельность Альберти вообще протекала в кабинете и он предоставлял другим воплощать в жизнь его архитектурные идеи. Художник Ренессанса понимал теорию искусства не в виде рецептов и практических советов, подобно, например, трактату Ченнини. Он хотел прежде всего отдать себе ясный отчет в задачах и законах художественного творчества вообще. И опять-таки его интересовала не психологическая сторона творческого вдохновения, как во времена барокко, а объективное отношение художника к натуре, установление законов «правильного» воспроизведения натуры. И одной из первых проблем этого объективно-правильного воспроизведения натуры была проблема пространства. Для того чтобы уяснить себе сущность художественного мировоззрения Ренессанса, нужно вспомнить, что для античного человека пространство существовало лишь постольку, поскольку оно включало в себя некоторые тела, предметы. В представлении античного человека первичным элементом было тело, материя, пространство же представлялось как нечто, не имеющее самостоятельного бытия. Средневековое мировоззрение сделало важный шаг к признанию пространства, но мыслило пространство как движение, неотделимым от времени, как нечто, находящееся в непрерывном становлении. Для человека эпохи готики представления пространства и материи были тождественны, сливались воедино: пространство представляется как движение материи. Отсюда — бестелесность, нереальность готического искусства. Мировоззрение Ренессанса впервые пришло к полному отделению пространства и материи и к установлению первичного значения пространства. Один из теоретиков Ренессанса, Помпоний Гаурик, пишет, между прочим, в своем трактате «О скульптуре»[26]: «Всякое тело, каково бы оно ни было, должно находиться на каком-нибудь месте, занимать некое пространство. А раз это так, то и мы должны обращать наше внимание прежде всего на то, что раньше существует. Пространство же необходимым образом должно существовать раньше, чем помещенное в нем тело»[27]. В этих словах и нужно видеть главный формообразующий принцип Ренессанса. Сначала должна быть найдена арена действия, зафиксирован точный геометрический скелет пространства, и в него уже вставлены изображаемые предметы. Другими словами, перспектива есть необходимая основа всех художественных представлений как зрительных, так и осязательных. Естественно, что изучению перспективы, то есть оптически-геометрическому способу фиксирования пространства, и посвятил свои силы молодой Брунеллески. Отец Рафаэля, живописец Джованни Санти, прямо-таки говорит о перспективе, как об «inventione del nostro secolo nuovo» (то есть изобретение нашего нового века). Это, разумеется, не совсем так. Уже у большинства тречентистов, в особенности у Амброджо Лоренцетти и Альтикьеро, мы видели некоторые рудименты перспективного построения пространства. Уже древним, в частности Евклиду, были знакомы геометрические основы линейной перспективы. Евклидова оптика покоилась на предпосылке, что от глаза к наблюдаемому предмету исходят прямые зрительные лучи и что соответствующие границам точки зрительных лучей определяют поле зрения. Но ни античные, ни средневековые геометры не сделали из этой предпосылки решающего для изобразительных искусств вывода, а именно — что путем пересечения зрительной пирамиды плоскостью можно получить на этой плоскости «правильную» проекцию предмета. Этот вывод впервые и сделал Брунеллески. Каковы были перспективные эксперименты Брунеллески, каким образом пришел он к своему методу фиксирования перспективных линий на плоскости, мы не знаем. Вероятнее всего, что к изучению оптических законов Брунеллески побудили обмеры памятников античной архитектуры, желание видеть результаты своих реконструкций в наглядном, образном виде. Увлеченный своим открытием, полный жажды показать всем натуру, «какова она есть», вернулся Брунеллески во Флоренцию. Чтобы убедить сограждан в значительности своего открытия, Брунеллески устроил оригинальную демонстрацию своих перспективных достижений. Пользуясь дверями собора как прочной рамой, Брунеллески поставил в них перспективную проекцию расположенного напротив баптистерия, которая с определенной точки зрения совпадала с силуэтом здания. Для флорентийцев этот опыт Брунеллески оказался настоящим откровением, перспектива отныне сделалась паролем молодого поколения флорентийских художников с Донателло и Мазаччо во главе. Только в 1419 году Брунеллески получил наконец заказ, в котором мог развернуть свои новые архитектурные идеи. Ospedale degli Innocenti (Воспитательный дом) на площади святой Аннунциаты справедливо в этом смысле назвать первым зданием стиля Ренессанс. Уже само то обстоятельство, что Брунеллески пришлось начать свою реформаторскую деятельность со светского здания, характерно для нового стиля. Но к нему присоединилась еще чисто гуманистическая, антицерковная идея заботы о внебрачных детях и непривычная для готики мысль соединения здания утилитарного назначения с декоративным фасадом. В этот фасад Брунеллески и вложил свои новые архитектурные принципы. Нижний этаж открывается портиком из девяти осей, к нему ведет лестница в девять ступеней, верхний этаж представляет собой гладкую стену.
29. ПЬЕТРО КАВАЛЛИНИ. МОЗАИКА ЦЕРКВИ САНТА МАРИЯ ИН ТРАСТЕВЕРЕ В РИМЕ. 1291.

30. ПЬЕТРО КАВАЛЛИНИ. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САНТА ЧЕЧИЛИЯ ИН ТРАСТЕВЕРЕ В РИМЕ. ОК. 1293 Г.

31. ЧИМАБУЭ. МАДОННА. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ. ОК. 1285 Г.

32. ДУЧЧО. МАДОННА. ФЛОРЕНЦИЯ. УФФИЦИ. 1285.

33. ДУЧЧО. МАЭСТА. СЬЕНА. ОПЕРА ДЕЛЬ ДУОМО. 1308–1311.

34. ДУЧЧО. ИСЦЕЛЕНИЕ СЛЕПОГО. ДЕТАЛЬ АЛТАРНОГО ОБРАЗА «МАЭСТА».

35. ДУЧЧО. ОМОВЕНИЕ НОГ. ДЕТАЛЬ АЛТАРНОГО ОБРАЗА «МАЭСТА».

36. ДУЧЧО. БИЧЕВАНИЕ ХРИСТА. ДЕТАЛЬ АЛТАРНОГО ОБРАЗА «МАЭСТА».

37. ДЖОТТО. МАДОННА СО СВЯТЫМИ И АНГЕЛАМИ. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ. ОК. 1310 Г.

38. ДЖОТТО. БЛАГОВЕЩАНИЕ СВ. АННЕ. ФРЕСКА КАПЕЛЛЫ ДЕЛЬ АРЕНА В ПАДУЕ. ОК. 1305 Г.

39. ДЖОТТО. ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САНТА КРОЧЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. ПОСЛЕ 1317 Г.

40. КАПЕЛЛА ДЕЛЬ АРЕНА В ПАДУЕ. ВНУТРЕННИЙ ВИД.

41. ДЖОТТО. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИОАКИМА К ПАСТУХАМ. ФРЕСКА КАПЕЛЛЫ ДЕЛЬ АРЕНА В ПАДУЕ. ОК. 1305 Г.

42. ДЖОТТО. ВСТРЕЧА ИОАКИМА И АННЫ. ФРЕСКА КАПЕЛЛЫ ДЕЛЬ АРЕНА В ПАДУЕ. ОК. 1305 Г.

43. ДЖОТТО. СМЕРТЬ СВ. ФРАНЦИСКА. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САНТА КРОЧЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. ПОСЛЕ 1317 Г.

44. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. СВ. ФРАНЦИСК И ЮРОДИВЫЙ. ФРЕСКА ВЕРХНЕЙ ЦЕРКВИ САН ФРАНЧЕСКО В АССИЗИ. ОК. 1300–1304 ГГ.

45. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. СВ. ФРАНЦИСК ДАРИТ СВОЙ ПЛАЩ. ФРЕСКА ВЕРХНЕЙ ЦЕРКВИ САН ФРАНЧЕСКО В АССИЗИ. ОК. 1300–1304 ГГ.

46. МАСТЕР ПАРУСОВ. АЛЛЕГОРИЯ БЕДНОСТИ. ФРЕСКА НИЖНЕЙ ЦЕРКВИ САН ФРАНЧЕСКО В АССИЗИ. I-Я ЧЕТВЕРТЬ XIV В.

47. МАСТЕР МАГДАЛИНЫ. МАРСЕЛЬСКОЕ ЧУДО. ФРЕСКА НИЖНЕЙ ЦЕРКВИ САН ФРАНЧЕСКО В АССИЗИ. МЕЖДУ 1314–1329 ГГ.

48. СИМОНЕ МАРТИНИ. СВ. ЛЮДОВИК КОРОНУЕТ РОБЕРТА АНЖУЙСКОГО. НЕАПОЛЬ, ЦЕРКОВЬ САН ЛОРЕНЦО. 1317.

49. СИМОНЕ МАРТИНИ. ГВИДОРИЧЧО ДА ФОЛЬЯНО. ФРЕСКА В ПАЛАЦЦО ПУББЛИКО В СЬЕНЕ. 1328.

50. СИМОНЕ МАРТИНИ. ПОЛОЖЕНИЕ ВО ГРОБ. БЕРЛИН-ДАЛЕМ, МУЗЕЙ.

51. СИМОНЕ МАРТИНИ. ПОСВЯЩЕНИЕ СВ. МАРТИНА В РЫЦАРИ. ФРЕСКА НИЖНЕЙ ЦЕРКВИ САН ФРАНЧЕСКО В АССИЗИ. РУБЕЖ 20-Х-30-Х ГГ. XIV В.

52. СИМОНЕ МАРТИНИ. ПОСВЯЩЕНИЕ СВ. МАРТИНА В РЫЦАРИ. ДЕТАЛЬ.

53. СИМОНЕ МАРТИНИ. БЛАГОВЕЩЕНИЕ. 1333. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.

54. ПЬЕТРО ЛОРЕНЦЕТТИ. ПАПА ГОНОРИЙ УТВЕРЖДАЕТ УСТАВ КАРМЕЛИТОВ. 1329. СЬЕНА, АКАДЕМИЯ.

55. ПЬЕТРО ЛОРЕНЦЕТТИ. РОЖДЕСТВО МАРИИ. СЬЕНА, ОПЕРА ДЕЛЬ ДУОМО. 1342.

56. ПЬЕТРО ЛОРЕНЦЕТТИ. МАДОННА СО СВЯТЫМИ. ФРЕСКА НИЖНЕЙ ЦЕРКВИ САН ФРАНЧЕСКО В АССИЗИ

57. ПЬЕТРО ЛОРЕНЦЕТТИ. СНЯТИЕ С КРЕСТА. ФРЕСКА НИЖНЕЙ ЦЕРКВИ САН ФРАНЧЕСКО В АССИЗИ. 30-Е ГОДЫ XIV В.

58. АМБРОДЖО ЛОРЕНЦЕТТИ. АЛЛЕГОРИЯ ДОБРОГО ПРАВЛЕНИЯ. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ. ПАЛАЦЦО ПУББЛИКО В СЬЕНЕ. 1337–1339.

59. АМБРОДЖО ЛОРЕНЦЕТТИ. АЛЛЕГОРИЯ ДОБРОГО ПРАВЛЕНИЯ. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ.

60. АМБРОДЖО ЛОРЕНЦЕТТИ. АЛЛЕГОРИЯ ДОБРОГО ПРАВЛЕНИЯ. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ.

61. АМБРОДЖО ЛОРЕНЦЕТТИ. ПРИНЕСЕНИЕ В ХРАМ. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ. 1342.

62. АМБРОДЖО ЛОРЕНЦЕТТИ. МАДОННА. СЬЕНА, СЕМИНАРИЯ ЦЕРКВИ САН ФРАНЧЕСКО.

63. АМБРОДЖО ЛОРЕНЦЕТТИ. ЖИЗНЬ СВ. НИКОЛАЯ. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.

64. МАЗО ДИ БАНКО. КРЕЩЕНИЕ КОНСТАНТИНА. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САНТА КРОЧЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 40-Е ГОДЫ XIV В.

65. ТАДДЕО ГАДДИ. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САНТА КРОЧЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1332–1338.

66. ТАДДЕО ГАДДИ. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САНТА КРОЧЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1332–1338.

67. БЕРНАРДО ДАДДИ. МУЧЕНИЕ СВ. СТЕФАНА. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САНТА КРОЧЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ.

68. ДЖОТТИНО (?). ОПЛАКИВАНИЕ ХРИСТА. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.

69. АНДРЕА ОРКАНЬЯ. АЛТАРЬ ЦЕРКВИ САНТА МАРИЯ НОВЕЛЛА ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1357.

70. НАРДО ДИ ЧЬОНЕ. РАЙ. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ ЦЕРКВИ САНТА МАРИЯ НОВЕЛЛА ВО ФЛОРЕНЦИИ. СЕРЕДИНА XIV В.

71. АНДРЕА БУОНАЙУТИ. ТРИУМФ ПОКАЯНИЯ. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САНТА МАРИЯ НОВЕЛЛА ВО ФЛОРЕНЦИИ.1365–1367.

72. АНДРЕА БУОНАЙУТИ. ТРИУМФ ПОКАЯНИЯ. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ.

73. АНТОНИО ВЕНЕЦИАНО. ЛЕГЕНДА О СВ. РАНЬЕРИ. ФРЕСКА В КАМПОСАНТО В ПИЗЕ. 1384–1387.

74. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ТРИУМФ СМЕРТИ. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ.

75. НЕИЗВЕСТНЫЙ МАСТЕР. ТРИУМФ СМЕРТИ. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ КАМПОСАНТО В ПИЗЕ. ОК. 1360 Г.

76. АНЬОЛО ГАДДИ. ЦАРИЦА САВСКАЯ ПРЕКЛОНЯЕТСЯ ПЕРЕД СВЯТЫМ ДРЕВОМ. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САНТА КРОЧЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. ОК. 1380 Г.

77. СТАРИННА. ВОСКРЕШЕНИЕ СВ. НИКОЛАЕМ УБИТЫХ ШКОЛЯРОВ. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ ЦЕРКВИ САНТА КРОЧЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. ОК. 1385 Г.

78. АЛЬТИКЬЕРО. ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ. ФРЕСКА КАПЕЛЛЫ САН ДЖОРДЖО В ПАДУЕ. ОК. 1377 1379 ГГ.

79. АВАНЦО. МУЧЕНИЕ СВ. ГЕОРГИЯ. ФРЕСКА КАПЕЛЛЫ САН ДЖОРДЖО В ПАДУЕ. OK. 1377–1379 ГГ.
Сама по себе идея колонного портика не была новостью и в средневековой архитектуре, не были вполне новыми и конструктивные элементы этого портика. Новизна заключалась в тех принципах, которые были положены в основу архитектурной композиции. Что касается отдельных элементов конструкции, то прообразы для них Брунеллески нашел не в античной архитектуре, как это часто утверждают, а в архитектуре Проторенессанса. Форма капителей, сами колонны, низкие и тонкие, сочетание колонн, поддерживающих аркады, с пилястрами, на которых покоится архитрав, наконец, тонкая, нежная профилировка карнизов — все названные приемы Брунеллески заимствовал, несомненно, у тосканского Проторенессанса. Чрезвычайно важно для генезиса стиля Ренессанса, что, борясь с готикой, Брунеллески стал искать опору не в античных традициях, а у первоисточников итальянского национального стиля. Но в использовании этих национальных тосканских элементов Брунеллески пошел самостоятельными путями. Портик развертывается во всю ширину фасада, создавая, таким образом, впечатление простора и покоя и усиливая перевес горизонтальных направлений, который подчеркнут сплошными карнизами и небольшой сравнительно высотой аркад; трудно представить более решительный контраст к динамической вертикальной тяге готики. Но этот контраст усугубляется еще тем, что по бокам портик завершается двумя более широкими арками, обрамленными пилястрами. Иными словами, в отличие от свойственного готике генетического нарастания здания в глубину или вверх Брунеллески централизует композицию, симметрично уравновешивает ее. Следует отметить также, что каждое звено портика крыто отдельным круглым сводом. Опять, следовательно, вместо непрерывной цепи готических крестовых сводов мы имеем здесь комбинацию изолированных, самостоятельных частей, вместо движения, становления — покой, бытие. Несмотря, однако, на ярко воплощенный в портике Воспитательного дома протест против готики, общая художественная концепция Брунеллески еще живет в сфере готических архитектурных представлений. В воздушности, невесомости пропорций и профилей построенного им портика еще нет и следа той пластической массивности, того излучения органических сил, которые так свойственны развитому стилю Ренессанса. Портик Воспитательного дома произвел на современников такое сильное и такое убедительное по своей новизне впечатление, что к Брунеллески один за другим стали поступать все новые заказы. Теперь он получил возможность выявить свои реформаторские идеи и в церковном зодчестве. Старая церковь Сан Лоренцо перестала удовлетворять практическим и эстетическим потребностям флорентийцев, и некоторые из наиболее крупных патрицианских фамилий решили позаботиться о коренной ее перестройке. Во главе этой группы заказчиков стал Джованни Медичи, глава знаменитой впоследствии династии властителей Флоренции. В 1422 году было приступлено к постройке, которая должна была начаться с боковой капеллы, называемой теперь Sagrestia vecchia (Старая ризница), в отличие от Sagrestia nuova, которую впоследствии Микеланджело прославил гробницами Медичи. В построении Старой ризницы перед Брунеллески встала проблема церковного интерьера, организации внутреннего пространства. И опять Брунеллески обнаружил свое духовное родство с зодчеством Проторенессанса, вернувшись к тому типу центрического здания, который был отвергнут готикой, но находил постоянное применение в романской архитектуре Тосканы (вспомним пизанский или флорентийский баптистерии). Однако возвращение не было полным: Брунеллески использовал старые тосканские традиции, но влил в них новое архитектурное содержание. Вместо многоугольника в плане Брунеллески избирает излюбленную форму Ренессанса — квадрат. Квадрат повторяется дважды: в плане самой ризницы и в виде маленького примыкающего к ней хора, и каждое из этих квадратных пространств перекрыто круглым куполом на сферических треугольниках (так называемых пандантивах). Таким образом, два самостоятельных центрических пространства сопоставлены друг с другом и друг другу соподчинены. Вместо готического односторонне двигающегося пространства, здесь — пространство всестороннее и находящееся в состоянии покоя. А к этому присоединяется еще другое принципиальное расхождение с готикой. В северной готической архитектуре стена не выполняет активных функций, наоборот, по мере возможности пробивается отверстиями, растворяясь в динамике бесконечного пространства. Брунеллески, продолжая тенденции тосканской готики, стремится снова реабилитировать стену как основу пространственной композиции, как ясную, точную границу простейших пространственных кристаллов. При этом вместо готического вертикального расчленения мастер возвращается к горизонтальному членению, подчеркивая его популярными в архитектуре раннего Ренессанса красочными контрастами — белыми стенами и темно-красными полосами конструктивного скелета — пилястров, карнизов и арок. Следует отметить, однако, что профилировка этого конструктивного скелета, подобно портику Воспитательного дома, еще очень плоска, хрупка и нежна. В архитектуре раннего Ренессанса стена еще не есть активная сила, самостоятельная пластическая масса, но только пассивная граница пространства. Наконец, нужно отметить еще три момента в архитектурной концепции ризницы Сан Лоренцо, в которых ясно проявляется дух Ренессанса. Во-первых, мотив так называемой «концентрической аркады», представляющий собой индивидуальное изобретение Брунеллески. Во-вторых, освещение. В отличие от мистического полумрака готического собора, неопределенно переходящего в преображенный свет цветного витража, Брунеллески приходит к свету реальному, прозаическому, построенному на ясных, логических контрастах: темная ниша хора четко отграничена от равномерно светлого главного пространства. Третий и, пожалуй, решающий момент архитектурной концепции Брунеллески — пропорции. Готическая архитектура не считалась с ростом человека как единицей меры, была как бы несоизмерима, и именно в этой безотносительности пропорций готического собора заключалась главная доля его сказочного великолепия. Брунеллески и в абсолютных размерах своих зданий и в соотношениях отдельных конструктивных элементов решительно обращается к нормам человеческого масштаба, стремится поставить здание в непосредственную связь с реальным миром. Закончив ризницу, Брунеллески приступил к построению самой церкви Сан Лоренцо. Сочетание средневековых традиций с новыми архитектурными идеями нигде так ясно не ощущается, как именно в плане Сан Лоренцо. Брунеллески вернулся здесь к традиционному для церквей нищенствующих орденов типу базилики в форме креста с тремя продольными нефами и с капеллами вокруг хора. Малотого, Брунеллески возрождает забытую в эпоху готики систему романских соборов, получившую название «связанной» системы: в основу плана как его постоянная единица положен квадрат; так как средний неф вдвое шире боковых, то одному квадрату среднего нефа соответствует по два квадрата боковых нефов. В этом возрождении «связанной» системы не было для Брунеллески никакой внутренней конструктивной необходимости. В романской конструкции «связанная» система вызывалась требованиями полукруглых крестовых сводов, которые были в состоянии перекрывать только квадратные пространства. Брунеллески же заменил крестовые своды маленькими куполами для каждого отдельного звена боковых кораблей. Тем большее, разумеется, значение приобретает возврат Брунеллески к романским традициям, так как он диктовался, следовательно, исключительно художественными соображениями и лишний раз указывает нам на известное духовное сродство между Ренессансом и романским стилем. Но, вернувшись к средневековым традициям, Брунеллески опять-таки дал им совершенно новое истолкование. На первый взгляд изменения, произведенные Брунеллески в средневековой схеме, как будто очень незначительны. На самом же деле последствием этих изменений является совершенно новое ощущение пространства. Дело в том, что Брунеллески не ограничился капеллами вокруг хора, как этого требовала картезианская схема, но продолжил их цепь по обеим продольным сторонам церкви. При этом каждая капелла изолирована от соседней, так что в нее можно проникнуть только из бокового нефа, и в каждой капелле поставлен особый алтарь. В результате происходит прежде всего замедление общего темпа. Движение, которое в романском и готическом соборе непрерывным потоком устремлялось в глубину, теперь останавливается и рассеивается в поперечных направлениях. Изолированные капеллы как бы приглашают зрителя, направляющегося к главному купольному пространству, задержаться и временно изменить направление своего взгляда. Если в готическом соборе отдельные пространственные ячейки были только звеньями одной непрерывной цепи, то в церкви Сан Лоренцо каждая из них представляет собой совершенно самостоятельный, замкнутый маленький мирок. Из этих-то самостоятельных изолированных единиц — микрокосмов и слагается макрокосм всего церковного пространства. Так Брунеллески приходит к основному принципу стиля Ренессанса в организации пространства, принципу, который словами Франкля можно определить, как additio; сложение целого пространства из мелких и самостоятельных пространственных единиц. Насколько последовательно этот принцип пронизывает всю архитектурную концепцию Брунеллески, видно из освещения церкви Сан Лоренцо: темные капеллы, полутемные боковые нефы и пронизанный ясным, ровным светом средний неф дают постепенную концентрацию света под главным куполом церкви. В церкви Сан Лоренцо и в ее ризнице Брунеллески установил два главных типа церковного зодчества Ренессанса: тип продольной базилики и тип центрического храма. Но сам мастер остался неудовлетворен первым разрешением поставленной себе задачи. В двух следующих своих постройках, в церкви Санто Спирито и в капелле Пацци, Брунеллески снова возвращается к тем же задачам и пытается дать своей концепции дальнейшее развитие. Капелла Пацци, начатая постройкой в 1429 году во дворе церкви Санта Кроче, по заказу семейства Пацци, считается наиболее совершенным произведением Брунеллески. Действительно, миниатюрное здание доставляет подлинное наслаждение удивительной гармоничностью своих пропорций и какой-то особенно, только Брунеллески присущей, целомудренной чистотой линий и форм, человечностью, жизнерадостностью. В плане капелла представляет собой квадрат, крытый куполом и расширенный по бокам двумя узкими пространствами, крытыми коробовыми сводами. Господство в плане, в отличие от готики, поперечных направлений подчеркнуто предшествующим капелле портиком. В конструкции этого портика Брунеллески еще ближе примыкает к традициям античного зодчества и вместе с тем еще ясней формулирует свои новые архитектурные идеи. Готическая архитектура отвергла сущность античной конструкции, которая заключалась во взаимодействии между опорой и тяжестью. В готической архитектуре нет тяжести, которая сопротивлялась бы вертикальной тяге столбов. Брунеллески реабилитировал античную конструкцию, снова заставив колонну нести горизонтальный антаблемент. Но вместе с тем он сделал и еще шаг дальше: в капелле Пацци колонны несут не только антаблемент, но и стену, расчлененную пилястрами. В этой расчлененной стене и надо видеть второй кардинальный принцип архитектуры Ренессанса, впервые воплощенный Брунеллески. В архитектуре Ренессанса стена перестала быть непрерывной, бесконечной плоскостью. Она разбилась на составные элементы, получила скелет и мускулы, приобрела самостоятельную органическую энергию, стала источником внутренних сил, подобных функциям человеческого организма. Если готическое здание похоже на пучок растений, вырастающих из земли и пассивно тянущихся к небу своими бесконечными стеблями, то здание Ренессанса подобно могучему человеческому телу, прочно упершемуся в землю и обладающему волей к самостоятельным движениям во всех направлениях. Проектом капеллы Пацци заканчивается первый период деятельности Брунеллески. Все основные идеи стиля Ренессанса уже намечены в постройках этого периода, но они воплощены еще в старых традиционных формах. И портик Воспитательного дома, и церковь Сан Лоренцо, и капелла Пацци при всей новизне поставленных в них проблем, в нежности и воздушности своих форм и их декоративной бестелесности продолжают еще сохранять готические черты. Только во второй период своей деятельности Брунеллески сделал попытку найти для нового содержания и соответствующую ему новую оболочку. Во второй период в творчестве Брунеллески происходит весьма существенная перемена. Его формы приобретают большую мощность, его стиль становится все более пластическим. Причины этой перемены нужно искать, несомненно, во втором римском путешествии Брунеллески, которое мастер совершил вместе с Донателло около 1431–1433 года. Лишь теперь, когда его художественное мировоззрение окончательно сложилось, когда созрело его мастерство, соприкосновение с миром античных художественных форм оказалось действительно плодотворным для его творческого развития. Первое, вполне последовательное воплощение новых архитектурных идей Брунеллески мы находим в церкви Санта Мария дельи Анджели. К сожалению, эта исключительно важная по своему историческому значению церковь не была закончена. Суммы, предназначенные для ее осуществления, были израсходованы на военные цели, и постройка оборвалась в самом начале. Та идея здания центрального плана, которую Брунеллески задумал уже в ризнице Сан Лоренцо и в капелле Пацци, проведена здесь в абсолютной чистоте. Согласно проекту, центральная часть церкви представляет собой восьмиугольник, крытый куполом, покоящимся на столбах. Со всех сторон это главное пространство окружено восемью квадратными капеллами, каждая из которых в свою очередь расширена по бокам двумя полукруглыми нишами. Таким образом, здание состоит из ряда самостоятельных, замкнутых пространств, которые соединяются друг с другом по принципу additio вокруг главного пространства, образуя некое высшее органическое единство. Если идея координирования одного пространства из многих ставит церковь Санта Мария дельи Анджели в одну линию с ризницей Сан Лоренцо и капеллой Пацци, то формы, в которых эта идея воплощена, решительно отличаются от всех предшествующих работ Брунеллески. Дело в том, что Брунеллески впервые вводит здесь прием столбовой конструкции. Для того чтобы вполне уяснить себе принципиальное значение этого новаторства, сравним план церкви Санта Мария дельи Анджели с планом капеллы Пацци. В конструкции капеллы Пацци стена играет только пассивную роль: она не более как оболочка пространства, как отвлеченная его граница. Напротив, в конструкции церкви Санта Мария дельи Анджели стена является реальностью, пластической массой, из которой как бы вырезывается пространство; причем треугольные в плане столбы, поддерживающие купол, представляют собой как бы некоторые остатки этой первоначальной пластической массы. Мы имеем здесь дело с очень важным поворотом в художественной концепции Брунеллески. Перед нами совершенно новый принцип пластической обработки архитектурных масс, определяющий все дальнейшее развитие европейской архитектуры. Нет никакого сомнения, что решающий толчок к этому пластическому пониманию архитектуры Брунеллески мог получить только из изучения памятников древнеримского зодчества — например, Пантеона и еще больше так называемой Минервы Медика. Те же самые различия, которые мы наблюдали в сравнении капеллы Пацци и Санта Мария дельи Анджели, определяют развитие архитектурной концепции Брунеллески от церкви Сан Лоренцо к церкви Санто Спирито, начатой постройкой в 1444 году. Принципы, примененные там в здании центрического плана, использованы здесь для плана продольной базилики. Достаточно самого беглого взгляда, чтобы увидеть, что в плане Санто Спирито Брунеллески возвращается к своей первоначальной схеме. Все отличия плана имеют второстепенный характер (одним звеном больше в продольном корабле, капеллы имеют полукруглую форму и обведены кругом всего алтарного пространства). Но вместе с тем сравнение планов показывает, что вытекающие из них конструктивные принципы совершенно противоположны. Если в плане Сан Лоренцо стены означают только геометрические границы, отделяющие пространственные ячейки, и их толщина играет пассивную роль, то в плане Санто Спирито толщина стен составляет уже актуальную пластическую силу, необходимый элемент архитектурной композиции. Иначе говоря, план Санто Спирито задуман в расчете на определенную толщину стен. А отсюда вытекает и целый ряд важных последствий в оформлении архитектурных масс. Так, например, в церкви Сан Лоренцо отношение между вышиной аркады и вышиной покоящейся на ней стены равно отношению пяти к трем; в Санто Спирито же эти пропорции выражаются в отношении одного к одному. Соответственно уменьшению вышины аркады сокращены и интервалы между колоннами. Колонны в Санто Спирито массивнее, приземистее и чаще поставлены. Благодаря этому впечатление несколько рассеивающей внимание просторности, которое зритель испытывает под аркадами Сан Лоренцо, сменяется в Санто Спирито впечатлением абсолютного равновесия между пластической массой и пространством. Окончательный итог своей исключительно богатой творческими идеями художественной деятельности Брунеллески подводит в фонаре, украшающем купол Флорентийского собора, фонаре, который один из биографов Брунеллески остроумно назвал негативом плана церкви Санта Мария дельи Анджели. Действительно, перед нами совершенно аналогичная схема, в которой только пространственные элементы как бы поменялись местами с пластическими. Фонарь — одно из самых гармоничных, самых продуманных и утонченных произведений искусства Ренессанса. Фонарь Флорентийского собора чрезвычайно интересен в том смысле, что он показывает, насколько тесно Брунеллески связан с готическими традициями, даже в самых классических, казалось бы, созданиях своей фантазии. Обратите внимание, как в выступах фонаря, продолжающих вертикальную тягу светлых ребер купола, как в этих выступах Брунеллески соединяет идею готических контрфорсов с формами античной колоннады. Следует отметить также, что в проекте фонаря Брунеллески впервые вводит мотив волюты, как конструктивный элемент, который у него заимствует Альберти и который получает такое широкое распространение в архитектуре барокко. И теоретическое и практическое влияние Брунеллески на современников было очень велико. Но оно гораздо сильнее сказалось, как мы увидим, в области скульптуры и живописи, чем в архитектуре. Архитектором и скульптором был наиболее одаренный из последователей Брунеллески — Микелоццо ди Бартоломео. Микелоццо родился в 1396 году, в юности работал как ювелир, затем в мастерской Гиберти специализировался на литье из бронзы, а с 1425 года сблизился с Донателло, ввел в его мастерскую литье из бронзы и сам усвоил технику обработки мрамора. Все литературные источники сходятся в характеристике Микелоццо как чудесного человека и отзывчивого товарища. За верность, которую Микелоццо проявил по отношению к Козимо Медичи в тяжелые годы его изгнания из Флоренции, Козимо Медичи отплатил тем, что по своем возвращении в 1434 году передал Микелоццо ряд крупных архитектурных заказов. С этого времени Микелоццо забросил скульптурную деятельность и посвятил свои силы исключительно архитектурным задачам: в сфере светского строительства, и особенно в двух его областях — загородной виллы и городского палаццо — ему принадлежит крупная историческая роль. В ранних произведениях Микелоццо элементы нового стиля проявляются еще очень робко, только в деталях. Такова, например, вилла Кареджи, выстроенная им для семейства Медичи в окрестностях Флоренции. Внутренний дворик, необходимая принадлежность всякой виллы или дворца Ренессанса, имеет неправильную средневековую форму, без обходящего кругом колонного портика и расположен не в центре, а сбоку здания. Лестницы, соединяющие два этажа, по средневековому обычаю очень круты. В распределении наружных стен и внутренних пространств нет еще строгой симметрии. Наружные стены гладко оштукатурены, пробиты немногими, несимметрично расположенными окнами и завершаются средневековыми, выступающими вперед сторожевыми обходами. Только одна из пристроек, раскрывающаяся во втором этаже в виде лоджии, украшенной ионийскими колоннами, говорит языком стиля Ренессанса. Эта сквозная лоджия напоминает нам о тех монастырских двориках, окруженных колонными галереями, так называемых chiostro, большим мастером которых был Микелоццо и которые составляют одно из самых сильных очарований тосканской архитектуры кватроченто. Нет никакого сомнения, что традиции этих chiostro восходят к перистильным дворикам эллинистического частного жилища. В средние века перист ильная традиция продолжала существоать в монастырских двориках с тем только изменением, что колонны сменились столбами, а горизонтальный антаблемент — аркадами. Брунеллески в портике Воспитательного дома первый восстановил колонну в соединении с аркадой. На этих же предпосылках Микелоццо выстроил целый ряд своих знаменитых монастырских chiostro. Напомним chiostro доминиканского монастыря Сан Марко во Флоренции. Не трудно видеть, что в своей конструктивной схеме колонных галерей Микелоццо был вдохновлен примером Брунеллески; но вместе с тем концепция Микелоццо в гораздо большей степени проникнута готическим духом: колонны расставлены реже, арки более плоски, не достигают полукруглой формы и, кроме того, лишены декоративного обрамления. Аналогичное впечатление производит и так называемый второй дворик монастыря Санта Кроче. Правда, Микелоццо использовал здесь декоративный прием Брунеллески, обрамляя линию аркад и украшая их медальонами, но арки по-прежнему остаются плоскими и чрезвычайно просторными (у Брунеллески интервал между колоннами равнялся вышине колонны, здесь же превосходит вышину колонны в полтора раза); мало того, Микелоццо отвергает шарообразное перекрытие Брунеллески в отдельных звеньях галереи и снова возвращается к готическому крестовому своду. Но самой капитальной постройкой Микелоццо, оставившей наиболее важный след в истории итальянской архитектуры, является палаццо Медичи во Флоренции. Первоначально Козимо Медичи обратился за проектом палаццо к Брунеллески, но проект Брунеллески оказался для него слишком обширным и дорогостоящим. Не желая привлекать чрезмерное внимание сограждан, экономный и осторожный Козимо Медичи предпочел поэтому более скромный проект Микелоццо, который и приступил к постройке палаццо в 1444 году. Нет сомнения, что и в своем проекте палаццо Медичи Микелоццо находился под влиянием творчества Брунеллески, но ему удалось в данном случае превзойти своего вдохновителя и найти более соответствующие идеям Ренессанса формы. Литературные источники называют Брунеллески автором целого ряда флорентийских палаццо, но только для одного из них авторство Брунеллески документально доказано — для так называемого палаццо ди парте Гвельфа, которое сторонники партии гвельфов начали строить, чтобы поднять падающий авторитет партии. Постройка была начата еще в XIV веке, когда был выстроен первый этаж, а в 1420 году Брунеллески получил заказ на продолжение строительства палаццо. В конце концов палаццо так и осталось недостроенным. Брунеллески возвел высокий второй этаж, все пространство которого было предназначено для большого зала собраний, но не успел закончить ни больших и закругляющихся сверху окон, ни широких пилястров на углу стены. Оба эти декоративных элемента, и пилястры и аркадные окна, впервые примененные здесь Брунеллески, делаются впоследствии постоянными мотивами стиля Ренессанса. Но по своей общей архитектурной концепции палаццо ди парте Гвельфа еще вполне проникнуто готическим духом. И узость фасада, развертывающегося в вышину, а не в ширину, как мы увидим на большинстве фасадов Ренессанса, и сверхчеловеческий масштаб пропорций палаццо, и огромность его кладки стен, пробитых немногими отверстиями, — все эти приемы обнаруживают известную приверженность к средневековым традициям. Палаццо Медичи по сравнению с палаццо ди парте Гвельфа означает важный шаг к обоснованию стиля Ренессанса. Фасад палаццо Медичи широко развертывается на углу двух улиц. Три его этажа — отныне почти непреложная схема для палаццо Ренессанса — отделены узкими карнизами и завершаются массивным карнизом на консолях, как бы венчающим все здание в целом. Техника грубо обработанных квадров (так называемая рустика) оставлена только в нижнем этаже, который служит как бы постаментом для всего здания. Во втором этаже швы между квадрами надрезаны так же глубоко, но поверхность квадров обработана плоско и гладко. Наконец, в третьем этаже швы заштукатурены, и стена кажется гладкой. Таким образом, Микелоццо подчеркивает конструктивные функции стены чисто оптическими контрастами, увеличивая легкость стены снизу вверх. Эту типичную для Ренессанса оптическую систему следует особенно отметить потому, что стиль барокко склонен как раз к противоположным оптическим приемам — к постепенному нарастанию тяжести снизу вверх. В обработке фасада палаццо Медичи мы находим еще один типичный для Ренессанса архитектурный прием, впервые примененный Микелоццо. В двух верхних этажах окна имеют одинаковый размер и поставлены на одинаковом расстоянии друг от друга, так что их оси совпадают. Этой тенденции к организованности, к порядку совершенно лишена была готическая светская архитектура. Но вместе с тем в фасаде Микелоццо еще живо готическое представление стены как непрерывной текучей плоскости, не имеющей центра и способной бесконечно развертываться или внезапно прерываться. В самом деле палаццо Медичи не имеет главного входа, главного портала, углы стен не подчеркнуты, швы кладки как бы случайной, неорганической сетью покрывают плоскость фасада. Все эти пережитки готики с большим трудом были преодолены в дальнейшем развитии итальянской архитектуры кватроченто. То же самое сочетание готических пережитков с элементами нового стиля встретит посетителя, вступающего внутрь палаццо Медичи. Центром внутренней жизни палаццо является небольшой дворик, окруженный со всех сторон каменной галереей. Назначение внутреннего дворика в светском здании — подчеркивать полную изолированность здания, его замкнутость и недоступность. Вступающего под аркады дворика встречает тишина и отрешенность от шумной уличной жизни. Таково назначение палаццо Ренессанса в отличие от дворика барокко, который всегда поддерживает активное соприкосновение с шумом и движением наружной жизни. Как в фасаде палаццо Медичи, так и в его дворике этажи разделены четкими линиями карнизов, и на них непосредственно опираются обрамления окон. Вот в этом последнем приеме особенно ясно сказывается переходное положение между готикой и Ренессансом, которое занимает палаццо Медичи: расположение окон непосредственно на карнизах наглядно показывает, что наружное деление стен на этажи не совпадает с внутренними границами этажей. Такое несоответствие наружной и внутренней конструкции здания было бы совершенно недопустимо в архитектуре зрелого Ренессанса. Кроме того, обратим внимание на самые окна палаццо Медичи. По приемам своего обрамления, по формам центральной колонки окна Микелоццо определенно принадлежат стилю Ренессанса, но по своему общему эффекту они примыкают к готическим традициям: колонка в середине окна как бы отрицает его отверстие, продолжая непрерывную плоскость стены и заставляя глаз зрителя скользить мимо. Это — типичная концепция готики. Ренессанс противопоставляет ей другую, в которой окно является глубоким и свободным отверстием, и центр этого отверстия мысленно представляется человеку, обитателю жилища, главной мерой всех архитектурных пропорций. Готическому четному ритму Ренессанс противопоставляет свой ритм нечетных чисел. В заключение — несколько слов о лестницах во дворцах раннего Ренессанса. Характер лестницы легче всего позволяет ориентироваться в пространственной фантазии эпохи. Для готики типична витая лестница, потому что она нуждается в минимальной базе и обладает сильнейшей вертикальной тягой; витая лестница как бы всасывает человека в свое жерло и в стремительном, безостановочном движении увлекает его в свой круговорот. В архитектуре кватроченто нередко еще можно встретить витые лестницы (такова, например, витая лестница венецианского палаццо Минелли, выстроенного в самом конце XV века), но дух Ренессанса требовал иных принципов циркуляции движения. Тип нормальной лестницы Ренессанса впервые найден Брунеллески в Воспитательном доме и повторен Микелоццо в палаццо Медичи. Лестница Ренессанса прежде всего должна быть прямой. Она разбивается на ряд определенных изолированных звеньев, на отдельные марши, каждый из которых расположен по отношению к соседнему под углом в 180 градусов, отделен от него глухой стеной и перекрыт особым сводом. Такая лестница свободна от всякой спешки, она не столько увлекает с собой входящего, сколько дает ему опору. Поднимаясь по ней, мы воспринимаем всякий раз только протяженность одного этажа, мы не знаем, сколько еще этажей нас ожидает, мы не чувствуем себя связанными со всем пространством здания. Именно эту последнюю цель ставила себе лестница барокко. Разбегаясь и скрещиваясь полукруглыми, открытыми маршами, лестница барокко стремится охватить все пространство здания и связать его внутреннее пространство с окружающим пейзажем. Схема дворца, созданная Микелоццо в палаццо Медичи, встретила во Флоренции чрезвычайное одобрение и в течение всего XV века повторялась в различных вариациях. Как наиболее гениальное воплощение этой схемы следует назвать палаццо Питти. Его долгое время связывали с именем Брунеллески, но архивные изыскания последнего времени показали ошибочность этой литературной традиции: построение палаццо Питти началось не ранее 1458 года, то есть после смерти Брунеллески, и в 1472 году оно еще не было закончено. Вряд ли основательна также попытка некоторых ученых доказать участие Леоне Баттиста Альберти в проекте палаццо Питти[28]. Приходится пока примириться с мыслью, что автор одного из самых своеобразных памятников архитектуры кватроченто нам неизвестен. Заказчик Лука Питти, богатейший флорентийский коммерсант, одно время оттеснивший Медичи на второй план, задумал дворец как памятник своей победы над Медичи и как символ своего господства над Флоренцией. Поэтому дворец должен был отличаться настолько огромными размерамы, чтобы его дворик мог вместить любое из флорентийских палаццо. Банкротство Питти и его смерть помешали выполнению грандиозного плана, и палаццо Питти получило свое окончательное завершение уже во второй половине XVI века. В первоначальный проект неизвестного нам архитектора входила только средняя часть теперешнего фасада, охватывающая семь осей. Мы видим те же арки окон, опирающиеся на карнизы, и такой же массивный карниз, венчающий все здание; так же отсутствует главный вход и так же лишены акцента углы стен. Но в известном смысле палаццо Питти более проникнуто средневековым духом, чем палаццо Медичи: его рустика не дифференцирована по этажам и с одинаковой суровостью взрыхляет стены снизу доверху. Мрачная дикость этой рустики в соединении с огромными размерами палаццо (высота его нижнего этажа равняется двенадцати метрам) производит на зрителя прямо-таки устрашающее впечатление. Известное сходство с палаццо Питти имеет палаццо Строцци, фундамент которого был заложен в 1489 году. Вазари называет его автором скульптора Бенедетто да Майано, а массивный верхний карниз был исполнен по рисунку архитектора Кронака. Заказчику, Филиппо Строцци, нелегко было добиться осуществления своего великолепного дворца, так как во Флоренции никто не смел жить на слишком широкую ногу. Но хитрому Филиппо Строцци удалось задеть эстетическую жилку Лоренцо Медичи. Показывая некоронованному властителю Флоренции планы дворца, Филиппо сделал вид, что в первом этаже он рассчитывает поместить лавки, чтобы окупить издержки по постройке. Лоренцо Медичи стал протестовать против такой порчи фасада, и таким образом Филиппо Строцци добился официального одобрения своего действительного проекта. И в палаццо Строцци еще живы средневековые традиции: мы видим готическое представление стены, развертывающейся в бесконечном ритме, и готические плоские окна с колонной посередине. Но все же в целом палаццо Строцци производит уже другое впечатление — большой гибкости, энергии, законченности. Этому способствует прежде всего характер рустики — не бесформенно-тяжелой, как в палаццо Питти, а полной гибкого напряжения; затем — трактовка нижнего этажа как цоколя, с маленькими квадратными окнами и главным порталом в центре; но более всего — повышение верхнего этажа с помощью гладкого аттика, благодаря чему главный карниз не придавливает всего здания своей тяжестью, а, наоборот, как бы собирает в себе избытки накопленной силы. Менее крупные по размаху концепции, но все же очень оригинальные вариации основной темы показывают палаццо Антинори и Гуаданьи. Палаццо Антинори демонстрирует лишний раз неуверенность архитекторов кватроченто во взаимоотношениях фасада и внутренней структуры здания; капитальные стены замаскированы по фасаду слепыми окнами. Палаццо Гуаданьи, которое выстроил, по всей вероятности, Кронака в 1506 году, представляет собой как бы сочетание городского дворца и загородной виллы. Рустика оставлена здесь только по углам и в центре стены, в то время как второй и третий этажи заметно оживлены узорчатым фризом в технике сграфитто. Самое же главное нововведение состоит в прибавлении четвертого этажа в виде открытой галереи. Эволюция тосканского палаццо эпохи кватроченто ясно показывает нам, что, несмотря на широкий размах реформы Брунеллески, пережитки готических художественных представлений продолжали сказываться в течение всего XV века. Ту же самую картину развития дает и сакральное зодчество Тосканы. Исходным пунктом здесь послужил, конечно, тип базилики, созданный Брунеллески в церквах Сан Лоренцо и Санто Спирито, но в разработке этого типа средневековые традиции берут верх над новыми идеями Брунеллески. Возьмем, например, план и разрез собора в Фаэнце, который Джулиано да Майано, один из наиболее выдающихся архитекторов кватроченто, начал постройкой в 1474 году. У Брунеллески только звенья боковых кораблей были перекрыты круглыми сводами, центральный же корабль завершался плоским потолком. Джулиано да Майано как будто бы извлек все логические последствия из системы Брунеллески, разделив центральный неф на четыре больших звена и перекрыв каждый из них куполом. На самом же деле он еще сильнее оказался во власти средневековой концепции, так называемой «связанной системы»: одному большому квадрату среднего нефа соответствуют два маленьких квадрата боковых кораблей, причем опоры сменяются через одно звено, чередуя большие столбы, поддерживающие своды центрального нефа, с маленькими столбами для боковых сводов. Создается типичный средневековой ритм двух осей, четных чисел, которого так тщательно, хотя, может быть, и инстинктивно, избегал Брунеллески и которому только архитекторы зрелого Ренессанса противопоставили нечетный ритм трех осей. Для того чтобы дать наглядное представление о принципиальном различии четного и нечетного ритма, сошлюсь на план и разрез церкви Сан Сальваторе в Венеции, выстроенной архитектором Спавенто в 1506 году, то есть уже в самом зените классического стиля. Нечетный ритм достигается здесь тем, что и средний и боковые нефы имеют по равному числу звеньев, чередуя накрест продольные звенья, крытые коробовыми сводами, и квадратные звенья, крытые куполами. Таким образом, и в продольном и в поперечном направлении ритм пространства Сан Сальваторе основан на трехосном принципе. Иными словами, вместо средневекового ритма рядоположности мы имеем здесь типичный для Ренессанса ритм, основанный на принципе группировки. Но нигде переходное положение тосканской архитектуры кватроченто не сказывается так ярко, как на проблеме церковного фасада. Североготическая архитектура не знала фасада в прямом смысле слова — как лица здания. Только тосканский «инкрустационный» стиль впервые осуществил идею фасада в виде плоской декоративной кулисы, богато расчлененной красочным орнаментом вне всякого соответствия с внутренним организмом постройки. Эту концепцию фасада «инкрустационный» стиль передал и итальянской готике, концепцию, которая сделалась одним из основных отличительных ее признаков по сравнению с готикой северной. По наследию от готики идея фасада перешла также к архитектуре кватроченто. Но здесь эта идея фасада как плоской декоративной кулисы оказалась в явном разногласии с новым представлением архитектурного организма — как пластического тела, с новой потребностью упрощения формы. В результате тосканская архитектура раннего кватроченто попала в своеобразное положение: она получила от итальянской готики идею фасада как нечто само собою разумеющееся, но найти для ее осуществления соответствующие новому художественному мировоззрению формы так же не могла, как не могла целиком заимствовать эти форм и от готики. Поэтому-то большинство тосканских церквей кватроченто имеет со стороны фасада незаконченный, фрагментарный облик (как, например, церковь Сан Лоренцо). Многие из них получили завершенные фасады только в эпоху барокко. Если же архитекторы кватроченто оказывались перед категорической необходимостью завершить здание церкви спереди, то они делали это самым произвольным, поверхностным образом, в виде приставленного к необработанному фасаду колонного портика. Такой провизорный фасад получила, например, церковь Санта Мария делле Грацие в Ареццо, где Бенедетто да Майано пристроил свой просторный, тенистый мраморный портик непосредственно к скромной кирпичной стене маленькой церковки. Таким образом, тосканская архитектура кватроченто представляется нам в виде беспрерывной борьбы между Ренессансом и готикой, в виде вырастания новых художественных идей непосредственно из готических традиций.IX
ИНУЮ КАРТИНУ дает нам архитектура кватроченто в Северной Италии. Здесь готические традиции держались гораздо прочнее и гораздо дольше. И когда новый стиль мало-помалу стал все же проникать в области севернее Апеннин, то он был воспринят там не как коренная реформа всей стилистической грамматики, а лишь как обогащение формального словаря. Ломбардия до 1450 года, а Венеция, пожалуй, даже до 1480 года оставалась в полном смысле слова «заграницей» для стиля Ренессанс. Но Ренессанс не только запоздал в Северной Италии. Он никогда не смог там пустить настоящие корни, и, едва успевши сделаться классической, североитальянская архитектура повернула в сторону маньеризма, а потом и барокко. Помимо живых, постоянных связей с Северной Европой в развитии североитальянской архитектуры кватроченто сыграл важную роль также непрекращавшийся приток восточных, преимущественно византийских влияний. Наконец, нужно указать на особенности североитальянской строительной техники, на предпочтение кирпича и богатой терракотовой облицовки, которые, разумеется, наложили особый отпечаток на характер североитальянских архитектурных форм. Венеция занимает, бесспорно, центральное место в североитальянской архитектуре кватроченто. Чтобы постепенно перейти к пониманию своеобразия венецианской архитектурной концепции, вкратце познакомимся с наиболее характерными архитектурными памятниками Болоньи, Феррары и Вероны. С типом североитальянского палаццо в эпоху развитого кватроченто знакомит нас палаццо Бевилаква в Болонье, выстроенное около 1480 года. Отметим прежде всего двухэтажную схему в отличие от тосканской трехэтажной. Далее — характер отшлифованной рустики, придающей всей поверхности фасада мерцающий, живописный эффект. Наконец, тонкие пилястры, окаймляющие стены, как будто бы предназначенные для поддержания карниза, но на самом деле играющие декоративную роль. Не менее интересен и внутренний дворик палаццо Бевилаква, с несомненностью указывающий на знакомство с тосканскими образцами и все же совершенно отличный в пропорциях и в ритме. Типично для Северной Италии средневековое удвоение арок на втором этаже, а также изящный терракотовый фриз, который с чуждой для классического стиля беззастенчивостью разбрасывает свои декоративные акценты без всякого согласия с арками. Другую типичную разновидность североитальянского палаццо мы находим в дворце Роверелло в Ферраре с его своеобразным, полуготическим, полубарочным эркером. И здесь опять господствует декоративный эффект в расчленении фасада богато орнаментированными терракотовыми пилястрами. Если мысленно снять современные сточные трубы, то ритм окон, с двух сторон прислоняющихся к пилястру, покажется еще более произвольным для глаза, воспитанного на тектонических принципах тосканской архитектуры. Но, пожалуй, всего полнее беспечно-декоративный, сказочно-романтический дух североитальянской архитектуры кватроченто передает палаццо дель Консильо в Вероне, выстроенное точно так же во второй половине XV века. Здесь север и юг, готика и Ренессанс сталкиваются в самом причудливом сочетании, в очаровательной орнаментальной оправе, овеянной восточной красочностью. Все элементы расчленения фасада — арки, колонны, пилястры, гирлянды — принадлежат к репертуару классического стиля. Но в использовании их целиком господствуют принципы готики. Фасад делится на две части: то есть не имеет центра и как бы может продолжаться в любой протяженности. Между нижним и верхним этажом нет точного соответствия: внизу — восемь осей, наверху — четыре оси. Двум пилястрам верхнего этажа внизу отвечают только капители. Напротив, на оси колонн нижнего этажа приходятся то пилястры, то маленькие колонки, разделяющие окна. Одним словом, полная тектоническая беззаботность, совершенно недопустимая в тосканской архитектуре. Но именно в этой своевольной игре поверхности и заключается главная прелесть североитальянской архитектуры. Все отмеченные мною свойства североитальянской архитектуры достигают наибольшей выразительности в Венеции. Здесь сами природные условия, требовавшие построек на сваях, поощряли сквозной, живописный характер архитектуры. Венецианская архитектура кватроченто избегает массивных стен и ограничивается только скелетом конструкции. Поверхность, оболочка предмета имеет в Венеции гораздо большее значение, чем само ядро пластической формы. Отсюда любовь венецианцев к цветным материалам, к мозаике и позолоте, к мраморной инкрустации и к блеску полировки. Тектоническая целесообразность отступает в венецианской архитектуре перед задачами оптического, живописного воздействия. Цепкость готических традиций в венецианском сакральном зодчестве можно наблюдать на церкви Сан Дзаккария. Ее перестройка была начата в 1444 году еще в готическом стиле со стрельчатыми арками хора и велась в течение всей второй половины XV века, все более перемешивая готические элементы с ренессансными. Особенно характерен в этом смысле фасад. В полном разногласии с внутренним пространством он разбит на пять этажей, причем каждый этаж имеет свой особый декоративный ритм. Но сквозь все пять этажей проходит вертикальная тяга двойных колонн и пилястров — типичный североготический прием. Фронтонное завершение в виде полукруга в центре и двух четвертей круга по бокам — один из самых популярных мотивов венецианского Ренессанса — также представляет собой перевод готической архитектурной концепции на язык классических форм. Но наиболее яркое представление о сакральном зодчестве раннего венецианского Ренессанса может дать маленькая церковь Санта Мария деи Мираколи, выстроенная Пьетро Ломбардо в 1481–1489 годах. Кажется, что все принципы строгой тектоники, выработанные во Флоренции, сознательно нарушены строителем венецианской церкви. Внутренность церкви представляет собой простую продолговатую залу, крытую коробовым сводом. Отступление от нормы состоит прежде всего в том, что хор приподнят на высокую, украшенную мраморной балюстрадой платформу и под ним помещаются ризницы. Стены выложены мраморными плитами самого различного рисунка и окраски, причем крупные деления верхней части стены совершенно не совпадают с мелкими делениями нижней полосы. Но главное внимание строителя было сосредоточено на наружном облике церкви. Насколько флорентийское зодчество было равнодушно к церковному фасаду, настолько в Венеции на фасаде концентрировался весь блеск архитектурной фантазии. Если во флорентийском зодчестве кватроченто мы наблюдали известное несоответствие между внутренней и внешней структурой здания, то в Венеции нельзя иначе говорить, как о вопиющем между ними разногласии. Так, вопреки одноэтажному внутреннему пространству фасад Санта Мария деи Мираколи показывает определенное расчленение на два этажа. Присмотримся поближе к этому расчленению — у флорентийских теоретиков волосы стали бы дыбом от допущенных здесь аномалий. Наперекор непреложному закону классической архитектуры в нижнем этаже применены коринфские, а в верхнем — ионийские пилястры. В верхнем этаже на пилястрах покоятся арки, но эти арки играют только плоскостную, орнаментальную роль, не образуя ни портика, ни ниш. Над арками протянут карниз, но — какое своеволие — этот карниз не соприкасается с арками и кажется витающим в воздухе. И, наконец, что представляет собой декорация венчающего фасад полукруглого фронтона? Разноцветные окна и медальоны, расположенные вокруг центральной розы, подобно летающим мечам жонглера. В фасаде Санта Мария деи Мираколи нет ни прочности, ни силы, ни порядка. Но когда силуэт и краски этого фасада отражаются в зеркальной поверхности канала, когда скользящие мимо гондолы заставляют содрогаться и вновь успокаиваться это отражение, когда солнечные рефлексы прыгают по полированной поверхности мраморных плит, тогда мы поистине готовы забыть о всех требованиях тектонического равновесия. Живописная архитектура, архитектура, рассчитанная только на видимость — на смену света, на сгущение воздуха, на неожиданность перспективы, на игру красок, — такая архитектура ставит себе иные задачи, а эти задачи нашли свое первое разрешение именно в Венеции, где архитектуру строили не на земле, а на воде. Среднее положение между сакральным и светским зодчеством занимали в Венеции так называемые scuole или здания, предназначенные для репрезентационных собраний различных благотворительных братств. Скуола ди Сан Марко, выстроенная тем же Пьетро Ломбардо после 1490 года, может служить характерным примером для этого типа зданий. В фасаде скуолы ди Сан Марко живописная бестелесность и иллюзорность венецианского зодчества сочетается с декоративной пышностью ломбардской школы. Фасад несимметрично складывается из двух частей, так что перед нами находятся два фасада, два различных здания. Левая часть фасада выступает вверх тремя полукруглыми фронтонами, расположенными уступами, в правой же части фасада полукруглые фронтоны расположены на одном уровне. В левой половине фасада средняя часть господствует, в правой — все три части равномерны. Отверстия — двери и окна — распределены по фасаду в виде шашечного рисунка, но обрамление окон в левой и правой части фасада различно. Беспокойно-иллюзорный характер фасада усиливают четыре рельефа нижнего этажа, перспективное построение которых уничтожает плоскость фасада, но при этом базируется не на одной, а на двух точках схода, соответствующих двум порталам. В целом — впечатление пестрого, радостного великолепия. Обитатели этого здания умели наслаждаться жизнью тогда, когда думали о серьезных целях христианского милосердия. Что касается венецианских палаццо, то большинство из них расположено на каналах, как бы непосредственно вырастает из воды, и поэтому в них особенно наглядно выдержаны требования свайной конструкции. План венецианского палаццо отличается от флорентийского отсутствием центрального дворика. Весь полет архитектурной фантазии устремлен на оформление главного фасада здания, тогда как боковые и задние стены его трактованы обыкновенно суммарно и провизорно. В композиции фасада в течение почти всего XV века господствуют готические принципы и, готические декоративные формы. Типичным примером венецианской готики кватроченто может служить так называемая Ка д’Оро, выстроенная в тридцатых годах XV века. Фасад Ка д’Оро складывается из двух неравных, несимметричных половин. В правой половине плоскость стены господствует над отверстиями, в левой — стена растворилась в сквозном узоре колоннад. Готические стрельчатые арки сочетаются с мавританскими пестрыми витыми колонками, белый мрамор — с цветными породами камней. Все расчленениефасада имеет плоский, орнаментальный характер. Эта асимметричная схема двухделения фасада и его плоской, пестрой орнаментовки удерживалась в Венеции очень долго. Ее можно еще наблюдать на фасадах палаццо Дарио и палаццо деи Камерленги, выстроенных в самом конце XV — начале XVI века. Первый робкий переход к концепции Ренессанса намечается в палаццо Фоскари. Правда, расчленение его фасада носит по-прежнему плоскостной, орнаментальный характер, правда, его высокие окна и аркады имеют еще готическую форму; но самое помещение сквозных аркад в центре фасада и увенчание их фризами с обнаженными амурами указывает на влияние классических тенденций. В палаццо Манцони-Ангаран классические тенденции сказываются еще решительнее. Здесь уже явно проведено трехделение фасада с подчеркнутой балконами и аркадами центральной частью. Большинство декоративных элементов — канеллированные пилястры, полукруглые арки, фриз с гирляндами — заимствованы из классического репертуара. Тем не менее общая концепция фасада — с очень высокими окнами, с преобладанием вертикальных осей, с разложением стены на красочную игру отверстий, — эта общая концепция остается еще в какой-то степени готической. Впервые, может быть, в палаццо Вендрамин, законченном постройкой в 1509 году, дух классики оказывается сильнее готических традиций. Только теперь плоская, живописная орнаментовка фасада превратилась в демонстрацию конструктивных функций, в борьбу пластических, удвоенных колонн с тяжелыми, массивными карнизами. Теперь нам предстоит вернуться несколько назад, чтобы проследить возникновение третьего направления в зодчестве кватроченто, которое в конце концов и завоевало господствующее положение в развитии итальянской архитектуры. Главным центром этого направления, которое может быть названо чисто классическим, делается Рим и Средняя Италия. Отличительное свойство этого направления заключается не только в том, что его представители более последовательно изучают законы и формы античного зодчества и более непримиримы к готическим традициям, но главным образом в том, что творчество этих классицистов имеет гораздо более теоретический, рационалистический, рассудочный характер. Чрезвычайно показательно для классического направления, что его главным вдохновителем был художник, не имевший практической архитектурной подготовки и выросший скорее в литературной, чем в художественной среде. Леоне Баттиста Альберти представляет собою идеальный тип человека Ренессанса. В нем стремление эпохи к разностороннему развитию личности, к гармонии физического и духовного совершенства, достигает наиболее полного воплощения. Сын флорентийского архитектора, Леоне Баттиста Альберти родился в изгнании около 1404 года и всю свою юность должен был бороться с нуждой. Несмотря на житейские трудности, ему удалось получить самое широкое гуманистическое образование. В университетах Падуи и Болоньи он штудировал юриспруденцию, математику и естественные науки. Благодаря посредничеству папы Альберти добился в 1428 году права вернуться во Флоренцию. Здесь он быстро сошелся с учеными и художниками, сгруппировавшимися вокруг Медичи, и сделался членом Платоновской академии. Современники свидетельствуют, что Альберти отличался удивительной смелостью и ловкостью во всех видах спорта, был прекрасным наездником, отлично фехтовал и изумлял своих друзей тем, что подбрасывал золотую монету под самую вершину купола Флорентийского собора. Во Флоренции Альберти развивает широкую литературную деятельность, устраивает состязания поэтов в соборе, пишет стихи, комедии и трактаты на самые различные темы. Альберти можно назвать первым теоретиком искусства в современном смысле этого слова. Его «Трактат о живописи», который он посвятил Брунеллески, коренным образом отличается от всей предшествующей теоретической литературы об искусстве. Альберти не дает технических рецептов и практических советов в духе Ченнино Ченнини. Его занимают принципы и проблемы искусства. Он стремится установить незыблемые нормы прекрасного, с научной точностью изучая законы перспективы, пропорций, композиции, колорита. Один из основных стимулов его теоретической мысли — освобождение искусства от ремесла и сближение его с наукой. В 1432 году Альберти получает должность папского секретаря и переселяется на постоянное жительство в Рим. Общение с памятниками античной архитектуры, их изучение и обмеры, дают новую пищу для теоретического ума Альберти. Незадолго до его переселения в Рим гуманист Поджо, также состоявший на папской службе, нашел в монастыре Санкт Галлен список трактата Витрувия об архитектуре. Правда, текст этого манускрипта был очень испорчен и лишен необходимых чертежей, так что потребовалась длительная работа филологов и архитекторов, пока, наконец, в 1511 году ученому архитектору фра Джокондо удалось опубликовать новое издание трактата Витрувия. Альберти был, несомненно, первым, кто серьезно занялся изучением и восстановлением текста Витрувия и по его образцу задумал свой собственный трактат «De re aedificatoria» в десяти книгах. В 1460 году Альберти передал папе латинский текст своего трактата, который уже после его смерти был переведен на итальянский язык и напечатан[29]. И в этом трактате Альберти стремится установить основные законы прекрасного, определить те незыблемые числовые и геометрические отношения, на которых покоится архитектурная гармония. Чистым теоретиком является Леоне Баттиста Альберти и в своей художественной деятельности. Характерно, что Альберти никогда не принимал непосредственного участия в осуществлении своих архитектурных проектов, довольствуясь письменными сношениями с заказчиком. К тому же Альберти интересует не весь пространственный и телесный организм постройки, а только ее оптическая проекция. Поэтому в большинстве случаев Альберти теряет живой интерес к своим архитектурным задачам задолго до их окончания. Не удивительно, что от Альберти не сохранилось ни одной законченной постройки и его архитектурное наследие состоит почти исключительно из фасадов. Некоторые из этих фасадов Альберти принадлежат зданиям, выстроенным гораздо раньше и в другом стиле. Таков фасад церкви Санта Мария Новелла во Флоренции. Уже первая крупная работа Альберти осталась незаконченной. В 1446 году флорентийский купец Ручеллаи поручил Альберти проект своего палаццо. Но Альберти принадлежит только идея фасада палаццо Ручеллаи, впоследствии возведенного архитектором-скульптором Бернардо Росселлино. Основную идею фасада можно формулировать, как идею «расчлененной стены». Идея эта, намеченная уже Брунеллески, впервые осуществлена здесь в фасаде палаццо во всей последовательности. Во всех трех этажах стена расчленена пилястрами, причем вертикальные оси пилястров проходят через все здание. В оформлении пилястров Альберти точно следует античным предписаниям: для нижнего этажа применен дорийский ордер, для второго этажа — ионический (правда, не в классическом виде) и для верхнего этажа — коринфский. Рустика стены сильно смягчена, и, таким образом, центр тяжести как бы переносится с поверхности стены на ее конструкцию, скелет. Вместе с тем Альберти делает попытку, правда весьма робкую, подчеркнуть центр фасада: во-первых, замыкая стену по бокам пилястрами, во-вторых, выделяя гербами третье и шестое окно второго этажа (соответственно двум порталам). Иными словами, акценты, еще очень мягко и слабо, но концентрируются к середине стены. Таким образом, в фасаде палаццо Ручеллаи Альберти не только определяет схему классического стиля, но дает основы для всего дальнейшего развития концепции фасада. Превращение фасада в мнимость, в картину, в арену борьбы воображаемых пластических сил — эта идея нашла себе настоящих приверженцев, собственно, только во время маньеризма и барокко. Почти одновременно с палаццо Ручеллаи Альберти приступает к другому архитектурному проекту, которому еще менее суждено было осуществиться. Скромную монашескую церковь Сан Франческо в Римини, выстроенную в готическом стиле, надлежало превратить в храм славы для местного тирана, Сиджизмондо Малатеста. Какой окончательный вид должен был получить проект Альберти, можно видеть на реверсе медали, чеканенной по модели ученика Альберти, Маттео де Пасти. Три корабля готической церкви, облицованные новым фасадом, должны были выполнять роль портала перед гигантским куполом, венчающим круглое пространство храма. Из грандиозного проекта Альберти осуществилась, и то не до конца, только идея классических фасадов, спереди и с боков облицовывающих готический стержень базилики. Перед нами — первый церковный фасад нового стиля. Фасад этот, возрождающий римскую систему аркад с полуколоннами, поддерживающими горизонтальный антаблемент, представляет собой великолепную театральную декорацию, мнимое зрелище, не имеющее ничего общего со скрытым за ним внутренним пространством. Как чистого теоретика, Альберти занимает не органическая связь наружной массы с внутренним пространством, а разрешение проблемы фасада самого по себе, в его оптическом равновесии.
80. ЛОРЕНЦО ГИБЕРТИ. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ АВРААМА. КОНКУРСНЫЙ РЕЛЬЕФ. ФЛОРЕНЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. 1401.

81. БРУНЕЛЛЕСКИ. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ АВРААМА. КОНКУРСНЫЙ РЕЛЬЕФ. ФЛОРЕНЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. 1401.

82. БРУНЕЛЛЕСКИ. КОЛОННАДА ОСПЕДАЛЕ ДЕЛЬИ ИННОЧЕНТИ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1421–1444.

83. БРУНЕЛЛЕСКИ. ЦЕРКОВЬ САНТО СПИРИТО. ВНУТРЕННИЙ ВИД. ФЛОРЕНЦИЯ. НАЧАТА В 1444 Г.

84. БРУНЕЛЛЕСКИ. КАПЕЛЛА ПАЦЦИ ЦЕРКВИ САНТА КРОЧЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. НАЧАТА В 1429 ГОДУ.

85. БРУНЕЛЛЕСКИ. СТАРАЯ САКРИСТИЯ ЦЕРКВИ САН ЛОРЕНЦО ВО ФЛОРЕНЦИИ. ВНУТРЕННИЙ ВИД. ОКОНЧЕНА В 1428 Г.

86. МИКЕЛОЦЦО. ВИЛЛА КАРЕДЖИ БЛИЗ ФЛОРЕНЦИИ. ОК. 1443 Г.

87. ПАЛАЦЦО ПИТТИ ВО ФЛОРЕНЦИИ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ФАСАДА. ПОСЛЕ 1440 Г.

88. БЕНЕДЕТТО ДА МАЙАНО И СИМОНЕ КРОНАКА. ПАЛАЦЦО СТРОЦЦИ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1489–1505.

89. ПАЛАЦЦО ДЕЛЬ КОНСИЛЬО В ВЕРОНЕ. 1475–1492.

90. МИКЕЛОЦЦО. ПАЛАЦЦО МЕДИЧИ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1444–1460.

91. МИКЕЛОЦЦО. ПАЛАЦЦО МЕДИЧИ. ВНУТРЕННИЙ ДВОР. 1444–1460.

92. ЦЕРКОВЬ САН ДЗАККАРИЯ В ВЕНЕЦИИ. 1444–1465 И 1480–1500.

93. ПЬЕТРО ЛОМБАРДИ. ЦЕРКОВЬ САНТА МАРИЯ ДЕИ МИРАКОЛИ В ВЕНЕЦИИ. 1481–1489.

94. ПЬЕТРО ЛОМБАРДИ. СКУОЛА ДИ САН МАРКО В ВЕНЕЦИИ. 1488–1490.

95. ПАЛАЦЦО КА Д’ОРО В ВЕНЕЦИИ. 1422–1440.

96. ПАЛАЦЦО РУЧЧЕЛЛАИ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1446–1451.
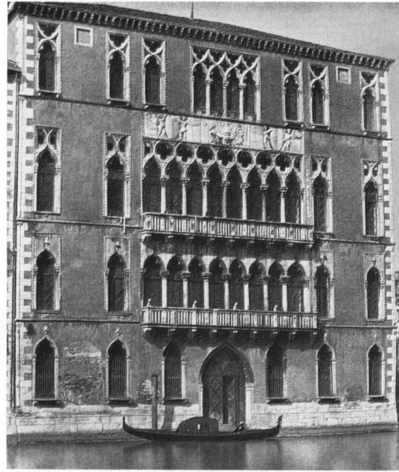
97. ПАЛАЦЦО ВЕНД РА МИН В ВЕНЕЦИИ. 1481–1509.

98. ПАЛАЦЦО ФОСКАРИ В ВЕНЕЦИИ. OK. 1450–1460 ГГ.

99. АЛЬБЕРТИ. ЦЕРКОВЬ САН ФРАНЧЕСКО В РИМИНИ. ДЕТАЛЬ. 1447–1468.

ЮО. АЛЬБЕРТИ. ЦЕРКОВЬ САЙТ АНДРЕА В МАНТУЕ. ПОРТАЛ. 1472–1494.

101. ПАЛАЦЦО КАНЧЕЛЛЕРИЯ В РИМЕ. 1485–1511.

102. ЛУЧАНО ДА ЛАУРАНА. ПАЛАЦЦО ДУКАЛЕ В УРБИНО. НАЧАТО ОК. 1470 Г.
Главным своим завоеванием Леоне Баттиста Альберти считал применение одной и той же пропорции для самых различных по величине арок. Центральная арка шире боковых, но, соответственно, и выше: абсолютный их масштаб различен, но пропорции остаются одинаковыми. Этот принцип, носящий в геометрии название «подобных фигур», служит для Альберти залогом той непреложной гармонии форм, той «музыки пропорций», которая, согласно его трактату, составляет главную основу художественного воздействия архитектуры. Последняя и самая крупная работа Альберти — церковь Сайт Андреа в Мантуе — была спроектирована им по заказу Лодовико Гонзага. Но и в ее осуществлении Альберти не принял непосредственного участия. К построению Сайт Андреа было приступлено уже после смерти мастера в 1472 году, по его рисункам и моделям, а купол был возведен только в XVIII веке архитектором Ювара. В плане Сайт Андреа представляет собой один продольный корабль, крытый мощным цилиндрическим сводом на пересечении с поперечным кораблем, раскрывающимся в глубокое купольное пространство. По бокам продольный и поперечный нефы сопровождаются капеллами. В комбинации этих капелл Альберти выходит за пределы схемы раннего Ренессанса, которую мы наблюдали в церквах этого периода, и предвосхищает принципы классического стиля. Капеллы различной величины: маленькие квадратные капеллы крыты куполами и открываются в главный неф узкими дверями; с ними чередуются большие капеллы, крытые сводами и открывающиеся в главное пространство во всю свою ширину. Таким образом, от простой рядоположности одинаковых элементов, свойственной раннему кватроченто, Альберти приходит к типичному приему развитого Ренессанса — к ритмическому чередованию, к группировке различных элементов. Вместе с тем каждая капелла представляет собой совершенно самостоятельное, замкнутое от соседних пространств целое: для того чтобы из одной капеллы попасть в другую, нужно снова выйти в главный неф. Иными словами, в церкви Сайт Андреа Альберти формулирует с полной ясностью тот принцип стиля Ренессанса, который можно назвать принципом индивидуализации пространства. Что касается внутренности церкви Сайт Андреа, то благодаря чрезвычайно светлому куполу Ювары теперешний облик церкви, несомненно, сильно разнится от первоначальных намерений Альберти. В эпоху кватроченто такими ослепительными потоками света, такими контрастами густых теней архитектура не оперировала. Все же главную идею интерьера Альберти можно почувствовать и теперь. Эта идея — в полном преодолении готических методов, разлагающих стену на множество тонких устоев, и в возвращении к мощной пластической массе стены. Во всем огромном интерьере Альберти нет ни одной колонны. Но наиболее яркое свое отражение теоретический дух Альберти нашел в фасаде Сайт Андреа. То, что мастеру не удалось закончить в Tempio Malatestiano (Темпио Малатестиано, церковь Сан Франческо в Римини, прозванная храмом Малатесты), то Альберти завершил здесь. Как и в Римини, фасад Сайт Андреа не вытекает органически из внутренней структуры здания. Он — декорация, маска, мнимость, все элементы которой, вплоть до венчающего фронтона, заимствованы из античного репертуара. В фасаде церкви Сайт Андреа следует отметить прежде всего строгое подчинение всех пропорций принципу «золотого сечения», тому самому принципу, который несколько позднее друг Леонардо да Винчи, математик Лука Пачоли, объявил «матерью и царицей искусств». Еще важнее впервые примененные Альберти высокие пилястры, которые, проходя сквозь три этажа боковых ниш, объединяют весь фасад в один большой этаж. Этот так называемый «большой ордер» служит еще одним связующим звеном между архитектурной концепцией Альберти и стилем барокко. Начиная с Микеланджело и Палладио «большой ордер» вообще становится излюбленным мотивом европейской архитектуры. Творчество Леоне Баттиста Альберти, как творчество типичного теоретика, интересно не само по себе, не столько реальными достижениями, сколько принципиальными возможностями, которые в нем скрыты для дальнейшего. Как художественные произведения, Темпио Малатестиано и Сайт Андреа в Мантуе — сухи, безжизненны, отвлеченны по своим формам. В них нет и следа той кипучей творческой жизни, которую излучают все произведения Брунеллески. Но зато они полны мыслей и проблем, чреватых дальнейшим развитием. Несмотря на то, что все постройки по планам Альберти возведены далеко за пределами Рима, фактическая деятельность Альберти протекала почти исключительно в Риме; в Риме и в Средней Италии она и оставила свои самые заметные следы. По возвращении пап из «Авиньонского пленения» Рим все более и более стал делаться центром национальной итальянской культуры. Разумеется, и в других больших городах Италии вокруг светских властителей собирались многочисленные представители науки и искусства. Но владычество этих светских меценатов, за исключением, может быть, Медичи, было слишком тираническим, слишком мало опиралось на народную массу. Политика их заключалась главным образом в том, что, лавируя между притязаниями чужеземных сил, испанцев, Габсбургов, французов, они по очереди предавали им Италию. С другой стороны, усилия и духовный авторитет папства в тех условиях все же способствовали сохранению национально-культурного единства Италии, несмотря на ее полную политическую раздробленность. В реставрации могущества и славы Рима Альберти, как советнику двух пап-гуманистов, Николая V и Пия II, принадлежит немалая роль. Ибо именно он был духовным инициатором широких строительных планов по обновлению Рима. Именно в его мастерской впервые зародились новые идеи планомерного городского строительства, искусства, в средние века почти забытого. Планы по обнесению Ватиканского города стеной, по проведению водопроводной сети, по постройке мостов, по восстановлению заброшенных церквей, исходили, несомненно, из кабинета Альберти и затем воплощались кем-либо из его последователей, чаще всего Бернардо Росселлино. Альберти принадлежала также идея совершенно новой планировки и застройки беднейшего и теснейшего ватиканского квартала, так называемого Борго, с правильно расходящимися от площади Святого Петра улицами, с колонными галереями и новым ватиканским дворцом. Этому грандиозному проекту Альберти так же не суждено было осуществиться, как и его идеям по постройке нового собора Святого Петра на месте старой, предназначенной к разрушению, базилики. Мы знаем, что Бернардо Росселлино успел по планам Альберти начать только постройку хора позади базилики Святого Петра. Проект Альберти впоследствии подвергся дополнениям Браманте и окончательно был устранен, когда руководство постройкой собора Святого Петра перешло к Микеланджело. Но если в самом Риме не сохранилось почти никаких конкретных следов организационной деятельности Альберти, то у нас есть другая возможность познакомиться с идеями Альберти в области городского строительства. После того как гуманист Эней Сильвио Пикколомини занял папский престол под именем Пия II, у него, под влиянием Альберти, зародилась мысль возвысить место своего рождения — маленький провинциальный городок Корсиньяно, до значения столицы, придать ему монументальную оправу, создав в центре города объединенную группу общественных зданий в новом архитектурном стиле. Так Корсиньяно превратилось в Пиенцу, и это был первый в Италии случай планомерной застройки города в широком масштабе. Для выполнения плана папы был привлечен Бернардо Росселлино, постоянный сотрудник Альберти, и есть все основания думать, что в основу построек Бернардо Росселлино была положена концепция Альберти. Вокруг небольшой сравнительно площади, с искусным использованием уже сложившейся архитектурной и пейзажной ситуации, были сгруппированы в тесном взаимном созвучии собор и четыре палаццо. Для того чтобы полнее уяснить себе художественно-историческое значение этой концепции Альберти, вернемся несколько назад и составим себе представление о характере готической площади. Как типичный пример североготической площади можно назвать рыночную площадь в Нюрнберге с господствующей над ней церковью богоматери. Готические улицы тесны и кривы, стены домов врезываются в их пространство фонарями и балконами и завершаются ломаной линией высоких фронтонов. Готическая площадь случайна и асимметрична. Сама вертикальная тенденция готического стиля, пренебрегающая всяким горизонтальным делением, ведет к отрицанию простора и протяженности площади. Готический собор не стоит на земле, а вырастает из нее. Поэтому-то он не нуждается в свободном базисе площади, он не только не теряет в своем художественном значении от тесной застройки домами, но прямо-таки поощряет такую застройку: тесное окружение готического собора содействует его художественному эффекту, усиливает вертикальный взлет его линий. К тому же фасад готического собора, лишенный спокойных и широких плоскостей, не годится для рассмотрения издали, его частые, острые грани теряют в своей силе на отдалении. Поэтому-то готический собор никогда не бывает подготовлен перспективой широкой, прямой улицы, а внезапно и неожиданно появляется из-за домов, вырастая у самых ног зрителя. Совсем другие принципы положены в основу площади Ренессанса. Как один из наиболее классических примеров напомню план площади Сантиссима Аннунциата во Флоренции. Подобно большинству средневековых площадей, площадь святой Аннунциаты возникла не сразу, по первоначальному плану, а путем постепенной застройки, но вместе с тем сохраняя принципиальное единство замысла. Сначала Брунеллески определил одну ее стену портиком Воспитательного дома, потом Антонио да Сангалло уравновесил его колонной галереей с противоположной стороны, и, наконец, Каччини завершил уже в начале XVII века границы площади аркадой Сантиссима Аннунциата. Для того чтобы восстановить в своем воображении ренессансный облик площади Аннунциаты, нужно только отвлечься от конной статуи Фердинанда Медичи и двух фланкирующих ее фонтанов, которые прибавлены уже в эпоху барокко и которые придают площади определенное направление, известную динамику, несвойственную площадям Ренессанса. В эпоху Ренессанса статуи и монументы вообще никогда не воздвигались на середине площади, а стояли или в нишах, или если и не прислонялись непосредственно к стене, то все же получали от нее опору и фон. Площадь Ренессанса по большей части правильна, хотя и не так математически точна, как площадь классицизма XVII века, почти всегда прямоугольна и всегда замкнута. Функции улицы и площади в эпоху Ренессанса резко разграничены: улица служит сообщению, движению, площадь предназначена для пребывания. Поэтому, в отличие от стиля барокко, площадь Ренессанса не имеет преобладающего направления, не служит прологом к какому-нибудь одному господствующему зданию, не имеет широкого, издалека подготовляющего ее входа. Пропорции площади Ренессанса не слишком малы, как в готике, но и не слишком велики, как в эпоху барокко; они рассчитаны на человеческий масштаб, на то, чтобы человек не терялся в ее пространстве, и поэтому ограничивающие площадь здания не чересчур велики и всегда завершаются непрерывными горизонтальными линиями крыши. Если мы теперь обратимся к тому архитектурному ансамблю, который Бернардо Росселлино по указаниям Альберти создал в Корсиньяно-Пиенце в шестидесятых годах кватроченто, то заметим, наряду с ренессансными чертами, зарождение новой концепции площади. Площадь расположена на главной узкой и изгибающейся улице города, но вне ее оси и, таким образом, сохраняет замкнутый, статический характер площади Ренессанса. Центральное место на площади занимает фасад собора; справа его фланкирует палаццо Пикколомини, которое папа выстроил для себя, а слева — епископский дворец; противоположную от фасада собора сторону занимает портик Палаццо Коммунале, отделенный узеньким переулком от недостроенного палаццо Амманати. Этот переулок, вопреки тенденциям Ренессанса, выходит на самую середину площади, но он так узок, что, приближаясь по нему к площади, зритель видит только средний портал собора. Элементы Ренессанса ярко выражены и в оформлении отдельных фасадов. Фасад палаццо Пикколомини трактован Бернардо Росселлино с точным соблюдением той схемы, которую Альберти дал в палаццо Ручеллаи во Флоренции. Фасад же пиенцского собора явно вдохновлен декоративной кулисой Темпио Малатестиано. Особенно же чистые формы стиля Ренессанса имеет колодезь, помещенный почти на углу площади и прислоненный к стене палаццо Пикколомини. И тем не менее в архитектурной концепции Альберти есть идеи, предвещающие стиль барокко. Прежде всего присмотримся к плану палаццо Пикколомини. Главный вход в палаццо расположен, правда, незаметно — не с площади, а с улицы. Но, вступая через этот главный портал, зритель видит не только аркады внутреннего дворика, но через них открываются просветы в сад и еще дальше — в голубой туман холмистого пейзажа. Таким образом, замкнутость внутреннего дворика палаццо, так тщательно охранявшаяся стилем Ренессанс, здесь нарушена, в спокойное бытие палаццо Ренессанса проникает динамика наружной жизни, архитектура входит в непосредственное соприкосновение с пейзажем. Перед нами зародыш излюбленной концепции стиля барокко, воспринимавшего внутреннее пространство в неразрывной связи, во взаимной борьбе с пространтством наружным, не как бытие, а как становление, развитие. То же самое предчувствие барокко отразилось в композиции Пиенцской площади. Боковые стены палаццо, фланкирующих собор, расходятся в своих осях и освобождают взгляду путь в пейзаж, через реку, на цепь пологих холмов. Эти просветы в даль создают особое мечтательное настроение, томление по неизвестному, чуждое уравновешенному духу Ренессанса. Влияние Альберти определяет всю римскую архитектуру второй половины кватроченто. Последним созданием, проникнутым отзвуками идей Альберти, но стоящим уже на самом пороге классического стиля, является так называемая Канчеллерия, то есть дворец папской канцелярии. Вазари автором этого здания, первоначально задуманного как дворец кардинала Риарио, долгое время считал Браманте. Но с тех пор как выяснилось, что Браманте появился в Риме только около 1500 года, а постройка Канчеллерии начата уже в 1485 году, ее правильнее рассматривать не как начало классического стиля, а как завершение архитектуры кватроченто. Если строитель Канчеллерии и неизвестен, то концепция ее фасада безусловно восходит к идеям, а может быть, и конкретному проекту Альберти. Фасад более всего напоминает палаццо Ручеллаи. Канчеллерия имеет три этажа, причем нижний этаж трактован зодчим как массивный постамент для всего здания, а два верхних, как и в палаццо Ручеллаи, расчленены пилястрами. Но пилястры удвоены, так что создается типичная для классического стиля ритмическая координация групп — пилястра, окно, пилястра. Что фасад Канчеллерии еще проникнут духом кватроченто, показывает рустика и отсутствие центрального портала. Правда, рустика очень нежна, ее швы приведены в строгую систему, а в некоторых частях фасада вертикальные швы рустики даже вовсе сглажены. Вместе с тем в фасаде есть ряд типичных признаков классического стиля. Во-первых, окна без средней колонки; во-вторых, высокие цоколи для пилястров, благодаря чему окна уже не стоят непосредственно на карнизах и благодаря чему достигнуто, наконец, полное совпадение наружного деления фасада с внутренними границами этажей. Наконец, и это, пожалуй, самое главное, — по краям стены фасада имеются выступы, так называемые ризалиты, довольно плоские в главном фасаде и более глубокие в боковых фасадах. Другими словами, стена палаццо потеряла характер готической бесконечной плоскости, она представляет собой теперь некое пластическое целое и вступает в соприкосновение, в борьбу с окружающим пространством, высылает ему навстречу свои форпосты. Заканчивая обзор итальянской архитектуры кватроченто, необходимо упомянуть еще об одном выдающемся мастере второй половины XV века. Деятельность Лучано да Лаурана, родом из Далмации, протекала главным образом в Умбрии. Его творчество может служить особенно ярким примером переходного характера эпохи кватроченто. В архитектуре Лучано да Лаурана уживаются самые противоречивые тенденции — пережитки готики с классическими формами и с предчувствиями барокко. Первым достоверным произведением Лучано да Лаурана является так называемое палаццо Дукале в Пезаро, которое Лаурана начал строить в 1465 году по заказу Сиджизмондо Сфорца. Верхний этаж палаццо, включающий один большой зал, опирается на широкую аркаду. Если присмотреться ближе, то видим, что нижний этаж имеет шесть арок, то есть шесть осей, тогда как верхний этаж имеет только пять окон, пять осей. Таким образом, оси нижнего и верхнего этажа между собой не совпадают: в нижнем этаже на центр фасада приходится столб, в верхнем же — отверстие окна: каждый этаж рассматривается сам по себе, в полной независимости от декоративного ритма. С другой стороны, стены палаццо Дукале представляют собой сплошную массу, лишенную беспокойного мерцания рустики; окна свободны от средней колонки и обрамлены пилястрами и антаблементом — то есть оформлены по идеальной классической схеме. И, наконец, столбы, поддерживающие арки, — они взрезаны поперечной сетью рустики, как бы опоясаны бандажами: это — предвкушение крайнего своеволия барочного стиля. На такой же свободной игре крайностей и противоречий основано и главное произведение Лучано да Лаурана — палаццо Дукале в Урбино, которое Лаурана начал постройкой около 1470 года для одного из крупнейших меценатов кватроченто, для герцога Федериго да Монтефельтре. Готические пережитки сказываются в беспорядочности плана дворца, живописно разбросанного по неровной поверхности почвы. Снаружи готический вид придают дворцу две круглые угловые башни, скрывающие средневековые винтовые лестницы. Но с суровой готикой башен спорит жизнерадостный и задуманный в духе классического стиля мотив открытых лоджий, чередующихся одна над другой во всех четырех этажах. Если в фасадах урбинского палаццо Ренессанс смешивается с готикой, то в композиции внутреннего дворика классические элементы преломляются своеобразными предчувствиями барокко. Аркады этого дворика и опирающийся на них второй этаж, расчлененный пилястрами, трактованы в строгом классическом стиле. Углы аркад, в отличие от двориков Микелоццо, замыкаются высокими пилястрами, которым во втором этаже соответствуют удвоенные пилястры — типичный конструктивный мотив Высокого Ренессанса. Но в двух верхних этажах дворика Лаурана отступает от классической схемы: каждый следующий полуэтаж отступает назад по сравнению с предшествующим. Этот мотив расширяющегося кверху пространства дворика, полный неожиданной прелести, представляет собой одну из первых попыток преодолеть суровую замкнутость тосканского палаццо кватроченто, выйти из рамок классических принципов. Если мы теперь мысленно восстановим картину архитектуры кватроченто, то должны будем признать, что о каком-либо единстве стиля в ее развитии не может быть и речи. И если начало века в творчестве Брунеллески и его последователей, казалось, такое единство обещало, то к концу века, в связи с разделением Италии, итальянская архитектура оказалась от этого единства еще дальше. В самом деле, достаточно вспомнить, что почти в одно и то же время, примерно в восьмидесятых годах XV века, возникли столь различные, столь противоположные по своим художественным эффектам постройки, как Канчеллерия в Риме, как палаццо Строцци во Флоренции и палаццо Дукале в Урбино, как лоджия дель Консильо в Вероне и палаццо Дарио в Венеции, чтобы признать, что полностью единого архитектурного стиля тогда в Италии не существовало. Эпоха кватроченто, это — эпоха перехода, борьбы и колебаний.X
ПОСЛЕ ТОГО как на анализе итальянской архитектуры мы подошли к самому порогу Высокого Ренессанса, вернемся назад, чтобы проследить эволюцию художественного мировоззрения кватроченто в области скульптуры. С итальянской скульптурой мы расстались в глухой период последнего десятилетия XIV века, когда, несмотря на обилие скульптурных задач (например, по украшению фасада Флорентийского собора) и несмотря на большое количество скульпторов, числившихся в соборной мастерской, творческая жизнь в области скульптуры почти замирает. Этот художественный застой на самом рубеже XV века неожиданно сменяется блестящим взрывом творческой энергии. Мы уже познакомились с первым показателем этого творческого подъема — с конкурсом на изготовление вторых бронзовых дверей флорентийского баптистерия, состоявшемся в 1401 году. Это пробуждение итальянской скульптуры к новой жизни связано с поколением художников, родившихся в семидесятых и восьмидесятых годах XIV века. Четыре имени прежде всего встают в памяти, как имена инициаторов нового художественного движения, — сьенца Якопо делла Кверча и флорентийцев — Нанни ди Банко, Гиберти и Донателло. Все четверо резко отличаются друг от друга особенностями художественного дарования и темперамента, но всех четверых объединяет неиссякаемый огонь пластической фантазии. Вряд ли во всей истории европейского искусства мы найдем другое поколение, которое бы мыслило так пластично, как это поколение тосканцев, родившихся в конце XIV века. Начнем со старшего в этом первом поколении скульпторов кватроченто — с Нанни ди Банко. Вазари ошибочно называет Нанни ди Банко учеником Донателло. На самом деле отношение скорее было обратным, так как Нанни ди Банко родился около 1375 года, то есть лет на десять раньше Донателло[30]. Нанни ди Банко не принадлежал к кругу гуманистически настроенных художников раннего кватроченто. Он вышел из среды простых каменотесов; и его связь с традициями треченто выразилась прежде всего в том, что он работал исключительно в мраморе. Нанни ди Банко начинает свою художественную деятельность поздним готиком. Вместе со своим отцом Антонио и несколькими другими скульпторами старшего поколения Нанни ди Банко принимает участие в украшении одного из боковых порталов Флорентийского собора, так называемой Порта делла Мандорла. Если молодому Нанни и пришлось согласовать свою декоративную фантазию с общей готической схемой портала, намеченной его старшим коллегой Джованни д’Амброджо, то тем решительнее он обнаруживает свое тяготение к античным формам в разработке отдельных декоративных мотивов. Особенно тонкое чутье классических форм и пропорций Нанни ди Банко проявляет в маленьких фигурках, оживляющих орнаментальное обрамление портала. Дальнейшие шаги Нанни ди Банко на пути Ренессанса можно наблюдать в группе «Четырех святых» (так называемые Quattro Coronati), украшающей нишу в Ор Сан Микеле. Здесь Нанни ди Банко не только наделяет святых головами римских риторов, но стремится воспроизвести весь торжественно-неподвижный тон римской портретной группы. Нанни ди Банко принадлежит заслуга создания первой многофигурной группы европейского искусства, задуманной как некое законченное пластическое целое. Перед этой группой нам становится вполне ясным, почему у скульпторов раннего кватроченто пробудился такой жадный интерес к классике, чего они прежде всего искали в античном искусстве и в чем заключается принципиальное отличие между античной скульпторой и скульптурой кватроченто. Телесность, объемность статуи и прочность ее статики — вот чем в первую очередь античная скульптура завоевала внимание флорентийских новаторов, так как эти качества как нельзя более отвечали их собственному художественному мировосприятию. Обратите внимание, как округлы, как телесны статуи Нанни ди Банко по сравнению хотя бы со скульптурами Джованни Пизано и как во всех четырех фигурах почти без изменения повторяется один и тот же мотив неподвижного, прочного стояния. Пожалуй, во всей итальянской скульптуре треченто мы не найдем ни одной статуи, которая бы действительно стояла так же твердо, решительно попирая ногами постамент. Остановить непрерывное движение готики — вот чего добивалось поколение флорентийских новаторов на рубеже кватроченто. Не удивительно, что за помощью они прежде всего обратились к античному искусству. Но античная пластическая концепция не могла полностью удовлетворить скульпторов кватроченто, ибо ей не хватало очень важной предпосылки стиля Ренессанс — представления пространства. Античная скульптура в основе своей была самоизображением, ощущением своего собственного тела, своего рода танцем и мимикой (недаром античная мысль определяла искусство, как mimesis). Античная скульптура давала только тело, скульптура же кватроченто стремится к оформлению тела в пространстве. Эту разницу легко почувствовать на группе Наннн ди Банко, на том, как она поставлена в нишу. В античных фронтонных группах глубина фронтонного пространства была совершенно не использована: все фигуры размещались у передней плоскости фронтона. Нанни ди Банко, напротив, заполняет своими фигурами всю глубину ниши. В античном искусстве архитектура давала статуям только абстрактный фон, в искусстве Ренессанса — реальную пространственную арену действия. Благодаря этому глубокому внутреннему разногласию культ античных традиций рано или поздно должен был принести художникам кватроченто серьезное разочарование; гению Донателло пришлось, как мы увидим, испытать это разочарование с болезненной остротой. В творчестве Нанни ди Банко, как художника менее глубокого и менее темпераментного, эта размолвка с классическими идеалами прошла далеко не так резко; но все же и у него разочарование классикой несомненно. Пределом классических увлечений Нанни ди Банко следует считать сидящую статую евангелиста Луки для фасада Флорентийского собора. Заказ на статую святого Луки Нанни ди Банко получил в 1408 году, одновременно с Донателло и представителем старшего поколения, Никколо Ламберти, которым поручены были статуи святого Иоанна и Марка. По договору статую четвертого евангелиста должен был изготовить тот из художников, который всего лучше справится со своей задачей. Однако это условие не было выполнено, и в 1410 году заказ на статую Матфея получил второстепенный ученик Донателло Бернардо Чуффаньи. В 1415 году все четыре колосса были готовы. Историческое значение этого цикла статуй, пожалуй, не менее важно, чем конкурсных рельефов для дверей баптистерия. Перед скульпторами встала здесь пластическая задача, забытая в течение всего средневековья. Готическая пластика знала только стоящую фигуру. Но это стояние отнюдь не обозначало покоя — до кончиков пальцев, до мельчайшего изгиба складок готическая статуя была пронизана непрерывным движением и устремлением кверху. Мотив же сидящей статуи означает остановку, неподвижность, бремя земного притяжения. Поэтому-то проблема сидящей статуи была так чужда и трудна для готических скульпторов. Статуи сивилл Джованни Пизано, например, производят такое впечатление, как будто они не сидят, а согнулись, скорчились в стоячей позе. Напротив, пластической концепции Ренессанса мотив сидящей статуи должен был быть очень близким, так как позволял развернуть максимальное богатство пластических контрастов на основе полного статического равновесия. Цикл сидящих статуй евангелистов и был первым опытом в этом направлении. Приведем три лучших статуи этого цикла, наглядно демонстрирующих развитие пластической проблемы. Очевидно, — начальное звено этой цепи — статуя святого Марка, которую Никколо Ламберти выдержал еще в традициях треченто. Мотив сидения не удался художнику. Благодаря равномерному прихотливому узору готических складок контраст между нижней и верхней частью тела остался неподчеркнутым: фигура евангелиста кажется не опирающейся всей тяжестью вниз, а, наоборот, поднимающейся с сиденья. Святой Иоанн Донателло дает наиболее совершенное воплощение проблемы. Величавый образ, мощные формы которого послужили источником вдохновения для Микеланджело во время работы над статуей Моисея. Зритель почти физически ощущает массивность тела евангелиста, прочность его позы, тяжелое бремя его больших рук. Статуя Нанни ди Банко занимает в этом цикле как бы среднее положение. Она спокойней, телесней и монументальней, чем статуя Никколо Ламберти, но все же ей не хватает идеального равновесия статуи Донателло. В мимике святого Луки — с опущенными веками и словно насмешливо-презрительным взглядом, в жесте подбоченившейся руки, в движении откинутого назад плеча — есть несомненный элемент беспокойства и напряжения. Сквозь классическую внешность опять начинает проступать дух готики. Очевидно, Нанни ди Банко не нашел в античном пластическом каноне полного удовлетворения, и врожденные ему готические традиции начинают брать верх над классической модой. Нанни ди Банко отходит от Донателло, в те годы крайнего приверженца классических идеалов, и сближается с более консервативным Гиберти. Две следующие работы Нанни ди Банко — статуи святого Филиппа и святого Элигия в нишах Ор Сан Микеле — обнаруживают явные признаки этой реакции. Изгиб тела Элигия, мягкая бахрома и скомканные складки плаща Филиппа, особенно же чуть жеманный жест его правой руки — красноречиво говорят о возвращении Нанни ди Банко к готической концепции. Но, несомненно, самой готической является последняя работа Нанни ди Банко, так называемая Мадонна делла Чинтола, рельеф, украшающий остроконечный фронтон Порта делла Мандорла. Рельеф изображает мадонну в овале (так называемой мандорле), окруженную ангелами, когда она передает свой пояс апостолу Фоме. Из всех выдающихся скульпторов раннего кватроченто Нанни ди Банко обнаруживает наименьший интерес к проблеме рельефа. Но и на его немногочисленных рельефах можно проследить тот же процесс готической реакции. К периоду наибольшего увлечения Нанни ди Банко классическими формами относится рельеф под нишей «Четырех святых». Рельеф изображает святых, занятых своими любимыми ремеслами, причем под видом двухскульпторов, одного, высекающего статуэтку Амура, и другого, обмеривающего капитель, мастер дал, как полагают, собственный портрет и портрет своего отца. В приемах рельефа Нанни ди Банко решительно отступает от традиционной концепции рельефа в эпоху треченто и стремится возможно ближе подойти к античной схеме — к типу рельефа-ящика, в котором и фигуры и предметы поставлены в чистом профиле и выпукло моделированы. Нанни ди Банко не забывает воспроизвести даже такой специфический признак античного рельефа, как «исокефалию» (то есть расположение всех голов на одном уровне). Совершенно иная пластическая концепция лежит в основе рельефа, украшающего фронтон Порта делла Мандорла. И формат рельефа, и заполнение фигурами всей плоскости рельефа, и беспокойный узор развевающихся одежд — все находится в самом резком противоречии с классическим каноном рельефа и говорит о возвращении Нанни ди Банко к готическим традициям. Но мало того что Нанни ди Банко порывает с гипнозом классических форм; опираясь на готические традиции, он пытается создать совершенно новый, незнакомый античному искусству вид рельефа. В самом деле, где происходит действие рельефа? В глубоком пространстве, в воздухе, в небесных сферах, только нижними фигурами соприкасаясь с земной почвой. Другими словами, фон рельефа обозначает уже не плоскость, не реальную непроницаемую границу, а иллюзию бесконечной глубины. Таким образом, Нанни ди Банко, правда еще очень робко, намечает принципы так называемого живописного рельефа, того вида рельефа, который так увлекал и волновал его сверстников — Гиберти и Донателло. Еще более ярко ту же картину развития демонстрирует творчество Якопо делла Кверча. Родом из Сьены, из самого готического города Италии, Якопо делла Кверча даже в самом образе жизни сохранил типичные черты готического ремесленника. Как бродячий каменщик, кочует он с места на место в поисках заказов, работая то в Сьене, то во Флоренции, то в Лукке или Болонье. Из всех великих сверстников Якопо делла Кверча является одновременно и самым отсталым и самым передовым. С одной стороны, его искусство не имеет непосредственных предшественников, а опирается на традиции старой пизанской школы; с другой стороны, его пластические идеи не были поняты современниками и унаследованы гораздо позднее молодым Микеланджело. Кверча родился около 1374 года в Сьене и был, вероятно, учеником своего отца — ювелира Пьеро д’Анджело. Характерно, однако, что, как и Нанни ди Банко, Кверча чрезвычайно мало уделял внимания любимому материалу пластики кватроченто, бронзе, и все свои крупные работы выполнил в камне. Поле деятельности Кверча ограничено почти исключительно декоративной скульптурой. Первая самостоятельная работа Якопо делла Кверча до нас, к сожалению, не дошла. По рассказам Вазари, двадцатилетний Кверча сделал большую конную статую кондотьера Джованни д’Аццо Убальдини из дерева, шерсти, просмоленной пакли и гипса. Эта статуя простояла некоторое время в Сьенском соборе и потом была разрушена. В 1401 году Кверча попадает во Флоренцию и принимает участие в знаменитом конкурсе для дверей баптистерия, но, как мы знаем, безуспешно. Однако пребывание во Флоренции, общение с флорентийскими художниками, атмосфера новаторства и увлечения античной культурой — все это должно было оставить свой след в душе молодого, одаренного воспламеняющимся темпераментом художника. В 1406 году мы застаем Кверча в Лукке. Получив заказ на гробницу юной супруги местного тирана, Иларии дель Каррето, он стремится использовать в этом произведении свои флорентийские впечатления. Гробница Иларии дель Каррето является произведением с ясно выраженными классическими тенденциями. Но и здесь классицизм Кверча ограничивается чисто внешней, декоративной ролью: мотивом гирлянд, которые поддерживают обнаженные амурчики. В гробнице Иларии Кверча впервые применяет в таком широком масштабе излюбленный мотив скульптуры кватроченто — так называемых путти, обнаженных ребятишек, представляющих собой нечто среднее между христианскими ангелочками и античными амурчиками. По существу же своего общего замысла — лежащая фигура усопшей с длинными параллельными складками одежды и с маленькой собачкой (символ верности), прикорнувшей у ног госпожи, — гробница задумана в духе готических традиций. С каждым следующим произведением Кверча классические тенденции, заимствованные им во Флоренции, борются с элементами готики. В купели, исполненной Кверча для баптистерия в Сьене, классические и готические элементы уживаются рядом в непосредственном соседстве. Шестигранная купель, украшенная рельефами и статуями в полураскрытых нишах по углам, задумана в готических традициях и по своей композиции более всего напоминает кафедры Никколо и Джованни Пизано. Дарохранительницу, или киворий, поднимающийся над водоемом купели, с пилястрами, полукруглыми нишами и фронтончиками Кверча, напротив, скомбинировал из классических элементов. Однако в общей концепции памятника преобладает готический дух. Обратите внимание, как киворий, словно цветок на стебле, вырастает из воды купели и как из купола кивория, в свою очередь, с растительной энергией поднимается тонкая надстройка, увенчанная статуей Крестителя. Эта неустойчивая, растительная, если так можно сказать, конструкция явно отражает готические идеи. Для того чтобы яснее дать почувствовать наглядное различие с конструктивными идеями Ренессанса, сошлюсь на киворий Бенедетто да Майано, исполненный полвека спустя для церкви Сан Доменико в Сьене. Здесь конструкция кивория задумана как логический контраст опоры и тяжести. Вместо водной поверхности купели базой для кивория Бенедетто да Майано служит массивный постамент, в свою очередь разбивающийся на несущую и опирающуюся части. Сам киворий снабжен ножкой, как чаша, которая может быть снята и вновь поставлена на постамент. Что касается рельефов, украшающих купель Кверча, то только один из них исполнил сам Кверча, три других — Гиберти и Донателло, а остальные рельефы — второстепенные сьенские мастера кватроченто. К анализу этих рельефов мы еще вернемся в связи с творчеством Донателло. Еще сильнее, чем в сьенской купели, готическая реакция проявляется в алтаре, который Кверча исполнил для церкви Сан Фредиано в Лукке. По своему декоративному замыслу алтарь Кверча представляет собой пятистворчатый полиптих, с типично готическими трехлопастными арками и фиалами, в том виде, какой живописцы треченто любили избирать для своих алтарных икон. Столь же готичны фигуры мадонны и святых, заполняющие ниши алтаря, длинные, изогнутые, с маленькими головами, совершенно скрытые под изобилием круглых, переплетающихся и вздувающихся складок. Но в алтаре Сан Фредиано есть нечто большее, чем готика. В том, как статуи сжаты в узких, еле вмещающих их рамах ниш, в контрасте их тихих, мечтательных поз и бурного орнамента из одежд чувствуется какой-то диссонанс, какое-то духовное напряжение, выходящее за пределы и готики и Ренессанса. Этот внутренний диссонанс более всего напоминает творчество Микеланджело. Недаром Микеланджело так любил Кверча. Это ощущение усиливается еще больше в двух самых крупных работах Якопо делла Кверча. Первая из них, так называемая Фонте гайя — колодезь на главной площади в Сьене, который Кверча закончил в 1419 году, к сожалению, дошла до нас в сильно разрушенном виде. Колодезь этот отличается на редкость простыми, почти примитивными формами прямоугольного ящика, открытого спереди. Просты, примитивны и мощны также элементы декоративного убранства: в плоских полукруглых нишах — фигуры богоматери и добродетелей, по бокам — два рельефа с «Сотворением Адама» и «Изгнанием из рая», и на боковых оградах — две аллегорические статуи. Все скульптуры Фонте гайя сильно пострадали, но даже и в разрушенном виде они сохранили много от своей первоначальной монументальности. По своим могучим формам фигуры Кверча предвосхищают сивилл Микеланджело. Что особенно поражает в скульптурах Кверча, это одновременное соединение в них свойств готики и барокко. Готика проявлялется в накоплении складок, скрывающих структуру тела, в полной произвольности их динамической игры. Барокко проявляется в том, что обработка поверхности лишена у Кверча готической мелкой узорчатости, что складки падают широкими, тяжелыми и мягкими массами. В этом сочетании массивности и изысканности формы, ее простоты и искусственности красноречиво сказывается переходная роль стиля Кверча. С 1425 года мы застаем Кверча в Болонье, где до самой своей смерти, в 1438 году, он работает над скульптурными украшениями портика церкви Сан Петронио. Группу статуй в люнете Кверча собственноручно не успел довести до конца. Его резцу принадлежит мадонна и святой Петроний, тогда как статую святого Амвросия закончил один из учеников Кверча. Пять рельефов над дверями изображают детство Христа, а в десяти рельефах на боковых пилястрах портала рассказана библейская история от сотворения человека и до жертвоприношения Исаака. В этом последнем цикле Кверча достигает наибольшей зрелости своего пластического стиля. Что особенно поражает в рельефах Кверча, это грандиозное упрощение и обобщение композиции, которое отличает его от всех скульпторов кватроченто. Кверча ограничивается двумя, самое большее — тремя фигурами, пейзаж сведен к символическим намекам, к легкому взрыхлению фона, формы тела трактованы в широких, обобщенных массах. Но эту простоту формы у Кверча отнюдь нельзя назвать классической, потому что она основана не на равновесии и гармонии, а, напротив, на диссонансах и подчеркиваниях. Взгляните, например, на линии, очерчивающие тела Адама и Евы двумя параллельными кривыми, или на жест растопыренной руки Адама, или на треугольник нимба бога-отца — в них сказывается такой почти первобытный пафос и такая утрировка движений, которая в корне противоречит идеям классицизма. Кверча дано было предвидеть далекое будущее, но преодолеть гипноз готических преданий ему так и не удалось. Не сумел окончательно преодолеть это готическое внушение и третий выдающийся представитель скульптуры раннего кватроченто — Лоренцо Гиберти. Только у Гиберти готическая подоплека стиля не так бросается в глаза благодаря природному изяществу и чувству меры, которые беглый взгляд легко принимает за признаки Ренессанса. В одном отношении, однако, Гиберти более решительно, чем Нанни ди Банко и Кверча, порывает с прошлым и вступает на самостоятельный художественный путь, — а именно в предпочтении бронзы мрамору. Если Нанни ди Банко и Кверча были чистыми скульпторами, то к Гиберти более применимо название пластика. И нужно сказать, что дальнейшее развитие пластики кватроченто пошло скорее по пути, избранному Гиберти. Принципиальное различие между скульптурой и пластикой можно определить следующим образом. Скульптура в камне основана на высекании, то есть отнимании материала, на угадывании в уже имеющейся сырой массе скрытых пластических форм. Работа же пластика, то есть лепка в глине, воске и бронзе, представляет собою прибавление материала, создавание формы заново, из ничего. В этом смысле творческий процесс пластики принципиально родствен живописи. Ведь и живописец, имеющий перед собою чистую поверхность холста, начинает создавать из ничего, путем постепенного накопления материала. Этой принципиальной близостью между пластикой и живописью объясняется то обстоятельство, что бронзовая пластика кватроченто обнаруживает с самых первых шагов такой заметный уклон в сторону живописных проблем. Историческое значение Гиберти в том и заключается, что он был первым решительным поборником живописной скульптуры. Лоренцо Гиберти родился около 1381 года. Его первым публичным выступлением было участие в знаменитом конкурсе 1401 года, из которого, как мы знаем, молодой Гиберти вышел победителем. В результате этой победы Гиберти было поручено изготовить вторые, северные, двери флорентийского баптистерия (первые, южные, двери, как мы знаем, еще в середине XIV века отлил из бронзы Андреа Пизано). С исключительной тщательностью и добросовестностью проработал Гиберти свыше двадцати лет над изготовлением этих дверей и закончил их в 1424 году. Насколько его искусство прочными корнями связано с традициями треченто, видно из того, что в композиции своих дверей Гиберти полностью примкнул к схеме своего предшественника, Андреа Пизано. Двери Андреа Пизано разбиваются на двадцать восемь полей, причем в верхних двадцати полях помещены сцены из жизни Иоанна Крестителя, а в восьми нижних — отдельные аллегорические фигуры. Все рельефы вправлены в типично готические четырехлепестковые рамы; горизонтальные дощечки, опирающиеся на пять консолей, служат ареной действия для фигур. Лоренцо Гиберти удержал в композиции северных дверей и общее число рельефов, и выделение восьми нижних рельефов с аллегорическими фигурами, и готические рамы. На первый беглый взгляд может показаться, что и в трактовке рельефов Гиберти целиком сохранил приемы своего предшественника. Более внимательный анализ показывает, однако, что это не так. В сущности, только одним свойством рельефы Лоренцо Гиберти напоминают рельефы Андреа Пизано — сравнительно небольшим количеством действующих лиц. В чем же сказывается отличие? Цикл рельефов Гиберти посвящен жизни Христа. Но в то время как Андреа Пизано начинает свой цикл с левого верхнего рельефа и кончает его справа, внизу, Гиберти начинает рассказ слева внизу и кончает его правым верхним рельефом. Это как будто внешнее, случайное отличие имеет, однако, очень важную стилистическую подоплеку. Андреа Пизано в своем распределении сюжетов придерживался традиций итальянского треченто, как они были установлены еще Джотто в падуанском фресковом цикле. Гиберти же заимствует вертикальный принцип своего рассказа у северной готики: именно в таком порядке — слева направо и снизу вверх — совершалось чередование сцен в цветных витражах готического собора. Уже это наблюдение показывает, что северные двери Гиберти обнаруживают усиление североготического элемента. К тому же выводу приводит нас и анализ отдельных рельефов. Возьмем для сравнения рельеф Андреа Пизано, изображающий «Встречу Марии и Елизаветы», и рельеф Гиберти с «Изгнанием торгующих из храма». Разница заключается не только в большем драматизме сцены Гиберти, но в самом принципиальном понимании рельефа. Например, отношение между рельефами и рамой. У Андреа Пизано между ними нет стилистического единства — рельеф живет независимой от рамы пластической жизнью. Гиберти же, напротив, стремится к внутреннему согласованию рельефа и рамы, стремится использовать заложенные в раме композиционные возможности. Отсюда — преобладание в рельефах Гиберти диагональных направлений и округлых линий, которые соответствуют четырем сегментам рамы; тогда как у Андреа Пизано эти закругления рамы остаются мертвыми придатками. С другой стороны, Гиберти сильнее подчеркивает пластичность фигур и просторность арены действия. В этом смысле приемы Андреа Пизано ближе к античному пониманию рельефа, тогда как Гиберти решительно от него отступает. Передние фигуры у Гиберти, например, совершенно отделяются от фона и выступают даже за пределы рамы, архитектурные же кулисы, которые у Андреа Пизано имеют вид игрушечных павильонов, приобретают у Гиберти более монументальные пропорции и более массивные формы. Тем не менее рельефы Гиберти лишены настоящей пространственной глубины и производят такое впечатление, будто их действие происходит не позади рамы, а перед рамой, и пространство развертывается не спереди назад, а сзади наперед. Особенно сильно это обратное развертывание пространства чувствуется в последних рельефах цикла: «Вознесение» и «Сошествие святого духа». В «Вознесении», например, поверхность земли как бы отвесно скатывается сверху вниз, от центральной фигуры Христа к спящим воинам на переднем плане. Рельеф «Вознесения» интересен и в том смысле, что Гиберти здесь отказывается от условной, геометрической базы для своих фигур и заполняет закругления рамы неровными уступами земной почвы — прием, который может быть назван скорее живописным, чем пластическим. Несмотря, однако, на отдельные попытки оптического завоевания пространства, Гиберти по существу своей художественной концепции остается в рельефах северных дверей баптистерия типичным тречентистом. Аналогично впечатление и от круглых скульптур Гиберти. Их вообще сравнительно немного, так как центр тяжести в художественной деятельности Гиберти лежит, несомненно, на рельефе, а не на круглой статуе. К первому периоду творчества Гиберти относятся три статуи святых, украшающие ниши в Ор Сан Микеле. С технической стороны их значение очень велико, так как они представляют собой первые большие бронзовые статуи в истории итальянского искусства. Но с художественной точки зрения они сильно отстают не только от одновременных статуй Донателло, но также от статуарных произведений Нанни ди Банко и Кверча. Самая ранняя из статуй Гиберти, изображающая Крестителя и исполненная им в 1412–1415 годах, производит особенно готическое впечатление. Статуя расположена в глубокой нише, почти скрытая в ее полумраке. Непропорционально большая голова со странной, застывшей маской лица, тело, лишенное прочной структуры и скрытое произвольными завитками складок, — во всем отражается типично готическая концепция натуры. Но особенно красноречивым готическим языком говорят мотивы драпировки: длинный конец плаща, который плавным изгибом тянется вокруг правой ноги и слегка отворачивается, чтобы открыть кончики пальцев; или — мотив закрытых плеч и открытой груди. Статуя Матфея, возникшая на пять лет позднее, на первый взгляд производит более классическое впечатление. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что это впечатление основано главным образом на архитектурном обрамлении статуи, где Гиберти, под несомненным влиянием Брунеллески, применил античные декоративные мотивы, и отчасти, может быть, на голове статуи, заимствованной с какого-нибудь римского оригинала. Что касается самой статуи, то ее пластическая концепция остается по-прежнему готической: достаточно взглянуть на плоские складки, на кончик плаща, волочащийся вместе с правой ногой, на закрытые плечи при открытой груди. Наибольшей зрелости своего мягкого, грациозного таланта Гиберти достигает в статуе святого Стефана, законченной в 1429 году. Но и в ней, с ее движением, подобным плавному изгибу буквы S, и с ниспадающими на постамент складками плаща, больше изящной декоративной прелести, чем прочной пластической структуры, чем силы и характера. Статуя Стефана служит переходом ко второму периоду деятельности Гиберти, когда идея живописной пластики с неудержимой силой захватила воображение мастера. Успех северных дверей баптистерия был так велик, что непосредственно за их изготовлением, в 1425 году, Гиберти получил заказ на новые двери, долженствовавшие украшать главную, восточную сторону баптистерия. Эти восточные двери баптистерия, которые восхищенный ими Микеланджело назвал «вратами рая» («Porta del Paradioso»), сыграли исключительно важную роль в истории новой европейской скульптуры. Гиберти проработал над ними двадцать семь лет и закончил за три года до своей смерти, в 1452 году. Первоначальная разработка тематической программы поручена была канцлеру Флорентийской республики, гуманисту Леонардо Бруни, который наметил сюжеты в расчете на традиционные двадцать восемь рельефов, причем восемь рельефов должны были быть посвящены изображениям пророков, а двадцать рельефов — рассказам из Ветхого завета. Эту схему Гиберти сначала уменьшил до двадцати четырех полей — на задней стороне дверей и теперь еще можно видеть следы этого деления. Но затем Гиберти решился на смелый разрыв с традицией. Изображения пророков он переместил из рельефов в ниши обрамления, а количество повествовательных рельефов сократил с двадцати на десять. В смысле оптического завоевания пространства, в смысле осуществления идей живописного рельефа, эта реформа Гиберти несомненно означает огромный шаг вперед. Гиберти получил, таким образом, для своих рельефов гораздо более крупные поля, которые позволяли ему развернуть массовые сцены на широком фоне пейзажа и архитектуры. Но вместе с тем не надо забывать, что стремление Гиберти изобразить в десяти рельефах все подробности программы Бруни невольно заставили его соединить в каждом рельефе множество самых разнообразных событий. С этой точки зрения «Райские двери» представляют собой не только отступление от строгих принципов античного рельефа, но и вообще шаг назад по сравнению с предшествующими, южными дверями, шаг назад в сторону готики, в сторону сукцессивных представлений, почти к пластической концепции Джованни Пизано. В упорной борьбе Гиберти с готическими сукцессивными представлениями за единство оптического восприятия и проходит его работа над рельефами «Райских дверей». Рассказ начинается с левого верхнего рельефа, изображающего «Рай», но идет на этот раз не вертикальным, а горизонтальным чередованием и заканчивается справа внизу «Встречей Соломона с царицей Савской». Рассмотрим теперь развитие художественной концепции Гиберти на некоторых отдельных примерах. Гиберти отверг готическую узорчатую раму и дает своим рельефам квадратную форму и простое прямоугольное обрамление. Два важных принципа живописного рельефа — развертывание действия в глубоком иллюзорном пространстве и постепенное уменьшение выпуклости рельефа начиная от фигур переднего плана, почти отделившихся от фона, и кончая чуть уловимой лепкой поверхности в глубине, — оба эти принципа Гиберти с чрезвычайной прозорливостью намечает уже в первых рельефах цикла. И тем не менее до полного осуществления идеи живописного рельефа еще очень далеко: не хватает главной его предпосылки — единства точки зрения. То, что происходит в райском пейзаже Гиберти, — это целая вереница событий, совершающихся в разное время, причем герои рассказа, бог Саваоф, Адам и Ева, повторяются несколько раз в одном и том же рельефе. Рельеф Гиберти нельзя рассматривать с одной точки зрения; его надо читать как рукопись, начиная слева, с создания Адама, и кончая изгнанием прародителей из рая — направо. Следует отметить также удлиненные, готические пропорции фигур и свойственный Гиберти мягкий, плавный ритм закругляющихся линий. Во втором рельефе цикла, в «Истории Каина и Авеля», в поисках оптического единства, Гиберти еще более подпадает под влияние готических сукцессивных представлений. Здесь рассказ развертывается двумя параллельными группами как бы в обратной перспективе — сзади наперед, словно из прошлого в настоящее. Слева — первая группа сцен: идиллия Адама и Евы, Авель, пасущий овец, и Каин, работающий за плугом. Справа — опять сзади наперед — жертвоприношение, убийство и встреча Каина с Иеговой. При этом характерно для мирного, идиллического темперамента Гиберти, что все сцены с драматическим напряжением действия мастер отодвигает на задний план. В поисках новой пространственной концепции Гиберти обращается в пятом рельефе цикла к помощи архитектуры. Правда, сложный сюжет «Продажа первородства Исавом Иосифу за чечевичную похлебку» заставляет Гиберти разбить свой рассказ на еще большее количество отдельных сцен, и разобраться в их последовательности нелегко даже внимательному глазу, но зато с помощью архитектурных кулис, просторного портика типичной итальянской виллы Гиберти удалось создать большую концентрацию действия. Если отвлечься от исторической канвы рассказа, то зритель может воспринять рельеф Гиберти как простую жанровую сцену из быта флорентийской буржуазной семьи. Такому толкованию очень способствуют четыре фигуры женщин на переднем плане, может быть, служанки, может быть, просто флорентийские дамы, встретившиеся перед домом Исаака для обмена последними городскими сенсациями. В этих изящных, готически-декоративных, изгибающихся фигурах Гиберти дал прообраз тех вводных фигур, не имеющих ничего общего с главной темой, которые составляют излюбленный мотив всех итальянских художников кватроченто. Еще дальше в том же направлении идет Гиберти в следующем, шестом рельефе цикла, с историей Иосифа. Здесь опять главный стержень действия дает архитектурная кулиса — на этот раз хлебный амбар в монументальном стиле античной колонной постройки. Судя по литературным источникам, перспективная иллюзия сквозных аркад произвела на современников неизгладимое впечатление. Внутри этих колонных галерей и главным образом перед ними развертывается пестрая картина рыночной жизни, с выгрузкой и покупкой зерна. Таким образом, во имя оптической жизненности изображения Гиберти выдвигает на первое место чисто жанровый момент рассказа, в котором теряются события священной истории. Главные же эпизоды темы — встреча Иосифа и Вениамина и продажа Иосифа — отодвинуты в глубину и изображены в чуть уловимых, туманных контурах плоского рельефа как почти стирающиеся из памяти образы прошлого. Мы словно воочию ощущаем внутреннюю борьбу, происходящую в душе этого гениального мастера, который не в силах освободиться от гипноза традиций и фантазия которого в то же время полна совершенно новых, до сих пор неведомых искусству изобразительных возможностей. Только в последнем, десятом рельефе цикла, и то благодаря счастливым условиям самой темы, Гиберти удалось, наконец, достигнуть своей заветной цели — оптического единства пространства. Правда, вполне идеальным нельзя назвать и это разрешение проблемы: пестрая толпа зрителей, занимающая передний план, слишком мало координирована в движениях, слишком раздробляет внимание и отвлекает его от главной сцены. Но в этой главной сцене, в торжественной встрече Соломона с царицей Савской на ступенях храма, как и в строго проведенной центральной перспективе самого здания, Гиберти дает действительно завершенную оптическую картину. Заканчивая характеристику «Райских дверей», нельзя обойти молчанием замечательную гирлянду (которая служит наружным обрамлением дверей), свитую из хвойных и лиственных ветвей, из цветов, желудей и шишек и населенную самыми разнообразными животными и птицами. Нетрудно видеть, что и в натуралистической трактовке этой гирлянды Гиберти вдохновлялся не образцами античного орнамента, а приемами и мотивами тех декоративных обрамлений, которые окаймляют поля североевропейских готических рукописей. Во втором периоде деятельности Гиберти помимо восточных врат баптистерия следует упомянуть еще рельефы, исполненные Гиберти для сьенской крещальни Кверча, и «Раку святого Зиновия» во Флорентийском соборе. Рельеф, украшающий лицевую сторону раки, можно рассматривать как подготовительную ступень к последнему рельефу «Райских дверей». В средней части рельефа Гиберти уже удалось достигнуть единства перспективного построения пространства, но боковые крылья рельефа со своими самостоятельными пейзажными мотивами снова нарушают это оптическое единство. Необходимо упомянуть о литературной деятельности Гиберти. И здесь Гиберти принадлежит руководящая роль. Его «Комментарии», толчком к составлению которых послужила, по-видимому, поездка Гиберти в Рим около 1430 года, занимают чрезвычайно важное место в художественно-исторической литературе Ренессанса[31]. Пробуждение исторического чутья, которое составляет один из важнейших признаков отличия между Ренессансом и средними веками, пожалуй, впервые может быть прослежено именно в «Комментариях» Гиберти. «Комментарии» эти разделяются на три части. В первой, наименее самостоятельной части Гиберти дает пересказ истории античного искусства по Плинию. Вторая часть, самая интересная, начинается с характеристики искусства «Средних веков» (термин этот Гиберти, по-видимому, заимствовал у Боккаччо) и дает в дальнейшем первую попытку стилистической биографии художников. В сущности говоря, история искусства как наука зарождается вместе с Гиберти. Вместо собрания анекдотов, какими были все предшествующие, в том числе и античные, описания жизни художников, Гиберти стремится нарисовать жизнь художников треченто по их произведениям. Заканчивается эта часть «Комментариев» автобиографией Гиберти. Возможно, что честь первой автобиографии художника принадлежит не Гиберти, а Леоне Баттиста Альберти. Но, во всяком случае, автобиография Гиберти гораздо ближе к современному пониманию этой задачи. Автобиография Альберти представляет собой нечто вроде характеристики психологии художника вообще, тогда как Гиберти хочет воспроизвести духовное развитие именно определенной личности из анализа своих собственных произведений. Наконец, последняя часть «Комментариев» содержит попытку установления теоретических основ искусства. Самое важное место занимает здесь теория оптики; заканчивается же трактат, прерванный смертью мастера, на теории пропорций.XI
ПОЛНУЮ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ Гиберти представляет самый гениальный из скульпторов флорентийского кватроченто — Донателло. Творчество Гиберти основано на равновесии и гармонии. Чутье изящного, удивительная мелодичность, которую хочется назвать музыкальным термином бельканто, не изменяет ему даже тогда, когда он оказывается перед непосильной для него задачей. Донателло, напротив, художник очень неровный, знающий горечь ошибок и падений наряду с величайшими триумфами. Гиберти, в сущности говоря, всю свою жизнь проработал над одной и той же проблемой живописного рельефа. Донателло, напротив, ставит себе так много новых задач, что справиться с ними было не под силу не только ему самому, но и всей скульптуре итальянского Возрождения. Гиберти свято чтил традиции, Донателло же — реформатор, революционер, крайний индивидуалист, вся жизнь которого проходит в беспрерывных исканиях, в попытках сбросить с себя бремя традиций. В творчестве Донателло, с его демократическими и реалистическими чертами, можно видеть воплощение нового пластического идеала героической личности. В связи с новыми запросами индивидуального потребления Донателло первый перешел от монументальной скульптуры к станковой — к небольшим рельефам и статуям. Он впервые занялся систематическим изучением механизма человеческого тела, проявил интерес к изображению массового действия, к пониманию одежды в связи с телом человека. Донателло принадлежит заслуга разработки индивидуального портрета в скульптуре. Донато ди Никколо ди Бетто Барди, прозванный Донателло, родился, видимо, в 1386 году, в семье растяжчика шерсти, и не получил такого всестороннего гуманистического образования, как его современник и друг, Филиппо Брунеллески. Зато художественную школу ему посчастливилось пройти у лучших тогдашних мастеров: сначала в мастерской Гиберти, а потом с Нанни ди Банко в Opera del Duomo. Молодой Донателло отдал предпочтение скульптуре в камне и в течение почти двадцати лет остался верен мастерской камнетесов при соборе. Самую свою раннюю работу двадцатилетний Донателло исполнил еще под влиянием Нанни ди Банко. Это — две небольшие статуи пророков, которые в 1406 году Донателло поставил над фиалами Порта делла Мандорла[32]. (главный рельеф для портала, как мы знаем, исполнил сам Нанни ди Банко). Они еще готические: левая статуя с типично готическим мотивом плаща, наброшенного на плечи и открывающего грудь, и с робкими, неуверенными жестами рук; правая статуя — со столь готической линией шлейфа, влачащегося вокруг правой ноги. Все же даже в этих первых, неловких опытах Донателло обнаруживает смелую оригинальность своего художественного темперамента. Отступая от традиций, он изображает пророков не почтенными, бородатыми мужами, а юношами, почти мальчиками. С каждой следующей статуей вызов Донателло традициям звучит все смелее. Юный мастер ставит своей целью освободить тело из-под узора одежд, проникнуть в тайны его статики и тектоники, найти взаимоотношение между телом и окружающим его пространством. Первый шаг в этом направлении означает статуя «Давида», первоначально предназначенная для собора, но позднее перенесенная в ратушу. Конечно, и эта статуя еще очень готична по концепции. Готична своей узкой базой, более узкой, чем самое тело статуи; готична волнообразным движением своего силуэта, но особенно — непрочным мотивом стояния, который чисто готически замаскирован плащом и головой Голиафа. Вместе с тем следует отметить, что все произведения молодого Донателло принадлежат к области уличной скульптуры, рассчитаны на постановку на открытом воздухе, на рассмотрение издали. Наряду с пережитками старинной пластической концепции, в статуе Давида много смелого новаторства. Обратите внимание, как тело все более освобождается от одежды, как из-под плаща видна обнаженная нога Давида и как, тесно облекающая тело, кожаная куртка вырисовывает его формы. Донателло явно находится на пути к новой задаче — к изображению обнаженного тела. Характерна для нового настроения и вся самоуверенная повадка Давида, его жест подбоченившейся руки и небрежно повязанный узел плаща. В «Давиде» Донателло как бы предвосхищает черты самоутверждающейся личности Ренессанса. До сих пор мы видели, что все внимание Донателло было устремлено на проблему стоящей мужской фигуры (только в 1412–1415 годах Донателло впервые пробует свои силы на сидящей фигуре в статуе евангелиста Иоанна для фасада Флорентийского собора). Со всем пылом своего неукротимого темперамента он обратился к этой проблеме в своих ближайших статуях. И прежде всего — в знаменитой статуе святого Георгия. Донателло исполнил эту статую, по-видимому, в 1416 году по заказу цеха оружейников для наружной ниши Ор Сан Микеле. Буркгардт называет статую Георгия «первой статуей чистого Ренессанса». Это не совсем верно. В статуе святого Георгия еще ощутимы готические пережитки: кончик длинного плаща касается земли и декоративно заворачивается вокруг ступни Георгия, щит поставлен так, что закрывает движение статуи, плоская, недостаточно проработанная грудь. Но, с другой стороны, в статуе Георгия несомненно есть элементы смелого новаторства. Сюда относится прежде всего несильный, но все же ясно намеченный поворот статуи вокруг своей оси — первое отступление от готической фронтальности. Еще важнее — постановка ног. Как в евангелисте Иоанне, по контрасту с витающей легкостью готических статуй, Донателло подчеркивает тяжесть сидящего тела, так и в Георгии его занимает могучая несокрушимость позы воина, прочно упершегося в землю обеими ногами. В результате этих новых формальных приемов образ святого Георгия пополняется и новым духовным содержанием. Насупленные брови Георгия и жест его правой руки выражают не только моральное превосходство над врагом, но и передают физическую мощь, уверенность в своих силах идеально скроенного, мускулистого тела. Таким образом, в статуе святого Георгия Донателло в первый раз пытается сформулировать новый идеал героя, основанный на гармонии духовного и физического совершенства. В дальнейшем народно-демократические тенденции Донателло усиливаются и ведут его к экспрессивному реализму. Насколько цельным является его мироощущение, показывает следующая крупная работа — цикл статуй пророков для фасада собора и кампаниле. Та жажда натуральности, жизненной правды, которая скрыта в позе и мимике Георгия, с еще большей силой прорывается в статуях пророков. В натурализме Донателло проявляется отчасти еще готическая любознательность к случайным гримасам и несовершенствам натуры, стремление вложить в натуру свои субъективные переживания. Если основной предпосылкой мировоззрения зрелого Ренессанса является гармония натуры, то именно этой-то гармонии и нет в скульптурах молодого Донателло, всегда заключающих в себе элемент диссонанса. Реализм классического Ренессанса продиктован разумом, натурализм же Донателло явно восходит к эмоциональным основам. Сопоставим два «Распятия», которые Брунеллески и Донателло в двадцатых годах, то есть как раз ко времени работы Донателло над пророками кампаниле, вырезали из дерева[33]. Статьи очень различны, почти, можно сказать, полярны друг другу. Но и назначение их было весьма различно. Брунеллески исполнил свою статую для домашней капеллы патриция Гонди, тогда как Донателло — для бедной общины церкви Санта Кроче. В своем Распятии Брунеллески создал идеальный образ Христа с телом отвлеченной неземной красоты, с лицом, затененным красиво падающими локонами. Рядом с этой «persona delicatissima» Донателло, как выразился сам Брунеллески, пригвоздил к кресту крестьянина с могучей грудной клеткой, с искривленными ногами, со спутанными прядями волос. Но при всем различии формальной оболочки, по существу своей художественной концепции обе статуи, безусловно, глубоко родственны (недаром оба мастера взялись за типично готический материал — дерево). И в том и в другом случае мы имеем дело с совершенно субъективным преломлением натуры; разница сводится только к тому, что у Брунеллески натура преломляется в сторону изящного, а у Донателло — в сторону характерного. Эти же черты субъективного восприятия, но только в еще более выразительной форме мы находим и в статуях пророков, украшавших ниши кампаниле и старый фасад собора. Серию этих пророков можно начать со статуи, которая хотя и поставлена теперь внутри собора, но первоначально, видимо, предназначалась для его фасада. В этой статуе Донателло еще не решается на обнажение и дает полностью задрапированную фигуру. Какой, однако, разительный контраст с готической драпировкой! В готической скульптуре одежда словно не имеет веса и легкими узорами, вместе со всей статуей, взвивается кверху. У Донателло складки ложатся тяжелыми, материальными покровами и, как бы повинуясь земному тяготению, свисают вниз. Но что особенно поражает в статуе пророка — это его голова. Донателло не побоялся наделить пророка индивидуальными портретными чертами (легенда рассказывает, что моделью для головы пророка мастер выбрал гуманиста Поджо Браччолини, секретаря папской курии). Еще дальше по пути выразительного реализма Донателло идет в статуях пророков Аввакума и Иеремии. Донателло добивается здесь не просто реализма, но ошеломляющего реализма. Его неудержимо влечет к характерному, выразительному в натуре, пусть это выразительное проявляется в страшном или безобразном, Донателло и здесь дает портретные головы. Моделью для лысого Аввакума якобы послужил ему известный всей Флоренции политический деятель Керикини. Популярность этой статуи у современников достигла чрезвычайных размеров. Флорентийцы прозвали ее Цукконе (то есть тыква). И действительно, Донателло создал настоящую народную статую, образ, выхваченный прямо из гущи жизни, близкий и понятный уличной толпе. В статуях пророков интересны не только головы. Они являются свидетелями того, как Донателло боролся за освобождение тела от плена готических драпировок. Эта свобода дается ему не так-то легко. Руки статуи никак не могут отделиться от тела; Иеремия растопыренными пальцами придерживает одежду, у Аввакума правая рука словно случайным жестом запуталась в ремне плаща. Но все же у него правое плечо и рука свободны от одежды, а на Иеремии нет даже туники под плащом — мастер не только показывает плечо и грудь, но и прощупывает под одеждой левую ногу; самый же плащ Иеремии скомкан так, что потерял всякий облик одежды. Еще одно усилие — и, сброшенный прочь, он явит перед зрителем невиданное со времен гибели античного искусства зрелище обнаженного тела. На это усилие Донателло решается, однако, только после поездки в Рим в 1430–1433 годах. Но прежде чем мы обратимся к важным последствиям этой поездки для решения проблемы стоящей мужской статуи, необходимо остановиться на других сторонах деятельности Донателло, которая как раз в середине двадцатых годов приобретает чрезвычайно широкий размах. В эти годы Донателло особенно сблизился с Брунеллески. Если кто-нибудь хотел бы ближе познакомиться с бытом тогдашней флорентийской художественной богемы, я очень советую прочесть «новеллу о столяре», автором которой считают Леоне Баттиста Альберти. Проделка со столяром Грассо, которого Брунеллески и Донателло заставили поверить, что он есть купец Маттео, удивительно ярко характеризует новеллизм жизни Ренессанса. Во всяком случае, нет никакого сомнения, что именно общение с Брунеллески придало творчеству Донателло такое разностороннее развитие. Прежде всего Донателло расширил свой кругозор в сторону нового материала — бронзы. Первая бронзовая статуя Донателло — статуя святого Людовика для церкви Санта Кроче — закончена в 1423 году. С первого же взгляда видно, что техника отливки из бронзы еще чужда мастеру: формы статуи не подсказаны специфическими свойствами материала и выглядят как работа в камне. По своим приземистым пропорциям и обилию драпиривок статуя Людовика кажется более отсталой, чем одновременные с ней работы Донателло в мраморе (например, Аввакум). Но уже в более поздней по времени бронзовой статуе — в Иоанне Крестителе Берлинского музея — Донателло блестяще удается найти специфический бронзовый стиль — и именно не мелкоювелирный стиль Гиберти, а стиль монументальной бронзовой скульптуры. Каковы принципиальные отличия мрамора и бронзы как пластического материала? Прежде всего различны их стилистические свойства: мрамор тяжелее, бронза легче и обладает более гибкой способностью сцепления. Вследствие этого мрамор требует более замкнутой композиции, бронза же позволяет большее разрыхление контура, более свободные ответвления формы от главного стержня, более смелые прорывы материала. Кроме того, поверхности мрамора и бронзы различно реагируют на свет. Непроницаемая для света бронза отбрасывает его яркими бликами и резко очерченными гранями поверхности, поверхность же мрамора, пропускающая свет, требует мягких переходов и расплывчатых контуров. Все отмеченные природные свойства бронзы Донателло мастерски использовал в статуе Иоанна Крестителя: и в его преувеличенной худобе, которая позволяет резко подчеркивать грани формы и выдвигает значение контура, и в свободной, независимо от фигуры брошенной драпировке, и в контрасте взрыхленной поверхности шкуры, и гладкой поверхности плаща. Гораздоболее сложная задача сочетания бронзы и мрамора встала перед Донателло, когда в 1425 году он получил заказ на гробницу папы Иоанна XXIII. Отрешенный от сана Констанцским собором, папа Иоанн XXIII нашел себе пристанище во Флоренции. После смерти папы его флорентийские друзья решили воздвигнуть гробницу в старейшей церкви Флоренции — в баптистерии — и передали заказ Донателло[34]. Отрезок стены между двумя смежными гранитными колоннами должен был послужить естественным фоном для гробницы. Таким образом, как бы сам собой установился тип высокой гробницы, вставленной в стену, тип гробницы, который продержался во Флоренции в течение всего кватроченто. В общей композиции гробницы Донатело примкнул к традициям треченто, как они были установлены Арнольфо ди Камбио в уже знакомой нам гробнице кардинала де Брей; но отдельные элементы композиции Донателло сильно переработал в классическом духе. Гробница состоит как бы из четырех этажей. Сначала — высокая база со статуями «добродетелей» в нишах; затем — саркофаг с античным мотивом двух путти, развертывающих эпитафию; далее — катафалк с отлитой из бронзы фигурой лежащего папы и над ним — полуфигура мадонны с младенцем на фоне полукруглой ниши; наконец, вся композиция увенчана отдернутым занавесом. В распределении этих этажей Донателло еще не нашел нужных пропорций; база, несомненно, слишком тяжела и слишком высоко оттеняет главное ядро композиции — фигуру папы. Но сочетание трех элементов — саркофага, катафалка с фигурой умершего и рельефа мадонны — отныне делается классическим образцом для всей итальянской надгробной скульптуры. К концу двадцатых годов относятся и первые опыты Донателло в области рельефа. Если не считать маленького и очень несовершенного рельефа под статуей Георгия, то первую серьезную попытку разрешить проблему рельефа Донателло делает в 1423–1427 годах. Мы уже познакомились в свое время с купелью Кверча в сьенском баптистерии. Для изготовления рельефов для нее сьенцы решили помимо местных мастеров привлечь знаменитых флорентийских скульпторов — Гиберти и Донателло. Гиберти исполнил два рельефа — «Иоанн Креститель перед Иродом» и «Крещение Христа»; Донателло — один рельеф с изображением «Пир Ирода». Для того чтобы лучше уяснить значение новаторства Донателло, напомню сначала рельефы Кверча и Гиберти. Рельеф Кверча изображает «Изгнание Захария из храма» и типичных для него мощных, тяжелых, закругленных формах. Композиция лишена всякого действия. Несмотря на выпуклую лепку архитектурных кулис, Кверча не создал впечатления глубокого пространства — фигуры кажутся находящимися не в архитектуре, а перед архитектурой. В рельефе же Гиберти больше динамики действия, но и ему не удалось ввести фигуры внутрь рельефа, и у него архитектура кажется только фоном, перед которым происходит действие. Если мы теперь посмотрим на рельеф Донателло, то сразу бросится в глаза, насколько он превзошел своих соперников и в драматизме рассказа и в иллюзии глубокого пространства. Мастерство Донателло в изображении пространства средствами рельефа тем более удивительно, что рельеф выполнен до того, как Гиберти приступил к живописным рельефам Райских дверей. Донателло действительно удалось поместить фигуры внутрь пространства и путем перспективного пересечения аркад увести это пространство не только в глубину, но и в стороны. Обратите внимание, как слева рама перерезывает фигуру испуганно убегающего мальчика и как справа зрителю показана только нога и кончик плаща совершенно скрытой за рамой фигуры. Такой прием оптических недомолвок был бы, конечно, совершенно немыслимым в искусстве треченто. Для того чтобы художник мог на него осмелиться, нужны совершенно новые предпосылки мировосприятия; нужно, чтобы художник мыслил свое изображение как вырез из бесконечного пространства, как часть действительности, которая может быть воспринята только с одной точки зрения и только в определенный промежуток времени. Далеко превосходит Донателло своих соперников и драматической экспрессией рассказа. Саломея еще танцует танец перед Иродом, но уже явился палач и, склонившись перед царем, подносит ему блюдо с головой Крестителя. Мимика Ирода, жест Иродиады и ужас гостя, который отпрянул назад, закрыв глаза рукой, действуют тем сильнее по контрасту со спокойствием скрипача, невозмутимо продолжающего свою мелодию. Перед нами все элементы стиля Ренессанса, и все-таки готика еще не преодолена Донателло. Обратите внимание: в самой глубине аркад палач несет блюдо с головой Крестителя, тот самый палач, который потом появится на переднем плане со своей страшной ношей. Иными словами, от готического сукцессивного метода представлений Донателло еще не отказался. Свой сьенский рельеф Донателло должен был исполнить в бронзе, то есть в технике довольно трудной для него в те годы. Поэтому если в овладении пространством и экспрессией «Танец Саломеи» и представляет очень крупное достижение, то в самой обработке рельефа Донателло целиком примыкает к приемам Гиберти: начиная лепку рельефа с выпуклых, отдалившихся от фона фигур и кончая чуть намеченными силуэтами. Но по возвращении во Флоренцию Донателло получает возможность испробовать свою новую концепцию рельефа в более родственном ему материале — мраморе. Из этих опытов и возникла совершенно новая, незнакомая ни античному, ни средневековому искусству техника рельефа, получившая в Италии название rilievo schiacciato (то есть сплющенный). Первым опытом rilievo schiacciato можно считать рельеф «Вознесение богоматери» с надгробия Ринальдо Бранкаччи (Неаполь). Семь полуобнаженных ангелов возносят богоматерь на небо. Фон рельефа изображает здесь заоблачное пространство, а внизу, как бы в перспективе с птичьего полета, еле заметны очертания земли. Уже в этом рельефе бросается в глаза принципиальное отличие с приемами Гиберти. Донателло избегает очень выпуклой моделировки; формы сплющены и их положение в пространстве показано нежнейшими градациями поверхности. Еще совершенней в этом смысле более поздний рельеф «Передача ключей апостолу Петру» (Лондон, Музей Виктории и Альберта). И здесь действие происходит в облаках. Но здесь контуры еще мягче, переходы форм даны еще более нежной вибрацией поверхности, так что создается впечатление, будто мы видим фигуры сквозь колеблющуюся пелену тумана. В этой удивительной мраморной фантазии Донателло предвосхищает эволюцию европейской скульптуры по крайней мере на двести лет: только скульпторы барокко осмелились в своих рельефах на изображение атмосферы. Но в рельефе «Передача ключей» следует отметить и еще одно свойство: нижняя рама срезывает ноги фигур, находящихся в глубине пространства. Другими словами, Донателло мыслил горизонт ниже нижней рамы. Этот прием впервые ввел в употребление Мазаччо. Он получил название disotto in su (то есть снизу вверх) и сделался одним из излюбленнейших приемов в искусстве кватроченто. Успех disotto in su в период страстного увлечения художников перспективой очень понятен. С помощью этого приема художник не только показывал, что он изобразил пространство с одной определенной точки зрения, но и зрителя заставлял занять соответствующую изображению позицию. Иначе говоря, отныне зритель находится внутри изображенного пространства. Примерно около 1430 года заканчивается первый период деятельности Донателло, который можно назвать «натуралистическим», период исканий и борьбы старых и новых тенденций. Решительным толчком к перелому стиля Донателло послужила поездка в Рим, которую Донателло совершил совместно с Брунеллески между 1430 и 1433 годами. К сожалению, не существует дневника, который описал бы нам переживания двух гениальных флорентийцев в вечном городе. Известно, что друзья часами просиживали перед античными развалинами, обмеривали и копали, так что их принимали за искателей клада; но каковы были те памятники, которые они изучали, и какое впечатление оставила на них встреча с античными подлинниками, мы, вероятно, никогда не узнаем. Во всяком случае, Донателло вернулся во Флоренцию преображенным. Острые углы, все преувеличения его юного темперамента сгладились, смягчились. Начинается второй период его деятельности, который хотелось бы назвать классическим и декоративным. Одной из первых работ Донателло после римской поездки является «Благовещение» в церкви Санта Кроче, — несомненно, самое поэтичное, самое изящное, самое нежное из его произведений. С трудом верится, что автор уродливого Цукконе мог извлечь столько мягкости из линий, столько нежности из движений. Вместе с тем «Благовещение» может быть названо и самым классическим произведением Донателло, наиболее близким к духу античного искусства. Донателло мог видеть в Риме надгробные стелы греческого происхождения. Но, пожалуй, еще большее впечатление на него произвела декоративная фантазия римских «косматое»: пестрая орнаментика обрамления даже несколько заглушает спокойный ритм самого рельефа. Большинство декоративных мотивов Донателло заимствовал из античного репертуара. Но он чрезвычайно свободно обходится со своими источниками: ни таких баз, ни таких чешуйчатых пилястров, разумеется, нельзя встретить в античном искусстве. Есть в «Благовещении» и еще особенности, которые резко противоречат принципам античного искусства. Во-первых, композиция: она развертывается по диагонали и имеет подчеркнуто пустой центр — два момента, немыслимых в античном рельефе. Во-вторых, концепция пространства. Архитектурное обрамление создает иллюзорную арену действия, в которой фигуры живут, как в реальном пространстве. Неприкосновенность фона и рамы — непреложный закон античного рельефа — окончательно нарушена: фон орнаментирован, как будто он изображает стену комнаты, крылья ангела перерезаны пилястрами. Это значит, что, в отличие от античного рельефа, Донателло изображает не только человеческие фигуры, но и само окружающее их пространство. Исключительное очарование придают всему ансамблю маленькие путти, примостившиеся на верхнем карнизе. Здесь Донателло одним из первых создает прообраз очаровательных, резвых сорванцов, которые отныне наводнят стены флорентийских церквей и палаццо своим неистощимым весельем. Мы знаем, что Донателло имеет в этом смысле предшественников в лице Кверча, например; но никто, кроме Донателло, не сумел придать образу путто столько искренности, динамики, шаловливой грации. Путто — это специфически итальянское понятие и притом характерное главным образом для эпохи кватроченто. Итальянского путто нельзя подменить названием ребенка, мальчика, ангела, гения, амура. Путто — это все вместе и не совсем то. Разумеется, известное влияние на возникновение образа путто оказали гении и амуры античного искусства; но к античному мотиву неуловимо примешались свойства христианского ангела и совершенно новые жанровые черты, типичные для искусства кватроченто. Однако не только богатством жанровой выдумки прельщают путти Донателло. Обратите внимание, как они боязливо жмутся друг к другу и с опаской поглядывают вниз, как будто сознают рискованность своей позиции на краю карниза. Таким образом, пластика и архитектура оказываются поставленными между собой не только в формальную, но и в психологическую связь. Такая концепция далеко выходит за пределы и античного и средневекового художественного мировоззрения и свое полное развитие получит только в эпоху барокко. Вторым непосредственным результатом римской поездки Донателло надо считать бронзовую статую Давида, первоначально предназначенную для украшения фонтана во дворе дворца Медичи, а теперь находящуюся в Национальном музее во Флоренции. Характерно здесь совпадение: «Давид» — это крайнее проявление индивидуализма Донателло — возникает во время, когда столь естественной становится героизация человека, ничем не стесняемой личности. Вместе с тем «Давид» — одна из наиболее популярных народных тем в эпоху Возрождения: Давид — пастух, выходец из народа, спасший народ от порабощения и впоследствии ставший иудейским царем. Разумеется, в статуе Давида дух античного искусства сказывается очень сильно. Хотя бы уже в том, что Донателло решается на полное обнажение тела героя. Давид Донателло — первая обнаженная фигура в бронзе со времени гибели античного искусства. И эта нагота тем более знаменательна, что она вовсе не требовалась библейским рассказом. Донателло понял наготу Давида идеально, как символ героизма. Последствием римских впечатлений нужно считать также общее успокоение форм и отсутствие подчеркнутой экспрессии. Давид — не только самая обнаженная, но и наименее одухотворенная из статуй Донателло. Не следует, однако, как это часто делают, преувеличивать классичности Давида. Не случайно Донателло остановил свое внимание на Давиде-мальчике, хрупком и несложившемся. Он еще боится цветущей и мускулистой наготы, которая так привлекала скульпторов Высокого Ренессанса. В позе Давида сохраняются отголоски характерного готического изгиба, у него худые, тонкие руки, его лицо, затененное шляпой — тоже пережиток готики, — не смотрит на зрителя, поза его ног замаскирована мечом и головой Голиафа. В классический период деятельности Донателло в его творчестве проявляются первые признаки романтики, с годами все усиливающиеся. Об этом свидетельствует отлитая Донателло из бронзы статуя так называемого «Амура» в Национальном музее Флоренции. Чрезвычайно странный, причудливый замысел! — Амур с крылышками за спиной и на ногах, но в штанишках и с хвостиком сатира. Змея же, которую хохочущий сорванец давит своими ножонками, как будто заставляет думать, что перед нами маленький Геркулес. Одним словом, самое романтическое смешение античных мотивов, какое только можно себе представить и которое похоже почти на пародию. Гениальность Донателло проявляется в том, что всякий следующий шаг его творческого развития совершается не в том направлении, которого можно было бы ждать после предшествующих достижений мастера. Так казалось бы, что в «Благовещении» и особенно в «Давиде» Донателло нашел контакт с античным пластическим стилем, что он возродил проблему обнаженной натуры и что его дальнейшая деятельность будет посвящена разработке круглой статуи. На самом деле именно после «Давида» круглая статуя надолго отходит на второй план, и все внимание Донателло устремляется к проблеме декоративного рельефа. Ближайшие годы жизни Донателло целиком уходят на работу над тремя большими декоративными заказами. Первый из этих заказов — на наружную кафедру для собора в Прато — Донателло получил еще до своей римской поездки. Закончил же мастер свою работу по возвращении из Рима, в 1438 году, при участии своего друга, уже знакомого нам Микелоццо. Возникновение этой кафедры связано с легендой, очень характерной для религиозного настроения тогдашней Италии. Один из граждан Прато привез из святой земли драгоценную реликвию — пояс богоматери. Черти тщетно пытались похитить реликвию у ее счастливого обладателя, который завещал пояс собору. Для того, чтобы ежегодно демонстрировать гражданам Прато пояс богоматери, и должна была быть выстроена кафедра на углу соборного фасада. Донателло завершил угол фасада круглым столбом, увенчанным тенистой крышей. Вокруг столба обведен парапет, расчлененный двойными пилястрами и рельефами, которые изображают танцующих путти. В кафедре собора Прато Донателло делает первую попытку создать новый вид декоративной пластики, незнакомый ни античному, ни средневековому искусству. В античном искусстве архитектура и скульптура выступали изолированно друг от друга. Скульптура получала от архитектуры определенное место (например, фронтонный треугольник), в пределах которого она вела независимое существование. В средние века скульптура оказалась в полном подчинении у архитектуры, выражая чисто архитектурные функции. Донателло мечтает о таком соединении архитектуры и пластики, где каждое из искусств вело бы вполне независимую формальную жизнь, выполняло бы свои самостоятельные функции, но вместе с тем оба искусства были бы объединены в общую пространственную композицию, были бы связаны оптически и психологически для наблюдающего их зрителя. Если в кафедре собора в Прато Донателло только наметил новые возможности декоративной пластики, то блестящее разрешение своей задачи ему удалось во второй большой декоративной работе. Так называемая кантория — певческая трибуна Флорентийского собора была закончена Донателло в 1440 году. По общему декоративному замыслу, кантория как бы продолжает идеи кафедры в Прато. Такой же парапет на консолях, но только расчлененный на этот раз тонкими пестрыми колонками, те же танцующие путти, но только на этот раз в еще более стремительном движении, в каком-то вакхическом экстазе. Главное же отличие состоит в том, что рельефы кантории не изолированы друг от друга обрамлением, что хоровод танцующих путти непрерывной волной развертывается позади колонн. Таким образом, архитектурные элементы кантории оказываются тесно связанными между собой иллюзией общего пространства и общего действия. Архитектура и скульптура перестали быть реальностью и вместе превратились в картину, и этот чисто живописный эффект всего ансамбля Донателло подчеркивает пестрой, цветистой мозаикой, украшающей колонки и фон рельефа. Подобная живописная иллюзорная концепция декоративного ансамбля противоречит пришедшим ей на смену принципам классического искусства. Третий декоративный заказ этого периода Донателло получил благодаря посредничеству Брунеллески. Предстояло выполнить скульптурные украшения для ризницы в церкви Сан Лоренцо (впоследствии названной Sagrestia vecchia — Старая сакристия) — одной из первых построек Брунеллески. Из отдельных элементов этого декоративного цикла наше внимание в первую очередь привлекают четыре рельефа, посвященные жизни евангелиста Иоанна. Эти рельефы помещены в парусах купола. Исполненные из раскрашенного стука, они производят впечатление скорее картин, чем рельефов. Особенно это относится к первому рельефу цикла, изображающему Иоанна на Патмосе. Святой возлежит на скалистом берегу, на фоне просторного пейзажа; на облаках витает бог-отец, и в небе несется дракон, преследующий женщину с ребенком. Рельефы расположены очень высоко. В соответствии с этим Донателло подчеркивает фантастический характер рельефов, лепит их обобщенными, импрессионистическими пятнами и последовательно выдерживает в их перспективе точку зрения снизу. Последний прием, который своей смелостью напоминает так называемую «лягушечью перспективу» барочных купольных декораций, особенно подчеркнут в четвертом рельефе цикла — в «Вознесении Иоанна». Собравшиеся со всех сторон зрители с изумлением наблюдают полет Иоанна к небу, навстречу Иисусу в облаках. Зритель видит всю сцену как бы очень издали, в сильном перспективном сокращении снизу вверх. Странные, высокие леса, которые Донателло соорудил над могилой Иоанна, представляют собой, по-видимому, воспроизведение тех подмостков, на которых тогда разыгрывались уличные процессии и церковные представления. Совершенно иную задачу ставит себе Донателло в рельефах, украшающих бронзовые двери ризницы. Что особенно бросается в глаза — это разительный контраст с концепцией Гиберти в «Райских дверях». Наряду с великолепием замысла Гиберти двери Донателло могут показаться на первый взгляд почти однообразными в чрезвычайной простоте своей орнаментальной оправы и с вариациями одной и той же темы — два святых в различных стадиях диспута. При ближайшем рассмотрении, однако, зритель забывает об однородности темы и оказывается целиком захваченным исключительным богатством и силой выражения. Двадцать раз Донателло повторяет основную тему и каждый раз извлекает из нее новые комбинации физического и духовного движения, новые контрасты темпераментов, новые акценты композиции. В рельефах дверей сакристии снова дают себя знать средневековые истоки творчества Донателло: в том, во-первых, что он избирает форму диалога, отказываясь от античного принципа изолированных фигур, и в том, во-вторых, что физическое совершенство форм приносит в жертву характеристике духовного выражения. Благородство линий, изящество группировок, торжественность поз не играют для Донателло никакой роли. Флорентийским современникам Донателло многое было чуждо в этих исканиях мастера. Донателло начинает постепенно все более отдаляться от классических идеалов, внушенных ему римской поездкой; расхождение между ним и руководящим в те годы направлением флорентийской скульптуры становится все резче. Не удивительно, что Донателло с радостью ухватился за приглашение падуанцев принять участие в украшении их главного святилища — церкви Сайт Антонио. В 1443 году Донателло отправляется в Падую. Приближался юбилейный 1450 год. Вся Италия готовилась к его торжественной встрече. Флоренция и Рим получили новые бронзовые двери для своих главных церквей. Падуя наряду с Ассизи — важнейший центр францисканского ордена — хотела получить лучший в Италии алтарь. Донателло начал свое пребывание в Падуе с изготовления «Распятия» для алтарной преграды церкви Сайт Антонио. Затем решено было изготовить новый большой, свободно стоящий алтарь и украсить его многочисленными статуями и рельефами. В июне 1450 года колоссальная работа была закончена и освящена. К сожалению, мы теперь не знаем точно, как выглядела первоначальная композиция Донателло. В XVII веке алтарь был разобран и статуи рассеяны по всей церкви. Теперешняя расстановка статуй, во всяком случае, неправильна: «Распятие», наверно, не помещалось над мадонной и две фигуры святых не были отделены от остальной группы статуй. Ближе к первоначальной композиции походит, по-видимому, следующая реконструкция, исходящая из анализа сохранившихся счетов, с архитектурной надстройкой над статуями, опирающейся на колонны. Центральное место под балдахином занимает мадонна на возвышении; по обеим сторонам от нее — шесть статуй святых, тогда как постамент балдахина со всех сторон украшен бронзовыми рельефами, изображающими символы евангелистов и сцены из легенды святого Антония. Эта композиция Донателло сыграла важную историческую роль не только тем, что определила дальнейшую судьбу скульптурного алтаря, но она оказала также решающее влияние на форму алтарной иконы. Принятые в эпоху треченто многостворчатые полиптихи под влиянием Донателло сменились новым типом алтарной иконы, отдельные части которой объединены общей архитектурной рамой. Напомню, что уже в середине треченто сьенский живописец Пьетро Лоренцетти дал толчок в этом направлении, но тогда его нововведение не привилось. Теперь же, благодаря авторитету Донателло, новый тип алтарной иконы быстро стал распространяться, особенно в Северной Италии. Одним из первых примеров этого нового типа является алтарь Мантеньи, исполненный для церкви Сан Дзено в Вероне в 1459 году. Мы видим здесь все три створки алтаря объединенными общим архитектурным пространством, видим то же расчленение с помощью колонн и аналогичную архитектурную концепцию всего обрамления. Но вернемся к Донателло. Из отдельных статуй алтаря особенного внимания заслуживает центральная статуя мадонны. Статуя задумана таким образом, как будто мадонна хочет приветствовать толпу богомольцев, приподнимаясь со своего трона и показывая народу младенца-Христа. Дитя полусидит в складке одежды матери — мотив, к которому с увлечением вернулся Микеланджело. Формы тела ребенка и его духовный облик трактованы совершенно реалистическими чертами, но пропорции младенца, по сравнению с фигурой мадонны, поразительно малы, совершенно как в готической скульптуре. Трон мадонны украшен сфинксами; мягко падающие складки одежды почти закрывают ноги. В образе мадонны есть какое-то непреодолимое очарование, какой-то магический гипноз исходит из ее позы, из ее напряженного лица. С одной стороны, в неподвижности ее силуэта, в пышной тяжести ее одежд и трона проявляется византийская отвлеченность. С другой стороны, Донателло изобразил мадонну в момент чуть уловимого переходного движения, в момент привставания навстречу зрителю, когда младенец оказывается почти висящим в воздухе. Эта мимолетность ситуации и это духовное общение со зрителем являются опять-таки элементами, идущими вразрез с основной линией искусства Ренессанса. Аналогичное впечатление оставляет и статуя святого Франциска. Робким жестом держа в руках книгу и распятие, святой Франциск опустил глаза и слегка повернулся в сторону богоматери, как бы смущенный ее близостью. Его фигура неподвижна, и все же остается впечатление, словно он только что тихо подошел и остановился, прислушиваясь к словам церемонии. Таким образом, и здесь движением управляют не физические, как в античной скульптуре, а чисто духовные стимулы. Не менее интересны и четыре бронзовых рельефа, посвященных легенде святого Антония. Они украшают постамент алтаря и выполняют ту же роль, что и так называемая пределла в алтарной иконе. Первый рельеф изображает «Чудо с ослом». Еретик не поверил чуду превращения хлеба в тело Христово, но Антоний заставил осла преклониться перед таинством. Местом действия Донателло избирает широкие аркады. Мы видим, что Донателло отказывается здесь от статуарной, пластической разработки рельефа, которую он так упорно преследовал в «Благовещении» и в рельефах кантории (несомненно, под воздействием римской поездки), и возвращается к своему юношескому увлечению — к живописному рельефу. Но теперь Донателло далеко превосходит и свои собственные ранние опыты (например, «Танец Саломеи») и движения в живописном рельефе своего соперника Гиберти. Превосходит, во-первых, смелостью, последовательностью, размахом пространственного построения. Аркады не только построены с блестящим знанием центральной перспективы, но мы чувствуем их вышину и просторность, и фигуры заполняют их во всю глубину. При этом Донателло опять применяет свой однажды уже испробованный прием — прием низкого горизонта, как будто зритель находится ниже изображения. Но еще важнее другой момент рельефа — иллюзия шумной и волнующейся толпы, которая разливается по аркадам. Выделяя отдельные акценты, индивидуальные характеры, жесты и позы, Донателло вместе с тем мастерски сохраняет общий ритм многоликой толпы. То, что проблему толпы, массовой сцены, Донателло ставит себе именно в Падуе — не случайно. Нет сомнения, что за время пребывания в Падуе Донателло имел случай наблюдать фресковые циклы Альтикьеро и Якопо д’Аванцо, отличительной особенностью которых, как мы знаем, является именно мастерское владение большими человеческими массами. Еще грандиознее и стремительнее движение массы во втором падуанском рельефе Донателло. Он изображает легенду о скупце, у которого вместо сердца оказался камень, а сердце нашли, по предсказанию святого Антония, в ларе скупца. Здесь Донателло дает еще более сложную перспективу нескольких зданий, портиков и аркад, а толпа (в ней можно насчитать свыше ста фигур), со всеми оттенками изумления, ужаса и преклонения, сгруппирована еще более широкими и сплоченными массами. Но, пожалуй, наиболее оригинальна концепция последнего рельефа цикла, изображающая «Исцеление гневного сына». Здесь местом действия является арена для игры в мяч. Донателло развертывает до сих пор совершенно невиданную не только в рельефе, но даже в тогдашней живописи глубину пространства, вплоть до крошечных фигурок у перил арены, и осмеливается на изображения солнца и облаков. Интересен этот рельеф и некоторыми деталями, которыми Донателло оживляет главную сцену. Справа — жанровый мотив: толстый буржуа выходит, привлеченный шумом толпы, поглаживая свой живот, слева же — мифологический эпизод: группа речных божеств, расположившихся на скалах. Об исключительной разносторонности гения Донателло и об избытке его творческих сил свидетельствует то обстоятельство, что наряду со сложной и спешной работой для церкви Сайт Антонио Донателло успевает закончить такую крупную работу, как конная статуя кондотьера Гаттамелаты. Статуя Гаттамелаты играет важную историческую роль — это первое звено в длинной цепи конных статуй, которые созданы новым европейским искусством. Но связь Гаттамелаты с готическими традициями еще полностью не изжита. В средние века всякий скульптурный монумент, посвященный увековечению личной славы человека, всегда был теснейшим образом связан с церковью и с надгробием. Донателло в статуе Гаттамелаты не удалось совершенно порвать ни с той, ни с другой средневековой традицией. Правда, статуя Гаттамелаты не венчает гробницы кондотьера, но все же ее высокий постамент имитирует форму гробницы — с массивными ступенями, ведущими к бронзовой двери. В одном отношении статуя Гаттамелаты воплощает действительно новую идею. Кто такой Гаттамелата? Эразмо да Нарни, кондотьер, грубый предводитель наемного войска на службе у Венецианской республики, за свою ловкость и коварство прозванный «гаттамелата» (то есть «пятнистая кошка»). В средние века памятник не мог быть поставлен человеку, не выделившемуся духовными добродетелями. Но Гаттамелата обладал сильной волей, сумел, выйдя из самых общественных низов, завоевать себе выдающееся положение, — а волю эпоха Ренессанса ценила в человеке превыше всего. Чрезвычайно смелое новаторство Донателло проявляет в постановке статуи. В средние века скульптурный монумент всегда искал опоры у архитектуры, по большей части примыкая к углу здания, который давал вертикальное сопровождение его линиям. Донателло делает первую попытку отделить монумент от архитектуры и выдвинуть его на площадь. Однако на радикальную реформу Донателло не решается. Если статуя Гаттамелаты отделилась от стен церкви, то поставить ее на середину площади Донателло все же не осмелился. Интересно отметить и другую особенность замысла Донателло. Если бы для постановки статуи Гаттамелаты стали отыскивать место в наше время, то ее, наверно, поставили бы перед главным порталом, спиной к церкви или, может быть, выезжающей из угла площади, — во всяком случае, на фоне какой-нибудь стены и непременно так, чтобы главная точка зрения на статую была спереди. Донателло рассчитывает статую на рассмотрение в профиль и помещает ее на светлом фоне неба. Донателло сознательно поднимает статую на очень высокий постамент для того, чтобы она темным силуэтом вырисовывалась на светлом фоне неба. При этом Донателло применяет один прием, свойственный исключительно эпохе Ренессанса: от темного постамента статую отделяет светлая плита мрамора, так что конь Гаттамелаты кажется витающим в воздухе. Наконец, еще одно последнее наблюдение. Обратите внимание, как падающие линии фронтонов церкви неудержимо ведут глаз зрителя к статуе. Таким способом, несмотря на некоторое отдаление статуи от фасада церкви, связь между ними оказывается по-прежнему прочно сохраненной. Успех деятельности Донателло в Падуе был так велик, что два самых крупных мецената тогдашней Северной Италии, Борсо д’Эсте в Ферраре и Лодовико Гонзага в Мантуе, наперебой стремятся привлечь мастера к своему двору. Но Донателло уже снова тянет во Флоренцию. Он пишет своим друзьям: «Льстивые похвалы падуанцев мне наскучили. Я нуждаюсь в критике моих флорентийцев». И в 1453 году Донателло возвращается во Флоренцию после десятилетнего отсутствия. Пребывание Донателло в Падуе оставило очень важный след в развитии североитальянского искусства. Но и сам Донателло, может быть того не сознавая, вернулся из Падуи под сильным воздействием северных художественных тенденций. При этом следует отметить своеобразный контраст. Если в Северной Италии Донателло казался провозвестником классицизма и его влияние на североитальянских художников во главе с Мантеньей проявляется прежде всего в укреплении античных традиций, то пребывание Донателло в Падуе усилило элементы готики в его творчестве. Искусство Северной Италии, как мне уже приходилось указывать, находилось в постоянном взаимодействии с художественной жизнью Северной Европы. Это взаимодействие еще более усилилось со времени поездки в Италию в 1450 году замечательного нидерландского живописца Рогира ван дер Вейдена. Возрождение с новой силой готического начала в искусстве Донателло особенно резко выделяется на фоне той Флоренции, которую мастер застал по возвращении из Падуи. Лучшего друга Донателло, Брунеллески, уже не было в живых. Горение молодых мечтателей, к которым когда-то принадлежали Донателло, Брунеллески и Мазаччо, сменилось затишьем. Тон флорентийской скульптуре задает новое поколение, во главе с гармоничным, уравновешенным, но и поверхностным Лукой делла Роббиа. В этой чуждой для него обстановке и начинается последний период деятельности Донателло. Первая же работа, которую Донателло выполнил по возвращении во Флоренцию, статуя Марии Магдалины для баптистерия, является ярким показателем его вновь усилившейся готической ориентации. Влияние готики сказывается прежде всего в материале. Вместо излюбленных материалов Ренессанса — бронзы и мрамора — Донателло обращается к самому характерному материалу поздней готики — к дереву. Северным влиянием может быть объяснена сама идея представить Магдалину в виде изможденной старухи с растрепанными волосами, худое тело которой прикрыто изорванной шкурой. Следует отметить, что в последний период своей деятельности Донателло почти отказывается от изображения молодости. Вместо шаловливых, полнокровных ребят, к которым фантазия мастера так охотно обращалась в период после римской поездки, теперь его героями делаются старухи и старцы, а его любимыми темами — страдание и смерть. Природное тяготение Донателло к характерным моделям, к натуралистическим деталям, сочетается теперь с жаждой одухотворения и выражения. Вместе с тем и мрамор окончательно исчезает из мастерской Донателло — последние работы были выполнены или в дереве, или в бронзе. Однако, говоря о последних его работах, мало выделить в них усиление готического духа. Стиль семидесятилетнего Донателло заключает в себе некоторое предвидение барокко. Как бы непосредственно от готических предпосылок он обращается к проблемам, которые будут впоследствии занимать воображение Микеланджело, Челлини, Джованни да Болонья. Яркими признаками позднего стиля обладает прежде всего бронзовая группа «Юдифь и Олоферн», первоначально задуманная как завершение фонтана в саду дворца Медичи. Затем ее поставили перед фасадом Палаццо Веккьо, а впоследствии перенесли под аркады Лоджии деи Ланци, где она была доступна рассмотрению со всех сторон и где, как и подобает бронзе, она имела много свободного воздуха. После первой мировой войны группа «Юдифь» еще раз должна была сменить место; теперь она стоит опять перед фасадом Палаццо Веккьо. Беспомощное тело опьяненного Олоферна зажато между коленями Юдифи, причем левой ногой она наступает на кисть его руки. Юдифь замахивается для решающего удара, который отделит голову от туловища. Ноги Олоферна свешиваются с подушки; вытекающие из кистей подушки струи фонтана символизируют кровь Олоферна. Странный трехгранный постамент украшен рельефами, изображающими бешеную вакханалию путти. Две особенности группы прежде всего останавливают наше внимание. Во-первых, трактовка темы в духе крайнего эмоционального натурализма, подчеркивающего все те жуткие моменты, которые могли бы потрясти зрителя. Контраст с вакхическим восторгом путти еще более усиливает отталкивающую жестокость убийства. Вторая особенность состоит в том, что Донателло дает именно статуарную группу, два тела, сливающихся в одну пластическую массу, и что эта группа рассчитана на рассмотрение со всех сторон. Мы знаем статуарные группы из эпохи треченто, мы встретили их в творчестве Нанни ди Банко. Но во всех этих случаях группа или объединена рамой ниши, или разбивается на ряд изолированных статуй, которые могли бы существовать и выделенные из группы. Перед нами — одна, общая пластическая масса, которая не может быть разделена на составные части и — главное — которая не может быть воспринята одним взглядом, с одной точки зрения, которая требует, чтобы ее обошли кругом. В группе «Юдифь» Донателло решительно пренебрегает античной концепцией скульптуры, которую можно было бы назвать рельефной, так как она стремится развернуть все пластическое движение статуи с одной точки зрения. Если мы подходим к Юдифи спереди, то не видим полностью ни лица Олоферна, ни движения его тела. Если мы обойдем группу слева, то потеряем движение правой ноги Олоферна и т. д. Правда, эту проблему пластически всесторонней группы Донателло разрешает далеко не совершенно: группа лишена общего ритма и развертывается отрывисто, отдельными толчками. Но самая постановка подобной проблемы совершенно выходит за пределы раннего Ренессанса. Таким же, если не еще большим, напряжением эмоциональной выразительности веет от самой последней работы мастера, которую собственноручно закончить помешала смерть Донателло в 1466 году. Из рельефов, украшающих две бронзовые кафедры в церкви Сан Лоренцо, во всяком случае, три рельефа южной кафедры выполнены самим Донателло: «Христос в преддверии ада», «Воскресение» и «Вознесение»; остальные рельефы, уже после смерти мастера, по его эскизам и моделям были закончены скульпторами Бертольдо и Беллано. В фантазии Донателло зарождаются формы, не имеющие никакого прецедента в истории скульптуры и нарушающие все ее, казалось бы, священные законы. Понятие рамы, например, получает у Донателло небывалое истолкование. Рельефы отделяются друг от друга короткими выступами стены, но фигуры не считаются с этими внешними границами, вылезают за их пределы, переходят из одного рельефа в другой. Верхней рамы у рельефов нет вовсе, и голова Христа в двух рельефах пересекает карниз, который определяет верхнюю границу рельефа. Зато в правом рельефе «Вознесение» мы видим совершенно небывалый случай — раму в виде барьера, ограничивающего рельеф спереди. Каждый рельеф представляет собой законченное целое и вместе с тем все три рельефа неразрывно связаны между собой — в одну цепь событий, в одну оптическую картину. Связаны, во-первых, восходящей линией композиции, и, во-вторых, перспективным построением с одной общей точки зрения. Таким образом, готическая перспектива во времени оказывается здесь в сочетании с чисто пространственной, оптической перспективой. Еще больше эмоциональной динамики и еще больше пренебрежения к традициям в рельефе, украшающем узкую сторону северной кафедры. В одном общем архитектурном обрамлении рельеф изображает две сцены — «Христос перед Кайафой» и «Христос перед Пилатом». В этом рельефе фигуры не только далеко вылезают за раму рельефа, но высовывают копья навстречу зрителю и проваливаются куда-то вниз, так что у некоторых фигур мы видим только плечи и головы. Но что придает рельефу Донателло особенно антиклассический характер — это косая перспектива аркад. Обратите внимание, что архитектурные линии в рельефе построены таким образом, как будто зритель находится не перед центром рельефа, а сбоку, у правого угла кафедры. Подобная субъективность восприятия в корне противоречит принципам Ренессанса. Ее последовательное применение мы найдем впервые у художников более позднего периода — у Корреджо и Тинторетто. Подводя мысленный итог художественной эволюции Донателло, мы приходим к следующим выводам. Донателло начинает свою деятельность как еще во многом готический мастер. Дружба с Брунеллески, поездка в Рим направляют его творческие искания в сторону классических форм и объективной гармонии. Пребывание в Падуе и соприкосновение с духом северного искусства снова возвращают Донателло к готической концепции. Но теперь наивный, иллюстрирующий реализм юношеских произведений Донателло вырос до потрясающей силы эмоциональной выразительности. Этот творческий путь Донателло отражает, собственно говоря, в более быстрой смене все главные этапы в искусстве итальянского кватроченто.XII
ЗА ПОДЪЕМОМ И НАПРЯЖЕНИЕМ творческой энергии нередко следует период некоторой усталости, успокоения, расходования накопленных ценностей. Именно так можно определить деятельность поколения флорентийских скульпторов, которое следует за Донателло и которое возглавляет Лука делла Роббиа. Творчество этих мастеров гораздо уравновешеннее и гармоничнее, их эволюция не делает тех неожиданных скачков и прорывов, которые свойственны Донателло. Но от них нельзя ждать и каких-либо особенно ярких и смелых откровений. Если они выступают в качестве новаторов, то только в области техники и сюжета. Следует отметить также, что интересы этого нового поколения скульпторов от чистой пластики все более отклоняются в сторону прикладной пластики, в сторону декоративных задач и архитектурно-скульптурных ансамблей. Наконец, бросается в глаза предпочтение мрамора бронзе, которая была любимым материалом у предшествующего поколения. Лука делла Роббиа родился в 1399 или 1400 году. Когда его стиль складывался, великие битвы первых кватрочентистов были уже закончены — купол Флорентийского собора, первые бронзовые двери Гиберти, пророки Донателло на фасаде кампаниле. Как большинство тогдашних флорентийских скульпторов, Лука делла Роббиа начал свою художественную школу в мастерской ювелира, а потом перешел в лагерь мраморщиков, вступив в соборную мастерскую. Юношеский период деятельности Луки делла Роббиа мало обследован. Первое представление о художественном облике Луки делла Роббиа мы получаем только в 1431 году, когда как совершенно сложившийся мастер он приступает к заказу на певческую трибуну (канторию) для собора (впоследствии вторая трибуна была заказана Донателло). И именно сравнение этих двух трибун лучше всего помогает определить характер творчества Луки делла Роббиа. Вы помните канторию Донателло с пестротой ее мозаики, с вакхической динамикой ее рельефов. Кантория Луки делла Роббиа кажется образцом спокойствия, порядка и благонравия. Лука делла Роббиа ближе придерживается религиозного назначения кантории. На архитраве балюстрады он выписывает строки псалма, начинающегося словами «Laudate dominum», и в десяти рельефах, стих за стихом, иллюстрирует содержание псалма. Действующими лицами рельефов Луки делла Роббиа являютсяисключительно дети и подростки; они поют, танцуют и музицируют, причем перед зрителем проходят все виды музыкальных иструментов, от флейты до тамбурина. С острой набюдательностью схватывает Лука делла Роббиа позы и мимику своих героев. Посмотрите, например, как в рельефе поющих мальчиков дифференцированы голоса, как по движению рта и выражению глаз можно сразу отличить дискантов от альтов и как младший из мальчуганов помогает себе, поднимая руку и отбивая такт ногой. Но кто эти музицирующие подростки Луки делла Роббиа — ангелы или реальные дети Флоренции? Мастер одевает их в одежды тогдашней Флоренции — в рубашки, плащи и сандалии — и подстригает их волосы по тогдашней моде. Но все-таки это ангелы. Во-первых, потому что они стоят на облаках, и, во-вторых, потому что в самом их облике, в сдержанном благородстве их повадки проявляется принадлежность их к иному, идеализированному миру. В сущности говоря, впервые в истории итальянской скульптуры проявляется здесь истинный признак стиля Ренессанса — действительность, но идеализированная, нормы и типы, но извлеченные из тщательного изучения и глубокого знания натуры. То же самое относится и к формальной концепции рельефа. Лука делла Роббиа отвергает живописные тенденции рельефа Донателло — глубокое пространство, динамику движений — и опять возрождает строго пластический рельеф с небольшим количеством фигур и с абстрактным фоном. При этом, в отличие от Донателло, формы хотя и обобщены, но чрезвычайно тщательно моделированы во всех оттенках поверхности, как будто рассчитаны на близкое рассмотрение. И все же, несмотря на совершенно очевидные признаки классического стиля, мы не вправе назвать Луку делла Роббиа представителем зрелого Ренессанса. И не только потому, что настроение у него преобладает над действием, чувство — над волей. Но и потому также, что его пластическая фантазия тяготеет к плоскости, к двухмерной концепции. Поверхность формы занимает его много больше, чем сама форма, ее объем и ее структура. На северном фасаде флорентийской кампаниле остались несделанными пять рельефов из той серии, которую еще в XIV веке выполнил Андреа Пизано и его последователи. В 1437 году, по окончании кантории, Лука делла Роббиа получил этот заказ. Показательно то, что он целиком принял и форму обрамления и характер рельефа такими, какими их установил сто лет назад Андреа Пизано. Один из этих рельефов изображает диалектику, в виде спора двух философов; другой олицетворяет поэтику в виде Орфея, музицирующего в лесу, в обществе зверей и птиц; третий — грамматику, в виде профессора за кафедрой перед слушателями. Лука делла Роббиа сохранил шестигранную форму обрамления, поставленного на угол, — нечто совершенно немыслимое в классическом искусстве; а в трактовке рельефа, как-то совершенно забыв все живописные завоевания Донателло, он полностью примыкает к приемам треченто. Следующий по времени заказ определяет решающий поворот в творчестве Луки делла Роббиа. Для церкви госпиталя Санта Мария Нуова предстояло сделать большую дарохранительницу. В аптеке госпиталя Лука делла Роббиа мог видеть на полках длинные ряды кувшинов и кружек из майолики — то есть глазурованной глины. Они-то, вероятно, и навели мастера на мысль применить раскраску и глазурь для своих пластических работ. Напомню по этому поводу, что искусство глазури восходит к отдаленным временам древневосточных культур. Уже у вавилонян это искусство было высоко развито. В средние века Персия делается главным художественным центром глазурованной керамики, и оттуда, вместе с распространением ислама, эта техника проникает в Испанию и на Балеарские острова. Один из Балеарских островов, Майорка, и дал название всему этому виду фаянсовой керамики — майолика. По-видимому, пизанские мореплаватели первые узнали тайну мавританской глазури и занесли ее в Италию, где она и нашла свое распространение главным образом в Тоскане и Умбрии. Первую попытку применить глазурь для глиняной пластики, но попытку, не вполне удавшуюся, предпринял Лоренцо Гиберти. Знакомство с майоликовыми сосудами дало Луке делла Роббиа мысль перенести технику глазури с керамики на пластику, и эта идея дала блестящие результаты. Техника Луки делла Роббиа состояла в том, что глиняная модель слегка обжигалась, затем окрашивалась, покрывалась глазурью и вторично подвергалась действию огня. Окраска была или полная (в таком случае ее цвета ограничивались белым, синим, зеленым, желтым, фиолетовым и черным), или же фигуры, в подражание мрамору, оставляли белыми, обычно на синем фоне и с позолоченным орнаментом. Но вернемся к дарохранительнице в госпитале Санта Мария Нуова. Помимо первого применения глазури и раскраски мы найдем в ней прием, принципиально чуждый позднейшим идеям классического Ренессанса, — смешение материалов. Мрамор здесь сочетается с бронзой и глазурованной глиной. По обеим сторонам бронзовых дверей (более позднего времени) стоят два мраморных ангела; в люнете — Пьета из мрамора на синем глазурованном фоне. С этого момента судьба творчества Луки делла Роббиа была решена. К мрамору и бронзе он обращается теперь в редчайших случаях, основным же материалом его пластики делается раскрашенная, глазурованная глина. Глина соответствовала самому существу искусства Луки делла Роббиа, мягкому, лирически настроенному, посвященному главным образом женским и детским образам. Но у глины, как материала, были и другие, специфические преимущества, отвечавшие требованиям времени. Как раз в середине кватроченто интерес к пластике захватывает все более широкие слои населения. Бедные провинциальные церкви требуют для себя наружного убранства, появляется мода на наружные пластические украшения частных жилищ. Глазурованная же глина была не только самым дешевым материалом, но и наиболее защищенным от непогоды — она даже нуждалась в дожде, поддерживавшем блеск ее поверхности. Нет ничего удивительного, что мастерская Луки делла Робиа приобретает огромную популярность и буквально осаждается заказчиками. Первый опыт чистой глазурной пластики Лука делла Роббиа делает в 1442 году, в люнете над дверью, ведущей в ризницу собора. На рельефе изображено «Воскресение». Через короткое время следует второй люнет над другой дверью ризницы с изображением «Вознесения». Эти рельефы интересны прежде всего в том смысле, что они сразу же устанавливают постоянное и излюбленное место для декоративной глазурованной пластики — люнет, то есть полукруглое или стрельчатое завершение арки над дверью. Что касается самого характера рельефа, то сразу бросается в глаза, что переход от мрамора к глазурованной глине не дался Луке делла Роббиа сразу и безболезненно. Формы отличаются некоторой чрезмерной тяжеловесностью и слишком жесткой детальной отделкой, не соответствующей духу нового материала. Лука делла Роббиа еще не нашел вполне отвечающего материалу нового стиля. Вторым излюбленным форматом для глазурованной пластики, тоже установленным Лукой делла Роббиа, является так называемое тондо — то есть круглый формат. Его Лука делла Роббиа смог применить при украшении капеллы Пацци, которое ему было поручено самим Брунеллески. И здесь Лука делла Роббиа оказывается как бы в невольном соревновании с Донателло, выполняя декоративную задачу, аналогичную той, которую Донателло несколькими годами раньше поставил себе в ризнице Сан Лоренцо. Как там, так и здесь четыре рельефа должны были украшать паруса купола. Но в отличие от легких, воздушных и почти однотипных пейзажей Донателло, Лука делла Роббиа дает монументальные образы евангелистов на фоне золотых лучей и во всей пестроте глазурных красок. И еще раз случай заставил Луку делла Роббиа конкурировать с Донателло в разрешении одинаковой задачи. В 1445 году Луке делла Роббиа было поручено изготовить бронзовые двери для ризницы собора. Чуждый всяких живописных задач, Лука делла Роббиа примкнул, разумеется, не к концепции Гиберти, а к схеме Донателло. Так же как Донателло в бронзовых дверях ризницы Сан Лоренцо, Роббиа разделяет створки дверей на десять полей, так же как Донателло, ограничивает свои рельефы немногими фигурами. Но при всем внешнем сходстве внутреннее различие очень велико. Прежде всего — различие темпераментов. У Донателло, как вы помните, страстные, полные динамики и экспрессии жесты, диалоги. Вместо них Лука делла Роббиа дает спокойные, строго уравновешенные, репрезентативные сцены. Второе отличие касается ритма композиции. У Донателло — типичная для поздней готики асимметрия и двухчастная композиция с пустым центром. У Луки делла Роббиа — трехчастная композиция с сильно подчеркнутым, доминирующим центром, то есть излюбленная композиционная схема Ренессанса. К пятидесятым годам относится последняя работа Луки делла Роббиа в мраморе — гробница епископа Федериги в церкви Санта Тринита. Роббиа упрощает схему гробницы, намеченную в свое время Арнольфо ди Камбио и развитую Донателло, и ограничивает ее телом епископа, покоящимся на саркофаге, и трехфигурной группой «Пьета». Тем большее внимание мастер устремляет на тончайшую, изысканнейшую отделку мраморной поверхности — в складках одежды епископа, в фигурках витающих ангелов, в узорной профилировке карнизов. Специфическое, свойственное только Луке делла Роббиа очарование придает также фруктовая гирлянда, обрамляющая гробницу, не рельефно вылепленная, как, например, у Гиберти, а пестро расписанная под глазурь. Последние тридцать лет жизни, вплоть до своей смерти в 1482 году, Лука делла Роббиа посвятил исключительно работе в глазурованной глине. При этом круглая статуя во весь рост совершенно исчезает из его кругозора; мастер сосредоточивает все свое внимание на полуфигурном рельефе, ограничиваясь почти только одной темой — «мадонной с младенцем», иногда в сопровождении ангелов или святых, в люнете или в тондо. Именно этот-то период деятельности Луки делла Роббиа и завоевал ему общеевропейскую славу. Первую датированную мадонну этого типа Лука делла Роббиа исполнил в 1449 году вне пределов Флоренции, в Урбино, для портала церкви Сан Доменико. Здесь Лука делла Роббиа создает прообраз той схемы, которую он сам, а позднее многочисленные представители семьи Роббиа неустанно варьируют на протяжении целого столетия. Композиция дана в полуфигурах, в очень высоком рельефе; в центре — мадонна придерживает младенца, стоящего на балюстраде, по бокам — святые. Торжественный, иератический тон урбинского люнета постепенно уступает место более интимному, лирическому настроению. Лучшее представление об этом интимном домашнем искусстве может дать люнет, когда-то украшавший фасад монастыря на Виа д’Аньоло во Флоренции, а теперь хранящийся во флорентийском Национальном музее. Здесь можно наблюдать все отличительные свойства искусства Луки делла Роббиа: нежную миловидность его образов, контраст белых сверкающих фигур на глубоком синем фоне и в пестром обрамлении цветочной гирлянды. Романтический пафос образов Донателло, их фантастика, смягченные у Луки делла Роббиа, переведены в более реальную и интимную атмосферу материнской ласки и детских радостей. Нет никакого сомнения, что Лука делла Роббиа ближе подошел к духу классического стиля, чем скульпторы предшествующего поколения. Тем не менее некоторые особенности еще отделяют его от зрелого Ренессанса. Во-первых, его чувствительность, пассивность его настроений; во вторых, декоративность его пластической концепции. Несмотря на большую округлость форм, фигуры Луки делла Роббиа лишены активной пластической силы, их движения слишком связаны архитектурной плоскостью и архитектурным обрамлением. Обратите внимание, младенец у Луки делла Роббиа всегда помещен по левую руку мадонны, и их взгляды, минуя друг друга и минуя зрителя, устремлены в пассивном, бесцельном созерцании. Для того чтобы историческое положение Луки делла Роббиа обрисовалось более отчетливо, ознакомимся с художественными тенденциями его главного последователя и племянника — Андреа делла Роббиа, хотя деятельность последнего далеко выходит за пределы рассматриваемой нами сейчас эпохи. Андреа делла Роббиа родился в 1435 и умер в 1525 году. За свою девяностолетнюю жизнь Андреа делла Роббиа пережил не один крупнейший перелом в художественной жизни Италии и захватил не только эпоху Высокого Ренессанса, но и крушение его идеалов. Тем не менее в глубине души Андреа делла Роббиа оставался всегда кватрочентистом, и поэтому мы вправе уже теперь подвергнуть его искусство анализу. Андреа делла Роббиа прежде всего развертывает искусство глазурованной пластики в ширину, придает деятельности мастерской более коммерческий характер. Целыми караванами отправляются теперь заказы по всей Средней Италии. Однако и Андреа делла Роббиа не удалось преодолеть некоторых географических границ. Так, Рим остался навсегда враждебным к глазури, как и области Италии севернее Болоньи. Но еще и в другом смысле Андреа делла Роббиа расширил пределы, поставленные глазурованной пластике ее изобретателем. Лука делла Роббиа глазуровал только люнеты и тондо. Андреа стал обжигать и покрывать глазурью целые алтари со сложными рамами и пределлами и со статуями во весь рост. Одним из ранних произведений Андреа в этой области является, например, алтарь из Варрамисты, находящийся теперь в Берлинском музее. Перед нами нечто вроде пластической имитации алтарной иконы; маленькие пределлы под главной иконой со своими красочными пейзажами производят особенно живописное впечатление. Но в целом ранние произведения Андреа, где мастер ограничивается небольшим количеством фигур, спокойно и свободно распределенных, еще близки к пластической концепции Луки делла Роббиа. В последних алтарях Андреа все дальше отходит от стиля своего дяди и учителя. Но при этом следует отметить, что дальнейшее стилистическое развитие Андреа делла Роббиа идет одновременно в двух почти противоположных направлениях — особенность, свойственная всему итальянскому искусству второй половины XV века. С одной стороны, чувствуется известное возрождение готических тенденций. Прежде всего — в предпочтении религиозно-догматических и мистических тем. Андреа делла Роббиа охотно переносит действие в небесные сферы, любит такие темы, как «Венчание богоматери», «Передача пояса апостолу Фоме» и т. п. Примером может служить «Венчание богоматери» — алтарь в одной из сьенских церквей. Большая часть фигур изображена витающей в воздухе, на фоне синего неба; самих фигур стало гораздо больше, композиция перегруженней, динамичней и пестрей; линии потеряли строгость и тектонику, присущую Луке делла Роббиа, и вьются мелким узорным рисунком. Та земная вещественность, телесность, которая при всей нежной лирике свойственна Луке делла Роббиа, уступает у Андреа состоянию мистической одухотворенности. Особенно это относится к «Распятиям» Андреа делла Роббиа, где чувства святых, окружающих подножие креста, отмечены некоторой экзальтацией и где одежды рыдающих ангелов закручиваются такими же волнообразными спиралями, как на алтарных иконах тречентистов. О возрождении религиозного чувства и вместе с тем готической экспрессии говорит и знаменитый люнет, украшающий Лоджию ди Сан Паоло во Флоренции. Встреча святого Франциска и святого Доминика рассказана не только с подкупающей искренностью и теплотой чувства, но и с каким-то почти архаическим простодушием. Этот элемент архаизации — черта тоже очень характерная для итальянского искусства второй половины XV века — еще сильней выражен в люнете «Благовещение», помещенном во дворе Воспитательного дома. От гирлянды серафимов, от букета лилий в вазе с тонкими завитыми ручками, от профилей мадонны и ангела веет своеобразным наивным духом примитива. Но наряду с этими готизирующими тенденциями творчество Андреа делла Роббиа обнаруживает черты, идущие в совершенно другом направлении, подготовляющие окончательный поворот в сторону классического стиля. Эта классическая тенденция проявляется главным образом в мадоннах Андреа делла Роббиа. Здесь Андреа отказывается от яркой полихромии, ограничивается строгим контрастом белых фигур на синем фоне; выпуклые фигуры совершенно отделяются от фона; во взаимоотношениях мадонны и младенца проявляется гораздо больше активности, действия. Наконец, решающий шаг в сторону классического стиля Андреа делла Роббиа делает в том смысле, что освобождает фигуру от архитектурного фона и осмеливается на создание в глазурованной глине свободных, круглых статуй и групп. Знаменитая «Встреча Марии и Елизаветы» в Пистойе может служить наиболее ярким примером решительного поворота Андреа к Ренессансу. Идеальный стиль этой группы подчеркнут не только отказом от всякой полихромии, не только спокойствием и простотой силуэта, но и монументальной четкостью контрастов: юности и старости, стояния и коленопреклонения, поднятого и опущенного взора. Картина итальянской скульптуры в первой половине XV века была бы неполной, если бы мы не ввели в наш обзор группы флорентийских художников, которые воспитывались в мастерских великих основателей искусства кватроченто. Для всей этой группы младших представителей раннего кватроченто характерно, что никто из них уже непосредственно не застал во Флоренции традиций треченто, не пережил борьбы с готикой. Для всех них самостоятельная деятельность началась после римской поездки Донателло и Брунеллески. Таким образом, идеи Ренессанса, равно как новые методы изображения, были для них неоспоримыми аксиомами, безусловными предпосылками их творчества. Однако заслуживает внимания то обстоятельство, что они, заимствовав некоторые стороны классических тенденций, подобно Андреа делла Роббиа, начинают склоняться в сторону готической концепции. Их творчество служит переходом к той своеобразной «второй готике» или «готике в Ренессансе», которая составляет одну из наиболее отличительных черт в итальянском искусстве второй половины кватроченто. Старший в этой группе, Бернардо Росселлино, наиболее верен идеалам Ренессанса. Мы уже сталкивались с его именем в обзоре архитектуры кватроченто. Бернардо Росселино был ближайшим сотрудником Леоне Баттиста Альберти и воплощал в конкретные формы его теоретические задания во Флоренции, Риме и Пиенце. По природе своего таланта он был больше архитектором, чем скульптором. Поэтому и в свои скульптурные произведения Бернардо Росселлино вносил тектонические принципы и стремился к декоративному подчинению пластики архитектуре. Реакция против чистой пластики, которую мы отметили уже в деятельности Луки делла Роббиа, в концепции Бернардо Росселлино становится еще заметней. Кроме того, Бернардо Росселлино принадлежит важная роль в реабилитации мрамора, который делается излюбленным материалом всей занимающей нас теперь группы флорентийских скульпторов. Скульптурная деятельность Бернардо Росселлино проявилась почти исключительно в изготовлении кивориев и надгробных памятников. Главное произведение Бернардо Росселлино, гробница канцлера Флорентийской республики, Леонардо Бруни, в церкви Санта Кроче исполнена в 1447 году. Бернардо Росселлино снова подхватывает мотив стенной гробницы, созданный Арнольфо ди Камбио и однажды уже использованный Донателло в гробнице папы Иоанна XXIII. Не может быть сомнений, что для Донателло центр тяжести лежит на скульптуре — прежде всего на бронзовой статуе самого покойного папы, резко выделяющейся на общем мраморном фоне и поднятой на высокий постамент; мало того, во всем архитектурном ансамбле гробницы — с массивными колоннами, с занавесом — преобладает элемент статуарный: гробница кажется независимой от архитектуры, только придвинутой к стене. У Бернардо Росселлино мы видим другие тенденции. У него на первом месте архитектура, преобладание отвлеченных линий, пропорционирование отдельных частей в общее тектоническое целое. Гробница вместе со всей своей декоративной оправой вставлена в стену. Саркофаг лишен того высокого постамента, на который его вознес Донателло. Сам саркофаг, имеющий строго прямоугольную форму, вплотную вставлен в обрамляющие его пилястры. Горизонтальное направление саркофага, катафалка и лежащей фигуры умершего уравновешено тремя красными вертикальными плитами фона. Этот прямолинейный контраст разрешается полукруглым завершением арки и диагоналями двух путти, держащих герб и гирлянду. Все пластические элементы этого ансамбля, даже фигура умершего, теряют свое самостоятельное значение и выполняют исключительно тектонические функции. Соподчинение, равновесие, спокойствие — так хотелось бы определить впечатление от гробницы Леонардо Бруни. Работу Бернардо Росселлино можно было бы назвать классической, если бы не чересчур подробный узор орнамента, не слишком тонкая профилировка обрамления, которые выдают кватрочентиста. Дальнейшее развитие флорентийской гробницы мы находим у младшего современника Росселлино — у Дезидерио да Сеттиньяно. Ученик Донателло, Дезидерио пошел, однако, совершенно противоположными учителю путями — в сторону миниатюрного, грациозного, миловидного. Выдающийся мастер мраморной техники, Дезидерио увлекся главным образом виртуозной обработкой поверхности. Самая крупная работа Дезидерио создана в идеальном соревновании с Бернардо Росселлино. Это — гробница Карло Марсуппини, начатая в 1453 году и поставленная тоже в Санта Кроче, напротив гробницы Леонардо Бруни. Сравнение обеих гробниц напрашивается само собой. У Дезидерио нет той строгости и чистоты стиля, которая свойственна Бернардо Росселлино. Пропорции гробницы Марсуппини шире, как бы тяжеловеснее и вместе с тем перегруженнее деталями. Три плиты фона сменились четырьмя; у подножия пилястров появились маленькие путти, а двое путти-подростков спустились на карниз и поддерживают теперь длинные, тяжелые гирлянды. У Дезидерио главный интерес сосредоточен на отдельных деталях: саркофаг с его изогнутой, чешуйчатой крышкой и сложной декорацией по углам представляет собой действительно чудо мраморной техники, но вместе с тем отвлекает внимание от главной фигуры умершего. Чтобы ее выделить, Дезидерио прибегает к не совсем естественному наклону катафалка на зрителя. В этом обилии жанровых деталей у Дезидерио сказывается тот же поворот искусства к обыденному прозаизму, который мы отметили уже в творчестве Луки делла Роббиа. Забегая несколько вперед, посмотрим, какое дальнейшее развитие мотив стенной гробницы получил во второй половине XV века. Два выдающихся памятника флорентийской скульптуры приходят здесь прежде всего на память, иллюстрирующие две противоположные тенденции в искусстве конца кватроченто. Первый из них — гробница графа Уго во флорентийской Бадии, которую скульптор Мино да Фьезоле закончил в 1481 году. Общая схема осталась прежней. Однако она претерпела изменения, на первый взгляд не слишком заметные, но очень существенные. Во-первых, изменились пропорции: все конструктивные элементы вытянулись вверх, приобрели вертикальную тягу — опять появился постамент, арка стала уже, средняя вертикальная ось теперь подчеркнута фигурой «Милосердие», отличающейся особенно тонкими, вытянутыми пропорциями. Другой важный момент в концепции Мино да Фьезоле состоит в том, что и пластические и архитектурные элементы получили более плоскостной, графический характер, все линии отточены с почти математической резкостью (обратите внимание, например, на прямой горизонтальный силуэт умершего, на плоский рисунок занавеса, на то, что для фона выбрана теперь гораздо более темная порода камня). И в той и в другой особенности творчества Мино да Фьезоле проявляется определенная оппозиция против идей Ренессанса. Если отыскивать в современной Мино да Фьезоле живописи параллельные явления, то в памяти прежде всего возникают образы Боттичелли в их острой линейной абстракции. Второе надгробие возникло в 1461–1466 годах. Это — гробница кардинала Португальского в Сан Миньято, исполненная младшим братом Бернардо — Антонио Росселлино. Здесь тоже имеет место полихромия, пестрота материалов и красок. Так, рельеф «Мадонна» выступает на синем с золотом фоне; главная стена — из темно-красного порфира; зеленые, красные и белые пятна чередуются в мозаике постамента. Общая идея гробницы переносит всю сцену в сферу небесного видения. Всего важней в концепции Антонио Росселлино те черты, которые подготовляют переход к Высокому Ренессансу. Гробница Антонио Росселлино представляет собой уже не плоскую нишу, чисто декоративно вставленную в стену, но настоящую глубокую капеллу, причем фигура умершего на саркофаге разработана как круглая статуя и свободно поставлена в реальном пространстве капеллы. Осталось сделать последний шаг — преодолеть противоречие между реальной пластикой саркофага и иллюзорной пластикой ангелов — и пластический стиль Высокого Ренессанса найден. Но вернемся опять к Бернардо Росселлино и Дезидерио да Сеттиньяно. Наряду с разработкой стенной гробницы им принадлежит еще изобретение новой декоративной формы стенного кивория. Особенно богатую и жизнерадостную композицию такого кивория Дезидерио дает в церкви Сан Лоренцо. Чрезвычайно характерна для Дезидерио, а вместе с тем и вообще для кватроченто, центральная часть кивория. Она изображает в рельефе глубокую залу с колоннами и коробовыми сводами. Из боковых дверей в нее устремляются поклоняющиеся ангелы. На задней стене залы, которая вместе с тем является дверцей кивория, сверкает связка золотых колосьев. В замысле Дезидерио ярко отразилась главная страсть художника кватроченто — страсть к оптической иллюзии. Что касается общей композиции кивория, то, как и в гробнице Карло Марсуппини, она отличается богатством декоративной изобретательности, но и несомненной перегруженностью. В люнете кивория из бокала поднимается обнаженная фигурка Христа — дитяти, вокруг которого молятся путти и серафимы. Пределла кивория в контраст к этой радостной игре изображает «Оплакивание Христа». По бокам кивория стоят подростки-клиросники, держащие канделябры. Именно в изображении этого детского мира проявляются лучшие качества Дезидерио да Сеттиньяно. Он унаследовал от своего учителя Донателло тип шаловливого, толстощекого карапуза, но придал образу путто другой, более жанровый характер. Насколько в области изображения детей Дезидерио обладал богатой фантазией и тонкой наблюдательностью, показывает фриз херувимов, который он исполнил для украшения стен капеллы Пацци. Но особенную популярность у современников Дезидерио да Сеттиньяно завоевал детскими бюстами из мрамора. Эти бюсты портретно воспроизводят черты отпрысков аристократических фамилий, и обыкновенно, в память рано умерших, они ставились в фамильных капеллах. Однако флорентийское общество эпохи кватроченто еще не отваживалось на официальное, так сказать, признание детского портрета, и поэтому детские портреты были обычно замаскированы атрибутами или нимбами юного Иисуса или Иоанна Крестителя. Напомню один из таких бюстов, с характерными для ребят Дезидерио ямочками на щеках и плутоватой улыбкой наполовину беззубого рта. Бюст сохранил даже двойное ожерелье своей модели. В мягкой технике обработки мрамора, в разнообразии поверхности Дезидерио достигает наивысшего мастерства. Тонирование бюстов воском придает мраморам Дезидерио особенно нежный и прозрачный, словно алебастровый, оттенок. Наряду с детскими бюстами Дезидерио прославили портретные бюсты девушек. Берлинский музей хранит один из наиболее блестящих образцов искусства Дезидерио в этой области — бюст так называемой Мариэтты Строцци[35]. Как и у Донателло, бюст срезан снизу прямой линией примерно у пояса. Сохранились следы раскраски и позолоты: так, одежда Мариэтты была зеленого цвета, за ее золотой шнуровкой виднеется белая рубашка. Необычайно длинная шея лишена всяких украшений. Голова немного откинута назад и повернута вправо, туда же направлен словно быстро метнувшийся, немного плутоватый, немного надменный взгляд. Волосы подхвачены платком, закрывающим уши. Брови, а также волосы на верхушке лба, по тогдашней моде, обриты, что придает лбу особенно высокую и выпуклую форму. Женские бюсты Дезидерио обладают, несомненно, большим очарованием. Но все же перед ними нельзя освободиться от некоторого чувства неудовлетворенности. Посмотрите, например, на бюст урбинской принцессы[36]. Конечно, в чертах ее лица схвачены вполне индивидуальные особенности, сильно отличающие ее, например, от Мариэтты Строцци. Но вместе с тем поворот, посадка головы и особенно взгляд в сторону остались совершенно такими же. Как типичный кватрочентист, Дезидерио изображает только физическую, но не духовную личность модели; и притом личность, если так можно сказать, статическую, застывшую и неизменную во всех своих качествах. Если статичность бюстов Дезидерио выводит их из сферы готики, то их острая персональность еще мешает им примкнуть к стилю классического Ренессанса. Для этого им не хватает синтеза и объективного равновесия физического и духовного начала. Что здесь идет речь не об особенностях таланта Дезидерио, а об общих свойствах мировоззрения эпохи, показывает сравнение с любым портретным бюстом середины XV века. Например, с двумя мужскими бюстами: бюстом Маттео Пальмиери, исполненным Антонио Росселлино, и бюстом Никколо Строцци работы Мино да Фьезоле. Они оба в одинаковой мере индивидуальны, натуралистичны в фиксации физических качеств модели, но вместе с тем и поразительно неподвижны и духовно немы. Заканчивая характеристику Дезидерио да Сеттиньяно, необходимо упомянуть еще об одном виде пластики, в котором он развернул специфические стороны своего дарования. Это — рельефы с изображением мадонны. С тематической стороны Дезидерио продолжает направление, избранное мастерской Луки делла Роббиа, — в сторону очеловечивания мадонны, превращения иконы в жанровое изображение матери и ребенка. С формальной же стороны Дезидерио подхватывает изобретение своего учителя Донателло — так называемый rilievo schiacciato, как выше говорилось, живописный рельеф, в котором формы показаны нежнейшими переходами поверхности. Пластику Дезидерио можно рассматривать как кульминационный момент в развитии rilievo schiacciato. У его последователей (как, например, у Антонио Росселлино) при одинаковых приемах живописной обработки поверхности рельефа форма становится все более выпуклой. В целом деятельность Дезидерио да Сеттиньяно представляет собой как бы небольшую передышку между двумя творческими взлетами итальянского искусства в начале и в конце кватроченто — узкую полосу декоративного интимного благополучия.XIII
СВОЕОБРАЗНАЯ ПЕРЕДЫШКА, которую образовала деятельность Дезидерио да Сеттиньяно, естественно, не могла быть долгой в сложных и неспокойных исторических условиях XV века, когда ничто в Италии не стабилизировалось и не приобретало особенно устойчивых форм. Диктатура Медичи (с 1434 года), поначалу носившая даже демократический облик, с годами переродилась и при внуке первого властителя, Лоренцо Великолепном, приобрела тиранический характер. Казалось, все противоречия времени воплотились в фигуре и действиях Лоренцо: трезвый политик и романтически настроенный поэт, гуманист, меценат, тонкий знаток искусства и — тиран, неистовый в терроре, он стремился к феодальной пышности двора и одновременно пытался крепить связи с народной массой. Во дворце Медичи собирался цвет интеллигенции, писатели, философы, художники (Пульчи, Полициано, Фичино, Пико делла Мирандола, Боттичелли, юный Микеланджело). Здесь царило веселье, устраивались богатейшие празднества, охоты, происходили карнавалы и турниры. Все было обставлено с торжественностью, пышной театральностью (колесницы, триумфальные арки). Но эта придворная культура, изнеженная и гедонистическая, несла на себе оттенок разложения, и никакой шум блестящих празднеств не мог заглушить затаенную тревогу, грусть, предчувствия. Одно из стихотворений Лоренцо Великолепного заканчивалось словами:«Юность, юность, ты чудесна,
Хоть проходишь быстро путь.
Счастья хочешь, — счастлив будь Нынче, завтра — неизвестно».

103. НАННИ ДИ БАНКО. ЧЕТВЕРО СВЯТЫХ. ДЕТАЛЬ СКУЛЬПТУРНОЙ ГРУППЫ ЦЕРКВИ ОР САН МИКЕЛЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. ОК. 1410–1415.

104. ДОНАТЕЛЛО. ЕВАНГЕЛИСТ ИОАНН. ФЛОРЕНЦИЯ, МУЗЕЙ СОБОРА. ОК. 1409–1411 ГГ.

105. НАННИ ДИ БАНКО. ЕВАНГЕЛИСТ ЛУКА. ФЛОРЕНЦИЯ, МУЗЕЙ СОБОРА. 1408–1415.

106. НАННИ ДИ БДНКО. МАДОННА. ДЕТАЛЬ СКУЛЬПТУРЫ ПОРТА ДЕЛЛА МАНДОРЛА СОБОРА САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ ФЬОРЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1415–1422.

107. ЯКОПО ДЕЛЛА КВЕРЧА. ДЕТАЛЬ ФОНТАНА «ФОНТЕ ГАЙЯ». СЬЕНА. ПАЛАЦЦО ПУББЛИКО. 1408–1419.

108. ЯКОПО ДЕЛЛА КВЕРЧА. НАДГРОБИЕ ИЛАРИИ ДЕЛЬ КАРРЕТО. ЛУККА, СОБОР. 1406.

109. ЯКОПО ДЕЛЛА КВЕРЧА. КУПЕЛЬ БАПТИСТЕРИЯ В СИЕНЕ. 1417–1431.

110. ЯКОПО ДЕЛЛА КВЕРЧА. СОТВОРЕНИЕ АДАМА. ДЕТАЛЬ ПОРТАЛА ЦЕРКВИ САН ПЕТРОНИО В БОЛОНЬЕ. 1425–1438.

111. ЯКОПО ДЕЛЛА КВЕРЧА. ГРЕХОПАДЕНИЕ. ДЕТАЛЬ ПОРТАЛА ЦЕРКВИ САН ПЕТРОНИО В БОЛОНЬЕ. 1425–1438.

112. ЛОРЕНЦО ГИБЕРТИ. ИЗГНАНИЕ ТОРГУЮЩИХ ИЗ ХРАМА. РЕЛЬЕФ СЕВЕРНЫХ ДВЕРЕЙ БАПТИСТЕРИЯ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1404–1424.

113. ЛОРЕНЦО ГИБЕРТИ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ. РЕЛЬЕФ СЕВЕРНЫХ ДВЕРЕЙ БАПТИСТЕРИЯ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1404–1424.

114. ЛОРЕНЦО ГИБЕРТИ. СЕВЕРНЫЕ ДВЕРИ БАПТИСТЕРИЯ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1404–1424.

115. ЛОРЕНЦО ГИБЕРТИ. РАЙСКИЕ ДВЕРИ БАПТИСТЕРИЯ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1425–1452.

116. ЛОРЕНЦО ГИБЕРТИ. ПРОДАЖА ПЕРВОРОДСТВА. РЕЛЬЕФ РАЙСКИХ ДВЕРЕЙ БАПТИСТЕРИЯ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1425–1452.

117. ЛОРЕНЦО ГИБЕРТИ. ВСТРЕЧА СОЛОМОНА С ЦАРИЦЕЙ САВСКОЙ. РЕЛЬЕФ РАЙСКИХ ДВЕРЕЙ БАПТИСТЕРИЯ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1425–1452.

118. ЛОРЕНЦО ГИБЕРТИ. СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. РЕЛЬЕФ РАЙСКИХ ДВЕРЕЙ БАПТИСТЕРИЯ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1425–1452.

119. ЛОРЕНЦО ГИБЕРТИ. ГИРЛЯНДА. РЕЛЬЕФ РАЙСКИХ ДВЕРЕЙ БАПТИСТЕРИЯ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1425–1452.

120. ЛОРЕНЦО ГИБЕРТИ. ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ. ЦЕРКОВЬ ОР САН МИКЕЛЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1412 1415.

121. ДОНАТЕЛЛО. ДАВИД. 1408–1409. ФЛОРЕНЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ.

122. ДОНАТЕЛЛО. СВ. ГЕОРГИЙ. 1415–1417. ФЛОРЕНЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ.

123. ДОНАТЕЛЛО, СКУЛЬПТУРЫ КАМПАНИЛЫ СОБОРА САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ ФЬОРЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1416–1435.

124. ДОНАТЕЛЛО. АВВАКУМ. ДЕТАЛЬ. 1436. ФЛОРЕНЦИЯ. МУЗЕЙ СОБОРА.

125. ДОНАТЕЛЛО И МИКЕЛОЦЦО. НАДГРОБИЕ ПАПЫ ИОАННА XXIII. ФЛОРЕНЦИЯ, БАПТИСТЕРИЙ. 1425–1427.

126. ЯКОПО ДЕЛЛА КВЕРЧА. ИЗГНАНИЕ ЗАХАРИЯ ИЗ ХРАМА. РЕЛЬЕФ КУПЕЛИ БАПТИСТЕРИЯ В СЬЕНЕ. 1427–1430.

127. ДОНАТЕЛЛО. ПИР ИРОДА. РЕЛЬЕФ КУПЕЛИ БАПТИСТЕРИЯ В СЬЕНЕ. 1423–1427.

128. ДОНАТЕЛЛО. ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ. ПРЕЖДЕ-БЕРЛИН, МУЗЕЙ ИМПЕРАТОРА ФРИДРИХА

129. ДОНАТЕЛЛО. МАДОННА. ПАДУЯ, ЦЕРКОВЬ САНТ АНТОНИО. АЛТАРЬ. 1446–1450.

130. ДОНАТЕЛЛО. ИСЦЕЛЕНИЕ ГНЕВНОГО СЫНА. РЕЛЬЕФ АЛТАРЯ ЦЕРКВИ САНТ АНТОНИО В ПАДУЕ. 1446–1450.

131. ДОНАТЕЛЛО. БЛАГОВЕЩЕНИЕ. ФЛОРЕНЦИЯ, ЦЕРКОВЬ САНТА КРОЧЕ. 1428–1433.

132. ДОНАТЕЛЛО. ДАВИД. 1430-Е ГГ. ФЛОРЕНЦИЯ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ.

133. ДОНАТЕЛЛО. КОННАЯ СТАТУЯ КОНДОТЬЕРА ГАТТАМЕЛАТА В ПАДУЕ. 1447–1453.

134. ДОНАТЕЛЛО. ЮДИФЬ И ОЛОФЕРН. ФЛОРЕНЦИЯ. 1456–1457.

135. ДОНАТЕЛЛО И МИКЕЛОЦЦО. КАФЕДРА СОБОРА В ПРАТО. 1433–1438.

136. ДОНАТЕЛЛО. ВОЗНЕСЕНИЕ. РЕЛЬЕФ КАФЕДРЫ ЦЕРКВИ САН ЛОРЕНЦО ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1460-Е ГГ.

137. ЛУКА ДЕЛЛА РОББИА. КАНТОРИЯ. 1431–1438. ФЛОРЕНЦИЯ, МУЗЕЙ СОБОРА.

138. ЛУКА ДЕЛЛА РОББИА. ГРОБНИЦА ЕПИСКОПА ФЕДЕРИГИ. ФЛОРЕНЦИЯ, ЦЕРКОВЬ САНТА ТРИНИТА. 1454–1458.
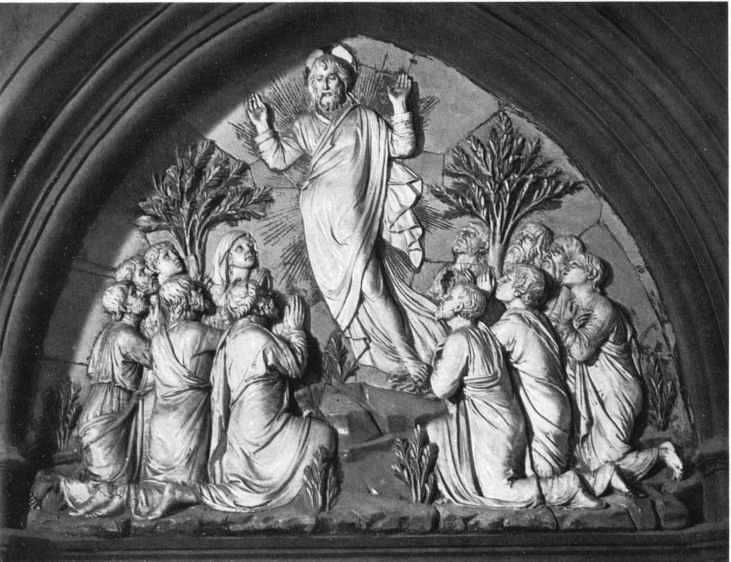
139. ЛУКА ДЕЛЛА РОББИА. ВОЗНЕСЕНИЕ. ФЛОРЕНЦИЯ. СОБОР САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ ФЬОРЕ. 1442–1445.

140. АНДРЕА ДЕЛЛА РОББИА. МАДОННА СО СВЯТЫМИ. ОК. 1480 Г. БЕРЛИН-ДАЛЕМ, МУЗЕЙ.

141. ЛУКА ДЕЛЛА РОББИА. МАДОННА. ОК. 1455 Г. ФЛОРЕНЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ.

142. АНДРЕА ДЕЛЛА РОББИА. ВСТРЕЧА МАРИИ И ЕЛИЗАВЕТЫ. ПИСТОЙЯ, ЦЕРКОВЬ САН ДЖОВАННИ. ОК. 1455 Г. (?)

143. БЕРНАРДО РОССЕЛЛИНО. ГРОБНИЦА ЛЕОНАРДО БРУНИ. ФЛОРЕНЦИЯ, ЦЕРКОВЬ САНТА КРОЧЕ. 1446–1447.

144. МИНО ДА ФЬЕЗОЛЕ. ГРОБНИЦА ГРАФА УГО. ЦЕРКОВЬ БАДИИ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1471–1481.

145. ДЕЗИДЕРИО ДА СЕТТИНЬЯНО. ГРОБНИЦА КАРЛО МАРСУППИНИ. ФЛОРЕНЦИЯ, ЦЕРКОВЬ САНТА КРОЧЕ. С 1453 Г.

146. АНТОНИО РОССЕЛЛИНО. ГРОБНИЦА КАРДИНАЛА ПОРТУГАЛЬСКОГО. ФЛОРЕНЦИЯ. ЦЕРКОВЬ САН МИНЬЯТО. 1461–1466.

147. ДЕЗИДЕРИО ДА СЕТТИНЬЯНО. БЛАГОВЕЩЕНИЕ. ДЕТАЛЬ КИВОРИЯ ЦЕРКВИ САН ЛОРЕНЦО ВО ФЛОРЕНЦИИ. ОКОНЧЕН В 1461 Г.

148. ДЕЗИДЕРИО ДА СЕТТИНЬЯНО. ПОРТРЕТ УРБИНСКОЙ ПРИНЦЕССЫ. БЕРЛИН, МУЗЕЙ БОДЕ.

149. ДЕЗИДЕРИО ДА СЕТТИНЬЯНО. БЮСТ РЕБЕНКА. ОК. 1455–1460 ГГ. ВАШИНГТОН, НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ.

150. ВЕРРОККЬО. ДАВИД. 1473–1475. ФЛОРЕНЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ.

151. ВЕРРОККЬО. ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ. OK. 1475 Г. ФЛОРЕНЦИЯ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ.

152. ВЕРРОККЬО. ПУТТО С ДЕЛЬФИНОМ. ФЛОРЕНЦИЯ, ПАЛАЦЦО ВЕККЬО. ОК. 1470 Г.

153. ВЕРРОККЬО. ГРОБНИЦА ДЖОВАННИ И ПЬЕРО МЕДИЧИ В ЦЕРКВИ САН ЛОРЕНЦО ВО ФЛОРЕНЦИИ. ДЕТАЛЬ. СТАРАЯ САКРИСТИЯ. 1472.

154. ВЕРРОККЬО. НЕВЕРИЕ ФОМЫ. ФЛОРЕНЦИЯ, ЦЕРКОВЬ ОР САН МИКЕЛЕ. 1476–1483.

155. ВЕРРОККЬО. КОННАЯ СТАТУЯ КОНДОТЬЕРА КОЛЛЕОНИ. ВЕНЕЦИЯ. 1479–1488.

156. АНТОНИО ПОЛЛАЙОЛО. ГРОБНИЦА ПАПЫ СИКСТА IV. ДЕТАЛЬ. РИМ, ВАТИКАН. 1489–1493.

157. АНТОНИО ПОЛЛАЙОЛО. ГРОБНИЦА ПАПЫ ИННОКЕНТИЯ VIII. РИМ, СОБОР СВ. ПЕТРА. 1492–1498.

158. АНТОНИО ПОЛЛАЙОЛО. ГЕРАКЛ. БЕРЛИН, МУЗЕЙ БОДЕ.

159. БЕРТОЛЬДО ДИ ДЖОВАННИ. БИТВА. ДЕТАЛЬ РЕЛЬЕФА. ОК. 1480–1490 ГГ. ФЛОРЕНЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ.

160. БЕРТОЛЬДО ДИ ДЖОВАННИ. БЕЛЛЕРОФОН. ВЕНА, ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

161. БЕНЕДЕТТО И ДЖУЛИАНО ДА МАЙАНО. КАПЕЛЛА СВ. ФИНЫ В КОЛЛЕДЖАТЕ В САН ДЖИМИНЬЯНО. ЗАВЕРШЕНА В 1475 Г.

162. БЕНЕДЕТТО ДА МАЙАНО. КАФЕДРА ЦЕРКВИ САНТА КРОЧЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. ДЕТАЛЬ. 1472–1476.

163. БЕНЕДЕТТО ДА МАЙАНО. ПОРТРЕТ ФИЛИППО СТРОЦЦИ. ОК. 1490 Г. БЕРЛИН-ДАЛЕМ, МУЗЕЙ.

164. ФРАНЧЕСКО ЛАУРАНА. ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ. ВЕНА. ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

165. НИККОЛО ДЕЛЬ АРКА. ОПЛАКИВАНИЕ. ДЕТАЛЬ ГРУППЫ ЦЕРКВИ САНТА МАРИЯ ДЕЛЛА ВИТА В БОЛОНЬЕ. ОК. 1485 Г.

166. НИККОЛО ДЕЛЬ АРКА. ОПЛАКИВАНИЕ. ДЕТАЛЬ ГРУППЫ ЦЕРКВИ САНТА МАРИЯ ДЕЛЛА ВИТА В БОЛОНЬЕ. ОК. 1485 Г.
Антонио Поллайоло родился в 1433 и умер в 1498 году. Для того чтобы вполне уяснить направление его художественной деятельности, надо помнить, что в ту пору даже собственно научные интересы удовлетворялись, как правило, на почве искусства. Именно таким художникомученым, согласно Вазари, является Антонио Поллайоло. Главной его страстью была анатомия. Вазари рассказывает, что Антонио Поллайоло был одним из первых флорентийских художников, который систематически начал сецировать трупы, изучая структуру человеческого тела. Но эти анатомические штудии Поллайоло находились всецело на службе у художественного творчества. Центральной проблемой, занимавшей воображение Антонио Поллайоло, как и для Верроккьо, была проблема движения человеческого тела. Но самую сущность этой проблемы они понимали по-разному. Для Верроккьо проблема заключалась в изменениях пластической массы, в контрастах ее направлений и ее поверхности. Для Антонио Поллайоло проблема движения означает крайнее напряжение энергии, воли, активности человека, выражение органических функций человеческого тела. Поэтому, если Верроккьо предпочитает драпированные статуи, то Антонио Поллайоло с особенным увлечением разрабатывает обнаженное тело. Если Верроккьо предпочитает монументальные задачи, то Поллайоло склонен к миниатюре. Если, наконец, пластика Верроккьо при всей тенденции к грациозным деталям производит несколько тяжеловесное впечатление, то произведения Поллайоло, напротив, всегда отличаются преувеличенной пластичностью, беспокойством, хотелось бы сказать — физической и духовной экзальтацией. Эту разницу можно почувствовать, если сравнить портреты Верроккьо с бюстом воина, который Поллайоло вылепил из глины и который находится во флорентийском Национальном музее. В этой голове есть какая-то напряженность, недосказанность — не только потому, что руки воина обрезаны как бы случайно, но и потому, что в подъеме головы, в прядях волос на лбу, в глазах, губах схвачено мимолетное дыхание жизни, что-то переменчивое, неуловимое. Самые крупные работы Антонио Поллайоло исполнил в Риме, куда мастер прибыл в 1489 году. Это — две гробницы, против обыкновения кватроченто исполненные в бронзе. Первая из них — гробница папы Сикста IV в гротах Ватикана. Поллайоло, как Верроккьо, порывает с традициями флорентийской гробницы кватроченто и возвращается к типу средневековых гробниц с лежащей на саркофаге фигурой умершего. Папа лежит в парадном облачении; его голова покоится на богато вышитых подушках; со всех сторон его окружают аллегорические фигуры церковных и гуманистических добродетелей — представительницы trivium и quadrivium[38], дополненные аллегориями перспективы, теологии и философии. В этих аллегорических фигурах Поллайоло ставит себе пластическую задачу, которая была мимоходом затронута Донателло в начале его деятельности и которую забыла скульптура кватроченто, — задачу сидящей фигуры; при этом Поллайоло развивает ее в сторону новой для итальянской скульптуры концепции лежащей фигуры. Из вариаций этого полусидения и полулежания и состоят бронзовые рельефы, украшающие вогнутые стенки саркофага. Но Поллайоло понимает проблему сидящей фигуры совершенно иначе, чем Донателло. Для Донателло самым существенным была статика сидящей фигуры, ее прочность и тяжесть. Поллайоло же интересует именно движение в покое, он хочет показать непрерывное функционирование человеческого тела даже тогда, когда оно ничего не делает, когда находится на месте. Взгляните хотя бы на рельеф теологии, созерцающей явление Троицы в виде пламененющего солнечного диска. Обнаженная женская фигура лежит, но она в то же время полна непрестанного движения, она поворачивается, вытягивается, двигает конечностями. Движение в покое, подвижное равновесие — так можно было бы сформулировать задачу Поллайоло. Не кто иной, как Микеланджело, в капелле Медичи, в аллегориях времен дня подхватывает проблему, намеченную Поллайоло. Во втором римском монументе — в гробнице папы Иннокентия VIII (собор святого Петра) — Поллайоло хотя и избирает тип стенной гробницы, но опять отступает от традиций кватроченто. Поллайоло изображает папу дважды: один раз лежащим на саркофаге, а другой раз сидящим на троне и благословляющим. Идея бессмертия в той форме, в которой ее здесь воплотил Поллайоло, ближе готике, чем Ренессансу. И снова Поллайоло оказывается предшественником эпохи барокко, канонизировавшей статую папы, сидящего над своей гробницей. Для современников Поллайоло имел наибольшее значение как мастер мелкой бронзовой пластики. Здесь он был свободен в выборе своих тем. Характерно, что его выбор останавливается исключительно на теме обнаженного мужского тела. Статуэтки называются «Адам», «Давид», «Геракл», но, в сущности говоря, — это обнаженные натуры, штудии скелета и мускулов в различных функциях, в различных поворотах тела. Таков, например, «Геракл» в Берлине. Для Поллайоло дело, конечно, не в Геракле, хотя фигура и держит пресловутую палицу, а в обнаженном теле как таковом, в стремлении сделать живым, выразительным, напряженным каждый его мускул, каждое сочленение. Разумеется, в поисках этой активности во что бы то ни стало Поллайоло преувеличивает, слишком заостряет суставы и слишком накопляет мускулы. Как у Верроккьо, его натурализм проникнут крайней субъективностью. Но именно благодаря этому преувеличению образы Поллайоло приобретают какую-то демоническую силу, которая подчас больше захватывает, чем нормированная гармония Высокого Ренессанса. Особенно когда Поллайоло, как в группе «Геракл и Антей», имеет дело с движением стремительным, с крайним напряжением. В таких случаях натурализм Поллайоло поднимается до огромной жизненной силы. Направление Верроккьо и Поллайоло во флорентийской пластике конца кватроченто завершает третий мастер бронзы — Бертольдо ди Джованни. По размаху и силе своего дарования Бертольдо уступает своим современникам, но его историческая роль очень существенна. Творчество Бертольдо служит как бы мостом между ранним и Высоким Ренессансом: Бертольдо был учеником Донателло и учителем Микеланджело. Бертольдо занимал привилегированное положение среди художников, окружавших семью Медичи. Он жил в их флорентийском палаццо, сопровождал Лоренцо Медичи в его поездках. Когда Лоренцо Медичи устроил в своей вилле близ Сан Марко музей скульптур и своего рода художественную школу, то Бертольдо был назначен их руководителем. Деятельность Бертольдо посвящена исключительно мелкой пластике: бронзовые статуэтки и рельефы, медали и плакетки составляли его специальность. Как и Поллайоло, его занимают главным образом формы обнаженного тела и проблема движения. Но в отличие от Поллайоло, который сосредоточивал свое внимание преимущественно на отдельной фигуре, Бертольдо тяготеет к группам и массовым сценам. Наиболее своеобразный пример такой массовой сцены дает бронзовый рельеф Бертольдо, изображающий «Битву» и находящийся во флорентийском Национальном музее. В смысле стремительности темпа, в смысле противоречивости сплетающихся движений Бертольдо далеко превосходит не только Верроккьо, но и Поллайоло. Вместе с тем в рельефе Бертольдо нет ничего общего с живописным рельефом Донателло и Дезидерио. Фигуры у Бертольдо оторвались от фона; пространство развертывается не спереди в глубину, а снизу вверх. Аналогичное понимание рельефа мы найдем в эпоху треченто у Джованни Пизано. В полном соответствии с общей концепцией рельефа находится и обрамление «Битвы» аллегорическими статуями «Викторий», опирающихся на поверженных рабов, — мотив орнаментального вырастания одной статуи из другой. С другими особенностями творчества Бертольдо знакомят его маленькие бронзовые группы. Лучшая из них, «Беллерофонт и Пегас», находится в Вене. Не подлежит сомнению родственная близость между пластическими намерениями Бертольдо и Антонио Поллайоло. Но при более внимательном рассмотрении обнаруживаются и существенные различия. У Бертольдо уже нет крайнего натурализма, свойственного Поллайоло. Больше того, можно говорить о том, что статуэтки Бертольдо сознательно стилизованы. Бертольдо стилизует и самые формы человеческого тела, и в особенности стилизует движения, подчиняя их определенному линейному ритму (обратите внимание на согласование движений Беллерофонта и Пегаса). Эта стилизация движений, получающая у Бертольдо подчас оттенок манерности, особенно заметна в статуэтке так называемого «Ариона» из флорентийского Национального музея. Статуэтка Ариона интересна и в другом отношении: в нижней части она почти закончена, но грудь, руки и скрипка остались еще в сыром, почти неоформленном виде. Дело в том, что Бертольдо давал свои модели на отливку своим помощникам и потом уже в бронзовом отливе подвергал статуэтку окончательной обработке с помощью резца, рашпиля и других инструментов. Этот момент очень важен. В руках Бертольдо бронзовая техника как бы лишалась своих природных пластических свойств, переставала быть лепкой и начинала приближаться к скульптурным приемам высекания. Таким образом, деятельность Бертольдо выполняет очень заметную роль перехода от кватроченто к чинквеченто. Со столь же заметными переходными чертами, только в несколько иной комбинации, мы сталкиваемся в творчестве последнего значительного флорентийского скульптора кватроченто — Бенедетто да Майано. Ученик своего брата Джулиано, Бенедетто да Майано отличается от своих сверстников Верроккьо и Поллайоло прежде всего тем, что он работает главным образом в мраморе. Кроме того, его интерес обращен не к отдельной статуе или статуарной группе или рельефу, а к общему декоративному ансамблю, в котором участвуют часто не только архитектура и скульптура, но и живопись. Самым блестящим образцом такого декоративного ансамбля является капелла святой Фины в Сан Джиминьано, где Бенедетто да Майано работал вместе с братом Джулиано и живописцем Доменико Гирландайо. Для Бенедетто да Майано характерно чрезвычайно сложное сплетение тем и мотивов и одновременное смещение границ различных искусств. Полихромия при этом играет весьма важную роль в его общей композиции. Пестрый занавес отделяет нишу от стен капеллы. Над мраморным алтарным столом — бронзовые дверцы дарохранительницы, перед которыми шесть ангелов держат канделябры; при этом два передних ангела представляют собой круглые статуи, две же следующие пары ангелов, уменьшающиеся в оптической иллюзии, изображены в рельефе. Над дверцами — три плоских рельефа с изображениями чудес святой Фины. Над ними саркофаг и над саркофагом — мадонна, окруженная ангелами, на фоне темно-синего неба с золотыми звездами. Алтарь, дарохранительница, саркофаг сливаются здесь между собой так же неуловимо, как круглая скульптура переходит в рельеф и рельеф — в живопись. Прежняя чистота стиля, оберегавшая самобытные принципы отдельных искусств, исчезла; она сменилась у Бенедетто да Майано стремлением к единству общего оптического впечатления, общего настроения, нежно-радостного и, может быть, немного сентиментального. Аналогичные тенденции к сложному декоративному ансамблю мы находим и в другой крупной работе Бенедетто да Майано — кафедре в церкви Санта Кроче. Своего рода ретроспективные тенденции творчества Бенедетто да Майано сказываются в том, что он опять возрождает шестигранную форму кафедры, как она была принята в эпоху треченто. Типичны для переходного стиля Бенедетто да Майано и пестрота орнамента и живописный характер его рельефов, напоминающий Гиберти, с перспективно трактованными пейзажами и архитектурными фонами. Но по сравнению с капеллой Фины здесь еще сильнее чувствуется подчинение скульптурных элементов общей архитектурной композиции. И рельефы и статуи добродетелей, помещенные в нишах между массивными консолями, уже не имеют не только господствующего, но даже и вообще самостоятельного положения в ансамбле. Они выполняют роль архитектурных подголосков, заполняя свободные от конструктивных элементов поля. Искусство Бенедетто да Майано представляет собой как бы последний взрыв декоративного восторга, какой-то декоративной аффектации перед наступлением серьезной, строгой, враждебной к декоративным излишествам эпохи Высокого Ренессанса. С другой стороны, в пластике Бенедетто да Майано чувствуется большее предчувствие полновесных, округлых форм Высокого Ренессанса, чем у его современников — бронзовщиков, особенно — в его бюстах и статуях. Лучший из бюстов Бенедетто да Майано, находящийся в Берлине, изображает соперника Медичи, Филиппо Строцци. По своему натурализму этот бюст примыкает к традиционным приемам портретной скульптуры в эпоху кватроченто, но его формы обобщенней, подчеркнутей, а главное — в духовном облике модели больше сознательной энергии, больше концентрации, волевого устремления, так характеризующего человека Высокого Возрождения. Из круглых статуй Бенедетто да Майано наибольшей популярностью пользуется «Мадонна с младенцем» (Берлин, музей) из раскрашенной глины. Здесь противоречия переходного стиля Бенедетто да Майано особенно отчетливо выступают. Пестрота раскраски и робкая, чуть сентиментальная грация движений принадлежат кватроченто, но обобщенный силуэт, полная округлость форм предвосхищают концепцию классического стиля. Если, закончив обзор флорентийской пластики XV века, мы зададим себе вопрос — чем же в конце концов была пластика кватроченто, то вряд ли сможем найти на этот вопрос однозначный ответ. Готические и классические тенденции во флорентийской скульптуре кватроченто тесно переплетаются с временным преобладанием то одного, то другого направления. Если готика сильней в начале века, то примерно с тридцатых годов, с поездки Донателло в Рим, ренессансные тенденции становятся ведущими. В конце века готические влияния оживают снова в творчестве Верроккьо, Поллайоло и Бенедетто да Майано. Но стоит выйти за пределы Тосканы, как отношение между готикой и Ренессансом решительно склоняется в сторону готики. Можно сказать, что вне Тосканы итальянская пластика кватроченто даже и не почувствовала как следует веяний Ренессанса. Мы не будем подвергать такому же подробному анализу историю скульптуры в Северной и Южной Италии. Чтобы получить общее представление о ее характере и ее стилистических особенностях, достаточно будет в беглых чертах познакомиться с самыми выдающимися ее представителями. В Средней Италии следует выделить своеобразное творчество Агостино ди Дуччо. Деятельность его относится к пятидесятым, шестидесятым и семидесятым годам и проявляется главным образом в области декоративных работ. Самый крупный декоративный цикл выполнен им в Римини, по украшению Темпио Малатестиано. В шести капеллах Агостино ди Дуччо исполнил рельефы, изображающие сивилл и пророков, музицирующих и играющих детей, ангелов и муз. Статуи меньше удаются мастеру, зато в рельефах он проявляет большую оригинальность стиля. Агостино ди Дуччо предпочитает плоский рельеф, длинные, тонкие фигуры, с хрупкими, еще не оформившимися линиями тела. Но особенно типичны для Агостино ди Дуччо складки длинных одежд, струящиеся и закручивающиеся вокруг фигур тонкими и произвольными узорами. Агостино ди Дуччо вносит в свои рельефы свойственный готике элемент чувства, поэтической одухотворенности — его складки поют так же, как полураскрытые губы ангелов. Декоративность Агостино ди Дуччо имеет не столько орнаментальный, сколько экспрессивный характер. Если бьг мы стали искать параллелей к художественной концепции Агостино ди Дуччо, то нашли бы их отчасти у Боттичелли, но больше всего у блестящего французского скульптора Жана Гужона. То же самое относится и к многочисленным рельефам Агостино ди Дуччо с изображением мадонны. Агостино ди Дуччо в своих рельефах безусловно находится под влиянием Дезидерио да Сеттиньяно и стремится использовать технику; но под острым, нервным резцом Агостино приемы Дезидерио в группировке фигур и обработке мрамора перевоплощаются. В рельефах Агостино ди Дуччо гораздо больше динамики, внешнего и внутреннего беспокойства. Он заполняет всю плоскость рельефа фигурами и головами, стремится к контрастам в поворотах голов, и мягкая округлость форм Дезидерио сменяется у него острым узором переплетающихся и закручивающихся линий. Не меньшего интереса заслуживает деятельность Франческо Лаураны. Родом из Далмации, Франческо Лаурана принадлежит к типу кочующих художников, очень распространенному в эпоху кватроченто. В 1459–1460 годах Франческо Лаурана работает при герцогском дворе в Урбино. Позднее мы застаем его в Неаполе и в различных городах Сицилии, даже во Франции,где он остается до своей смерти, выполняя важную роль посредника между итальянским и французским искусством. Главной специальностью Франческо Лаураны являются статуи мадонны и женские бюсты. Одна из лучших, «Мадонна» Лаураны, находится в Мессине, в церкви Сайт Агостино. Мадонны Франческо Лаураны очень отличаются от того типа крепких, цветущих, жизнерадостных матерей, который создан во Флоренции. Мадоннам Лаураны всегда присущ оттенок поэтической мечтательности: в их усеянных звездами одеждах, в их опущенных глазах есть что-то нездешнее, словно какой-то отблеск лунного света. Младенец уже не обнажен, как во Флоренции, и пропорции его слишком малы в сравнении с мадонной. Еще определенней это настроение мечтательности, завороженности проявляется в женских бюстах Франческо Лаураны. Лучший из них, одно из замечательнейших произведений итальянского кватроченто, находится в Вене. В нем нет ни задора Дезидерио, ни характерности Верроккьо. Что-то робкое, целомудренное и вместе с тем болезненное чувствуется в покатых плечах, в наклоне головы, в полузакрытых глазах. Если готику среднеитальянской скульптуры можно было бы назвать лирической, то в скульптуре Северной Италии готика проявляется драматически, экспрессивно. Первое место среди скульпторов Северной Италии безусловно принадлежит Никколо да Бари, прозванному Никколо дель’Арка. Родом из Апулии, Никколо дель’Арка, вероятно, уже в ранней юности перебрался в Северную Италию, где и прошел свою художественную школу. В 1463 году он появляется в Болонье, в которой протекала его главная деятельность. В первом произведении Никколо дель’ Арка — в раке святого Доминика (Сан Доменико Маджоре) — его индивидуальный стиль еще не получил полного развития. Мастер был связан в известной степени своим предшественником. Дело в том, что самый саркофаг с украшающими его рельефами был исполнен еще в XIII веке учеником Никколо Пизано — фра Гульельмо, и Никколо дель’Арка предстояло дать архитектурное завершение саркофагу и украсить его статуями. Весьма характерно для готических основ североитальянского скульптурного стиля, что Никколо дель’Арка с такой уверенностью приспособляется к стилистическим особенностям своего предшественника и находит совершенно адекватные его стилю формы. Со сдержанными, тектоническими приемами флорентийской декоративной пластики рака святого Доминика не имеет ничего общего. Чешуйчатая крышка саркофага, остроконечное завершение всей постройки, прямые вертикали статуй, возникающие без всяких конструктивных поводов, — во всем этом сказывается непоколебимая верность готическим традициям. Бездейственная мечтательность евангелистов так же проникнута готическим духом, как и их внешний фантастический облик в восточных тюрбанах, с длинными бородами. Рака святого Доминика интересна еще в одном отношении. Она устанавливает преемственную связь между скульптурой треченто и творчеством Микеланджело через посредство североитальянского кватроченто. Микеланджело вообще избегал таких задач, которые ставили его в известную зависимость от предшественников, от чужих стилей. Только один раз, и именно в Северной Италии, Микеланджело сделал исключение: для раки святого Доминика он исполнил статую ангела с канделябром в pendant к аналогичной статуе Никколо дель’Арка и статую святого Петрония — совершенно в стиле своих предшественников. Вполне в традициях североевропейской скульптуры выполнил Никколо дель’Арка небольшую статуэтку святого Бернардина из раскрашенного стука. Простотой и искренностью настроения эта скромная, скрытая широкими складками рясы, монашеская фигура более всего напоминает произведения нидерландской и бургундской скульптуры той же эпохи. По духу своему творчество Никколо дель’Арка, несомненно, ближе к Клаусу Слютеру, чем к флорентийским современникам североитальянского скульптора. Но нигде специфический северный характер концепции Никколо дель’Арка не проявляется с такой очевидностью и с такой силой, как в глиняной группе «Оплакивание Христа», которую мастер выполнил для церкви Санта Мария делла Вита в Болонье в 1463 году. Тут нет уже действительно ни малейших признаков ни классицизма, ни Ренессанса. С точки зрения флорентийского кватроченто группа Никколо дель’Арка казалась бы грубейшим нарушением закономерных границ стиля, недопустимым проявлением субъективного натурализма — в том, как она смешивает современные и отвлеченные одежды, а главное — непосредственной страстностью, неудержимостью своей экспрессии. Потрясающая выразительность этих кричащих, рыдающих и воющих людей еще усиливается динамикой движения, заставляющей развеваться по воздуху плащи и платки трех Марий, и зловещими тенями, которые они бросают на стену капеллы. Тема «Плач над телом Христа» сделалась после Никколо дель’Арка излюбленной в североитальянской пластике. Так, Гвидо Маццони в семидесятых годах повторил ее в одной из церквей Модены. Маццони увеличивает количество фигур, вносит большее разнообразие в их мимику, еще реалистичнее разрабатывает детали современных костюмов, но уже ни ему, ни другим его современникам не удается достигнуть той степени безумия и отчаяния, которая воплощена в группе Никколо дель’Арка.IVX
МЫ УЖЕ ДВАЖДЫ ПРОШЛИ путь развития итальянского искусства в эпоху кватроченто, на памятниках архитектуры и скульптуры. Вы могли видеть, что путь этот и в архитектуре и в скульптуре идет одинаковыми этапами, отличаясь только, может быть, скоростью темпа. Теперь нам предстоит в третий раз проделать тот же путь, но в его наиболее сложных и запутанных ответвлениях — на памятниках итальянской живописи кватроченто. Как мне приходилось уже раньше указывать, живопись кватроченто сначала, несомненно, отстает в своем развитии от других искусств. Брунеллески и Донателло были уже в расцвете сил, когда только родился реформатор живописи кватроченто — Мазаччо. Поэтому прежде чем перейти к изучению творчества Мазаччо, нам необходимо познакомиться с произведениями тех итальянских живописцев, которые служат как бы прологом к реформам Мазаччо или, пожалуй, вернее — которые отражают в своей живописи слишком затянувшийся эпилог искусства треченто. Эти, если так можно сказать, тречентисты XV века очень многочисленны, и их деятельность не только предшествует Мазаччо, но развивается ему параллельно. Инерция треченто, то есть готики, так велика, что даже и после смерти Мазаччо многие итальянские живописцы продолжают писать по рецептам треченто. Где же мы должны встретить наиболее сильную приверженность готическим традициям? Естественно, что там, где они были всего сильнее в эпоху треченто, то есть на севере Италии и в Сьене. С этих центров мы и начнем наш обзор. На рубеже XIV и XV веков самым влиятельным центром европейской живописи является Франция. Не потому что французская живопись того времени была особенно богата выдающимися мастерами, но потому что Франция сделалась средоточием двух главных направлений тогдашней европейской живописи: одного, вместе с Симоне Мартини распространившегося из Италии, и другого, шедшего из Нидерландов. Слияние этих двух направлений на аристократической почве французского и бургундского дворов и создало тот позднеготический, интернациональный стиль в живописи, который в начале XV века господствовал во всей Европе. Отличительной особенностью этого интернационального стиля является чрезвычайно стилизованный рисунок в сочетании со свежими реалистическими наблюдениями. Знаменитый алтарь Мельхиора Бредерлама в Дижоне, миниатюры Андрэ Боневё и Хакмара Эсдена, алтарные иконы кельнской школы могут иллюстрировать различные разновидности позднеготического интернационального стиля. Именно этот-то, сложившийся во Франции, интернациональный стиль широко распространяется в Северной Италии в начале кватроченто. Причем тот светский, аристократический тон, который свойствен позднеготическому стилю во Франции, получает в североитальянской живописи особенно яркое выражение. Чутко усвоила североитальянская живопись и другую специфическую особенность французского стиля — интерес к пейзажу и к миру животных. Художественные сношения между Францией и Италией особенно оживляются в конце XIV века. В Италию устремляются французские архитекторы, принимающие участие в построении Миланского собора, и французские миниатюристы. В свою очередь герцог де Берри начинает собирать свою богатую коллекцию произведений итальянского искусства. Из целого ряда безымянных произведений алтарной живописи, фресок, миниатюр, которые возникают в Северной Италии на рубеже XV века и свидетельствуют о проникновении в Италию готически-интернационального стиля, следует выделить фрески, украшающие стены палаццо Борромео в Милане. Их приписывают самым различным художникам, вплоть до Пизанелло, но до сих пор безуспешно. Фрески изображают различные сцены аристократической жизни, происходящие на открытом воздухе, на фоне смело, декоративно написанного, по большей части вечернего пейзажа. Здесь вы видите светское общество за игрой в карты. Обращает на себя внимание попытка ночного освещения — чисто северная проблема, которую впервые выдвинул Симоне Мартини в бытность свою во Франции. А затем наряду с реалистической трактовкой модных туалетов — стилизация линии, ее орнаментально каллиграфический характер, напоминающий технику французских рукописных миниатюр того времени. Вторая фреска, изображающая светские игры на лоне природы, еще своеобразней благодаря декоративно-стилизованной композиции. В этой фреске заметно сказывается и другой первоисточник позднеготического интернационального стиля — нидерландские тканые ковры. Первое определенное имя художника, с которым мы сталкиваемся на путях проникновения французского влияния в Италию, это Джованнино де Грасси. Он был известен главным образом как архитектор и скульптор, участвовавший в украшении Миланского собора. Но с его именем связан ряд миниатюр и рисунков. Особенно интересен альбом рисунков, хранящийся в городской библиотеке в Бергамо. Большинство листов альбома заполнено изображениями животных. Огромное историческое значение этих рисунков заключается в том, что они исполнены с натуры. До сих пор подобные сборники рисунков состояли из типов форм, стилистических схем, которые, переходя из мастерской в мастерскую, служили художникам образцами для их композиций (самый знаменитый пример — альбом французского художника Виллара де Оннекура в парижской Национальной библиотеке). Джованнино де Грасси один из первых ставит своей задачей непосредственное изучение натуры. Конечно, этюдами с натуры в прямом смысле слова его рисунки еще нельзя назвать — они исполнены, по всей вероятности, по памяти; каллиграфия сплошных, плоских и ровных линий больше занимала художника, чем реальная разработка формы. Но все же эти рисунки полны совершенно нового энтузиазма перед натурой, которого не знала предшествующая эпоха. Характерно для первых шагов этого пробуждающегося реализма, что Джованнино де Грасси теряет непосредственность, свежесть восприятия натуры, как только от животных переходит к человеческим фигурам. Тогда опять появляются готические стилизованные изломы и завитки в складках одежды. Но особенно ярким свидетельством готической природы творчества Джованнино де Грасси являются те страницы альбома, где художник составляет фантастические алфавиты путем комбинации и стилизации человеческих фигур и всевозможных животных. Влияние Джованнино де Грасси распространилось главным образом в Ломбардии, где в начале XIV века появился целый ряд живописцев, миниатюристов и рисовальщиков, пытающихся следовать его реалистической программе. Но особенно крупных представителей готического интернационального стиля дала Верона, еще со времени Альтикьеро и Аванцо сохранившая значение одного из важнейших художественных центров Северной Италии. Сюда северное влияние проникало, по-видимому, не только из Франции, но и из германских стран, через Тироль. Главой веронской школы кватроченто надо считать Стефано да Верона, или, как его часто называли, — Стефано да Дзевио. Биографические сведения о мастере скудны. Родился он около 1374–1375 года, умер около 1438 года. Документ от 1434 года подтверждает его пребывание в Тироле. Картина «Поклонение волхвов», хранящаяся в миланской галерее Брера, подписана мастером и датирована 1435 годом. Это единственное его достоверное произведение. В развитии творчества Стефано да Дзевио очень заметны определенные этапы. Его ранний стиль характеризует «Мадонна с ангелами», хранящаяся в галерее Колонна в Риме. Здесь Стефано да Дзевио — чистый готик в духе французской аристократической готики. Фигуры отличаются чрезвычайно длинными и тонкими пропорциями. В композиции преобладают длинные, сплошные линии, и эта игра стилизованных кривых полна незабываемого музыкального очарования. Уже в ранних произведениях Стефано да Дзевио появляется неизменный атрибут всех его картин — павлин с изгибающимся пестрым хвостом. Второй этап художественного развития Стефано да Дзевио может иллюстрировать «Мадонна в райском саду» (картина находится в веронском музее). Мадонна сидит среди цветов и птиц, окруженная изгородью райского сада; младенец сосет палец и наблюдает за ангелами, поющими по книге; в другом углу садика ангелы хлопочут около дароносицы; на переднем плане святая Екатерина вьет венок и, разумеется, два неизбежных павлина свешивают с плетеной изгороди свои длинные изгибающиеся хвосты. Если в мадонне галереи Колонна преобладала аристократически утонченная французская готика, то здесь, несомненно, гораздо сильнее чувствуется германское влияние, дух кельнской алтарной живописи и тирольских фресок — в сказочной беззаботности и уютности рассказа, в сочетании реалистических мелочей с отвлеченным орнаментом композиции. Все пространственные завоевания треченто, кажется, забыты, композиция снова развертывается на плоскости как пестрый ковер, и даже приемы обратной перспективы как будто снова возродились. Последний поворот в живописном стиле Стефано да Дзевио совершается, очевидно, в тридцатых годах, надо думать, в связи с появлением в Северной Италии целого ряда мастеров из Тосканы и Средней Италии, которые знакомят своих северных коллег с художественными реформами, совершающимися во Флоренции. Конечно, и в «Поклонении волхвов» Стефано да Дзевио остается чистым готиком: его линии так же длинны, стилизованы и музыкальны; по-прежнему чудесно рисует он животных, не забыт и павлин. Но дуновение флорентийских ветров все же чувствуется: в более округлом рисунке фигур и приземистых их пропорциях и в робких попытках перспективы. Чрезвычайно интересны также рисунки Стефано да Дзевио. Они в высокой степени готичны — по пропорциям, позам, движениям. Но в них и нечто совершенно новое. Во-первых, элемент импровизации, неоконченности, быстроты восприятия — в длинных, параллельных, нервных штрихах. И затем — попытка обогатить североготический контурный рисунок путем внутренней моделировки формы. Во всех направлениях своего творчества Стефано да Дзевио подготавливает путь другому мастеру, самому крупному живописцу Северной Италии в первой половине XV века — Пизанелло. Однако прежде чем мы охарактеризуем Пизанелло, нам необходимо познакомиться еще с одним переходным мастером, сыгравшим весьма важную роль в распространении позднеготического интернационального стиля. Я разумею Джентиле да Фабриано. Родом из Умбрии, Джентиле в своих непрерывных скитаниях посетил почти все крупные художественные центры Италии. Ему принадлежит заслуга взаимного сближения местных итальянских начал и вместе с тем внесения в готический интернациональный стиль элементов чисто итальянской национальной концепции. Джентиле да Фабриано родился, по всей вероятности, около 1370 года. В 1409 году мы застаем его в Венеции, где вместе с Пизанелло он участвует в росписи Палаццо дожей, к сожалению не сохранившейся. После посещения ряда городов Северной Италии Джентиле да Фабриано в 1420 году прибывает во Флоренцию. Здесь он остается в течение четырех лет и пишет, между прочим, самую знаменитую свою работу — «Поклонение волхвов» — для церкви Санта Тринита по заказу Строцци. В 1425 году через Сьену и Орвьето Джентиле направляется в Рим для выполнения фресок, тоже погибших, в Сан Джованни ин Латерано. В Риме мастер и умирает в 1427 году. В своих ранних произведениях Джентиле да Фабриано представляется нам совершенным тречентистом. Дух Дуччо, Симоне Мартини и Амброджо Лоренцетти продолжает жить в его образах. Близка к традиции треченто «Мадонна» Берлинского музея. Здесь с большой силой проявляются элементы северной готики — в портрете жертвователя, в интересе к флоре, с тщательно выписанными отдельными цветочками, особенно же в каллиграфическом почерке складок с типично готическим изломом. Характерно также, что ноги фигур полностью скрыты узорами стелющихся по земле одежд. Этим приемам позднеготического интернационального стиля Джентиле да Фабриано остается верен в течение всей своей жизни, но наряду с ними в последний период деятельности мастера все с большей определенностью выявляются национальные, итальянские особенности его живописи. Последний период деятельности Джентиле да Фабриано определяется несколькими датированными работами. Первая из них, уже упомянутое мною знаменитое «Поклонение волхвов», хранится теперь в галерее Уффици во Флоренции. Это подписанное и датированное 1423 годом произведение Джентиле — одно из наиболее характерных и наиболее очаровательных созданий запоздалой итальянской готики. Алтарная икона Джентиле сохранилась во всем богатстве своего обрамления. Формы этого обрамления весьма типичны для флорентийской концепции готического триптиха. Что в основе обрамления лежит идея триптиха, на это указывают три пределлы и три полукруглые арки верхнего обрамления иконы, но вместе с тем вся главная часть иконы представляет собой одно композиционное и пространственное целое. Чего только не изобразил Джентиле в своей картине; страсть северной готики к реалистическим деталям развертывается здесь во всей наивной пестроте. Мадонна сидит под навесом ворот, ведущих в сад, к которым примыкает пещера с яслями. Центр композиции занят тремя волхвами в нарядах сказочной роскоши. Правую часть иконы заполняет свита волхвов. В этой части особенно ясно сказываются следы пребывания Джентиле в Северной Италии, внесшего в творчество мастера совершенно чуждый Тоскане дух придворной аристократической культуры. Караван волхвов превратился в выезд знатных сеньоров на охоту: тут и охотничьи собаки, и пантеры, и верблюды, и обезьяны, и даже сокольничий, который следит за соколом, бьющим птицу. Несмотря, однако, на это обилие жанровых подробностей, картина Джентиле выдержана в готическом сказочном тоне. Чисто готический сукцессивный характер рассказа особенно подчеркнут тремя эпизодами, дополняющими главную сцену в полукружиях арок. Здесь процессия волхвов повторяется трижды на различных этапах их путешествия. Но особенно интимной сказочности поэтическое дарование Джентиле достигает в трех пределлах алтаря. Левая пределла изображает «Рождество Христово». Здесь северное влияние сказалось в попытке освещения. С врожденной умбрийцу мягкостью Джентиле наполняет ночной пейзаж отблесками света, исходящего из тела младенца; настроение ночной тишины с подкупающей искренностью передано в крошечной картинке. В средней же пределле Джентиле изображает «Бегство в Египет» и опять-таки под очевидным влиянием северных миниатюр развертывает холмистый пейзаж, наполненный очаровательными правдивыми подробностями, но лишенный всякого оптического единства. Золотой фон, на котором написан пейзаж «Бегства в Египет», весьма красноречиво вскрывает тречентистские основы живописи Джентиле да Фабриано. Последняя сохранившаяся работа Джентиле датирована 1425 годом. Это — «Мадонна», фреска для собора в Орвьето. Она свидетельствует о том решающем влиянии, которое художественная атмосфера Флоренции оказала на творчество Джентиле. Как раз в годы пребывания Джентиле во Флоренции начал свою деятельность молодой Мазаччо, реформатор флорентийской живописи. Влияние его стиля на фреску Джентиле в Орвьето неоспоримо. Джентиле стремится теперь к монументальности, к пластической лепке форм. Самый тип его мадонны потерял прежнюю умбрийскую миловидность и приближается к образам Мазаччо. Но все же ясно, что новый стиль не совсем по плечу Джентиле: улыбка младенца больше похожа на гримасу, а жест его ручки, уцепившейся за плащ мадонны, полон готической изощренности. Под перекрестным влиянием французской и бургундской готики, миниатюр и ковров, с одной стороны, и алтарных икон Стефано да Дзевио и Джентиле да Фабриано, с другой стороны, выросло искусство замечательного веронского мастера Антонио Пизано, по прозвищу Пизанелло. Пизанелло родился в 1395 году, в Пизе, чем объясняется его прозвище. Как и Джентиле да Фабриано, Пизанелло вел очень подвижный образ жизни. Мы застаем его то в Венеции, то в Мантуе, Ферраре, Риме и даже Неаполе. Умер Пизанелло в 1455 году. При жизни он пользовался большой славой и был типичным придворным мастером, живописцем князей, не только портретируя своих покровителей, украшая их дворцы фресками, их капеллы алтарными иконами, но и изготовляя рисунки и модели для их нарядов, драгоценностей, предметов обихода. Кроме того, Пизанелло — выдающийся мастер портретной медали. Обзор деятельности Пизанелло надо начать с рисунков, так как в его творчестве они занимают очень важное место. Наиболее полное представление о Пизанелло-рисовальщике дает альбом рисунков, так называемый Codex Vallardi, хранящийся в Лувре. Преобладают изображения животных и птиц, как у Джованнино де Грасси, но есть и зарисовки костюмов, обнаженные фигуры и портретные головы. Вряд ли правы те исследователи, которые, основываясь на сходстве мотивов в картинах Пизанелло и его рисунках, предполагают, что рисунки альбома служили непосредственной подготовкой для картин. Скорее надо думать, что эти рисунки сделаны ради них самих, в увлечении мастера живыми впечатлениями натуры и своей способностью эти наблюдения фиксировать. Когда же Пизанелло получал заказ на какую-нибудь картину, то, естественно, он обращался к альбому рисунков и подыскивал там подходящие мотивы. Как бы то ни было, Пизанелло — первый из итальянских живописцев, в деятельности которого изучение натуры, рисование с натуры становится необходимым, систематическим элементом художественного творчества. Перелистывая луврский альбом, мы замечаем вместе с тем, как растет наблюдательность мастера, как развивается его рисовальное искусство. В ранних рисунках Пизанелло фигуры всегда костюмированы. В этих рисунках пером, подцвеченных акварелью, Пизанелло наиболее готичен. Формы даны плоскими силуэтами. Отношение между фигурой и одеждой художника не интересует; все его внимание устремлено на стилизацию линии и орнамент красочных пятен. Затем появляются первые обнаженные фигуры. Любопытно сравнить на одном и том же листе рисунок одетой фигуры апостола Петра и рисунок обнаженного человека. В одном — традиционная стилизованная ритмика готической линии. В другом — жесткость и робость непосредственной фиксации натуры. Но, несмотря на некоторую робость и суммарность рисунка, чувствуется, какое большое знание человеческого тела у Пизанелло, как он показывает соотношение туловища и ног, как моделирует бедро и голень, и особенно как связывает в одно целое движение руки, плеча и лопатки! Но все же Пизанелло дает почти только силуэт; его формы еще лишены пластической массы и глубины. В более поздних рисунках проявляется уже определенное желание художника поставить фигуры в пространство. Если в своих первых опытах он рисовал животных в профиль, то теперь чаще прибегает к изображению их спереди и сзади, в сложном ракурсе, и крепче моделирует форму. Не следует, однако, из этой страсти к изучению натуры заключать о принадлежности Пизанелло к стилю Ренессанса. Его восприятие натуры еще вполне готично, составляется как бы из отдельных изолированных кусочков (так, характерно, например, что Пизанелло никогда не изображает почвы, на которой стоят или двигаются его фигуры, что он никогда не видит падающей тени); и, кроме того, его восприятие натуры еще полно чисто средневекового страха перед демонизмом натуры, тем демонизмом, который нашел себе выход в фантастических химерах готических соборов. Недаром взгляд Пизанелло так часто приковывается к уродствам и ужасам натуры — к виселице, к слепой лошади, к хромым, раненым и мертвым существам. В этом смысле особенно поучителен один из листков альбома. На нем изображены повешенные. Заметим, что Пизанелло вторично вернулся к виселице, когда началось разложение, и третий раз зарисовал повешенных, когда тела стали гнить. Этот гипноз ужасов натуры, зафиксированный в сукцессивном изображении, составляет признак готического мировосприятия. Североготические основы творчества Пизанелло мы почувствуем еще сильнее, если от рисунков обратимся к его живописи. Самое раннее из дошедших до нас произведений Пизанелло — это «Мадонна» веронского музея. И по теме (мадонна изображена в «райском саду») и по формам — по изогнутым стилизованным линиям, по орнаментальному узору поверхности — эта картина находится целиком в сфере стиля Стефано да Дзевио. Влияние Стефано, тирольских фресок и фламандских ковров сильно сказывается и в другом раннем произведении Пизанелло — «Видение святого Евстафия» из лондонской Национальной галереи. Во мгле ночного пейзажа охотнику — святому Евстафию — привиделся олень, между рогами которого сверкает распятое тело Христа. Сама проблема ночного освещения несомненно указывает на северные источники живописи Пизанелло. Картина полна очаровательных реалистических деталей, особенно в изображении животных. Но она не складывается в одно оптическое, пространственное целое. Поверхность земли отвесно поднимается до самой верхней рамы, и на ее темном фоне, как декоративные пятна ковра, разбросаны фигуры животных. Этому смешению остро увиденных реалистических элементов натуры с фантастическим представлением натуры в целом Пизанелло остается верен всю свою жизнь. Особенно причудливо реальность и фантастика смешиваются в портретах Пизанелло. Лучший из них и вместе с тем один из самых ранних из известных нам живописных портретов итальянского кватроченто изображает принцессу из семьи д’Эсте, возможно Джиневру, которая впоследствии вышла замуж за тирана Сиджизмондо Малатеста и была отравлена своим жестоким мужем. Профильный портрет изображен на фоне цветов, среди которых порхают бабочки. С точностью и неотступностью естествоиспытателя фиксирует Пизанелло форму цветов и краски бабочек, и с такою же точностью пересчитывает он складки на рукаве Джиневры и вырисовывает ее ухо. Но металлическая острота линий, плоскостность фигуры и фона придают картине в целом чисто декоративный и как бы абстрактный характер. Неясна датировка, к сожалению, сильно разрушенной фрески «Благовещение» в церкви Сан Фермо в Вероне. В высокой мере придворный, светский характер творчества Пизанелло проявляется в рисунках, подготовляющих композицию «Благовещение». Один из этих рисунков (ранее был в голландском частном собрании) изображает придворного кавалера, склоняющегося на колено перед дамой своего сердца. Любовный сонет, который кавалер произносит в честь своей дамы, выписан тут же на листке альбома. Эта-то светская любовная сцена и послужила для Пизанелло стимулом к композиции «Благовещение». Самая фреска разбивается на две части, разделенные балдахином скульптурного монумента, прислоненного к стене. В левой части видим ангела, склонившегося на колени перед открытой дверью в почтительной позе придворного кавалера. Можно было бы ожидать, что за этой дверью и сидит мадонна. Но в правой части фрески мы видим новый фасад здания и новую дверь, за которой находится спальня богоматери, и здесь перед кроватью, крытой богатым восточным покрывалом, под готическими сводами сидит мадонна с робко и покорно сложенными на коленях руками. Это как бы удвоение места действия с одновременным изображением архитектуры снаружи и изнутри представляет собою один из наиболее укоренившихся пережитков готики, с которым Ренессанс ведет упорную борьбу. В типе мадонны, в мягкой лирике ее позы и жеста чувствуется неоспоримое влияние Джентиле да Фабриано, которое начинает вытеснять увлечение Пизанелло длинными пропорциями и изогнутыми линиями Стефано да Дзевио. В последние годы жизни Пизанелло в Северную Италию начинают доходить отзвуки флорентийских художественных исканий. В сороковых годах в Падуе работает флорентийский живописец Паоло Уччелло, специалист по перспективным опытам, как мы знаем. В Падуе же Донателло выполняет свои замечательные по пространственной глубине рельефы святого Антония. Новые художественные идеи не могли, разумеется, не найти отклика в творчестве Пизанелло[39]. В самой обширной дошедшей до нас работе Пизанелло ясно видно, как мастер стремится примирить свою северную сказочность, свой декоративно-ковровый стиль с флорентийским научным натурализмом. Это — фреска из церкви святой Анастасии в Вероне (ныне в музее Кастельвеккьо, там же). В правой части фрески изображен святой Георгий, готовящийся сесть на коня; рядом с конем стоит принцесса, еще правее — рыцарь в полном вооружении верхом на коне. Налево, позади святого Георгия, — группа всадников; за нею — виселица с двумя повешенными (совершенно случайный эпизод, результат того рисунка из луврского альбома, с которым мы уже познакомились). Пейзажный фон изображает слева морскую бухту с парусной лодкой, высокую, поросшую лесом скалу и справа башни и церкви города, скрытого за холмом. Мы узнаем в этой фреске обычные методы Пизанелло. Святой Георгий и принцесса имеют некоторые признаки индивидуальных портретов. Каждая отдельная деталь базируется на непосредственном рисунке с натуры. Но все вместе поражает своей сказочной несогласованностью и чудесной неправдоподобностью. Влияние флорентийских художественных исканий сказалось в том, что Пизанелло стремится теперь завоевать глубину пространства. Он пользуется для этой цели смелыми ракурсами, пересечениями и перспективными просветами. Но ему не хватает флорентийской логики и драматичности рассказа. Его фреска продолжает оставаться плоским пестрым ковром. Североитальянская живопись еще по-прежнему закрыта для идей Ренессанса[40]. Столь же бессильны новые художественные идеи проникнуть в пределы сьенской живописи. Как мы видели при обзоре искусства треченто, сьенская школа наиболее близко подошла к духу северной готики. Верной готическим традициям она остается, в сущности, в течение всего XV века, несмотря на близость Флоренции и на постоянные посещения флорентийских художников. Но сьенская готика кватроченто сильно отличается от светской, декоративной готики Северной Италии. Сьенская готика глубоко религиозна, мистична и интимна. Дух Франциска Ассизского дает главный отпечаток сьенской живописи. Наиболее блестящим представителем сьенской готики раннего кватроченто является Стефано ди Джованни, по прозванию Сассетта. Он родился около 1400 года и умер в 1450 году. Вся его деятельность протекала исключительно в Сьене и ее ближайших окрестностях. Насколько сильны в живописи Сассетты традиции сьенского треченто, показывает его сравнительно ранняя работа — «Рождество богоматери», алтарная икона в церкви Колледжаты в Ашано. Сассетта здесь почти буквально воспроизводит композиционную схему Пьетро Лоренцетти на аналогичную тему, удерживая даже готическую форму триптиха и готических арок. Справа — постель роженицы; на левом крыле — паж сообщает святому Иоакиму радостную весть; в центре — чисто жанровый эпизод первого купания новорожденной, и сквозь раскрытую дверь видна служанка в пестром наряде, несущая подарки роженице. Конечно, Сассетта превосходит своих тречентистских предшественников смелостью и точностью перспективного построения; но главный отличительный признак живописи Сассетты и вместе с тем вообще выдающееся свойство сьенской школы кватроченто — это свет. Светлость картин Сассетты уже не есть только примитивная светлость красок (то есть светлость поверхности картины) на иконах Дуччо или Симоне Мартини, но она уже означает светлость дневного света, который пронизывает все пространство картины, сверкает на золоте сводов, моделирует формы. При этом я хотел бы отметить, что наряду с освещением, падающим спереди и справа, свет вливается в картину сзади, через аркады лоджии. Этот свет сзади есть, конечно, не что иное, как наследие северной готики, как преображенный свет, падающий сквозь красочные стекла готического витража. Совершенно новые живописные проблемы ставит себе Сассетта и в пейзаже. Его пейзажи принадлежат к самому оригинальному, смелому и проникновенному, что в этой области создано живописью кватроченто. Здесь прежде всего следует назвать очаровательную маленькую пределлу, хранящуюся в собрании Григгса в Нью-Йорке. Она изображает «Путешествие волхвов». Кавалькада в современных Сассетте костюмах спускается с горы, путеводная золотой звездой. Неистощимая фантазия Сассетты всегда изображает какие-нибудь вводные эпизоды. Здесь внимание невольно привлекает обезьяна и особенно два страуса, наблюдающих путников с вершины горы. Но главное, в какое время года совершается путешествие волхвов? Сассетта помнит, что оно должно было происходить в конце декабря, и вот он изображает столь редкий в Сьене зимний пейзаж, со снегом, покрывающим склоны горы, в котором вязнут ноги путников. Перед нами первый зимний пейзаж в итальянской живописи, возникший, несомненно, под влиянием северной, фламандской миниатюры. Но в смысле цельности пейзажного настроения, в смысле свежей красочности, пропитанности светом, пожалуй, еще выше стоит серия картин из жизни святого Антония, рассеянная теперь по разным музеям Европы и Америки. Конечно, и здесь североготические влияния неоспоримы. Потерявшие листву, корявые, маленькие деревья — это любимый мотив позднеготического пейзажа в Северной Европе, так же как и каменистая дорога. Но Сассетта сумел придать традиционным мотивам сьенскую чистоту, воздушность, сказочность. Наконец, как с выдающимся, своеобразным рассказчиком знакомит нас самое крупное произведение Сассетты — «Легенда святого Франциска», цикл алтарных икон, первоначально предназначенный для церкви Сан Франческо в Борго Сан Сеполькро. Отдельные части этого алтарного цикла разошлись теперь по европейским собраниям. Если сравнить цикл Сассетты с фресками, посвященными легенде святого Франциска в Ассизи, и теми, которые Джотто написал в Санта Кроче, то нужно признать, что Сассетта ближе подошел к духу учения святого Франциска, к его мистике, его лирике, его нежности. Характерно, что и в выборе самих тем Сассетта избегает драматических коллизий и, руководствуясь мистическими комментариями святого Бонавентуры, извлекает из легенды сцены, проникнутые аллегорическим или поэтическим содержанием. Я напомню высшее достижение цикла — картину, хранящуюся теперь в музее Шантильи, — «Мистическое обручение святого Франциска с бедностью». Сассетта изображает три главные францисканские добродетели — Целомудрие, Послушание и Бедность — в виде трех девушек в простых длинных одеждах. Святой Франциск избирает себе в невесты девушку с обнаженными ногами, олицетворяющую бедность, и надевает ей на палец обручальное кольцо. По легенде, немедленно вслед за этим девушки исчезают. Сассетта изображает их полет тут же, чисто готическим приемом сукцессивного рассказа. Теперь мы видим ярмо на шее у аллегорической фигуры Послушания, и Бедность в последний раз оборачивается, чтобы взглянуть на своего жениха. Картина, написанная на фоне сьенского холмистого пейзажа, в характерных для поздней готики хрупких пропорциях и длинных линиях, покоряет глубокой чистотой и наивной искренностью переживания. Средневековая сила веры и чувства здесь господствует над интеллектом Ренессанса. Если живопись Сассетты кажется нам полной готических пережитков, то в еще большей степени это относится к его последователям. В течение XV века готика не только не ослабевает в Сьене, но, напротив, усиливается. В готицизме Сассетты бросается в глаза, между прочим, помимо его тем, типов и настроений еще предпочтение сильно вытянутому вертикальному формату картин. У главного последователя Сассетты — Джованни ди Паоло — этот узкий вертикальный формат становится почти правилом. Я познакомлю вас с наиболее характерным произведением этого сьенского мастера, деятельность которого захватывает уже вторую половину XV века, — с серией картин, посвященных жизни Иоанна Крестителя и находящихся в настоящее время в разных собраниях Европы и Америки. Вот, например, «Танец Саломеи». Достаточно вспомнить сьенский рельеф Донателло на аналогичную тему, чтобы сразу узнать в картине Джованни ди Паоло ту же композиционную схему почти со всеми деталями (Джованни ди Паоло повторяет даже двух обнимающихся юношей позади танцующей Саломеи). Но как все перевоплотилось у Джованни ди Паоло в смысле возрождения готического духа и традиций треченто! Несомненно, что Джованни ди Паоло еще готичней — со своим узким вертикальным форматом, со своими тонкими, длинными фигурами, пестрой красочностью и вводными бытовыми деталями. Еще выразительнее в том же возвращении к готическим формам и настроениям другая картина цикла — «Усекновение главы Иоанна Крестителя». Сама жуткость темы, которой не избегают только сьенские живописцы кватроченто, проникнута чисто средневековым страхом перед демонизмом натуры, перед той химеричностью натуры, с которой мы столкнулись уже в рисунках Пизанелло. И только готическая художественная концепция способна сочетать жестокий натурализм этого высунувшегося из окна кровавого обрубка без головы, этой точной имитации вынутых из решетки прутьев с музыкой стилизованных, кривых, длинных линий. Таким образом, Сьена, подобно Северной Италии, оказалась в какой-то мере отчуждена от художественных идей Ренессанса укоренившимися готическими традициями. Но Сьена в этом смысле еще консервативней, чем Северная Италия, потому что готический дух продолжает питать ее искусство беспрерывно в течение всего кватроченто.XV
ПЕРЕХОДОМ ОТ СЬЕНСКОЙ к флорентийской живописи может служить творчество Лоренцо Монако. Светское имя этого живописца до вступления в орден камальдульских монахов было Пьеро ди Джованни. Лоренцо Монако родился, по всей вероятности, в Сьене, около 1370 года. Ранние произведения Лоренцо Монако выполнены целиком в сьенских традициях. Как пример, напомню триптих, хранящийся в галерее Прато и относящийся к первому десятилетию XV века. И готическая форма триптиха, и трон мадонны, и светлая, плоская живопись, и мягкое, лирическое настроение — все полно самых красноречивых реминисценций сьенского треченто. Однако приблизительно около 1410 года в живописи Лоренцо Монако намечаются важные изменения. Его стиль приобретает черты более сильно выраженного северного, фантастического готицизма со стилизованным изломом линий и неожиданными световыми эффектами. Есть основание думать, что это изменение стиля Лоренцо Монако произошло под влиянием знакомства с северной миниатюрой, так как именно в это время Лоренцо Монако сам впервые пробует свои силы в миниатюре. Здесь можно сослаться на миниатюру из «Часослова», хранящегося в библиотеке Лауренциане во Флоренции. Ее стиль решительно отличается не только от предшествующей живописи Лоренцо Монако, но и вообще от традиционных приемов итальянской рукописной миниатюры. Система сочетания изображения с заглавной буквой (здесь буква R), сама форма этих инициалов, соединение архитектурных и растительных элементов и разбрасывание сложных сплетений стилизованной листвы, далее натуралистические зарисовки птиц и насекомых на полях манускрипта вперемежку с фантастическими существами, напоминающими французских химер и фламандских droleries, — все это неопровержимо указывает на североевропейскую миниатюру как первоисточник вдохновения Лоренцо Монако, на появление позднеготического стиля также и в пределах Флоренции. Теми же первоисточниками объясняются и композиция «Воскресение Христа», разделенная перекладиной буквы R на две части, и в особенности яркие световые эффекты миниатюры.
167. СТЕФАНО ДА ДЗЕВИО. ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ. 1435. МИЛАН. ГАЛЕРЕЯ БРЕРА.

168. СТЕФАНО ДА ДЗЕВИО. РИСУНОК.

169. ДЖЕНТИЛЕ ДА ФАБРИАНО. МАДОННА СО СВЯТЫМИ. НАЧАЛО XV В. БЕРЛИН-ДАЛЕМ. МУЗЕЙ.

170. ДЖЕНТИЛЕ ДА ФАБРИАНО. ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ. 1423. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.

171. ПИЗАНЕЛЛО. ЭТЮДЫ ФИГУР. МИЛАН, ГАЛЕРЕЯ АМБРОЗИАНА.

172. ПИЗАНЕЛЛО. ЭТЮДЫ ПОВЕШЕННЫХ. ОК. 1435 Г. НЬЮ-ЙОРК. СОБРАНИЕ ФРИК.

173. ПИЗАНЕЛЛО. ПРИНЦЕССА Д’ЭСТЕ. ПАРИЖ, ЛУВР. 1430-Е ГГ.

174. ПИЗАНЕЛЛО. МАДОННА. ВЕРОНА. МУЗЕЙ.

175. ПИЗАНЕЛЛО. БЛАГОВЕЩЕНИЕ. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ ЦЕРКВИ САН ФЕРМО В ВЕРОНЕ. 1423–1424.

176. ПИЗАНЕЛЛО. СВ. ГЕОРГИЙ. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САНТА АНАСТАЗИЯ В ВЕРОНЕ. ДЕТАЛЬ. ОК. 1435–1438 ГГ.

177. ДЖОВАННИ ДИ ПАОЛО. УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ. ЧИКАГО, ИНСТИТУТ ИСКУССТВ. СЕРЕДИНА XV В.

178. САССЕТТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВОЛХВОВ. НЬЮ-ЙОРК. ЧАСТНОЕ СОБРАНИЕ.

179. СЕССЕТТА. ОБРУЧЕНИЕ СВ. ФРАНЦИСКА С БЕДНОСТЬЮ. 1437–1444. ШАНТИЛЬИ, МУЗЕЙ КОНДЕ.

180. ЛОРЕНЦО МОНАКО. МАРИЯ. ФЛОРЕНЦИЯ, ЦЕРКОВЬ САН ДЖОВАННИ ДЕИ КАВАЛЬЕРИ.

181. ФРА БЕАТО АНДЖЕЛИКО. СНЯТИЕ С КРЕСТА. МОНАСТЫРЬ САН МАРКО ВО ФЛОРЕНЦИИ. ОК. 1435–1436 ГГ.

182. ФРА БЕАТО АНДЖЕЛИКО. БЛАГОВЕЩЕНИЕ. ПОСЛЕ 1433 Г. КОРТОНА. МУЗЕЙ.

183. ФРА БЕАТО АНДЖЕЛИКО. СВ. ЛАВРЕНТИЙ РАЗДАЕТ СОКРОВИЩА. РИМ, КАПЕЛЛА ПАПЫ НИКОЛАЯ В ВАТИКАНЕ. 1445–1448.

184. ФРА БЕАТО АНДЖЕЛИКО. БЛАГОВЕЩЕНИЕ. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ МОНАСТЫРЯ САН МАРКО ВО ФЛОРЕНЦИИ. МЕЖДУ 1438–1445 ГГ.

185. МАЗОЛИНО. ОБРУЧЕНИЕ БОГОМАТЕРИ. ФРЕСКА КОЛЛЕДЖАТЫ В КАСТИЛЬОНЕ Д’ОЛОНА. ОК. 1435 Г.

186. МАЗОЛИНО. КРЕЩЕНИЕ. ФРЕСКА БАПТИСТЕРИЯ В КАСТИЛЬОНЕ Д’ОЛОНА. ОК. 1435 Г.

187. МАЗОЛИНО. СВ. ЕКАТЕРИНА ПЕРЕД ИМПЕРАТОРОМ. РИМ, ЦЕРКОВЬ САН КЛЕМЕНТЕ. 1428.
Что Лоренцо Монако был не единственным живописцем во Флоренции, которого коснулось позднеготическое влияние Северной Европы, что интернациональная готика была тогда щирокой модой во Флоренции, доказывает, между прочим, роспись многочисленных свадебных ларей (так называемых cassone) — излюбленного вида мебели в эпоху кватроченто. Один из наиболее характерных примеров такого кассоне — из флорентийской Академии — с изображением свадебной процессии. Чисто светский, подчеркнуто аристократический тон всей сцены, с костюмами по самой последней изощренной бургундской моде, неоспоримо указывает на влияние интернационального готического стиля. Но вернемся к Лоренцо Монако. Когда после усиленных занятий миниатюрой Лоренцо Монако вновь обратился к живописи, к алтарной иконе, то оказалось, что северная готика оставила неизгладимый отпечаток на его творчестве. Но готицизм Лоренцо Монако не похож ни на североитальянскую пышную готику Пизанелло, ни на наивную, светлую готику сьенских живописцев. Готика Лоренцо Монако — мрачная, драматическая, озаренная магическим светом, полная глубоких и таинственных переживаний. Особенно интересен в этом смысле монохром (одноцветный рисунок кистью) берлинского музея, исполненный на пергаменте. Есть какая-то буйная, страстная экзальтация, чуждая вообще итальянскому искусству, в рисунке Лоренцо Монако — в изорванных уступах скал, освещенных мрачным таинственным светом, в неудержимом устремлении волхвов, не то скачущих по скалам, не то летящих в воздухе, и в их извивающихся светлыми змеями одеждах. Лоренцо Монако как бы сознательно пренебрегает всеми требованиями правдоподобия; пропорции и пространственные отношения в рисунке даны абсолютно произвольно и в некоторых частях композиции построены как будто даже по принципам обратной перспективы. То же самое впечатление какого-то почти колдовского наваждения мы получаем от маленьких картинок Лоренцо Монако с пределлы триптиха флорентийской Академии, посвященных легендам святого Онуфрия и святого Николая. Характерен, например, эпизод из легенды святого Онуфрия. О чем бы ни рассказывал Лоренцо Монако, какие бы мирные, лирические, радостные легенды он ни иллюстрировал, мастер умеет придать им тревожный, загадочный характер. Так и этот эпизод из жизни святого Онуфрия, повествующий о мирной встрече святого с пустынником, Лоренцо Монако переносит в какой-то особенно трагический пейзаж, мрачно освещенный, в котором святые, словно зловещие преступники, прячутся друг от друга, друг друга выслеживают и преследуют. При этом Лоренцо Монако передает свой рассказ не только чисто готическими, сукцессивными приемами, несколько раз в одной сцене повторяя фигуры своих героев, но в какой-то особенно запутанной, иррациональной последовательности событий. Даже образу Марии, такому светлому и нежному в итальянской живописи, Лоренцо Монако умеет придать зловещие, трагические черты. Его Мария из «Распятия» в церкви Сан Джованни деи Кавальери изображена в виде старухи с изможденным, изрезанным морщинами лбом и страшным взглядом исподлобья. Она больше похожа на безжалостную Парку, обрезывающую нить человеческой жизни. Силуэт ее левой руки, поднятой вместе с плащом, повторяется в силуэте скалы; и в этом повторении Лоренцо Монако добивается передачи выразительности душераздирающего рыдания. Только к концу жизни Лоренцо Монако трагический надрыв его искусства как бы начинает несколько смягчаться. По-видимому, это смягчение надо приписать влиянию младшего современника Лоренцо Монако, тоже живописца-монаха, фра Беато Анджелико. Примером этого позднего стиля Лоренцо Монако может служить «Поклонение волхвов» в Уффици. Композиция стала заметно спокойнее, форма закругленнее; но по-прежнему таинственные светы озаряют картину Лоренцо Монако, по-прежнему складки одежды тянутся по земле и скрывают ноги фигур, по-прежнему его архитектурные построения подобны карточным домикам. Лоренцо Монако до самой своей смерти в 1425 году остается готиком, запоздалым тречентистом. Полную противоположность Лоренцо Монако по темпераменту, но полную аналогию по мистическому духу своего творчества представляет живопись фра Беато Анджелико. Характерно для готических настроений начала XV века уже то обстоятельство, что руководящая роль в тогдашней флорентийской живописи находилась в руках двух монахов. Фра Анджелико родился в 1387 году и умер в 1455 году. В миру Гвидо ди Пьетро, он вступил в доминиканский монастырь во Фьезоле, где принял имя фра Джованни да Фьезоле. Но и современникам и последующим поколениям он больше известен под своим прозвищем Беато Анджелико (блаженный), которое заслужил своим наивно-проникновенным, глубоко религиозным искусством. В противоположность Лоренцо Монако, мрачные, драматические события совершенно не даются фра Анджелико. Он ближе к духу Ренессанса, человечнее. Его кисть способна воспроизводить светлые и радостные темы. Ангелы с мягкими, как шелк, белокурыми волосами, в золотых лучах и нимбах, белые одеяния праведников, ведущих хороводы в райском саду, нежное сочетание розового и голубого, легкие, как дыхание, тени — вот что прежде всего остается в памяти от живописи фра Анджелико. Развитие искусства фра Анджелико проходит сначала путь, аналогичный живописи Лоренцо Монако. Начав как верный приверженец тречентистских традиций, фра Анджелико постепенно оказывается вовлеченным в орбиту готического интернационального стиля. Но так как фра Анджелико моложе Лоренцо Монако, то, естественно, художественные реформы, предпринятые поколением его сверстников, Брунеллески и Донателло, должны были оказать на него более сильное воздействие, и в последние годы своей жизни фра Беато Анджелико делает решительные, настойчивые попытки примкнуть к пластическому, монументальному стилю, провозглашенному Мазаччо. Произведения первого периода деятельности фра Анджелико выполнены в маленьких размерах, в кропотливой, детальной манере миниатюриста, с обилием позолоты и в богато орнаментированных рамах. Маленький алтарь из церкви Санта Мария Новелла (ныне монастырь Сан Марко во Флоренции) с изображением «Благовещения» и «Поклонения волхвов» дает типичное представление о раннем стиле фра Анджелико. Композиция, рисунок, пестрый, светлый колорит выдержаны совершенно в традициях итальянского треченто. Но вместе с тем в алтарной иконе фра Анджелико проявляется и очень заметное влияние северной готики. Не только в формах обрамления, но особенно в фоне, на котором выступают священные изображения и который имитирует стеклянную мозаику цветного витража. Я напоминаю по этому поводу, что мы уже встречались однажды с непосредственным влиянием готического цветного витража во флорентийском искусстве, а именно в композиции первых бронзовых дверей Гиберти. В сущности говоря, на стремлении к эффектам, аналогичным преображенному сиянию готического витража, основано и одно из самых прославленных произведений фра Анджелико — «Венчание богоматери», написанное (при участии мастерской) первоначально для госпиталя Санта Мария Нуова, а теперь хранящееся в монастыре Сан Марко. Картина написана на золотом фоне, выгравированные на этом золотом фоне золотые лучи озаряют фигуры неземным сиянием, идущим как бы из глубины картины. Впечатление небесного, сверхъестественного видения еще усиливается своеобразным эффектом перспективы. Вы видите, что фигуры святых, полукругом окружающие сцену «Венчания», постепенно уменьшаются в размерах, как бы по мере удаления их в глубину, вплоть до совсем маленьких фигурок музицирующих ангелов. Но рядом с этими маленькими фигурками ангелов мы видим опять гораздо более крупные фигуры Христа и богоматери, и как будто достигнутое впечатление глубокого пространства уничтожается и сменяется впечатлением декоративного распределения фигур на плоскости. Эта орнаментальная концепция картины, свойственная фра Беато Анджелико, ясно подчеркивает подлинно готическую природу его живописи. Второй период деятельности фра Анджелико, примерно с начала тридцатых годов, знаменуется появлением в его живописи несомненных признаков нового стиля, провозглашенного Мазаччо. Но в общем фра Анджелико продолжает оставаться в стороне от художественных реформ, совершающихся во флорентийском искусстве, и заимствует у реформаторов только некоторые отдельные приемы, по существу сохраняя тречентистское мировоззрение. К этому периоду относятся главным образом фрески и иконы, исполненные для монастыря Сан Марко во Флоренции. Работы по украшению монастырских стен должны были сблизить фра Анджелико с архитектором Микелоццо, руководившим расширением и перестройкой монастыря Сан Марко. Вероятно, знакомство с Микелоццо и послужило для фра Анджелико главным толчком к первому робкому усвоению новых живописных принципов. Характерным примером этого смешанного стиля фра Анджелико в алтарной иконе может служить «Снятие со креста». Влияние Мазаччо здесь несомненно. Оно проявляется в стремлении к монументальной, драматической композиции, в более массивных, округлых фигурах, моделированных сильными тенями. К тому же ряд фигур правой группы имеет явно портретный характер, а сзади композиция замыкается не абстрактным золотым или орнаментальным фоном, а глубоким пейзажем. Но все эти бесспорные элементы нового стиля не в состоянии заслонить средневекового существа творчества фра Анджелико, в полной мере готической его общей концепции. Его композиция по-прежнему плоскостная, орнаментальная, по-прежнему ее надо читать не спереди в глубину, а слева направо или справа налево по главным декоративным линиям. И этот плоскостной характер живописи фра Анджелико находит себе особенно яркое выражение в том, что нимбы святых, несмотря на очевидное у фра Анджелико знание перспективы и ракурса, никогда у него не сокращаются в пространстве, а всегда изображены параллельными к плоскости картины золотыми дисками — чисто тречентистский прием, который фра Анджелико сохранил в течение всей своей жизни. И в самом восприятии священного события фра Анджелико остался типичным готиком. Заметьте, что у него в картине не происходит, собственно, никакого действия: его фигуры только делают вид, что они действуют, на самом же деле они витают в сфере сверхчувственных настроений; как и зритель, они погружены в созерцание божественного чуда. В области фрески фра Анджелико ближе примыкает к новому направлению флорентийской живописи, так как сама техника подсказывала ему ббльшую простоту и монументальность композиционных и красочных средств. Насколько тонко было чутье фра Анджелико, как и вообще живописцев кватроченто, в различении специфических живописных задач стенной фрески и алтарной картины, показывает сравнение двух «Благовещений». Одно из них — икона, написанная для церкви Сан Доменико в Кортоне (в настоящее время — в местном музее Джезу). Мадонна ожидает божественного вестника под сводами портика со сложенными на груди руками; ангел быстро устремляется к ней, указывая на нее перстом правой руки, а левую поднимая к губам в знак тайны. Внимание мастера привлечено здесь к сложным оттенкам красочной поверхности: к золотому орнаменту одежды и крыльев ангела, к усеянной золотыми звездами синеве сводов, к подробно прорисованным архитектурным деталям (например, капителям); движению фигур придана известная стремительность. Совершенно другим характером отличается написанная несколько позднее фреска «Благовещение» в Сан Марко. Здесь движение почти остановлено, архитектурные формы упрощены, пестрота красок сведена к двум-трем преимущественно светлым оттенкам. Несмотря, однако, на синтетический характер монументального стиля, фреска фра Анджелико по-прежнему проникнута готическим духом: пропорции фигур сильно удлинены, а самые фигуры отличаются чисто готической легкостью, бестелесностью (обратите внимание, например, как мадонна, опирающаяся коленами на скамейку, совершенно лишена всякой статической опоры). Только в работах последнего периода фра Анджелико, начинающегося примерно с 1445 года, элементы стиля кватроченто берут окончательный перевес над готическими традициями. К этому последнему периоду относится деятельность фра Анджелико в Орвьето и особенно в Риме, куда мастер прибывает по приглашению папы Николая V для росписи капеллы в Ватикане. В этой капелле фра Анджелико исполнил цикл фресок из жизни святого Стефана и святого Лаврентия. Одна из них изображает, как папа передает святому Лаврентию ватиканские сокровища для раздачи их бедным. Все средства развитого, монументального стиля кватроченто здесь налицо: пластическая лепка фигур, свободное размещение их в пространстве, иллюзорная разработка поверхности предметов, эффект падающей тени (особенно фигура воина, повернувшегося спиной к зрителю и рельефно выделяющегося на светлом фоне стены, обнаруживает увлечение фра Анджелико модными тогда проблемами анатомической структуры тела и иллюзии трехмерного пространства). Но вместе с тем, приобретая все эти новые изобразительные средства, живопись фра Анджелико потеряла самые драгоценные свои свойства — свою одухотворенность, свою чудесную сказочность, искренность своего религиозного чувства. Третьим в числе архаизирующих мастеров во Флоренции XV века был Томмазо ди Кристофоро Фини, более известный под прозвищем Мазолино, работавший вместе с великим реформатором Мазаччо. Проблема Мазолино — Мазаччо принадлежит к столь же острым и сложным проблемам в истории итальянского искусства, как и в свое время нами рассмотренная проблема искусства Джотто в связи с фресками в Ассизи. Как в затруднениях с Джотто, так и в запутанной проблеме Мазолино — Мазаччо виноват Вазари, выдавший непроверенные слухи и мнения, ходившие в тогдашних художественных мастерских, за непреложные истины. Сущность проблемы заключается в следующем. Вазари утверждает, во-первых, что Мазаччо, великий реформатор живописи кватроченто, был учеником Мазолино. Во-вторых, что Мазаччо был автором фресок в церкви Сан Клементе в Риме. В-третьих, что в росписи капеллы Бранкаччи во Флоренции, или, как сам Вазари ее называет, «колыбели живописи Ренессанса», принимали участие и Мазолино и Мазаччо. При этом сначала Вазари просто указывает, что названные мастера поделили роспись капеллы Бранкаччи пополам, а затем точнее формулирует свое утверждение, что Мазолино принадлежит роспись потолка и ряд фресок по стенам капеллы, все же остальные фрески выполнены Мазаччо. Вот на почве этих утверждений Вазари и разгорелся один из самых ожесточенных споров, которые только знает история искусства и в который оказались вовлеченными ученые представители буквально всех европейских национальностей. Достаточно сказать, что из нескольких десятков ученых, занимавшихся проблемой Мазолино — Мазаччо, ни один не признал справедливость утверждения Вазари. Итак Вазари несомненно ошибался. Но в чем? Где же истина? По мнению одной группы ученых, ее надо искать в том, что фрески в Сан Клементе исполнил Мазолино, а капеллу Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине во Флоренции расписал только Мазаччо. По мнению других, Мазолино написал и фрески Сан Клементе и половину фресок в капелле Бранкаччи. По мнению третьих, наконец, и фрески в Сан Клементе и все фрески в капелле Бранкаччи исполнил Мазаччо[41]. Для того чтобы найти твердую позицию в этом водовороте противоположных мнений, надо установить основной критерий нашего анализа. Такой критерий подсказан сущностью художественной реформы Мазаччо, в основе которой лежит проблема центральной перспективы. Я уже указывал, что живописцы треченто, в частности Амброджо Лоренцетти в Сьене и Альтикьеро в Вероне, делали неоднократные попытки перспективного построения пространства. Но эти попытки не привели к окончательным результатам. Добиться единства точки зрения для всей картины мастерам треченто так и не удалось. Брунеллески первый построил проекцию пространства на системе линий, соединяющихся в одной точке схода. Его современник Мазаччо использовал это открытие в живописи. Но открытием Брунеллески была разрешена только первая половина проблемы. Найдена была неподвижная точка зрения для наблюдателя, находящегося вне пространства картины и наблюдающего ее как бы одним глазом. Картина как бы уподобляется окну, сквозь которое зритель наблюдает то, что происходит в пределах обрамления окна. Из этой первой проблемы естественно вытекает вторая, не менее сложная и, пожалуй, еще более важная. Каким образом уменьшать размеры предметов, изображенных в картине, — пропорционально их удалению от плоскости картины в глубину? Иначе говоря, допустим, что зритель находится вне изображенного пространства, допустим, что он неподвижен, — но в какой точке, на каком расстоянии от картины он должен находиться? От выбора этой точки отстояния зависит степень, с какой уменьшаются размеры предметов в изображенном пространстве. Чем ближе зритель к плоскости картины, тем это уменьшение идет интенсивнее, чем дальше — тем постепеннее. Здесь-то, в определении этой точки отстояния, и заключается главный ключ к проблеме Мазолино — Мазаччо. Анализируя спорные произведения, входящие в круг этой проблемы, мы видим, что они ясно разбиваются на две группы. В одной группе картин восприятие пространства расплывчато, приблизительно — или единство расстояния зрителя от картины вовсе не соблюдено, или расстояние взято слишком близкое, так что зритель как бы натыкается на изображенные предметы и не может окинуть пространство картины одним взглядом. В другой группе картин мы видим совершенное овладение единством пространства и совершенно сознательное, последовательное применение точки отстояния. Вполне очевидно, что первая группа картин должна принадлежать художнику, воспитавшемуся в готических традициях, то есть Мазолино, тогда как автором второй группы должен быть тот мастер, которого художники Высокого Ренессанса называли великим реформатором, «отцом Ренессанса», то есть Мазаччо. С этим критерием мы и обратимся к анализу творчества сначала Мазолино, а потом Мазаччо[42]. Томмазо ди Кристофоро Фини родился в 1383 году, в тосканском городке Паникале, откуда и его прозвище — Мазолино да Паникале. В 1423 году, то есть в сорокалетием возрасте, Мазолино впервые внесен в список цеха Medici e speciali. К этому же году относится и первое его датированное произведение «Мадонна» в Бременской галерее[43]. В бременской «Мадонне» мы видим Мазолино уже в полном расцвете его таланта. Формы приобрели присущую Мазолино округлость, изящество, складки одежды стали обобщенней. Вместе с тем бременская «Мадонна» — это чувствуется даже по репродукции — обнаруживает самую сильную сторону таланта Мазолино. Мазолино был бесспорно самым даровитым колористом своего поколения. Его краски отличаются сочностью и глубиной, которые отсутствуют даже и у самого Мазаччо, и очарованием особого, ему лишь присущего теплого тона. В 1425 году мы застаем Мазолино на севере Италии, в городке Миланской области Кастильоне д’Олона, где он начинает работу над фресками для церкви Колледжаты. Большинство этих фресок почти совсем разрушилось, но некоторые уцелели, как, например, «Обручение богоматери». Эта фреска, исполненная на, чрезвычайно неудобной, треугольной и притом сферической поверхности, показывает, что, оставаясь по существу своей концепции готиком, Мазолино все же успел усвоить во Флоренции некоторые приемы нового стиля. Правда, фигуры его преувеличенно длинны, бескостны (особенно богоматери), движения робки и вялы (обратите внимание на отвергнутого жениха, ломающего свой жезл о колено). Но архитектурные кулисы указывают на несомненное знакомство с конструктивными приемами Брунеллески, а среди действующих лиц мы находим характерные типы старцев с большими седыми бородами, очень напоминающие образы Мазаччо. В следующем году Мазолино получает приглашение в Венгрию, но работы, которые он там выполнил, не сохранились. Вскоре художник вернулся в Италию. Мазолино застает здесь неожиданные для себя перемены в художественной жизни. На Мазолино, художника мягкой натуры, очень чувствительного к внешним влияниям, приемы нового стиля должны были произвести неизгладимое впечатление. И вот он стремится идти в ногу с новаторами. Наиболее ярким свидетельством этого поворота Мазолино в сторону флорентийских новшеств служит его картина, хранящаяся в Неаполитанском музее и изображающая «Чудо со снегом». Картина рассказывает о том, как была заложена церковь Санта Мария Маджоре. Мария обещала указать место будущей церкви, внезапно выпал снег, и папа на том месте очертил на снегу ее план. Картина представляет собой как бы задачу на перспективное построение, и в той наивной, преувеличенной прямолинейности, с которой Мазолино за нее берется, явно сказывается неофит, усвоивший формулы, но не осознавший суть задачи. Мазолино находит единую точку схода для всех уходящих параллельных линий, точно вымеривает уменьшение размеров фигур в глубину пространства и для повышения иллюзии даже изображает облачка, видимые снизу, в последовательном перспективном сокращении. Но, несмотря на все его ухищрения, он не в состоянии создать впечатление оптического единства. Во-первых, потому что Христос и богоматерь, являющиеся в абстрактном ореоле, выпадают из трехмерного построения, а во-вторых, и это главное, потому что Мазолино избирает слишком близкую точку отстояния (меньше половины ширины картины), благодаря чему сокращение пропорций идет в чрезвычайно стремительном темпе и лишает пространство убедительной глубины. «Чудо со снегом» является в этом смысле решающим возражением против тех ученых, которые настаивают на участии Мазолино в росписи капеллы Бранкаччи. Если бы в 1423 году, когда была начата роспись капеллы Бранкаччи, Мазолино уже умел владеть в совершенстве единством пространственного впечатления, то он не забыл бы своих познаний через десять лет. Таким образом, одна часть проблемы Мазолино — Мазаччо для нас решена: в росписи стен капеллы Бранкаччи Мазолино не участвовал[44]. К тем же выводам приводит нас и анализ следующего произведения Мазолино — фресок, украшающих стены баптистерия в Кастильоне д’Олона, куда Мазолино снова возвращается в 1435 году. Фрески баптистерия посвящены жизни Иоанна Крестителя. В стремлении к пространственной иллюзии, под влиянием флорентийских впечатлений, Мазолино применяет прием, до сих пор не встречавшийся в итальянской стенной живописи и вряд ли удачный: отдельные фрески следуют одна за другой и одна под другой, не отделенные друг от друга никакими рамами или карнизами. Вот, например, «Крещение», причем непосредственно под ним, без всякого перехода, оказывается другая сцена — «Проповедь Иоанна Крестителя», и ряд участников этой сцены написан прямо на оконной раме. В этом приеме особенно красноречиво сказывается неуверенное балансирование Мазолино на границе двух стилей. Что касается самой композиции «Крещения», то в ней, наряду с усердными стараниями Мазолино идти в ногу с новым стилем, впервые заметно проявляется и еще одна черта — влияние североитальянской живописи. Во-первых, в пейзаже, который, в отличие от флорентийских обычаев, Мазолино трактует в виде далекой перспективы реки, окруженной скалистыми берегами. Затем — в обилии реалистических подробностей, восходящих, несомненно, к непосредственным зарисовкам с натуры. В группе юношей, ожидающих крещения, Мазолино дает обнаженные фигуры, одну даже со спины (не под впечатлением ли рисунков Пизанелло?), и тонко подмечает жанровые моменты: один юноша уже разделся и кутается от холода в свой плащ, другой же с трудом натягивает одежду на мокрое тело. Особенно ярко дух североитальянского искусства сказался в непривычном для Мазолино аристократическом тоне, который он пытается выдержать в своих фресках: обратите внимание, например, на ангелов, которые, как придворные пажи, держат одежды Христа. В перспективном построении пространства наряду с известной новизной приемов опять бросается в глаза отсутствие подлинного понимания проблемы. Снова Мазолино выбирает слишком близкую точку зрения, и поэтому речные воды на переднем плане кажутся падающими вниз отвесными струями водопада. Такое же пестрое смешение флорентийских новшеств с североитальянским аристократическим тоном находим и в главной фреске баптистерия Кастильоне д’Олона. Фреска объединяет три различных эпизода из жизни Иоанна Крестителя: «Пир Ирода», «Саломея, приносящая голову Крестителя» и «Погребение Крестителя». Здесь светский, придворный тон подчеркнут еще сильнее: в портретных головах сотрапезников Ирода, в двух щеголях, следующих за Саломеей, и особенно в сцене с Иродиадой (сама Иродиада представлена в виде изысканной светской дамы в модном головном уборе; в изогнутых телах ее испуганных белокурых служанок отражается гибкая грация готического интернационального стиля). Но так же настойчиво, хотя по-прежнему внутренне несогласованно, Мазолино демонстрирует свои перспективные познания, зарисовывая по всем правилам центральной перспективы уходящие в глубину аркады галереи, напоминающей флорентийский chiostro. Однако желанный эффект глубины пространства не получается: опять из-за слишком близкой точки отстояния пропорции аркад так быстро сокращаются, что глаз не в состоянии учесть подлинной глубины пространства. Мы подошли теперь ко второму спорному моменту проблемы Мазолино — Мазаччо, к фресковому циклу в римской церкви Сан Клементе. Но теперь, когда художественный облик Мазолино нам более или менее ясен и проблема фресок Сан Клементе уже не представляет столь непреодолимых затруднений, ясно, что автором этих фресок мог быть только Мазолино[45]. Прежде всего — важное хронологическое соображение. Сторонники гипотезы, что Мазаччо был автором фресок в Сан Клементе, относят выполнение этих фресок к началу двадцатых годов. Такой вывод неизбежен, если принять во внимание, что с 1426 года Мазаччо приступает к выполнению фресок в капелле Бранкаччи, в том же году мастер дает клятву не принимать никаких заказов, пока фрески капеллы не будут закончены, а в 1428 году Мазаччо умирает. Иначе говоря, если считать автором фресок в Сан Клементе Мазаччо, то эти фрески могли быть выполнены только до фресок капеллы Бранкаччи. Напротив, если исходить из предположения, что автором фресок в Сан Клементе был Мазолино, то выполнение этих фресок надо относить к концу двадцатых — началу тридцатых годов. Анализ фресок в Сан Клементе легко может нас убедить в том, что только более поздняя датировка соответствует их исторической роли, так как стиль фресок в Сан Клементе, отличаясь всеми неравномерностями и несовершенствами, свойственными Мазолино, вместе с тем базируется на достижениях не только Мазаччо, но и его последователей. Цикл фресок в Сан Клементе состоит в основном из большой фрески на алтарной стене, изображающей «Голгофу», и из фресок, посвященных легенде о святой Екатерине и святом Амвросии. По-видимому, мастер начал свою работу с капеллы и именно с той стороны, которая посвящена легенде о святой Екатерине. И вот первая и самая ранняя по времени фреска капеллы святой Екатерины обнаруживает элементы, которые выходят за пределы и стиля и жизни Мазаччо. Фреска изображает святую Екатерину, ратующую перед императором против идолопоклонства. Прежде всего эта фреска выходит за пределы концепции Мазаччо своим пространственным построением. Сцена изображает внутренность круглого здания. При всем мастерстве своих перспективных построений Мазаччо не мог бы осмелиться на такую задачу. Подобная задача могла появиться только после того, как Брунеллески задумал проект круглого здания в церкви Санта Мария дельи Анджели, и после того, как Гиберти в одном из рельефов «Райских дверей» изобразил круглое здание, — то есть не ранее тридцатых годов (иначе говоря, после смерти Мазаччо). С другой стороны, если бы Мазаччо взялся за подобную задачу, он и выполнил бы ее с совершенной уверенностью. Между тем как раз для Мазолино характерно сочетание дерзости и неуверенности во фреске Сан Клементе: он рискует изобразить в перспективном сокращении шестигранный постамент и, конечно, срывается на непосильной трудности задачи. Теперь, когда вопрос об авторе фресок в Сан Клементе для нас решен, мы можем уже не останавливаться подробно на других фресках капеллы святой Екатерины. Сошлюсь только еще на один образец — фреску, изображающую «Избрание святого Амвросия епископом». В этой картине есть одна маленькая, но очень показательная частность. Как итальянские живописцы раннего XV века, в том числе и Мазаччо, поступали в тех случаях, когда следовало изобразить отверстия окон на стене? Они всегда их изображали темными на светлом фоне стены. Мазолино же изображает окна светлыми пятнами на более темном фоне стены. Здесь определенно отражаются приемы живописцев младшего, по сравнению с Мазаччо, поколения. Наиболее крупным достижением всего цикла в Сан Клементе надо считать «Голгофу» на алтарной стене. Здесь действительно Мазолино перерос самого себя и достиг не свойственной ему монументальности композиции и трагической силы[46]. Влияние живописцев следующего за Мазаччо поколения особенно ясно сказывается в «Голгофе». Во фресках Мазаччо нет ни такого глубокого, ни такого высокого пространства. Мазолино ставит кресты разбойников в ракурсе, перерезывает фигуры среднего плана линией холма, развертывает движение всадников во всех направлениях (между прочим, и из глубины картины) и раскрывает просторные дали холмистого, озаренного закатным солнцем пейзажа. Все эти приемы резко противоречат синтетическому стилю Мазаччо, построенному на упрощении и сокращении арены действия, на пластической лепке мощных фигур переднего плана, на единстве действия. В концепции Мазолино, несмотря на ряд смелых нововведений, господствует еще эпическая необозримость и детализация фрескового стиля треченто. Таким образом, Мазолино рисуется нам последним во Флоренции готиком, чувствительным к посторонним влияниям, падким на внешние признаки художественной моды, но не способным более глубоко проникнуть в сущность новых художественных тенденций.XVI
МАЗАЧЧО — один из самых независимых и последовательных гениев в истории европейской живописи, основатель нового реализма: это — реформатор, пионер, вожак по преимуществу. Творческий путь Мазаччо тем более вызывает удивление, что судьба оборвала взлет его гения в самом начале, на двадцать седьмом году жизни. Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи, прозванный Мазаччо, родился в 1401 году. Вазари называет Мазолино его учителем, но этому как будто противоречит то обстоятельство, что Мазаччо был принят в цех в 1422 году, на год раньше, чем Мазолино. С другой стороны, в первых произведениях Мазаччо влияние Мазолино несомненно, тогда как впоследствии Мазолино начинает испытывать сильное влияние своего младшего современника. Кроме того, бесспорно, что художественное направление молодого Мазаччо во многом определила его дружба с Брунеллески и Донателло. Первые годы деятельности Мазаччо можно восстановить по двум произведениям, исполненным им до начала работ по украшению капеллы Бранкаччи. Одна из них — к сожалению, сильно попорченный фрагмент фрески в Монтемарчиано, городке, соседнем с местностью, где родился мастер. Фреска изображает мадонну на троне в сопровождении архангела Михаила и Иоанна Крестителя. Эта, по-видимому, еще юношеская работа Мазаччо имеет архаический характер. В типах и колорите заметно некоторое сходство с Мазолино. Будущий стиль мастера позволяет угадывать, пожалуй, только суровая архитектоника картины. Гораздо больше предчувствий этого будущего стиля дает вторая ранняя работа Мазаччо — «Святая Анна», писанная для церкви Сайт Амброджо во Флоренции, а теперь находящаяся в галерее Уффици. Здесь тоже есть следы влияния Мазолино — в белокуром типе мадонны и ангелов, в мягком колорите. Но вместе с тем мы ощущаем в «Святой Анне» новый дух, чуждый не только Мазолино, но и всему поколению запоздалых тречентистов. Фигуры Анны и сидящей между ее коленями богоматери кажутся высеченными словно из каменной глыбы. Контуры обведены с неумолимой, железной точностью, формы лепятся твердыми трехмерными массами. Взгляните хотя бы на левую руку Анны, застывшую над головой младенца в резком, прямолинейном ракурсе. Вглядитесь в типы младенца, мадонны, святой Анны. В них нет ни малейшего следа гибкой грации и лирического настроения, свойственных готическому интернациональному стилю. В типе младенца можно даже говорить о безобразии. Мускулистый, крепко усевшийся, он похож на маленького Геркулеса, той породы ребят-гигантов, которых любила создавать фантазия Микеланджело. Между фигурами нет никаких сюжетных, повествовательных взаимоотношений. Мадонна не прижимает младенца нежно к своей груди. Отсутствующий взгляд Марии неотвратимо устремлен прямо вперед, в пустоту. И так же бесстрастно, каменно-величаво изборожденное морщинами лицо святой Анны с опущенными глазами. Мазаччо не стремится приблизить свои образы к сердцу зрителя, но хочет заставить поверить в их абсолютно объективное существование. С такими рационалистическими предпосылками своего нового монументального стиля Мазаччо и приступает к своей главной работе — к фрескам капеллы Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине во Флоренции. Тот период деятельности Мазаччо, когда он выступает перед нами уже вполне сложившимся, уверенным в своих средствах и целях мастером, начинается с очень своеобразного по своему назначению произведения. Это так называемый desco da parto, то есть деревянная круглая тарелка, какую в тогдашней Флоренции имели обыкновение подносить роженице вместе с пирогом. Соответственно назначению выбрана и тема. Мазаччо изображает спальню роженицы; две женщины хлопочут у ее постели, третья держит новорожденного. Сама роженица приподнимается на постели в ожидании гостей, которые входят в ее спальню из прилегающих аркад. Трубачи со знаменами и слуги с подарками завершают торжественное шествие. Нетрудно видеть, что прототипом для архитектурного построения Мазаччо послужило первое создание Брунеллески в новом стиле — портик Воспитательного дома. Мазаччо воспроизводит все конструктивные элементы, пропорции и профили подлинника, но при этом со свойственной ему смелостью и уверенностью развивает формы, данные Брунеллески, в новом пространственном замысле; делает из портика открытый дворик, окруженный колоннадой, — нечто вроде флорентийского chiostro. Что в этой маленькой картинке поражает более всего — это громадное мастерство, с которым фигуры поставлены в пространстве, и абсолютная естественность, хотя и сильно типизированная, с которой они медленно в этом пространстве двигаются. Мы буквально, кажется, ощущаем, как первая гостья вступает в дверь и как слуги с подарками выходят из-за рамы. К тому же времени относится и другое, более крупное произведение Мазаччо, дошедшее до нас, к сожалению, только во фрагментах, — полиптих, исполненный им для церкви Санта Мария дель Кармине в Пизе. Центральная часть этого полиптиха, с изображением богоматери, находится теперь в Лондоне. Эта картина должна была производить ошеломляющее впечатление на современников. Мазаччо отверг все интересы тречентистов — тонкую религиозную мистику, декоративную экспрессию красок и линий, все, что связано с субъективными эмоциями. Его задача — живописными средствами показать объективное существование видимой действительности, вдохнуть героический пафос в человеческую личность, создать соответствующую арену ее действиям. Мадонна Мазаччо по сравнению с мадонной фра Анджелико скорее некрасива, во всяком случае, это индивидуальный характер, живой человек; то же относится к ангелам и младенцу, который сосет палец. Но как младенец сидит, как хватает своей левой ручонкой виноград и как ангелы крепко держат лютни и точно притрагиваются к струнам! Глядя на картины Мазаччо, хочется сказать, что до него люди не умели сидеть, держать, указывать, что только теперь они обрели вес, силу, волю. Посмотрите, как вылеплено тело мадонны, как оно посажено в углубление трона, как ясен и несомненен наклон ее головы. Подобно тому, как на картинах тречентистов, у Мазаччо фигуры освещены с левой стороны. Но прежде это было освещение вообще откуда-то слева. У Мазаччо можно точно определить угол падения света и найти оправдание каждой тени или полутени. То же самое можно сказать и о выборе точки зрения. Она у него не случайна и не неопределенна, как у всех его предшественников — например, у Мазолино или фра Анджелико, — а совершенно сознательно рассчитана. Здесь она находится приблизительно на уровне колен мадонны, вследствие чего фигуры богоматери и младенца кажутся доминирующими над всем окружающим и наклон тела и головы богоматери вниз приобретает особенное значение. Наконец, следует упомянуть еще одну деталь пизанской алтарной иконы. Здесь впервые Мазаччо делает попытку отступить от традиционного плоского, орнаментального нимба и изображает нимб над головой младенца Христа в перспективном сокращении, в ракурсе. Этот, казалось бы, естественный прием отныне становится безусловным для всех прогрессивных живописцев кватроченто. Пределлы пизанской алтарной иконы хранятся теперь в берлинском музее. Центральная пределла изображает «Поклонение волхвов». Замысел Мазаччо поражает своей логичностью и простотой, особенно если вспомнить, что только на два года раньше написано пышное, сверкающее золотом, шумящее пестрой толпой «Поклонение волхвов» Джентиле да Фабриано. Мазаччо отказывается от далекого пейзажного фона, от излюбленных жанровых деталей, от декоративной игры Джентиле и ограничивает арену действия узкой полосой переднего плана. Но то событие, которое совершается на этом переднем плане, поражает своей сосредоточенностью и убедительностью. И опять главной предпосылкой живописной концепции Мазаччо является согласование света и пространства. Опять Мазаччо с точностью определяет угол падения света, на этот раз в соответствии с узким поперечным форматом пределлы, помещая источник света очень низко. Длинные тени, падающие на землю от фигур, определяют их положение в пространстве. Падающую тень изображали и до Мазаччо. Но у предшественников Мазаччо падающая тень не выходила за пределы объема фигуры, никогда не была так связана с окружающим пространством, как на пределле Мазаччо. Вместе с тем, начиная с пизанской алтарной иконы и ее пределлы, и в колорите Мазаччо происходят сильные изменения. До этого времени колорит Мазаччо был светлым и почти столь же пестрым, как на картинах тречентистов. Теперь колорит Мазаччо постепенно становится все более темным и все более сдержанным в подборе красочных оттенков, ограничиваясь исключительно глубокими — синими, красными, лиловыми и коричнево-желтыми тонами. В виде пролога к работе над знаменитым циклом капеллы Бранкаччи Мазаччо написал фреску «Освящение церкви дель Кармине», к сожалению впоследствии уничтоженную. Вазари рассказывает, что в этой фреске, написанной монохромной техникой, Мазаччо представил ряд портретов своих выдающихся современников, в том числе Брунеллески, Донателло, Мазолино и других. Вазари отмечает также, как выдающееся новшество, что участников торжественной процессии Мазаччо изобразил не так, как это делали до сих пор, — людьми одинакового роста и облика, а с индивидуальными отличиями тонких и толстых, низких и высоких. Фрески капеллы Бранкаччи, названной так по имени жертвователя и заказчика Феличе Бранкаччи, богатого флорентийского торговца шелком, начаты, по-видимому, в 1423 году[47]. Главная часть фресок посвящена истории апостола Петра. На входных столбах написаны «Адам и Ева» и «Изгнание из рая», на сводах — четыре евангелиста. Эта последняя часть росписи — на сводах — в XVIII веке была уничтожена. Она составляла, по-видимому, долю участия Мазолино во фресках капеллы Бранкаччи, тогда как вся остальная роспись носит явный отпечаток стиля Мазаччо[48]. В этом прежде всего убеждает исключительная цельность и последовательность формального замысла. Единственным источником света для довольно темной капеллы служило небольшое, высоко расположенное окно в задней стене. И вот все фрески оказываются освещенными в полном соответствии с этим реальным источником света — впервые в истории европейской монументальной живописи! Во фресках на левой от входа стороне капеллы свет падает справа, на правой стене — слева, фрески на задней, алтарной стене освещены как бы сверху. Подобное единство освещения неоспоримо указывает на то, что общая концепция фрескового цикла восходит к одному мастеру, и притом такому мастеру, творчество которого базируется нажелезных законах логики, то есть Мазаччо. К этому присоединяется другое обстоятельство. На столбах капеллы написаны «Грехопадение» и «Изгнание из рая» — сюжеты, не имеющие никакой тематической связи с главным ядром фресок. Почему избраны именно эти темы? Ответ может быть только один — для того чтобы иметь повод написать обнаженные тела. И опять-таки только Мазаччо может быть ответствен за столь полное пренебрежение к иконографическим традициям. С фрески «Грехопадение» Мазаччо, по-видимому, и начал роспись капеллы, постепенно двигаясь по правой стене в глубину капеллы. Некоторые ученые и теперь еще придерживаются взгляда, что автором этой фрески был Мазолино. Они ссылаются на некоторое сходство Евы с типами Мазолино, на некоторую робость рисунка (например, в конечностях), на недостаточное знание анатомии, слабую артикуляцию движений. Но достаточно вспомнить десятью годами позднее написанные Мазолино обнаженные фигуры из баптистерия в Кастильоне д’Олона, чтобы всякие сомнения в авторстве Мазаччо исчезли. На такое абсолютное статическое равновесие, на такой синтез пластической формы способен только Мазаччо. Конечно, во фреске много недостатков; в ней больше гениальных догадок, чем действительного знания обнаженного тела. Но ведь не надо забывать, что это вообще первое изображение обнаженного человека в итальянской живописи и что, только базируясь на достижениях Мазаччо, Мазолино осмелился написать своих ожидающих крещения юношей в Кастильоне д’Олона. Но обнаженные фигуры Мазолино кажутся плоскими и графическими рядом с мощной светотенью Мазаччо. И если Мазолино увлекался реалистическими подробностями одежды, натягиваемой на мокрое тело, то Мазаччо дает наготу абсолютную, обобщенную и идеализированную. Следующей по времени могла быть написана большая фреска на правой от входа стене капеллы. Ее некоторые ученые также склонны связывать с именем Мазолино. Композиция отличается некоторыми несовершенствами. Прежде всего в том смысле, что фреска разбивается на два не связанных между собой эпизода: справа изображено «Воскрешение Тавифы», слева — «Исцеление хромого». Есть во фреске и еще один явный пережиток треченто: место, в котором происходит исцеление Тавифы, представляет собой традиционное в живописи треченто открытое пространство, соединяющее в себе признаки интерьера и наружного портика[49]. Но если отвлечься от этих шероховатостей, то некоторые существенные черты фрески позволяют считать возможным авторство Мазаччо. Прежде всего присмотримся к перспективе. Дело не только в единой точке схода параллельных линий — позднее и Мазолино вполне овладевает этим приемом. Но в том, как у Мазаччо перспектива служит логике действия, как сопутствует его ритму. Заметьте, что точка схода падает как раз на сильно затененный угол здания на заднем плане, и линия этого угла, продолжаясь в контуре спутника апостола Петра, служит границей, разделяющей правую и левую часть фрески. Правая часть более компактна, и линии жилища Тавифы сокращаются в более быстром темпе. Левая часть фрески просторнее, медленнее, вольнее в темпе повествования, и медленнее сокращаются линии портика, возле которого сидит хромой. А фигуры двух щеголей, так крепко соединяющие обе группы рассказа! Мог ли Мазолино (если он был автором этой фрески) придать их беседе такую естественность, их поступи такую легкость и потом, спустя десять лет, повторить тот же мотив, но так тяжело и бессвязно, как он это сделал в Кастильоне д’Олона в «Пире Ирода»? Или взгляните на «Исцеление хромого». Мог ли в эту эпоху кто-либо, кроме Мазаччо, придать жесту и мимике апостола Петра такую огромную силу внушения, изобразить сидящего калеку так, что мы буквально чувствуем — он не может встать, и вот сейчас, когда руки соприкоснутся, он встанет? Здесь нам открывается главная духовная сущность стиля Мазаччо, сгущение действия до максимальной наглядности, обнажение его ядра до основной причинной связи. Если в «Воскрешении Тавифы», как пережиток готики, сцена сопровождается жестами и переживаниями, то начиная с «Исцеления хромого» во фресках капеллы исчезают всякие элементы чувства и все действие сосредоточивается в одном концентрированном волевом акте, в логическом сцеплении причины и следствия. Никто до Мазаччо не формулировал с такой ясностью и последовательностью идейную основу стиля Ренессанса. Мазаччо приступает теперь к росписи задней, алтарной стены. На этой стене Мазаччо пишет четыре вертикального формата фрески, причем фоном двух нижних фресок служат архитектурные кулисы, тогда как действие двух верхних совершается на фоне пейзажа. Но и в том и в другом случае Мазаччо избегает глубокого пространства. Его пейзажные фоны, как, например, на «Крещении», сводятся к высоким силуэтам холмов, которые совершенно так же, как и его архитектурные кулисы, закрывают горизонт. Интерес к пейзажу, к органической жизни природы, чужд Мазаччо. Его занимает исключительно человек, человеческое тело в пространстве. И как раз фреска «Крещение» особенно ярко свидетельствует о высоком мастерстве Мазаччо в изображении обнаженного тела. Фигура юноши, раздевшегося для крещения и дрожащего от холода, прославилась на всю эпоху Ренессанса и сделалась целью паломничества для всех живописцев, изучавших проблему обнаженного тела. Следует отметить, что Мазаччо характеризует дрожащее тело юноши не только соответствующей позой и движениями, но и более бледными тонами тела в контраст к красноватому оттенку наготы коленопреклоненного мужчины на переднем плане. И по смелости замысла и по концентрации действия выделяется нижняя фреска на противоположной части алтарной стены, изображающая «Исцеление тенью». Сама тема могла родиться только в голове художника, открывшего огромное значение света в оптическом восприятии действительности. Но гениальность художественной логики Мазаччо проявляется в том, как он эту тему развивает. Окно капеллы находится над фреской, несколько правее. Другими словами, реальное освещение капеллы всецело совпадает с освещением фрески: свет падает сверху и сзади — так что исцеляющая тень апостола предшествует его движению. Композиция — впервые с такой непреложной последовательностью — развертывается по диагонали, из глубины сцены. Апостол Петр (с обычной для Мазаччо бесстрастностью и величавостью), как пассивный исполнитель божественной воли, медленно шествует по улице, и его тень творит великое чудо: один калека уже исцелился и благодарит апостола, протягивая к нему руки, другой готов восстать, а третий еще лежит, с упованием и верой ожидая спасительной тени. «Раздача милостыни» тоже показывает уголок города и жанровые фигуры, но в целом имеет скорее героическое, историческое значение. Здесь чувствуется демократизм Мазаччо в том, как он изображает настоящего крестьянина: у него это не комический или сатанинский бродяга в лохмотьях, не идиллический пастушок, а настоящий героический, уверенный в себе человек труда. Своего наиболее грандиозного размаха гений Мазаччо достигает в большой фреске, написанной на левой стене капеллы, напротив «Воскрешения Тавифы». Фреска рассказывает о том, как таможенный сборщик останавливает Христа и апостолов у ворот Капернаума и требует подати, как Христос посылает апостола Петра поймать рыбу в озере и достать из нее монету и как апостол Петр расплачивается со сборщиком. Эта фреска замечательна во многих отношениях. В ней пластически-телесный, синтетический стиль Мазаччо достигает своего высшего напряжения. Посмотрите, как Христос окружен кольцом фигур со всех сторон и как он все-таки над ними доминирует, как вылеплено тело сборщика, как разнообразно и в то же время твердо характеризованы головы апостолов (между прочим, по сведениям Вазари, в крайнем апостоле справа Мазаччо дал свой автопортрет). Далее — как композиция задумана в глубоком соответствии с падением света. Свет падает справа, и соответственно расположены наиболее крупные, наиболее близкие к плоскости картины фигуры. Наконец, поражает отсутствие всякой готической динамики в концепции Мазаччо: совершенное равновесие, абсолютное бытие, сгущенный синтез причины и следствия. В то же время некоторые особенности искусства Мазаччо заставляют видеть в нем представителя стиля раннего Ренессанса. Вспомните предшествующую композицию, где изображено «Исцеление тенью» и где представлен не момент исцеления, а предшествующие и последующие стадии некоторого длительного процесса. Присмотритесь к композиции «Чудо со статиром», где опять-таки перед нами три стадии одного и того же рассказа, даже с повторением главного действующего лица. Нетрудно вывести заключение, что Мазаччо был еще связан средневековыми сукцессивными представлениями. Если он видел уже как художник Ренессанса, то рассказывал он еще как мастер эпохи Джотто. Именно этим объясняется, как мы увидим в дальнейшем, тот факт, что его последователи, которые не обладали такой силой оптического синтеза, стали вновь возвращаться на путь готических традиций. И никто знает, как сложилась бы дальнейшая судьба живописи кватроченто, если бы Мазаччо не умер так рано. Созданная приблизительно в это же время работа Мазаччо, фреска «Троица» в церкви Санта Мария Новелла, во всяком случае, наиболее близка к стилю Высокого Ренессанса. Иллюзией глубокой ниши, крытой коробовым сводом, фреска продолжает и расширяет пределы реального пространства. При этом фигуры жертвователя и его жены, склонившиеся на колени у подножия пилястров, как бы относятся к реальному пространству, тогда как бог-отец, поддерживающий распятие, и мадонна с Иоанном, стоящие на возвышении капеллы, принадлежат к пространству иллюзорному. Точка зрения взята ниже рамы и вполне соответствует реальному положению зрителя, стоящего перед фреской. Здесь Мазаччо впервые с изумительным прозрением формулирует любимую идею итальянской декоративной живописи не только Ренессанса, но и барокко — расширение реальных границ пространства иллюзией воображаемой глубины. Как это обычно бывает с великими мастерами, Мазаччо, в сущности, не имел непосредственных продолжателей своих идей. Из всех живописцев кватроченто, пожалуй, только один Пьеро делла Франческа по-настоящему понял художественные намерения Мазаччо. Действительными последователями Мазаччо можно назвать только живописцев Высокого Ренессанса. Если не считать тех запоздалых готиков, с которыми мы познакомились раньше и деятельность которых захватывает почти всю первую половину XV века, то флорентийская живопись после Мазаччо разбивается на два главных направления. Представителей первого направления можно назвать проблемистами, представителей второго — рассказчиками. Сначала обратимся к проблемистам, которые ближе связаны с художественным наследием Мазаччо. Я их называю так потому, что в основе творчества каждого из них лежит какая-нибудь формальная проблема — одна из тех проблем, которые впервые выдвинула живопись Мазаччо, и изучению этой проблемы они предаются с почти фанатическим рвением и упорством. Среди этих проблемистов есть энтузиасты перспективы, есть фанатики анатомии и такие же фанатики проблемы света. Те средства к оптическому овладению действительностью, которые в творчестве Мазаччо синтезировались в абстрактном, монументальном стиле, выступают у этих мастеров разрозненно, подчеркнуто односторонне и из средства обращаются в цель их живописи. Поэтому если стиль Мазаччо следует назвать идеализированным, то стиль этой первой группы его последователей безусловно склоняется к натурализму. Старшим в этой группе проблемистов является Паоло ди Доно, прозванный Уччелло. Непреоборимой страстью этого мастера была перспектива. Вазари изображает его чудаком, дни и ночи просиживающим за своими экспериментами, чертящим сложные перспективные построения, зарисовывающим ракурс листа и оперение птицы. Когда в пылу ночной работы его убеждали лечь в постель, он восклицал в упоении: «Какая сладостная вещь эта перспектива!» Паоло Уччелло родился, по-видимому, в 1397 году, был учеником Гиберти и, как его помощник, участвовал в отливке первых ворот баптистерия. В конце двадцатых годов мы застаем Уччелло в Венеции, где он изготовляет мозаику для собора святого Марка. В 1431 году Уччелло возвращается во Флоренцию. Фрески Мазаччо в капелле Бранкаччи, которые Уччелло увидел по возвращении во Флоренцию, произвели на него сильное впечатление своей новой пространственной концепцией и побудили его посвятить все свои силы изучению перспективы. Первое датированное произведение Уччелло, которое отражает его страсть к перспективе, это конный портрет английского кондотьера Джона Хоквуда, находившегося на службе у Флорентийской республики и прозванного итальянцами Джованни Акуто. Портрет этот исполнен в 1436 году для Флорентийского собора и написан монохромной фресковой техникой, в зеленоватом тоне на красном фоне. Иллюзионизм Уччелло проявляется прежде всего в том, что портрет кондотьера задуман не как портрет живого человека, а как изображение статуи. Конь кондотьера стоит на саркофаге, который в свою очередь возвышается на постаменте, поддерживаемом консолями. Далее с большой смелостью Уччелло выдерживает для постамента и саркофага точку зрения снизу вверх (disotto in su). Однако традиции плоскостной живописи треченто еще очень сильны — и в противоречии с этим перспективным сокращением постамента сама статуя Хоквуда развернута на плоскости так, как если бы мы видели ее не снизу, а находились бы прямо перед ней. С большей последовательностью Уччелло проводит единство освещения: свет падает слева, крепко моделируя формы лошади, и Уччелло не боится погрузить лицо кондотьера в тень. На почву еще более смелых перспективных экспериментов Паоло Уччелло вступает в серии батальных картин, которые мастер исполнил по заказу Медичи. Три из этих «Битв» находятся теперь в лондонской Национальной галерее, в Лувре и в Уффици. Страсть к перспективе сочетается у Уччелло с любознательностью естествоиспытателя. Его привлекает не жизнь натуры в целом, не пейзаж, а структура отдельных элементов натуры. Так здесь, например, он помещает арену битвы среди апельсиновых деревьев, потому что апельсиновое дерево его занимает как самостоятельная пластическая проблема. И действительно, ему удается сделать ряд интересных оптических наблюдений. Он уже не изображает плоды висящими на кончиках ветвей, как это делали раньше, но в самой гуще дерева, и дерево он изображает не как плоский силуэт, а как пространственное тело, рисуя листья в ракурсе, следя за тем, как освещение моделирует их формы, и стремясь показать различие лицевой и тыльной стороны листа. С наивной радостью землемера Уччелло делит поверхность холма межами и бороздами вспаханных полей и расставляет плодовые деревья, как вехи перспективного пространства. Следует отметить также, что небо, как бездонная глубина, не поддающаяся перспективным измерениям, совершенно выпадает из поля зрения Уччелло, и поэтому горизонт его пейзажных фонов поднят обычно до самой верхней рамы. Но, разумеется, главное внимание Уччелло сосредоточено на переднем плане. Но не битва как таковая интересует мастера, а сложная перспективная задача, скрытая в скоплении всадников, в ракурсах лошадей, в скрещении копий и сплетении ног. Уччелло отваживается при этом на самые неожиданные эксперименты: изображает ракурс павшей лошади брюхом и ногами вперед, изображает брыкающуюся лошадь.
188. МАЗАЧЧО. ГРЕХОПАДЕНИЕ. ФРЕСКА КАПЕЛЛЫ БРАНКАЧЧИ ЦЕРКВИ САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ КАРМИНЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1427–1428.

189. МАЗОЛИНО ИЛИ МАЗАЧЧО. ВОСКРЕШЕНИЕ ТАВИФЫ. ФРЕСКА КАПЕЛЛЫ БРАНКАЧЧИ ЦЕРКВИ САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ КАРМИНЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1427–1428.

190. МАЗАЧЧО. ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ. 1426. БЕРЛИН-ДАЛЕМ, МУЗЕЙ.

191. МАЗАЧЧО. МАДОННА. 1426. ЛОНДОН, НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ.

192. МАЗАЧЧО. КРЕЩЕНИЕ СВ. ПЕТРОМ. ФРЕСКА КАПЕЛЛЫ БРАНКАЧЧИ ЦЕРКВИ САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ КАРМИНЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1427–1428.

193. МАЗАЧЧО. ИСЦЕЛЕНИЕ ТЕНЬЮ. ФРЕСКА КАПЕЛЛЫ БРАНКАЧЧИ ЦЕРКВИ САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ КАРМИНЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1427–1428.

194. МАЗАЧЧО. ЛЕГЕНДА О СТАТИРЕ. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ.

195. МАЗАЧЧО. ЛЕГЕНДА О СТАТИРЕ. ФРЕСКА КАПЕЛЛЫ БРАНКАЧЧИ ЦЕРКВИ САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ КАРМИНЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1427–1428.

196. МАЗАЧЧО. ТРОИЦА. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САНТА МАРИЯ НОВЕЛЛА ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1427.

197. ПАОЛО УЧЧЕЛЛО. ДЖОВАННИ АКУТО. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ СОБОРА САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ ФЬОРЕ ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1436.

198. ПАОЛО УЧЧЕЛЛО. БИТВА ПРИ САН РОМАНО. ОК. 1455 Г. ПАРИЖ. ЛУВР.

199. ПАОЛО УЧЧЕЛЛО. ОХОТА. ДЕТАЛЬ. КОНЕЦ 1460-Х ГГ. ОКСФОРД, МУЗЕЙ АШМОЛЕАН.

200. ПАОЛО УЧЧЕЛЛО. ПОТОП. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САНТА МАРИЯ НОВЕЛЛА ВО ФЛОРЕНЦИИ. МЕЖДУ 1435–1450 ГГ.

201. ПАОЛО УЧЧЕЛЛО. ЛЕГЕНДА О ПРИЧАСТИИ. КОНЕЦ 1460-Х ГГ. ДЕТАЛЬ. УРБИНО. ПИНАКОТЕКА.

202. АНДРЕА ДЕЛЬ КАСТАНЬО. ПИППО СПАНО. ФРЕСКА. МЕЖДУ 1445–1457 ГГ. ФЛОРЕНЦИЯ, МУЗЕЙ КАСТАНЬО.

203. АНДРЕА ДЕЛЬ КАСТАНЬО. РАСПЯТИЕ. ФРЕСКА. МЕЖДУ 1445–1457 ГГ. ФЛОРЕНЦИЯ, МУЗЕЙ КАСТАНЬО.

204. АНДРЕА ДЕЛЬКАСТАНЬО. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ. ФРЕСКА. МЕЖДУ 1445–1457 ГГ. ФЛОРЕНЦИЯ. МУЗЕЙ КАСТАНЬО.

205. АНДРЕА ДЕЛЬ КАСТАНЬО. НИККОЛО ДА ТОЛЕНТИНО. 1456. ФРЕСКА. ФЛОРЕНЦИЯ. СОБОР САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ ФЬОРЕ.

206. АНДРЕА ДЕЛЬ КАСТАНЬО. ТРОИЦА. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САНТА АННУНЦИАТА ВО ФЛОРЕНЦИИ. 1454–1455.

207. ДОМЕНИКО ВЕНЕЦИАНО. БЛАГОВЕЩЕНИЕ. КЕМБРИДЖ. МУЗЕЙ

208. ДОМЕНИКО ВЕНЕЦИАНО. МАДОННА СО СВЯТЫМИ. ОК. 1445 Г. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.

209. ДОМЕНИКО ВЕНЕЦИАНО (?). ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ. БЕРЛИН-ДАЛЕМ. МУЗЕЙ.

210. ФИЛИППО ЛИППИ. КОРОНОВАНИЕ МАРИИ. ОК. 1441–1447 ГГ. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.

211. ФИЛИППО ЛИППИ. МАДОННА. ОК. 1452 Г. ФЛОРЕНЦИЯ, ГАЛЕРЕЯ ПИТТИ.

212. ФИЛИППО ЛИППИ. ПИР ИРОДА. ФРЕСКА СОБОРА В ПРАТО. 1452–1464.

213. ПЕЗЕЛЛИНО. ТРИУМФ ДАВИДА. АНГЛИЯ, ЧАСТНОЕ СОБРАНИЕ.

213. ПЕЗЕЛЛИНО. ТРИУМФ ДАВИДА. АНГЛИЯ, ЧАСТНОЕ СОБРАНИЕ. 214 ПЕЗЕЛЛИНО (?). ЖИЗНЬ СВ. СИЛЬВЕСТРА. 1440-Е ГГ. РИМ, ГАЛЕРЕЯ ДОРИА.

215. БЕНОЦЦО ГОЦЦОЛЛИ. ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ СВ. АВГУСТИНА. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САНТ АГОСТИНО В САН ДЖИМИНЬЯНО. 1463–1467.

216. БЕНОЦЦО ГОЦЦОЛЛИ. ШЕСТВИЕ ВОЛХВОВ. ФРЕСКА. ФЛОРЕНЦИЯ, ПАЛАЦЦО МЕДИЧИ-РИККАРДИ. 1459.

217. БЕНОЦЦО ГОЦЦОЛЛИ. ШЕСТВИЕ ВОЛХВОВ. ДЕТАЛЬ ФРЕСКИ.

218. ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА. МАДОННА ДЕЛЛА МИЗЕРИКОРДИЯ. 1450–1462. БОРГО САН СЕПОЛЬКРО, МУЗЕЙ.

219. ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА. ПОРТРЕТ ФЕДЕРИГО ДА МОНТЕФЕЛЬТРО. ОК. 1465 Г. ФЛОРЕНЦИЯ. УФФИЦИ.

220. ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА. СИДЖИЗМОНДО МАЛАТЕСТА ПЕРЕД СВ. СИГИЗМУНДОМЛФРЕСКА ЦЕРКВИ САН ФРАНЧЕСКО В РИМИНИ. 1451.

221. ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА. СМЕРТЬ АДАМА. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САН ФРАНЧЕСКО В АРЕЦЦО. 1452–1466.

222. ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА. БИЧЕВАНИЕ ХРИСТА. ОК. 1455–1460 ГГ. УРБИНО, ГАЛЕРЕЯ.

223. ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА. БИЧЕВАНИЕ ХРИСТА. ДЕТАЛЬ.

224. ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА. СОН КОНСТАНТИНА. ДЕТАЛЬ. ФРЕСКА ЦЕРКВИ САН ФРАНЧЕСКО В АРЕЦЦО. 1452–1466.

225. ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА. КРЕЩЕНИЕ ХРИСТА. 1445. ЛОНДОН, НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ.

226. ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА. ВОСКРЕСЕНИЕ. ОК. 1463 Г. БОРГО САН СЕПОЛЬКРО, МУЗЕЙ.

227. ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА. РОЖДЕСТВО. ОК. 1475 Г. ЛОНДОН НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ.
И во имя этих отдельных перспективных эпизодов Паоло Уччелло забывает о картине битвы в целом, персонажи ее совершенно лишены настоящей динамики и производят впечатление деревянных кукол, расставленных в самых различных позах. Элемент чудачества есть и в колорите Паоло Уччелло. Его лошади отличаются самыми невероятными окрасками, тут есть и красные лошади, и розовые, и даже голубые. Но вместе с тем и в области красочных наблюдений Паоло Уччелло удаются важные открытия. Он был одним из первых, кто подметил изменения локальных красок под влиянием света. Крайней степени своих натуралистических чудачеств Паоло Уччелло достигает в цикле стенных картин, которые он написал для церкви Санта Мария Новелла. К сожалению, стенные картины эти, исполненные монохромной темперой, сильно пострадали вследствие технических экспериментов мастера и вследствие того, что украшали аркаду двора. Так, например, нижняя часть картины, изображающей «Опьянение Ноя», совершенно исчезла. В правой части видны сыновья Ноя, по-видимому, склонившиеся над лежащим телом отца, в левой части — семья Ноя, окружившая алтарь, и бог-отец, слетающий к ней с неба. Вот в этой фигуре бога-отца Уччелло отваживается на мотив, который только спустя полтораста лет получил дальнейшее развитие в живописи Тинторетто и мастеров барокко: мотив полета спереди назад и головой вниз. Лучше сохранилась, хотя и сильно потускнела, картина, изображающая «Потоп». Композиция эта лишена всякого живописного единства, полна чудачеств и нелепостей и все-таки невольно захватывает смелостью поставленных Уччелло оптических проблем. К нелепостям относится прежде всего одновременное появление двух ковчегов — из начала и конца повествования. Налево ковчег изображен в разгар потопа, несущимся на волнах, и к нему устремляются, за него цепляются жаждущие спасения. Направо — ковчег спасшийся, и высовывающийся из его окна Ной принимает оливковую ветвь от голубя. С другой стороны, в «Потопе» много деталей, поражающих яркостью, смелостью, динамикой замысла. Например, в фоне фрески-изображения грозы и молнии, ударившей в дерево, или на переднем плане — два обнаженных юноши, дерущихся, очевидно, за место в ковчеге; один верхом, замахивается мечом, другой с дубинкой в руках. Уже близко к концу жизни Паоло Уччелло, к шестидесятым годам, относится работа мастера, выполненная им в Урбино. Это пределла, в которой рассказывается история о причастии. В одной сцене повествуется о том, как женщина принесла еврейскому ювелиру «святые дары». Во второй идет рассказ, что ювелир поставил святые дары, чтобы их сжечь, на огонь и как, к ужасу его и его семьи, из них потекла струя крови, в то время как воины разбивают дверь, увидев струйку крови, вытекающую из-под нее. Но новеллистическая тема служит для Уччелло только поводом, чтобы удовлетворить свою страсть к перспективным построениям, в области которых он достиг теперь исключительного мастерства. Уччелло соединяет части пределлы, наподобие вертящейся театральной сцены, в непрерывную смену интерьеров, соединенных один с другим так, как будто сняты передние их стены. При этом границы отдельных частей пределлы он маркирует декоративным мотивом витых канделябров. Если сравнить урбинскую пределлу с предшествующими работами Уччелло, то невольно бросается в глаза, несмотря на несомненный прогресс в оптическом восприятии пространства, значительное усиление готического духа в концепции Уччелло. Оно проявляется не только в миниатюрной грациозности фигурок, но и в самой генетической форме рассказа с непрерывно вытекающими одно из другого звеньями событий. Последние работы Паоло Уччелло вообще более готичны, чем произведения его первого периода. Сюда относится, например, очаровательная маленькая картинка из лондонской Национальной галереи, изображающая «Единоборство святого Георгия с драконом». И тип принцессы с тонкой шеей и длинным шлейфом, и сказочная наивность дракона с орнаментом павлиньих глаз на крыльях, и скала, и забавные маленькие облачка — во всем этом, если так можно сказать, фантастическом натурализме проявляются отголоски готической концепции. Но с особенной силой элементы фантастики вырываются наружу в «Охоте» оксфордского Музея Ашмола. Правда, Уччелло остается верен себе, руководствуясь в выборе темы неожиданными перспективными возможностями. Но вместе с тем сцена ночной охоты рассказана с такой динамикой, в таких фантастических пропорциях и таких невероятных красках, сама идея лунного света в густой лесной мгле настолько полна романтики, что зритель совершенно забывает о тонкостях пространственного построения. В этом смысле творческое развитие Паоло Уччелло чрезвычайно знаменательно. Мощного толчка, данного обобщающим стилем фресок капеллы Бранкаччи, было недостаточно, чтобы окончательно повернуть флорентийскую живопись к классическим идеалам. Параллельно Паоло Уччелло развивается искусство второго представителя группы проблемистов — Андреа дель Кастаньо. Если девиз Паоло Уччелло — построение пространства, перспектива, то главный стержень живописи Андреа дель Кастаньо — анатомия, структура человеческого тела, сила формы и жеста. Искусство Андреа дель Кастаньо так же односторонне и подчеркнуто, как искусство Паоло Уччелло, но оно гораздо сильнее и глубже по выражению. Андреа дель Кастаньо вышел из крестьянской среды. Он родился около 1421 года. Легенда по которой Андреа дель Кастаньо в припадке бешенства убил Доменико Венециано, оказалась не соответствующей действительности (Доменико Венециано, согласно документам, пережил своего «убийцу» на четыре года); но все же несомненно, что Андреа дель Кастаньо отличался тяжелым, мрачным характером, предрасположенным к жестокости, к неожиданным грубым вспышкам, — и эти черты характера наложили заметный отпечаток на его искусство. Когда в 1434 году Медичи вернулись из изгнания во Флоренцию и их заклятые враги, члены семейств Альбицци и Перуцци, были изгнаны, Андреа дель Кастаньо написал фреску на фасаде Палаццо дель Подеста, где изобразил повешенными врагов Медичи.[50] Непосредственные учителя Кастаньо неизвестны, но несомненно, что искусство Кастаньо выросло под влиянием, с одной стороны, Мазаччо и, с другой стороны, Донателло, причем влияние последнего было, пожалуй, даже более решающим. Как и у Паоло Уччелло, ранняя деятельность Андреа дель Кастаньо протекает преимущественно в Северной Италии. 1442 годом датирована фреска, которую Кастаньо исполнил в венецианской церкви Сан Таразио и которая оставила очень заметный след в дальнейшем развитии североитальянской живописи. По возвращении во Флоренцию в 1445 году Кастаньо записывается в цех и остается во Флоренции до своей смерти в 1457 году[51]. Большинство работ Андреа дель Кастаньо, написанных им во Флоренции, собрано в трапезной церкви Сайт Аполлония. Одно из произведений Андреа дель Кастаньо, написанное им во Флоренции, дает отличное представление о главных свойствах его таланта. Это — распятие с богоматерью, апостолом Иоанном и святыми монахами — Бенедиктом и Ромуальдом. Влияние Мазаччо ясно сказывается в спокойствии, равновесии композиции, в пластической лепке форм. Но Кастаньо во многих отношениях идет дальше Мазаччо, и здесь направление его художественных исканий определяется несомненно влиянием Донателло. Кастаньо стремится не только к пластической моделировке Мазаччо, но и к скульптурной жесткости, ощутимости форм. Если у Мазаччо формы мягко закругляются, то у Кастаньо они словно обрезаны металлическими контурами, и его одежды ложатся крепкими, словно из жести, складками. Лепка формы подчеркнута у Кастаньо и резким контрастом освещенных фигур с темным, непрозрачным фоном. С другой стороны, Кастаньо гораздо реалистичнее, чем Мазаччо. Он не синтезирует форму, а, напротив, детализирует ее, тщательно углубляясь в изучение структуры человеческого тела, подчеркивая костяк сочленения, выделяя складки кожи. Христос у Кастаньо — мощное тело крестьянина. Художник не пренебрегает даже такой подробностью, как волосы в подмышках. Влияние Донателло хочется видеть в том, как Андреа дель Кастаньо стремится извлечь из форм, типов и жестов эмоциональные ценности, подчеркивая мрачное, трагическое настроение сцены холодным, зловещим колоритом. Пластический стиль живописи Андреа дель Кастаньо достигает еще большей металлической жесткости во фресковых декорациях, которые мастер исполнил в вилле Кардуччи и которые теперь также находятся в церкви Сайт Аполлония, превращенной в музей Кастаньо. Здесь перед нами первый образец чисто светской декорации. И во фресках виллы Кардуччи влияние Мазаччо смешивается с еще более сильным влиянием Донателло. Цикл состоит из девяти аллегорически-портретных фигур: три знаменитых полководца, три знаменитые женщины (из них Эсфирь изображена в виде бюста над дверью) и три знаменитые поэта — Данте, Петрарка и Боккаччо. Над карнизом — фриз обнаженных путти, который особенно ярко указывает на зависимость искусства Кастаньо от Донателло. Во фресках виллы Кардуччи к знакомым уже нам свойствам жесткой, металлической лепки Кастаньо присоединяется иллюзорная тенденция заставить фигуры пластически выступить из стены. Вы видите, как Кастаньо в своей фигурной декорации последовательно проводит точку зрения снизу (disotto in su), как ноги большинства фигур, а в некоторых случаях их головы и их руки как бы выходят за пределы обрамления. В отличие, следовательно, от живописной тенденции Мазаччо расширить воображаемое пространство в глубину, позади стены (как в его фреске «Троица»), мы сталкиваемся с противоположной, пластической тенденцией — созданием иллюзорного пространства перед стеной. Невольно на память приходят рельефы Донателло, украшающие кафедры в Сан Лоренцо, где точно так же фигуры выступают за раму, протягивают навстречу зрителю руки и копья. Иллюзорность декоративной живописи Кастаньо подчеркнута еще и тем, что в фоне, на котором выступают фигуры, и в квадратных полях под ними Кастаньо имитирует мерцающую поверхность цветного мрамора в зеленом и темно-красном тоне. Создается ошеломляющее впечатление близости, непосредственной ощутимости этих людей. Художник подчеркивает их героичность и неукротимый темперамент с большой силой характеристики. Так, Фарината дельи Уберти, герой Дантова «Ада», имеет независимый, гордый вид («казалось, ад с презреньем озирал»). В других фигурах влияние Донателло еще заметней. Таков, например, знаменитый полководец Пиппо Спано, который бился с турками: он стоит, как святой Георгий Донателло, крепко упираясь в землю обеими ногами и с легкостью сгибая клинок своего меча — типичное для Ренессанса олицетворение физической мощи и воли к действию. Постепенно, однако, стиль Андреа дель Кастаньо начинает претерпевать изменения. Переходное положение в этом смысле занимает фреска «Тайная вечеря». В композиции Андреа дель Кастаньо возвращается к схеме, которую еще в середине треченто создал ученик Джотто, Таддео Гадди: апостолы сидят по обеим сторонам Христа вдоль длинного стола, Иоанн заснул на руке Христа, напротив Христа по другую сторону стола — зловещий профиль черного Иуды. Но Кастаньо значительно обогатил старую схему: вместо общей для всех апостолов стереотипной позы и равномерно торжественного настроения Кастаньо стремится индивидуализировать каждого апостола и по внешнему облику и по темпераменту и внести возможно большее разнообразие в жесты. В результате вместо синтеза получается расщепление и чередование отдельных мотивов. Впервые Леонардо да Винчи в своей «Тайной вечере» собирает эти разрозненные элементы в согласный хор жестов и переживаний. Имитация цветного мрамора, которая во фресках виллы Кардуччи имела иллюзорно-пластический характер, здесь становится настолько звучной и пестрой, что не только не поощряет впечатления пространственной глубины, но, наоборот, ослабляет его, сводит картину к плоскому орнаменту декоративных пятен. Наконец, Кастаньо возрождает один прямо готический пережиток: архитектуру в «Тайной вечере» он изображает одновременно изнутри и снаружи, показывая черепичную крышу того здания, в котором сидят апостолы. Уже фреска «Тайная вечеря», если ее сравнить, например, с «Распятием», кажется неспокойной, лишенной статического равновесия. Еще более это относится к последним работам Андреа дель Кастаньо. В каждом последующем произведении мастера возрастает и внутреннее и внешнее беспокойство, язык чувств становится все выразительнее. 1456 годом датирована фреска Кастаньо, которая изображает конный портрет флорентийского кондотьера Никколо да Толентино и которую мастер выполнил для собора в пару к аналогичной фреске Паоло Уччелло. Отметим ее главные особенности — сравнительно простой, но массивный постамент, спокойного, почти неподвижного всадника; его конь поднимает только переднюю ногу — то есть почти стоит; лицо всадника почти скрыто тенью. Во фреске Андреа дель Кастаньо больше динамики, пестроты и экспрессии. Во-первых, постамент стал гораздо легче, более раздроблен на составные элементы и вместе с тем богаче в орнаменте; прибавились фигуры двух обнаженных юношей с гербами. Далее — конь теперь определенно двигается, поворачивает голову, раздувает ноздри, но и сам всадник полон движения, порыва вперед, в его одежде и головном уборе больше пышности, и его плащ развевается по ветру. С другой стороны, в своем перспективном построении Кастаньо, несомненно, более последователен. Он так же, как и Паоло Уччелло, избирает точку зрения снизу вверх. Но в то время как Паоло Уччелло применяет эту точку зрения только для постамента, Кастаньо выдерживает ее и в статуе кондотьера, которая точно так же видна снизу вверх, явно сокращается в пространстве. Наконец, впечатление динамики во фреске Кастаньо усиливается благодаря тому, что свет падает теперь справа, навстречу движению, и, ударяя в голову лошади и лицо всадника, моделирует их формы крепкими тенями. В целом фреска Кастаньо по сравнению с Уччелло более реалистична, хотя и в ней чувствуется готический дух. Сходные моменты можно отличить во фреске «Троица» во флорентийской церкви Сантиссима Аннунциата. Первоисточником для композиции Кастаньо послужила «Троица» Мазаччо в Санта Мария Новелла. Но какое огромное различие между величавым спокойствием и иератической строгостью Мазаччо и возбуждением, почти экстазом святых у Кастаньо. Отметим, что «Троица» передана во всей полноте оптической иллюзии — крест с телом Христа изображен в сильнейшем ракурсе. Но что еще удивительней — прием совершенно небывалый до сих пор в итальянской живописи, — святые женщины поставлены к зрителю так, что их головы видны в уходящем профиле. И эта субъективность оптической иллюзии и эмоциональная насыщенность образов Кастаньо резко противоречат принципам классического стиля, воплощенным во фресках капеллы Бранкаччи. В конце своей деятельности Кастаньо отходит от художественных предпосылок своей юности и предвосхищает то направление во флорентийской живописи второй половины кватроченто, которое можно назвать «второй готикой» и которое наиболее ярко воплощено в творчестве Боттичелли. Действительно, нельзя иначе, как боттичеллиевским, назвать предсмертное произведение Андреа дель Кастаньо — «Давид» в собрании Уайднера в Филадельфии: с его странным форматом, с его возбужденным, грациозно изломанным движением, развевающимися черными прядями волос, кроваво-красной одеждой на темно-синем фоне и совершенно иррациональным замыслом — праща с камнем еще в руке Давида, он еще готовится замахнуться, но отрубленная голова Голиафа уже лежит у его ног. Начав крайним реалистом, Андреа дель Кастаньо кончает почти мистиком. Личность третьего представителя занимающей нас группы проблемистов, Доменико Венециано, с наибольшим трудом поддается характеристике, так как известна только одна вполне достоверная картина мастера, остальные же подобраны путем стилистических сравнений. Во всяком случае, несомненно, что кардинальной проблемой живописи Доменико Венециано была проблема колорита. И к этой проблеме, подобно тому как Уччелло к проблеме перспективы, Доменико Венециано подходил чисто экспериментальным путем, изучая химический состав красок, испробовав различные связующие вещества и т. п. Вазари рассказывает, что Доменико Венециано был первым в Италии, кто независимо от нидерландских живописцев пришел к идее использовать масло как связующее вещество и для достижения прозрачных лессировок. Доменико ди Бартоломео, прозванный Доменико Венециано, как указывает самое прозвище, был родом из Венеции. Год рождения его точно не известен, но, по всей вероятности, он родился в первом десятилетии XV века. Для характеристики раннего, венецианского стиля Доменико может служить тондо из берлинского музея, изображающее «Поклонение волхвов». Здесь Доменико Венециано находится еще всецело во власти позднеготических традиций, как они сложились в североитальянской живописи. В картине нетрудно найти следы влияния Стефано да Дзевио и особенно Пизанелло, на которого указывает и общий светский тон, господствующий в свите волхвов, и отдельные детали композиции, будто прямо заимствованные из альбомов Пизанелло (например, «денди», стоящий спиной к зрителю, в модном костюме с меховыми отворотами и с огромной завитой шевелюрой, а также рисунок двух лошадей, изображенных рядом спереди и сзади). Но в картине можно заметить и специфические свойства дарования Доменико Венециано — звучность колорита и прозрачность воздушной перспективы в пейзаже. Дальнейшие сведения о Доменико Венециано мы имеем из письма мастера, написанного в 1438 году из Перуджи и адресованного Пьеро де Медичи. В своем письме Доменико Венециано обращается с просьбой рекомендовать его Козимо Медичи и посодействовать получению от него заказа на алтарную икону. Очевидно, письмо возымело свое действие, так как уже в следующем году мы застаем Доменико Венециано во Флоренции, где он пишет до наших дней не сохранившиеся фрески в хоре Санта Мария Нуова. В росписи этих фресок Доменико Венециано помогал его лучший ученик, впоследствии знаменитый Пьеро делла Франческа. Очевидно, к этому же времени относится и единственная подписная работа Доменико Венециано — алтарная икона, написанная им для церкви Санта Лучия де Маньоли, находящаяся теперь в Уффици. Центральная часть иконы изображает мадонну на троне; трон богоматери помещен между колоннами церковного хора, на фоне полукруглой ниши. Справа от мадонны стоит святой в орнате епископа (святой Николай) и святая Лючия; слева — Иоанн Креститель и святой Франциск. Пребывание во Флоренции очень заметно отразилось на живописном стиле Доменико Венециано: в упрощении и большей статичности композиции, в архитектурных мотивах, в пластической лепке фигур. В типах заметно сходство то с Мазаччо (мадонна), то с фра Анджелико (святая Лючия), то с Кастаньо (Иоанн Креститель). Тем не менее в картине есть очень важные моменты, которые придают ей индивидуальный отпечаток. Эти моменты — свет и воздух. Колорит Доменико Венециано построен исключительно на светлых сочетаниях красок белой, светло-зеленой, голубой, розовой, жемчужно-серой и немного желтой. Диагональная граница, идущая по задней архитектурной кулисе, делит светлую и теневую часть картины. На светлом, мозаичном полу показаны тени, падающие от фигур. И эти тени, и тени, моделирующие фигуры и архитектуру, отличаются у Доменико Венециано поразительной мягкостью и прозрачностью, как будто мы чувствуем воздух, струящийся между фигурами. С такой же прозрачностью, как круги сгущенного воздуха, обведенные золотыми ободками, написаны нимбы. Вот в этом открытии атмосферы, взаимодействия между светом и воздухом, объединенными общим серебристым светом, и заключается огромное историческое значение Доменико Венециано. Мазаччо показал, как в оптической иллюзии можно измерить глубину пространства; Доменико Венециано делает попытку заполнить эту глубину воздушной средой. Конечно, попытка Доменико Венециано еще очень робка и примитивна. Ему не удается придать формам настоящий рельеф и смягчить с помощью света остроту и жесткость линий. Но в его светлой живописи заложены богатые возможности для дальнейшего развития. К пределле алтаря святой Лучии принадлежит чудесная маленькая картина, хранящаяся в кембриджском музее Фицуильяма и изображающая «Благовещение». Несмотря на традиционную иконографическую концепцию темы и на условный характер фигур, картина Доменико Венециано производит поразительно современное впечатление. Чем оно вызвано?Не только блестяще в живописном смысле написанным уголком пейзажа, видимым сквозь арку атриума, этой залитой солнцем дорожкой, ведущей между цветов к закрытой двери. Но и самой простотой своего живописного и поэтического замысла, обилием свободного пространства на картине. До Доменико Венециано никто не осмелился бы так далеко отодвинуть одну от другой фигуры «Благовещения», никто не осмелился бы посвятить всю картину, в сущности, только светлым пятнам архитектурных стен и во всем этом свободном пространстве, помимо двух фигур, поставить только пустой стул. Это было невозможно потому, что раньше всякое не занятое фигурами пространство означало только пустую, мертвую плоскость картины, теперь же, у Доменико Венециано, оно означает жизнь, воздушную среду, пропитанную светом. Насколько тесно новая концепция света сплетается у Доменико Венециано с традиционными готическими приемами, видно в «Мадонне» из собрания Бернсона в Сеттиньяно[52]. Если в типах и в трактовке темы Доменико Венециано всецело примыкает к сьенской схеме, то в разработке фона, как сплошной узорчатой поверхности ткани, чувствуется сильное североитальянское влияние. Но наряду с этим в «Мадонне» Доменико достигает такой силы света, такой воздушности моделировки (взгляните, например, на легкую тень, падающую на ногу младенца, или на прозрачное покрывало белокурой мадонны), о каких не могло и речи быть в живописи треченто. Помимо нового понимания световой проблемы Доменико Венециано принадлежит и еще одна важная историческая заслуга: из Северной Италии он привез во Флоренцию задачу живописного портрета. Все сохранившиеся портреты Доменико Венециано посвящены женщинам, и все выполнены в виде профильного бюста по знакомой уже нам схеме Пизанелло[53]. Более ранние из них, как, например, «Портрет девушки» Берлинского музея, и в своей живописной концепции совершенно примыкают к плоскому, орнаментальному стилю Пизанелло. Резко очерченный, плоский профиль девушки, совершенно белый, почти без теней, тон ее тела, богато вышитый орнаментом красный вельвет одежды — трактованы здесь, как и на портретах Пизанелло, в совершенно абстрактном, декоративном стиле. «Женский портрет» из галереи Польди-Пеццоли в Милане принадлежит значительно более позднему периоду и выполнен, вероятно, в конце пятидесятых годов. Портретные черты схвачены здесь гораздо более жизненно и индивидуально: слегка вздернутый нос, короткая нижняя губа, заостренный, капризный подбородок складываются в удивительно цельный и как будто знакомый образ. Вместе с тем формы трактованы телесней и мягче; синее небо с легкими белыми облачками, которое в предшествующем портрете казалось плоским, непроницаемым фоном, здесь приобрело глубину, словно отступило вдаль. По чисто живописному блеску, по нежным переходам розового тела, по золотому горению в волосах этот портрет принадлежит к самому совершенному, что создано итальянской живописью кватроченто. Живописные проблемы, выдвинутые Доменико Венециано, были подхвачены и развиты дальше его лучшим учеником — Пьеро делла Франческа. Но прежде чем мы перейдем к характеристике этого выдающегося умбрийского мастера, нам нужно познакомиться со второй группой последователей Мазаччо.XVII
ПАРАЛАЕАЬНО С УЧЧЕЛЛО Кастаньо и Доменико Венециано во Флоренции работает другая группа живописцев, которых хотелось бы назвать «рассказчиками». Их искусство не имеет той внутренней связи с художественными формами Мазаччо, как искусство уже знакомой нам группы проблемистов, но тем не менее и оно вырастает на предпосылках живописного стиля Мазаччо. Художников этой второй группы живописные проблемы сами по себе не интересуют, их занимает тематическая сторона живописи, все равно, идет ли речь об аллегории, о священном событии, о жанровом эпизоде. Они любят изображать новые темы или старые темы пополнять новыми подробностями; они — зоркие наблюдатели и во имя полноты повествования часто заслоняют главное событие вводными эпизодами. Во главе этой группы рассказчиков стоит живописец, не обладающий исключительно крупным талантом, но в силу какой-то особенной заразительности своего искусства оставивший очень заметные следы в истории итальянской живописи. Когда мы пытаемся восстановить в своей памяти характерные образы живописи кватроченто, то почему-то невольно вспоминаются картины именно этого мастера. Я имею в виду фра Филиппо Липпи. Он родился около 1406 года и уже пятнадцати лет вступил в орден кармелитских монахов, хотя по всем данным своей натуры, склонной к мирским благам, расточительности и любовным авантюрам, мало годился для монашеского сана. Вазари рассказывает множество соответствующих эпизодов из биографии Филиппо Липпи. О том, как Козимо Медичи, зная нрав веселого монаха, запер его в своем дворце до окончания заказа и как фра Филиппо спустился по веревке из окна; о том, как Филиппо Липпи похитил из монастыря приглянувшуюся ему монахиню и как эта монахиня, Лукреция Бути, родила ему сына, впоследствии известного живописца Филиппино Липпи. Элемент жизнерадостной болтливости, отсутствие меры, присущие живописи Филиппо Липпи, несомненно отражают природные свойства его темперамента. Подобно большинству своих сверстников, и Филиппо Липпи провел ранний период своей жизни в Северной Италии, главным образом в Падуе. В 1437 году он возвращается во Флоренцию, где и создает основные произведения. В пятидесятых годах Филиппо Липпи работает над фресками собора в Прато, в шестидесятых годах расписывает собор в Сполето, где и умирает в 1469 году. Кто был учителем Филиппо Липпи — неизвестно, но можно предположить, что фра Беато Анджелико, так как некоторые типы и приемы блаженного монаха часто повторяются в картинах Филиппо Липпи. Одним из самых ранних произведений Филиппо Липпи нужно считать тондо «Поклонение волхвов» в собрании Кука в Ричмонде.[54] Картина сразу вводит нас в повествовательный стиль Филиппо Липпи с обилием подробностей и тонких реалистических наблюдений, которые совершенно отклоняют внимание от главной темы. Многие из этих продробностей Филиппо Липпи несомненно вывез из Северной Италии — например, охотничью собаку на переднем плане, павлинов, обилие лошадей. Но есть в картине и подробности совершенно во флорентийском вкусе — например, обнаженные юноши в глубине. Есть, наконец, и излюбленный мотив самого Филиппо Липпи — развалины, обломанную стену которых Филиппо Липпи рисует с микроскопической точностью. К раннему же периоду относится и несколько картин на тему, которую Филиппо Липпи ввел в репертуар итальянских художников — «Поклонение богоматери младенцу Христу». Лучшая из этих картин находится в Берлинском музее. Насколько тесно творчество Филиппо Липпи, особенно в начале его деятельности, еще связано со средневековым благочестием в духе фра Анджелико, с готическими настроениями, показывает то обстоятельство, что все детали берлинской картины соответствуют гимну, приписываемому Бернарду Клервосскому. Даже такой мотив, как топорик, воткнутый в землю, на котором мастер начертал свою подпись, восходит к словам гимна «mundi faber et rector fabricae» (то есть строитель мира и руководитель мастерской). Правда, в качестве пейзажного фона Филиппо Липпи избирает мотив густого, темного леса, пронизанного солнечными лучами, незнакомый готической живописи, но сама трактовка лесной почвы в виде скалы, уступами поднимающейся до самой верхней рамы, совершенно в духе живописи треченто. Первые признаки перемены стиля намечаются в живописи Филиппо Липпи около 1440 года. Их можно заметить уже в «Мадонне», находящейся теперь в галерее в Тарквинии и датированной 1437 годом. Совершенно очевидно, что влияние монументального стиля Мазаччо начинает оттеснять североитальянские впечатления и готические приемы. Тот мягкий, поэтический аромат, которым овеяны ранние произведения Филиппо Липпи, теперь исчез, формы стали массивнее, типы грубее, с характерными для развитого стиля Липпи широкими, приплюснутыми головами. Архитектурные мотивы с перспективными просветами сменяют теперь пейзажные или золотые, плоские фоны. В полном расцвете этот новый стиль Филиппо Липпи можно видеть на знаменитом «Венчании богоматери», датируемом 1441–1447 годами и теперь находящемся в Уффици. Если прежде композиция «Венчание» всегда развертывалась в вертикальном направлении, то теперь, напротив, бросается в глаза широкий формат иконы. Тяжелый, массивный ритм композиции подчеркнут не только приземистыми пропорциями фигур (с резко выраженной приплюснутой головой), но и преобладанием сидящих и коленопреклоненных фигур. Несмотря на пышную обстановку, на обилие цветов, картина лишена внутренней торжественности, радостной одухотворенности, которую подобными темами умел внушать фра Анджелико. Есть что-то равнодушное в мимике отдельных фигур, совершенно не заинтересованных главным событием. Все внимание мастера сосредоточено на бытовых деталях, на портретном сходстве голов, на реальности костюмов и причесок. Ряд фигур переднего плана явно обладают портретными чертами. Надпись на ленте, которую держит ангел в правом нижнем углу картины («is perfecit opus»), должна привлечь внимание зрителя к фигуре коленопреклоненного монаха с молитвенно сложенными руками. Это портрет заказчика, каноника Франческо Маринги. В своем очеловечивании священного события Филиппо Липпи идет еще дальше. Интерес скромного, кругленького каноника отнюдь не устремлен на главное событие. Целью его внимательного взгляда является молодая женщина, сидящая на переднем плане с лицом, обращенным к зрителю, и правой рукой ласкающая подбородок ребенка. Есть все основания верить утверждению Вазари, что здесь изображена возлюбленная мастера, Лукреция Бути, а ребенок у ее ног — сын мастера, будущий живописец Филиппино Липпи. Секуляризация религиозной живописи тем более заслуживает внимания, что инициатива в данном случае принадлежит монаху. Эта светская, реалистическая тенденция в творчестве Филиппо Липпи может быть сопоставлена с аналогичной концепцией, которую одновременно проводит Лука делла Роббиа в своей цветной глазурованной скульптуре. Следует, однако, отметить, что этот бытовой привкус гораздо сильнее проявляется в картине Филиппо Липпи, чем в рельефах Луки делла Роббиа, так как живопись вообще много чувствительнее к колебаниям эстетического вкуса, чем скульптура. Аналогию между Филиппо Липпи и Лукой делла Роббиа можно проследить и в другом направлении. Одновременно с Лукой делла Роббиа и Филиппо Липпи вводит в практику излюбленный формат живописцев кватроченто — тондо. Особенно характерное представление о позднем стиле Филиппо Липпи дает тондо с мадонной из галереи Питти во Флоренции. Внимание зрителя невольно разбивается между мадонной, сидящей на переднем плане, и сценами, которые разыгрываются в глубине: слева изображено рождение богоматери, справа, сквозь конструктивно совершенно необъяснимое отверстие в стене, видна встреча Иоакима и Анны. Если сравнить это тондо с работами Липпи предшествующего периода, то бросается в глаза как будто усиление готических элементов. В чем проявляется этот готицизм поздних произведений Филиппо Липпи? Прежде всего в настроении меланхолической грусти, которой овеяно тондо в целом и которое особенно отражается в позе и выражении глаз мадонны. Затем в удлинении фигур, в орнаментальном изгибе их хрупких тел. Чрезвычайно типична для эпохи фигура служанки, пробегающей мимо с корзиной на голове и в развевающейся от ветра одежде. Филиппо Липпи удалось здесь создать вставной эпизод, который в бесчисленных вариациях затем повторяют живописцы второй половины кватроченто, особенно Боттичелли и Гирландайо. Привкус готики чувствуется и в прославленной «Мадонне» из галереи Уффици. Правда, образы Липпи лишены всякой одухотворенности: перед нами жизнерадостный семейный портрет, мадонна имеет вид опрятной, принаряженной буржуазной дамы, младенец на редкость нескладен и невыразителен, ангел похож скорее на уличного сорванца. Но вместе с тем в самом тесном заполнении рамы, в острых, угловатых контурах, в декоративно плоскостном пейзаже несомненно сказывается реакция против округлого, пластически свободного стиля Мазаччо. Дар интимного рассказа, свойственный Филиппо Липпи, больше подходил к небольшим размерам станковой картины или пределлы. Только в самом конце жизни Филиппо Липпи решается испробовать свои силы в монументальных фресковых циклах. Роспись соборного хора в Прато состоит из традиционных фигур евангелистов в куполе и легенд святого Стефана и Иоанна Крестителя по стенам. Как пример напомню наиболее популярную фреску с изображением «Пира Ирода». Филиппо Липпи удалось здесь создать новый фресковый стиль, который господствует во флорентийской живописи всей второй половины кватроченто. В основе этого стиля лежит сочетание приемов Мазаччо с позднеготическими традициями. У Мазаччо Липпи заимствует просторность и монументальность архитектурных фонов, обобщенную композицию фигурных масс и определенный угол падения света. Средневековые традиции проявляются в отсутствии драматического центра и в сукцессивном методе рассказа: Саломея повторяется в картине три раза — в центре картины она танцует, слева она отправляется с подносом за головой Крестителя, справа подносит голову Иродиаде. С этим согласуется типичный для Филиппо Липпи бытовой тон обстановки — в сервировке стола, в украшенном цветами гербе, в сосудах над камином. Но во фреске Филиппо Липпи есть еще одна черта, которую нельзя было наблюдать до сих пор ни у самого Филиппо Липпи, всегда скорее нескладного и угловатого, ни у его современников, — стремление к хрупкой, немного изломанной, немного болезненной грации (особенно сильно она выражена в фигуре танцующей Саломеи с ее изысканно и ненатурально поднятой ногой и развевающимися лентами одежды; но также и в других фигурах — в их полудетских, наивных лицах, в их жеманных жестах). Перед нами совершенно несомненный факт архаизации, сознательного возрождения примитивных идеалов. Эту же стилизованную грацию, которая так резко отличается от могучего, полновесного стиля Мазаччо, Филиппо Липпи и передает как наследие живописцам второй половины кватроченто. Быть может, еще более, чем Филиппо Липпи, заслуживает названия «рассказчика» его младший современник, Франческо Пезеллино. Выяснению художественного облика Франческо Пезеллино посвящена значительная литература, и только теперь личность мастера начинает принимать более или менее твердые очертания. Франческо Пезеллино умер еще молодым, в 1457 году, не успев полностью развить свой талант. Сильное влияние на него оказал Филиппо Липпи. Франческо Пезеллино специализировался на пределлах и маленьких картинках, кроме того, большой славой пользовались расписанные им кассони — свадебные лари, которые Пезеллино украшал своеобразными мифологическими и аллегорическими композициями. О том, что живопись Пезеллино стояла вполне на уровне своего времени, что ему были знакомы изыскания последователей Мазаччо в области пространства и света, свидетельствует его маленькая картинка «Смерть святого Николая» из галереи в Перудже.[55] Проблема двух источников света — одного откуда-то сверху и слева и другого через круглое окошко — разрешена Пезеллино хотя и не совсем правильно, но, во всяком случае, чрезвычайно смело (особенную наблюдательность Пезеллино обнаруживает в падающей от стены тени — со светлым пятном от круглого окошка). Однако совершенно очевидно, что для Пезеллино световая проблема не играет главной роли, как, например, для Доменико Венециано, что она — только дополнительный эффект и что центр тяжести его живописи лежит на рассказе. Изобразить калеку среди собравшихся вокруг умирающего, показать, как монах у изголовья святого Николая вытирает слезы рукавом, — вот в какую сторону устремлено главное внимание Пезеллино. И действительно, рассказывает он удивительно. Взглянем хотя бы на крошечную картинку Ватиканской галереи — «Легенда о святом Николае». Здесь соединены три эпизода. Слева — чудо новорожденного Николая, который встал на ноги в своей первой ванне; в середине — отрок Николай, слушающий проповедь епископа; и направо — знакомый уже нам эпизод легенды, как святой Николай бросает в окно три золотых шара трем дочерям бедного рыцаря. Но в чем именно очарование рассказа Пезеллино? Я бы определил его как романтику наивности. Самому обыденному событию, самой тривиальной обстановке Пезеллино умеет придать характер романтической сказки, и именно тем, что он стремится воспринять событие с наивным простодушием детских глаз и детской души. Как святой Николай поднимается на цыпочки, как через дверь видны все три девушки, лежащие на одной кровати, как на жердочке сушится чья-то одежда — во всем этом есть та особая изобретательность, та сказочная банальность, которая свойственна детям и примитивам. Таким образом, и у Пезеллино, в несколько ином оттенке, мы находим ту же черту архаизации, которую отметили у Филиппо Липпи. Причем эта архаизация проявляется у Пезеллино не только в тематическом подходе, но отражается и на его формальной концепции. Примером могут служить три части маленькой пределлы из галереи Дориа в Риме и музее в Вустере, иллюстрирующие «Жизнь святого Сильвестра». Одна из них с наивной сердечностью повествует о том, как святой Сильвестр воскресил двух языческих магов после того, как запечатал челюсть дракона, их убившего. При несомненном стилистическом сходстве с живописью фра Анджелико и Филиппо Липпи резко бросается в глаза специфическая особенность Пезеллино: трактовка пластической формы резкими гранями света и тени (в одежде и особенно в архитектуре и складках заднего плана). Такой прием гранения формы, сильно отличающийся от мягкой моделировки Мазаччо, представляет собой несомненный шаг к архаике. Наибольшего же полета фантазии повествовательный стиль Пезеллино достигает в росписи многочисленных кассони. В этих композициях Пезеллино, изображающих всевозможные «Триумфы», нет обычно никакого действия, никаких событий. Мимо зрителя тянутся бесконечные процессии разукрашенных колесниц и пышно одетых фигур, каждая из которых заключает в себе какой-нибудь аллегорический намек. В более ранних кассони, как, например, в «Триумфе любви, целомудрия и смерти», иллюстрирующем текст Петрарки, Пезеллино стремится к компактности группировок и к обозримости композиции. Позднее его повествовательный стиль становится все перегруженнее, подробнее и пестрее. В самом знаменитом произведении Пезеллино этого жанра — в «Триумфе Давида» композиция так запутана, так нарочито пестра, что глаз с трудом улавливает главную нить рассказа. В росписях кассони живопись Пезеллино все дальше уходит от демократически-суровых идеалов начала века и приобретает характер придворного искусства, живущего реминисценциями средневекового рыцарства и настроениями поэзии миннезингеров. Не трудно увидеть аналогию в современной Пезеллино новой окраске политической жизни. По сравнению с осторожной, закулисной политикой Козимо Медичи, Пьеро Медичи и позже Лоренцо Великолепный явно склоняются к публичным и персональным методам правления. Эти новые тенденции флорентийской культуры, ведущие в искусстве к декоративности и к символике, настолько противоречат чисто познавательным идеалам первого поколения художников кватроченто, что здесь приходится говорить о возникновении нового направления в искусстве раннего Возрождения. Таланты Филиппо Липпи и Пезеллино как рассказчиков бледнеют перед повествовательным мастерством третьего представителя этой группы — Беноццо Гоццоли. Как никто другой, Беноццо Гоццоли сумел угадать вкусы своего времени; но и в последующие века слава мастера не померкла. Эта популярность Беноццо Гоццоли отнюдь не объясняется, однако, чисто художественными достоинствами его живописи. Беноццо Гоццоли был, несомненно, посредственным живописцем. Но он умел так подробно, так занимательно, так наглядно рассказывать, как никто из художников кватроченто. Беноццо Гоццоли родился около 1420 года, был сначала помощником Гиберти при отливке «Райских дверей», а позднее помогал фра Анджелико. Если Филиппо Липпи и Пезеллино специализировались в своем повествовательном жанре на иконах, пределлах и узких стенках кассони, то широкий размах Беноццо Гоццоли требовал больших стен и монументального фрескового стиля. Популярность Беноццо Гоццоли зиждется главным образом на трех больших фресковых циклах. Над первым из них Беноццо Гоццоли начал работать в 1459 году. Это — знаменитая роспись домовой капеллы в палаццо Медичи. Алтарь этой капеллы был ранее украшен иконой Филиппо Липпи, изображающей «Поклонение младенцу». С двух сторон этого алтаря Беноццо Гоццоли написал хор ангелов, а на трех остальных стенах капеллы — процессию волхвов. Судя по сохранившимся письмам Беноццо Гоццоли, заказ был ему сделан сыном Козимо Медичи, Пьеро Медичи. Для характеристики тогдашних отношений между меценатом и художником стоит упомянуть, что письма Беноццо Гоццоли к Медичи начинаются с обращения «amico mio singolarissimo» (то есть единственный друг). О живописном стиле Беноццо Гоццоли наиболее полное представление дает фреска с поклоняющимися ангелами. Совершенно очевидно, что мы имеем здесь дело с консервативными художественными тенденциями, что Беноццо Гоццоли по-своему делает шаг назад. На это указывает чисто декоративное заполнение плоскости фрески, далее — вертикальными уступами поднимающаяся композиция, как в пейзаже, так и в хоре ангелов, наконец, такая показательная деталь, как нимбы ангелов, которые Беноццо Гоццоли снова изобразил плоскими, параллельными картине дисками. Вообще для Беноццо Гоццоли характерно полное отсутствие оптического синтеза, к которому так стремилось первое поколение кватрочентистов и который у Беноццо Гоццоли заглушается невероятным обилием деталей. Вместе с тем Беноццо Гоццоли несомненно присуще дарование острого наблюдателя — на это указывают, например, очень реалистические, почти портретные типы его ангелов. Но эта наблюдательность Беноццо Гоццоли скорее литературного, чем живописного склада. Его картины не показывают, а рассказывают. Их не столько приходится смотреть, сколько читать. Занимательностью своего чтения они и покоряют внимание всякого посетителя капеллы. Попробуем «перелистать» несколько «страниц» этой написанной красками хроники. Процессия волхвов распадается на три главные фрески, причем она написана таким образом, что не имеет ни начала, ни конца. Процессия вьется по скалистым тропинкам, исчезает за обрывистыми утесами и вновь появляется; кавалькада всадников сменяется верблюдами с поклажей и пешими группами, толпа то редеет, то сгущается, движение иногда ослабевает, иногда усиливается; и, дойдя до последнего предела процессии, зритель может вернуться к исходному пункту, не почувствовав никакого перерыва. Каждая фреска возглавляется одним из волхвов, но его фигура отнюдь не господствует в композиции. В одной фреске волхв оказывается у самого края, слегка даже срезанный рамой. В образе этого почтенного старца с длинной седой бородой узнают черты константинопольского патриарха Иосифа, прибывшего в 1439 году для участия во Флорентийском соборе. Но внимание зрителя сейчас же отвлекается другими занимательными подробностями: птицами, которые мелькают под ногами лошадей, охотником, рядом с которым на крупе лошади сидит гепард, и другим охотником, который садится на лошадь, держа гепарда на привязи. Если внимательнее всмотреться в пейзаж, то можно видеть гепарда, преследующего в роще косулю. «Открываем» следующую «страницу» хроники. Здесь рассказывается о втором волхве, изображенном в виде восточного царя в большой золотой короне и в зеленой, вышитой золотыми цветами одежде. Он гарцует на белом коне в сопровождении оруженосцев и изящных белых пажей. В образе этого волхва показан не кто иной, как сам византийский император Иоанн Палеолог. Но и на нем глаз зрителя не задерживается долго, отвлеченный пестрым пейзажем, где рощи сменяются ручьями, где по холмам разбросаны города и виллы и огромные птицы летают в ярко-синем небе. Наконец, третья фреска дает больше всего пищи для любознательности. Здесь во главе шествия изображен совсем юный волхв на белом коне, украшенном богатой попоной. Этот волхв особенно пышно одет. У него ярко-желтый плащ, подбитый мехом, и голубая шапочка, усеянная бриллиантами. Два пажа гарцуют перед ним, держа его шпагу и сосуд с благовониями. Этому волхву Беноццо Гоццоли придал портретные черты внука Козимо Медичи, впоследствии знаменитого Лоренцо Великолепного. Позади волхва — длинная свита, возглавляемая полным пожилым всадником в высокой черной шапочке. Перед ним идет его оруженосец, сняв шляпу и с кинжалом наготове для защиты своего господина. В этом всаднике не трудно узнать черты заказчика фресок, Пьеро Медичи, точно так же, как и в его соседе — старике, верхом на муле, в сопровождении негра с луком — нетрудно узнать портрет самого Козимо Медичи. Любознательный зритель, вглядываясь в лица свиты, в каждом из них может угадать или члена семьи Медичи, или кого-либо из их приближенных. Ограничусь еще только одним портретом. В самой гуще свиты, рядами выстроившейся в левом углу фрески, выделяется молодая, немного грубо очерченная голова с надменным выражением; на высокой шапке надпись: «Opus Benotii» — это автопортрет самого мастера. Я несколько подробнее остановился на тематическом обзоре фресок в капелле Медичи, так как сам художник, несомненно, хотел, чтобы его произведение рассматривали именно в этом направлении. В истории искусства можно не раз наблюдать, как за периодом, когда искусство стремится к углубленному познанию натуры, наступает период некоторого «всезнайства», когда, удовлетворенный достигнутой степенью познания, художник видит свою главную цель в точном и разнообразном сообщении фактов. Таким именно всезнающим «информатором» был Беноццо Гоццоли. В этом смысле и развитие его художественного творчества надо понимать не с точки зрения углубления художественных методов и представлений, а исключительно как расширение тематического кругозора. Я ограничусь поэтому немногими примерами. Второй большой фресковый цикл был закончен Беноццо Гоццоли в 1467 году. Это — семнадцать фресок, иллюстрирующих легенду святого Августина в церкви Сайт Агостино в городке Сан Джиминьяно. От фресок капеллы Медичи новый цикл отличается более крупными, пластически моделированными фигурами, предпочтением архитектурным фонам перед пейзажными и более развитым чутьем пространственной глубины. В центре художественного замысла Гоццоли — по-прежнему рассказ, только теперь пересыпанный массой мелких бытовых наблюдений. Рассказывается о том, как отец и мать святого Августина приводят его в школу, как учитель ласково берет недоверчивого мальчика за подбородок. Но обращение в школе не всегда такое мягкое. И в первой части картины мы видим маленького мальчика полуобнаженным на спине у старшего ученика, в то время как учитель сечет его розгами. Но вот Августин уже немного подрос и стал серьезным — погруженный в раздумье, он идет с тетрадкой и пером, между тем как товарищ старается заглянуть через плечо в его тетрадку. В глубине, под аркадами портика — школа в самом разгаре урока. Вы видите, что Беноццо Гоццоли в еще более очевидной и демонстративной форме, чем Филиппо Липпи, возрождает древний метод сукцессивного рассказа. Работа над последним циклом фресок Беноццо Гоццоли — на длинной стене кладбища в Пизе — занимает период с 1468 по 1484 год. Двадцать две фрески большого формата, к сожалению теперь сильно попорченные, изображают различные эпизоды Ветхого завета. Для примера напомню лучше всего сохранившуюся первую фреску цикла. В левой части изображен виноградник в виде открытой перголы. Сыновья Ноя собирают виноград и в больших корзинах передают его девушкам; старший сын Ноя стоит в чане и ногами выжимает виноградный сок. Перед перголой Ной возносит благодарственную молитву за богатый урожай; за плащ Ноя держатся его маленькие внуки, и рядом собака лает на двух голых ребятишек, сидящих на земле. Дальше мы видим Ноя, пробующего вино из чаши. И наконец, в правой части фрески Ной лежит опьяненный на земле; Хам насмехается над ним, между тем как Сим, не глядя, старается закрыть его плащом. В самом углу — типичный для Гоццоли мотив: молодая служанка стыдливо закрывает глаза рукой и в то же время сквозь растопыренные пальцы подсматривает за Ноем. Что же касается живописного стиля Беноццо Гоццоли, то во фресках Кампосанто он остается почти неизменным. Единственное, что здесь можно отметить по сравнению с предшествующими циклами, это некоторую тенденцию к большей грациозности движений и пропорций и к более орнаментальной игре линий. В целом, если провести параллель между первым поколением кватрочентистов, возглавляемым Мазаччо, и последующим поколением Филиппо Липпи и Беноццо Гоццоли, то различие их художественных концепций можно было бы формулировать следующим образом. Живописцев первого поколения занимает прежде всего проблема восприятия натуры, изучение тех законов, которым это восприятие повинуется. Живописцев же второго поколения занимает сама натура во всем многообразии ее явлений, не законы, а частные случаи, не «почему» и «как», а «что». Но и тех и других объединяет общая предпосылка, что живопись должна изображать видимость, и именно так, как ее все видят. В этом смысле им может быть резко противопоставлено третье поколение кватрочентистов, которое хочет изображать не видимую, а мыслимую и чувствуемую натуру, и изображать ее так, как ее видит внутреннее «я» художника. Однако прежде чем мы обратимся к характеристике этого третьего поколения флорентийских живописцев, нам необходимо познакомиться с мастером, который стоит между поколениями и вне их и который вообще занимает в истории итальянской живописи совершенно обособленное, исключительное положение. Я имею в виду Пьеро делла Франческа или деи Франчески, как его иногда называют. По рождению умбриец, по художественному образованию флорентиец, Пьеро делла Франческа не может быть отнесен ни к определенному поколению, ни к определенной школе. Точно так же и его влияние, несомненно очень большое, не вылилось в форму школы или направления и сказалось не столько на его непосредственных современниках, сколько на отдаленных потомках. А между тем бесспорно, что по силе своего гения Пьеро делла Франческа принадлежит к наиболее великим мастерам Италии. Но он — одиночка, и в своей жизни и в своем искусстве. Великий мастер, он недостаточно известен широкой публике. Отчасти это связано с тем, что его произведения редки, находятся в галереях маленьких городов, в провинциальных церквах. Но, кроме того, причины заключаются и в том, что у Пьеро делла Франческа нет драматизма и динамизма. Его искусство созерцательно, поразительно объективно, эпично; оно не дает места для субъективного истолкования, для вкладывания настроений, тончайших ассоциаций, занимательного рассказа, бурных конфликтов. Пожалуй, в нем есть даже бесстрастность, но вместе с тем изумительная величавость, героичность и человечность, умение видеть красоту природы и человека. Год рождения Пьеро делла Франческа точно не известен. Предполагают, что он родился между 1415 и 1420 годами в маленьком умбрийском городке Борго Сан Сеполькро на границе Тосканы и Умбрии. Есть также основание думать, что первый важный толчок в своем художественном развитии Пьеро делла Франческа получил от сьенского живописца Сассетты, который в конце тридцатых годов работал в Борго Сан Сеполькро. Но уже в 1439 году мы застаем Пьеро делла Франческа во Флоренции, где, как ученик и помощник Доменико Венециано, он участвует в росписи Санта Мария Нуова. Эта работа под руководством Доменико Венециано дала решающее направление творчеству Пьеро делла Франческа — свет и колорит сделались главными орудиями его живописного стиля. Но во Флоренции, в общении с Паоло Уччелло, Пьеро делла Франческа мог найти удовлетворение и другой своей страсти — к перспективе. Результаты своих изысканий в области перспективы Пьеро делла Франческа позднее опубликовал в двух трактатах, составивших фундамент пространственных представлений для художников Высокого Возрождения (в частности, для Леонардо да Винчи и для Дюрера). Трактаты эти, сохранившиеся и до наших дней в нескольких списках, носят названия: «De prospectiva pingendi» («О перспективе в живописи») и «De quinqe corporibus regularibus» («О пяти правильных телах»).[56] Пьеро делла Франческа работал в разных небольших городах Италии и не связывал себя с каким-нибудь определенным двором. Часто он возвращался в свой родной город (где занимал выборные должности): его тянули родные поля (их запах чувствуется в картинах), родной быт, патриархальная, полуремесленная-полукрестьянская среда. В его живописи сказалась деревенская простота образов; моделями были деревенские девушки. С годами у художника слабело зрение; мастер солнечного света кончил слепотой. Первая известная нам самостоятельная работа Пьеро делла Франческа была начата в 1445 году. Это — алтарный полиптих, который мастер написал для церкви Санта Мария делла Мизерикордия в своем родном городе Борго Сан Сеполькро. В этой ранней работе очень красноречиво проявляются и первоисточники искусства Пьеро делла Франческа и специфические, оригинальные свойства его живописного таланта. На некоторую приверженность к консервативным традициям указывает позднеготический формат полиптиха (первоначальная рама утеряна, и поэтому полиптих производит более суровое и сухое впечатление, чем он был в действительности). Известная консервативность концепции проявляется и в том, что фигуры написаны на нейтральном золотом фоне, как любили тречентисты. Что Пьеро делла Франческа был частым посетителем капеллы Бранкаччи, что он глубоко проникся стилем Мазаччо, об этом говорит спокойная простота и величавость его образов. Синтетические формы обнаженного тела Себастьяна, их пластическая лепка особенно обнаруживают духовную близость между стилем Пьеро делла Франческа и Мазаччо. С другой стороны, в линиях Пьеро делла Франческа есть та крепость, в его типах — та грубоватая мощность, которой отличались произведения Андреа дель Кастаньо. Но, разумеется, главное, чем воздействует живопись Пьеро делла Франческа, — это свет. Взглянем на центральную часть полиптиха. После тесного, душного нагромождения предметов у Беноццо Гоццоли здесь есть какая-то захватывающая дыхание просторность воздуха и сила света, которые лепят одежды богоматери и которые пронизывают пространство, охваченное крыльями ее плаща. Нет сомнения, тайнам «световедения» Пьеро делла Франческа научился у своего учителя — Доменико Венециано. Но уже в первом своем самостоятельном произведении ученик далеко выходит за пределы достижений учителя. В чем это различие? У Доменико Венециано свет все же окутывает только фигуры и предметы. У Пьеро делла Франческа он разлит в самом пространстве. И в этом огромное историческое значение Пьеро делла Франческа. Даже Мазаччо создавал впечатление пространственной глубины косвенным путем — посредством пластической лепки фигур и геометрически точной их расстановки в пространстве. Однако эта цель настолько сложна, настолько выходит за пределы привычных для эпохи представлений, что мастеру приходится пережить немало разочарований, испробовать немало компромиссов, прежде чем ему удается добиться ясной формулировки своей задачи. Следующий этап развития Пьеро делла Франческа переносит нас в Римини. Здесь в 1451 году Пьеро делла Франческа пишет в церкви Сан Франческо фреску для Сиджизмондо Малатеста. Фреска, сильно попорченная, изображает самого герцога Сиджизмондо в сопровождении его любимых собак, стоящим на коленях перед возвышением, на котором восседает его покровитель, святой Сигизмунд Бургундский. Стена фона расчленена пилястрами и украшена свешивающимися гирляндами. Но средний интервал между пилястрами пробит и за ним открывается далекий морской пейзаж. К сожалению, этот пейзаж особенно сильно пострадал от времени, и поэтому фреска лишена теперь своего главного средства воздействия. Тем не менее мы ясно можем реконструировать первоначальную задачу мастера — и задача эта полна исключительной смелости. Светлый профиль Сиджизмондо Малатеста вырисовывается на светлом же фоне бесконечно далекого пейзажа. Такой постановки проблемы до сих пор еще не знала европейская живопись. Был известен или золотой, или цветной фон — то есть абстрактная, непроницаемая плоскость позади фигуры; или же фон, ограниченный архитектурными кулисами, глубину которого можно было измерить отношением масштабов и пропорций, сокращением архитектурных линий. У Пьеро делла Франческа между профилем Сиджизмондо Малатеста и горизонтом нет никаких промежуточных вех, которые помогали бы отсчитывать глубину пространства, — нет ничего, кроме самого пространства. Ту же самую задачу Пьеро делла Франческа ставит себе в знаменитом диптихе из Уффици, написанном, вероятно, в середине шестидесятых годов. Диптих изображает на двух створках лицевой стороны портреты урбинского герцога, Федериго да Монтефельтре, и его жены, Баттисты Сфорца, а на реверсах — аллегорические триумфальные процессии. Портрет герцога Федериго изображен в чистом профиле, по схеме, установленной Пизанелло и Доменико Венециано (Пьеро делла Франческа избирает профиль влево, так как во время одного турнира у герцога был выбит правый глаз и раздроблена переносица). Но если Пизанелло и Доменико Венециано чертят свои профильные портреты на плоском фоне, то Пьеро делла Франческа дает своему фону глубину и воздушность бесконечного пространства. Если раньше фигура и фон были друг от друга изолированными, независимыми элементами картины, то у Пьеро делла Франческа они сливаются вместе, в одно неделимое целое, благодаря общему пространству и общему воздушному тону. Еще удивительнее пейзажи на обратной стороне обоих портретов. Герцогиня изображена на триумфальной колеснице, управляемой Амуром и влекомой двумя единорогами; четыре аллегорические фигуры, среди них «Сила» и «Вера», сопровождают шествие. Типично умбрийский пейзаж с мягкими силуэтами зеленых холмов постепенно тает и сливается с бледно-голубым небом. Благодаря тому что фигуры здесь меньше в масштабе и отодвинуты от передней плоскости картины, они еще больше сливаются с окружающим пространством и кажутся растворяющимися в праздничном, золотистом, словно осеннем, воздухе. То, что в живописи Сассетты или Доменико Венециано было бессознательным, случайным эффектом, Пьеро делла Франческа вполне сознательно и определенно ставит своей прямой целью живопись на открытом воздухе, живопись пленэра и дневного света. На другом реверсе видим колесницу герцога, в которую запряжены белые лошади; «Виктория» венчает герцога; «Сила», «Мудрость» и «Справедливость» сопровождают его триумфальное шествие. Здесь общий тон еще светлей, прозрачней и немного холодней, тени еще легче и красочнее. В пейзаже прибавился мотив зеркальной поверхности заснувшей реки. С удивительной живописной смелостью Пьеро делла Франческа отмечает отражение берегов и лодок в воде. Если для Беноццо Гоццоли жизнь пейзажа заключалась в разнообразии растительности, в сложном узоре скал, в стремительном движении многочисленных зверей и птиц, то Пьеро делла Франческа воспринимает пейзаж в абсолютном покое, и для него жизнь природы выражается прежде всего в сиянии солнечного света. Период деятельности Пьеро делла Франческа, занимающий время приблизительно от 1452 до 1466 года, посвящен почти исключительно работе над большим фресковым циклом в церкви Сан Франческо в городе Ареццо. Фрески украшают боковые стены капеллы и заднюю, алтарную стену, пробитую высоким готическим окном. В десяти эпизодах рассказывают они «Легенду о святом кресте». Нет сомнений, что фресковый цикл в Ареццо принадлежит к самым возвышенным и грандиозным впечатлениям, которые ценитель искусства может пережить в столь богатой созданиями монументального фрескового стиля Италии. Но впечатления эти, как и все, впрочем, искусство Пьеро делла Франческа, принадлежат какому-то особому порядку, находятся вне главной эволюционной линии итальянской живописи. По своему историческому значению фрески в Ареццо нельзя сравнивать ни с той завершающей и обобщающей ролью, которую сыграл, например, падуанский цикл Джотто или ватиканские станцы Рафаэля, ни с тем раскрытием новых изобразительных возможностей, с тем впечатлением начала чего-то абсолютно нового, которое встречает нас в капелле Бранкаччи или в Сикстинской капелле. Пьеро делла Франческа ничего не кончает и ничего не начинает. Он пишет так, как никто до него не писал, но и никто не будет писать. Именно своей единственностью, своей неповторимостью захватывает это изумительное видение торжественно-радостного покоя и воздушно-серебристой светлости. Прежде всего самое расположение фресок. Пьеро делла Франческа не руководится последовательностью событий, не ведет непрерывной нити рассказа, а распределяет фрески по содержательным контрастам и по композиционным принципам. Вследствие этого цикл приобретает чрезвычайное идейное единство и конструктивную ясность. Каждую стену Пьеро делла Франческа берет как нечто целое и противопоставляет такому же единому комплексу другой стены. Особенно две боковые стены ясно между собой корреспондируют и уравновешивают друг друга. Возьмем, например, фрески правой стены капеллы. В люнете представлена «Смерть и погребение Адама», над могилой которого вырастает святое дерево. Этому началу легенды на противоположной стене в люнете же противопоставлен конец легенды — «Император Ираклий приносит крест в Иерусалим». В следующей полосе также противопоставлены два «Нахождения и поклонения кресту» (слева — императрица Елена, справа — царица Савская). Постаментом для обеих стен служат две битвы — «Победа Константина над Максенцием» на левой стене соответствует «Победе Ираклия над персидским царем Хозроем». Каждая полоса имеет, таким образом, свой особый горизонтальный ритм; и вместе с тем вкаждой стене подчеркнут ее общий тектонический скелет. Обратите внимание, например, как сквозь все три фрески правой стены проходит главная вертикальная линия: внизу — просвет, цезура между побеждающим и побежденным войском; дальше — светлое пятно колонны; и, наконец, наверху — темный силуэт дерева. Вторая особенность фрески Пьеро делла Франческа, резко идущая вразрез с флорентийскими и, как увидим позднее, с североитальянскими тенденциями кватроченто, это реабилитация стены. Пьеро делла Франческа избегает, как Мазаччо в «Троице» или Кастаньо в росписях виллы Кардуччи, пробивать стену иллюзией воображаемого пространства; он, напротив, стремится сохранить неприкосновенность стены, подчеркнуть ее плоскость, очерчивая композицию широкими, сплошными массами, помещая фигуры исключительно на переднем плане и развертывая их движение мимо зрителя. Наконец, третье общее свойство цикла в Ареццо — полное отсутствие эмоций. Пьеро делла Франческа оперирует не движениями, а положениями, не событиями, а идеями. Даже сцены битв на его фресках кажутся неподвижными воплощениями символов побед и поражений. Глубоко индивидуальный в выборе типов, в применении живописных средств, Пьеро делла Франческа становится совершенно «имперсональным», поднимается до какого-то высшего безличия во всем, что касается истолкования событий и действий. В этом смысле вершины своего пассивного идеализма, какой-то метафизической отрешенности Пьеро делла Франческа достигает в правой группе верхней фрески «Смерть Адама». Обнаженный старец Адам тихо умирает, полусидя на земле. Справа его поддерживает Ева, олицетворение согнувшейся, поблекшей старости; слева ей противопоставлена мощная спина юноши. Никаких жестов, никакой мимики. На наших глазах не происходит никакого действия, но вместе с тем мы чувствуем, что совершается великое и страшное таинство. Но и с чисто формальной стороны фреска приковывает наше внимание. Пьеро делла Франческа освободился от той жесткости формы, которая, под влиянием Кастаньо, отличала его ранние вещи. Его фигуры обладают телесным объемом, мы ясно чувствуем их положение в пространстве; но это достигнуто не пластическими, а живописными средствами, не линией, а светом, изменениями тона. И оттого, при всей своей статичности и тектоничности, фигуры Пьеро делла Франческа кажутся такими легкими и бесплотными. То же самое можно наблюдать и на фреске другой, левой стены, которая изображает «Нахождение креста императрицей Еленой и воскрешение крестом». Здесь также нет никакого действия, и вместе с тем на наших глазах совершается чудо. Но в этой фреске еще меньше скульптурной моделировки формы, еще больше светлости и красочности. Кажется, что Пьеро делла Франческа теперь вообще не пользуется линией. И если где-то можно провести определенный контур, то он означает не контур предмета, а границу красочного пятна. Особенно поразителен по смелости живописной техники уголок пейзажа в левой части фрески, изображающий город. Кубические объемы домов показаны здесь без всякого контура, исключительно одними контрастами красочных пятен. И какая сияющая сила дневного света в правой части фрески — в обнаженной спине воскресшего и в белых руках коленопреклоненной женщины. Пьеро делла Франческа опережает здесь развитие европейской живописи по крайней мере на два столетия. Подобную силу света, подобную звучность краски мы найдем разве только у Вермеера Дельфтского. Однако самым замечательным достижением фрескового цикла в Ареццо нужно считать фреску на узкой стене капеллы «Сон Константина». Если бы из всего цикла сохранилась только одна эта фреска, то и ее было бы достаточно, чтобы обеспечить Пьеро делла Франческа место среди величайших живописцев Европы. Проблему искусственного света в ночной мгле мы встречали и раньше в итальянской живописи. На ней пробовали свои силы Симоне Мартини, Лоренцо Монако, Джентиле да Фабриано. Но их опыты не идут в сравнение с тем ошеломляюще смелым разрешением проблемы, какое дает Пьеро делла Франческа. Источником сверхъестественного света, прорезывающего ночной мрак, является ангел, вылетающий из левого верхнего угла картины с вестью о победе. Исходящий от ангела свет падает и на палатку, и на тело спящего Константина и на сидящего у его ног старца. Два момента придают этой фреске исключительный по новизне живописный эффект. Во-первых, то влияние, которое свет оказывает на краску, на изменение локального тона: темно-красный в тенях тон палатки растворяется под влиянием света в розовый и в самых ярких местах в светло-желтый. Еще важней другое обстоятельство: взаимопроникновение света, пространства и воздуха. До Пьеро делла Франческа свет всегда относился только к предметам и выражался в виде световых бликов, падающих на фигуры. Во фреске Пьеро делла Франческа свет относится и к пространству между предметами. Вследствие этого происходит явление, которое можно назвать «иррадиацией», озарением: контуры предметов растворяются в свете, фигуры приобретают сами лучеиспускающую силу, отбрасывают рефлексы. Достаточно присмотреться к руке ангела, к голове старца, к лицу воина направо, почти растворившемуся в световых рефлексах, чтобы оценить смелость живописной концепции Пьеро делла Франческа. Этот интерес к проблеме искусственного света, который проявляет Пьеро делла Франческа, заставляет предполагать, что мастер испытал влияние североевропейских живописцев. Возможно, что соприкосновение Пьеро делла Франческа с североевропейской живописью произошло во время его пребывания в Ферраре по приглашению герцога Борсо д’Эсте, о котором рассказывает Вазари. К периоду работы Пьеро делла Франческа над циклом фресок в Ареццо относится еще несколько его произведений, отличающихся тем же величавым настроением и такой же метафизической отрешенностью. Здесь в первую очередь надо назвать фреску «Воскресение», которую мастер в свое время написал для ратуши своего родного города Борго Сан Сеполькро и которая теперь находится в местной галерее. В противовесе прямой вертикальной фигуре Христа и горизонтальной линии саркофага, в параллелизме движений Христа проявляется та же строгость построения. И снова Пьеро делла Франческа избегает всяких внешних движений. Воскресение он изображает не в виде обычного взлета над могилой, а в виде несокрушимого духовного бодрствования Христа, в контраст к воинам, погруженным в тяжелую дремоту у саркофага. Завороженная неподвижность Христа подчеркнута прозрачными красками весеннего рассвета — бледным, серо-голубым небом, пепельной землей и серебристо-розовым плащом Христа. В этом всюду разливающемся сиянии — душа искусства Пьеро делла Франческа, его глубокая одухотворенность, более мудрая и более всеобъемлющая, чем церковная религиозность Лоренцо Монако и фра Анджелико. К тому же времени, вероятно, относится и странная, все еще до конца не объясненная картина «Бичевание Христа» в Урбинской галерее. Картина резко разбивается на две части. На левой стороне в глубине портика изображено служащее главной темой событие, представленное с тем крайним бесстрастием и торжественным покоем, какие всегда так характерны для Пьеро делла Франческа. Все содержание сцены здесь передано одним жестом, одной позой бичующего. В правой части картины на самом переднем плане и как будто вне всякой связи с темой бичевания написаны три крупные фигуры. Существует предположение, что художник изобразил здесь младшего брата урбинского герцога, Оддантонио, преданного «дурными советниками», которых подослал враг урбинского герцога, Малатеста из Римини, и погибшего насильственной смертью. Предполагают, что фигура юноши в середине группы и есть портрет Оддантонио, тогда как в двух других фигурах олицетворены «дурные советники». Возможно, что это так, но подобное предположение вряд ли объяснит нам, почему тот, в ком желают видеть Оддантонио, одет так вневременно, так странно-идеально, отчего непокрыта голова его и босы ноги, тогда как две другие фигуры так реалистичны и современны. Надо думать, что и здесь, как во фресках Ареццо, следует искать не историческое, а композиционное объяснение. Три фигуры поставлены здесь так близко, так реально и ощутимо для того, чтобы тем дальше, тем бестелеснее и спиритуальнее казалась сцена бичевания. И действительно, попробуйте закрыть правую часть картины, как сразу же левая приблизится, станет более прозаичной и плоской и жест палача остановится. Картина «Бичевание» дает нам новое свидетельство того, как последовательно и сознательно Пьеро делла Франческа добивается своей заветной цели — изображать не фигуры в пространстве, не освещенные фигуры, а само пространство и сам свет. И никогда он не был так близок к своей цели, как в странной картине Урбинской галереи. Эта картина вместе с тем подводит нас к последнему периоду деятельности мастера. В семидесятых годах стиль Пьеро делла Франческа освобождается от той прямолинейности, которой он отличался в эпоху фресок в Ареццо, становится мягче по формам, нежнее по построению, еще изысканнее по живописным приемам. Чудесно своей живописной законченностью и слиянием светового эффекта с духовным настроением «Рождество Христово» из лондонской Национальной галереи. Голубые тени, лиловый тон воды, бело-желтый песок показывают, что Пьеро делла Франческа поставил себе сложную задачу — изображение борьбы вечернего света с бледным сиянием восходящей луны. И если с точки зрения современного красочного восприятия можно спорить против некоторых отдельных красочных сочетаний, то нельзя не преклониться перед силой художественной интуиции Пьеро делла Франческа, сумевшего воссоздать на своей картине нежную дымку ранних сумерек. Но едва ли не самым гениальным живописным достижением Пьеро делла Франческа надо считать самую последнюю из известных нам его картин — «Мадонну» из Урбинской пинакотеки. Здесь не знаешь, чему отдать предпочтение — общему ли голубовато-лиловому холодному тону, в котором выдержана вся живопись, очарованию ли уютного натюрморта на полочках у пилястра, или солнечному лучу, падающему через переплет цветного окна. Сурово-возвышенный, недоступный и нездешний во фресках Ареццо, Пьеро делла Франческа в конце жизни приходит к трогательной и интимной человечности.
Последние комментарии
4 часов 52 минут назад
4 часов 55 минут назад
2 дней 11 часов назад
2 дней 15 часов назад
2 дней 17 часов назад
2 дней 18 часов назад