Борис Григорьев
БЕСТУЖЕВ-РЮМИН


Когда дело идёт о биографии знаменитого человека, не следует пренебрегать ни одним мелким фактом, не представляющим интереса в рассказе о жизни заурядных людей. Эти факты приобретают особую важность, так как часто в них можно обнаружить намёки на призвание, о котором сам великий человек ещё не подозревал; кроме того, они всегда проливают яркий свет на характер описываемого героя.
Жюль Верн. Мореплаватели XVII века
ВВЕДЕНИЕ
Семейными династиями в царской дипломатии никого не удивить — особенно много их появилось в XIX веке, и особенно часто мы их встречаем среди остзейских немцев
[1]. Но чтобы целое семейство дипломатов — и каких! — появилось уже во времена и при жизни Петра I, да ещё исконно русских, явление, прямо скажем, по тем временам исключительное. Исключительное не потому, что в русской дворянской среде не было умных и толковых людей, а хотя бы уж потому, что русские «недоросли» в эту профессию шли неохотно: во-первых, она плохо оплачивалась, во-вторых, была слишком ответственна, в-третьих, была связана с пребыванием вдали от папеньки и маменьки, ну и, в-четвёртых, требовала определенного «политеса». Чтобы стать дипломатом, мало было умения махать шпагой, носить на голове замысловатый французский парик и ловко сгибаться в реверансе перед дамой на ассамблеях. Кроме «шарканья по паркету», нужно было знать «чужестранные» языки — а это ох как трудно давалось тогда и до сих пор даётся русским людям! — знать культуру, традиции и обычаи иностранцев, обучиться «политесу», уметь воздействовать на собеседника в нужном направлении и действовать самостоятельно в дефиците времени и при отсутствии царских инструкций.
Таких дипломатов явило семейство Бестужевых-Рюминых.
Они яркими кометами вспыхнули на небосводе XVIII галантного века и пронеслись, оставив за собой заметный и неповторимый след. Их было трое: отец Пётр Михайлович и два сына — Михаил и Алексей. Самым известным среди них стал младший, Алексей Петрович, начавший дипломатическую карьеру простым дворянином посольства, то есть переводчиком, а закончивший её канцлером Российской империи с титульной прибавкой «великий». В его твёрдых и уверенных руках внешняя политика Российского государства находилась полтора десятка лет.
Все члены этого талантливого семейства отличались в жизни упорством, целеустремлённостью, гибкостью, граничившей с изворотливостью, и необычной жизнестойкостью. Именно эти качества помогали им в трудных ситуациях держаться «на плаву» и идти вперёд. В дипломатии того времени нужно было ещё иметь и везение, и это обстоятельство, пожалуй, в самой высшей степени выпало на долю Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. В меньшей мере повезло отцу и его старшему брату Михаилу Петровичу, ибо кто знает, каких высот они могли бы добиться в дипломатии, если бы им сопутствовала удача.
Главным героем нашего повествования является А.П. Бестужев-Рюмин. Современный читатель, даже самый культурный и проявляющий живой интерес к отечественной истории, имеет об этой личности довольно смутное представление — разве только из романов В. Пикуля и Н. Сорокиной, а также по киносериалу режиссёра С. Дружининой. И в России, и в Советском Союзе имя Бестужева-Рюмина было почти полностью и незаслуженно забыто — причём, как представляется, не столько по каким-то идеологическим причинам, а скорее по исторической небрежности и недооценке его личности. Он как бы растворился и потонул в историческом потоке, посвященном описаниям многочисленных дворцовых переворотов, первых русских женщин-императриц и их многочисленных фаворитов. Его посчитали, как теперь любят говорить новорусские издатели,
фигурой второго плана, хотя таковой он на самом деле никогда не был. В 40—50-е годы XVIII века он был
ключевой фигурой русской политики, и имя его не только в России, но и во всех европейских дворах и столицах произносилось с почтением и подобострастием, а где и со страхом и ненавистью. Это был Молотов или Громыко восемнадцатого века.
Дополнительными причинами такого забвения послужили, на наш взгляд, известная скудость исторического материала и неоднозначное, то есть главным образом отрицательное, к этому имени отношение. Указывая на такие его негативные качества, как чрезмерное честолюбие, склонность к интригам и мздоимству, некоторые историки считают вообще невозможным и нецелесообразным относить его к выдающимся русским людям XVIII века.
Что ж, Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, даже если судить с позиций его же времени, на самом деле вряд ли можно было считать человеком высокой и незапятнанной морали. Он был русским, сыном своего жестокого и «сердитого» века, который, кроме таланта, для достижения поставленных целей и высокого положения требовал от людей изворотливости, хитрости и холодной расчётливости. Н.М. Карамзин считал его душой царствования Елизаветы.
Но Бестужев-Рюмин не был и совершенно аморальным типом или нравственным уродом — напротив, многие современники называли его чрезвычайно воспитанным, любезным и высокообразованным человеком. Другой вопрос, что у него оказалось слишком много завистников и ещё больше врагов, которые сильно постарались, чтобы запятнать его огромный вклад в дипломатию и внешнюю политику Российской империи, изо всех сил выпячивая его негативные черты характера и преуменьшая таланты и заслуги перед отечеством.
Для каждого писателя, приступающего к написанию биографии того или иного лица, непременно встаёт вопрос, как относиться к отрицательным чертам характера и негативным сторонам поведения этого лица. Если он сосредоточится лишь на одном негативе, то читатель никогда не познает истинного значения для нашей истории и страны такого человека, как, к примеру, А.С. Пушкин. Достаточно абстрагироваться от всего великого, высокого и истинно народного, что он привнёс своим творчеством в нашу жизнь, и мы получим образ заядлого картёжника, задиры и бретёра, неуёмного бабника, громкого скандалиста, пошлого матерщинника и т.п. Всё дело в том, что мы хотим увидеть в человеке.
Так же обстоит дело и с А.П. Бестужевым-Рюминым. Нужно только постараться рассмотреть в его характере всё положительное, а в его деятельности — всё важное и полезное для России, и мы сквозь архивную пыль пристрастия, лжи, неприязни и зависти обнаружим, что он заслуживает и благодарной памяти, и уважения потомков.
ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ПЕТРОВА
«Путёвку» в жизнь нашему герою дал отец Пётр Михайлович Бестужев-Рюмин и царь Пётр Великий. Начало жизненного его пути совпало с периодом петровских преобразований в России, когда молодые дворянские недоросли волей царя-преобразователя стали приобщаться к так называемым европейским ценностям. Бестужев-Рюмин-старший, судя по всему, не был тем кондовым русским, которого царю-реформатору приходилось буквально за бороду тащить в новую жизнь. Наоборот, судя по всему, он был человеком широких взглядов и без всяких колебаний добровольно встал в ряды помощников Петра и привёл к нему двоих сыновей — Михаила и Алексея.
Пётр Михайлович Бестужев-Рюмин (28 июля 1664—1743), «птенец» Петра первого поколения, с большим воодушевлением принял реформы царя и не в последнюю очередь потому, что увидел в них шанс «подняться» из обычного среднедво-рянского состояния, в котором находился его род, в совершенно новое качество. Что ж, такое отношение к делу, когда собственные планы совпадают с планами своей страны, тоже имеет право на существование и даже, возможно, является самым продуктивным путём развития как личности, так и общества. Бестужеву-Рюмину-старшему удалось привить и своим детям, как бы мы сейчас сказали, такую активную общественную позицию, которая во втором поколении «птенцов» петровых была уже большой редкостью.
Собственно дворянский род Бестужевых-Рюминых, с 1742 года графский, восходивший к роду Бестужевых, разбившемуся в XVII веке на три самостоятельные ветви, начинается от Петра Михайловича. Косвенные признаки указывают на то, что уже в конце XVII века Пётр Бестужев «обретался» на дипломатическом поприще. То ли тщеславие, то ли мода на всё европейское, начавшая проявляться в России при Петре I, а скорее всего всё вместе взятое заставили его искать своё происхождение за пределами России. Через посредство главы Посольского приказа Ф.А. Головина (1650—1706) для него в 1698 году из Англии была прислана грамота, в которой сообщалось, что его предком был англичанин Гавриил Бест
«из знатного и древнего Кендской провинции (то есть Кентского графства. —
Б. Г.) дома Бестюров», будто бы выехавший из Англии в 1403 году.
Истории известен князь Василий Дмитриевич Бест, выехавший якобы из Англии в 1403 году и крещённый под именем Гавриил и по кличке Бестуж
[2], сын которого Яков получил прозвище Рюма и писался Бестужевым. Вот этот князь и положил начало роду Бестужевых. Иван Грозный дал ему на кормление город Серпейск. Известен сын Рюмы — Василий, служивший в должности окольничего. Связь Рюмы и его потомков с Петром Михайловичем достоверно не задокументирована, но, как бы то ни было, в 1701 году семье Петра Михайловича, в отличие от прочих Бестужевых, разрешили писаться
Бестужевыми-Рюмиными.
В 1700 году он получил чин стольника. В этом же году Пётр назначил его воеводой в Симбирск, а в 1705 году послал в Вену на смену русскому посланнику князю П.А. Голицыну. Вступление на дипломатическое поприще, возможно, объяснялось его браком с Евдокией Ивановной Талызиной, дочерью известного дипломата времён царя Алексея Михайловича
[3]. В Вене старший Бестужев задержался недолго, и уже в октябре того же года ему было велено ехать в Берлин. Но и там он пробыл совсем недолго: отозванный в Россию, он некоторое время стал исполнять должность генерал-кригсцальмейстера, в каковом качестве вместе с сыном Михаилом отправился в печально известный Прутский поход 1711 года. В походе временно исполнял должность генерал-кригсцейхмейстера.
Насколько П.М. Бестужев-Рюмин был близок к Петру, свидетельствует тот факт, что в этом же 1711 году он предложил Петру I вариант брака его сына царевича Алексея на принцессе Софии-Шарлотте Брауншвейг-Вольфенбюттельской. Как известно, неудачный брак этот был вскоре заключён.
Убедившись в дипломатических и организационных способностях Петра Бестужева, царь посылает его в 1712 году в Митаву на должности гофмейстера (обер-гофмейстер с 1715 года) и генерал-комиссара, а на самом деле — генеральным наблюдающим над своей племянницей, вдовствующей герцогиней Курляндской Анной Иоанновной. В этом качестве он непрерывно — если не считать выезд в 1713 году по приказу царя с разовой дипломатической миссией в Гаагу, краткосрочную отлучку в Ригу и приезд по монаршему же вызову в Санкт-Петербург — вплоть до 1728 года находился в Курляндии. Должность генерал-комиссара требовала и дипломатического опыта, и административных способностей, и такта, и Бестужев умело справлялся со своими нелёгкими обязанностями, войдя в доверие к герцогине и став её многолетним фаворитом или, попросту говоря, любовником.
Приезд по монаршему вызову в Санкт-Петербург, по-видимому, состоялся в 1714 году. Мы видим Петра Михайловича на свадьбе у главы «всепьянейшего собора» и бывшего учителя царя Никиты Зотова. Свадьба проходила по сценарию, составленному самим Петром, и являла собой маскарад с генеральной репетицией, в которой многочисленные участники должны были, кроме принятия большого количества спиртного, исполнять придуманные царём роли. Приглашённые вельможи должны были явиться на свадьбу с каким-нибудь музыкальным инструментом. Например, граф М.Г. Головкин, два князя Долгоруких и два князя Голицыных были переодеты в китайцев и играли на дудочках, в то время как дипломаты П.А. Толстой и П.М. Бестужев-Рюмин щеголяли в турецких костюмах и «солидно» гремели медными тарелками.
Чтобы понять, как сложен был пост Бестужева-Рюмина в Митаве, необходимо сделать краткую историческую справку. Когда эмиссар Петра I прибыл к месту своей службы, вдовствующая герцогиня Анна Иоанновна
[4] сидела в Митаве, грубо говоря, на «птичьих» правах. Власть в Курляндии, находившейся в ленной зависимости от Польши, принадлежала дяде её мужа, престарелому герцогу Фердинанду. Герцог, опираясь на курляндское дворянство, пытался лишить силы брачный договор своего племянника с русской принцессой, согласно которому Анна Иоанновна худо-бедно имела право на ежегодный доход с герцогства в сумме, эквивалентной тогдашним 40 000 рублям.
В обязанности Бестужева-Рюмина входил как раз контроль за регулярным поступлением этого дохода в пользу вдовы. Апанаж герцогини оказался, в общем-то, непосильным для курляндцев, и они всячески пытались увильнуть от его уплаты. С присущей ему энергией и решительностью Пётр Михайлович, исполняя указание царя, пренебрегая дипломатическими условностями и не доверяя местным фискальным служащим, рьяно взялся за сбор денежных и хлебных доходов самолично. Для экзекуций над злостными неплательщиками он посылал по деревням и мызам двух комиссаров с русскими драгунами.
Через год выяснилось, что и такая крутая «продразвёрстка» не помогала, и Пётр I повелел приостановить сбор денег вообще, а Бестужеву — выехать в Ригу и быть там
«для присматривания политических дел». Присматривать за кем-то или за чем-то было не новым делом для Бестужева, и он с усердием взялся и за это дело. Между делом он занялся розыском в Ливонии родственников Екатерины Скавронской, супруги Петра I, о результатах которых он регулярно её информировал. Эту услугу Екатерина I не забудет и в трудную минуту будет поддерживать Бестужева.
Между тем в Курляндии обострилась борьба прорусской и пропольской партий. Первая выступала за самостоятельное управление герцогством, вторая — за вхождение в состав Польши. В борьбу партий вмешалась Пруссия. Курляндию вот-вот могли лишить зависимости от России, буквально висевшей на оспариваемом брачном контракте Анны Иоанновны, и Пётр I приказал Анне Иоанновне, жившей в России, немедленно вернуться в Митаву. На этом же настаивал и Бестужев, уже вернувшийся в 1716 году в Митаву с новой инструкцией о том, как устроить двор герцогини и обеспечить ей необходимые доходы.
В декабре 1717 года Пётр I заключил договор с польским королём и саксонским курфюрстом Августом II (Сильным) договор о браке Анны Иоанновны с герцогом Иоанном Саксен-Вейсенфельдским и предписал Бестужеву «хлопотать» об избрании его в курляндские герцоги. Таково было предварительное условие со стороны жениха, но дело расстроилось из-за того, что Август II, как сюзерен Курляндии, предъявил к Иоанну непомерные требования. В 1718 году возник новый брачный проект — теперь с маркграфом Бранденбургским Фридрихом Вильгельмом, племянником прусского короля, но и из этого плана ничего не вышло, равно как и из идеи выдать Анну Иоанновну в 1723 году за другого бранденбуржца, маркграфа Карла.
Это был какой-то заговор судьбы: любой вариант выдать замуж дочь бывшего царя Ивана V, бывшего соправителя Петра I, терпел крах! Над Анной Иоанновной явно довлел неумолимый и жестокий рок — оставаться одинокой, незамужней, вдовой. Впрочем, неудачи царя Петра были вполне объяснимы: герцогиня стала заложницей большой политики, в которой столкнулись интересы Польши, Пруссии и России одновременно, и совместить государственные интересы России с личным счастьем Анны Иоанновны было трудно.
Положение Анны Иоанновны в Митаве продолжало оставаться шатким, и в 1720 году она удалилась в Ригу, ожидая, как в конечном счете решится вопрос о её претензиях и правах. И тут изобретательный П.М. Бестужев-Рюмин предложил царю выкупить на имя герцогини герцогские — мужние — земли, отданные под залог дворянам. Выкуп состоялся, и на эти цели из русской казны были выданы 87 370 талеров. Земли отдали в 1722 году в аренду тем же дворянам, рассчитывая вернуть затраты через 6 лет. Герцог Фердинанд и поляки стали оспаривать указанную сделку как незаконную, поскольку-де герцогские земли не могли быть уступлены иностранцам. Началась новая тяжба, на которую, впрочем, Бестужев и Пётр I старались не обращать внимания. Если курляндцы будут слишком строптивыми, советовал царь Бестужеву, то надобно ввести в Митаву полк русских драгун.
Как бы то ни было, Бестужев в итоге «оседлал» курляндскую ситуацию и стал там фактическим властителем. Правда, в 1720 году Пётр I предписал ему ведать исключительно делами имения Анны Иоанновны и во внутренние дела Курляндии не вмешиваться, отправляя лишь отчёты о положении в герцогстве рижскому генерал-губернатору В.Н. Репнину (1696—1748).
Власть Бестужева в значительной степени укрепляло его положение фаворита герцогини. Вероятно, царя Петра I это вполне устраивало, но сильно возмущало мать Анны Иоанновны, царицу Прасковью Фёдоровну, вдову умершего царя Ивана V, а также её братца Василия Фёдоровича Салтыкова. Узнав о том, что её дочь Анна сожительствует с Бестужевым, Прасковья Фёдоровна, сама родившая трёх дочерей — Екатерину, ставшую потом герцогиней Мекленбургской, Анну и Прасковью — от управляющего своим двором Василия Алексеевича Юшкова, стала теперь уличать её в безнравственности. Вместе со своим «высоконравственным» братцем Василием, чуть ли не забившим свою жену до смерти, она стала требовать от Петра I, а потом и от Екатерины I удаления Бестужева из Митавы. Императрице с трудом удавалось сдерживать нападки братца и сестрицы Салтыковых и до поры до времени охранять покой митавского генерал-комиссара, терпеливо разъясняя царице Прасковье, что Бестужев
«определён в Курляндию для многих Его Царского величества нужнейших дел» и что заменить его совсем некем.
Анна Иоанновна очень тогда благоволила к своему «главноприсматривающему», хлопотала перед Екатериной I за его дочь Аграфену, ставшую потом графиней Волконской (см. ниже), и уделяла пристальное внимание его сыну Михаилу, некоторое время тоже находившемуся в Митаве при отце в качестве переводчика. Самому Бестужеву она тщетно пыталась выпросить у Петра чин тайного советника:
«ибо он здеся служит, а чина никакова не имеет, что от здешних людей ему подозрительно». Пётр скупо раздавал чины, и звание тайного советника Бестужев получил уже от более щедрой Екатерины I.
Отчаявшись добиться «справедливости», царица Прасковья перестала общаться со своей митавской дочерью, что вызвало теперь уже со стороны Анны Иоанновны недоумение, огорчение и повод для жалоб.
«…Я от Бестужева во всём довольна, — писала она в 1719 году в письме к Екатерине I, —
и моих здешних делах он очень хорошо поступает». Впрочем, в 1723 году, незадолго до своей смерти, царица Прасковья сменила гнев на милость и после долгих лет молчания написала Анне Иоанновне письмо.
На совести Петра Михайловича в некотором роде лежит нечаянное возвышение Эрнста Иоганна Бирона (Бирена, Бюрена) (1690—1772), выходца из захудалого курляндского рода, на должность камер-юнкера при дворе Анны Иоанновны (1718). «Главноприсматривающий» временно расслабился, увлёкся сестрой Бирона, фрейлиной Анны Иоанновны, и заодно «приласкал» и братца. Эта «слабость» аукнется потом Бестужеву и России большими бедами.
А пока Пётр Михайлович пользовался благами и своего вполне обеспеченного положения, и семейной жизни, и принадлежностью к сильным мира сего, например, знакомством с фаворитом императрицы Екатерины Алексеевны Виллимом Ивановичем Монсом. До нас дошли его два письма к Монсу из Митавы: одно от 2.11.1719 года, а второе — от 6.2.1722 года, свидетельствующие о вполне коротких между ними отношениях. В.И. Монс (1692—1724), брат Анны Монс, Кукуйской любовницы царя Петра, только начал входить в силу при дворе Екатерины Алексеевны, и страшный гнев Петра и казнь его были ещё впереди.
В первом письме Пётр Михайлович предлагает себя Виллиму Ивановичу в качестве посредника для его тайной переписки с А.Г. Салтыковой — на роль, которую до этого момента выполняла сестра Монса Матрёна Ивановна Балк. Во втором письме, написанном два с половиной года спустя, старший Бестужев-Рюмин считает себя уже вправе что-то просить у Монса. Просьба носит служебный характер: он просит фаворита использовать влияние императрицы Екатерины Алексеевны на то, чтоб выпросить у царя Петра разрешение отдать из Каргопольского драгунского полка, расквартированного в Курляндии, одну роту «в особливую службу её высочества» герцогини курляндской Анны Иоанновны. «Особливая служба» роты состояла в почётном карауле при дворе герцогини. При этом Бестужев-Рюмин подчёркивает, что каргопольцы должны поступить в полное распоряжение Анны Иоанновны, но жалованье для почётного караула должно было по-прежнему поступать из России.
В нормальных «рабочих» отношениях состоял Бестужев и с «полудержавным властелином» князем А.Д. Меншиковым. Пётр Михайлович помогал князю взыскивать долги с курляндских дворян, одолживших у него деньги, посылал светлейшему в подарок платки, извещал его о модах и одежде (Меншиков был великий модник), подыскивал портного, который бы мог приехать в Петербург и обшить семью князя. Светлейший в связи с заключением Ништадтского мира направил курляндской герцогине Анне Иоанновне напоминание о необходимости выслать царю по этому случаю дорогие подарки и послал в Митаву курьера, флотского капитана Галлера. В письме Бестужеву Меншиков рекомендовал принять курьера «со всяким почтением»:
«А по нашему мнению, надлежит его, капитана, подарить знатным подарком от всей земли, ибо в оной много знатных господ обретается», В одном из писем Пётр Михайлович клялся Меншикову в верности и уверял сам и за своих детей, что
«акроме высочайше милостивой вашей высококняжеской светлости протекции на свете себе нигде не имею и другого инде не ищу». В 1723—1724 гг. личные мотивы в их переписке исчезли, но на следующий год появились снова. В мае 1725 года Бестужев просил Меншикова принять какой-то «малой презент».
После смерти Петра I враги России осмелели и снова стали будировать вопрос о Курляндии. В противовес этим претензиям Бестужев-Рюмин вернулся к матримониальным делам Анны Иоанновны — на сей раз он попытался выдать её замуж за герцога Морица Саксонского. Курляндский ландтаг отнёсся к этой кандидатуре вполне одобрительно, но Петербург, долго рассматривавший это дело, выработал, наконец, свою точку зрению на этот брак и в указе от 31 мая 1726 года выразил П.М. Бестужеву-Рюмину недовольство его пассивной позицией, справедливо считая, что кандидатура Морица Саксонского противоречит и интересам России, и самой Курляндии:
«Мориц, находясь в руках королевских (то есть Августа II, короля Польши. —
Б. Г.), принуждён будет поступать по частным интересам короля, который чрез это получит большую возможность приводить в исполнение свои планы в Польше». Кроме того, отказав в сватовстве бранденбургскому герцогу и отдав предпочтение саксонскому двору, Россия якобы будет иметь неприятности с Пруссией, с которой имелось соглашение о поддержании в Курляндии статус-кво. Верховный тайный совет предлагал в женихи Анне Иоанновне другого кандидата, герцога Голштинского, — любимый козырь в колоде карт русского двора.
П.М. Бестужев, вероятно, не предполагал, какая борьба развернулась в Петербурге вокруг этого брака. Дело в том, что Меншиков решил украсить свою особу ещё и титулом герцога Курляндии. Князю понадобилось немного времени, чтобы изменить мнение императрицы и Верховного тайного совета в свою пользу и привлечь в исполнители этого плана посла в Польше В.Л. Долгорукого и, естественно, П.М. Бестужева.
Бестужев изложил князю свой план действий:
«А понеже тамо (то есть в Митаве. —
Авт.) от шляхетства никого из оберратов нет, а кто из них мне приятны будут, я под рукою о том представлять и старание к склонению чинить буду. А чтобы сие весьма тайно было и в том вашей светлости интересов', что можно будет, не упущу». Оберраты, депутаты курляндского сейма, уже разъехались, и Пётр Михайлович мог встречаться только с немногими из них. 14 мая он докладывал князю, что прилагает в его деле старание, но напоминает, что сам он, во избежание международного скандала, никаких шагов предпринять не может: действовать нужно через влиятельных курляндцев. У него уже есть пять человек на примете, которые обещали «трудиться» за богатые подарки. 21 мая он сообщил в Ригу, что в деле Меншикова появились затруднения — все выступают за кандидатуру Морица Саксонского. 28 мая он писал:
«В Митаве во известном деле всё тихо, и оберратов и других чинов от шляхетства в Митаве нет ни одного человека».
Меншиков сразу заподозрил, что Бестужев если и не будет сильно мешать его планам, то не будет проявлять и особого рвения для их исполнения.
«…Пётр Бестужев, имея вашего величества указы и ведая того дела важность, не так поступал и, по-видимому, чинил факции…» — доказывал светлейший Екатерине I. Так и вышло: курляндский сейм выбрал Морица Саксонского.
У Петра Михайловича и в самом деле не было стимула добиваться избрания Меншикова курляндским герцогом (как выразился Меншиков, Бестужев
«старался под рукою», то есть вполсилы), потому что не без оснований полагал, что как только светлейший станет таковым, он тут же потеряет тёплое местечко главного управляющего герцогства. Меншиков, естественно, немедленно инициировал отзыв Бестужева в Петербург. Но обошлось. Сам же светлейший князь 23 июня 1726 года под видом инспектирования войск в Прибалтике выехал в Ригу, чтобы оттуда «наводить порядок» в Митаве. Он «наломал там немало дров», включая «выкручивание рук» у невесты и получение у неё силой отказа от замужества с Морицем Саксонским и согласия на то, чтобы герцогом Курляндии стал он, Меншиков.
Но всё было напрасно: в курляндские герцоги и женихом Анны Иоанновны был избран Мориц. Об этом Меншикову доложили прибывшие в Ригу Долгорукий и Бестужев. Не привыкший получать отказ, взбешенный Меншиков 29 июня кинулся в Митаву и в течение четырех дней провёл там ряд важных встреч, в том числе и с Морицом, под давлением обещавшим князю оказывать содействие, а на самом деле грубо его обманувшим. Мориц предложил Александру Даниловичу якобы такой вариант: кто будет утверждён королём Польши в звании герцога Курляндии, даёт отступную сумму другому. При этом Мориц, внебрачный сын Августа II и графини Авроры Кёнигсмарк, обещал сопернику дать рекомендательное письмо к отцу. Меншиков поверил и был жестоко обманут.
Под предлогом более важных, шведских, дел светлейшего вместе с В.Л. Долгоруким отозвали в Петербург, и князь затаил на Бестужева злобу, решив во что бы то ни стало изжить его со света
[5]. Анна Иоанновна обращалась и к Меншикову, и к его дочерям Дарье и Варваре, и к вице-канцлеру А.И. Остерману (1686—1747)
[6] с просьбой вернуть ей Петра Михайловича обратно в Митаву,
«понеже мой двор и деревни без него смотреть некому…», но всё было безуспешно.
«Бог свидетель, что я во всём разорилась, понеже он о всём знает в моём доме и деревнях», — писала она Д.А. Меншиковой. Осенью 1726 года Пётр Михайлович по настоянию Меншикова предстал перед Верховным тайным советом и был с пристрастием допрошен о своих действиях в Курляндии, но совет ничего неправильного в действиях Бестужева не усмотрел. К тому же в дело вмешалась «матушка-заступница» Екатерина I, которая признала, что Бестужев был не без вины, но наказывать его не стала, и Пётр Михайлович благополучно вернулся в Митаву.
Туда же с секретной миссией успокоить курляндцев относительно действий Меншикова и получить дополнительные сведения о настроениях курляндцев выехал генерал-майор Антон Мануилович Девиер (1682—1745), зять Меншикова. Девиер, в отличие от своего тестя, человек честный и скромный, встретился с Морицом и вынес из беседы с ним вполне положительное мнение. Мориц Саксонский в обмен на согласие Дивиера содействовать его браку с Анной Иоанновной, предложил ему взятку в размере 10 тысяч экю, но Антон Мануилович решительно отверг
«это странное предложение, предполагающее подлые и низкие чувства… оскорбительные для честного человека».
Петербург стоял на своём, по-прежнему считая кандидатуру Морица вредной, и дал указание Бестужеву просить Августа II соглашаться на избрание герцогом Меншикова. Король польский и курфюрст саксонский, известный своими кознями и хитростями, ответил Бестужеву ничего не значащей фразой:
— Всё то, что со стороны её величества мне приходит, очень мне приятно.
И на том все переговоры с ним прервались.
В связи с предстоящим в Гродно сеймом в Польшу был послан П.И. Ягужинский, который своей горячностью пользы большой русскому делу тоже не принёс. Он испытывал к Меншикову неприязнь, буквально въехал в курляндское дело «поперёк» и при этом не утерпел, чтобы не задеть Меншикова. В свою очередь посланник Екатерины I в Варшаве М.П. Бестужев-Рюмин в письме к сестре Аграфене критиковал Ягужинского за протекционизм в отношении какого-то поляка Голембовского и за намерение сделать его резидентом в Польше, чего, по мнению Бестужева, делать никоим образом было нельзя: поляк и русский резидент в Польше!
Курляндское дело кончилось тем, что в конце лета 1727 года в Курляндию для «наведения порядка» во главе войска из 5 полков отправился генерал-аншеф П.П. Лейси. Мориц Саксонский укрепился со своими сторонниками на о-ве Османтен, но при появлении русских солдат бросил всё и сбежал во Францию
[7]. Союзная Вена одобрила действия России в Курляндии, и конфликт угас.
Благодетельница Екатерина I вскоре почила в Бозе, и Россией стал править внук Петра I — царь-отрок Пётр И. Над головой П.М. Бестужева-Рюмина снова сгустились тучи. Весной 1727 года на обер-гофмейстера был сделан анонимный донос. Аноним на польском языке обвинял Петра Михайловича в хищениях казны герцогини, в самовластных действиях и распутном образе жизни. Бестужев медлил, герцогиня просила Петербург не отзывать его, но ехать всё равно пришлось. Верховный тайный совет потребовал от Бестужева представить отчёт о суммах, истраченных на выкуп заложенных земель Анны Иоанновны. Пока Бестужев отвечал на вопросы Верховного тайного совета, Анна Иоанновна неустанно «бомбардировала» письмами канцлера А.И. Остермана (1686—1747) и других сановников и просила вернуть ей Бестужева-Рюмина:
«…я к нему привыкла, а другому никому не могу поверить». Но гроза снова миновала: то ли подействовало заступничество безутешной герцогини, то ли отчёт обер-гофмейстера произвёл на «верховников» благоприятное впечатление, то ли всем было недосуг.
А в сентябре Меншиков пал, и в конечном итоге Бестужев-Рюмин был оправдан. Но пока Анна Иоанновна умоляла самого Петра II вернуть ей его в Митаву и пока её просьбе мешал отнюдь не заинтересованный в этом вице-канцлер Остерман, место Петра Михайловича при ней занял Бирон. Ведь сердце женское не камень. Теперь, как тогда говорили,
в случае оказался бывший конюший герцогини.
Это был удар посерьёзней, чем обвинение в хищениях и распутстве.
«Я в несносной печали, — писал удручённый Пётр Михайлович дочери Аграфене в деревню, —
едва во мне дух держится, потому что чрез злых людей друг мой сердечный от меня отменился, а ваги друг (Бирон) более в кредите остался». Пётр Михайлович просил дочь:
«Ради бога, осторожно живите… Особенно вы должны приобресть любовь Алексея Григорьевича (Долгорукого. —
Б. Г.) и Павла Ивановича (Ягужинского)».
Мы не думаем, что переживания старшего Бестужева-Рюмина объяснялись его искренней сердечной привязанностью к мужеподобной и грубой дочери Ивана V, хотя в письме к дочери он и утверждал обратное:
«знаешь, как я того человека (то есть Анну Иоанновну. —
Б. Г.) люблю, который теперь от меня отменился». Нет, он, конечно же, переживал главным образом за потерю тёплого места, понимая, что иное такое же ему получить будет трудно.
Наконец в конце 1727 года П.М. Бестужев был вновь отпущен в Митаву, поскольку всем стало известно, что при появлении у Анны Иоанновны нового фаворита обер-гофмейстер Бестужев никакой опасности для Остермана и его единомышленников уже не представлял. На коронацию Петра II герцогиня Курляндская явилась в Москву в сопровождении Бирона.
К этому времени над семейством Бестужевых-Рюминых собрались тучи. Так называемый кружок Семёна Маврина, учителя Петра II, в который входила дочь П.М. Бестужева княгиня Аграфена Волконская, бывшая статс-дама Екатерины I
[8], затеял интригу с целью дискредитации Бирона и собственного приближения ко двору императора, но сделал это слишком явно и грубо. После ареста A.M. Девиера, инициированного Меншиковым, достоянием властей стала секретная переписка княгини Волконской с отцом и братом Алексеем, и всех Бестужевых-Рюминых и их друзей постигла опала за то, что они
«искали при дворе собственной своей пользы и теми интригами при дворе делать безпокойство». Кроме того, дочь Петра Михайловича вместе с Мавриным активно выступала против приближения к русскому трону дочерей царя Ивана Алексеевича и царицы Прасковьи Фёдоровны, а потому в 1728 году была привлечена Верховным тайным советом к суду и сослана во Введенский монастырь в Тихвине, где и скончалась в 1732 году.
Пётр Михайлович был вызван из Курляндии, арестован и на допрос в Петербург препровождён под стражей. Бумаги его были опечатаны и изъяты для следствия. Курляндский двор старался теперь всеми средствами погубить Петра Михайловича. Недруги постарались и довели до сведения Бирона содержание его письма к дочери Аграфене, в котором он называл нового фаворита курляндской герцогини «канальей». И сама Анна Иоанновна теперь бесстыдно писала сестре императора-отрока Наталье Алексеевне о том, что Бестужев якобы разорил её и расхитил её казну, выкрал документы на имения, ввёл её в великие долги. Согласно её наговору, Пётр Михайлович
«чрез свою злую диспозицию» якобы сильно разорил герцогиню, а её
«вдовьи маетности тайно утащил… и с собою увёз… По необходимой моей нужде послала моего камер-юнкера в Москву,
велела донести его императорскому величеству, каким образом меня разорил и расхитил Бестужев…». Петру II она тоже доносила, что
«он, Бестужев, чрез свою злую диспозицию меня разорил… и в великий убыток привёл через финесы свои…», и представила обвинение по 8 пунктам. Обвинение против Петра Михайловича поддерживал камер-юнкер Й.А. Корф (1697—1766)
[9], который в отсутствие Бестужева управлял хозяйством герцогини и нашёл его якобы в сильном упадке.
Бестужев свою вину отрицал и утверждал, что все расходы делал по распоряжению герцогини. На поверку оказалось, что дело об упадке деревенек курляндской герцогини было не таким уж и однозначным, как его изображала доносчица. Перед Верховным тайным советом Пётр Михайлович выдвинул к герцогине встречные претензии, называя её обвинения напраслиной и называя их инициатора — Бирона
[10]. Назначили комиссию, чтобы разобрать все счета Бестужева, но на это требовалось время, а Анна Иоанновна из Митавы требовала ускорить рассмотрение её жалобы. Тем не менее комиссия не торопилась и работала до тех пор, пока не скончался царь Пётр II и обстановка в стране круто не изменилась.
Чтобы избавиться от «неудобного» человека, «верховники», правившие страной в междувластье 1730 года, назначили Бестужева губернатором в Нижний Новгород, а в Митаву для уточнения сведений о поведении Бестужева отправили еврея Майнца. Но не успел Бестужев вступить в должность нижегородского губернатора, как Анна Иоанновна «учинилась в суверенитете», то есть взошла на опустевший трон. Она разорвала Кондиции «верховников», ограничивающие её царские полномочия, и стала самодержавной правительницей России. Рядом с ней стал править Бирон, который вряд ли мог простить своего бывшего покровителя хотя бы за то, что тот категорически опровергал претензии временщика на знатное происхождение.
«Не шляхтич и не курляндец пришёл из Москвы без кафтана и чрез мой труд принят ко двору без чина, — говорил о Бироне Пётр Михайлович, —
а год от году я, его любя, по его прошению производил и до сего градуса произвёл, и, как видно, то он за мою великую милость делает мне тяжкие обиды и сколько мог здесь лживо меня бредил и поносил и чрез некакие слухи пришёл в небытность ною в кредит»[11].
Бывшего своего любимца царица первым делом приказала сослать в дальнюю деревню. Думается, от смертной казни Петра Михайловича своим честным и успешным служением спасли лишь его сыновья-дипломаты Михаил и Алексей. (Кстати, Анна Иоанновна была восприемницей всех троих сыновей Алексея Петровича.) Ссылка Бестужева-старшего длилась вплоть до 1737 года, когда ему
«за верную службу сыновей» на дипломатическом поприще разрешили поселиться на жительство в Москве. В дело он так и не был употреблён. В 1743 году он получил долгожданный титул графа, который был пожалован уже благодаря усилиям и делам его младшего сына, вице-канцлера Алексея Петровича Бестужева, естественно, тоже Рюмина. Графский титул распространился на всю семью Бестужевых, но карьера Петра Михайловича уже была закончена, да и жить ему оставалось всего около года.
Не повезло? Вероятно, но могло быть и хуже.
Продолжить дело П.М. Бестужева-Рюмина у кормила российского государства было суждено его сыновьям Алексею и Михаилу.
СТАРШИЙ БРАТ
Старший сын П.М. Бестужева Михаил, как мы убедимся, был не менее одарённым и деятельным дипломатом, чем его младший брат, и тоже оставил заметный след на дипломатическом поприще России. Он родился 7 сентября 1688 года и, согласно сведениям, собственноручно указанным в «сказке» от 1754 года
[12], в 1708—1710 гг. вместе с младшим братом Алексеем учился сначала в Копенгагенской академии, числясь одновременно дворянином (стажёром) при русской миссии, а потом — в Берлинском высшем коллегиуме. В 1711 году отец, получивший должность обер-комиссара, взял его с собой в Прутский поход волонтёром, и здесь, в турецком окружении, Михаил получил первое важное дипломатическое задание: во время переговоров вице-канцлера П.П. Шафирова с турецким визирем он вместе с ротмистром генерального шквадрона Артемием Волынским служил для пересылок, то есть курьером для передачи сведений из турецкого лагеря в русский и обратно.
Дальше пути братьев разошлись, хотя карьеру они делали в одной — дипломатической — плоскости.
После того как русская армия в 1711 году чудом вышла из турецкого окружения, Михаил Петрович ненадолго стал дворянином миссии в Константинополе при посланнике П.П. Шафирове
[13], а потом занял место камер-юнкера принцессы Ганноверской Софии Шарлотты (1712). В 1712 году был назначен царём Петром переводчиком ко двору герцогини Курляндской Анны Иоанновны. Михаил Петрович пишет, что
«определён был… при родителе… для вспомоществования ему на немецком языке». Екатерина, жена Петра I, в 1712 году сделала его своим камер-юнкером и поручила «смотрение» за своей конюшней — должность, которую Михаил Бестужев справлял вплоть до её смерти. Он был также награждён камер-юнкерством ещё при одном дворе — дворе супруги царевича Алексея Петровича и матери Петра II — Шарлотты-Христины-Софии Вольфенбюттельской, скончавшейся в 1715 году. С известием о её смерти он ездил в Вену, удостоился там аудиенции у императорской пары и доставил ответные грамоты Петру I в Данциг. Здесь он праздновал свадьбу племянницы царя Екатерины Ивановны с Мекленбург-Шверинским герцогом и по повелению царя остался при ней камер-юнкером (1716—1719).
Как мы видим, камер-юнкерство для старшего сына Бестужева-Рюмина не всегда было связано с пребыванием на одном месте, ему по совместительству пришлось переезжать с места на место и при разных дворах приобретать дипломатический опыт, европейский лоск и манеры.
Пробыв на мекленбургской службе до 1719 года, он в марте 1720 года выехал в Англию, чтобы сменить там опального резидента Фёдора Веселовского, замешанного в дело царевича Алексея. К резиденту приехал беглый брат-дипломат Авраам, замешанный в дело сбежавшего в Вену царевича Алексея, и Пётр решил немедленно сменить Ф. Веселовского в Лондоне, приказав ему отъехать к датскому двору.
Король Англии Георг I в это время поддерживал непримиримую позицию Швеции в отношении войны, и не совсем ещё опытный Михаил Петрович, ревностно исполняя указания царя, допустил дипломатическую бестактность. Впрочем, бестактностью поступок русского дипломата лицемерно назвали англичане. На самом деле Михаил Петрович действовал в строгом соответствии с дипломатическим этикетом. Дело в том, что король Георг I, грубо нарушив конвенцию, заключённую с Петром I 17—23 октября 1715 года в Грибсвальде, в 1720 году вступил в наступательный и оборонительный договор со Швецией, направленный против России. Бестужев подал английскому правительству соответствующий меморандум, в котором напомнил «забывчивым» англичанам о Грибсвальдской конвенции, присовокупив в нём фразу о том, что политика Георга I шла вразрез с интересами английского народа и что коммерческий интерес Англии требовал её дружбы с Россией. 15 ноября английское правительство на своём совещании объявило дипломата персоной нон-грата и потребовало от него в восьмидневный срок покинуть территорию королевства. В качестве причины такого решения оно объявило, что Бестужев нарушил этикет и подал свой меморандум не королю (который, кстати, был в отъезде), а министрам правительства. Как мы видим, англичане посчитали ниже собственного достоинства выслушивать нотации от какого-там московита и при принятии решения руководствовались не здравым смыслом и не духом или буквой дипломатии, а скорее великодержавной спесью.
Царский резидент 23 ноября удалился в Гаагу и пробыл там до мая 1721 года, пока не получил приказ вернуться в Россию. После заключения Ништадтского мира 1721 года он был назначен министром-резидентом в Стокгольм с жалованьем 3000 рублей. Направляя в декабре 1721 года М.П. Бестужева-Рюмина на важный пост в Стокгольм в только что замирённую Швецию, император Пётр I поставил перед ним следующие задачи:
а) признание Стокгольмом императорского титула Петра I;
б) утверждение риксдагом Ништадтского мира;
в) нейтрализация англо-ганноверской
дипломатии.
Кроме того, он должен был попытаться заключить со Швецией договор о военно-политическом союзе. Прощаясь с ним, Пётр сказал:
«Желаю тебе благополучного пути и чтобы ты исполнил должность свою как можно прилежней и вернее. Если будешь вести себя таким образом, чего я от тебя ожидаю, то постараюсь о твоём счастии. В противном случае найдёшь во мне не друга, а врага». Потом поцеловал его в лоб и сказал:
«Ступай с Богом!»
Ему не удалось удержать шведов от вступления в Ганноверский союз — задача в тех конкретных обстоятельствах, скажем прямо, непосильная, но в остальном он с наказом Петра I справился довольно неплохо. Параллельно он работал над воплощением идеи Петра о наследовании шведского трона герцогом Голштинии Карлом Фридрихом, ставшим сначала женихом, а затем и мужем дочери Петра Анны. М.П. Бестужеву удалось добиться для голштинского герцога титула «королевского высочества» с признанием им права на наследование шведской короны.
Голштинская проблема ещё долго являлась предметом пристальнейшего внимания как России, так и Швеции. Теоретически существовала возможность связать обе страны одной — голштинской — династией, на что сильно уповал Пётр I.
В Швеции М.П. Бестужев-Рюмин выступает как человек, глубоко интересующийся её проблемами. Он устанавливает широкий круг знакомств и контактов и снабжает Петербург важной и актуальной информацией. Его донесения из Стокгольма демонстрируют недюжинный ум, наблюдательность, умение верно оценить людей и их поступки и находчиво воспользоваться складывающимися обстоятельствами.
Бестужев сделал ставку на партию «добрых патриотов», которая позже станет называть себя партией «колпаков». «Колпаки», в отличие от их противников «шляп», стремившихся к реваншу за поражение Швеции в Северной войне, желали мирного развития страны и добрососедства с восточным соседом. В инструкции, данной Бестужеву царём-абсолютистом, содержался пункт о необходимости поддержки в Швеции конституционной формы правления — условие, специально оговоренное в Ништадтском мирном трактате. Как докладывал Михаил Петрович царю,
«пока нынешняя форма правления существует, нималого опасения со стороны шведской не будет», потому что Швеция
«настоящая Польша стала», имея в виду под «Польшей» порядок, согласно которому власть шведского короля была сильно ограничена риксдагом (парламентом).
Поощряя «польские порядки» в Швеции, русский посланник стал предлагать шведам в качестве наследника трона голштинского герцога Карла Фридриха, тогда ещё наречённого жениха дочери Петра Анны (шведская королевская пара король Фредерик I и королева Ульрика Элеонора были бездетными). Он докладывал Петру, что для успешного решения этого вопроса нужны большие деньги для подкупа членов риксдага. Сначала ему удалось добиться решения вопросов с титулованием царя Петра и герцога Карла Фридриха, а потом, в 1724 году, и подписания так называемого
Стокгольмского союзного договора. После этого Пётр наградил посланника званием действительного камергера, наделил его полномочиями чрезвычайного посланника и увеличил жалованье до 5000 рублей в год.
Конечно, Стокгольмский союзный договор был слабым воплощением идеи Петра о превращении шведского противника в надёжного союзника. Ещё в 1718 году, во время переговоров со шведами на Аландских островах, Петру стало ясно, что Европа просто так не смирится с победой России в Северной войне и примет свои меры. Поэтому Пётр заранее хотел заручиться надёжным союзником. Но искреннего союза между бывшими противниками не получилось. Швеция стремилась к союзу то с Англией, то с Францией, то с Пруссией или Турцией, и Стокгольмский союзный договор был для России лишь слабым поводком на шее Швеции, готовым в любую минуту порваться.
Михаил Петрович, выполняя указания Петра, внешне действовал в согласии с голштинским посланником в Петербурге Хеннингом Фридрихом Бассевичем (1680—1748), фактически являвшимся министром русского кабинета, и его зятем, голштинским министром в Стокгольме Райхелем, а подспудно выступал против активизации голштинской партии в Швеции. Так что личные отношения с Райхелем и Бассевичем у Бестужева стали портиться, и голштинцы, чувствуя, что Бестужев не был искренно заинтересован в их деле, всеми силами стремились удалить Бестужева из Швеции.
Пока был жив Пётр, голштинцы сидели смирно, но после кончины императора руки у них развязались. На приёме у шведского дипломата Райхель затеял с Бестужевым ссору и вызвал его на дуэль. Присутствовавшие при ссоре шведы с трудом помирили их, и вскоре Бестужев выехал в Петербург, где он должен был присутствовать на переговорах со шведскими эмиссарами, а после переговоров вернуться в Швецию. Но вмешался Бассевич и вместе с Меншиковым уговорил Екатерину I Бестужева в Стокгольм не возвращать.
Курляндец Бирон погубил карьеру Бестужева-Рюмина-отца, а голштинец Бассевич попытался «задвинуть» его сына Михаила, но, к счастью, это ему не удалось. Слишком мало у российского кабинета было способных министров и умных дипломатов, и Михаилу Петровичу сразу нашли применение во всё ещё горячем курляндском деле.
В Стокгольме к Михаилу Петровичу приходила жена Войнаровского, племянника Мазепы, и предложила ему 10 тысяч ефимков, если он будет ходатайствовать перед Петром I об освобождении мужа, сосланного в Сибирь. Бестужев, как пишет Бантыш-Каменский, просьбу отринул.
Отозванный в результате происков голштинцев из Швеции, чрезвычайный посланник М.П. Бестужев-Рюмин в мае 1726 года отправился в Варшаву «хлопотать» в пользу зарвавшегося в своих непомерных амбициях светлейшего князя А.Д. Меншикова. Там ему пришлось взаимодействовать вместе с полномочным министром П.И. Ягужинским (1683—1736), уже прибывшим на польский сейм в Гродно с задачей не допустить утверждения Морица Саксонского курляндским герцогом. Двадцатью годами ранее польскому сейму, этому шумному, вольному и неспособному к решениям институту, по поручению Карла XII «выкручивал» руки шведский генерал Арвид Хорн, добиваясь признания Станислава Лещинского королём Польши. Теперь времена изменились, и с сеймом стали «разбираться» русские дипломаты.
Между тем Мориц Саксонский (1696—1750) был уже избран курляндским дворянством и как жених очень нравился курляндской вдове Анне Иоанновне, но он никак не устраивал Меншикова, потому что светлейший сам возжелал стать курляндским герцогом. Абсурдность и несообразность всей затеи выяснилась для русских посланников в первые же дни работы сейма, и Петербург был вынужден просить М.П. Бестужева-Рюмина и П.И. Ягужинского предложить в качестве кандидатов в курляндские герцоги других претендентов. Это метание из стороны в сторону ещё более подорвало позицию русских эмиссаров в Гродно. Ягужинский, главный ответственный в этом неблагодарном предприятии, нервничал, справедливо раздражался позицией Петербурга и стал вести дело из рук вон плохо и безответственно. Бестужев, выступая на вторых ролях, мог жаловаться на создавшееся положение только сестрице Аграфене, княгине Волконской. Он писал ей, что напрасно ждал от Павла Ивановича проку —
«человек этот совсем плох». Бестужева особенно возмущало положение, при котором наисекретнейшие дела его посольства поручили вести секретарю из местных поляков Голембовскому.
В апреле 1727 года «плохой» дипломат Ягужинский, наконец, уехал, и польские дела полностью сосредоточились в руках Михаила Петровича. В это время умерла Екатерина I, и на престол взошёл Пётр П. Молодой царь, несмотря на опалу отца, утвердил М.П. Бестужева в звании чрезвычайного посланника при польском дворе. Курляндское дело «теплилось» ещё некоторое время, а потом всё кончилось тем, что Курляндию оккупировали русские войска, и Анна Иоанновна вместе с новым любовником Эрнстом Иоганном Бироном стала управлять герцогством де-факто.
Дальнейшая деятельность Михаила Петровича в Польше ознаменовалась его активной работой в защиту прав православного населения Польши — белорусов.
«…Я настаиваю, чтоб православным дано было удовлетворение, — писал он в Петербург Анне Иоанновне, —
но ничего из этого не выходит, потому что римское духовенство имеет здесь большую силу… Поэтому я считаю нужным, чтобы ваше величество прислали об этом грамоту к королю и Речи Посполитой, чтоб мне при подаче грамоты можно было делать более сильные представления…»
Хотя его представления правительству Польши редко достигали успеха, зато сами угнетённые белорусы увидели в нём своего покровителя и с его помощью обращались в Петербург за разрешением всяких недоразумений по делам своей православной епархии. Для утверждения русского кандидата на пост белорусского епископа в 1727 году в Польшу направили специального посланника князя С.Г. Долгорукого
[14] (? —1739), так что в Варшаве оказалось сразу два русских посланника — ещё одна несуразность дипломатии клана Долгоруких, окружившего юного и несмышлёного Петра II.
В это время русскую дипломатию сильно озаботило сближение Пруссии с Саксонией и усиление в Европе прусского влияния. М.П. Бестужев проработал в Варшаве ещё три года и в 1730 году по указу Анны Иоанновны был отправлен, наконец, в Берлин на смену князю С.Д. Голицыну
[15], а на место Михаила Петровича был назначен действительный камергер Карл Густав Левенвольде. В декабре Михаил Петрович разменялся с прусскими министрами ратификационными грамотами, возобновлявшими союзный договор России с Пруссией.
М.П. Бестужев быстро приобрёл в Берлине и славу, и почёт: ему удалось примирить короля Фридриха Вильгельма со своим сыном, кронпринцем Фридрихом, будущим Фридрихом Великим. (Кронпринц осмелился пуститься в путешествие без разрешения отца и выбрать себе невесту не совсем голубых кровей, за что был предан военному суду и заключён в крепость.) Казалось, Бестужевы попали наконец в круг «знатных» персон, которым могли поручаться важные дела. Новая царица была вынуждена вспомнить о «худородных» Бестужевых-Рюминых, возвышенных Петром I за образование и даровитость. Ведь Анна Иоанновна позиционировала себя теперь как продолжательница дела своего великого дядюшки.
Но не тут-то было. Словно чёртик из шляпы фокусника снова выпрыгнул Ягужинский! Едва успел Бестужев вручить свои верительные грамоты местному двору, как Анна Иоанновна, ввиду важности
«обращаемых 6 Европе дел», решила прислать посланником в Берлин «знатную персону». П.И. Ягужинский прибыл в Берлин в конце 1731 года, а М.П. Бестужев был снова переведен в Стокгольм. Впрочем, возвращение в шведскую столицу вряд ли можно было рассматривать как своеобразное понижение — скорее наоборот. Швеция по-прежнему доставляла российской дипломатии головную боль и находилась в центре её внимания. Мы ещё вернёмся к старшему брату, а теперь пора познакомиться наконец с нашим главным героем.
МЛАДШИЙ БРАТ
Алексей Петрович Бестужев-Рюмин был на пять лет моложе брата. Он родился в Москве 22 мая 1693 года и сделал блестящую дипломатическую карьеру, начав с должности дворянина миссии и закончив её в звании Великого канцлера Российской империи.
Вместе со старшим братом Михаилом 15-летний Алексей по именному указу Петра 1707 года был
«отпущен 6 чужие края для обучения на иждевении отца», а в октябре 1708 года братья взошли на борт корабля в Архангельске и отправились вокруг Скандинавии в Копенгаген вместе с супругой посла В.Л. Долгорукого (1670—1739)
[16]. Там они обучались в местной академии до 1710 года, а потом, когда в датской столице разразилась эпидемия моровой язвы, переехали в Берлин. Алексей Бестужев оказал особые успехи в изучении иностранных языков — латинского, французского, немецкого, а также общеобразовательных наук. В 1711 году, когда Михаил вместе с отцом отправился в Прутский поход, Алексей продолжил учёбу в прусской столице.
В 1712 году в Берлин прибыл Пётр I, где в доме посланника А.Г. Головкина (? — 1760)
[17] приказал Алексею Бестужеву-Рюмину выехать на должность дворянина миссии к князю Б.И. Куракину
[18], посланнику на Утрехтском конгрессе, подводившем итоги войны за Испанское наследство. Здесь младший Бестужев многое увидел и многому научился. По пути в Утрехт Алексей Бестужев «имел случай стать известным» ганноверскому курфюрсту Георгу-Людвигу (1683—1760) и получил предложение поступить к нему на службу.
В 1713 году, вероятно не без протекции Куракина и с высочайшего позволения царя, он стал полковником, а затем камер-юнкером курфюрста Ганноверского с жалованьем 1000 талеров в год. Брат Михаил, как мы сообщили выше, в это же время служил камер-юнкером при дочери курфюрста. В 1714 году, когда курфюрста избрали королём Англии и короновали под именем Георга I, Бестужев по представлению королевы Анны, супруги короля Георга, остался при Сент-Джеймсском дворе до 1717 года. Это был, пожалуй, беспрецедентный до тех пор случай в истории русской дипломатической службы, когда русского дипломата взяли на службу к иностранному монарху.
Интересно отметить, что король Георг решил использовать Алексея Бестужева-Рюмина в качестве своего чрезвычайного посланника в Петербург, чтобы сообщить Петру I о своём восхождении на английский трон. Такого в дипломатической практике России (и, возможно, Англии) тоже ещё никогда не было. Взяв в 1717 году у английского короля «абшид», Алексей Бестужев прибыл в Петербург, получил аудиенцию у императора Петра и выполнил порученную ему английским королём миссию. Пётр I был в восторге: российский дворянин на иностранной дипломатической службе, к тому же он так авантажен, так ловок и умён! Царь не удержался и, давая «абшид» Бестужеву, одарил его 1000 рублями и положенным на такой случай подарком. Бестужев вернулся в Лондон с поздравительной грамотой Петра I и новым рекомендательным письмом от своего русского государя. Это было незабываемое событие и для самого Бестужева, и он уже в глубокой старости с благодарностью вспоминал свои встречи с Петром I.
Бестужев пробыл в Англии около четырёх лет с большой для себя пользой. Всё, чему он там научился, пригодилось ему потом и великолепно подготовило к той политической роли, которую ему пришлось играть в зрелом возрасте. Пребывание и служба в Англии если и не сделали из него стопроцентного англофила, но наложили несомненный отпечаток на его пристрастия и склонности. Англия будет долго занимать в его внешнеполитической программе наипервейшее место.
Будучи, как и отец, довольно честолюбивым, а теперь и уверенным в своих силах человеком, к тому же не лишённым некоторого авантюризма и склонным к интриге, молодой Бестужев в 1717 году сделал один опрометчивый шаг, который лишь по чистой случайности не стоил ему и карьеры, и жизни вообще. Узнав о бегстве царевича Алексея Петровича в Вену, он написал ему письмо с уверением преданности и готовности служить
«будущему царю и государю». Горя желанием не пропустить «конъюнктуру» и сделать карьеру, он ловко объяснил царевичу своё пребывание в Англии желанием удалиться из России, где обстоятельства якобы не позволяли ему служить царевичу так, как бы он желал.
По счастью для Бестужева, царевич Алексей Петрович во время следствия его не выдал, а «верноподданническое» письмо уничтожил, так что для шефа Тайной канцелярии графа П.А. Толстого (1645—1729) эпизод прошёл незамеченным.
Вот текст этого злополучного письма, сохранившегося в венском архиве в немецком переводе:
«Так как отец мой, брат и вся фамилия Бестужевых пользовалась особою милостию вашею, то я всегда считал обязанностью изъявить мою рабскую признательность и ничего так не желал от юности, как служить вам, но обстоятельства не позволяли. Это принудило меня для покровительства вступить в чужестранную службу, и вот уже четыре года я состою камер-юнкером у короля английского. Как скоро я верным путём узнал, что ваше высочество находится у цесарского величества, своего шурина, и я по теперешним конъюнктурам замечаю, что образовались две партии, притом же воображаю, что ваше высочество при нынешних обстоятельствах не имеет никого из своих слуг, я же чувствую себя достойным и способным служить вам в настоящее время, посему осмеливаюсь вам писать и предложить вам себя как будущему царю и государю в услужение».
Прямо скажем, впечатление от письма и поступка вообще остаётся неблагоприятное. Английский камер-юнкер, забыв покровительство ещё живого царя Петра I, грубо исказил причины своей «чужестранной» службы (искать покровительства на стороне его вынудили якобы обстоятельства), без всякого стеснения напирает на «теперешние конъюнктуры» и какие-то таинственные обстоятельства, давно мешавшие «припасть к стопам» царевича Алексея.
Молодо-зелено? Вряд ли. Нам кажется, что уже здесь выказались его непомерное тщеславие и горячее желание войти в «высокие сферы», а также его страсть к искательству и желание не упустить конъюнктуру. Для объяснения поступка молодого Бестужева-Рюмина, кажется, подходит мысль Ключевского:
«Служить Петру ещё не означало служить России. Идея отечества была для его слуг слишком высока, не по их гражданскому росту. Ближайшие к Петру люди были не деятели реформы, а его личные дворовые слуги». Они не были приверженцами реформы и
«не столько поддерживали её, сколько сами за неё держались, потому что она давала им выгодное положение». Все «птенцы» царя с точки зрения морали были безнравственными. Да и могли ли высоконравственные дворяне «сделать карьер» в те безнравственные времена? Не был исключением и Бестужев-Рюмин. Государственный подход у него сформируется позже, но изжить в себе черты
самоблаговоления ему не удастся до конца жизни. Впрочем, такой задачи перед собой он и не ставил.
Авантюризм? В известной степени да. Но если принять во внимание трудное положение России, в которое её поставил Пётр I своими опустошительными и обременительными реформами, а также довольно шаткое положение самого царя ввиду недовольства им и крестьянством, и духовенством, и дворянством, то станет ясным, что ставка Бестужева на партию царевича Алексея, возглавившего оппозицию отцу, была не такой уж и глупой. И «европеец» Бестужев вряд ли захотел бы связывать свою судьбу с царевичем-ретроградом, которому обычно приписывают намерения вернуть Россию в допетровские времена. На самом деле царевич Алексей и стоявшие за ним влиятельные особы, включая и таких ближайших к Петру «птенцов», как князья В.В. и Я.Ф. Долгорукие, князья Д.М. и М.М. Голицыны, фельдмаршал граф Б.П. Шереметев, генерал-адмирал Ф.М. Апраксин, адмиралтеец А.В. Кикин, генерал-прокурор П.И. Ягужинский, кабинет-секретарь А.В. Макаров и др., хотели только замедлить бешеный темп Петровских реформ и дать стране набраться новых сил после разорительной войны и реформ
[19]. Нет, умный и расчётливый Бестужев вряд ли мог совершить случайный поступок, просто так сжечь все мосты, связывавшие его с царём Петром, и стать государственным преступником. Стало быть, дело царевича Алексея выглядело для него не таким уж и безнадёжным.
Был ли Алексей Петрович организованным или стихийным оппозиционером? Вряд ли. Скорее он был обычным русским ловцом конъюнктуры. Став старше и «образумившись», Алексей Петрович станет куда осторожнее и уже никому не откроет своих потаённых мыслей, как он это сделал в 1717 году. Он будет маскировать их приверженностью к интересам государства и постарается уже никогда не показывать из-за неё своё истинное лицо. Тем более что государственником он был вполне убеждённым и последовательным.
В этом же 1717 году Алексей Бестужев неким образом был связан с голландцем Abraham van Notten, с которым он, возможно, познакомился в Голландии, находясь по пути из Англии в Россию, и с неизвестным Бестужевым Дмитрием Петровичем. Об этом мы узнаём из его письма от 3 августа, которое он написал в Петербург известному уже нам В.И. Монсу. Вот оно:
«Благородный господин камер-юнкер государь мой Вилим Иванович.
Униженно вашему благородию благодарствую за комплимент ваш у который от вас господин Бестужев Дмитрий Петрович мне справил; при сем прилагаю письмо от оного господина Бестужева, по которому прилежно прошу его и меня одолжить, не замешкав, сто червонных исходатайствовать и такие деньги вручить сему листоподателю с распискою, а именно господину Абраму ванн Ноттену (dem Н. Abraham van Noften), оным ваше благородие по прежнему меня обяжете, за что, напротив, вам, государю моему, отслужить потщуся и всегда неотменно со многим почтением пребуду вашим, государь мой, всепокорно послушным слугою Алексей Р. Бестужев».
Очень и очень загадочное письмо! Во-первых, незнакомец Д.П. Бестужев: кто он? Родственник или однофамилец? Что заставило молодого дипломата просить Монса об одолжении ста червонцев и о вручении их некоему голландцу ванн Ноттену? За какие услуги? Если это обычные денежные долги, то почему было не одолжить деньги у отца или у старшего брата? Письмо предполагает, что Монс уже находился в контакте с Бестужевым-Рюминым и передавал ему с упомянутым выше незнакомцем «комплимент». Познакомиться или вступить с ним в переписку Алексей Петрович, конечно, мог с помощью отца, но какие-такие дела связывали его с высоко парящим фаворитом императрицы? Ответов на все эти вопросы пока нет, но как бы то ни было, мы видим, что Алексей Петрович был и в молодости своей не простой «штучкой», а человеком, склонным искать «где глубже и лучше».
К 1717 году отношения между Петром I и Георгом I стали портиться, и А.П. Бестужев-Рюмин попросил у короля Георга увольнения со службы. Вряд ли он сделал это сам, а не по согласованию со своим русским государем. По прибытии в Россию в 1718 году он был назначен на малозначительное для него место обер-камер-юнкера при дворе Анны Иоанновны в Митаве. Таким образом, рядом с курляндской герцогиней на короткое время оказались все Бестужевы-Рюмины — отец и оба сына. Там Алексей прослужил два года без жалованья. Возможно, какие-то подозрения у Петра I в отношении младшего Бестужева всё-таки были? Не знаем, но очень похоже на это. Иначе почему царь отнёсся к своему прежнему любимцу так прохладно и фактически сослал его на бездействие в курляндскую «дыру»? Разве мало было там отца и старшего брата Михаила?
Но митавское «сидение» благополучно завершилось, и царь снова призвал Алексея Бестужева-Рюмина на «настоящую» службу. В 1721 году Пётр отправил его на первый самостоятельный дипломатический пост министром-резидентом в Данию, при дворе короля Фредрика VI, где он сменил на этом посту своего бывшего учителя В.Л. Долгорукого.
В Копенгаген новый министр попал в самый разгар дипломатической борьбы Петра I с английским королём Георгом I, который вступил в союз со шведами и пытался поднять северные державы против России. Кроме того, положение Бестужева осложнялось тем, что русский император оказывал покровительство голштинскому герцогу, земли которого были оккупированы Данией и по сепаратному сговору со Швецией включены в состав датского королевства.
Бестужеву надлежало добиться от датского двора признания за Петром I императорского титула, за голштинским герцогом — звания «королевского высочества», а для русских судов — беспошлинного прохода через пролив Эресунд. Естественно, он должен был внимательно наблюдать за поведением Лондона и по мере сил противодействовать английской дипломатии в Дании. Бестужев доносил в Петербург, что выполнение последней задачи встречает большие затруднения, поскольку почти все датские министры состоят у ганноверского (читай: английского) посланника на «пенсии», и просил у Петра I 25 000 червонцев, чтобы перекупить их на свою сторону. Приём старый, но испытанный…
Но денег царь Пётр, кажется, не дал.
Впрочем, Алексею Бестужеву и без подкупа удалось завербовать влиятельного при датском короле Фредрике VI оберсекретаря военной коллегии Габеля, который помог русскому посланнику начать тайные переговоры лично с самим королём. Датское правительство заявляло о своей готовности признать за Петром I императорский титул только в обмен на гарантию Шлезвига как части королевства или, на крайний случай, при условии удаления голштинского герцога от русского двора. Пётр, естественно, на это условие не соглашался и от голштинской карты отказываться не хотел, поэтому переговоры затянулись, и дело с места не двигалось. Да и сам Бестужев советовал царю продолжать использовать голштинского герцога в качестве своеобразного для Дании пугала.
Между тем Россия в 1721 году заключила со Швецией мир, по случаю которого Бестужев 1 декабря устроил грандиозный праздник и приём иностранным дипломатам и первым лицам датского королевства. Перед своим домом он велел выстроить прозрачные картины, на которых был изображён бюст Петра с латинской надписью:
«Шестнадцать лет ознаменовав подвигами, затмившими деяния Геркулеса, он заключил 30 августа 1721 года славный мир в Нейштадте, заставив безмолвствовать зависть и даровав Северу давно ожидаемое спокойствие». На приёме русский резидент раздал всем гостям памятную медаль с приведенным выше изречением, по собственной инициативе выбитую в Гамбурге. В Дании чеканить монету отказались из-за слов «даровав Северу давно ожидаемое спокойствие», найдя её предосудительной. Зависть бывшего союзника далеко не безмолвствовала! Но зато Бестужев получил от царя, находившегося в этот момент в Дербенте, собственноручное письмо с изъявлениями благодарности.
В 1723 году царь Пётр I послал за Бестужевым в Копенгаген специальный фрегат, чтобы срочно доставить его в Ревель, где у царя были важные дела. По всей видимости, Алексей Петрович понадобился царю для консультаций по скандинавским делам. В Ревеле император наградил дипломата собственным портретом, украшенным бриллиантами. Эта награда была обещана Бестужеву ещё в 1721 году, сразу после подписания Ништадтского мира, но тогда у царя готового портрета под рукой не оказалось. Бестужев очень дорожил царским подарком и всегда носил его на груди.
В круг интересов русского посланника входила не только политика и дипломатия. Пребывание в Копенгагене ознаменовалось для него научным изобретением, принесшим в конечном итоге мировую славу. В датской столице он сильно увлёкся (ал)химией и изобрёл ценные «жизненные капли» — tinctura tonico-nervina Bestuscheffi, спиртоэфирный раствор хлористого железа, лечащий истощённые нервы и надолго вошедший в историю медицины под названием «капель Бестужева».
Как часто бывало с русскими изобретателями, их изобретения стали жить своей собственной жизнью и под другими именами. Такая же история произошла с каплями Бестужева. Помогавший ему местный химик Лембке (или Ламбке) продал секрет капель французскому бригадному генералу Ламотту в Гамбурге, который представил капли французскому королю и получил за них большую награду. Во Франции капли стали известны под названием «elexir d'or» и «elexir de Lamotte». Позднее, когда Бестужев открыл свой секрет одному петербургскому аптекарю, а потом поделился их составом с академиком Российской академии наук Моделем, секрет капель перешёл к аптекарю Дуропу. Вдова Дуропа продала его за 3000 рублей Екатерине II, по повелению которой рецепт был опубликован в «Санкт-Петербургском вестнике» за 1780 год с указанием авторства Бестужева. «Бестужевскими каплями» на протяжении 200 лет пользовались потомки великого канцлера — в основном нервные русские дамы и женственные кавалеры.
«Капли Бестужева» характеризуют нам будущего канцлера Российской империи совсем с другой стороны. Мы видим в нём человека широких взглядов, образованного и любопытного, не чуждого творческих порывов. И кто знает: посиди министр-резидент Петра чуть больше над тайнами химии, глядишь и вышел бы из него свой, русский Луавазье, не хуже французского. Но научная карьера, судя по всему, мало прельщала молодого честолюбца. Химия, капли — это так, побочный продукт то ли временного безделья, то ли хандры, то ли приступа неожиданного любопытства…
В 1724 году датский королевский двор признал наконец Петра I императором, но, как доложил Бестужев царю, он сделал это исключительно из страха. Тем самым Алексей Петрович косвенно давал понять Петру I, что его совет пугать Копенгаген голштинским жупелом оказался вполне действенным. Заключение в 1724 году благодаря усилиям старшего брата Михаила между Россией и Швецией военно-политического союза заставило датский двор не на шутку всполошиться, а мнительному датскому королю стала снова мерещиться шведская экспедиция в Норвегию, и он даже от волнения заболел и стал чаще смотреть в сторону Петербурга.
Пётр I оценил дипломатическую ловкость посланника и в том же 1724 году, во время коронации своей супруги Екатерины Алексеевны, пожаловал ему придворное звание камергера. Но высочайшему покровительству скоро пришёл конец, император Российской империи Пётр Великий почил в Бозе, не назначив после себя наследника. Россия вступала в период нестабильности, смуты и беззакония.
В год смерти Петра Дания ещё колебалась между англо-французским союзом и союзом с Россией, но надежда датчан на ослабление России со смертью Петра быстро привела их, по выражению Бестужева,
«в добрый гумор». «Из первых при дворе яко генерально и все подлые с радости опилися было», — докладывал он в Петербург о реакции датского двора на смерть Петра I. В датских водах появился британский флот, и тень голштинского герцога перестала восприниматься с таким страхом, как прежде. Копенгаген присоединился к так называемому Ганноверскому, то есть англо-французскому, союзу, и от русского посланника в Копенгагене стали шарахаться, как от чумы.
Кажется, здесь, в Копенгагене, Бестужев женился. Его женой стала Анна Ивановна, урожд. Бёттихер (Беттигер), дочь бывшего русского резидента в округе Нижняя Саксония и наставница цесаревны Елизаветы Петровны. Резидента Беттиге-ра в своё время часто навещали Пётр I с женой Екатериной.
Своим положением в Дании Бестужев стал тяготиться и по другим причинам: его темпераменту и опыту уже было тесно в «тихом датском омуте», его сильно потянуло домой, на новые политические просторы, где разгоралась борьба партий, где могли со всей силой развернуться его честолюбие и ловкость и где, возможно, его ждало быстрое возвышение. Он был уже в возрасте Иисуса Христа, а решительного прорыва к власти так и не достиг. Нужно было торопиться. Там, в Петербурге, были давние связи семьи Бестужевых-Рюминых с двором покойного царевича Алексея Петровича, а теперь их друзья — Авраам, Фёдор и Исаак Веселовские, знаменитый арап Петра Великого Абрам Ганнибал, Пашковы, сенатор Ю.С. Нелединский, кабинет-секретарь И.А. Черкасов (1690—1752), сплотившиеся вокруг сестрицы Аграфены, княгини Волконской, и воспитателя царевича Петра Алексеевича и бывшего пажа Екатерины I и учителя Петра II С.А. Маврина. Их опорой был также влиятельный цесарский посланник в Петербурге граф Амадеус фон Рабутин-Бусси. Великосветский салон А.П. Волконской располагался на Адмиралтейском острове в доме по Греческой улице. Туда, скорей туда, в Петербург!
Россией в это время правил Пётр II, сын царевича Алексея Петровича. Австрийский посланник и в самом деле добивался «доставить» Аграфене Петровне или, как её звали в кружке Маврина, Асечке, звание обергофмейстерины при царевне Наталье Алексеевне, любимой сестре Петра II, и Алексей Петрович решил обратиться к австрийцу с просьбой выхлопотать отцу графский титул. Эти титулы присваивались тогда лишь указами императоров Священной Римской империи, а потому Рабутин был именно тем человеком, который мог бы замолвить словечко при венском дворе. Себе же наш «скромный» герой официально просил — теперь у Петра II —
«за семилетние свои при датском дворе труды» ранга полномочного и чрезвычайного посланника и прибавки жалованья. Он почему-то был самонадеянно уверен в том, что
«награжденье его чрез венский двор никогда от него не уйдёт», а потому спешил заручиться милостью собственного государя. Кстати, в кружке Маврина А.П. Бестужев получил кличку Козёл.
Напрасно он так считал: Рабутин в 1727 году неожиданно «помре», а враги Бестужевых-Рюминых — Меншиков и облепившие русский трон, как мухи, голштинцы — остались. Как мы уже сообщали выше, кружок А.П. Волконской, сосредоточившийся первое время вокруг С.А. Маврина, попытался было начать и против них интригу, но светлейший князь был начеку и принял меры.
Началось всё с дела Антона Мануиловича Девиера, зятя Меншикова и генерал-полицмейстера Петербурга (1673— 1745). У него обнаружили крамольное письмо, в котором он высказывался против того, чтобы дочь Меншикова Мария была выдана замуж за Петра II. Такого всесильный Меншиков не мог простить даже близкому родственнику. По указу от 27 мая 1727 года Девиера арестовали, обвинили в намерениях устранить Петра II с трона, били кнутом, лишили дворянства, чинов и кавалерии, то есть наград, и сослали под караул в Мангазею
[20]. В личных бумагах Девиера власти нашли и письма Бестужевых, в которых те выступали против всесильного камергера двора Рейнхольда Фридриха-Казимира (Рейнхольда-Густава) Левенвольде и вице-канцлера Андрея Ивановича Остермана. Этого было достаточно. Бестужевы давно мешали Меншикову, а теперь вот стали врагами голштинцев и немцев. П.М. Бестужева и княгиню Волконскую, как мы уже сообщили ранее, отправили в ссылку в подмосковную деревню.
Как сообщает Соловьёв, к Волконской явился секретарь Меншикова Андрей Яковлев, принёс ей подорожную,
«где было сказано глухо, чтоб посланным людям давать подводы без обозначения имён», то есть ссылку осуществляли под завесой анонимности. Брата Михаила (кличка в кружке Маврина Панталоне) ещё раньше отозвали из Стокгольма, а С.А. Маврина и Абрама Петровича Ганнибала, деда А.С. Пушкина, под видом «важного поручения» отправили в Тобольск. Пострадали также «самый умный человек в России» секретарь КИД И.П. Веселовский (1690—1754) и его брат Фёдор (? — 1776). Последний, впрочем, уже давно был в бегах и ждал решения своей участи в Лондоне
[21]. В июне того же 1727 года на Верховном тайном совете было рассмотрено обращение Ф. Веселовского из Лондона о помиловании, но против этого воспротивился Меншиков, и теперь срок его ожидания неопределённо увеличился. Члена кружка шталмейстера А.П. Волынского, будущего кабинет-министра, пока не тронули, но удалили из столицы, назначив служить в Украинскую армию.
Итак, Алексею Петровичу пришлось без всякого награждения продолжить «сидение» в Копенгагене и по возможности пока «не высовываться». Он дождался падения Меншикова и снова было воспрянул духом. Нужно было порадовать Петра II и хоть чем-то обозначить перед ним своё существование. Он послал в Петербург донесение, претендующее на актуальность и важность, хотя оно таковым на самом деле не было.
«Король надеется получить вашу дружбу и готов искать её всевозможными способами… — писал он Петру II. —
…Впрочем, здешний двор с беспокойством ждёт известия, герцог голштинский по-прежнему ли будет присутствовать в вашем Тайном совете, ибо в таком случае король датский не может поступать откровенно с вашим величеством». Начал за здравие, а кончил за упокой.
Герцог Готторп-Голштинский Карл Фридрих наконец отъехал из Петербурга за границу, и датский король Фредрик IV успокоился, а Бестужев стал снова ждать. Но ждать было нечего: власть осталась в руках враждебного Бестужевым А.И. Остермана и братьев Р.Г. и К.Г. Левенвольде. А потом Пётр II был «узурпирован» семейством Долгоруких (Долгоруковых), и царю было не до Копенгагена и какого-то там Бестужева. Вместе с новым временщиком Иваном Алексеевичем Долгоруким царь-отрок отдавался охоте, попойкам и любовным приключениям. Так что в возбуждённом состоянии русский посланник в Копенгагене пребывал недолго и снова погрузился в томительное ожидание.
Остерман и Долгорукие, свалившие и вполне заменившие собой «великодержавного властелина» Меншикова, плотной стеной оградили Петра II от общения со всеми другими лицами и, подобно светлейшему князю, держали курс на высшую ступеньку власти. Следуя примеру Меншикова, они захотели сделать императрицей свою дочь и сестру Екатерину и уже совершили её помолвку с Петром II. Попытка А.П. Бестужева-Рюмина вернуть сосланных отца и сестру из ссылки привела лишь к раскрытию их новых «прегрешений» и к новым наказаниям. На сей раз скомпрометирован был сам Алексей Петрович, уличённый в том, что
«искал себе помощи через венский двор» и даже
«сообщал чужестранным министрам о внутренних здегиняго государства делах». Обвинение было надуманным, потому что помощь при других дворах искали тогда многие, а уж болтливость и легкомыслие в речах были настоящим бедствием всех дипломатических служб. Но, слава Богу, опасность снова миновала, и А.П. Бестужев уцелел, а в 1729 году он даже получил денежную награду в размере 5000 рублей.
В сентябре 1727 года член кружка Маврина, работник Военной коллегии Егор Пашков, оставшийся на свободе, писал княгине Волконской о том, что он пытается «достать» Маврина и И. Веселовского из ссылки, но из-за противодействия
«бессовестной клеотуры (то есть креатуры)
Аеволъдовой» из этого ничего пока не получается. Пашков просил Асечку вести себя пока тихо и ничем своей оппозиции режиму не выказывать. Такие же советы месяцем позже давал сестре из Копенгагена брат Алексей, сетовавший на преждевременную и неожиданную смерть Рабутина и предполагавший, что
«вы с друзьями нашими и без посторонней помощи по отлучении известного варвара (Меншикова. — С.
С.) всякой сами себе вспомочь можете».
В ноябре Алексей Петрович снова строит планы относительно помощи отцу и сестре и сообщает княгине Аграфене, что
«посол цесарский граф Вратислав в пользу всех вас от двора своего накрепко инструктирован, токмо оная помощь медленна будет, ибо он ко двору нашему прежде не может прибыть, как после Пасхи». По всей видимости, Алексей Петрович имел возможность сноситься напрямую с Веной. Кстати, Алексей Петрович всё-таки небезосновательно демонстрировал попытки облегчить участь родственников и их друзей. На помощь Козла и его брата Панталоне надеялись многие единомышленники Маврина. Так Абрам Петров писал княгине Волконской из Томска:
«Что вы мне обещали сделать, пожалуйста, не запамятуй, чтоб Панталон и Козёл приложили к тому своё старание, особливо больше моя надежда на Козла, что он меня не оставит».
К сожалению, ни Козёл, ни Панталоне ничего сделать так и не смогли.
Старший брат Михаил пытался заискивать перед Долгоруковыми, но никакой пользы от этого для «мавринцев» не произошло. Долгорукие тоже были не лыком шиты и неискренность чувствовали за версту. Нет, Пётр II никаких видимых знаков внимания и милости к Бестужевым не показывал. Он был послушен Остерману, Долгоруким, а те имели все основания ненавидеть и членов кружка Маврина, и дипломатов Бестужевых, оберегая собственное место под солнцем. Впрочем, Алексей и Михаил Петровичи оставались пока на своих дипломатических постах за границей.
Восшествие на трон Анны Иоанновны, казалось, подавало младшему Бестужеву-Рюмину новые надежды. В отличие от замордованного Бироном отца сыну удалось сохранить благорасположение бывшей курляндской герцогини — как-никак она была крёстной матерью всех его трёх сыновей
[22]. Он поспешил подать из Копенгагена голос и,
«падая к подножию высочайшего… престола», дерзнул «из глубины своего сердца» поздравить её с восшествием на трон, напоминая, как она в письме из Митавы от 10 февраля 1729 года выразила ему сожаление о его
«пожарном разорении» и обещала всякое
«воспоможение учинить, понеже я от вас никакой противности себе не видала, кроме верных служб; ежели Бог меня исправит, по возможности моей вас не оставлю».
Уповая на это милостивое обещание, посланник во многом уподобился самой Анне Иоанновне, постоянно жаловавшейся в Петербург на свою бедность, и выклянчивая у русского двора «воспоможения». Вот и он жаловался и прибеднялся теперь в письме от 18 апреля 1731 года, что, прожив 10 лет в Дании при самых неблагоприятных обстоятельствах, терпя притеснения из-за герцога голштинского и его претензий на Шлезвиг, он уже 8 лет не получал никакого повышения:
«а я бедный и беспомощный кадет (за десятилетие мои вернорабские услуги и за моё здесь претерпение для присутствия герцога голштинского в России и для его претензии на Шлезвиг всегда был здесь ненавидим, и житьё моё было не легче полону), однако всегда я был забвению предан».
В сентябре 1730 года умер король Дании Фредрик IV и ему наследовал его сын Кристьян VI, и Бестужев, информируя Анну Иоанновну об этом событии, не преминул снова воспользоваться случаем «слезно просить» её принять
«во всемилостивейшую консидерацию, что я уже в ось мой год вступаю яко камергером и в одиннадцатый —
яко резидентом, так что в оном характере четыре кредитива (то есть верительные грамоты. —
Б. Г.) подал; для всещедрого Бога да соизвольте помилосердствовать надо мною, беспомощнобедным и весьма сирым кадетом, пожаловать меня при дворе здешнем чрез сей новый и пятый кредитив чрезвычайным посланником».
Голос из Копенгагена был подан заискивающий, но голосу этому новая царица не вняла. Вместо повышения, пишет Соловьёв, весной 1731 года ему велено было в том же «характере», то есть в чине резидента, отправиться в Нижнесаксонский округ, включавший в себя ганзейские города Гамбург, Бремен и Любек. Свой пост в Копенгагене Алексей Петрович освободил в пользу действительного тайного советника, курляндского барона фон Бракеля и отправился на два года в Гамбург.
Между тем деятельная Аграфена Петровна Волконская из деревни своего двоюродного брата Фёдора Талызина тайно отлучилась в Москву и имела там встречу с сенатором Юрием Нелединским и секретарём Исаком Павловичем Веселовским, о чём вице-канцлеру А.И. Остерману
[23] тут же донесли люди её мужа, князя Никиты Волконского, — некто Зайцев и До-брянский.
10 мая 1728 года её схватили снова и допросили в Верховном тайном совете. Она отвечала, что встречи с вышеупомянутыми лицами были продиктованы старой дружбой и ничем более. Но у Ф. Талызина нашли её письмо, в котором она писала:
«В слободе (Немецкой. —
С. С.) побывай и поговори известной персоне у чтоб, сколько ему возможно, того каналью хорошенько рекомендовал курляндца… и проведал бы, нет ли от канальи каких происков к моему родителю…» «Известное лицо» был Иван Иванович
Лесток
[24], лекарь царевны Елизаветы Петровны, а «каналья» — конечно же, Бирон. Как мы видим, беспокойный и деятельный нрав Аграфены Петровны не позволил ей «жить тихо».
Её бросили в тюрьму и стали пытать. Княгиня Волконская вела себя храбро, под пытками не сломалась и давала членам Верховного тайного совета дерзкие ответы. Временно её сослали в дальний женский монастырь, а И. Веселовского — в Гилянь. Потом ей отрезали язык и отправили в ссылку, где она скоро скончалась. А муж её князь Никита Иванович «определится» шутом при Анне Иоанновне. Сын их станет достойным человеком, будет служить по военной линии и дослужится до генерала.
В Верховном тайном совете действия Аграфены и Алексея Бестужевых оценили как весьма опасные, поскольку они планировали опереться на помощь «чужестранних министров», а значит, могли поделиться с ними государственными тайнами. И хотя Михаила и Алексея Бестужевых не тронули, и они оба остались на своих постах, но их отца, как мы знаем, немедленно вызвали из Курляндии и подвергли опале. Все бумаги его были изъяты и опечатаны. Анна Иоанновна с Бироном в это время были в Москве на коронации Петра II, и, конечно же, Остерман и братья Левенвольде сообщили Бирону о том, как старший Бестужев-Рюмин назвал нового фаворита герцогини «канальей».
К концу царствования Петра II Верховный тайный совет состоял из пяти членов: канцлера графа Г.И. Головкина (1660—1734), вице-канцлера, действительного тайного советника барона А.И. Остермана (1687—1747) и действительных тайных советников князей Д.М. Голицына (1663—1737), В.Л. Долгорукого (1670—1739) и А.Г. Долгорукого (? — 1734). 19 января 1730 года Верховный совет в Кремлёвском дворце объявил собранию высших чиновников империи о смерти императора и о своём решении призвать на трон курляндскую герцогиню и племянницу Петра I Анну Иоанновну.
Как известно, члены Совета постановили ограничить власть будущей императрицы так называемыми
кондициями и ввести в России нечто вроде конституционной монархии. Оказавшийся в Москве опальный П.М. Бестужев-Рюмин деятельного участия в событиях зимы 1730 года не принимал. В числе дворян, поставивших с 5 по 8 февраля свои подписи под кондициями верховников, членов семьи Бестужевых-Рюминых не оказалось: Алексей и Михаил Петровичи пребывали на своём посту за границей, а отец идей конституционалистов, кажется, не одобрял вовсе и состоял в рядах их противников. Впрочем, как пишут Курукин и Плотников, Пётр Михайлович был склонен пойти с ними на компромисс. Его имя значится в протоколе от 2 февраля, зафиксировавшем официальное оглашение кондиций Верховным тайным советом перед высшими чинами, после того как эти кондиции были подписаны Анной Иоанновной в Митаве. Пётр Михайлович получил от Верховного тайного совета специальное приглашение (повестку) на заседание 2 февраля. Как явствует из повестки, она за его отсутствием не была вручена ему лично, и о заседании он узнал от домовного (дворника).
А вот уже 6 февраля 1730 года старший Бестужев подписал так называемый проект птнадцати, в котором подписанты высказывали свои соображения о выборе законодательных и исполнительных органов России
[25]. Приход к власти Анны Иоанновны на первых порах для семейства Бестужевых не был связан ни с опалами, ни с награждениями.
Пост резидента, а потом чрезвычайного посланника в Гамбурге, полученный Бестужевым 1 февраля 1731 года — вероятно, не без содействия брата Михаила, чрезвычайного посланника в Пруссии, — был не самый важный дипломатический пост для России, и Бестужев-Рюмин снова нашёл себе занятие, позволившее ему оказать существенную услугу императрице Анне. По её поручению он съездил в Киль и отыскал там архивы голштинских герцогов, из которых извлёк документы, касавшиеся вопросов наследия русского престола, в частности, духовное завещание императрицы Екатерины I о претендентах на русский престол
[26]. Каким образом оно оказалось в архивах голштинских герцогов, можно было только догадываться. По всей видимости, они были выкрадены голштинцами, последнее время просто кишевшими при русском дворе, и увезены в Германию.
В 1733 году к Бестужеву в миссию явился бывший камер-паж мекленбургской герцогини Екатерины Ивановны Фёдор Иванович Красный-Милашевич. За какую-то вину он в своё время был мекленбургской герцогиней уволен и вернулся к отцу в Смоленскую губернию. Там он познакомился с местным губернатором князем Черкасским, жаловавшимся на Бирона за то, что тот сослал его в глухую губернию, и положительно высказывавшимся о голштинском принце Карле-Петре-Ульрихе. Губернатор уговорил Милашевича отправиться в Киль к принцу, засвидетельствовать там ему своё почтение и вручить письма от него и генерала Потёмкина (как выяснилось позже, письмо от Потёмкина было сфальсифицировано самим губернатором Черкасским, и генерал относительно планов Черкасского находился в полном неведении). Из писем этих русских великовозрастных «недорослей» голштинский принц-малолетка должен был понять, что в России в его пользу якобы существует сильная оппозиция.
Милашевич был явным авантюристом.
По пути в Киль он оба письма потерял (!), но решил исправить дело тем, что написал письмо герцогу Станиславу Лещинскому, бывшему польскому королю и одному из будущих претендентов на польский трон. Отчаявшись встретиться с герцогом, Милашевич заехал в Гамбург и явился пред светлые очи русского резидента А.П. Бестужева-Рюмина, которому и подал донос на губернатора Черкасского. Дело было серьёзное — ведь речь шла о том, чтобы возвести на трон голштинского принца. Принц в своё время станет законным наследником русского престола и несколько месяцев будет править Россией под именем Петра III, но это случится позже, в 1761 году, а сейчас говорить об этом было преступно и страшно. И Бестужев-Рюмин отправил донос и самого доносчика в Петербург — пусть там разбираются. Потом род Черкасских обвинял Алексея Петровича в том, что тот инициировал на них донос в государственной измене. Напрасно: инициатива исходила отнюдь не от него, а он только исполнил свой долг — ведь речь всё-таки шла о безопасности Российской империи, а игнорирование доноса Милашевича грозило бы ему самому крупными неприятностями.
Заговором с целью возведения на российский престол голштинского принца Карла-Петра-Ульриха занялась следственная комиссия в составе канцлера Г.И. Головкина, вице-канцлера А.И. Остермана, начальника Тайной канцелярии А.И. Ушакова (1672—1747)
[27], помощника Головкина П.П. Шафирова, Бахметева и самого А.П. Бестужева-Рюмина (его по этому делу именным приказом Анны Иоанновны вызвали в Петербург).
Мы не станем вдаваться в подробности этого расследования — заговор оказался блефом. В 1739 г. Милашевич был взят по другому делу и, приговорённый к смерти, сознался, что оклеветал Черкасского, который послал его в Голштинию, чтобы избавиться от Милашевича, ибо ревновал его к девице Корсак. Императрица Анна Иоанновна в полной мере оценила услугу гамбургского резидента и вознаградила его по-царски: Бестужев-Рюмин получил от неё 2000 рублей и красную ленту ордена Святого Александра Невского. С этого момента и Вирой, пренебрегая своим негативным отношением к Бестужеву-Рюмину-отцу, взял его младшего сына на заметку.
На исходе 1734 года Бестужева-Рюмина «по совместительству» с резидентством в Гамбурге опять назначили посланником в Данию, отозвав оттуда барона фон Бракеля и направив его в цесарскую Вену. Данию, как и Швецию, Франция усиленно втягивала в субсидийный антироссийский договор. Версаль желал, чтобы эти две скандинавские страны своими вооружёнными силами связывали Россию на северо-западе и мешали ей отвлекаться на центральноевропейские дела. Но Дания предпочла французским деньгам английские и в начале 1739 года подписала договор о субсидиях с Англией. Англия уже тогда предпочитала манипулировать европейскими событиями издалека и лучше других умела решать свои проблемы чужими руками.
В этой ситуации попытки А.П. Бестужева подтолкнуть Копенгаген к союзу с Петербургом успехом не увенчались.
«…Здесь более десяти французских партизанов против одного истинного патриота, которые не токмо к шведам, но и к туркам более, нежели к россиянам, склонны и всеми удобоумышленными способами домогаются оные мои инсинуации опровергать», — писал он Остерману в Петербург. «Инсинуации» посланника заключались в том, что Алексей Петрович, ввиду шведских вооружений, запугивал датчан свёртыванием русской торговли в Балтийском море и переносом её в Архангельск, что сильно ударило бы по сборам датской таможенной пошлины в проливе Эресунд (Зунд).
В мае 1736 года он, не без помощи Бирона, получил чин тайного, а по окончании командировки в Данию — действительного тайного советника. Это было уже существенным продвижением по петровской табели рангов. В последние годы он из Копенгагена и Гамбурга, помогая своему брату, занимался и шведскими делами. Он проработал в Гамбурге и Копенгагене вплоть до 1740 года, пока в Петербурге не началось следствие по делу А. Волынского.
Искусный интриган, не лишённый определённых административных и хозяйственных способностей, но довольно посредственная личность, Бирон был лишён широкого государственного кругозора, в том числе на внешнюю политику и очень тяготился своей зависимостью от всесильного и опытного вице-канцлера А.И. Остермана, державшего всю русскую дипломатию в своих руках. Попытки фаворита возвысить в противовес Остерману сперва П.И. Ягужинского, а потом А.П. Волынского не удались. Сам немец, не имея никакого официального титула или звания при дворе, ни точки опоры в своих действиях, но благодаря близости к телу императрицы получивший неограниченную власть, Бирон достаточно рано понял, что первоначальная ставка на вестфальского немца Остермана и молодого нахрапистого кабинет-министра Волынского была недостаточной. Обрусевший и набравшийся русского опыта, Остерман слишком очевидно превосходил его по всем статьям, а потому бывший конюх чувствовал себя рядом с ним довольно неуютно. В то же время не в меру заносчивый, амбициозный и слишком самостоятельный кабинет-министр А.П. Волынский быстро подчинил своей воле престарелого канцлера Алексея Михайловича Черкасского, подобно Микояну в советское время переходившего из одного режима власти в другой и везде считавшегося «подходящим», и стал в опасное противостояние к Остерману, что практически лишало Бирона всякой свободы действий. Более того, Волынский стал успешно завоёвывать доверие Анны Иоанновны и, кажется, был полон решимости оттеснить от кормила власти не только Остермана, но и самого Бирона. Пришлось Волынского убирать, устраивать над ним судебный процесс — руками русских же министров, естественно!
Артемий Петрович Волынский (1689—27.6.1740), человек не без способностей, но чрезвычайно самоуверенный, умело лавировал между Э.И. Бироном, А.И. Остерманом и Б.Х. Минихом. В начале 30-х годов он вместе со своими единомышленниками Ф.И. Соймоновым, П.М. Еропкиным, А.Ф. Хрущовым, В.Н. Татищевым (1686—1750), а также графом П.И. Мусиным-Пушкиным и князем А.Д. Кантемиром
[28] обсуждал устройство России, писал проекты реформ, знакомился с сочинениями иностранных авторов на эту тему. Он осуждал «верховников», пытавшихся ограничить самодержавие, предлагал перевести в дворянство священников, составил образовательную программу для молодых россиян, призывал дворян улучшить положение крепостных крестьян. В то же время Волынский критиковал правление Анны Иоанновны, резко отзывался о Бироне и пытался бороться с немецким засильем при дворе (что не мешало ему раболепствовать перед Бироном).
В 1740 году, будучи кабинет-министром, Волынский организовал в Ледяном дворце в Петербурге потешную свадьбу придворного шута князя М.А. Голицына
[29] с калмычкой-шутихой и вдовой Авдотьей Ивановной Бужениновой (1710—1742). В результате интриг Бирона и Остермана Волынский, ставший опасным для Бирона, должен был уйти со сцены. Предлогом для ареста, кроме писания «прожектов», послужило избиение поэта В. Тредиаковского в доме временщика. Кабинет-министр был подвергнут пыткам и обвинён в заговоре против самодержавной власти императрицы. Волынский всё отрицал, но суд, состоявший исключительно из русских сановников, его оправдания не принял и приговорил его к казни
[30].
Временщик, как мы уже сообщали, ещё до казни Волынского взял на заметку младшего Бестужева. Как человек, забравший в свои руки и внешнюю политику, Бирон иногда получал отчёты от посланника в Копенгагене и Гамбурге. Предполагая сыграть на тщеславии Алексея Петровича, Бирон решил его приблизить и сделать из него «карманного», послушного его воле кабинет-министра. Вероятно, временщик считал, что умный и честолюбивый русский вряд ли будет помнить зло, совершённое им по отношению к отцу, и даже наоборот, возможно оценит это как знак искреннего примирения с семейством Бестужевых-Рюминых. Младший Бестужев должен был стать противовесом как Остерману, так и непредсказуемому Волынскому и одновременно быть послушным орудием в руках фаворита.
Так или не так рассуждал временщик, но младший Бестужев, по всей видимости, понял, что представившуюся возможность упускать никоим образом нельзя, и воспринял внимание Бирона вполне прагматично. Он увидел в этом долгожданный шанс подняться наконец наверх. Последующие драматические события не дали возможности этим двум историческим персонажам в полной мере проявить свои способности по отношению друг к другу. Сблизившись, оба имели слишком много задних мыслей, чтобы сотрудничать искренно. Думается, рано или поздно их отношения закончились бы конфликтом. Как бы то ни было, близость к Бирону на первых порах принесла младшему Бестужеву, как и его отцу, гораздо больше неприятностей, чем пользы. Но уже будучи однажды вознесённым наверх, Бестужев будет подхвачен новым приливом общественной волны, так что покровительственное внимание Бирона в конечном счёте сыграло, на наш взгляд, решающую роль в его карьере. Таковы уж превратности судьбы тех, кто с риском для себя готов отправиться в опасное плавание по житейскому морю.
Прибыв в Петербург, Алексей Петрович успел приобщиться к конфискованной собственности казнённого Волынского. В дележе и покупке на торгах, согласно установленному порядку, приняли участие все: императрица взяла себе породистых ревельских коров, 4 попугаев, 4 кареты, 4 коляски и чан с 216 живыми стерлядями, зять Остермана Василий Стрешнев «отхватил» себе богатый казённый дом бывшего кабинет-министра, Миних — дачу близ Петергофа. Кто-то скупал одежду по дешёвке, кто — вина, кто — мебель. Преемник Волынского, только что прибывший из Копенгагена, как пишет Курукин, «обнаружил более высокие запросы: он вывез четыре больших зеркала в позолоченных рамах (за 122 рубля) и ещё два зеркала средних (за 30 рублей)».
К этому времени А.И. Остерман стал рассматриваться в качестве большой помехи не только Бироном, но и самой Анной Иоанновной — правда, по иным причинам. Намечалось сближение России с Англией, вызванное неблагоприятным для обеих стран развитием событий в Швеции. Стокгольм, подталкиваемый Парижем, стремился к военному реваншу и пересмотру Ништадтского мира 1721 года. Поэтому Лондон предложил Петербургу союз, но Андрей Иванович, несмотря на усердные старания английского посланника в Петербурге Эдварда Финча, тянул переговоры, явно уклоняясь от решительного шага. С прибытием Бестужева в Петербург и появлением слухов о его назначении новым кабинет-министром Финч воспрянул духом. По информации английского посла в Копенгагене Тидлея, Бестужев-Рюмин был положительно настроен в пользу англо-русского союза.
ВЗЛЁТ, ПАДЕНИЕ И СНОВА ВЗЛЁТ
В Петербурге накануне празднования Белградского мира появился странный француз итальянского происхождения — бывший посол Франции в Берлине, где он активно противодействовал интересам России. Он удивил всю столицу своим пышным въездом, но не имел с собою верительных грамот, хотя и называл себя послом. Звали француза Иоахимом-Жаком Тротти маркизом де ла Шетарди. Зачем приехал это лощёный, любезный и изворотливый, как уж, европеец? Никто не мог ответить на этот вопрос — даже умнейший и проницательнейший вице-канцлер России Андрей Иванович Остерман, заведовавший внешними делами империи.
Ответ содержался в записке о положении России, представленной Лалли, французским дипломатическим агентом Франции и современником Шетарди, главе внешнеполитического ведомства Франции кардиналу А.Э. де Флёри (1653—1743).
Лалли писал:
«Я не могу дать более простой и в то же время более верной идеи о России, как сравнив её с ребёнком, который оставался в утробе матери гораздо долее обыкновенного срока, рос там в продолжение нескольких лет и вышел, наконец, на свет, открывает глаза, протягивает руки и ноги, но не умеет ими пользоваться, чувствует свои силы, но не знает, какое из них сделать употребление. Нет ничего удивительного, что народ в таком состоянии допускает управлять собою первому встречному. Немцы (если можно так назвать сборище датчан, пруссаков, вестфальцев, голштинцев, ливонцев и курляндцев) были такими первыми встречными. Венский двор умел воспользоваться таким положением нации, и можно сказать, что он управлял петербургским двором с самого восшествия на престол нынешней царицы…» И в конце записки вывод:
«Россия подвержена столь быстрым и столь чрезвычайным поворотам, что выгоды Франции требуют необходимым иметь лицо, которое было бы готово извлечь из того выгоды для своего государства».
И этим лицом французский визави Остермана, кардинал Флёри, выбрал маркиза Шетарди. Именно Шетарди должен был освободить Россию из объятий Австрии. Россия, по мнению Версаля, стала играть в европейских делах слишком важное значение — пример решения польского вопроса, в котором Франция благодаря вмешательству России потерпела жестокое поражение, был перед глазами, и предоставить Австрии пользоваться великолепными русскими солдатами было бы просто грешно. Нужно, чтобы русские солдаты служили интересам Франции. В инструкции Шетарди так и было написано:
«Россия в отношении к равновесию на севере достигла слишком высокой степени могущества… и союз её с австрийским домом чрезвычайно опасен».
Инструкция давала знать, что всё, что делалось, например, французами в Швеции, было направлено на то, чтобы держать Россию под постоянной угрозой со стороны шведов и одновременно ослаблять участие России в союзе с Австрией. А далее прямо говорилось о том, как решить главную задачу, поставленную перед Шетарди: для этого нужно организовать в России государственный переворот. Ставка должна быть сделана на недовольство исконно русского дворянства иностранным засильем.
«Теперь король (Людовик XV. —
Б. Г.) не может иметь верных подробностей об этом положении, но, припоминая незначительность права, на основании которого герцогиня курляндская взошла на русский престол мимо принцессы Елизаветы и сына голштинской герцогини, трудно предполагать, чтоб за смертью царствующей государыни не последовали волнения». Маркизу предстояло изучить «подробности» положения России 1739 года, узнать о состоянии русских умов и положении русских фамилий, об их отношении к Елизавете Петровне, о значении голштинской партии, о настроениях в гвардии и армии, — одним словом, узнать всё, что необходимо было для организации переворота.
Вот какой человек появился в Петербурге в конце царствования Анны Иоанновны. Именно он должен был действовать в духе тех мечтаний и упований, которым в это время предавались также и в Швеции. Встаёт вопрос: если бы не было Шетарди, как сложилась бы карьера Бестужева-Рюмина-младшего? Видно, судьбой было предназначено сойтись этим двум людям в одно время и в одном месте.
Будущий соперник Шетарди А.П. Бестужев-Рюмин в чине тайного советника, полученного 25 марта 1740 года, появился в Петербурге в июле 1740 года. Царица Анна Иоанновна уже тяжело болела. Первое время ни Э.Й. Бирон, ни царица о причинах его вызова ничего не говорили. В воспоминаниях Иоахима-Жака Тротти маркиза де ла Шетарди на этот счёт содержится следующее объяснение: Бестужев, как и только что казнённый Волынский, пользовался репутацией человека честолюбивого, безудержно следующего своим влечениям, так что многие предсказывали ему столь же трагический конец, какой выпал на долю Артемия Петровича. Но Бирон якобы уже не хотел отказываться от своего выбора, потому что многим при дворе было уже известно, что Бестужев должен быть назначен новым кабинет-министром.
Ситуацию наверху довольно чётко уловил австрийский посланник Петцольд:
«…Ничего определительного невозможно предугадать, но во всяком случае верно, что развязка недалека. Прежде всего нет сомнения, что настоящими недоумениями воспользуется господин Бестужев и утвердится ещё больше в милости герцога…»
В это время на свет появился наследник престола царевич Иван Антонович (Иван VI
[31]) (1740—1764), сын брауншвейгского принца Антона-Ульриха (1714—1774) и дочери мекленбургской герцогини Екатерины Ивановны — Элизабет-Катрин-Кристины, позже крещённой в России и известной более под именем Анны Леопольдовны (1718—1746). Младенец только что народился, а вокруг него уже разгорелись страсти. Речь шла о том, кто после смерти императрицы станет править при малолетнем ребёнке: родители или Бирон.
Единой дружной «команды» вокруг умиравшей Анны Иоанновны не было: Бирон, как мы уже упоминали, враждовал с А.И. Остерманом, фельдмаршал Б.Х. Миних (1683—1767), вошедший в силу после войны с турками (1737—1739), находился в неприязненных отношениях с ними обоими и с принцем Антоном-Ульрихом тоже. Дипломаты А.П. Бестужев-Рюмин вместе с князем А.Б. Куракиным (1697—1749) и графом М.Г. Головкиным (1699—1755) ничего так не опасались, как усиления Остермана, давнего оппонента своей семьи. Однако никто из них не был достаточно силён, чтобы взять управление государством в свои руки, хотя все были едины в том мнении, что регентство родителей наследника было чревато опасными последствиями для России: оба родителя не обладали твёрдыми качествами правителей, и в дела государства мог вмешаться неуравновешенный отец Анны Леопольдовны, герцог Мекленбургский, изгнанный из своего герцогства за жестокое обращение со своими подданными императором Священной Римской империи. Всё это было чревато для России втягиванием её в совершенно излишние внутриевропейские свары и конфликты.
Но если не анемичная и безразличная к управлению страной Анна Леопольдовна и её тщеславный, но бездарный супруг принц Антон-Ульрих, то кто тогда? Коллективное регентство тоже было отвергнуто — ещё жив был перед глазами неудачный опыт кратковременного нахождения у власти Верховного тайного совета. Волей-неволей все должны были согласиться, что наименьшим злом станет регентство Э. Бирона. Русским часто приходилось (и до сих пор приходится) выбирать не между хорошим и плохим, а между плохим и наихудшим вариантом.
Официальное объявление о назначении Бестужева кабинет-министром было сделано 18 августа 1740 года, в день крестин царевича Ивана Антоновича. 9 сентября императрица возложила на него пожалованный польским королём Августом II орден Белого Орла. Было совершенно очевидно, что услуга младшего Бестужева-Рюмина по делу смоленского губернатора и внимание к нему фаворита перевесили нелояльное отношение к императрице его отца и сестры, и императрица на пороге своей смерти, наконец, по достоинству оценила Бестужева. Нового кабинет-министра фельдмаршал Миних сразу назвал душой, правда, не слишком честной, а Черкасского — телом кабинета.
Некоторые источники указывают, что пост кабинет-министра Бестужев якобы получил из рук Бирона уже после того, как он — Бестужев — помог стать тому регентом. На самом деле, как пишет Л. Левин и подтверждает целый ряд других источников, Бестужев «поспособствовал» временщику, уже будучи кабинет-министром:
«два кабинет-министра (князь Черкасский[32] и Бестужев-Рюмин) вместе с Минихом обратились к императрице с просьбой назначить Бирона регентом» малолетнего Ивана Антоновича.
Черкасский Алексей Михайлович (1680—1742), князь, 1715— 1719 гг. — обер-комиссар Петербурга, 1719—1724 гг. — губернатор Сибири, сенатор (1726), 1731—1741 гг. — кабинет-министр, 1740 г. — канцлер. Современниками, в частности иностранными послами, характеризовался вполне положительно: умён, честен, бескорыстен, благороден, но слегка ленив и нерешителен.
Многие историки почти единогласно обвиняют Бестужева в том, что он и только он способствовал избранию Бирона на пост регента при малолетнем царевиче Иоанне Антоновиче. На самом деле, как явствует, например, из исследований Е. Анисимова и других историков, новый кабинет-министр сделал в этом направлении не больше и не меньше других. Все вельможи и сановники, включая всесильного Миниха и пребывавшего «себе на уме» Остермана, кто искренно, а кто лицемерно, голосовали за этот выбор. Никто из правящей верхушки не имел смелости противостоять мощному напору курляндца, пользовавшегося к тому же безоглядной поддержкой государыни. Так что поддержка Бирона Бестужевым-Рюминым, как уверенно полагали современники и их потомки, на наш взгляд, не была решительной, ибо без поддержки «тяжеловеса» Миниха регентство временщика никогда бы не состоялось.
Но Бестужев-Рюмин несомненно сыграл в возвышении Бирона одну из активных ролей. Так он на самой ранней стадии дела приложил руку и к оговору Анны Леопольдовны перед своими коллегами-сановниками, выступив против назначения её регентшей при своём сыне.
«В ней подозревают характер мстительный и в значительной мере напоминающий капризы её отца», — сказал он. Вряд ли это и другие заявления нового кабинет-министра были искренними — он явно «отрабатывал» свой фавор у Бирона. Анна Леопольдовна была существом добрым, милосердным и отнюдь не мстительным, в чём мы убедимся, когда увидим самого Бестужева в тюрьме. Не подтвердились и прогнозы Бестужева относительно неспособности Анны Леопольдовны управлять государством и опасения, что Россия при ней подпадёт под влияние венского двора. С помощью вице-канцлера и великого адмирала А.И. Остермана правительница, не хватая звёзд с неба, справлялась со своими обязанностями вполне сносно.
Н.И. Павленко следующим образом описывает события, связанные с назначением (выбором) Бирона регентом.
Анна Иоанновна лежала в Летнем дворце в обмороке, когда Бирон вызвал туда графа обер-шталмейстера Р.-Г. Левенвольде (1693—1758)
[33].
— Что делать? — был первый вопрос Бирона к Левенвольде.
— Надобно послать за министрами, — ответил граф. Он, как и Бирон, был немцем, а для обсуждения такого важного дела нужно было для проформы пригласить русских.
Послали за кабинет-министрами Черкасским и Бестужевым-Рюминым, а вслед за ними появились ещё два немца — фельдмаршал Миних и его родственник, президент Коммерц-коллегии барон К.-Л. фон Менгден (1706—1760)
[34]. Бирон обратился к собравшимся с речью и спросил, как им поступать.
— Что последует со мною по кончине её? — Временщик показал рукой на покои, в которых лежала умирающая императрица.
Ответ на вопрос был очевиден: слишком многим временщик был ненавистен, чтобы надеяться на благоприятный для него поворот событий. Но собравшиеся молчали. И тогда Бирон сам ответил на этот вопрос, давая понять, что ничего хорошего его в будущем не ожидает. Далее он нарисовал мрачную картину междуцарствия, которая могла последовать за смертью Анны Иоанновны, и произнёс слова о том, что стране нужен человек, способный преодолеть этот кризис. Он назвал две кандидатуры — родителей Ивана VI, но тут же отверг их как абсолютно непригодные по причинам, нами уже вышеупомянутым.
Вельможи выслушали все рассуждения временщика опять молча. Им было пока не совсем ясно, куда тот клонил дело. Решили посоветоваться с Оракулом — Остерманом, сказавшимся в это время больным, как это было при каждом дворцовом или правительственном кризисе, и сидевшим дома. К вице-канцлеру поехали его коллеги князь A.M. Черкасский и А.П. Бестужев-Рюмин. И тут, сидя в карете по пути к дому Остермана, князь Черкасский, по характеристике герцога Лирийского, человек умный, благородный и образованный
«лучше многих своих соотчичей, отличавшийся бескорыстием… но робкий и нерешительный», как бы про себя произнёс роковые слова:
— Больше некому быть, кроме герцога Курляндского, по тому что он в русских делах искусен.
Это было созвучно с древнерусской легендой о том, как приглашали на Русь княжить варяга Рюрика: приходи к нам княжить, дорогой варяг, потому как сами мы с княжеством управиться не умеем! Впрочем, на Руси часто в самый нужный момент подходящего человека на роль руководителя страной не оказывалось. Так было и в данном случае: кто мог бы составить конкуренцию Бирону? Ещё один немец — Остерман, Миних или какой-нибудь Левенвольде? Среди русских, говоря словами песни В. Высоцкого, настоящих вожаков, к сожалению, не было.
Приехав к Остерману, Черкасский и Бестужев поняли, что тот не был расположен сразу передать всю полноту власти своему сопернику Бирону. Остерман согласился сочинить манифест об объявлении Ивана Антоновича наследником престола, а относительно регентства над ним дипломатично изрёк:
— Торопиться не надо, надобно подумать.
И предложил пока назначить правительницей Анну Леопольдовну, а при ней учинить регентский союз, включив в него и Бирона.
С тем кабинет-министры возвратились обратно в Летний дворец к Бирону. Там их ждали Миних и Левенвольде, а также подъехавшие позже генерал Ушаков, адмирал Н.Ф. Головин (бывший посол в Швеции), обер-шталмейстер А.Б. Куракин
[35], генерал-прокурор Сената князь Трубецкой, генерал-поручик Салтыков и гофмаршал Шепелев. Кабинет-министры передали ответ Остермана. Заметим, что мнение вице-канцлера было вполне резонно — так, к примеру, всегда поступали в Швеции и других странах Европы при малолетних наследниках трона.
— Какой тут совет? — вскричал раздражённо временщик. — Сколько голов, столько разных мнений будет!
И тут якобы выступил вперёд Бестужев-Рюмин и озвучил слова Черкасского, сказанные в карете:
— Кроме вашей светлости, некому быть регентом.
«Предложение вызвало у присутствовавших страх, ибо
все понимали, что оно незаконно, что они подвергают себя немалой опасности», — пишет Павленко. Насчёт законности или незаконности можно с нашим маститым историком поспорить, но факт тот, что в числе вольных и невольных пособников Бирона, кроме нашего героя, выступили и фельдмаршал Миних, и кабинет-министр Черкасский, и державшийся в тени вице-канцлер Остерман. Конечно, почуяв «попутный ветер в парусах», Бестужев-Рюмин, только что принятый в круг избранных, проявил особое усердие.
Бестужев, по мнению Павленко, всё-таки после своих слов почувствовал некоторую неловкость и решил смягчить их рассуждением о том, что в других странах отец и мать несовершеннолетнего наследника трона всё-таки обычно включаются в состав регентского совета.
В зале снова повисла тишина.
Тогда снова выступил Бирон и рассказал о том, как он предлагал императрице сделать наследницей престола её племянницу Анну Леопольдовну, но та не согласилась и настояла на том, чтобы престол наследовал её внук Иван Антонович. Этот вопрос к этому времени был уже решён, соответствующий манифест был продиктован Остерманом кабинет-секретарю Андрею Яковлеву, подписан умирающей императрицей и 6 октября опубликован для ознакомления народа.
Стали вновь совещаться, но неожиданно каждый из присутствовавших стал высказывать самые подобострастные чувства к временщику — видно, слова Бестужева-Рюмина оказались заразительными. Тот лицемерно благодарил их за дружеское расположение, тем более высказанное чужестранцу, но сказал, что он вряд ли годится на роль регента, ибо осведомлён о слухах, согласно которым ему рекомендовалось вернуться в своё Курляндское герцогство и
«жить там в тишине и спокойствии». Словом, временщик вёл себя согласно классическим канонам всех выскочек, перед которыми вдруг открывается головокружительный путь к неограниченной власти. Нужно было соблюсти декорум скромности и сдержанности, чтобы не прослыть потом узурпатором.
— Впрочем, если что-нибудь может преклонить меня к восприятию тяжкого бремени, вами предлагаемого, — продолжал витийствовать Бирон на родном немецком языке, — то единственное чувство глубочайшей благодарности к благодеяниям, излиянным на меня императрицей, и пламенное усердие моё к благоденствию и славе России.
Так написано в воспоминаниях хорошо информированного, но не всегда объективного Миниха-младшего
[36], ибо эпизод этот основан на рассказе отца — рассказе, в котором фельдмаршал вообще не упоминает о своей роли в назначении Бирона регентом. А между тем есть сведения о том, что Миних чуть ли не на коленях умолял Бирона принять сделанное ему предложение о регентстве.
…Далее Бирон заявил, что для утверждения его кандидатуры желательно получить одобрение более широкого круга
«первейших государственных чинов». Было решено созвать 40—50 важнейших сановников страны, которые своей подписью должны были скрепить обращение к императрице о назначении регентом Бирона. Созвать это собрание взялся Бестужев-Рюмин. Оно состоялось на следующий день, причём, как пишет Павленко, на собрание пригласили только тех придворных, генералов и сенаторов, в поддержке которых Бирон мог быть уверен. О своей безоговорочной поддержке временщика поспешил высказаться и «больной» Остерман.
После того как просьба была подписана членами собрания, было решено обратиться за согласием к Анне Леопольдовне. Та ответила, что во всём покоряется воле своей тётушки — как та решит, так и будет. Пришедшая в себя Анна Иоанновна, вопреки ожиданиям, подписать акт о назначении регентом Бирона сначала отказалась. Свой отказ она мотивировала тем, что, во-первых, она ещё жива и была уверена в своём скорейшем выздоровлении (будто такие манифесты могли подписывать только усопшие императрицы), а во-вторых, она не желала ни с кем делиться царскими почестями: не исключено, что привыкшие низкопоклонничать русские вельможи могли при живой императрице угождать её племяннице Анне Леопольдовне, а с этим Анна Иоанновна примириться никак не могла. Романовы умели держаться за власть до последнего — за исключением, может быть, последнего Романова.
Документ, авторство которого приписывают то Бестужеву, то коллективу Миних-Бестужев-Черкасский-Трубецкой плюс секретарь К.Г. Бреверн, то опять же Остерману, больная императрица 6 октября положила под подушку. Молниеносный план провозглашения фаворита регентом, так ловко придуманный им и его клевретами, с треском провалился, пишет Анисимов:
«Царская подушка, которая так много помогала Бирону в жизни, вдруг стала серьёзным препятствием на его пути к власти».
Императрица после приступа мочекаменной болезни временно почувствовала себя лучше и важное решение пока отложила. В стране присягали малолетнему Ивану Антоновичу, но вопрос о регенте над ним оставался открытым. В это «патовое» время Бирон, вместе с женой не отходя от постели императрицы и никого не допуская к ней, проявлял сильную нервозность. Впрочем, через несколько дней ему стало ясно, что улучшение состояния Анны Иоанновны было временным, и после 11 октября врачи вынесли ей окончательный приговор, дав ей несколько дней жизни.
Павленко пишет, что Бестужев-Рюмин снова проявил усердие и организовал от вельмож челобитные с просьбой назначить Бирона регентом. Анисимов указывает, что челобитную подписали чиновники 1-го и 2-го классов, и Трубецкой отдал её Бирону. С этого момента, пишет историк, документ исчезает из нашего поля зрения. По всей видимости, Бирон посчитал действия сановников малоубедительными и решил прорваться к власти силой. Он знал, что «челобитчики» признают его регентом в любом случае — согласится ли с его назначением умирающая царица или нет. И сгруппировавшаяся вокруг него верхушка или, по меткому выражению английского посла Э. Финча, «хунта» собрала более солидную группу сановников и военных — около 190—195 человек — и заставила их подписать «добровольное обязательство» содействовать назначению Бирона в регенты. По словам Бирона, Бестужев-Рюмин говорил так своему патрону:
«Ежели-де Ея императорское величество оное (завещание. —
Е. А.) не подпишет, то оное дело уже совсем от всех классов даже до капитанов-лейтенантов от гвардии апробовано». Бирон предупредил Бестужева, чтобы всё это не стало известным Анне Леопольдовне и принцу Антону.
Но возня вокруг сбора подписей всё-таки дошла до родительской пары, и тогда на них были направлены всё те же «активисты» — Миних, Черкасский и Бестужев. Они добились согласия Анны Леопольдовны на избрание регентом Бирона. Как это случилось, история пока умалчивает. Правда, пишет Анисимов, в какой-то момент из Акта о назначении регента выпал пункт о единоличном воспитании малолетнего принца временщиком, без участия его родителей. Было ли это платой за согласие матери Ивана Антоновича, сказать трудно. Скорее всего, так оно и было: на сговорчивость Анны Леопольдовны будущий регент милостиво ответил согласием не разлучать её с ребёнком.
А 16 октября Бирон бросился на колени перед своей умиравшей благодетельницей и стал умолять её подписать Акт. В уговорах принял участие «выздоровевший» вдруг Андрей Иванович Остерман. Вдвоём им удалось убедить умиравшую императрицу в необходимости подписать документ. И Анна Иоанновна сдалась и подписала. Дальше документ был спрятан в шкатулке то ли женой Бирона, то ли придворной дамой подполковницей А.Ф. Юшковой.
Последним словом императрицы на этом свете было примечательное слово:
«Не бойсь![37]» Относилось ли оно к русскому народу, к Бирону или ещё к кому (чему), узнать теперь не дано. Спальню умершей Анны Иоанновны вошедшие сановники хотели было опечатать, но Бирон и Бестужев-Рюмин стали настаивать на том, чтобы сначала огласили «бумагу» — а то вдруг она запропастится! Когда «бумагу» открыли, она оказалась помеченной рукой умершей 6 октября… Ещё одна тайна: то ли свидетельство политического жульничества Бирона и его «хунты», то ли непредсказуемость поведения Анны Иоанновны, вдруг передумавшей и приказавшей достать бумагу из-под подушки в тот же день, как её подали.
Как бы то ни было, Трубецкой зачитал присутствовавшим содержание «бумаги».
Когда Бестужев-Рюмин некоторое время спустя будет вместе с Бироном арестован и ему предъявят соответствующее обвинение, то в тексте обвинения (пункт 7), пишет Анисимов, окажется разительная вещь: Акт о регентстве был переписан набело 7 октября, но датирован он был 6 октября, а подписан… 16 октября. Одновременно был заготовлен дубликат Акта без даты, оставшийся не подписанным и «оставшимся без действия». Обвинение, видимо, справедливо полагало, что это
«в запас было сделано… ежели б Ея императорское величество не изволила б 6-м числом подписать, а повелела число поставить тогда, как апробовать соизволила, то можно б было то число вписать…».
По версии обвинения, Бестужев, обнаружив, что Акт был «апробован» лишь 16 октября, а проставленная на нём дата гласила «6 октября», неделю спустя сделал подлог, записав в своё и Бироново оправдание, что дату «6 октября» следует предать забвению, а везде объявить фактическую дату подписания. Что имелось в виду под словами «предать забвению», ни Бестужев, ни следствие не объяснило.
Итак, существует сильное подозрение в том, что при назначении Бирона регентом произошёл грубый подлог. Новая власть, олицетворённая в Анне Леопольдовне и в знакомых нам членах «хунты», исключая арестованного Бестужева, интереса к расследованию дела по понятным причинам не проявила. Свершилось то, чего так сильно желали при русском дворе немцы и о чём в октябре 1740 года витиевато написал в Париж Шетарди:
«…Здешний народ близится к моменту освобождения от ига иностранного министерства, чтобы подчиниться господству иностранной династии».
19 октября 1740 года Бирон вступил в свои права регента над наследником русского трона и в ближайшие 17 лет должен был безгранично и единолично править Россией. Сын конюха или мелкого дворянина, получивший это право исключительно через доступ в постель к овдовевшей в первые же дни замужества Анне Иоанновне, стал повелителем крупнейшей в мире империи! Его официальный титул теперь гласил: светлейший герцог Курляндский, Лифляндский и Семигальский.
* * *
За помощь в возведении Бирона в регенты Бестужев-Рюмин получил награду деньгами в сумме 50 тысяч рублей. На заседаниях Сената временщик являлся в сопровождении двух кабинет-министров: Бестужева-Рюмина и Черкасского.
Одним из первых дел Бестужева-Рюмина как кабинет-министра было предложение ускорить переговоры с англичанами, и Финч немедленно установил с ним контакт. На этой почве у Алексея Петровича сразу начались столкновения с Остерманом, который, несмотря ни на что, добился того, чтобы продолжение переговоров с Финчем было снова поручено одному ему. В колоде Бирона карта напористого кабинет-министра Бестужева-Рюмина оказалась слабее козырей хитрого и многоопытного царедворца вице-канцлера Остермана. Да и кабинет-министром Алексей Петрович был ещё не опытным.
Регентство Бирона между тем сразу вызвало недовольство не только в кругах, близких к Анне Леопольдовне и принцу Антону-Ульриху, но и в гвардии и армии. Бирон дал указание произвести аресты некоторых офицеров и чиновников, попытавшихся было вступить в сговор с Антоном-Ульрихом, и Бестужев-Рюмин усердно помогал ему в этом. Историки сообщают, что зачинщиков заговора, Преображенских сержантов Алфимова и Ханыкова, выдал конногвардеец Камынин
[38]: он донёс о них Бестужеву-Рюмину, а тот — Бирону.
Факт, конечно, неприятный и никоим образом не украшающий нашего героя. Но с другой стороны, чисто формальной, Алексей Петрович действовал в предупреждение заговора против законно выбранного регента и, как кабинет-министр, всего лишь выполнял свой долг. Вознесённый наверх волей Бирона, он был должен держаться за него обеими руками.
Вместе с Бестужевым-Рюминым
усердствовал и другой кабинет-министр — Алексей Михайлович Черкасский, который, как мы помним, первым подал идею о регентстве Бирона. Черкасский, получив информацию о «непозволительных речах» о временщике, вышедших из уст служащего ревизион-коллегии подполковника Пустошкина, тоже пошёл к Бирону и сделал на него донос. Не самым лучшим образом повёл себя при этом и сын знаменитого канцлера Петра I граф М.Г. Головкин. Все ненавидели и презирали Бирона, но все его боялись и усердно исполняли его приказы.
Всех недовольных и ропщущих арестовали и подвергли пыткам, чтобы выявить сообщников. Принц Брауншвейгский подвергся грубым преследованиям со стороны Бирона, был лишён всех воинских званий и посажен под домашний арест. Бирон начал третировать родителей наследника престола и угрожать им заменить царевича Ивана Антоновича другим, голштинским наследником или, как его прозвала почившая в Бозе Анна Иоанновна, «чёртушкой», а то и собственной персоной.
Оправдывая действия Бирона в отношении принца Антона Ульриха, А.П. Бестужев в беседе с Й.С. Петцольдом говорил, что принц напрасно надеялся на помощь венского двора. Все его друзья и сторонники окончательно устранены,
«и вообще можно сказать, наше дело твёрдо». С принцем, по его словам, поступили не так уж и жёстко — могло быть хуже:
«Он отец императора, но вместе с тем и его подданный. Пётр I подал пример, что вправе сделать отец против бунтующего сына, то же и наоборот и совершенно логично прилагается и к настоящему случаю…»
И далее Бестужев продолжал:
«…Я рисковал головою и не имел ни минуты покоя в первые три дня после кончины императрицы, потому что я русский народ знаю: по первому толчку он в состоянии что-нибудь предпринять, но потом… переходит к совершенному послушанию. Вот почему ещё при жизни императрицы я изготовил манифест о регентстве… и сейчас же можно было приводить к присяге, прежде чем беспокойные головы имели время что-нибудь затеять. Если посудить, как велико само по себе это событие и как значительно народонаселение столицы, то нечего удивляться, что нашлось несколько недовольных; надобно удивляться одному, что не оказалось их более. Теперь для общего единения остаётся делать одно: награждать благонамеренных и строго наказывать тех, в которых будет замечено дурное направление».
Вряд ли эти слова были произнесены от сердца. Вряд ли Бестужев плохо знал русский народ — он просто лукавил или льстил себе надеждой. Недовольных избранием Бирона было слишком много, и последующие события опровергли оценку кабинет-министра: сначала обескураженный русский народ «перешёл к послушанию», а потом стал резко высказываться против временщика. А поведение Бестужева перед иностранным дипломатом вполне понятно: раз сел в одну лодку с Бироном, греби и спасайся вместе с ним!
«Бестужев думал или, по крайней мере, хотел заставить думать, что опасность для Бирона прошла, потому что первая вспышка неудовольствия была потушена в самом начале, — справедливо замечает Соловьёв. —
Вспышка была потушена, потому что недовольные не нашли себе вождей, но недовольных оставалось очень много, недовольно было всё общество, весь народ».
По всей видимости, в этот период ни одно решение регента не принималось без совета с Бестужевым-Рюминым, включая громкие манифесты о прощении неуплаченных недоимок, широкой амнистии ссыльным и осуждённым, о запрете роскоши для дворян и о попечении армейских рядовых.
В России на какое-то время воцарилась тишина. Казалось, что регент справился с ситуацией, и можно было торжествовать победу. Тем не менее судьба регентства была обречена, потому что самый сильный и властный, а возможно, и самый тщеславный человек в империи, фельдмаршал Миних, слово и вес которого в значительной степени определили это регентство, почувствовал себя оттеснённым от кормила власти регентом и его братьями, а потому и оскорблённым. Этот немец явно рассчитывал занять при Анне Леопольдовне первое место в государстве.
29 августа 1740 года был днём тезоименитства принца Иоанна Антоновича. Тезоименитство праздновалось тогда не менее пышно, чем день рождения, но вот бедному принцу и тут не повезло: его тезоименитство совпало с тезоименитством покойного прадеда и соправителя Петра I — царя Ивана Алексеевича. Возникла проблема: которую дату следовало отмечать? В решении этой «головоломки» вместе с Оракулом-Остерманом и Минихом принимал участие и кабинет-министр Бестужев-Рюмин. Троица решила передвинуть поминовение царя Ивана Алексеевича на 28 августа, но праздник тезоименитства живого наследника трона Иоанна Антоновича всё равно был «смазан». Как пишет Кургатников, никто не был приглашён во дворец, ни музыки, ни веселья, ни банкета устроено не было.
А Миних не чувствовал себя в безопасности: рано или поздно подозрительный и мнительный Бирон уберёт его со своего пути. Фельдмаршал каждый день ожидал ареста и однажды, получив согласие Анны Леопольдовны, решил действовать на упреждение. В ночь с 8 на 9 ноября 1741 года с горстью верных офицеров и солдат он арестовал Бирона и осуществил государственный переворот в пользу Анны Леопольдовны. Гвардия уже кипела ненавистью к Бирону, и ей требовался лишь предводитель.
Парадокс: немцы у кормила власти, как и русские, тоже были разъединены и не представляли одной сплочённой партии. (Вероятно, так на них действовал русский климат.) Такое положение и позволило Миниху осуществить молниеносный, буквально импровизированный на ходу, бескровный государственный переворот. Немец Миних спас Россию от злого и надменного немца-временщика, в то время как русские «знатные персоны» только шушукались по углам и бросали на Бирона испуганные, затравленные взгляды.
В ту же ночь адъютантом Миниха Кёнигсфельсом был арестован Бестужев-Рюмин, которого вместе с одним из сыновей Бирона до начала следствия отвезли в Ивангород. Современник Бестужева, товарищ генерал-полицеймейстера Я.П. Шаховской, вспоминает в своих записках, как он в этот день был разбужен полицейским офицером и получил весть о том,
«что во дворец теперь множество людей съезжаются, гвардии полки туда же идут и что принцесса Анна, мать малолетнего наследника, приняла правление государственное, а регент герцог Бирон со своею фамилиею[39] и кабинет-министр граф Бестужев взяты фельдмаршалом Минихом под караул и в особливых местах порознь посажены».
Арест для кабинет-министра Бестужева-Рюмина был столь неожиданным, что во время ареста он подумал, что это делалось по приказу Бирона, а потому задал Кёнигсфельсу недоуменный вопрос:
«Что за причина немилости регента?» Бестужев был не одинок в своём неведении: князь Черкасский 9 ноября, когда Бирон уже несколько часов сидел в Шлиссельбургской крепости, пытался пробиться в его апартаменты и получить аудиенцию.
В начале декабря бывшего кабинет-министра перевели вместе с семьёй в Копорье, а потом в Шлиссельбургскую крепость. Там его с 13 декабря начал допрашивать бывший «коллега» Ушаков, добиваясь от узника самооговора. Ему предъявили обвинение в государственной измене, а также в том, что он способствовал назначению Бирона регентом. Ему грозила смертная казнь. Обвинение было, конечно, несправедливым в том смысле, что Бестужев поставил свою подпись под соответствующим прошением умирающей Анне Иоанновне вместе с другими двенадцатью сановниками и министрами, которых после переворота не только не наказали, но простили, наградили орденами и приставили к высоким должностям (Миних, Черкасский, Трубецкой, Ушаков и др.). По некоторым сведениям, виноват в подобной интерпретации роли Бестужева был Б.Х. Миних, решивший сделать козлом отпущения одного Бестужева. Английский посол Э. Финч сразу уловил это несоответствие и 3/14 марта 1741 года доложил об этом в Лондон статс-секретарю Форин Офис Р. Уолполу, лорду У.С. Харрингтону (1683—1756):
«Русские люди не могут примириться с мыслью, что его (Бестужева. —
Б. Г.) выделили из толпы лиц, участвовавших в установлении регентства герцога Курляндского, и возложили на него ответственность за дело, которое…он задумал не один. Тем не менее на прошлой неделе Бестужева привозили в тюрьму бывшего регента на очную с ним ставку в присутствии комиссаров… Между ними находился знаменитый Яковлев[40], бывший секретарь кабинета,
когда-то заключённый, битый кнутом и избежавший казни только потому, что регентство не просуществовало лишнюю неделю…»
Е. Анисимову удалось отыскать любопытные документы следствия, предпринятого Тайной канцелярией, начатого весной 1741 года, из которых явствует, что под прицелом следователей оказались и другие члены «хунты», благополучно сохранившие свои места после переворота. Историк предполагает, что материалы для расследования, вероятно, дали Бирон и Бестужев. Материалы были оформлены в виде «экстрактов» на Миниха, Черкасского, Левенвольде, Ушакова, Куракина, Головина, Трубецкого, Менгдена, Бреверна, И. Альбрехта и др.
24 апреля от имени младенца-императора всем этим лицам зачитали указ под названием «Объявление прощения», в котором содержались обвинения в том, что они, способствуя продвижению Бирона на должность регента, действовали
«противно должности своей и присяги». Особая «оплеуха» предназначалась Миниху, самому активному из пособников Бирона, возмечтавшему о должности генералиссимуса, которая, согласно предписанию Петра Великого, могла заниматься только принцами или коронованными особами. В конце текста указа говорилось, что, вопреки перечисленным преступлениям, эти лица получали прощение. Фактически указ, содержавший «компромат», предупреждал всех этих сановников, чтобы они сидели тихо и не «высовывались». На Бестужева же указ не распространили.
Примечательно, что имя вице-канцлера Остермана в «Особом прощении» отсутствовало, что свидетельствовало о том, что инициатором расследования и автором указа был именно он. Он получил наконец-то шанс безраздельно править страной. Он вошёл в доверие к Анне Леопольдовне и принцу Антону-Ульриху и держал всех своих соперников одних — в тюрьме, других — на крючке и реализовывал этот шанс с присущими ему энергией, «тонким подходом» и коварством.
Против Бестужева было только то, что он написал проект указа о регентстве Бирона, что он якобы на совещаниях по этому вопросу больше всех говорил и выступал в пользу Бирона и что он получил от Бирона в подарок конфискованный у казнённого А.П. Волынского дом. Последний пункт был, конечно, самым отягчающим положение Бестужева.
«Судьба, видимо, преследовала этого человека, видимо, смеялась над ним жестокою насмешкою, — писал Соловьёв. —
После стольких усилий, хлопот пробился он, наконец, вперёд, для того, чтоб, заплативши за кратковременную честь страшным беспокойством, бессонными ночами, попасть из кабинет-министров под арест и ожидать самого печального решения своей участи».
Правда, в самом начале блеснула искра надежды: Кёнигсфельс дважды приезжал к супруге Алексея Петровича и спрашивал её, не хотела ли бы она следовать за мужем и сыном в ссылку. Анна Ивановна ответила утвердительно, а адъютант Миниха утешал её и говорил, что его начальник клянётся и божится, что будет её мужу истинным другом. К самому Бестужеву явился другой адъютант Миниха, полковник Х.Г. Ман-штейн
[41], и тоже объявил, что Анна Леопольдовна приказала сослать его в недалёкую ссылку. Бестужев изъявил желание увидеться с Минихом, но Манштейн ответил, что тому недосуг. Бестужев попросил Манштейна передать Миниху просьбу, чтоб тот его не оставил в беде.
Главенствующий после Ушакова на допросах и пострадавший от Бирона А. Яковлев проводил следствие жёстко, последовательно и дотошно. Э. Финч пишет, что Бестужев сознался на следствии, что его подпись под документом, в котором была сформулирована коллективная рекомендация Анне Иоанновне назначить Бирона регентом малолетнего Ивана Антоновича, была подложна и сделана не по его совету. Признал он и другие «вины», сломленный угрозами и замученный тюрьмой.
Обвинение бывшему кабинет-министру составили достаточно нелепое, оно включало теперь в себя следующие пункты: а) находясь в Копенгагене, он имел переписку с Бироном, а по приезде в Петербург ходатайствовал через временщика о получении «кавалерии Александра Невского» и об увеличении жалованья; вернувшись в Данию, получил стараниями Бирона ранг тайного советника и обещание назначить кабинет-министром; б) предпринимал усилия о получении у датского двора для Бирона княжеского титула; в) производство в кабинет-министры по приезде из Копенгагена в Петербург; г) услуга по предоставлению Бирону регентства. К делу можно было «пришить» лишь последний пункт, остальные были просто надуманы: по ним можно было осудить несколько десятков здравствовавших сановников и министров.
Бестужев яростно защищался, он решительно отмежевался от Бирона, и его первые показания были полны резких обвинений в адрес герцога-временщика. Однако, если верить сохранившейся записке Бирона, во время очной ставки с ним Бестужев просил прощения у него за клевету и наветы, которые возводил на него по наущению Миниха, поддавшись уверениям фельдмаршала в том, что только таким путём он спасёт себя и свою семью.
«Несправедливо обвинил я герцога, — сказал Бестужев, увидев в камере Бирона, —
прошу господ кригс-комиссаров взнесть слова мои в протокол: торжественно объявляю, что одни только угрозы, жестокое обращение со мной и обещание свободы фельдмаршалом Минихом, если я буду лжесвидетельствовать, могли исхитить гнусную клевету, от которой ныне отказываюсь». Кригс-комиссары попытались запутать его, но Бестужев оправдался. И Бирон, и Бестужев единодушно показывали, что главную роль в назначении Бирона регентом играл Миних, что, впрочем, соответствовало действительности.
Скоро Миниха из состава следственной комиссии исключили, и Алексей Петрович признался, что без этой меры он никогда бы не смог говорить на следствии правду. Очевидно, что всесильный фельдмаршал оказывал на ход следствия решающее значение и запугивал Бестужева тяжкими бедами, если тот будет давать неугодные ему показания. Следствие всё-таки выявило, что в установлении регентства Бирона Миних сыграл большую роль, нежели кто иной из сановников, но, как утверждал принц Брауншвейгский, следственная комиссия взяла в своих обвинениях Бестужева и Бирона такой резкий тон и зашла так далеко, что о вынесении им мягкого приговора не могло быть и речи. В одном из обвинений, предъявленных Бирону, говорилось:
«Вы Бестужева всегда фаворитом имели и в Кабинет министров ввели с великим презрением и поношением прежних министров». По всей видимости, в виду имелись отставленный от должности Остерман и казнённый Волынский.
17 (по другим данным, 27) января 1741 года так называемая Генералитетская комиссия в составе графа Чернышева, Хрущова, Лопухина, Бахметева, Новосильцева, Яковлева, Квашнина-Самарина и Соковнина приговорила Бестужева-Рюмина к четвертованию. Привлечённые же к делу Бирона фельдмаршал граф Миних, канцлер и кабинет-министр князь Черкасский, шеф Тайной канцелярии генерал Ушаков, обер-шталмейстер князь Куракин, адмирал граф Головин, генерал-прокурор князь Трубецкой, обер-маршал Левенволь-де, тайные советники бароны фон Менгден и фон Бреверн и генерал-майор Альбрехт 24 апреля 1740 года от имени малолетнего Ивана Антоновича получили, как уже упоминалось выше, помилование. К каждому из помилованных можно было бы применить все или часть пунктов обвинения, предъявленных А.П. Бестужеву-Рюмину, но не применили.
Три долгих месяца, изо дня в день, ждал Бестужев-Рюмин приведения приговора в исполнение. Состояние, в котором он пребывал всё это время, может описать лишь тот, кто сам его пережил. Алексей Петрович, судя по всему, перенёс все тяготы стойко и мужественно, и никаких воспоминаний на это счёт после себя не оставил. Только в апреле ему объявили о помиловании, но лишили всех чинов, должностей, отобрали всю кавалерию
[42] и всю недвижимость. «Мстительная» правительница Анна Леопольдовна пожаловала ему, однако, на пропитание деревню в Белозерском уезде в 500 крепостных душ
[43], куда за ним последовали жена и дети. Приказано было жить в деревне безвыездно,
«смирно, ничего не предпринимая» и в дела жены или отца не вмешиваясь. Д.Н. Бантыш-Каменский утверждает, что из Шлиссельбургской крепости Бестужева «вытащили» именно князь Трубецкой и граф М.Г. Головкин.
Ссылка, однако, была непродолжительной. Слишком пристрастное отношение суда к бывшему кабинет-министру было всем, в том числе и властям, очевидно. Уже 17 октября того же года Бестужев-Рюмин неожиданно для всех появился в Петербурге и первый свой визит нанёс австрийскому министру маркизу де Ботта. Он был снова необходим тем, кто, после падения Миниха боролся с влиянием Остермана и принца Антона-Ульриха — например, вице-канцлеру по внутренним делам графу М.Г. Головкину и генерал-прокурору сената князю Н.Ю. Трубецкому (1699—1763). Эти лица вместе с новгородским архиепископом Амвросием Юшкевичем склонили Анну Леопольдовну к тому, чтобы снова призвать Бестужева к делам государства. Это решение правительница приняла втайне от своего супруга принца Антона, так что хитроумный и вездесущий Остерман был застигнут этим решением врасплох и воспрепятствовать возвращению Бестужева из ссылки не мог.
Но торжество Алексея Петровича было неполным: в чинах и должности кабинет-министра его пока не восстановили.
Интересно отметить, что некоторые иностранные дипломаты (например, проницательный и умный Финч) считали, что Бестужева поддержала русская национальная партия, выступавшая за возвращение России к допетровским временам и за усиление роли Сената (правительства) за счёт царской власти. Душой и тайным руководителем этой партии считали почему-то австрийского посланника в России в 1738—1742 гг. маркиза д'Адорно Антонио Отто де Ботта (1688—1745), в то время как К. Валишевский утверждает, что главой этой партии считал себя А.П. Бестужев-Рюмин.
Остерман и принц Брауншвейгский Антон напрасно опасались Бестужева: никакой должности ни в Сенате, ни при дворе он не получил, из-за чего, по мнению многих историков, разлад в правительстве ещё более обострился, что и облегчило царевне Елизавете совершить государственный переворот и занять русский трон. Переворот,
внешне носивший все признаки движения русского национального духа против господства иноземцев, мог только облегчить Бестужеву возвращение к прежней власти. К этому времени, кажется, благодаря в основном иностранным дипломатам, он приобрёл известность истинно русского государственника.
Однозначных данных о том, что Алексей Петрович участвовал в шведско-французском заговоре послов по возведению Елизаветы Петровны на трон, не обнаружено, но каким-то образом он всё-таки способствовал успеху заговора против Анны Леопольдовны. Мы знаем, что он был хорошо знаком с главным архитектором и исполнителем переворота лейб-медиком Й.Г. Лестоком (L'Estoque). В своё время с Лестоком познакомился его отец, надеявшийся во время гонений найти защиту при дворе цесаревны Елизаветы. И это знакомство сыграет потом решающую роль в его карьере.
Вместе с другими сановниками — генерал-фельдмаршалом Лейси (Lacy)
[44], Н.Ю. Трубецким, адмиралом Н.Ф. Головиным, канцлером A.M. Черкасским, обер-шталмейстером А.Б. Куракиным, кабинет-секретарём К. фон Бреверном и др. — Алексей Петрович немедленно явился во дворец, чтобы поздравить Елизавету Петровну с восшествием на престол.
почётное поручение составить текст манифеста, с которым Елизавета по восшествии на престол обратилась к народу. В этом ему помогали личности, занимавшие высокие посты, но, по характеристике Валишевского, чисто декоративные — князь A.M. Черкасский, стоявший одной ногой в могиле, и бывший секретарь Кабинета министров педантичный и исполнительный Карл фон Бреверн (1704—1744). Как докладывал Людовику XV Шетарди, пока поддержавшие переворот полки окружали дворец Елизаветы Петровны, они трудились над манифестом, формой присяги новой императрице и отправкой указов в провинции страны.
«Бывшее правление известных персон» — так при Елизавете стали эвфемистически называть время правления двух Анн, — уходило в прошлое. Вспоминать императрицу Анну Иоанновну, правительницу Анну Леопольдовну, бедного императора-младенца Ивана Антоновича и членов Брауншвейгского семейства было равносильно государственному преступлению. Дочь Петра Великого хотела стереть из истории России и памяти народа целых 10 лет.
29 ноября именным указом Сената Бестужеву,
«для его неповинного претерпения», восстановили, как мы теперь бы выразились, чиновничий стаж действительного тайного советника, — ранг, полученный при Анне Иоанновне 25 марта 1740 года. В этот же день был издан указ о назначении на высокую должность комнатного секретаря при дворе её императорского величества Ивана Антоновича Черкасова с присвоением ему ранга действительного статского советника. Черкасов, бывший тайный кабинет-секретарь, считался одним из самых видных членов мавринского кружка. Назначение Черкасова произошло, судя по всему, не без участия Бестужева-Рюмина. Это не составило Алексею Петровичу больших трудов, потому что Черкасов долгие годы верно служил царю Петру и его супруге. 30 ноября, в орденский праздник Андрея Первозванного, Бестужев-младший был награждён этим орденом. Позже Бестужеву удалось вернуть из ссылки и выдвинуть на высокие должности других членов бестужевского кружка, например И. Веселовского и А.П. Ганнибала, в то время как брат его М.П. Бестужев-Рюмин получил высокое звание обер-гофмаршала при дворе Елизаветы.
Главным совещательным органом при российских императорах на протяжении предыдущих лет был Верховный тайный совет, при Анне Иоанновне заменённый на Кабинет министров, в который входили и постоянно работали канцлер Черкасский и вице-канцлер Остерман. Место третьего министра в течение шести лет было вакантным и его последовательно занимали Головкин, Ягужинский, Волынский и Бестужев-Рюмин. Хозяйничал в кабинете Остерман. При этом существовал Сенат, главный орган исполнительной власти, то есть правительство со своими коллегиями, главными из которых были Иностранная, Военная и Морская.
При формировании совещательного органа при Елизавете Петровне специальная комиссия сделала вывод о том, что Кабинет министров неоправданно часто брал на себя функции Сената и коллегий —
«кабинет-министры натащили на себя много дел и не надлежащих им». К тому же министры часто снимали с себя всякую ответственность за принимаемые ими решения. В декабре 1741 года Кабинет министров был упразднён, но учреждался кабинет при дворе, как это было при Петре I, во главе с Иваном Черкасовым. Сенат, как и при Петре I, опять стал главным правительственным органом России.
А.П. Бестужев на первых порах получил скромную должность управляющего почтовым ведомством. Потом возникла надобность в оказании помощи в иностранных делах канцлеру Черкасскому, которого Елизавета ценила за безупречную честность и крайнюю осторожность в делах, но на которого было много нареканий со стороны иностранных посланников, жаловавшихся на его лень, отсутствие всяких способностей и незнание иностранных языков. Самым подходящим кандидатом на должность вице-канцлера оказался Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Только он, по мнению многих, мог бы заменить отправленного в ссылку Остермана по части внешней политики России. 12 декабря по инициативе влиятельного Лестока он был назначен на место бедного сосланного графа М.Г. Головкина с сохранением должности начальника всех почт империи. Судя по всему, Бестужеву понадобилось приложить достаточно много усилий и старания, чтобы заслужить эту должность, потому что особым расположением он у Елизаветы Петровны пока не пользовался. По некоторым данным, Елизавета, выслушав рекомендации Лестока в адрес Бестужева, якобы пророчески сказала:
— Ты готовишь себе пучок розог.
Валишевский утверждает, что в возвышении Бестужева помогала также дочь A.M. Черкасского, жена графа Петра Шувалова, бывшая в милости у Елизаветы. В его пользу, кроме Лестока, высказался также уже вошедший в доверие к Елизавете маркиз Шетарди. Итало-француз назвал его самым подходящим человеком для занятия иностранными делами. В своих отчётах в Париж он описал нового вице-канцлера как человека, который ловко пишет, свободно изъясняется на иностранных языках и весьма трудолюбив, хотя и любит общество и весёлую жизнь, рассеивая этим посещающую его иногда ипохондрию. Шетарди полагал, что Бестужев был
«настолько тщеславен, что не пожелает играть такую же роль,
как князь Черкасский». В отношении нравственных качеств нового вице-канцлера Шетарди особых иллюзий не питал. Ещё в депеше от 5 августа 1740 года он писал в Париж:
«Бестужеву судя по тому у что думают о нём многие,
один из людей, не признающих никакой узды у сдерживающей людские пороки; поэтому большинство убеждено, что он кончит трагически, как и его предшественники. Полагают, кроме того, что Бестужев скорее будет подчиняться влечению гнева, нежели долгу признательности».
Таково, по-видимому, было мнение окружения Бестужева на конец правления Анны Иоанновны, ибо лично своего будущего соперника маркиз не знал и питался слухами и высказываниями русских сановников. Отметим только, что, в отличие от некоторых других историков, Соловьёв утверждает, что никакими комплексами по отношению к Бестужеву-Рюмину Елизавета не страдала. Из характеристики историка явствует, что поскольку Елизавета вполне благосклонно относилась к личности Бирона, то краткая близость Алексея Петровича к временщику рассматривалась ею отнюдь не как отягчающее обстоятельство.
«Таким образом, благосклонность Елизаветы к Бестужевым даже и без внушения Аестока объясняется легко», — пишет наш знаменитый историк.
Став у руля российской внешней политики, увенчанный орденом Андрея Первозванного, Бестужев на первых порах проявлял чрезвычайную осмотрительность и так называемую французскую партию при дворе старался ничем не раздражать. Так что
«первый поклон отдавался императрице, а второй —
ему», говорили в дипломатическом корпусе. Маркиз Шетарди и официально аккредитованный при дворе Елизаветы французский посланник Луи д'Юссон, известный как д'Аллион, полагали, что новый вице-канцлер станет послушным исполнителем предначертаний Версаля и не подозревали в его поведении никакого подвоха. Эта иллюзия теплилась у Шетарди до самого апреля 1742 года, когда вице-канцлер уже освоился со своим положением и приступил к выполнению своей продуманной внешнеполитической программы.
Россия, на целых 15 лет погрязшая в дворцовых переворотах, заговорах, казнях и ссылках то «верховников», то членов брауншвейгской семьи, то временщика Бирона и его помощников, по мере возможности пыталась хоть как-то сохранить наследие великого Петра. С приходом на трон Елизаветы внутреннее положение почти на целых двадцать лет стабилизировалось, и теперь Россия могла занять более-менее активную позицию в Европе. Необходимо было сохранить свои позиции в Прибалтике, активизировать политические и экономические связи с Европой и противодействовать всевозможным антироссийским коалициям. И в это время в Коллегии иностранных дел появился умный, деятельный, опытный и энергичный человек — Бестужев-Рюмин, которому все эти задачи были вполне по плечу.
Его появление быстро заметили и в европейских столицах, и Франция, Австрия и Пруссия включили все свои дипломатические средства и возможности, чтобы добиться расположения России. У русских были самые лучшие солдаты в Европе, и стоили они очень дёшево. Идей в Европе всегда было много, а вот с солдатами — всегда худо. Солдаты были самым дефицитным товаром у всех генералов и королей.
Швеция и Пруссия стали объектами первоочередного внимания Алексея Петровича. Заключённый в декабре 1740 года оборонительный союз с Пруссией поставил Россию в двусмысленное положение: она одновременно оказалась союзником враждующих между собой Австрии и Пруссии. В 1741 году Швеция, в конце концов, науськиваемая Францией, развязала войну с Россией, которая началась под предлогом свержения с русского престола Анны Леопольдовны и водворения на трон царевны Елизаветы, а на самом деле это был повод для возвращения утерянных во время Северной войны Прибалтики и Ингерманландии и ликвидации Ништадтского мира. Шведский посол в Петербурге Э. Нолькен
[45], который получил из своей казны крупную сумму денег на подкуп царевны Елизаветы, вместе с маркизом Шетарди искал случая заставить её дать обещание способствовать этим целям.
Елизавета Петровна проявила осмотрительность и на поводу у Шетарди и Нолькена не пошла. Фактически она без их помощи взошла на русский трон и стала проводить внешнюю политику, в целом отвечавшую национальным интересам России.
Положение Бестужевых-Рюминых в первые годы царствования Елизаветы Петровны было не таким уж и прочным. Их временные политические единомышленники-англичане жаловались, что оба брата ведут себя слишком робко и пока не пользуются в правительстве таким влиянием, которое они заслуживали. Причин было несколько. Одна из них заключалась в том, что при дворе Елизаветы Петровны возобладала так называемая франко-голштинская партия, во главе которой стоял французский посол Шетарди, Лесток и гофмаршал при дворе великого князя Петра Фёдоровича Бруммер (Бруммер). С ними А.П. Бестужеву приходилось всё время бороться. Сильно было также влияние группы канцлера князя A.M. Черкасского (1680—1742) и генерал-прокурора князя Н.Ю. Трубецкого (1699—1763), поддержка которых братьев Бестужевых была достаточно условной.
Бестужевы-Рюмины имели при дворе и своих друзей: конференц-министра
[46] князя А.Б. Куракина (1697—1749), князей Голицыных и некоторых других, но они большого веса не имели. Иностранные дипломаты отмечали, что душой этой группы был старший брат Михаил Петрович Бестужев-Рюмин. А Шетарди, наблюдатель в общем-то поверхностный, полагал даже, что директор почт, а потом вице-канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин
«вёл дела, почти беспрекословно подчиняясь старшему брату Михаилу», который был якобы гораздо сильнее младшего брата. Более глубокие аналитики среди иностранных дипломатов так не считали, но полагали, что политическая система взглядов А.П. Бестужева-Рюмина являлась собственно программой Михаила Петровича, приобретённой им во время двух командировок в Швецию.
Шетарди, взяв в голову, что младший Бестужев подвержен его личному обаянию, принялся обхаживать его со всех сторон, надеясь приобрести в нём «партизана» Франции. Он был сильно удивлён, когда обнаружил, что Алексей Петрович на самом деле был ярым франкофобом. Шетарди тут же приписал такое поведение вице-канцлера влиянию старшего брата. Создаётся впечатление, что просчёт француза-маркиза в личности вице-канцлера произошёл не только по его вине, но и благодаря мастерской игре самого Алексея Петровича. Очевидно, что в «паркетной игре» и маскировке своих истинных взглядов он нимало не уступал Шетарди, а даже его в чём-то превосходил.
Карьере старшего брата Бестужева, как мы увидим ниже, помешала его первая жена, бывшая вдова скончавшегося П.И. Ягужинского и дочь канцлера Г.И. Головкина (1660— 1734) — умная и деятельная Анна Гавриловна (ум. в 1751 году).
Она была замешана в так называемое лопухинское дело и заплатила за это своей жизнью.
Изучая дела и поступки Михаила Петровича, приходишь к выводу, что он мало в чём уступал младшему брату. Он был умён, образован, энергичен, многоопытен, так что, повернись судьба несколько иначе, Михаил Петрович имел бы неплохие шансы для того, чтобы, как и младший брат, стать
великим канцлером[47].
В феврале 1742 года М.П. Бестужев стал обер-хофмаршалом при дворе Елизаветы Петровны, а в день коронации, 25 апреля, получил орден Андрея Первозванного, а вскоре — одновременно с отцом и братом — графское достоинство Российской империи.
Долго и часто утверждалось, что А.П. Бестужев-Рюмин единолично определял потом внешнеполитический курс России, но, как свидетельствуют факты, это была только видимость, а на самом деле бразды внешней политики держала всё-таки государыня императрица, а канцлер играл роль её главного советника. Соловьёв утверждает, что миф о том, что императрица не занималась государственными делами и всё свободное время посвящала развлечениям, придуман её недоброжелателями. Елизавета, практически не подготовленная к роли правительницы, была от природы достаточно умна и наблюдательна. Она не могла не заметить подспудной борьбы между своими вельможами и не торопилась принимать чью-то сторону, считая их всех полезными для службы. Её медлительность и нерешительность в принятии решений объяснялись в основном тем, что, не имея солидного и систематического образования, она не могла сформировать собственное мнение по тому или иному вопросу, старалась выслушать все «за» и «против», сопоставить точки зрения двух-трёх людей, а потом уже решать, что и как делать.
Как бы то ни было, императрица и Бестужев образовали политический тандем, просуществовавший до 1756 года. В эти годы Бестужев разоблачил происки французского посла Шетарди, повёл дело на отход от старой союзницы России Пруссии и на организацию похода против Фридриха II (1712— 1786), на союз с Англией и Австрией. Решения по внешнеполитическим вопросам принимались примерно по следующей схеме: Бестужев приходил на доклад к Елизавете с выписками из реляций русских представителей за границей, зачитывал их, добавлял свои соображения к ним и предлагал несколько аргументированных вариантов действий.
Конечно, в 1742 году вице-канцлеру ещё не всё удавалось. Сменивший Э. Финча английский посланник Сирилл Уич (Кирилл Вейч) жаловался в Лондон, что не может быть и речи о быстром и ясном решении внешнеполитических вопросов с русской Коллегией иностранных дел. Всё усугублялось, по его мнению, тем, что императрица всячески избегала занятий делами и выслушиванием докладов министров, предпочитая им придворные празднества, фейерверки и балы. А пока англичанин установил контакт с Бестужевым-Рюминым и информировал его о событиях в Европе. В частности, в апреле 1743 года он довёл до его сведения об интригах французской дипломатии в Стокгольме, о чём Алексей Петрович письмом от 30 апреля незамедлительно сообщил «превосходительному барону» И.А. Черкасову для информации Елизаветы Петровны.
В знак милости от императрицы А.П. Бестужев получил конфискованный у графа А.И. Остермана дом, а указом от 16 февраля 1742 года ему было полностью выплачено заслуженное за прошлые времена жалованье и назначен оклад в размере 6000 рублей годовых. 25 апреля 1742 года, в день коронации Елизаветы Петровны, по его ходатайству отец был пожалован в графское Российской империи достоинство, которое распространилось и на самого вице-канцлера, и на его старшего брата. В 1744 году он получил должность великого канцлера, а в 1745 году — титул графа Римской империи, облагородив этим титулом всех членов своего семейства.
По словам Валишевского, активное участие в делах А.П. Бестужева-Рюмина принимала его супруга. Историк утверждает, что, пользуясь авторитетом примерной супруги, Бестужева-Рюмина, тем не менее дала многочисленные и неопровержимые доказательства несправедливости этого мнения и втайне от мужа занималась любовными похождениями. Она якобы не любила русских и во всём покровительствовала Пруссии. Историк намекает, что она, по всей вероятности, была на содержании у прусского посланника, пока этот посланник своими неосторожными действиями не разоблачил её в глазах мужа. О том, как расправился Алексей Петрович над изменницей в своём доме, история умалчивает. Есть, однако, сведения о том, что после разоблачения своих любовных и шпионских эскапад Анна Ивановна вела себя в доме тише воды и ниже травы и во всём безмолвно покорялась мужу.
В конце 1742 года Елизавета тайно обвенчалась с графом А.Г. Разумовским в церкви подмосковного села Перово. Обстоятельства сего брака до сих пор до конца не выяснены. Согласно Валишевскому, тайные переговоры с духовником императрицы Дубянским вёл А.П. Бестужев-Рюмин, который опасался, что императрица может польститься на брак с прибывшим в Петербург Морицем Саксонским. Если бы брак с иностранным принцем состоялся, то карьера Бестужева, сделавшего ставку на фаворита Елизаветы Разумовского, была бы поставлена под вопрос. Дубянский пользовался поддержкой иерархов церкви, в частности Стефана Яворского. Став фаворитом Елизаветы, Алексей Григорьевич до самого 1757 года поддерживал во всём канцлера, но сам в политику никогда не вмешивался. Он был бы просто образцовым фаворитом, если бы не слишком поклонялся Бахусу.
Сам Алексей Петрович считал себя ревностным верующим, сознавая в то же время недостаточность этого рвения. Например, избалованный вращением в высшем обществе, он любил хорошо выпить и закусить и, естественно, поста не соблюдал. Это его, в общем-то, не особенно угнетало, но всё-таки слегка беспокоило: в глазах благочестивой императрицы Елизаветы, соблюдавшей уставы церкви, и её придворных ему не хотелось выглядеть откровенным греховником и нарушителем правил православной церкви.
Поэтому он через своего подчинённого, посланника в Константинополе Алексея Андреевича Вешнякова, обратился к
«блаженнейшему и всесвятейшему архиепископу Константинополя, Нового Рима и вселенскому патриарху господину Паисию» с просьбой выдать ему «снисходительную разрешительную на мясоестие грамоту». Паисий такую грамоту выдал, и благодарный за индульгенцию Бестужев 30 июля 1745 года написал ему письмо, в котором объяснил, что к несоблюдению поста его вынудило
«не лакомство и святых постов презрение», а
«крайняя слабость моего здравия и последнее изнеможение» от трудов праведных. Бестужев уверял патриарха, что является искренним сыном православной церкви и что
«все узаконения и определения её… признаваю и почитаю».
ВИЦЕ-КАНЦЛЕР. ПЕРВЫЕ ШАГИ
О «системе» Бестужева-Рюмина много говорили и современники, и его потомки. Анализируя спустя почти 270 лет описываемые здесь события, можно прийти к выводу о том, что избранный Бестужевым курс на союз России с Австрией и Англией был, очевидно, единственным, который отвечал тогда интересам Российского государства. Иного, по всей видимости, и быть не могло, потому что программа вице-канцлера вытекала из складывавшихся тогда внешнеполитических реалий. Франция, а вместе с ней Пруссия и Швеция выступали за ущемление русских национальных интересов и за «водворение московитов» в их «естественный исторический ареал», то есть за закрытие окна, прорубленного в Европу Петром I. И Бестужев, отвечая на выпады своих идейных противников, утверждавших, что его система вредна России, отвечал:
«Древняя российская и толь паче государя Петра Великого система».
Конечно, «система» Бестужева-Рюмина не во всём повторяла внешнюю политику Петра Великого — наступили уже совсем иные времена, но основные принципы её — утверждение авторитета России на международной арене, защита национальных интересов страны — вице-канцлер сохранил. Во всяком случае, называя свою систему петровской, Бестужев потакал настроениям императрицы, провозгласившей курс на соблюдение предначертаний своего отца. Бестужев-Рюмин писал о своей системе так:
«Сие…империю в такой кредит приведёт у что никто впредь не осмелится оную задрать; сверх того же мы сим других держав дружбу себе приобретем».
«Система» А.П. Бестужева-Рюмина не отразилась в каком-либо программном документе — её основные пункты содержались в письмах вице-канцлера к сановникам, а потом — в рескриптах и указаниях русским дипломатам за рубежом. Так в пространном письме к конференц-министру Михаилу Илларионовичу (Ларионовичу) Воронцову (1714—1767) за 1744 год он писал о том, что наибольшую опасность для России и вообще для мира в Европе представляли на данном этапе Пруссия и её король Фридрих II, который
«будучи наиближайшим и наисильнейшим соседом сей империи, потому натурально наиопаснейшим, хотя бы он такого непостоянного захватчивого, беспокойного и возмутительного характера и нрава не был, каков у него суще есть…» Заключал он письмо следующими словами:
«Польза и безопасность империи в том состоит, чтоб своих союзников не покидать, а оные суть морские державы, которых Пётр Первый всегда соблюдать старался и король польский, яко курфюрст саксонский и королева венгерская (то есть австрийская. —
Б. Г.) —
по положению их земель, которые натуральный с сею империею интерес имеют».
Конференц-министр Воронцов в это время полностью разделял взгляды Бестужева на европейские события, и их сотрудничество весьма радовало вице-канцлера. Следует отдать должное и императрице Елизавете, принявшей программу, проводимую Бестужевым. Для этого ей пришлось пожертвовать личными симпатиями ко всему французскому.
Первый пункт этой программы — союз с Англией — дался Алексею Петровичу нелегко. Ему и его брату Михаилу Петровичу пришлось преодолеть немало препятствий, пока этот союз стал реальностью. Главным препятствием была инерционная система внешнеполитических ценностей, воздвигнутая за долгие годы бессменным «министром иностранных дел» А.И. Остерманом.
Как повествует Соловьёв, если главным человеком во внешних делах России стал Бестужев, то во внутренних делах страны главную роль стал играть генерал-прокурор Н.Ю. Трубецкой. По-видимому, можно было как-то разделить свои функции и полномочия, но у Бестужева с Трубецким это не получилось. Трубецкой, ненавидевший немцев при дворе и особенно преследовавший способного и честного фельдмаршала Лейси, во времена Анны Леопольдовны видел в Бестужеве противовес Остерману. При Елизавете, когда вице-канцлер стал искать себе опору в Лестоке, Разумовском и Воронцове, отношение Никиты Юрьевича к нему переменилось, он стал видеть в вице-канцлере и его брате Михаиле перебежчиков из другого лагеря и изменников русскому делу. И генерал-прокурор вошёл в союз с канцлером A.M. Черкасским. Старик Черкасский, переживший многих правителей, в конце своей жизни захотел стать великим канцлером не только по названию, но и по делам, и под влиянием Трубецкого стал
проявлять активность. Своих идей у старика не было, и он стал только путаться под ногами у Бестужевых и вызывать у них раздражение.
Лорд Картерет, глава Форин Офис, проинструктировал своего посланника в Петербурге Сирила Уича действовать через Лестока и Бестужева:
«Королю небезызвестно влияние г. Лестока… природного подданного его величества как курфюрста Ганноверского[48], поэтому королю угодно, чтобы вы выведали, как он расположен к своей родине и не согласится ли он оказать услугу королю, который в таком случае уполномочивает вас обещать ему пенсию. Таким же образом повелеваем вам поступать в рассуждении обоих Бестужевых. Ни один из этих господ не имеет причины совеститься принять от короля такого рода милость, ибо ничего более от них не требуется, как только содействия в заключении между морскими державами и Россиею теснейшего союза для восстановления спокойствия на севере».
Поскольку Уич попросил Георга II для братьев Бестужевых-Рюминых об
«осязательных доказательствах милостивого расположения его Величества», можно сделать вывод, что Бестужев англичан «не подвёл». Английский король «осязательные доказательства» своего милостивого расположения предложил выразить путём предоставления братьям Бестужевым пенсии из своей казны. Но поскольку влияние Бестужевых на внешнюю политику России было пока слабым, Уич посоветовал Лондону эту милость отложить до лучших времён.
Следует сразу оговориться, что ничего зазорного или предательского в принятии таких милостей от иностранных сюзеренов, согласно обычаям галантного века, не было. Правда, от официального подарка до частного, то есть до подкупа, был один шаг, но А.П. Бестужев-Рюмин в данном конкретном случае его не сделал. Кстати, ассигнованные на пенсии братьям Бестужевым деньги Уич так и не вручил, и дружба их с англичанами преследовала главным образом политические цели. Это подтвердил в своих письмах тот же Уич, сообщая королю, что он не может требовать от Бестужева того, что не соответствовало бы взглядам вице-канцлера. Во всяком случае, таково было поведение вице-канцлера в первые годы своего управления Коллегией иностранных дел.
Англо-русский договор, парафированный в Москве 11 декабря 1742 года, одновременно включивший в себя признание Лондоном императорского титула Елизаветы Петровны, взаимную помощь на случай войны и возобновление торгового соглашения на 15 лет, был подписан, когда Россия находилась ещё в состоянии войны со Швецией и вела с ней мирные переговоры. Лесток, выполняя инструкции Шетарди по предоставлению Франции возможности выступить в качестве посредника между Россией и Швецией, сумел «подсуетиться» и при подписании договора с англичанами, чем заслужил и похвалу английского посланника Уича, и английскую пенсию.
Первым большим делом, которым пришлось заниматься вице-канцлеру, было заключение мира со Швецией. Потерпев в Финляндии сокрушительное поражение от русской армии, шведы при содействии французской дипломатии приступили к мирным переговорам, настаивая на ревизии Ништадтского мирного договора 1725 года, получении от победителя территориальных уступок и участия в переговорах в качестве посредника Франции. В Петербурге им в этом деле помогали Шетарди, состоявший на французской «пенсии» Лесток и прилепившиеся ко двору Елизаветы голштинцы. Выполняя инструкции Версаля, они уже подготовили почву для того, чтобы смягчить позорное поражение Швеции и дать ей возможность выйти из начатой ими же войны не только с минимальными потерями, но и с территориальными приобретениями. Это противоречило всякому здравому смыслу, но Париж и Стокгольм это нисколько не смущало. Так лейб-медик Лесток убедил императрицу обратиться к французскому королю Людовику XV с просьбой выступить в качестве посредника между Россией и Швецией и, не согласовав данное повеление с русскими министрами, дал указание заведующему дипломатической перепиской К. фон Бреверну отправить соответствующее письмо в Париж.
Если бы в дело не вмешался Бестужев, то всё закончилось бы в соответствии с планами французов и шведов. Вице-канцлер, ещё не успевший сформировать свою внешнеполитическую программу, тем не менее, имел свой взгляд на эту проблему и стал проводить линию на защиту авторитета и достоинства страны. Он нашёл в письме Бреверна удобную зацепку и изящно использовал её для того, чтобы лишить Францию возможности играть какую бы то ни было роль на мирных переговорах со шведами. Пунктуальный и осмотрительный фон Бреверн вместо слова «посредничество» в письме королю Франции Людовику XV употребил слова «добрые услуги», что позволило въедливому Бестужеву отрицать значение этого письма. Высказывая императрице, как он говорил, своё «слабейшее мнение», он убедил Елизавету обратиться за посредничеством к Англии. Шетарди, неожиданно встретивший в лице императрицы защитницу национальных интересов России и теснимый упрёками своего парижского начальства в том, что он слишком слабо защищает интересы Швеции, вынужден был согласиться, чтобы переговоры со шведами перешли непосредственно в руки русского правительства.
По инструкции, полученной из Версаля, Шетарди, ставший теперь любовником Елизаветы, попытался воздействовать на неё, но та решительно заявила, что никаких территориальных уступок шведам, противным её чести и славе, делать не расположена и напомнила французу, что она — дочь Петра I и соглашаться на предлагаемые условия ей не к лицу. Об этом её в начале 1742 года предупредил из Парижа князь Антиох Кантемир:
«Предложения Франции нисколько не сходны с часто повторенными обнадеживаниями об истинном доброжелательстве королевском к вашему величеству. Кроме этих предложений, Франция составляет проект о тройном союзе между нею, Швециею и Даниею. Франция побуждает Порту против России; из этого ясно, что древний здешний проект об уменьшении русских сил не выходит из головы. Я обязан подтвердить, что всякая предосторожность против здешних хитростей не только прилична, но и очень нужна…»
Постель не помогла, тогда обиженный Шетарди попросил у императрицы разрешения зачитать свой меморандум в защиту шведов непосредственно Бестужеву, полагая, что тот придерживается на этот счёт взглядов, аналогичных взглядам Лестока. (Шетарди невзлюбил канцлера князя Черкасского за то, что тот не владел ни одним иностранным языком и даже советовал Елизавете убрать его с поста.)
Шетарди встречался с Бестужевым и прежде. Обсуждая с маркизом шведские дела, Бестужев дал знать ему, что пока не успел сформировать о них твёрдое и окончательное мнение, в то время как Финч и Ботта каждый пытается склонить его на свою сторону. Шетарди понял это как намёк и предложил Бестужеву пенсию в размере 15 000 ливров в год за его добрые намерения в пользу Франции.
И вот маркиз зачитывает свой прошведский меморандум (Соловьёв называет его рескриптом) Бестужеву и ждёт его реакцию. Реакция вице-канцлера оказалась для француза совершенным сюрпризом: нельзя начинать со шведами никаких мирных переговоров иначе как на основании Ништадтского мирного договора! Вице-канцлер давно понял, что от Франции ждать чего-то хорошего было бесполезно, и сказал, что он бы заслужил смертную казнь, если бы посоветовал уступить побеждённым шведам хоть вершок русской земли.
— Надобно вести войну! — сказал он. — Вот чего каждый из нас должен требовать для славы государыни и народа.
Далее он заявил, что если Швеция хочет вернуть свои территории, то Россия может ей поспособствовать в этом — ведь не только одной России она уступила свои земли.
— Не намекаете ли вы на Бремен и Верден, не хотите ли их возвратить шведам? — спросил Шетарди.
— Можно всегда сговориться, мы искренне желаем Швеции добра, — уклончиво ответил вице-канцлер.
Нолькен и Шетарди вызвали Лестока и потребовали от него объяснений. Тот помчался к Елизавете, и государыня изобразила на лице удивление от рассказанного им и пообещала поговорить с Бестужевым и во всём разобраться. Скоро Елизавета в одну из суббот отправилась к Бестужеву обедать, и после обеда заверила Лестока, что ей удалось повлиять на вице-канцлера и привлечь его на сторону французской партии. Лесток с восторгом помчался докладывать Шетарди, потом вернулся к Бестужеву, стал с ним мириться и даже целоваться. В воскресенье государыня осыпала Бестужева милостями, а в понедельник утром объявила во всеуслышанье, что по соображениям высшего порядка с посредничеством французского короля она согласиться не может. Здравый смысл у легкомысленной женщины всё-таки возобладал.
После визита Шетарди к Бестужеву была созвана конференция, на которой, кроме постоянных членов — канцлера, вице-канцлера, адмирала графа Н.Ф. Головина и обер-шталмейстера Куракина, присутствовали императрица и фельдмаршал Лейси и на которой было принято единогласное решение: никакая уступка шведам невозможна. Швеция может не соглашаться на невыгодный для неё мир, а Россия не согласна нарушать Ништадтский договор. Если Швеция имеет территориальные требования, то пусть она обращается к тем, кто их ей обещал.
Шетарди и шведы были вынуждены проглотить эту горькую пилюлю, а весной 1742 года русская армия в Финляндии прервала перемирие и перешла в наступление.
Положение на внешнеполитическом фронте немедленно изменилось, Россия твёрдо заявила о своих интересах и могла теперь вести свои дела без посредничества Франции. Даже Лесток был вынужден перейти на английскую пенсию (не отказываясь, впрочем, от французской), причём Уичу удалось примирить его на какое-то время с вице-канцлером.
* * *
Но отстоять свою бескомпромиссную по отношению к шведам позицию Бестужеву и его единомышленникам, к сожалению, не удалось — помешали план Бруммера и вмешательство Лестока, «отрабатывавшего» французские денежные подачки. Следуя их советам, Елизавета воспылала идеей возвести на шведский престол епископа Любекского Адольфа-Фридриха (1710—1771) ценой возвращения фактически уже завоёванной Финляндии обратно Швеции. Это сильно осложнило действия Бестужева на русско-шведских переговорах. Он выступал за жёсткие условия мира со шведами вплоть до оставления за Россией Финляндии, но «голштинский дворик» стал энергично мешать Алексею Петровичу и, нужно признать, в конечном итоге смог привлечь на свою сторону императрицу.
События на дипломатическом фронте развивались следующим образом.
В январе 1743 года, после долгих препирательств и затяжек, в Обу, наконец, начались мирные переговоры между русской и шведской сторонами. Шведскую сторону представляли бывшие посланники Швеции в России Херман Седеркройц (1722—1727) и Эрик Матиас Нолькен (1738—1742). Русскую делегацию представляли генералы А.И. Румянцев
[49] и Л.И. Люберас, в качестве помощников с ними были Адриан Иванович Неплюев, сын известного дипломата и государственного деятеля, и секретарь посольства Семён Мальцев. Согласно Валишевскому и Соловьёву, вместо Любераса в Обу должен был поехать боевой генерал князь М.М. Голицын-младший (1684—1764), но тут вмешался Лесток и предложил вместо него Любераса. Возражение императрицы, что Люберас — немец, лейб-медик парировал ответом, что Ништадтский договор заключил тоже не русский, а вестфалец Остерман. И Елизавета согласилась. Впрочем, Люберас был не немцем, а шведом, что было в данном случае ещё хуже.
На первом этапе переговоров Россия по отношению к побеждённой Швеции всё ещё придерживалась жёсткой линии, то есть предполагала лишить её всей Финляндии. Но 16 февраля шведская делегация решительно отказалась подписать мирное соглашение на принципах «кто чем владеет» и повела разговор об уступках. Румянцев, естественно, запросил у Елизаветы Петровны новых инструкций, но предлагал проявить твёрдость и стоять на своём, не соглашаясь ни на какие уступки шведской стороне.
22 февраля Елизавета распорядилась подать мнение об условиях заключения мира со Швецией следующим сановникам и министрам: фельдмаршалам и князьям Долгорукову и Трубецкому, фельдмаршалу Лейси и принцу Гессен-Гомбургскому, сенаторам адмиралу Головину, обер-шталмейстеру Куракину, д.т.с. Нарышкину, генерал-лейтенантам князьям Голицыну и Урусову, т.е. Новосильцеву, д.с.с. князю Голицыну, членам Иностранной коллегии вице-канцлеру Бестужеву, т.е. Бреверну, д.с.с. Юрьеву и Веселовскому, а также генералу Левашову, графу М.П. Бестужеву-Рюмину, князю Н. Трубецкому, генерал-лейтенантам князю Репнину, Игнатьеву и Измайлову, — всего 21 лицу.
Из этих лиц только трое — братья Бестужевы-Рюмины и фельдмаршал князь Трубецкой — считали, что Финляндию следовало удержать за Россией, причём М.П. Бестужев-Рюмин полагал целесообразным выкупить её у шведов за деньги, как в своё время Пётр I поступил с балтийскими провинциями. Шестеро сановников высказались за удержание за Российской империей части Финляндии, при этом предлагались различные её области, в то время как Бреверн, единственный среди опрошенных, для скорейшего заключения мира и избрания епископа Любекского в шведские наследники предложил вернуть Финляндию обратно шведам полностью. Мнения прочих 11 вельмож и генералов, как пишет Соловьёв, не представили ничего замечательного.
Приведём мнение вице-канцлера А.П. Бестужева, выступившего за безоговорочное присоединение Финляндии к России.
Вся Европа и персы с турками будут внимательно смотреть на то, каким способом вознаградит себя Россия за наглое нарушение мира Швецией и нанесённые русской империи военные убытки. Интересы и слава Российского государства и его народа требуют
«приложить всевозможное старание для заключения мира на условии uti possidetis», то есть кто чем владеет. Для того чтобы продемонстрировать всем, что Россия не ищет расширения своей территории, следует предоставить шведам в Финляндии право свободной и беспошлинной торговли. Если же шведская сторона не согласится на эти условия, то предложить ей установить в Финляндии такую форму правления, которая бы устраивала обе стороны и исключала в будущем возникновение между ними конфликтов. В крайнем случае следовало оставить за Россией территории вокруг городов Обу и Хельсингфорса с правом переселения финнов на эти территории. И, наконец, следует свергнуть нынешнее шведское правительство, развязавшее эту войну, и поставить на его место новое. В противном случае это правительство будет вкупе с Францией и Турцией постоянно интриговать против России и добиваться её ослабления.
Но сам русский кабинет единства по вопросу предъявления шведам претензий, к сожалению, не продемонстрировал. При опросе в итоге возобладало мнение удержать за Россией лишь определённую часть Финляндии — какую именно, предстояло договариваться со шведами. При этом Лесток и Бруммер, по словам шведского историка Мальмстрёма, советовали императрице не слишком перегибать палку в этих требованиях, потому что внутреннее, да и внешнее состояние Российской империи было не таким уж и блестящим. Из Обу этим прилипалам-«немцам» «помогал» «немец» Люберас, также считавший необходимым сделать шведам уступку. Одновременно он призывал Седеркройца и Нолькена к тому, чтобы они убедили своё правительство тоже умерить «аппетиты».
К сожалению, Елизавета Петровна, благодаря настойчивым нашёптываниям и уговорам голштинских «чёртиков», заняла по отношению к Стокгольму весьма умеренную позицию. Хуже всего было то, что большинство русских сановников, как мы показали выше, или поддерживали мнение немцев, или вообще не имели на этот счёт собственного мнения. Дух Петра в высшем руководстве страны испарился, по существу, правительство России заняло соглашательскую позицию и пошло на поводу у немногочисленной, но активной иностранной прослойки.
Бестужев до конца боролся за то, чтобы успехи русской армии в войне со шведами были вознаграждены приобретением хотя бы небольших финских территорий. Тут он, как мы видели, имел лишь частичный успех. Но такого значения, какое Елизавета Петровна уделяла будущей роли Адольфа-Фридриха на шведском троне, он никогда не придавал и оказался прав на все сто процентов: полученные в Швеции мнимые преимущества скоро исчерпали себя, и, став шведским королём, ставленник Елизаветы превратился в ярого врага России.
Идея Елизаветы с голштинским «дядюшкой» имела ещё одно неприятное для России последствие. Дания, которая считала дело избрания своего принца в наследники шведской короны уже решённым делом, теперь сильно возмутилась и коварством шведов, и недружественным актом Петербурга. Она с полным основанием считала, что теперь голштинские принцы — один в России, другой в Швеции — станут добиваться возвращения своей утраченной в 1720 году Голштинии, которая под названием «Шлезвиг» вошла в состав датского королевства. И Дания, потребовав от Швеции официального признания этого факта и отказа Адольфа-Фридриха от всех своих прав на Голштинию, стала вооружаться.
Российский наследник Пётр Фёдорович зароптал: отказываться от своей вотчины ему не хотелось, и он заявил, что без согласования с Елизаветой Петровной на такой шаг пойти не может. Шведы, в общем-то не испытывавшие энтузиазма от кандидатуры Адольфа-Фридриха и ориентировавшиеся в значительной мере на датского принца, предложили решить этот вопрос в рамках начавшейся в Обу конференции, но Бестужев-Рюмин решительно отказался от этого, заявив, что его должен решить сам Адольф-Фридрих. Выехавший на переговоры в Петербург шведский генерал Дюринг должен был вернуться домой с пустыми руками. Дания между тем вооружалась, а настроения в самой Швеции были далеки от того, чтобы примириться с избранием Любекского епископа. Голштинцев в Швеции невзлюбили давно и справедливо — они приносили стране одни беды и неприятности. Но Петербург в итоге «выкрутил» руки шведскому правительству и настоял на своём, хотя справиться с глухим ропотом недовольного большинства населения он, естественно, не смог.
Швеция, едва подписав мирное соглашение с Россией, стояла на пороге войны с Данией. Но воевать ей не позволяли ни её слабое финансово-экономическое положение, ни фактический развал армии, наступивший после поражения в Финляндии, ни настроения самих шведов.
«В обстановке брожения умов, — пишет шведский историк Мальмстрём, —
правительство по отношению к внешнему миру оказалось полностью беспомощным. Выборы наследника трона определили направление шведской политики и поставили страну в тесную связь с Россией».
На мирной конференции в Обу шведская сторона заручилась русской поддержкой для отражения возможного нападения Дании. Ободрённые таким развитием событий, шведские уполномоченные заявили в Обу, что Швеция согласна избрать русского кандидата в наследники шведской короны на следующих условиях: Россия вернёт Швеции все завоёванные в этой войне территории и заключит с ней оборонительный и наступательный союз, необходимый для парирования возможных выступлений Дании, не согласной с кандидатурой кронпринца. Кроме того, Россия должна будет предоставить шведам субсидии. Выходило, что от проигранной войны должны были выиграть побеждённые шведы.
Ответ Румянцева был короток и прост: эти условия для русской стороны совершенно неприемлемы, поскольку шведская сторона ведёт себя так, будто является в этой войне победительницей. Он предложил мирную конференцию распустить, а делегатам — разъехаться по домам, причём в вопросе о наследнике трона шведы вольны поступать, как пожелают, но о возврате всей Финляндии не может быть и речи.
Получив от Румянцева решительный отказ, Нолькен и Седеркройц к марту 1743 года стали давить на русскую делегацию возможностью избрания в шведские наследники датского принца. Эта альтернатива Адольфу-Фридриху была вполне реальной, за неё выступало большинство шведов как в парламенте, так и в правительстве и вообще среди населения. Датский вариант угрожал России тем, что династийные связи между обеими скандинавскими странами неизбежно привели бы к возникновению тесного военно-политического союза, который под патронажем Франции получил бы исключительно антироссийскую направленность. Сейчас, на расстоянии 270 лет, эта угроза кажется нам нереальной, но тогда она рассматривалась в Петербурге достаточно серьёзно, потому что из-за спины Франции выглядывало вызывающее лицо короля Пруссии Фридриха П. С этим вызовом Петербургу надо было считаться.
Вице-канцлер А.П. Бестужев-Рюмин писал своему другу и помощнику барону Черкасову:
«От стороны турецкой можно быть спокойным, а ежели Франция намерена какую в России впредь диверсию учинить, не было бы то учинено королём прусским, на которого подлинно надлежит смотреть недреманным оком… Если прусский король в шведскую войну не вмешается, то Дания вместе и с Франциею не опасны». Это была взвешенная и трезвая оценка положения, в датской угрозе канцлер видел один блеф, но переубедить в этом императрицу и её голштинских «чёртиков» у канцлера сил и средств не хватило.
На Румянцева и Любераса стал давить также голштинский посланник в Стокгольме Бухвальд, советовавший и даже требовавший смягчить для шведов условия мира. Румянцев, ученик Петра Великого и искренний сторонник жёсткой линии Бестужева-Рюмина, с возмущением докладывал последнему о вмешательстве в мирный процесс Бухвальда:
«Можно рассудить, что Бухвальду в том нужды нет, хотя бы мы и Новгород отдали, только бы его герцог королём избран был. Бога ради, государь мой братец, надобно недреманным оком на такие неосновательные пропозиции смотреть… Правда, он стращает нас выбором кронпринца Датского; но хотя бы это и правда была, то лучше нам против Швеции и Дании войне быть, нежели бесчестный и нерезонабельный мир на основании Ништадтского заключить».
Когда на русских дипломатов давят, они, как правило, сдаются.
Постепенно русские требования к Швеции становились всё более умеренными. В конце февраля Россия соглашалась на удержание за собой всего лишь половины Финляндии, в марте — третьей части, а в апреле сузили свои претензии до двух провинций — Кюменегордской и Нюландской, занимавших всё северное побережье Финского залива, не отказываясь при этом от своего «подарка» шведам — голштинского «дядюшки».
На основании вышеописанного опроса членов русского кабинета Румянцев и Люберас объявили шведам, что в случае выбора Адольфа-Фридриха в наследники Россия оставит за собой
«добрую часть Финляндии, а им уступит нарочитую», при неизбрании же русско-голштинского кандидата шведы не получают ничего. Если Дания объявит из-за голштинского наследника войну Швеции, Россия готова будет выступить ей на помощь.
Скоро Седеркройц и Нолькен заявили, что риксдаг и правительство склонны к избранию Адольфа-Фредрика, но при этом хотели бы знать, какие ещё выгоды и вознаграждения (!) для них сделает русская императрица. Шведы очень надеются, что Елизавета учтёт шведские нужды и прикажет заключить мир на условиях Ништадтского договора, то есть на условиях статус-кво перед началом военных действий. Естественно, шведы по-прежнему рассчитывали на гарантии против Дании, которые Бестужев называл их «шведскими бесстыдными прихотями».
Русские делегаты ответили, что шведы должны были первыми назвать ту часть Финляндии, которую они согласны отдать России. Шведы предложили земли до реки Мейделакс, на что Румянцев и Люберас возразили, что русская сторона не удовлетворится и уступкой земель до реки Кюмень. Шведы говорили, что если речь идёт об уступке половины Финляндии, то они лучше дадут завоевать себя датчанам и выберут в наследники датского принца. Тогда русская делегация, вместо того чтобы ответить партнёрам по переговорам: «Как хотите» и повернуться к ним задом, уступила шведам Остерботтнию, Аландские о-ва и Бьорнеборгский уезд. Но и на этом «подарке» шведские бесстыдные прихоти не кончились!
Как обычно водится на подобных переговорах, стороны желали уступить друг другу как можно меньше, а приобрести или сохранить — как можно больше. То ли уставший, то ли размякший от наседавших голштинцев и шведских партнёров, Румянцев написал в Петербург, что надежды на заключение мира на согласованных с императрицей условиях — уступать не далее Нюландской провинции — было мало (?), и просил новых инструкций,
«понеже я здесь не могу знать намерения её величества ниже вашего рассуждения, что вам более надобно: мир или война?». Против заключения Румянцева рассердившийся А.П. Бестужев оставил на полях пометку:
«Худые пророки!»
Бухвальд продолжал бомбардировать Румянцева «страшилками» о том, что шведы намерены уйти с мирной конференции и возобновить военные действия.
И вот 10/21 апреля русские в Обу пошли ещё на одну уступку, объявив со своей стороны в ультимативной форме, что дальше Нюланда они не пойдут, и стали ждать ответа шведов. Ответ затягивался, Бухвальд пугал, что шведы на такие условия вряд ли согласятся и готовят к войне армию от 30 до 40 тысяч человек и флот, состоящий из 24 кораблей. (На полях против последних утверждений голштинца, намеренно сгущавшего краски, А.П. Бестужев оставил пометку:
«Угрозы! Столько нет! Неправда!», а там, где говорилось о том, что Дания тоже намеревается помогать шведам, осуществив интервенцию на Аландские о-ва, Бестужев написал:
«Прежде ни о чём не писал, а ныне с разными угрозами!»)
От назойливых действий голштинца лопнуло терпение и у Елизаветы Петровны, которая
«Бухвалду вовсе изволила запретить в дела на конгрессе мешатца и нашим полномочным с ним корреспондоватъ не велеть, ибо ни денег, ниже какого повеления ему не будет и не ожидал бы» (письмо кабинет-секретаря барона И.А. Черкасова от 14/25 мая вице-канцлеру Бестужеву). Вице-канцлер вообще был недоволен ведением дела на мирных переговорах, полагая, что Румянцев проявлял в Обу излишнюю торопливость, и писал ему довольно «неласково». В ответ генерал обижался, оправдывался и со своей стороны укорял вице-канцлера:
«Я никогда не думал, чтоб ваше сиятельство на моё покорное письмо так недружески ответствовали…»
9 мая Нолькен прибыл в Стокгольм и довёл до сведения правительства Швеции последние условия русской стороны, но они показались там слишком строгими. Однако некоторое время спустя оставшийся в Обу Седеркройц сообщил в Стокгольм, что, по-видимому, и Нюландский лен из условий мирного договора можно будет исключить. Эту новость подтвердил английскому посланнику в Стокгольме Мельхиору Ги-Диккенсу его коллега из Петербурга. Оказывается, Седеркройц, пользуясь своим старым знакомством с царевной Елизаветой, написал императрице льстивое письмо, что, по мнению Мальмстрёма, в конечном счёте и побудило её согласиться на минимальные территориальные требования.
24 апреля Елизавета собрала ещё один форум «знатных», но фактически безответственных персон, чтобы спросить у них мнение о том, как завершить мирный договор в Обу. Сановники пришли к выводу, что, ввиду недружественного расположения Пруссии, Польши, Турции, Дании и Франции, жёсткие требования к шведам нужно снять. Собрание постановило оставить за Россией Кюменегордскую область, включая Фридрихсгам и Вильманстранд, а также Саволакс и Нойслотт (Нейшлот)
«с их дистриктами, ибо эти области прикрывают Выборгский, Кексхольмский и Олонецкий уезды». С этим согласилась и Елизавета:
«Лучше нам оставить за собой малое, да нужное, а шведам уступить большее и им полезное, а нам ненужное». О чести и достоинстве России и о справедливом наказании наглого агрессора помышляли лишь один А.П. Бестужев-Рюмин и несколько его единомышленников, но решали «демократично» — большинством.
И тем не менее в середине мая из Стокгольма сообщили, что король Фредрик не может уступить Нюландии, он готов расстаться только с Кюменегордской провинцией! Это походило уже на издевательство. Тогда Румянцеву и Люберасу поступило указание… согласиться вернуть шведам и Нюландскую провинцию, но из Кюменегордской провинции потребовали оставить за Россией Саволакс и Карелию. 1 июня русские делегаты зачитали своё окончательное решение, и в случае несогласия с ним предложили шведам уехать из Обу домой. Абзац про Саволакс оказался для шведов неприятным сюрпризом, но Нолькен и Седеркройц с конгресса не уехали. Румянцев и Люберас пояснили им, что Саволакс попал в текст договора либо по ошибке, либо по инициативе А.П. Бестужева-Рюмина, и заверили их, что это можно всё изменить, и послали в Петербург курьера, которому поручили выяснить возникшее недоразумение. В Швеции в самом разгаре было крестьянское восстание в Далекарлии, сделавшее своим знаменем датского принца, и мирный договор был нужен шведскому правительству как воздух, но Румянцев и Люберас так боялись обидеть шведов, что ни о чём ином, кроме как об их ублажении, думать были не в состоянии.
Приезд курьера из Обу послужил причиной ещё одного собрания русских министров, которые принялись «рассуждать» о том, чтобы отдать шведам и Саволакс. Об этом заседании «мудрецов» А.П. Бестужев-Рюмин написал И.А. Черкасову письмо, в котором красочно описал «выступления» горлопанов генерал-прокурора Трубецкого, начальника Тайной комиссии Ушакова и князя М.М. Голицына, настоявших в последний момент на изменении уже утверждённых инструкций Румянцеву и Люберасу.
«Могу поистине сказать, что от помянутых спорщиков и крикунов сего собрания совет подобен был козацкому кругу».
Зная характер вице-канцлера, мы можем вполне свободно предположить, что требование об удержании за русской стороной Саволакса и впрямь могло быть им тайно добавлено к уже утверждённым ранее инструкциям. Почему же для пользы дела и не обмануть дураков? Это обстоятельство и послужило, по всей видимости, предметом яростного спора Трубецкого и его «товарищей» с Бестужевым-Рюминым. Уловка вице-канцлера не прошла из-за «принципиальной» позиции его противников, которые думали не о пользе отечества, а о том, как насолить ему лично. То, что они при этом «угодили» шведам, для них не имело почти никакого значения.
В мае, в разгар трудных мирных переговоров со шведами, вице-канцлер обнаружил, что в Сенат в качестве переводчика был незаконно — судя по всему, стараниями г-на Бруммера, — «пристроен» некий швед Вассер, вообще не владевший русским языком. На вопиющее нарушение правил сохранения государственной тайны, запрещающих допуск иностранцев к государственным учреждениям, Бестужев указывает в письме к Черкасову от 1 июня 1743 года.
Но пока Нолькен и Седеркройц сидели в Обу, война продолжалась, и на театре военных действий произошло ещё одно неприятное для шведов событие — появление эскадры Н.Ф. Головина у о-ва Гангут и прорыв большой галерной флотилии русских в западную часть Финского залива. Шансы русской делегации на заключение мира на своих условиях сильно возросли, но тем не менее 14 июня Нолькен и Седеркройц в знак несогласия с русскими условиями покинули зал заседаний и собрались отъехать домой. Но никто никуда не уехал. Согласно Соловьёву, шведы Обу вообще не покидали. 15 июня Нолькен якобы явился к Люберасу и со слезами на глазах просил русскую делегацию сделать шведам уступку по Саволаксу. Договорились подписать текст мирного договора, оставив пункт о Саволаксе на
апробацию Елизавете, а о Нойслотте — на
апробацию королю Фредрику.
Шведским делегатам деваться было некуда — в Ботническом заливе появились русские галеры, а далекарлийские крестьяне угрожали самому Стокгольму. Шведы безоговорочно уступали русским Кюменегордскую провинцию и крепость Нюслотом (Нейшлот) с узкой полоской саволакской землицы. Шведы обязались немедленно приступить к выборам Адольфа-Фридриха в качестве наследника шведского трона. Позорный для России торг наконец закончился, и поздним вечером 16/27 июня 1743 года был подписан прелиминарный акт. После подписания «немец» Люберас в доверительной форме сообщил Нолькену и Седеркройцу, что после избрания русско-голштинского кандидата на шведский трон императрица вернёт саволакскую землю вместе с крепостью Нюслотом обратно шведам.
В Стокгольме с облегчением вздохнули: теперь можно было отозвать воинские части с финского театра военных действий и использовать их для подавления крестьянского восстания.
28 июня/9 июля шведские послы Э.М. Нолькен и Г. Седеркройц вручили в Обу русским послам А.И. Румянцеву и Л.И. Люберасу парафированные в Стокгольме условия мира. В Швеции мирный договор был ратифицирован 15/26 августа, а в Петербурге — 19/30 августа. 6/17 сентября в Летнем дворце Санкт-Петербурга был большой праздник: по случаю мира со Швецией ставили комедию и устроили большую иллюминацию Летнего сада. Елизавета Петровна на радостях приказала выдать епископу Любекскому, новому шведскому наследнику Адольфу-Фредрику, 50 тысяч рублей подъёмных на проезд из Любека до Стокгольма.
Более похабный мир Россия получила, возможно, лишь в 1918 году с немцами в Бресте. А.П. Бестужев-Рюмин в конечном счете мог утешить себя рассуждением, что лучше иметь со Швецией прочный мир на умеренных условиях, нежели настаивать на договоре, который вызовет настроения пересмотреть его сразу же после заключения. Международное положение Российской империи и в самом деле было не таким уж и блестящим, так что ликвидация Северного фронта была России на руку.
СИСТЕМА ДЕЙСТВУЕТ
Французские агенты вкупе с прусским посланником Акселем фон Мардефельдом
[50] пока пытались слегка вредить Бестужеву-младшему и поссорить его с Елизаветой Петровной, но их интриги были бесплодны и своей цели не достигали. И всё-таки положение Алексея Петровича всё ещё было достаточно шатким. Об этом косвенно свидетельствует отношение к нему императрицы и упомянутого И.А.Черкасова. В злорадном письме от 28 июля/8 августа 1743 года барон, сам достаточно безграмотный, по указанию Елизаветы Петровны сделал Бестужеву выговор за допущенные им в докладных бумагах поправки:
«…Е.И.В. указала объявить Вашему Сиятельству у чтобы в указех, кои к подписи Её Величеству будут впредь подношены, меж строк и чищенья приправок, а паче взмётных слов, яко херы, тверди и протчия слова на верху, меж строк пишемыя, впредь бы не были, но все слова в строках писаны были бы». Совершенно очевидно, Алексей Петрович в последний момент, перед подачей бумаг «наверх», был вынужден лично править труды писчиков КИД, и переписывать бумаги начисто уже не было времени.
До этого, ещё весной 1743 года, Бестужев сделал, кажется, первую попытку обратить внимание Елизаветы Петровны на неблаговидную деятельность Бруммера, помогавшего дипломату шведской делегации Норденфлихту в его усилиях заключить выгодный для своей страны мир. Бестужев через переводчика Иванова перехватил три письма шведа, в том числе к Бруммеру и Лестоку, вскрыл их и предложил Черкасову ознакомить с содержанием писем Елизавету. Но, кажется, инициатива вице-канцлера не пришлась ко двору и вызвала негативную реакцию.
В октябре 1743 года Черкасов вообще допустил по отношению к вице-канцлеру хамство, сделав ему в самых нелицеприятных выражениях выговор за то, что тот употребил его курьера для нужд КИД:
«Да и сверх того, что до меня ни мало не касаетца, прислали, навязав мне на шею, то, что Ваше Сиятелство сами должны исправить и вручить и докладывать Её Императорскому Величеству. Никогда б я не ожидал таких от Вашего Сиятелства в должности Вашей затруднений и приличных Вашей должности трудов наваливания на чюжую шею».
Так что вице-канцлер был пока далёк от мысли начать планомерную борьбу с французским влиянием при дворе Елизаветы — слишком сильное влияние оказал Шетарди на купавшуюся во власти и роскоши императрицу, и слишком близко от неё, почти неотступно, находился его агент Лесток. Вице-канцлер счёл целесообразным проявить уступчивость в вопросе сватовства Версаля к Елизавете, согласившись на кандидатуру жениха — принца Конти, а заодно принять от Шетарди «пенсион» в размере 15 тысяч ливров.
Согласиться-то Бестужев согласился, но принять пенсион по здравому размышлению отказался. Он тут же доложил о предложении француза Елизавете Петровне, а потом встретился с Шетарди и сказал, что от пенсии отказывается, так как ничем её не заслужил. Валишевский пишет, что Бестужевым в этот момент, возможно, руководила та самая сила, которая стала проявляться у русских в первые же дни правления Елизаветы — национальное самосознание и ощущение собственных национальных интересов. В таком случае наш маститый классик противоречит самому себе, утверждая, что поступками Бестужева-Рюмина руководила лишь личная выгода.
Но не только это сподвигло Бестужева на такой «подвиг»: его внимательный взор уже отметил, что Елизавета под разными предлогами — то ей нужно было идти в баню, то сменить платье — стала избегать свиданий с Шетарди. Императрица была возмущена коварной ролью Франции, выразившейся в том, что Париж фактически спровоцировал шведов на открытие военных действий в Финляндии, а теперь предлагал себя в качестве посредника, одновременно натравливая против России Данию и Турцию. Верить в такого посредника ей, конечно, Бестужев не позволил.
Бедняга Шетарди терялся в догадках, что произошло с русской императрицей, но всё стало на свои места, когда Бестужев объяснил незадачливому французу, что Россия, вопреки всяким прогнозам Парижа и Берлина, полагавшим, что Россия была слишком слаба и не готова к войне, возобновляет военные действия со Швецией. Король Людовик XV, которому была поручена роль посредника между Стокгольмом и Санкт-Петербургом, оказался в незавидной роли. Он был ещё больше взбешен тем фактом, что Шетарди, получив информацию от Бестужева за неделю до возобновления войны, не удосужился предупредить об этом шведского главнокомандующего в Финляндии К.Г. Левенхаупта. С этого момента Шетарди, получивший выговор от своего короля, затеял борьбу с Бестужевым не на живот, а на смерть.
Русская армия во главе с фельдмаршалом Лейси снова оказалась способной нанести шведам поражение и к осени практически завоевать всю Финляндию. Шетарди был спешно отозван Версалем домой.
Это был сильнейший удар по всей дипломатии Версаля, который в значительной степени облегчал действия вице-канцлера Бестужева.
Итак, одной головной болью у Бестужева стало меньше. Но Елизавета настолько привыкла к французскому «шармёру» Шетарди, что никак не могла с ним расстаться. Некоторые историки говорят о настоящем романе русской царицы с послом Франции. Вполне возможно — дочь Петра была женщиной очень и очень увлекающейся. Но важно подчеркнуть то, что Елизавета, согласившись следовать советам Бестужева, в беседах с Шетарди постоянно его подставляла (привычка всех русских начальников) и изображала главным виновником всех недоразумений. Да, говорила она, братья Бестужевы «заходят слишком далеко», и было бы неплохо избавиться хотя бы от старшего брата, направив его посланником в Дрезден, и тогда младший брат наделал бы без него ошибок и тем самым погубил себя. Она никогда не допустит, уверяла она маркиза, чтобы Францию изгнали из её сердца.
Чтобы доказать, что императрица своих слов не бросает на ветер, Елизавета стала усиленно противиться подписанию русско-английского договора. На совет Бестужева немедленно подписать договор императрица выдвигала условие, чтобы предоставляемые Россией войска никогда не будут употреблены против Франции!
— Но тогда договор теряет всякий смысл! — увещевал её вице-канцлер.
— Это мне всё равно, — отвечала Елизавета. — Пока я жива, я никогда не буду врагом Франции. Я ей слишком обязана.
Эта беседа, согласно версии Лестока, имела место 19/30 июля 1742 года, а неделю спустя она уже смирилась с отъездом Шетарди из России и просила посвятить ей и только ей последнюю неделю его пребывания в Петербурге. Ветреная императрица потом долго ещё «дурила» маркиза, приглашая его то на свидание, то в Троицесергиеву лавру, то в парк, то к себе в кабинет, но каждый раз под разными предлогами ускользала от решительного делового разговора. В конце концов, утомлённый этой ветреностью — то ли намеренной, то ли естественной, — маркиз был вынужден на некоторое время покинуть Россию.
— Уезжайте, — посоветовал ему Лесток. — Она вас любит. Раздразните её хорошенько, она будет тосковать по вас, и ваше отсутствие скорее, нежели ваша близость, поможет вам довести до конца начатое нами дело.
Перед отъездом он поставил перед императрицей вопрос ребром: или он, или Бестужев. Елизавета, как всегда, отделалась неясным обещанием. В конце 1742 года Шетарди уехал, в злости бросив на прощание Лестоку фразу:
— Остерман был плут, но умный плут, который отлично умел золотить свои пилюли; теперешний же вице-канцлер просто полусумасшедший.
Бестужев при желании мог бы облечь горькие пилюли и в платиновую обложку, но всё дело было в том, что он был решительно настроен на то, чтобы «угостить» маркиза именно горькими пилюлями.
В конце июля — начале августа 1743 года вице-канцлер занемог и попросил кабинет-секретаря императрицы барона И.А.Черкасова организовать приём у Елизаветы Петровны секретарю КИД И.О. Пуговишникову. Черкасов сделал на обороте письма вице-канцлера ядовитую помету:
«Как Вашему Сиятелству не можетца, так и мне в баню хочетца» и предложил Бестужеву послать вместо себя на доклад к императрице другого кабинет-секретаря, Карла фон Бреверна.
Маркиз Шетарди исчез с ощущением горечи и во рту, и в сердце, но оставался его агент Лесток, который сильно беспокоил Бестужева. Лесток имел больше возможностей бывать наедине с императрицей, нежели вице-канцлер или любой другой министр. Лейб-медик мог в одну минуту разрушить то, что Бестужеву удавалось внушить Елизавете в редкие минуты аудиенции. Австрийский посланник Петцольд в своих воспоминаниях приводит жалобы Бестужева на непостоянство императрицы и постоянное её общение со своим лейб-медиком:
«Недавно у государыни сделалась колика… был позван Лесток, и чрез несколько времени ввели к императрице Шетарди, с которым у них было какое-то тайное совещание, а когда пришли министры, она начала им объявлять новые доказательства, почему дружба Франции полезна и желательна для России… Но князь Кантемир пишет из Парижа в каждом донесении, чтоб ради Бога не доверяли Франции, которая имеет в виду одно —
обрезать крылья России… Могу ли я после этого по долгу и по совести быть за Францию? И не заслуживаю ли я вместе с братом сожаления, когда государыня, несмотря на мой прямой способ действия, слушается всё-таки Лестока и Шетарди…»
Впрочем, Алексей Петрович скоро
«приноровился» к непостоянству Елизаветы и стал искать к ней не прямые, а более хитрые, окольные пути и постепенно переигрывать Лестока. Лейб-медик, полагая себя главным виновником восхождения Елизаветы на трон, вёл себя самоуверенно и дерзко, считая себя непогрешимым и единственным советником императрицы. Лейб-медик говорил тому же Петцольду, что очень надеялся, что старший Бестужев «образует» младшего, но этого не произошло. Он считал обоих братьев лентяями, людьми ограниченными и трусливыми, которые во всём руководствуются лишь предрассудками, своекорыстием и злобой. Обоюдное неприятие между Бестужевым и Лестоком должно было рано или поздно найти свой выход, и он произойдёт.
Отсутствие Шетарди вовсе не означало, что Франция прекратила свои происки против России и её вице-канцлера. Бестужев не переставал повторять Елизавете, что на Францию ей необходимо смотреть через призму донесений Антиоха Кантемира из Парижа, но это пока мало помогало, потому что императрица продолжала видеть русско-французские отношения сквозь розовые очки маркиза Шетарди.
В Петербурге между тем продолжал действовать официальный, настоящий, посланник Франции — Луи д'Юссон д'Аллион, обладавший не меньшими амбициями, нежели убывший из России Шетарди. В июле 1743 года он сообщал в Париж, что вместе с гофмаршалом великого князя Петра Фёдоровича Оттоном Бруммером и Лестоком, невзирая на «кредит» Бестужевых и английского посланника Уича, имеет важное влияние на решение шведских дел. В частности, эти двое господ заблокировали проект женитьбы на английской принцессе только что водворённого по воле России шведского наследника трона.
«Господа Бруммер и Лесток мне сказали, что они недавно склонили царицу писать принцу, чтоб он не думал более об этом браке, — писал д'Аллион. —
Оба по моему наущению и собственным выгодам удвояют усилия, чтобы низвергнуть Бестужевых… и поручить заведование иностранными делами генералу Румянцеву, господину Нарышкину… или князю Кантемиру…» После лопухинского дела
«голос Бестужева и его шайки», по словам д'Аллиона,
«очень слаб теперь».
В сентябре 1743 года по указу Елизаветы Петровны над французской миссией был установлен карантин: в миссии заболел оспой секретарь Мондемер, и императрица распорядилась, чтобы Бестужев-Рюмин
«пристойным образом» дал знать французскому посланнику, что её двор не будет его принимать минимум в течение полутора месяцев. Кажется, способ оповещения д'Аллиона оказался на практике не очень пристойным: ноту о карантине вручил ему слуга оберцеремониймейстера Франц Матвеевич Санти.
…Но кроме французской головной боли у вице-канцлера появилась голштинская. Во-первых, совершенно внезапно для всех голштинский «чёртушка» и великий князь Пётр Фёдорович был объявлен наследником Елизаветы. Об этом заранее знали только Лесток, новгородский архиепископ Амвросий Юшкевич (1690—1771) и появившийся при дворе великого князя Петра Фёдоровича голштинец Оттон Ф. фон Брюммер (Бруммер)
[51]. Именно гофмаршал Петра Фёдоровича Бруммер при содействии Лестока затеял возвести на шведский трон ещё одного голштинца — епископа Любекского Адольфа-Фридриха (1710—1771), дядю великого князя Петра Фёдоровича, что сильно осложнило действия Бестужева на русско-шведских мирных переговорах. Вице-канцлер выступал за жёсткие условия мира со шведами вплоть до оставления за Россией завоёванной Финляндии, а теперь, чтобы заставить шведов принять к себе Адольфа-Фридриха, Россия как победитель, чтобы буквально «всучить» шведам неудобного кандидата, должна была умерить свои требования.
При всём этом Бестужев проявлял косвенную заботу о наследнике. В письме от 7 сентября 1744 года он напоминает Черкасову о том, что великому князю до сих пор не переведены 70 тысяч рублей. Вице-канцлер пишет, что он волнуется не за самого Петра Фёдоровича, а за интересы государства Российского: деньги нужны герцогству Голштинскому, поскольку в противном случае герцогство, согласно уставу Священной Римской империи, будет у Петра Фёдоровича отнято.
Преуспевший в своих усилиях посадить на трон Швеции угодного кандидата, русский двор должен был теперь позаботиться об её обороне. Такая перспектива мало нравилась вице-канцлеру Бестужеву. Он справедливо негодовал, что
«сии скоропостижныя голштинския угрозы впутать могут в новую войну», которая будет
«без всякой прибыли». Цитируя слова английского посла С. Уича, братья Бестужевы надеялись,
«предлагая Ея Величеству только один шаг за другим, незаметными ступенями довести её до выполнения всего плана их, который как нельзя более удовлетворителен».
Однако послать в Швецию корпус во главе с генералом Кейтом
[52] всё-таки пришлось, и у Швеции до войны с Данией дело не дошло. Маркиз Шетарди хвастался тем, что лично сочинил проект инструкции генералу Джеймсу Кейту, возглавлявшему контингент русских войск в Швеции. Бестужев возмущался:
«Неслыханное в свете дело, чтоб в совете по проекту иностранного министра оканчивалось и всё, что в оном прибавлено или происходило, ему точно известно. Генерал Кейт в су мнении будет, по каким указам ему исполнять: по отправленным ли из коллегии Иностранных дел или как по Шетардиеву составлению…»
А.П. Бестужев-Рюмин был недоволен посылкой русских солдат в Швецию и говорил:
«Сии скоропостижные голштинские угрозы впутать могут в новую войну, которая без всякой прибыли удаления ради ещё тяжелее прежней будет».
Важный пункт системы А.П. Бестужева-Рюмина касался отношений с Австрией. Бестужев с помощью австрийских дипломатов в Петербурге предпринимал энергичные меры к установлению с Веной самых дружественных отношений и старался одновременно рассеять у Елизаветы Петровны предубеждения против австрийского двора, возникшие, в частности, в результате «лопухинского дела» и участия в нём австрийского посланника. Правда, на этом пути его здорово подвели коварные «альбионцы», которые неожиданно заключили оборонительный союз с пруссаками. Посланник Фридриха II в Петербурге Мардефельд при содействии С. Уича прилагал теперь усилия по заключению аналогичного союза с Россией, чтобы последняя гарантировала Фридриху недавнее разбойничье его приобретение Силезии
[53]. Это была первая английская подножка Бестужеву и его системе, но за ней скоро последует вторая.
Получалась странная, прямо-таки уродливая внешнеполитическая конфигурация, совмещавшая в себе несовместное (и сильно напоминающая нам положение в Европе накануне Второй мировой войны): Англия, союзница России и Австрии, заключила союз с их противником Пруссией и теперь, нарушая стройную систему Бестужева, пыталась уговорить его заключить союз с Берлином. И такой союз в марте 1743 года был подписан, правда, без русской гарантии завоевания пруссаками Силезии (при этом Берлин дал гарантии русским приобретениям в Финляндии). Конечно, русско-прусский союз был мертворождённым ребёнком, ибо и Елизавета, и уж тем более Бестужев относились к Пруссии с большим недоверием.
Между тем неуёмный Фридрих II, или, как его с чьей-то лёгкой руки в окружении Бестужева назвали,
скоропостижный король, попытался возмутить ганноверских князей против английского их родственника короля Георга II, что сильно всполошило Форин Офис и заставило С. Уича провести зондаж относительно позиции России на случай военных действий Англии с Пруссией. А.П. Бестужев-Рюмин дал ему понять, что России в союзе с Австрией и Англией «окоротить» Фридриха не представило бы большой проблемы. Впрочем, между Бестужевым и англичанами полного единства взглядов не существовало: Бестужеву важны были национальные интересы России, и для их обеспечения он искал в Европе надёжных союзников, в то время как Англия преследовала в этой политике лишь цель восстановить в Европе нарушенное Францией равновесие сил. Говоря попросту, это равновесие вице-канцлера волновало постольку-поскольку, а если и интересовало, то только в преломлении к русским интересам и нуждам. В этом смысле Алексей Петрович был одним из тех немногих бескомпромиссных людей на внешнеполитическом поприще России, которые во главу угла ставили интересы своего отечества. Последующие канцлеры России будут послушно выполнять предначертания своих императоров и обеспечивать не столько интересы собственной страны, сколько стараться «ублажить» то Пруссию, то Австро-Венгрию, то Европу в целом.
Сближение с Австрией произошло после Бреславского мира, заключённого 1 ноября 1743 года между Австрией и Пруссией. К этому времени императрица Мария-Терезия (по своим делам и значению для страны — австрийская Екатерина II), уже признала императорский титул Елизаветы Петровны и намеревалась пойти ещё дальше. Всё дело на некоторое время испортило «лопухинское дело» и действия австрийского посланника де Ботты (см. далее). Они на некоторое время осложнили действия вице-канцлера по сближению с Австрией.
Естественно, доверие императрицы к Бестужеву после английских «кульбитов» уменьшилось, и ему снова и снова приходилось взбираться на одну и ту же скользкую горку. У него, правда, появился временный союзник — конференц-министр граф М.И. Воронцов
[54], также участвовавший в суде по «лопухинскому делу». Этот граф в ночь переворота с 24 на 25 ноября 1741 года вместе с Петром Шуваловым (1711—1762) стоял на запятках саней Елизаветы Петровны, теперь стал помощником А.П. Бестужева-Рюмина, но позже перейдёт на сторону его врагов.
А.П. Бестужев стал автором и русско-прусского договора 1743 года. Договор, как мы упоминали, был неискренним с обеих сторон, но стороны пошли на него, чтобы хоть как-то насолить Франции. Фридрих II надеялся этим на какое-то время нейтрализовать Россию и предлагал возобновить русско-прусский договор 1740 года, подписанный во времена регентства Анны Леопольдовны и позволявший ему получить гарантию на его завоевания в Австрии, но Бестужев настоял на том, чтобы взять за образец договор 1726 года, менее выгодный для Пруссии.
1744 год стал годом решительных сражений вице-канцлера с французской партией на поле дипломатической и тайной войны. Он начался для России не совсем удачно: ставленник Елизаветы Петровны на шведском троне наследный принц Адольф-Фредрик, вопреки энергичным протестам Алексея Петровича, женился на сестре Фридриха II Ловисе Ульрике, и состоялся брак английской принцессы Луизы с датским кронпринцем. Группировка европейских держав снова складывалась не в пользу России, из-под ног Бестужева стала уходить почва, ибо он почувствовал охлаждение к нему Лондона. Форин Офис предложил ему подписать соглашение с Копенгагеном, и Бестужев, связанный по рукам и ногам обязательствами перед голштинским двором, выдвинул Копенгагену условие, согласно которому Дания формально отказалась бы от всяких прав на Голштинию. Естественно, Дания ответила отказом, и тем дело и закончилось.
Положение вице-канцлера осложнилось ещё и тем, что конференц-министр М.И. Воронцов «с лёгкой руки Марде-фельда» стал менять к нему своё благосклонное отношение, а это сильно мешало Бестужеву-Рюмину получать непосредственный доступ к императрице, поскольку все дела ему приходилось докладывать императрице через конференц-министра Воронцова. Нужно было сначала «обрабатывать» Михаила Илларионовича и вставлять в его уста некоторые свои наиболее щекотливые и важные мысли, а это не всегда удавалось. Нужно было всячески изворачиваться, юлить и подобострастничать, обращаясь к младшему по рангу лицу с угодливыми письмами и подписывая их выражениями типа
«всепослушнейший и всенаиобязательнейший слуга».
Как пишет Валишевский,
«Елизавета не любила англичан и относительно Бестужева питала чувства, сходные с физическим и нравственным отвращением. Она всегда старалась избегать его общества. Он был ей неприятен, скучен, раздражал её, вместе с тем импонируя ей знаниями, которые она долго считала выдающимися, и дарованиями, казавшимися ей незаменимыми до тех пор, пока её не приучили обходиться без них».
Валишевский, оценивая деятельность Бестужева на посту канцлера негативно, явно преувеличивал степень неприязни императрицы к своему вице-канцлеру. Очевидно, что она не питала к нему тёплых чувств, но её отношение к нему вряд ли доходило до степени физического или нравственного отвращения. При дворе были более отвратительные типы, с которыми императрица была вынуждена общаться и поддерживать отношения. Возможно, она была бы и рада обойтись без Бестужева-Рюмина, но не могла. Так что все уговоры и нашёптывания Шетарди и Лестока о замене его Румянцевым или Нарышкиным на неё не подействовали.
Шетарди, неофициальный посол Франции, потерпевший крах в деле заключения мира со Швецией в конце 1742 года, был отозван домой, но торжествовать победу вице-канцлеру было ещё рано. Надвигалось так называемое лопухинское дело, или дело о заговоре де Ботты, непосредственно угрожавшее безопасности братьев Бестужевых, но, слава Богу, и сам Алексей Петрович, и его брат, обер-гофмаршал двора и кавалер ордена Андрея Первозванного (он получил его в коронацию Елизаветы Петровны) Михаил Петрович, вышли из него целыми и невредимыми. Помог всесильный А.Г. Разумовский (1709—1771). По всей видимости, императрица всё-таки проявила «респект» к Бестужевым, оказавшим ей и государству немалые услуги.
ДЕЛО ЛОПУХИНЫХ
21 июля 1743 года по Петербургу разнёсся слух об открытии важного антиправительственного заговора. Императрица, находившаяся в Петербурге инкогнито, отложила свой отъезд в Петергоф, откуда в столицу немедленно прискакал Лесток. Ночью везде по улицам ходили патрули.
В беспокойном ожидании прошли три дня, а 25 июля в пятом часу пополуночи генерал начальник Тайной канцелярии Ушаков, генерал-прокурор Трубецкой и капитан гвардии Григорий Протасов арестовали подполковника Ивана Степановича Лопухина, сына бывшего генерал-кригскомиссара С.В. Лопухина (1685—1748), близкого к опальному гофмаршалу Левенвольде человека и с приходом Елизаветы к власти попавшего в опалу. К матери арестованного, Наталье Фёдоровне Лопухиной, урождённой Балк, племяннице известной Анны Монс и бывшей статс-даме при дворе Анны Иоанновны и Анны Леопольдовны, приставили караул.
…Всё началось с того, что Н.Ф. Лопухина решила послать с оказией, поручиком Бергером, записочку своему возлюбленному — сосланному Елизаветой в Сибирь графу и бывшему обер-гофмаршалу Р.-Г. Левенвольде. Записку Наталья Фёдоровна передала Бергеру через своего сына Ивана. Бергер, поручик лейб-кирасирского полка, курляндец, отправлялся в Сибирь в качестве главного охранника Левенвольде, но ехал он туда с большой неохотой.
Лопухина была близкой подругой обер-гофмаршальши А.Г. Бестужевой, а потому хитрый курляндец, показавший себя уже прежде ненадёжным человеком, в записочке Лопухиной сразу усмотрел возможность доноса и шанс на то, чтобы остаться в столице. Он немедленно отправился с запиской к Лестоку, и тот от неё чуть не подпрыгнул от радости. Лесток уже страдал от нереализованной мести к вице-канцлеру Бестужеву, и сразу принялся за дело. Ничего, что речь шла о жене М.П. Бестужева, — семья-то одна.
Сама записка на заговор явно не тянула, но Лестоку подвернулся сын Лопухиной Иван, камер-юнкер при дворе Анны Леопольдовны, а теперь потерявший место и топивший свою тоску в трактирах. Бергеру по заданию Лестока предстояло в присутствии свидетеля выпытать у Ивана Лопухина более подробные сведения, послужившие основанием для отправления указанной записки. Бергеру не составило особого труда войти в контакт, а потом и в доверие к подвыпившему графу Ивану и узнать от него, что тот очень тоскует по старым временам, и что настоящим царём России он считает царевича Ивана Антоновича. Вот этого было уже достаточно, чтобы Бергер явился в Тайную канцелярию и заявил «слово и дело». Свидетелем на беседе Бергера с Лопухиным выступил адъютант принца Гессен-Гомбургского майор М. Фалькенберг.
25 же июля Бергер и майор Фалькенберг были допрошены.
Бергер показал, что 17 числа он в трактире познакомился с Иваном Лопухиным, а после трактира их беседа была перенесена в дом Лопухиных, где хозяин стал жаловаться, что после свержения Анны Леопольдовны его понизили в чине, а новая государыня — незаконнорожденная и занимает русский престол не по закону. Караул, который был приставлен к царевичу Иоанну Антоновичу в Риге, проявлял к узнику симпатии, так что освободить законного наследника и возвести его на русский престол не представляло никаких трудностей. Иван Лопухин намекнул, что через несколько месяцев в России произойдут большие перемены.
Фалькенберг, со своей стороны, рассказал, что Иван Лопухин критиковал нынешнее правление, особенно Лестока, называя его «канальей», и хвалил «бывших» — Остермана и Левенвольде; утверждал, что прусский король окажет помощь Иоанну Антоновичу, а
«наши, надеюсь, за ружьё не примутся». На вопрос майора, скоро ли всё это будет, Лопухин ответил утвердительно и обещал в случае удачного переворота не забыть и про Фалькенберга. Фалькенберг поинтересовался, не было ли в этом деле других сообщников, и Лопухин, поколебавшись с минуту, назвал австрийского посланника де Ботта д'Адорно (1693—1745) как верного слугу и доброжелателя рижского узника.
Немедленно допросили И.С. Лопухина, и тот после очной ставки с доносчиками во всём признался. 26 июля он дополнительно показал, что отец и мать сильно обижены отношением к ним Елизаветы и что к его матери перед своим убытием из России к месту новой службы в Берлин приезжал маркиз де Ботта. Австриец сказал ей, что не успокоится до тех пор, пока не освободит из заключения всё брауншвейгское семейство. Он добавил, что прусский король также будет помогать Анне Леопольдовне. Все эти слова Н.Ф. Лопухина передала своей подруге Анне Гавриловне Бестужевой-Рюминой, когда та была у Лопухиной в гостях вместе с дочерью Настасьей.
Н.Ф. Лопухина, которую допрашивали пока дома, подтвердила факт беседы с де Ботта и его намерение вернуть на престол Анну Леопольдовну, а также посвящение в содержание разговора А.Г. Бестужевой-Рюминой.
Допросили жену обер-гофмаршала М.П. Бестужева. Анна Гавриловна подтвердила, что всё, что она слышала в доме Лопухиных, де Ботта говорил и у неё в доме. Но жена Михаила Петровича Бестужева-Рюмина оказалась крепким «орешком» и много о своём участии в описанных выше разговорах не рассказала:
— Говаривала я не тайно: дай Бог, когда бы их (то есть брауншвейгское семейство. —
Б. Г.) в отечество отпустили.
Более разговорчивой оказалась её дочь Настасья Михайловна (по родному отцу, первому мужу Анны Гавриловны, Ягужинская), подтвердившая показания Н.Ф. Лопухиной.
После этих предварительных допросов Н.Ф. Лопухину, её сына Ивана и А.Г. Бестужеву отвезли в крепость, а дочь Бестужевых оставили под домашним арестом. В крепости Лопухина рассказала следователям, что муж её тоже посвящен в планы австрийского посланника, а сын Иван в свою очередь вспомнил о том, что говорила А.Г. Бестужева его матери:
— Ох, Натальюшка! Ботта-то и страшен, а иногда и увеселит.
Потом к следствию привлекли прочих, второстепенных участников «заговора»: поручика Машкова, А. Зыбина, вице-ротмистра конной гвардии Лилиенфельда и его беременную жену Софию Васильевну, урождённую Одоевскую, адъютанта полка конной гвардии С. Колычева и др. Офицеры-гвардейцы не показали ничего нового, а вот СВ. Лилиенфельд рассказала, что с де Ботта она встречалась в домах Лопухиной и Бестужевой и там слушала разговоры о бывшей правительнице Анне Леопольдовне, что дамы высказывали сожаление о судьбе всего брауншвейгского семейства и о своей собственной участи, что Елизавета Петровна живёт «непорядочно», всюду беспрестанно ездит и бегает, что при Анне Леопольдовне им жилось куда вольготней.
Лилиенфельд оговорила также камергера князя С.В. Гагарина, но тот, как и отец С.В. Лилиенфельд, камергер двора её величества, заперся и ничего не показал.
И.С. Лопухина несколько раз поднимали на дыбу, но выбить из него дополнительные сведения следствию не удалось. Отец его Степан Лопухин на допросах признался, что недоволен своим положением при императрице Елизавете, что выслушивал непозволительные речи австрийского посланника и что сожалеет о судьбе несчастных Анны Леопольдовны, её мужа и сына, но всякий злой умысел против императрицы Елизаветы отрицал. Его, его жену и графиню Бестужеву ещё раз подвесили на дыбу, но те ничего нового сообщить следствию не могли.
Следствие спросило Елизавету, нужно ли было беременную Софью Лилиенфельд вызывать на очную ставку с оговоренным ею князем Сергеем Гагариным, на что Елизавета грубо ответила, что очную ставку с князем делать надо непременно,
«несмотря на её болезнь, понеже коли они государево здоровье пренебрегли, то плутов и наипаче жалеть не для чего, лучше чтоб и век их не слыхать, нежели ещё от них плодов ждать».
Прусский посланник Мардефельд писал:
«Офицеры, караулившие арестантов в крепости, рассказывали мне, что их подвергли невероятным мучениям. Ходят слухи, что Бестужева умерла под кнутом. Императрица часто присутствует инкогнито на допросах, когда обвиняемых не пытают».
Сознаваться арестованным было не в чем — разве лишь в досужих разговорах о судьбе бывшей правительницы и её сыне. Они могли только сослаться на свободные речи австрийского посланника и собственные ни к чему не обязывавшие комментарии. Однако специальное генеральное собрание приговорило троих Лопухиных и графиню Бестужеву к смертной казни путём колесования. Приговор подписала сама «Елизавет» — так подписывалась императрица России. «Милостивая» государыня приказала заменить казнь отрезанием языка и отправить всех в ссылку. С.В. Лопухина выслали в Селенгинск. Не пощадили и беременную княжну Одоевскую-Лилиенфельд: за недоносительство ей присудили отрубить голову, но по «помиловании» ей объявили, что после родов её ждёт наказание плетьми и ссылка.
Экзекуция, как сообщает Соловьёв, была учинена на публичном месте, перед зданием Двенадцати коллегий
[55]. Возведённая 31 августа 1743 года на эшафот, Анна Гавриловна, сестра бывшего вице-канцлера М.Г. Головкина, а теперь супруга обер-гофмейстера М.П. Бестужева и невестка вице-канцлера А.П. Бестужева, вела себя мужественно и находчиво. Пока палач раздевал её, она сумела незаметно сунуть ему золотой крест, осыпанный бриллиантами. И тот великолепно сыграл свою роль, стараясь поелико возможно смягчить силу ударов кнута, а когда он стал отрезать ей язык, то его нож едва коснулся лишь его кончика.
Немка по национальности, красавица Н.Ф. Лопухина, когда палач приступил к её раздеванию, сильно перепугалась, потеряла самообладание и стала отчаянно отбиваться от него. Она била его и кусала, и палачу пришлось применить всю свою грубую силу, чтобы добиться своего. И добился. Он сдавил ей горло, а через минуту уже протягивал толпе свой кулак, в котором был зажат кусок кровавого мяса.
— Не нужен ли кому язык? Дёшево продам, — прокричал он в толпу
[56].
Как ни странно, М.П. Бестужев не пострадал и скоро был послан на дипломатическую работу сначала в Берлин (1744), а потом в Дрезден. Французский посланник д'Аллион писал в Париж:
«Кредит гофмаршала, правда, много упал, но он опять поднимется; это такой человек, которого поневоле надобно будет чрез неприятелей погубить, или же он в этом государстве будет играть важную игру». Показательно, что сын Анны Гавриловны от первого брака с генерал-прокурором П.И. Ягужинским — Сергей Павлович Ягужинский (1731— 1806) — после ссылки матери был взят на попечение Елизаветы Петровны, а осенью 1745 года отправлен в Дрезден
«для наук под смотрением обретающагося тамо российского полномочного министра графа Михаила Петровича Бестужева-Рюмина», то есть к отчиму.
Француз д'Аллион не ошибся: старший брат Бестужев-Рюмин на самом деле ещё будет играть важную роль в жизни Российской империи.
Отделался лёгким испугом и вице-канцлер. Более того, его императрица привлекла к участию в работе комиссии, расследовавшей дело Лопухиных и его невестки Анны Гавриловны. Кстати, в августе Алексей Петрович заболел. Не исключено, что болезнь была мнимой: он, как в своё время вице-канцлер А.И. Остерман, решил «заболеть», чтобы не быть вовлечённым в опасные дела. Во всяком случае, 17/28 августа 1743 года он извещал барона И.А. Черкасова:
«В прошлый четверток, будучи при дворе, повредил я ногу, а в субботу и в воскресенье много при Дворе стоя и ходя, толь жестоко более повредил, что по сей день (как дворцовой лекарь Баре ни ползует) ещё принуждён в постеле лежать, и с великим трудом смогу чрез избу перейти». Впрочем, добавляет он, как скоро ратификация Обусского мира
«поспеет, то как ни на есть ко двору притащусь». В «Протоколах приёма императрицей руководства КИД» за 1745 год имеется пометка о другом случае болезни канцлера — в марте — апреле.
…Итак, страшный акт трагедии завершился. Стрела мести Лестока, выпущенная в братьев Бестужевых, задела лишь их близких, но своей цели не достигла. Дело Лопухиных затронуло судьбу несколько частных, хотя и достаточно влиятельных персон в России, но от него пошли кругами волны по всей Европе. Оно получило широкий резонанс во всей Европе и в определенной степени негативно повлияло на политический климат в Европе, в частности, на русско-австрийские, русско-прусские и австро-прусские отношения.
Виной тому, возможно, был маркиз де Ботта, возбудивший у бедных Лопухиных и их друзей ложную надежду на освобождение брауншвейгского семейства, подставивший их под топор и плеть палача, а сам благополучно отбывший к месту нового назначения в Берлин.
Елизавета, и без того с подозрением относившаяся к Австрии и императрице Марии-Терезии, воспылала к австрийцам злобой, что, естественно, сказалось на межгосударственных отношениях и планах А.П. Бестужева-Рюмина осуществить свою систему государственных союзов, в которой Австрия занимала важное место.
Мария-Терезия, судя по всему, не причастная к заговору своего посланника, тем не менее первое время взяла его под защиту, утверждая, что в Петербурге его оговорили понапрасну. Потом под давлением Петербурга она решила его предать суду, но Елизавета и этим шагом была возмущена, потому что считала, что виновного следовало наказать без всякого суда. Вскоре Мария-Терезия убедилась, что упрямство русской самодержицы было не переломить. Петербург ещё больше озлобился, и отношения между обеими столицами оказались на грани разрыва. Елизавета приказала своему послу в Вене Л.К. Ланчинскому покинуть Австрию. Но посол неожиданно расхворался, а тут и Мария-Терезия пошла на попятную: пожертвовав Боттой
[57], она поспешила восстановить со своей петербургской «сестрой» добрые отношения. Россия занимала важное место во внешних связях Австрии.
Лопухинским делом и разладом в русско-австрийских отношениях весьма искусно воспользовался Фридрих II. Как только известие об этом деле дошло до Берлина, он приказал своем министру Подевильсу:
«Надобно воспользоваться благоприятным случаем; я не пощажу денег, чтоб теперь привлечь Россию на свою сторону, иметь её в своём распоряжении; теперь настоящее для этого время, или мы не успеем в этом никогда. Вот почему нам нужно очистить себе дорогу сокрушением Бестужева… ибо когда мы хорошо уцепимся в Петербурге, то будем в состоянии громко говорить в Европе».
Из Берлина в Петербург полетели добрые советы, в которых Елизавета усмотрела искреннее участие прусского короля к своей особе. Фридрих советовал упрятать Иоанна Антоновича и всё его семейство куда-нибудь подальше и удивлялся инертности и нерадению, с которым подходили до сих пор к Анне Леопольдовне, принцу Антону и их детям.
«Отеческий» совет короля Пруссии был немедленно исполнен: по повелению Елизаветы брауншвейгское семейство перевели в г. Раненбург, а потом ещё дальше — в Холмогоры. Иван VI был отдельно «упрятан» в Шлиссельбургскую крепость. Он так же «по-отечески» рекомендовал голштинского принца Петра Фёдоровича женить не на принцессе из могущественного королевского дома, а на принцессе из маленького немецкого княжества, которое будет считать себя обязанным
России таким счастьем. И самое главное: он потребовал от Марии-Терезии удалить де Ботту от своего двора. Ну, кто же после этого будет питать неприязнь к доброму прусскому королю?
В Париже тоже сразу отметили кризис в русско-австрийских отношениях и поспешили вернуть Шетарди в Россию. Примечательно, что отъезд маркиза из Франции произошёл в обстановке строгой секретности. Лондон в связи с этим тоже всполошился и вступил в консультации по лопухинскому делу и с посланником Нарышкиным, а через Уича — с Бестужевым.
По поводу лопухинского дела хорошо информированный Уич докладывал лорду Картерету:
«Я вижу, что неприятели обер-гофмаршала Бестужева усильно стараются вплести его в несчастье жены. Если они в своих происках успеют, то мне очень горько будет видеть, что императрица лишится советов чрезвычайно искусного и честного министра. Он и брат его, вице-канцлер, присоветовали императрице… не принимать французской медиации в шведских делах. Обер-гофмаршалу объявлено, чтоб он остался в своём загородном дворе до окончания дела жены, а вице-канцлеру императрица продолжает по-прежнему оказывать милость, ибо весь двор хорошо знает, что он сильно противился браку обер-гофмаршала на графине Ягужинской и что этот брак произвёл холодность между обоими братьями».
О стараниях погубить Бестужевых видно из письма д'Аллиона к Ж.Ж. Амело (Амелоту) от 20 августа:
«Я ни на одну минуту не выпускаю из виду погубления Бестужевых. Господа Бруммер, Лесток и генерал-прокурор Трубецкой не меньше моего этим занимаются. Первый мне вчера сказал, что готов прозакладывать голову в успехе этого дела. Князь Трубецкой надеется найти что-нибудь, на чём бы мог поймать Бестужевых; он клянётся, что если ему это удастся, то уж он доведёт дело до того, что они понесут на эшафот свои головы».
Кажется довольно странным, что обер-прокурор Трубецкой, русский до мозга костей, ярый противник иностранного засилья в России, вошёл в стачку с иностранцами, чтобы вредить другому русскому патриоту. Как можно предположить, ненависть к Бестужеву у князя Трубецкого могла возникнуть только на личной почве, которая и заслонила всякий государственный резон. А Бруммер, очевидно, слишком высоко оценил свою голову и вопреки своему обещанию не стал её «прозакладывать».
Лорд Картерет информировал Уича о том, что французский посол в Стокгольме вместе со шведами пытаются тоже собрать компрматериал на вице-канцлера Бестужева. В частности, отправленным в Петербург шведским депутатам риксдага дано задание склонить Бестужева к принятию решений в пользу Франции, в том числе с использованием взятки в размере 100 тысяч рублей. Надо полагать, Уич предупредил об этом Алексея Петровича.
Но враги просчитались: из дела Лопухиных следствию не удалось раскопать ничего такого, что хоть каким-то образом бросало бы тень на братьев Бестужевых. Фаворит Елизаветы А.Г. Разумовский, конференц-министр М.Г. Воронцов и самый видный архиерей новгородский архиепископ Амвросий Юшкевич были за них.
Соловьёв пишет, что Елизавета не вняла внушениям Лестока о перемещении братьев на другие должности, заявив ему, что она уверена в верности и привязанности к себе обоих братьев, о чём свидетельствуют и другие люди. Лесток взорвался и начал ругать Воронцова, который только по молодости и глупости поддерживает вице-канцлера, а потому на его слова не следует полагаться. Императрица рассказала об этом разговоре Воронцову, а тот передал его Бестужеву. Лесток и после этого несколько раз подходил к Елизавете с предложением удалить братьев от должностей, но каждый раз она выпроваживала его ни с чем.
К этому времени вице-канцлер нашёл собственное эффективное средство защиты от нападений — перлюстрацию и декодирование их писем, но об этом мы расскажем в другом месте.
БРАТ В ЛАГЕРЕ ВРАГОВ
Дело Лопухиных негативно сказалось на личных взаимоотношениях братьев Бестужевых. После суда над Анной Гавриловной Бестужевой-Рюминой между ними пробежала «кошка». Михаил Петрович был недоволен тем, что младший брат не помог его супруге избежать наказания и занял не только нейтральную позицию, но принял активное участие в комиссии по расследованию дела и высказывал в адрес своей невестки нелицеприятные обвинения. С этого момента начинается их постепенное отчуждение и переход Михаила Петровича в лагерь противников вице-канцлера.
О том, что накануне устроенного Елизаветой Петровной переворота Михаил Петрович из Стокгольма предупреждал Анну Леопольдовну о грозившей ей опасности со стороны дочери Петра I и рекомендовал правительнице изолировать её как агента иностранной державы, Елизавета, по-видимому, не знала. Иначе бы она приняла по отношению к старшему Бестужеву немедленные и крутые меры. Посол имел тогда веские основания называть так царевну Елизавету «иностранным агентом» за её слишком тесные контакты с французским посланником Шетарди и шведским посланником Нолькеном, которые обещали ей помочь взойти на престол ценой возвращения шведам Прибалтики. По всей видимости, эти сведения посланник Бестужев добыл через свои связи, а вернее, через свою шведскую агентуру. Кроме дипломатических способностей, он обладал ещё талантом разведчика. Но теперь царствовал «иностранный агент», ревниво следивший за всеми слухами и «происками врагов», и всякому, кто когда-то выступал против Елизаветы, грозила как минимум ссылка, а как максимум — казнь.
Во всяком случае, Михаил Петрович по окончании дела Лопухиных постарался как можно быстрее исчезнуть с петербургской «перспективы» и попросился на заграничный пост.
Смерть в начале ноября 1742 года канцлера A.M. Черкасского, который, по выражению Соловьёва, патриотической позицией по вопросу русско-шведских отношений под конец жизни замолил свои старые грехи, вызвала у противников России новые надежды. Они снова стали интриговать против вице-канцлера, чтобы во главе Иностранной коллегии поставить генерала А.И. Румянцева или посла России в Англии Сергея Нарышкина. Но и этим надеждам Парижа, Берлина и Стокгольма не было суждено сбыться. Елизавета Петровна предпочла назначить канцлером России А.П. Бестужева-Рюмина, дав ему в помощники, то есть вице-канцлеры, князя М.И. Воронцова. И младший Бестужев, начиная с 1744 года, получил возможность впервые открыто продемонстрировать свои способности, заявить о себе как политик европейского масштаба и распространить свои взгляды на отношения России с Францией и Швецией.
В этом же году М.П. Бестужев-Рюмин был назначен послом в Берлин, где он стал пользоваться заслуженным авторитетом и при дворе Фридриха И, и в дипломатическом корпусе. 21 июля 1744 года он предупреждал Петербург о той опасности, которую Пруссия представляла для своих соседей и России, и в этом смысле он был полностью солидарен со своим младшим братом. Он полагал, что только Россия была в состоянии остановить опасную экспансию Пруссии и предлагал для этого принимать заблаговременные меры.
«Когда я ещё в молодых моих летах здесь в академии был, то помню, что в то время дед нынешнего короля более 20 000 войска не имел; покойный король увеличил его до 80 000, а нынешний —
до 140 000, а если ещё границы свои распространит, то доведёт до 200 000», — указывал М.П. Бестужев на опасное приращение прусских военных сил. Он просил Елизавету не верить нынешним «ласкательным» приёмам Фридриха II и ссылался на его коварный характер. В письме к своему брату-канцлеру посланник предлагал «учинить демарш» Берлину, пригрозив ему предоставлением русской военной помощи Австрии.
Как неугодный Фридриху II, посол Бестужев был переведен послом в Лейпциг, а в результате вероломного вторжения прусской армии в Саксонию Бестужев оказался в Дрездене. Ещё из Лейпцига он 7(18) мая 1745 года отправил письмо графу И.И. Шувалову (1727—1797), в котором просил 18-летнего камер-пажа при дворе Елизаветы оказать воздействие на младшего брата канцлера
[58].
Оставаясь в Саксонии, он в 1748 году занимался вопросом о проходе русского вспомогательного корпуса В.Н. Репнина через Польшу.
В 1749 году Бестужев-старший был переведен на не менее ответственный пост в Вену, где он работал вместе с Л.К. Ланчинским. (В Вене фактически действовали два посланника, что подчёркивало внимание Петербурга к своему главному союзнику.) Здесь Михаил Петрович активно вмешивался в дела православных христиан, подвергавшихся преследованиям со стороны австрийских властей, а также способствовал переселению в Россию недовольных сербов. Он вступил в конфликт с Ненадовичем, сербским православным епископом, подыгрывавшим австрийцам, взял в посольство в качестве своего духовника сербского священника Михаила Вани. На этом поприще он заслужил неприязнь австрийских властей, что в конечном итоге и послужило причиной его отзыва из страны. Вклад его в дело защиты православных в Габсбургской империи и особенно в дело переселения сербов в Россию неоценим.
М.П. Бестужев ревностно относился к чести России и своему статусу и, по обыкновению прочих посланников в Вене, завёл себе церемониймейстера, на что Петербургу пришлось раскошелиться на дополнительные 1000 рублей в год на его содержание. Как-то Бестужева не пригласили на бал в императорском дворце. Он расценил это как кровную обиду и доложил об ущемлении его чести в Петербург. КИД ответила, что никаких оснований для предъявления претензий к австрийскому двору у посланника не было, поскольку бал предназначался только для придворных. Урегулировав этот «вопрос чести», Михаил Петрович в 1750 году оказался в центре других протокольных неурядиц: сначала с генуэзским посланником, который нанёс ему визит, не предупредив об этом заранее, а потом — с австрийским кардиналом, потребовавшим на обеде у Михаила Петровича почётное место рядом с хозяином по правую руку и на специальном удалении от соседей по столу. «Разрулить» конфликт помог Бестужеву снова Петербург, посоветовав проявлять больше сдержанности. Уж больно горяч был старший брат Бестужев!
Совет пришёлся ко двору. Когда у наследника французского престола родился сын, французский посол в Вене граф д'Отефор отправил с этим известием своего церемониймейстера во все миссии, кроме русской. Михаил Петрович снова «закусил удила», но решил проявить выдержку. И оказался в выигрышном положении: скоро к нему пожаловал лично сам граф д'Отефор и извинился за забывчивость своего церемониймейстера. Мало того: Бестужев получил по этому поводу одобрение Петербурга и специальный рескрипт, который предписывал
«чтобы вы и впредь при таковых с вами чинимых поступках для охранения вверенного от нас вам характера с равномерною осторожностью поступали».
Перед отъездом из Вены Бестужев сделал австрийскому вице-канцлеру Колоредо странное заявление в том смысле, что он не проявлял бы такого усердия в сербских делах, если бы не получил из Петербурга три рескрипта подряд на эту тему и делает
это исключительно для того, что
«должен у противной партии своего брата притворяться и себя не обижать». Колоредо рассказал об этом разговоре сменившему Бестужева Кайзерлингу, а тот аккуратно доложил в Петербург. Раздражённая Елизавета напомнила Михаилу Петровичу, что инициатором в сербских делах был именно он, а не канцлер Бестужев, который очень не желал, чтобы из сербских дел ухудшились отношения с Веной и потерпела крах его «система».
Но с Михаила Петровича вся ругань как с гуся вода. Главное для него в данном случае было сделать подножку младшему брату. В 1749 году, сразу после отъезда из Вены, строптивый дипломат вторично женится в Германии на вдове австрийского обер-шенка Хаугвитца — Иоханне-Генриетте-Луизе, не оформив развода с первой женой. Брак с австрийкой Елизавета не признала, а второй жене дипломата было запрещено участвовать в официальных церемониях и въезжать в пределы Российской империи. Канцлер А.П. Бестужев брата в этом деле не поддержал, и на этой почве братья рассорились окончательно и стали ярыми врагами. Для ссоры имелись также веские причины принципиального характера: как опытный дипломат, в своё время пострадавший от англичан, Михаил Петрович не одобрял проанглийской политики брата. Так что дело о двоежёнстве Михаила Петровича лишь усугубило эту вражду.
Отозванный с поста посланника в Вене в июле 1752 года, Михаил Петрович возвращаться в Петербург не торопился и жил в Дрездене, откуда родом была его вторая жена и где он сблизился с враждебной брату партией Воронцовых — Шуваловых. Императрица по совету своего фаворита И.И. Шувалова (1727—1797) наконец признала второй брак Михаила Петровича законным и вызвала в Россию, чтобы приблизить его к особе великого князя и наследника Петра Фёдоровича. Михаил Петрович открыто объявил, что возвращается лишь для того, чтобы свергнуть своего брата с поста канцлера. Завязалась страшная борьба интриг и подкопов друг под друга — борьба, в которой партия Шуваловых — Воронцовых всё больше брала верх над канцлером А.П. Бестужевым.
В 1752 году Михаил Петрович писал вице-канцлеру Воронцову:
«…Я человек престарелый: родился я в 1689 году, и тако 63 года мне идёт, лета немалые, более должно назвать престарелые; прежняя моя живность пропала, сколько от лет, а вдвое того с печали; какие мне с 47 году противности и шиканы деланы были… не без труда есть всё это описать».
Весной 1754 года М.П. Бестужев оказался в Варшаве и вместе с секретарём миссии поляком Иоганном (Яном) Ржичевским затеял интригу против Г. Гросса, с 1752 года занимавшего пост посланника в Дрездене. Вюртембержец Г. Гросс (1714—1765), единомышленник А.П.Бестужева-Рюмина, был весьма способный и верный российским интересам дипломат. Старший Бестужев невзлюбил его просто за то, что он был иностранцем, а также, вероятно, и за то, что тот слишком долго занимал место посланника в Дрездене, которое сильно нравилось Михаилу Петровичу. Михаил Петрович слыл ревностным сторонником приёма на дипломатическую службу исключительно русских,
«которые вернее и с большей ревностию служат, к делам привыкают и обучаются», а всякие
«курляндцы да швабы» заботятся исключительно о своём кармане
[59].
Михаил Петрович обвинил Гросса в том, что тот слишком предался
саксонскому министру иностранных дел Генриху фон Брюлю. Пытаясь дискредитировать Гросса, он метил, конечно, в канцлера, своего младшего брата. Но Гросс устоял. Обвинения против него оказались бездоказательными.
В Варшаве он должен был склонять польских панов к участию в войне против Пруссии, но из этого у него ничего не вышло.
«Поляков я и сам ныне возненавидел, и дельно, что вы их не любите», — писал он Воронцову.
В 1755 году дряхлый и больной, он был вызван из Дрездена в Петербург, где оставил умиравшую в чахотке жену. С 1756 года М.П. Бестужев-Рюмин был членом Конференции при Высочайшем дворе, а потом, поддержав М.И. Воронцова в попытках заключить русско-французский союз, сам вызвался поехать послом в Париж, написав Воронцову письмо:
«Ваше сиятельство достойным инструментом были примирения нашего двора с французским…; да соизволите же быть достойным инструментом и в назначении туда посла. Сия дистинкция во особливое удовольствие мне будет, и кредит ваш при французском дворе тем более умножится, когда ваш поверенный друг и слуга туда назначен будет».
Легко понять, пишет Соловьёв, как к этому назначению отнёсся канцлер, его младший брат. Впрочем, братья соблюдали наружные приличия и даже бывали друг у друга в гостях. Михаил Петрович однажды даже отобедал у Алексея Петровича, по поводу чего Уильяме сострил:
«Можно себе представить, как был весел этот обед: если б на столе было молоко, то оно бы свернулось от этих двух физиономий».
Молока на столе, конечно, не было…
Таким образом, к концу своей карьеры и жизненного пути Михаил Петрович стал символом неприятия «системы» своего брата и торжества противоположной, воронцовско-шуваловской, системы взглядов на внешнюю политику России.
По пути в Париж Михаил Петрович заехал в Варшаву и оттуда в письме Елизавете Петровне успел снова «лягнуть» ненавистного «шваба» — посланника Г. Гросса. Потом было свидание с умирающей женой, бежавшей из Дрездена от нашествия прусской армии. 2 марта 1757 года он из Праги снова обратился к И.И. Шувалову, теперь уже к могущественному фавориту Елизаветы Петровны. Дипломат просил о финансовой помощи его жене, ранее потерявшей имение в Силезии, разорённое прусской армией, а также о выделении ему «землицы» в Лифляндии в знак 60-летней службы на благо отечества. Но фаворит, кажется, оставил обращение без ответа, как не ответил и на прозрачные «намёки» о возможности повышения оклада, как у французского посла в Петербурге Лопиталя (26.12.1757), об отсутствии средств поехать на воды в Аахен на лечение (16.4.1758).
Сам больной, Бестужев повёз жену умирать в Париж. Его предшественник Ф.Д. Бехтеев (1716—1761) описывал аудиенцию русского посла у Людовика XV в самых хвалебных выражениях: и осанка у него была величественная, и речь уверенная и громкая, и вообще он выступал с достоинством,
«не давая себя оглушить многословием здешним».
Граф А.Р. Воронцов (1741—1805), племянник М.И. Воронцова, посетивший в начале 1760-х годов Париж, описывая жизнь посла М.П. Бестужева-Рюмина, сделал такое интересное наблюдение:
«В его доме была Греческая церковь, а священником в ней был один монах, ставший впоследствии архиереем; это был самый большой фанатик, какого мне когда-либо случалось встречать. Он ставил в неловкое положение посла, а также всех находившихся в Париже русских, обращаясь к ним с наставлением в своих проповедях. Он хотел, чтобы все путешественники и светские люди жили монахами».
Кем-кем, но монахом Михаил Петрович никогда не был, как и многие в его роду. На самом деле в Париже всё было не так просто, и монах тут был ни при чём. Проблемы послу создавали французы, оказавшиеся не такими уж и сговорчивыми, какими он себе их представлял. Давала о себе знать и болезнь. Последнее письмо Михаила Петровича графу И.И. Шувалову было написано 14 октября 1759 года. В нём Бестужев заверял Ивана Ивановича, что приступил к поискам кандидата для Российской Академии художеств вместо умершего Лорена. Он хлопотал по делам до последнего дня.
Сначала умерла его жена, а потом, 26 февраля 1760 года, скончался он сам.
Завещание его подписал советник Фёдор Чернев, с которым он работал ещё в свою бытность в Вене.
Поехать и умереть в Париже…
Это станет заветной мечтой потомков Михаила Петровича…
Заканчивает Михаил Петрович свою «скаску» 1754 года словами:
«Детей не имею, а о крепостных моих людях, сколко мужеска полу числом, и в деревнях, в которых уездах оне находятся, за давным моим из России отсутствием подлинной ведомости дать не могу». За такими сведениями он советует обратиться к генерал-лейтенанту Ивану Лукьянычу Талызину,
«который по своему от меня жалованию моими деревнями управляет».
Следить за своими крепостными и деревнями у М.П. Бестужева и в самом деле просто не было времени.
ГРАФ ПРОТИВ МАРКИЗА
…Он показался мне похожим на хороший старый рейнвейн: вино это никогда не теряет усвоенного им от почвы вкуса и в то же время… отягчает голову и потом надоедает. То же самое с нашим маркизом…
Прусская герцогиня Луиза Доротея о маркизе Шетарди
Прежде чем переходить к изложению разыгравшейся на петербургских подмостках подспудной борьбы русской и французской дипломатии, расскажем о том, что помогло Бестужеву-Рюмину перехитрить своего ярого врага и выйти из этой схватки победителем.
Нужно отметить, что первые попытки Бестужева-Рюмина «наступить на хвост» своим противникам были довольно неуклюжи и безрезультатны. Во-первых, неблагоприятным оставался придворный фон Санкт-Петербурга. Государыня Елизавета Петровна странным образом всё ещё оставалась в плену своих девичьих представлений о бывшем женихе Людовике XV (1710—1774) и в некоторой степени благоволила Франции
[60]. Прямое обращение графа к прусскому королю Фридриху II с просьбой перехватывать и вскрывать переписку Шетарди и Лестока с Берлином не сработало и вызвало у короля лишь недоумение. Фридрих ответил Бестужеву, что если Шетарди и Лесток переписываются со своими иностранными корреспондентами с согласия императрицы Елизаветы, то он не имеет права вмешиваться в это дело. Если же такого согласия нет, то Бестужев, как вице-канцлер, сам мог бы принять против этой переписки необходимые меры. По-видимому, Алексей Петрович пока не догадывался, что король являлся одним из организаторов подкопа под вице-канцлера, а потом и канцлера России.
Принять необходимые меры против недругов помогла Бестужеву-Рюмину… математика, или, вернее, её раздел, трактующий теорию чисел. Но расскажем всё по порядку. Т.А. Соболева считает А.П. Бестужева-Рюмина одним из основателей российской службы перлюстрации и дешифрования. Будучи главным директором всех почт империи, вице-канцлер в начале 1742 года начал по примеру других европейских стран организовывать службу перехвата и вскрытия депеш иностранных послов в России. Некоторое время спустя в распоряжении вице-канцлера оказались копии исходящих дипломатических депеш и реляций многих посланников и резидентов в свои столицы. На некоторых из них до сих пор сохранились пометы за 1742—1743 гг. типа:
«Ея Императорское Величество слушать изволила».
Вице-канцлер по несколько раз в месяц аккуратно докладывал Елизавете Петровне о внешнем положении России. В этот период дел у Алексея Петровича было по горло: шла война со шведами в Финляндии, затем последовали сложные мирные переговоры со шведами в Обу. Вице-канцлеру приходилось бороться за сохранение за Россией статуса державы-победительницы и с внешними врагами (французская и шведская дипломатия), и с их агентурой (Бруммер, Лесток, Бухвальд), и с внутренними недругами (Трубецкой и др.) На докладах Бестужева часто присутствовал особый секретарь — в 1742—1743 гг. им был Иван Пуговишников, — который тщательно протоколировал все беседы начальника с императрицей. Из этих протоколов, между прочим, явствует, что Елизавета была не так уж плохо подготовлена к управлению страной и проявляла к внешнеполитическим делам пристальное внимание. Если, конечно, её не отвлекали балы да маскарады.
Сохранилась переписка Бестужева с петербургским почт-директором Ф.Ю. Ашем (1683—1783)
[61], который непосредственно осуществлял перлюстрацию дипломатических депеш в Петербурге. Приведём одно из писем Фёдора Юрьевича своему начальнику, любопытное во всех отношениях:
«Высокородный государственный граф, высокоповелевающий господин государственный вице-канцлер.
Милостивый государь!
29 числа прошлого месяца купно с приложенною депешею от г-на барона Мардефельда[62] вчерась пополудни я со всяким респектом получил. И не преминул по силе данного мне всемилостивейшего приказа оную депешу распечатать, а в ней нашлось три пакета, а именно первый в придворный почтовый амт в Берлин от г-на барона Мардефельда самого, второй к финанцсоветнику Магирусу в Кенигсберг от секретаря Варенсдорфа, а третий от господина Аатдорфа к его брату в Ангальтбернбург. Последние два письма без трудности распечатать было можно, чего ради и копии с них при сем прилагаются. Тако же де куверт в придворный почтовый амт в Берлин легко было распечатать, однако ж два в одном письме, то есть к королю[63] и в кабинет, такого состояния были, что, хотя всякое удобовымышленное старание прилагалось, однако ж оных для следующих причин отворить невозможно было, а именно: куверты не токмо по углам, но и везде клеем заклеены, и тем клеем обвязанная под кувертом крестом на письмах нитка таким образом утверждена была, что оный клей от пара кипятка, над чем письма я несколько часов держал, никак распуститься и отстать не мог. Да и тот клей, который под печатями находился (кои я хотя искусно снял), однако ж не распустился. Следовательно же, я к превеликому моему соболезнованию никакой возможности не нашёл оных писем распечатать без совершенного разодрания кувертов. И тако я оные паки запечатал и стафету в ея дорогу отправить принуждён был».
Так и представляется нам этот бедный почт-директор проливающим горькие слёзы от досады над нераскрытым «кувертом» прусского посланника и сурово прикушенную губу «высокородного» вице-канцлера, читающего эту цидулу! Впрочем, пройдёт время, и «удобовымышленное старание» перлюстраторов доставит Бестужеву копии депеш и Марде-фельда, и Шетарди, и прочих министров. Хитроумные «куверты» не представят непреодолимого препятствия. Кстати, нужные письма Аш вскрывал самолично, показывал подчинённым места в тексте, подлежащие копированию, а потом сам же их запечатывал так аккуратно, что адресат ничего заподозрить не мог.
Кроме хитро прошитых ниткой конвертов, большие трудности на первых порах представляли и замысловатые печати иностранных миссий, но Бестужев с Ашом нашли умельцев, которые навострились вырезать печати любой сложности. В 1742—1744 гг. резчиком печатей был некто Купи, по всей вероятности, француз на русской службе. В марте 1744 года Бестужев, возвращая Ашу образчик печати барона Нойхауза, сделанный Купи, пишет:
«Рекомендуем, впрочем, резчику Купи оные печати вырезывать с лучшим прилежанием, ибо нынешняя нейгаузова не весьма хорошего мастерства». Небрежность француза и вообще причастность иностранца к наисекретнейшему государственному делу явно не понравились императрице, и ещё 12 февраля, во время очередного доклада вице-канцлера, она предложила коренным образом изменить ситуацию с резчиками печатей, что и нашло отражение в протоколах Пуговишникова:
«Ея Императорское Величество о потребности в сделании печатей для известного открывания писем рассуждать изволила: что для лучшего содержания сего в секрете весьма надёжного человека и ежели возможно было, то лучше из российских такого мастера или резчика приискать, и оного такие печати делать заставить не здесь,
в Санкт-Петербурге, дабы не разгласилось, но разве в Москве или около Петербурга у где в отдалённом месте, и к нему особливый караул приставить у а по окончании того дела все инструменты и образцы печатей у того мастера обыскать и отобрать, чтоб ничего у него не осталось, и сверх того присягою его утвердить надобно, дабы никому о том не разглашал».
Да, в тандеме с опытным, хитрым и изворотливым Бестужевым и Елизавета Петровна тоже кое-чему научилась!
Скоро одна только перлюстрация писем перестала удовлетворять вице-канцлера, потому что самые интересные и важные сведения передавались кодированным текстом. Перед Бестужевым встала задача дешифровки перехваченных дипломатических депеш и форсирования дипломатических кодов. Одним из первых криптографов в России стал немецкий математик Христиан Гольдбах (1690—1764). Он родился в Кенигсберге и приехал в Россию по приглашению Петра I в 1724 году, когда делалась первая попытка учредить Академию наук. Гольдбах пополнил целую плеяду математиков, приехавших в Россию, в числе которых были ученики и сыновья известного математика Бернулли, Леонхард Эйлер и др. В 1726—1740 гг. Гольдбах, работая над математическими проблемами, исполнял обязанности воспитателя Петра II и конференц-секретаря АН.
Есть основания предполагать, пишет Соболева, что идея привлечь к дешифровальной работе специалиста по теории чисел Гольдбаха принадлежала именно вице-канцлеру А.П. Бестужеву-Рюмину. Указ Елизаветы от 18 марта 1742 года предписывал
«определить в Коллегию иностранных дел бывшего при Академии наук профессора юстиц-рата[64] Христиана Гольдбаха статским советником с жалованьем 1500 рублей…». Кроме Гольдбаха, в числе дешифровалыциков и помощников Бестужева Соловьёв называет также академика Тауберта.
С этого дня вся дальнейшая жизнь Гольдбаха будет связана с дешифрованием писем. Первый успех к нему придёт через год, когда ему удастся «форсировать» код барона Нойхауза, посланника Карла VII, бывшего курфюрста Баварии, присвоившего себе титул императора Священной Римской империи с помощью Франции и Пруссии в пику Марии-Терезии. В одной из перлюстрированных депеш к своему двору Нойхауз писал, что в связи с лопухинским делом обер-гофмаршал Михаил Бестужев-Рюмин удалён от двора и уже не сможет управлять поступками младшего брата, вице-канцлера. На это утверждение А.П. Бестужев написал на полях документа:
«Вице-канцлеру не видав брата своего 22 года, от 1720 по 1742, собственно своим умом министерство своё управлял». На пассаж, в котором Нойхауз, тесно сотрудничавший с Бруммером и Лестоком, обвинял вице-канцлера в совершенной преданности Австрии и Англии, Бестужев отвечает:
«…Всеведущему единому всё откровенно… Оный да буди вскоре судиёю и воздателем всякому по делам его».
В дальнейшем Гольдбах с равными промежутками в 3—4 недели «радовал» вице-канцлера порциями из пяти дешифрованных писем (с июля по декабрь 1743 года им было расшифровано 61 письмо министров прусского и версальского дворов). 3 января 1744 года договор о службе Гольдбаха в КИД был перезаключён на более выгодных для учёного условиях. При этом Гольдбах выставил непременное условие: как подданный Пруссии он не может расшифровывать послания прусского посланника Мардефельда. Пришлось согласиться.
Все историки, рассказывая о канцлере Бестужеве, непременно упоминают о том, как ему с помощью перлюстрации и дешифровки удалось разоблачить французского посланника Шетарди в глазах слепо и беззаветно доверявшей французу Елизаветы Петровны. В действительности дело Шетарди, пишет Соболева, является лишь малой частью огромной и важной работы, осуществлённой X. Гольдбахом, и отнюдь не первым его успехом, как утверждают некоторые, а четвёртым: до этого Гольдбах расшифровал письма Нойхауза, за ним — французского посланника д'Аллиона
[65] и его секретаря Амелота. Елизавете Петровне и раньше были показаны дешифрованные письма французского посланника, так что поразил её не сам факт дешифровки, а антирусское содержание письма своего любимца.
Работать Гольдбаху с Бестужевым было нелегко. Нетерпеливый вице-канцлер то и дело подгонял и торопил бедного криптографа, мало входя в его творческий процесс, которого озарения посещали отнюдь не по окрику высокопоставленного начальства. Об этом свидетельствует письмо криптографа вице-канцлеру от января 1744 года:
«Милостивый государь мой!
Принося Вашему сиятельству первые плоды третьего цифирного ключа, надеюсь, что вместо нарекания мне какого-либо в том медления, паче моей поспешности удивляться причину иметь будут…» — пишет он и с гордостью докладывает о неожиданно быстро достигнутых успехах. Впрочем, чтобы слишком не обнадёживать Бестужева, он добавляет:
«Что же касается четвёртого и пятого ключей… то оныя ключи несравненно труднее первых нахожу…»
А торопил Бестужев Гольдбаха потому, что уж больно ему приспичило: он стоял на краю пропасти, означавшей не только отставку, но и лишение самой жизни. Что это такое, он хорошо знал, уже однажды пережив лишения при воцарении Анны Леопольдовны. Теперь несколько дворов Европы сразу — прусский, баварский, французский и шведский — интриговали и травили неудобного и строптивого канцлера, поставившего своей целью связать Россию с Австрией и Англией. Ему срочно были нужны доказательства их подрывной, сказали бы мы теперь, деятельности, и в первую очередь необходимо было обезвредить неофициального посланника французского короля и любимца императрицы и всего петербургского общества Шетарди.
И Гольдбах ему сильно помог.
Вот пассаж из письма французского посла в Стокгольме Ланмари своему коллеге в Петербурге д'Аллиону от 7 июля 1743 года:
«Пока Бестужевы здешним двором править будут, мы никогда ничего доброго при них не достигнем, то Ваше Превосходительство можете надёжны быть, что я ничего во свете не пожалею для ссажения оных с высоты их великости». А вот ответ д'Аллиона Ланмари из Петербурга от 30 июля 1743 года:
«Мы здесь в весьма сильных движениях находимся, и я уже приближаюсь к тому моменту… Бестужевых погубить или свергнуть… господа Бриммер (Бруммер. —
Б. Г.) и Лесток меня твёрдо обнадёжили, что сие дело несовершенным оставлено не будет… И Вы, мой господин, можете уверены быть, что я прилежно тому следовать буду».
Лесток, Мардефельд и д'Аллион, фабрикуя лопухинское дело, в первую очередь метили в Бестужевых, игравших во внешней политике Елизаветы такую важную роль. Лесток открыто обвинял вице-канцлера во взяточничестве. Он вручил Елизавете запечатанный пакет с меморандумом и просил открыть его через месяц, чтобы она сама убедилась в правоте его обвинений. Прусский посланник попытался сделать Лестоку внушение, чтобы он обращался с Елизаветой Петровной более почтительно и не так бесцеремонно, но хирург, уверенный в своей правоте, шёл напролом:
— Вы её не знаете, — отвечал он Мардефельду. — С ней иначе ничего не поделаешь.
Но все недоброжелатели промахнулись: как пишет Валишевский,
«более гибкий, более смиренный, не имея также столь свободного доступа к государыне, Бестужев действо-вал вкрадчивым внушением, сообщая императрице умело выбранные выдержки перехваченной им переписки Шетарди и Мардефельда и подчёркивая в них компрометирующие места искусно составленными пометками на полях».
Мардефельд, в контакте с французами работавший над идеей тройственного союза Пруссия-Франция-Россия, тоже был начеку. Он всячески выгораживал себя и Лестока в глазах императрицы, заставляя её колебаться и не доверять Бестужеву, которого она слегка недолюбливала. Но Мардефельд вёл дело против Бестужева так, чтобы в случае провала вся немилость русского кабинета пала на французов, а сам бы он остался вне подозрений.
Императрица колебалась и не хотела пока лишаться своих верных и компетентных советников, и заговорщики оставались пока ни с чем. Да и сам вице-канцлер не давал повода для преследований и не стал рисковать своим положением. Вероятно, этим объяснялось его пассивное поведение в деле Лопухиных и его неодобрительное отношение ко второму браку брата Михаила, который вызвал сильное недовольство императрицы. За всё это ему пришлось заплатить распрей с братом. Воспользовавшись несогласием А.П. Бестужева с новой женитьбой брата Михаила на немецкой дворянке, заговорщики сумели поссорить братьев, доселе согласно выступавших во внешнеполитических делах.
И вот уже в конце 1743 года уверенность вице-канцлера в своей победе над соперниками постепенно настолько возросла, что он внушил эту уверенность англичанам. Лорд Картерет, также не жаловавший Бестужева, уже праздновал победу в Лондоне, узнав, что некоторые депеши Мардефельда были прочитаны Елизаветой. В них говорилось о том, что Лесток получил от прусского посланника 10 тысяч рублей и что Фридрих II назначил ему пенсию в размере 4 тысяч рублей.
В конце ноября 1743 года в Санкт-Петербург вернулся Шетарди, и схватка разгорелась с новой силой. Официальный представитель Франции, временный поверенный в делах д'Аллион, был очень недоволен возвращением маркиза, полагая, что его приезд сильно уменьшает шансы на победу. Он писал своему коллеге, послу Франции в Стокгольме Ланмари, что появление Шетарди в России только придаст партии Бестужева дополнительные силы, потому что вице-канцлер в значительной мере был настроен не против Франции как таковой, а против личности Шетарди.
Маркиза в России, что называется, не ждали, и явился он в русскую столицу как обычный смертный. Он добрался до Петербурга в ночь с 24 на 25 ноября и сразу столкнулся с препятствием: стояла оттепель, Нева вскрылась, и переправа на другой берег была запрещена. Трое офицеров, перебираясь накануне по непрочному льду реки, утонули, и промёрзшему от холода Шетарди пришлось заночевать в какой-то хижине на берегу. Утром 25 ноября к нему по распоряжению Елизаветы Петровны были посланы люди принца Гессенского — офицер с сержантом, которые помогли ему кое-как перебраться на другой берег. Маркиз прыгал со льдины на льдину, используя длинные доски и вышел на какой-то пустырь за чертой города. Он дошёл до первого дома столицы пешком, где был, наконец, встречен придворной каретой и запиской Лестока, предлагавшей ему остановиться в его доме. Да, его появление в русской столице совсем не походило на его триумфальный и пышный въезд в Санкт-Петербург несколько лет тому назад.
Это было дурное начало, пишет Валишевский. Он опоздал на приём к императрице и вечером 25 ноября появился в доме у голштинца Бруммера, гофмаршала и камергера великого князя Петра Фёдоровича. Там собралось большое общество, среди которых было много агентов и «креатур Бестужева». Окружённая многочисленной свитой Елизавета встретила француза вполне дружелюбно, но заявила, что рада видеть его как графа Перузского (то есть как частное лицо). Если он пожелает обсудить с нею какие-то дела, добавила она, то ему следовало обратиться к её министрам, то есть в первую очередь к Бестужеву. Он дал ей понять в ответ, что приехал не как посол, а как преданный и верный её слуга, чтобы
«наблюдать за её интересами и раскрывать перед ней плутни некоторых её министров».
Шетарди явно переоценил свой новый статус в Петербурге. Вряд ли было уместно брать на себя смелость разоблачать «плутни министров» чужого правительства. Но такова была самоуверенность Шетарди, опиравшаяся на двусмысленное поведение самой императрицы. Маркиз снова получил возможность свободно посещать приёмы во дворце Елизаветы, но, несмотря на внешний почёт и внимание к нему, он не мог не почувствовать, что прежнего доверия императрицы к его особе уже не было.
Между тем Мардефельд продолжал уверенно писать к своему двору (29 ноября):
«Шетарди непременно преодолеет всех своих политических соперников и оставит их с длинным носом».
Елизавета не приняла Шетарди официально главным образом потому, что в его верительной грамоте не был указан её императорский титул (как выразилась сама Елизавета, она оставила его
бесхарактерным), чем, естественно, сразу воспользовался Бестужев-Рюмин на самом первом этапе «работы» француза в Петербурге. Шетарди сразу вступил в контакт с представителями «голштинского дворика» и поставил своей задачей разрушить проект союза Петербурга с Лондоном.
Оставляли желать лучшего и отношения маркиза с временным поверенным в делах д'Аллионом. Неофициальный посланник стал вмешиваться в дела французской миссии, что не могло не вызвать со стороны «правильного» дипломата неприязни. К тому же Шетарди стал высокомерно намекать на низкое происхождение д'Аллиона и обвинил его в том, что тот в его отсутствие устроил в миссии склад товаров и открыл настоящую торговлю. Между ними произошла ссора, маркиз вышел из себя и ударил д'Аллиона по лицу. Временный поверенный выхватил шпагу, маркиз схватил её и порезал себе два пальца. Если бы не вмешательство секретаря миссии, ссора могла бы закончиться трагически.
О скандале во французской миссии узнал весь город, о ней говорили в самых невероятных версиях. Например, англичане утверждали, что Шетарди пробил голову д'Аллиону бутылкой шампанского. Появившись на приёме у Елизаветы с рукой на перевязи, Шетарди на вопросы любопытных гостей заявил, что повредил руку во время своих опытов с порохом (напрашивается аналогия с «бандитской пулей»). Ему, конечно, не поверили, а Елизавета рассмеялась и заявила, что его надо было высечь за шалости с порохом как ребёнка, и послала ему на дом розгу.
Нет, не тот имидж создавался в Петербурге вокруг бедного маркиза — совсем не тот! Над ним стали смеяться. Это был дурной признак.
Шетарди всё-таки добился отзыва д'Аллиона из России, но это вряд ли укрепило его положение в целом. Елизавета обсуждать с ним дела отказывалась. Маркиз имел в запасе хороший аргумент — объявление, что Версаль был готов признать её императорский титул, но всё время медлил его предъявить, каждый раз ожидая более подходящий момент. А когда такой момент наступил, Елизавета снова отослала его к своим министрам. Шетарди сказал, что он не хотел бы, чтобы этим министром был Бестужев, но императрица находила это требование чрезмерным. Кажется, Елизавета играла с маркизом как кошка с мышью и в этой игре входила всё более во вкус.
Историки указывают, что Елизавета в эти годы занимала выжидающую позицию и ловко лавировала между сторонниками проанглийской и проавстрийской линии (Бестужев-Рюмин), составлявшими большинство тогдашнего дееспособного русского общества, сторонниками сближения с Францией (Лесток) и группой «нейтралов», занимавшей промежуточную позицию и выступавшей за хорошие отношения и с Францией и Пруссией, и с Англией и Австрией (И.П. Веселовский, А.И. Неплюев, И.Ю. Юрьев).
В декабре 1743 года Шетарди с большим удовлетворением докладывал королевскому казначею Монтартелю о том, что брат вице-канцлера наконец удалён из Петербурга и вскорости должен занять место посланника в Берлине.
«Отдаление его брата его истинной помощи лишает, — писал Шетарди о А.П. Бестужеве-Рюмине в шифрованном письме от 4 февраля 1744 года. —
Мы и не одни, которые его, вице-канцлера, низвержения ищем: король прусский по меньшей мере такого же, как и мы, оное видеть желает».
Маркиз не догадывался, как ненадёжен был его союзник Мардефельд, но ещё большая опасность для него грозила со стороны английской миссии. Лондон отозвал посланника Уича и назначил на его место более опытного и тонкого дипломата Тируоли. Сэр Тируоли получил инструкции добиваться от русского правительства согласия двинуть 12-тысячный армейский корпус к границам Лифляндии, чтобы угрожать Пруссии. Статья 6 его инструкции предусматривала побудить петербургский кабинет выслать Шетарди из России (между Англией и Францией в это время шла война). В качестве основного оружия Тируоли выбрал сотрудничество с Бестужевым, обещая вице-канцлеру
«подвести мину под маркиза», и своё богатство и великолепие, которое должно было затмить великолепие француза. И ещё мы бы добавили — лесть. Уже на первой аудиенции Тируоли, целуя руку Елизавете, назвал её самой могущественной государыней в Европе.
23 декабря 1743 года Бестужев во время очередного доклада подал императрице просьбу, в которой ответил на все выпады своих внешних и внутренних врагов и хотел бы получить от Елизаветы уверения в её прежней к нему милости.
«Однако ж те же мои неприятели должны… по совести своей сами признать, что при Божеском благословении… как в европейских, так и в азиатских мне поверенных делах ничего нигде нимало не упущено или бы повреждено было… — подчёркивал он свои заслуги на посту вице-канцлера. —
Дерзновение взял я к вашим монаршеским стопам себя повергнуть всеподданнейше, прося от таких клеветаний… монаршескою своею властью оборонить…» Он заключает просьбу словами о том, что в обстановке недоверия к нему и сомнений в его преданности императрице
«я не токмо в превеликую оттого робость приведён буду, но и все от чистого моего сердца… труды и усердствования… в ничто превращены будут».
Заверения в императорской неизменной милости, конечно же, были даны.
Между тем Бестужев добился ещё одной — пусть маленькой — победы: 24 января 1744 года был подписан русско-саксонский договор, имевший проавстрийскую и антипрусскую направленность. Фридрих II, внешне не придавший этому союзу большого внимания, был раздражён и на вопрос своего министра иностранных дел Подевильса, поздравить ли с этим событием посланников Саксонии и России в Берлине, с силой нажал на перо и начертал:
«Поздравьте этих свиней!» Одной из «свиней» был брат вице-канцлера Михаил Петрович Бестужев-Рюмин.
Доказательства подрывной работы французов, вступивших в союз с прусским посланником Мардефельдом, содержались также и в расшифрованной переписке английского посла Уича с Лондоном и Стокгольмом. Комментарии, как говорится, были излишни. Война против Бестужева велась не на жизнь, а на смерть. Фридрих II писал Мардефельду, что от устранения Бестужева
«зависит судьба Пруссии и моего дома».
Мардефельд предпринял попытку закрепить отношения с Россией путём устройства брака Петра Фёдоровича с сестрой Фридриха Великого, но у Бестужева на этот счёт были другие планы. Его выбор пал на саксонскую принцессу Марианну, дочь польского короля и курфюрста Саксонии Августа III. Этот брак вполне отвечал требованиям его политической системы, союзу морских держав с Россией, Австрией и Саксонией для сдерживания Франции и Пруссии. Как только Бруммер, Лесток, Мардефельд и Шетарди узнали об этом плане, они тут же стали отговаривать Елизавету, и в результате, по проискам Бруммера и Лестока, прошло предложение Фридриха II — искать невесту для наследника в Анхальт-Цербстском княжестве, находившемся в вассальной зависимости от Пруссии.
Принцесса София-Августа-Фредерика, будущая Екатерина II, должна была стать инструментом прусского влияния, а её мамаше — Йоханне-Елизавете (1711—1760), урождённой принцессе Готторп-Голштинской, сестре бывшего епископа Любекского, а ныне кронпринца Швеции, отводилась роль тайного агента Фридриха П. (Кстати, одновременно она была тёткой жениха своей дочери!) Таким образом, 50-процентный голштинец Пётр Фёдорович (практически полунемец) женился на 50-процентной голштинке Фике, являвшейся практически 100-процентной немкой и его троюродной сестрой.
Естественно, эта кандидатура вызвала решительное неприятие у вице-канцлера Бестужева-Рюмина, поскольку возрастала опасность влияния Пруссии на Россию. Но невеста понравилась Елизавете Петровне, и с этим ничего нельзя было поделать. Елизавета Цербст-Голштинская, приехав с дочерью в Россию в феврале 1744 года, по меткому выражению Анисимова, сразу с ногами влезла в русскую политику и тут же пополнила круг врагов Бестужева. С первых дней своего пребывания в Петербурге быстро сошлась с Бруммером, Лестоком и К°. Энергичная мамаша невесты, выполняя указания своего берлинского патрона короля Фридриха II, стала активно вмешиваться во внешнеполитические дела России, вставлять палки в колёса Бестужеву-Рюмину и даже заниматься шпионажем в пользу Берлина. Франко-прусско-голштинский лагерь получил в её лице ценную союзницу, а вице-канцлер — тайного и ярого врага.
И это произошло именно в тот опасный для него момент, когда враги прилагали все старания уничтожить его или хотя бы низвергнуть с поста вице-канцлера. Шетарди писал статс-секретарю Амелоту:
«Мы, Мардефельд, Бруммер, Лесток, генерал Румянцев, генерал-прокурор Трубецкой, их приверженцы и я согласились стараться произвести в канцлеры генерала Румянцева, который, будучи главным в коллегии, будет иметь силу сдерживать Бестужева. Если же это намерение не удастся, то надобно будет из Иностранной коллегии устроить совет или кабинет с таким числом членов, при котором вице-канцлер не мог бы всем завладеть».
Шетарди утверждал, что Бестужев был в ярости от появления в России принцессы Цербстской и до того забылся в разговоре, что якобы допустил фразу:
«Посмотрим, могут ли такие брачные союзы заключаться без совета с нами, большими господами этого государства». Можно с уверенностью предположить, что если маркиз не врал, то об этом высказывании скоро узнала Елизавета. Горяч и запальчив был вице-канцлер! Соловьёв пишет, что, согласно тому же Шетарди, вице-канцлер подговаривал московского архиерея внушить императрице незаконность брака наследника на принцессе Цербстской. Сам Бестужев считал это утверждение очередным
«богомерзким и вымышленным оклеветанием» маркиза «Шетардия» и его сообщника Лестока, но мог ли он поступить иначе и признать своё участие в сговоре с архиереем, за который ему как минимум грозило обвинение в государственной измене?
«Низвержение» канцлера, естественно, входило в расчёты короля Пруссии. Ему надо было закрепить первый успех в войне с Австрией — оставить за собой Силезию и нанести Австрии новый сокрушающий удар.
«Но для этого необходимое условие —
низвержение Бестужева», — писал он Мардефельду. Бестужев мешал королю Фридриху II всюду, в том числе и в Швеции, в которой прусский король хотел заменить русское влияние прусским, в чём ему должна была помогать принцесса-мать и принцесса-дочь Цербстские и его родная сестра Ловиса-Ульрика, которую он намеревался выдать замуж за шведского кронпринца Адольфа-Фредрика. И выдал-таки.
Главную ставку франко-прусско-голштинская партия сделала на конференц-министра Воронцова: если бы им удалось восстановить Михаила Илларионовича против Алексея Петровича, то падение вице-канцлера было бы предрешено. И враги Бестужева стали усиленно «ласкать» конференц-министра. Первым подход к конференц-министру сделал Мардефельд и, по всей видимости, заразил его первой ядовитой дозой неприязни и зависти к вице-канцлеру. Потом пруссаки и французы подвергнут его ещё более интенсивной обработке: Фридрих II пожалует ему орден Чёрного Орла и свой портрет, осыпанный бриллиантами; Версаль окажет ему буквально королевский приём, когда Воронцов с женой окажется в Париже; великий князь Пётр Фёдорович, имея любовницей сестру Воронцова, будет внушать ему, что императрица считает Бестужева-Рюмина своим врагом и врагом голштинского дома (последнее, конечно, было верно на 100%).
Параллельно Шетарди и Мардефельд стали искать подходы к великой княгине Екатерине Алексеевне и находить у неё понимание. Для достижения нужных результатов версальский двор не скупился на подкуп. На содержание такого агента в самом ближайшем окружении русской императрицы, как Лесток, были нужны крупные суммы, и Шетарди их регулярно получал. Он подкупал даже духовных лиц в Синоде, но больше всего денег тратил на придворных, включая дам и фрейлин,
«дабы о том, что в сердце царицыном делается, сведать… В таком случае, каковы бы велики или малы издержки ни были, об оных сожалеть не надобно», — писал он в Париж.
Но Алексей Петрович тоже не бездействовал. Всё это вице-канцлер видел, читал, контролировал, отмечал и со своей стороны готовил ответный удар. Он тоже был искусным мастером интриги и ждал своего часа. Он начал знакомить императрицу с письмами Шетарди заранее, по мере их расшифровки Гольдбахом, надеясь, что рано или поздно количество перейдёт в качество и Елизавета раскроет глаза на происходящее. Но Елизавета реагировала пока слабо и не до конца верила своему вице-канцлеру, зная его за отъявленного плута и обманщика. Нравы дипломатов тогда вообще не отличались высокой моралью, так что шокирующего эффекта депеши Шетарди у неё пока не вызывали. Пока.
Но однажды Ф. Аш перехватил такое письмо, после которого пребывание Шетарди в Петербурге и в России пошло отсчитывать часы и минуты.
Четвёртый ключ, о котором писал Гольдбах, использовался Шетарди для переписки с другими французскими посланниками за границей. К марту 1744 года этот шифр был учёным успешно форсирован, и он приступил к раскрытию пятого ключа. В очередном письме Бестужеву Гольдбах просит дать ему ещё две недели,
«дабы я себя в состояние привесть мог Вам такой опыт представить, который бы Вашей апробации достоин был». Теперь Гольдбах «щёлкал» французские шифры как орешки — ему на это требовались всего две недели, в то время как над первым ключом он корпел целый год. Труды криптографа щедро вознаграждались императрицей, это было и повышенное жалованье, и чины
[66]. И немудрено: криптография стала важным инструментом внешней политики.
К решительным действиям вице-канцлер перешёл в апреле 1744 года. К этому времени проницательный Лесток сумел «вычислить» подведенную под Шетарди мину и решил предусмотрительно отойти в сторону. Он положил в карман последние червонцы из рук маркиза и стал заранее заметать за собой следы.
3 апреля канцлер отправил конференц-министру графу М.И. Воронцову письмо, в котором сообщил о непозволительно опасном для интересов России поведении Шетарди и просил доложить об этом Елизавете Петровне. Он подвёл под свои ответные меры принципы международного права, в рамках которых должен был держаться любой иностранный посланник.
«Министр иностранный есть яко представитель и дозволенный надзиратель поступков другого двора, для уведомления и предостережения своего государя о том, что тот двор чинит или предприять намеревается, — писал он в докладной императрице. —
Одним словом, министра никак лучше сравнять нельзя, как с дозволенным у себя шпионом, который, без публичного характера, когда где поймаете я, всякому наипоследнейшему наказанию подвержен». Но «публичный характер» деятельности спасает дипломата до тех пор, пока он держится в рамках дозволенного. Шетарди же, по мнению вице-канцлера, планируя свергнуть руководителя российской Коллегии иностранных дел, уже давно вышел за эти рамки.
Императрица сильно заинтересовалась перлюстрированными письмами и дала указание перехватывать и открывать письма всех иностранцев, обретающихся в Петербурге. Бестужев запаниковал: переводчики не успевали обрабатывать тексты «основных объектов» его разработки, а тут — перлюстрировать и переводить письма десятка-другого новых корреспондентов! Да и возможности почт-директора Аша ограничены — у него и так от непрерывного раздувания углей стали слепнуть глаза!
«К тому же тот один присяжный человек (Гольдбах. —
Б. Г.),
который оныя в цифрах и без цифр письма переписывает, копированием оных никак управиться не может». В письме от 13 мая 1744 года Бестужев просит Черкасова доложить об этом императрице. Сам он сделать это не решается.
Дальше всё было делом техники. 16 июня 1744 года Бестужев показал Елизавете Петровне последнее, только что расшифрованное, послание Шетарди домой, причём дешифровка была повторена в присутствии императрицы. Содержание письма повергло её в страшный гнев. Француз писал в Париж о легкомыслии императрицы, её тщеславии,
«слабости умственной» и
«плачевном» поведении.
В пересказе Соловьёва депеша Шетарди выглядит следующим образом: Шетарди жалуется в Версаль, что Елизавета, обращаясь с ним внешне как нельзя лучше, тем не менее к его политическим советами не прислушивается и ради него Бестужевым не жертвует. Он пишет, что русская императрица слаба, ленива и к делам испытывает отвращение. Она прислушивается к мнению своих министров, чтобы избавить себя от необходимости думать самой. Её доброта — это доброта, дурно понимаемая и основанная всегда на слепой доверенности к другим. Елизавета любит только одни удовольствия и желает мира только для того, чтобы беспрепятственно им предаваться и тратить деньги, которые поглощает война. Главное её желание — переменять четыре-пять раз в день туалеты, видеть себя в пышном окружении слуг и лакеев. Всякий человек, который по уму выше дворцового окружения, её уже беспокоит, а мысль о малейшем занятии пугает и сердит. И так далее в том же духе. И вывод: лень и страх найти в новых министрах методу, не столько благоприятную для её распущенности, заставляют её удерживать при себе вице-канцлера.
Точно рассчитанный Бестужевым ответный удар достиг, наконец, своей цели. В конце аудиенции вице-канцлер попросил либо отправить его в отставку, либо защитить его честь и достоинство. И Елизавета наконец-то «прозрела» и страшно рассердилась. Особенно её возмутили неуважительные высказывания Шетарди о ней самой как
«довольно фривольной и распутной женщине», полностью находящейся во власти своих прихотей. Такого она не могла простить никому.
Для. Шетарди, догадывавшегося, что его письма перехватываются и читаются, но бывшего в полной уверенности, что зашифрованные главные секреты его переписки для русских недоступны, последующие события стали как гром среди ясного неба. Во-первых, в мае Елизавета неожиданно для всех, но не для Бестужева, выслала из России принцессу-мать Цербстскую. А 6/17 июня в половине шестого утра в дом Шетарди вошёл начальник Тайной канцелярии А.И. Ушаков
[67] «со товарищи» — князь П.А. Голицын, секретарь КИД Курбатов с большим красным портфелем в руках, чиновники КИД Исаак Веселовский и Адриан Неплюев. Маркиз встретил их в парике и полушлафроке, Ушаков заявил, что прислан по указу её императорского величества для дачи объявления. Курбатов зачитал это объявление, в котором говорилось, что Шетарди высылается из России в 24 часа, и вручил ему аналогичного содержания ноту КИД. Маркиз выразил возмущение и потребовал представить оправдания своего неправильного поведения, и тогда тот же Курбатов стал зачитывать выдержки из его собственных писем. Услышав цитаты из своего послания, маркиз прервал его и
сказал:
— Достаточно.
И начал упаковывать свои вещи.
В рапорте Ушакова императрице говорилось, что
«Шетардий, сколь скоро генерала Ушакова увидел, то в лице переменился. При прочтении экстракта столь конфузен был, что ни слова во оправдание своё сказать или что-либо прекословить не мог. На оригиналы только взглянул и, увидя свою руку, ниже больше смотреть не хотел…».
А.П. Бестужев по этому поводу направил восторженное письмо М.И. Воронцову, приложив вышеуказанный рапорт Андрея Ивановича.
«По всему видно, что он никогда не чаял, дабы столько против его доказательства было собрано…» — писал он Михаилу Илларионовичу, который тоже — лицемерно или искренно — выступил за высылку маркиза. Неподдельную радость по поводу падения французской партии изъявил английский посланник Тируоли, но его радость была другого свойства: убрали соперника, который мешал ему самому играть аналогичную роль при дворе Елизаветы. Англичанин считал себя почётным соучастником этого события и сообщником Бестужева. Он отрапортовал лорду Картерету:
«Когда мы открыли императрице его поступки…» и с удовлетворением сообщил, что вице-канцлер дал указания своим посланникам в соответствующие европейские столицы прервать всякие переговоры о заключении четверного союза между Россией, Пруссией, Францией и Швецией и тройственного союза между Россией, Пруссией и Швецией.
В Новгороде Шетарди подвергся унижению — по распоряжению Бестужева у Шетарди отобрали подарок Елизаветы, табакерку с её портретом. Француз пытался оказать сопротивление и приготовил для этого пистолеты, но ничего не добился. Версалю показалось достаточно тех глупостей, которые их неофициальный посланник успел наделать в России, и ему приказали отказаться от всех протестов и немедленно возвращаться во Францию. При этом ему запретили появляться в Париже и предписали явиться для отчёта прямо в Версаль. Там в спешке нашли замену и Шетарди, и д'Аллиону — графа Сенсеверина, посланника Франции в Варшаве, но Сенсеверин по дороге в Россию захворал, и волей-неволей пришлось опять возвращать в Санкт-Петербург всё того же д'Аллиона. Ему были немедленно выданы новые верительные грамоты и новые инструкции, в которых высылка Шетарди из России признавалась правомерной
[68].
Французы отозвали всех сотрудников своей миссии в Петербурге, оставив лишь консула Антуана Буше Сенсовёра, но и он в июне 1748 года отбыл на родину. Лесток со своими прусским и французским покровителями должен был расстаться. Тироули немедленно предложил лорду Картерету лишить Лестока английской пенсии как бесполезного и даже вредного агента, но вице-канцлер отсоветовал его от этого шага, чтобы не насторожить лейб-медика раньше времени относительно следующих шагов по его душу. Тут канцлер оказался «англичанистей» самого англичанина.
Громкая победа Бестужева над одним из своих сильнейших противников заставила на некоторое время умолкнуть или «поджать хвост» многих его внешних и внутренних врагов, включая Лестока. Например, в официальном Берлине известие о высылке Шетарди из России встретили с нескрываемыми сожалением и озабоченностью. Посланник М.П. Бестужев-Рюмин писал в Петербург:
«… Оказанная в сем деле особливая твёрдость и мудрый поступок к бессмертной славе и к наивящему прославлению вашего императорского величества и особенно к наибольшему респекту и консидерации при всех европейских дворах служить могут». Брат вице-канцлера утверждал, что аналогичная акция в отношении сообщника Шетарди, прусского посланника в России Мардефельда, отнюдь не вызовет больших затруднений. Он сообщал также, что король Пруссии теперь был якобы весьма заинтересован в установлении добрых отношений с А.П. Бестужевым-Рюминым. Впрочем, Фридрих II не оставил своих намерений вредить Бестужеву-младшему и пытался восстановить Михаила Петровича против младшего брата путём инсинуаций о причастности вице-канцлера к получению английских денег.
Король Пруссии оставался пока при сильных «козырях» на руках: и русский наследник престола, и шведский кронпринц только что получили таких жён, которые могли нейтрализовать влияние ненавистного вице-канцлера Бестужева. Оба эти брака были осуществлены в соответствии с планами короля и вопреки желанию вице-канцлера. Появление сестры Фридриха II Ловисы Ульрики в стокгольмском королевском доме в некотором роде стало зеркальным отражением аналогичных событий при петербургском дворе. Примерно в то же самое время в Северной Пальмире появилась принцесса Анхальт-Цербстская, намеченная в жёны полурусскому-полуголштинцу Петру Фёдоровичу. Ей тоже, как и Ловисе Ульрике, скоро захочется играть более активную роль в Петербурге, нежели ту, которую ей отвела Елизавета Петровна. Так «молодые» дворы наследников трона в обеих странах стали номинально возглавляться голштинцами, причём состоявшими друг с другом в близком родстве, а их действиями фактически стали руководить их предприимчивые и честолюбивые немецкие жёны. Жёны во всех отношениях превосходили своих супругов и обладали амбициями государственных мужей, — амбициями, искусно подпитываемыми из Берлина.
Фридрих II сидел в своём «офранцуженном» дворце Сан-Суси и довольный потирал руки. Его сестра в Стокгольме и дальняя родственница в Петербурге находились под полным его контролем. Императрица Елизавета была хоть и не очень уж старой, но больной; шведскому королю исполнилось уже 68 лет, так что на обоих тронах скоро должно было освободиться место для ставленников и родственников короля Пруссии! Пусть Бестужев-Рюмин мечется и изобретает всякие системы и контрмеры — «брачная» система Фридриха Прусского всё равно окажется более эффективной! А немецких принцесс хватит на все дворы Европы.
Недаром негодовал в Петербурге вице-канцлер Бестужев, когда узнал о браке Адольфа-Фредрика на прусской принцессе, к тому же одобренном Елизаветой Петровной. Швеция могла быть потерянной для России навсегда. Очевидно, что вице-канцлер в этот момент был сильно поглощён борьбой с Шетарди, вступившей в заключительную фазу, и его враги воспользовались этим и дали императрице совершенно негодный совет.
«Пропустил» вице-канцлер и назначение в Стокгольм сразу после Обуского мира 1743 года послом шведа Любераса, приверженца голштинской партии.
«…На генерала же Любераса… совершенно положиться никоим образом невозможно, будучи её императорскому величеству довольно памятно, какими персонами он рекомендован и что он яко урождённый швед всегда явным французским и прусским партизаном был», — писал он уже постфактум. Посланник, по его мнению, не докладывал всей правды в Петербург и вместо привлечения на свою сторону дружественно настроенных к России шведов стал делать авансы в пользу шведского правительства и враждебной партии «шляп». Для получения объективной картины из шведской столицы Бестужев был вынужден установить прямой канал связи с секретарём миссии Ф.И. Черневым
[69], который в иносказательной форме докладывал:
«Здесь, исключая Минерву[70] и главных учителей епикурейской философии[71], почти все чуду морскому[72] скорейшего возвращения отсюда в прежнее его жилище[73] желают, и если это случится, то антагонисты[74] устроят хороший праздник. Но сам он, почитая это место за прямой соломоновский Офир, ни малой охоты к тому не показывает, особенно потому, что ещё не освободился от своей жестокой болезни,.. —
великопосольская немощь». Чернев добавлял, что при Люберасе Бестужеву
«многие угрозы и зело чувствительнейшие разглашения чинятся».
Люберасом осталась недовольна и Елизавета Петровна: в одной из его депеш из Стокгольма она прочитала, что посланник самовольно, не испросив её разрешения, обнадёжил главу правительства Швеции К. Юлленборга в её милости и совершенном доверии, а также в дружбе канцлера России. Лишь в марте 1745 года Елизавета приказала Любераса отозвать, а на его место направить другого посланника.
Потери потерями, но с лета 1744 года кредит доверия Бестужева у императрицы резко возрос, и у него развязались руки для претворения своих внешнеполитических планов. 15/26 июня 1744 года он получил звание
Великого канцлера, долго никому не присваивавшееся, а Воронцов — звание вице-канцлера.
Французы были теперь не страшны, главное внимание канцлер стал обращать на Пруссию, ибо считал её опаснее Франции
«по близости соседства и великой умножаемой силе».
ВЕЛИКИЙ КАНЦЛЕР
В моей империи только и есть великого, что я да великий князь, но и то величие последнего не более, как призрак.
Императрица Елизавета
Бестужев-Рюмин сменил умершего в ноябре 1743 года князя Черкасского, но не сразу: пост канцлера некоторое время оставался вакантным. Став канцлером, он подал императрице челобитную, в которой изложил весь свой служебный путь и указал на свои небольшие оклады, которые пришлось тратить ради представительских целей. Вследствие этого, жаловался новый канцлер, он попал в долги и просил, для поддержания себя с достоинством
«в новопожалованном из первейших государственных чинов характере», отдать ему в собственность казённые земли в Лифляндии: замок Венден с деревнями, когда-то принадлежавшие шведскому канцлеру А. Оксеншерне. Стоимость деревенек оценивалась в сумме в 3642 ефимка. Просьба канцлера была уважена. Кроме того, Елизавета Петровна отдала ему дом в Петербурге, принадлежавший ранее графу и канцлеру А.И. Остерману.
В помощники себе Бестужев 25 июня 1744 года рекомендовал графа Михаила Илларионовича Воронцова (1714—1767) как
«толь честного и совестного и чрез многие опыты верноревностного вашего императорского величества радетельного раба». О деловых качествах «радетельного раба» канцлер не упоминает. Умный и наблюдательный Х.-Г. Манштейн называет Воронцова честным человеком, но ограниченного ума,
«без особенного образования и ещё менее научившийся впоследствии».
Сразу после своего возвышения Бестужев добился удаления из России агента Фридриха II — принцессы Цербстской, матери великой княгини Екатерины Алексеевны. Лестоку, пока он ещё был на свободе, дали понять, чтобы дальше медицины его интересы в Петербурге не распространялись. Во время подготовки свадебных церемоний в связи с браком Петра Фёдоровича на принцессе Анхальт-Цербстской оберцеремониймейстер граф Санти обратился к Лестоку за указанием о том, какое место должны в них занимать Бруммер и ещё один немец. Лесток по старой привычке, словно министр, пришёл к Елизавете с докладом об этом деле и получил в ответ, что канцлеру неприлично вмешиваться в медицинские дела, а ему — в канцлерские, а при первой же аудиенции Бестужеву велела сделать выговор графу Санти, чтоб он хорошенько знал своё дело и обращался по всем вопросам либо к канцлеру, либо к вице-канцлеру, иначе может потерять своё место. Бестужев принял это замечание с большим удовлетворением, так как он недолюбливал графа Санти и называл его в насмешку «обер-конфузионсмейстером».
Несколько позже Бестужев под благовидным предлогом сумел удалить из «голштинского дворика» и Бруммера. Теперь канцлеру никто не мешал, вице-канцлер граф М.И. Воронцов свои оппозиционные взгляды открыто пока не демонстрировал, и Бестужев мог применить свои способности на высоком дипломатическом посту в полной мере. И было к чему приложить руки и знания: «нарушитель европейского порядка» Пруссия и её король привлекали внимание всех европейских столиц.
Версаль и Берлин, поняв, что свергнуть Бестужева с поста канцлера не удастся, сосредоточили свои усилия на вице-канцлере Воронцове. Самому Бестужеву-Рюмину предстояло теперь бороться с одной императрицей — вернее, с её инертностью и предубеждениями. В частности, ему стоило немалых трудов уговорить Елизавету Петровну отнестись более снисходительно к поступкам австрийского посла де Ботты и в интересах дела предать их забвению.
Обязательствами перед голштинским двором связаны были руки канцлера и в Швеции. Он настаивал на том, чтобы восстановить права Бирона на Курляндию, но Елизавета не хотела об этом и слышать и отдала Курляндию в управление принцу Гессен-Гомбургскому. Медленно продвигалось и решение главного вопроса — присоединение России к союзу морских держав, Австрии и Саксонии с целью сплочения сил против Пруссии. Императрица считала целесообразным воздерживаться от активного участия в европейских делах, а Бестужев до поры до времени тоже разделял эти взгляды. Он видел вражду Парижа и Берлина, неискренность Вены и Дрездена и не горел желанием быть на побегушках у иностранных дворов.
Ещё до своего канцлерства Бестужев-Рюмин, по всей вероятности, уже имел в голове вполне определённую программу действий, иначе он вряд ли действовал бы так уверенно и целенаправленно и на мирных переговорах со шведами в Обу, и в схватке со своими противниками, и в контактах с потенциальными союзниками. Антифранцузская направленность внешней политики России была для него очевидна, это был её фундамент, но ведь нужна была и позитивная программа.
Об этом ему из Варшавы писал и брат Михаил Петрович:
«…Мне, топ cherfrere, кажется необходимым, что если у нас ещё никакой прямой системы не принято, то чтобы вы теперь вместе с товарищем своим, принявши самую полезную для России систему, составили план и по нему поступали».
Пока Михаил Петрович был верным союзником своего брата и полностью разделял его взгляды о том, какая политика была бы на пользу России.
Свою концепцию полезной для страны системы или европейского «концерта» новый канцлер, как мы уже сообщили выше, впервые изложил в письме к своему товарищу, вице-канцлеру М.И. Воронцову, а потом развивал её в записках, письмах и докладах государыне. Эту концепцию Бестужев называл «системой Петра I», потому что полагал, что идёт по стопам великого императора, хотя историки позже назвали её системой Бестужева.
Система Бестужева явилась не только плодом его кабинетных размышлений и богатого дипломатического опыта. Она была вызвана к жизни самими событиями: в августе 1744 года Фридрих II начал вторую Силезскую войну и возобновил военные действия против Австрии. Прусская армия захватила Прагу и часть Богемии (Чехии), а потом вторглась в Саксонию. Россия имела с Саксонией оборонительный союз, но оставался в силе и союзный договор с Пруссией. Во второй раз Россия оказалась в щекотливой ситуации, но теперь петербургский кабинет и Бестужев считали необходимым предупредить агрессора и действовать в пользу Саксонии более решительно, тем более что прусские войска весной и летом 1744 года нанесли Австрии и Саксонии серьёзные поражения и приближались к русской Прибалтике.
Конечно, времена изменились, и полностью копировать политику Петра I Бестужев отнюдь не собирался. Он имел в виду следовать духу и заветам великого реформатора. Суть их состояла в том, чтобы стремиться к установлению союзнических отношений с теми государствами, с которыми Россия имела
одинаковые долговременные интересы. В первую очередь канцлер относил к таким государствам морские державы Англию и Голландию, с которыми у России не было территориальных споров, связывали давние отношения и имелись общие интересы на севере Европы. Определённое значение в качестве союзника имел также и курфюрст Саксонии, одновременно являвшийся королём Польши. Бестужев-Рюмин напоминал о том, что Пётр I
«неотменно желал саксонский двор, колико возможно, наивяще себе присвоять, дабы польские короли сего дома совокупно с ними Речь Посполитую польскую в узде держали». Он отлично знал и понимал, что неуправляемая шляхетская Польша легко могла стать объектом различных антирусских интриг, что история неоднократно демонстрировала.
Потенциальным союзником России Бестужев-Рюмин считал Австрию — в первую очередь потому, что Габсбурги были традиционными противниками Франции, а теперь и Пруссии, и потому были заинтересованы в мире в Центральной и Восточной Европе. Но Австрия была необходима также и для противостояния могущественной Османской империи, постоянно угрожавшей России на южных рубежах. Интересы России требуют, писал канцлер,
«чтоб своих союзников не покидать для соблюдения себе взаимно во всяком случае…таких приятелей, на которых бы положиться можно было, а оные суть морские державы, которых Пётр Первый всегда соблюдать старался, король польский как курфюрст саксонский и королева венгерская (то есть австрийская Мария-Терезия. —
Б. Г.) по положению их земель, которые натурально с сею империей интерес имеют».
К тайным и явным противникам канцлер вполне справедливо относил Францию и Швецию, первая из которых противодействовала усилению России, а вторая жаждала реванша за поражение в Северной войне. По отношению к Швеции, полагал он, следовало проводить спокойную, продуманную политику, не допускавшую ущемления её интересов. Он указывал также на традиционную связь этих государств с Турцией, где они
«издревле весьма вредные для нас интриги… производили».
Главным стержнем своей внешнеполитической системы канцлер полагал её антипрусскую направленность. Поэтому особое внимание он уделял неприятелю пока «потаённому», а потому более опасному — Пруссии. Он отмечал агрессивный характер её внешней политики, наращивание армии и значительный территориальный прирост — особенно с приходом к власти Фридриха И. Верить слову или даже подписанному с Берлином договору, говорил он, никоим образом нельзя — это доказала вся вероломная внешняя политика прусского короля, а потому никакой союз с ним не возможен и опасен.
Это не было утрированием фактов, Бестужев был реальным политиком, и он знал, что говорил. Пруссия разжигала костёр войны не только в Европе, она интриговала в Польше, Турции и Швеции, и цели, преследовавшиеся прусской дипломатией в этих странах, противоречили интересам и Австрии, и России. И в этом, пожалуй, был главный мотив сближения Петербурга с Веной.
Предупреждая об опасности, исходившей для России от Франции, Пруссии и Швеции, канцлер не исключал поддержания с ними нормальных дипломатических отношений.
Сейчас, на расстоянии веков, можно сказать, что система Бестужева-Рюмина, конечно же, была далеко не безупречной. Теперь очевидно, что он переоценивал общность интересов России с названными им странами-союзниками, особенно с Англией. По всей видимости, Бестужев отдавал дань распространившейся в Европе идее «регулярного государства» Г. Лейбница, согласно которой государственный механизм должен был быть систематизирован и приводиться в движение, как в часах. Не секрет, что эти механистические системы были слишком жёсткими и нединамичными, плохо приспособленными к текущим изменениям обстановки, хотя и позволяли добиваться поставленных целей без риска серьёзной конфронтации с партнёрами. После 20 лет бессистемности внешней политики России система Бестужева-Рюмина работала и приносила свои плоды.
Антипрусские мотивы в делах канцлера были определяющими независимо от конъюнктуры. Под давлением внешних обстоятельств и, возможно, для временного снижения напряжённости в русско-прусских отношениях Бестужев был вынужден заключить с Пруссией оборонительный союз, но выполнять его полностью никоим образом не собирался. Когда министр иностранных дел Пруссии Г. Подевильс в связи с саксонским кризисом сделал Бестужеву запрос о причинах невыполнения Россией обязательств по оборонительному союзу, тот ответил, что Россия не обязана была это делать, поскольку Пруссия в войне с Саксонией выступила в роли агрессора.
Что касается разбойных действий Пруссии в Саксонии в августе 1745 года, то Петербург благоразумно решил пока в эту войну не ввязываться, ограничившись по отношению к Дрездену дипломатической поддержкой и выдвижением дополнительных войск в Курляндию. Он не доверял ни союзникам, ни противникам. Особенно настораживала тайная от Петербурга сделка лорда Харрингтона и прусского резидента в Лондоне Андриэ о том, чтобы Силезию окончательно закрепить за Пруссией в обмен на то, что Фридрих II на общегерманском съезде подал голос в пользу признания мужа Марии-Терезии в качестве императора Священной Римской империи
[75]. Харрингтон взялся также помирить Берлин с Веной.
Вместе с тем Бестужев не исключал и того, что Россия будет вынуждена выставить против Пруссии войска, но только после окончательного построения союзнической антипрусской коалиции, например, если Россия на известных условиях будет принята в Варшавский союзный договор, заключённый между Австрией, Англией, Голландией и Саксонией в 1745 году. Вице-канцлер Воронцов, в принципе поддерживая мнение канцлера о Саксонии, предлагал также оказать ей финансовую помощь.
Вся жизнь Алексея Бестужева-Рюмина, как мы видим, состояла из борьбы.
Сам путь наверх дался ему, не очень знатному и богатому дворянину, нелегко, а заняв ответственный пост практически первого после императрицы вельможи, он отнюдь не совершал прогулки по лепесткам роз, а шагал через колючие шипы. Наличие многочисленных внешних врагов объяснялось вполне понятными причинами, и они, пожалуй, только привносили в его кровь полезный для его темперамента адреналин. Но вот зависть и ревность соотечественников, людей двора Елизаветы и лиц-прилипал, случайно окруживших этот двор, доставляли значительно больше неприятностей и досады, не давая покоя ни на один день, ни на один час. В русской истории трудно встретить другую такую судьбу чиновника высшего ранга, который был бы вынужден неустанно, всю свою жизнь бороться не на жизнь, а на смерть со своими многочисленными врагами.
А покоя не было. И после изгнания из России Шетарди и нейтрализации Лестока враги Бестужева и империи продолжали свою тайную подрывную работу, и успокаиваться никак было нельзя. 1 сентября 1744 года Бестужев писал Воронцову:
«Хотя я и желал, и ваше сиятельство… всемилостивейшее соизволение исходатайствовать изволили, чтоб министерских писем более не просматривать, то, однако ж, я запотребно нахожу при нынешних обстоятельствах за баронами Мардефельдом и Нейгаузом посматривать, яко они… провираются». Перлюстрация и дешифровка депеш иностранных посланников и резидентов по-прежнему были важным средством наблюдения за замыслами противников России.
Так накануне было вскрыто письмо баварского посланника И. Нойхауза (Нейгауз) от 13 июля, в котором говорилось:
«Вчера по окончании куртага принцесса Цербстская вручила мне письмо к вашему императорскому величеству, прибавив, что она не только как императорская вассалка всякую должную венерацию (то есть почтение. —
Б. Г.) к высочайшей вашей особе у но и… врождённую её дому особенную покорность и венерацию имеет, к чему она свою дочь, которая с своим будущим супругом и без того склонна,
с прочими окружающими людьми ревностнейше будет привлекать».
Продолжал «провираться» и Мардефельд, который пел дифирамбы матери невесты Петра Фёдоровича, задержавшейся в России в связи со свадьбой дочери:
«Я должен отдать справедливость принцессе Цербстской, что она истинно радеет интересам королевским». Поздравляя Фридриха II с удачным походом в Богемию, посланник писал ему:
«Великий князь мне сказал: я сердечно поздравляю. Молодая великая княжна многократно повторяла: “Слава Богу!” Принцесса-мать не могла найти довольно сильных выражений для своей радости…» Понятное дело, от таких наследников русского престола настроение у Алексея Петровича вряд ли поднималось.
Посланник Франции д'Аллион предпринял ещё одну попытку одновременно подкупить Бестужева и Воронцова, обещая им со стороны своего двора благосклонное отношение к выгодному для России договору. Бестужев и Воронцов ответили ему, что прежде следовало бы подписать договор, а потом уж заводить речь о «пенсионе».
— Благодарим покорно, — отвечали они французскому послу, настаивавшему на своём варианте: сначала пенсион, а потом — договор. — Щедрость императрицы избавляет нас от нужды.
Но это скоро всё ушло в прошлое. Скоро Михаил Илларионович изменит своё отношение к канцлеру и начнёт «дрейф» в противоположную от него сторону. Будучи ещё конференц-министром, Воронцов был одним из тех русских вельмож, которые считали необходимым не допускать французского влияния на Россию и проводить вовне исключительно национальную русскую политику и поддерживать любое антифранцузское и антипрусское движение в Европе. Воронцов активно участвовал в государственном перевороте и способствовал возведению на престол Елизаветы Петровны, и вполне естественно, пишет Соловьёв, что по отношению к Бестужевым, попавшим под репрессивную машину предыдущих режимов, он вёл себя как покровитель. Это можно видеть хотя бы из тех почтительных и чуть ли не подобострастных писем, которые вице-канцлер Бестужев писал к нему в начале 40-х годов.
Французские и прусские дипломаты, несмотря на минимальное расхождение взглядов у канцлера и вице-канцлера, предприняли очередную попытку отстранить от дел Бестужева-Рюмина и заменить его Воронцовым. План этот не лишён был оснований по нескольким причинам. Во-первых, Михаил Илларионович был большим поклонником Франции и французской культуры и так же благосклонно относился к Пруссии. Во-вторых, он был женат на кузине Елизаветы Петровны графине Анне Карловне Скавронской и был в числе близких друзей императрицы. И, в-третьих, он, в отличие от Алексея Петровича, не горел пока желанием заниматься службой, но зато «горело» его самолюбие. Он завидовал Бестужеву, который один пользовался всем почётом и уважением, в то время как сам оставался в тени, — по выражению Соловьёва, «скромный спутник блестящей планеты». И вот Воронцов изменился и стал не только оппонентом Бестужева, но и его ярым врагом.
Возня вокруг Воронцова, кажется, происходила без всякого участия Елизаветы. Когда однажды Бруммер начал хвалить ей вице-канцлера Воронцова, она сказала:
«Я имею о Воронцове очень хорошее мнение,
и похвалы такого негодяя, как ты могут только переменить это мнение,
потому что я должна заключить у что Воронцов одинаких с тобой мнений». Одна эта фраза делает честь нашей якобы взбалмошной и не расположенной к государственным делам императрице. С наглецами и подлецами она не церемонилась.
Весной 1744 года Фридрих II принялся хлопотать о пожаловании Воронцову титула графа Священной Римской империи, а в августе 1745 года французский посол д'Аллион уверенно (в который раз!) писал в Париж о скором падении Бестужева-Рюмина. Год спустя он уже более осторожно предполагал, что Бестужева можно было «ослепить» лишь крупной взяткой, в то время как Воронцов мог бы удовлетвориться «пенсией». В начале июня 1745 года д'Аллион сообщил министру иностранных дел Франции д'Аржансону, что он предложил «ослепительную» сумму денег канцлеру, но тот выслушал его предложение равнодушно. Воронцов без всякой пенсии и взятки дал д'Аллиону заверения в том, что Франция могла всегда полагаться на дружественное к себе отношение со стороны русского двора, и посланник радостно сообщил в Париж, что сэкономил на вице-канцлере королевские деньги.
Михаил Илларионович знал, что канцлер внимательно следил за входящей и исходящей корреспонденцией иностранных министров в Петербурге, и проявлял крайнюю осторожность в своих контактах с ними. На перлюстрированной и декодированной депеше д'Аллиона он сделал оправдательную пометку о том, что если француз предложит ему взятку в виде 50 тысяч, он откажется от неё, потому что раньше не соблазнился и 100 тысячами рублей. Но Воронцова подвела следующая депеша д'Аллиона, в которой говорилось:
«Почти нет сомнения, что Воронцов свергнет Бестужева, и это событие не заставило бы себя долго ждать, если б, по несчастию, нездоровье г. Воронцова не принуждало его ехать… за границу». Вице-канцлер поспешил отмежеваться от д'Аллиона пометой о том, что французский министр никаких заверений по поводу свержения канцлера от него не получал, и что Бестужеву
«кроме прямой дружбы, от меня ничего инаго не будет». Но обмануть канцлера этой отговоркой было трудно: он наверняка уже доложил об этом эпизоде Елизавете Петровне и сделал необходимые для себя выводы.
Воронцов, по выражению английского посланника Хинд-форда, снял маску в апреле 1745 года, когда в Петербурге проходила конференция с участием Бестужева, Воронцова и посланников Англии (Хиндфорд), Австрии (Розенберг), Голландии (Дедье) и Саксонии (Петцольд). На конференции обсуждался вопрос о присоединении России к Варшавскому договору. Воронцов, соблазнённый предложением д'Аллиона о четверном союзе Франции, России, Пруссии и Саксонии, открыто выступил против участия России в этом антифранцузском и антипрусском союзе, и Хиндфорд 29 апреля писал лорду Картерету:
«Другмой (Бестужев. —
С. С.) намерен подать своё мнение в самых сильных выражениях, если соперник осмелится подать своё в таких же». Но Бестужеву-Рюмину, судя по всему, пришлось пойти на компромисс с Воронцовым, потому что в его ответе послам от 30 мая говорилось, что России незачем было присоединяться к Варшавскому договору, поскольку она и так уже связана целым рядом двусторонних соглашений с его странами- участниками. Думается, это отступление от своей системы было допущено Бестужевым не без давления со стороны Елизаветы Петровны.
И канцлер, и вице-канцлер знали, что окружение рассматривало их как непримиримых соперников, и уже этого было достаточно, чтобы они видели, что между ними брошен нож. Единственным выходом для Воронцова было стать в открытую оппозицию к канцлеру и попытаться завоевать собственный авторитет. Сделать это было легко и выгодно: и страна, и государство, и люди устали от пертурбаций, переворотов и войн, а канцлер не уставал призывать всех к новым испытаниям и утверждению России на европейской арене. Это было полезно и необходимо, но кто в то время полностью разделял эти взгляды? Изоляционизм был в крови русских людей, а заграницу после Петра I его птенцы стали воспринимать лишь как возможность приобщиться к роскоши. Да и этой роскошью могли воспользоваться всего десятка два-три аристократов.
Так что Воронцов мог успешно играть роль «патриота». Для этого не было нужды менять систему — достаточно было ограничиться лёгкой помощью Австрии и Саксонии и пугать Пруссию сильными демаршами и дипломатическими представлениями, не ввязываясь в разорительные войны. Это вполне отвечало и русскому менталитету, и интересам тех же Франции и Пруссии, которые рьяно принялись отрывать Воронцова от Бестужева.
Соловьёв пишет, что позиция Воронцова в прусско-саксонском конфликте — ограничиться лишь денежной поддержкой для Дрездена и ролью посредника между обеими воюющими странами — стала для него роковой. Она сильно не понравилась Елизавете, и она уже без всякой дипломатии дала понять вице-канцлеру, что не возражает, если бы он выехал на некоторое время подлечиться за границу.
29 августа императрица подписала паспорт на выезд Воронцова «в чужие края» и рескрипт ко всем иностранным дворам с извещением о выезде вице-канцлера в Европу. Коллегиальное обсуждение прусско-саксонского конфликта состоялось уже без Воронцова. Париж и Берлин в очередной раз просчитались, верх в борьбе за власть в Коллегии иностранных дел выиграл Бестужев, а Воронцов был вынужден отправиться с женой и секретарём Ф.Д. Бехтеевым в путешествие по Европе. Его маршрут с сентября 1745 года по август 1746 года включал Берлин, Дрезден, Прагу, Вену, Венецию, Рим, Неаполь и Париж. Уезжая, он оставил императрице пророчество о том, что англичане, на которых канцлер делал такую сильную ставку, в конечном итоге подведут Россию и заключат с Пруссией отдельный мир. К сожалению, это пророчество скоро сбылось.
Проезжая через Берлин, Воронцов посетил Фридриха II, чем навлёк на себя дополнительный гнев Елизаветы Петровны. Вернувшись через год домой, он, казалось, окончательно утратил все шансы на то, чтобы при Бестужеве-Рюмине вернуться к занятиям внешней политикой. Но он придёт туда снова, хотя для этого нужно будет «уйти» самого Бестужева-Рюмина.
В октябре 1745 года из Парижа пришла реляция советника миссии Г. Гросса, сильно раздражившая Елизавету Петровну. Гросс докладывал, что во время аудиенции у статс-секретаря МИД Франции Рене-Луид'Аржансона(1694—1757) последний
«с порицанием отозвался о канцлере и его брате, почитая их, как и его, Г роса, английской стороне преданными, и что они якобы несходственно с намерениями Её Императорскаго Величества в делах поступают». Императрица указала своему послу в Голландии А.Г. Головкину (1688—1760) предпринять перед французским посланником аббатом де ла Биллем демарш и выразить королю Франции своё возмущение поведением д'Аржансона. Аналогичное указание получил канцлер Бестужев-Рюмин: он должен был
«о таких даржансовых поношениях пристойным и по возможности чувствительным образом выговорить» послу в Петербурге д'Аллиону. Конечно, императрица в первую очередь защищала собственную честь и честь страны, но одновременно она вступалась и за своего канцлера, брала его под свою защиту и демонстрировала его обидчикам, что Алексей Петрович пользуется у неё полным доверием.
Послу Головкину в это же время поступил указ Елизаветы о покупке у некоего амстердамского купца крохотной мартышки
«сирень, обезьяна, цветом зелёная и толь малая, что совсем входит в индейский орех… и чтоб оную для куриозности бы ко Двору Нашему достать…». Письмо с указом пришло к Головкину за подписью Великого канцлера и вице-канцлера — ко всему прочему им приходилось заниматься и мелкими забавами своей государыни! Мартышка была куплена и доставлена Елизавете Петровне с нарочным курьером гвардии сержантом Валуевым. Неизвестно только, с орехом или без.
Но «великим» императрица своего канцлера не признавала, несмотря на титул. Жан-Луи Фавье, секретарь французской миссии в Петербурге в 1760-е годы в своих записках приводит показательный эпизод: Бестужев как-то в присутствии императрицы «зарапортовался» и назвал себя согласно официальному титулу «великим» и тут же получил щелчок по носу:
«Знайте, — сказала она ему, —
что в моей империи только и есть великого, что я да великий князь, но и то величие последнего не более, как призрак».
…Пока обсуждались прусско-саксонские дела, Елизавета спешила покончить с несколько затянувшимися матримониальными делами. С 21 по 31 августа 1745 года Петербург отпраздновал наконец свадьбу наследника с принцессой Анхальт-Цербстской, и надобность в присутствии таких ненавистных Бестужеву персон, как мать невесты и Бруммер, отпала. Бруммер очень надеялся получить место голштинского наместника, в этом был заинтересован и шведский кронпринц Адольф-Фредрик, но к этому времени все, включая великого князя Петра Фёдоровича, окончательно устали от него, и Бестужев с Елизаветой Петровной не преминули этим воспользоваться.
У Петра Фёдоровича был ещё один дядя — принц Август, который обвинил старшего брата Адольфа-Фредрика в том, что тот в бытность свою правителем Голштинии допустил растрату казны герцогства. Петербург решил сделать теперь ставку на Августа. Принц Август получил приглашение приехать в Россию, чтобы оформить свои права, в то время как его сестра, мать великой княгини Екатерины Алексеевны (принцесса Цербстская) всячески отговаривала его, пугала страшным Бестужевым и предлагала лучше поступить на службу в голландскую армию.
28 сентября принцесса Цербстская, после драматичного и нелицеприятного разговора с Елизаветой Петровной, наконец удалилась из России. Ещё в июне Елизавета Петровна по докладу канцлера распорядилась
«корреспонденцию Её Светлости принцессы Цербстской секретно открывать и разсматривать, и буде что преосудителное найдётся, то и оригинальныя письма удерживать». Вслед за её светлостью стал паковать вещи и Бруммер. Петербургский воздух стал чище, и Бестужев мог на некоторое время вздохнуть с облегчением.
…Мнение Бестужева по поводу общего положения России и прусско-саксонского конфликта было подано 13/24 сентября 1745 года. С. Нелипович пишет, что это был второй после знаменитого мнения А.И. Остермана 1725 года анализ роли России в современной Европе. Канцлер решительно не соглашался с мнением изоляционистов, доказывая, что
«ни одна держава без союзов себя содержать не может». Во вступительной части канцлер напоминал о той большой роли, которую играла Англия в политике, но особенно в торговле с Россией. Нынешние отношения империи с этой страной закреплены полезным и нужным союзным договором, основанным на общих интересах в Балтийском море, и является гарантией того, что англичане в конфликте со шведами будут придерживаться нейтралитета. Союз с Пруссией тоже был бы весьма полезен России, если бы не вероломное поведение её короля Фидриха II и его антирусские происки в Швеции и Османской Порте. Третий полезный для России союз — с Саксонией. Текущий момент был, по мнению канцлера, таков, что России в конфликте Пруссии и Саксонии нужно было принимать сторону жертвы агрессии, то есть стать на сторону Саксонии, но прямого участия в военных действиях не принимать.
На совете 3 октября Елизавета, выслушав мнение своих министров и генералов, приняла решение выдвинуть в Курляндию такое число полков, которое будет возможно разместить там на зимних квартирах. Одновременно резидент России в Берлине Чернышев должен был предупредить прусское правительство о том, чтобы Пруссия воздержалась от нападения на Саксонию, а посланнику в Дрездене М.П. Бестужеву-Рюмину было предложено вступить в консультации со двором курфюрста Саксонии Августа III.
Соловьёв пишет, что, когда канцлер Бестужев сообщил это решение Мардефельду, тот онемел от удивления. Хиндфорд написал в Лондон о том, чтобы Англия и другие морские державы (Голландия и Дания) не упустили момент и поддержали Россию субсидиями. Бестужев, единственный «партизан» Англии при дворе Елизаветы, уговорив государыню предпринять решительный шаг в Курляндии, надеялся привлечь для поддержания русских полков английские деньги. Если субсидии не поступят, писал Хиндбург, Лондон может лишиться дружбы Бестужева.
К сожалению, тех мер, которые приняла Россия, оказалось недостаточно. Фридрих II понял, что Россия воевать с ним не готова, и вторгся со своей армией в Саксонию. Пруссаки одержали над саксонцами весьма лёгкую и громкую победу, и курфюршество Саксония для России стало потерянным, будучи подмятым политической системой Пруссии и Франции. Была ли позиция канцлера по отношению к прусско-саксонсому конфликту просчётом? Вряд ли. Бестужев понимал, что русская армия для ведения активных военных действий в Европе ещё не была готова, потому что не хватало средств на её содержание, а потому дал совет ограничиться в Курляндии демонстрацией силы в надежде, что Фридрих испугается и от вторжения в Саксонию воздержится. Но прусский король разгадал замысел Бестужева и поступил в соответствии со своими планами. С. Нелипович утверждает, что канцлер не хотел втягивать Россию в войну за Саксонию, потому что опасался, что все тяготы войны пришлось бы переносить русской стороне. Это похоже на правду. Скоро действия англичан подтвердили эти опасения.
М.П. Бестужев-Рюмин докладывал брату о том, как он, приехав из Дрездена в Прагу, слушал выступление короля Пруссии. В своей речи Фридрих II заявил, что никогда не забудет, как Россия предпочла применить союзный договор с Саксонией, но отказалась сделать это по отношению к Пруссии. В заключение выступления Фридрих II пообещал отомстить русским и их союзникам и многозначительно посмотрел при этом на шведского посланника.
Впрочем, Фридрих II не стал больше испытывать терпение Европы и поспешил заключить мир не только с побеждённой Саксонией, но и с Австрией. М.П. Бестужев-Рюмин в Дрездене сетовал на то, что в распоряжении саксонского кабинета не было достаточно точной информации о намерениях Фридриха II, в то время как прусские генералы располагали полной и достоверной информацией о саксонской армии. Против этих слов канцлер в Петербурге сделал заметку на полях:
«Всещедрый Боже, да сохрани, чтоб о здешних пред восприятиях не сведал и не предупредил бы, как саксонцев».
Какие же это были
пред восприятия?
Это были меры, которые Россия должна была принять в новой ситуации, перед которой она была поставлена дерзким победоносным маршем прусской армии на Дрезден. Елизавета была вынуждена признать, что надо было готовиться к возможной войне с Пруссией. С 21 по 25 декабря в Зимнем её императорского величества дворце заседал специальный совет, на котором главенствовал канцлер. Принятое на совете и одобренное императрицей заключение предусматривало оказание более деятельной помощи Саксонии против Пруссии, и Бестужев торжествовал. Он говорил Хиндфорду, что если морские державы дадут субсидии, то Россия за одну кампанию может восстановить мир в Германии.
Именно во время прусско-саксонской войны д'Аллион предложил Бестужеву взятку в размере 50 тысяч рублей. Канцлер с торжеством докладывал Елизавете Петровне:
«Когда Дальон прежде сулил двоекратно канцлеру полмиллиона ливров, то при этом никаких условий не предписывал; и несмотря на то оба раза был так отпотчиван, что удивительно, как он опять осмелился предложить 50000 с условием, чтоб назначенные на помощь курфюрсту Саксонскому русские войска остались без движения в Курляндии».
По настоянию канцлера императрица Елизавета в конце 1745 года заявила англичанам, что Россия готова взять на себя обязательство продолжить борьбу с Пруссией, но при условии получения от Лондона субсидий на содержание армии. Но Англия, уже связанная ганноверским (предательским) договором с Пруссией, встретила это предложение отказом. Австрийская Мария-Терезия к этому времени примирилась с Фридрихом II, и Англия, естественно, уже была тоже заинтересована в мире с Пруссией. Английский посол заявил Бестужеву, что Россия со своим предложением опоздала. В прошлом Лондон несколько раз пытался склонить Петербург к союзу (правда, до того, как внешней политикой стал управлять Бестужев-Рюмин), но Остерман каждый раз тянул и находил предлоги, чтобы затянуть переговоры.
По самолюбию канцлера, делавшего в своей политике ставку на Англию, был нанесён сильный удар. Он был взбешен, обескуражен и
обозлён и в пылу дискуссии с Хиндфордом намекнул даже на возможность сближения России с Францией. Но всё это были эмоции, что хорошо понимали оба собеседника.
Это был первый звонок, предупреждавший канцлера о грозившей ему и его системе опасности. Он должен был принять меры по корректировке своей системы, но, вероятно, по причине самоуверенности и самолюбия не сделал этого, продолжая упорно придерживаться проанглийской ориентации.
События между тем стали развиваться таким образом, что петербургский кабинет при активном участии Бестужева-Рюмина был всё-таки вынужден запланировать на 1746 год наступательную военную операцию против Пруссии, для чего русская армия демонстративно начала концентрировать свои войска в Курляндии. Но до вступления в войну России на этот раз снова не дошло: в декабре «шах Надир Прусский»
[76], как прозвала Фридриха II Елизавета Петровна, сильно напуганный появлением у своих границ русской армии, поспешил замириться с Австрией. Однако свою антирусскую деятельность прусская дипломатия при этом только усилила, о чём не замедлили донести канцлеру посланники из Стокгольма, Копенгагена и Гамбурга. Одновременно Берлин снова сделал ставку на подкуп русских министров, в первую очередь тех, кто занимался внешними делами России.
8/19 апреля 1746 года Фридрих II писал своему канцлеру Подевильсу о своих опасениях по поводу силы русской армии и особенно по поводу казаков и татар,
«которые могут в течение 8 дней выжечь и опустошить всю страну без малейшей возможности помешать им. Если вероятно объявление войны со стороны России, то я не вижу иного способа, кроме покупки мира у тщеславного министра за 100—
200 тысяч талеров». С. Нелипович пишет, что 19/30 апреля Берлин направил Санкт-Петербургу ноту протеста в связи с концентрацией русских войск на границах с Пруссией и Польшей, а также 100 тысяч талеров (более 100 тысяч рублей серебром) для вручения Бестужеву-Рюмину.
По сведениям Валишевского, прусский посланник Мардефельд, во исполнение указаний Фридриха II, вручил Бестужеву и Воронцову по 50 тысяч талеров каждому. Деньги канцлер принял охотно, это случилось во время переговоров с Мардефельдом о российских гарантиях Дрезденского мира, но при этом он заявил, что о гарантиях Силезии не может быть и речи. Что касается концентрации русской армии на подступах к Пруссии, то он объяснил её необходимостью обороны русских границ в условиях непрекращающихся войн в Европе.
В августе на сенатской комиссии по вопросам безопасности Лифляндии и Эстлянди и генерал-прокурор Сената князь И.Ю. Трубецкой и генералы П. Шувалов А.И. Румянцев выступили против наращивания войск на северо-западных границах, за сокращение расходов на армию и отвод полков из Остзейской провинции в глубь страны. Однако под давлением А.П. Бестужева-Рюмина и генералов А.Б. Бутурлина, В.А. Репнина и президента Военной коллегии С.Ф. Апраксина Елизавета Петровна согласилась оставить войска в Прибалтике на зимних квартирах и реквизировать в их пользу хлеб помещиков Псковской и Остзейской провинции. Группировка Воронцова в этом вопросе потерпела поражение. Купить мир у «тщеславного министра» Берлину не удалось. Впрочем, «шах Надир» не разбрасывался деньгами и предпочитал вместо подкупов одерживать громкие победы над австрийцами и саксонцами. Победы действовали куда вернее.
Решая неотложные дела, канцлер не забывал и о таких «мелочах», как выработка правил и этикета по приёму иностранных послов, о выдаче им подарков, о праве на беспошлинный ввоз товаров для дипломатов и т.п. (письмо к Черкасову от 12 марта 1744 года) или выплата Швеции очередной суммы субсидий, о чём он напоминает барону Черкасову в письме от 26 сентября 1746 года.
За посланником Пруссии Мардефельдом Бестужев-Рюмин продолжал следить наивнимательнейшим образом. В ноябре 1745 года императрица приказала канцлеру
«открывание писем на почте от барона Мардефельда и к нему присылаемых продолжать. И все оныя списывать в запас, ежели цифирный ключ для разобрания оных из Франкфурта… привезён будет». По всей видимости, во Франкфурте у канцлера был свой человечек, имевший доступ к шифрам прусского короля. Кстати, когда императрица в конце 1745 года вознамерилась посетить Ригу, то она приказала в число сопровождавших её чиновников включить не только канцлера Бестужева и сотрудников КИД, но и д.с.с. Гольдбаха —
«для известной его работы и всякаго на французском языке случающагося сочинения». Работа дешифровалыцика Гольдбаха не должна была прерываться ни на один день!
Французская дипломатия, стоявшая за агрессивными действиями Пруссии, попыток «приручить» русского канцлера тоже не прекращала. Посланник д'Аллион в конце 1745 года предпринял очередную неудачную попытку подкупить Бестужева-Рюмина, но она не произвела на канцлера должного впечатления. Алексей Петрович, несомненно, любил деньги, они быстро ускользали из его рук, но у него были тем не менее принципы относительно того, от кого и когда следовало принимать подарки.
А пока канцлер с помощью X. Гольдбаха продолжал читать переписку неудачного взяткодателя со своим министром д'Аржансоном и отлично знал, как мало д'Аржансон ценил своего посланника в Петербурге, и какой грязью в своих отчётах в Париж поливал его, Бестужева, д'Аллион, называя
«бесчестным человеком, который продаёт своё влияние за золото англичанам и австрийцам, не отнимая от себя, впрочем, возможности заработать и в другом месте». На полях своего доклада государыне Бестужев-Рюмин против этих слов сделал на полях заметку:
«Сии и сему подобные Далионом чинимые враки ему неприметным образом путь в Сибирь приуготовляют; но понеже оные со временем усугубятся, того ради слабейте мнится ему ещё на несколько время свободу дать яд его далее испущать».
Канцлер теперь уже никого не боялся.
«В то время, когда почти вся Европа и Азия во вредительских войнах находятся, — писал Бестужев в сентябре 1745 года, —
здешняя империя благополучно для пользы своих народов глубоким миром и тишиной пользуется».
Обстановка в Европе на самом деле осложнялась, и нужно было постоянно думать о поиске союзников для России. Больше ждать было нельзя, и в конце 1745 года Бестужев-Рюмин, опираясь на результаты конференции в Зимнем дворце от 21 декабря 1745/1 января 1746 года, наметившей решительные военные меры против Пруссии в Прибалтике и на Балтике, начал переговоры с Веной о заключении русско-австрийского оборонительного союза. Он полагал, что основой для него должен был послужить аналогичный договор 1726 года. Переговоры осложнялись отзвуками лопухинского дела, но императрица Мария-Терезия в конце концов была вынуждена пойти русской стороне на уступки и приказала посадить своего бывшего посланника Ботта в тюрьму. В Петербург прибыл её новый посланник, Урзинн фон Розенберг, и привёз от своей государыни примирительное письмо Елизавете. И дело сдвинулось с места. Австрийцы, правда, потребовали, чтобы союзные обязательства России распространялись и на австро-французский конфликт, но против этого резко выступил бдительный Бестужев-Рюмин, разъясняя австрийцам, что такие обязательства для российской стороны были бы слишком обременительными. На его взгляд, достаточно было участия русских солдат в военных действиях против одной Пруссии.
На том и порешили. 22 мая/2 июня 1746 года в доме Бестужева-Рюмина был подписан договор сроком на 25 лет, что по тогдашним временам, при постоянно менявшейся внешнеполитической конъюнктуре, для России было довольно смело. Каждая из сторон обязалась выставить на помощь подвергшемуся нападению союзнику 20 тыс. пехоты и 10 тыс. кавалерии. При возникновении войны Австрии с Италией или России с Турцией союзник ограничивался лишь демонстрацией силы на границе союзного государства. Одной из секретных статей предусматривалась поддержка Австрией прав великого князя Петра Фёдоровича на Шлезвиг-Гольштейн, который присоединила к себе Дания. Австрия пошла на эту жертву, хотя она могла привести к разрыву австро-датского договора от 1732 года.
С. Нелипович пишет о большой победе русских дипломатов во главе с Бестужевым-Рюминым: обязанности России по отношению к Австрии значительно перевешивались гарантиями Вены против беспокойных русских соседей — Швеции, Пруссии и Турции. Русско-австрийский договор, один из первых тайных трактатов в истории России, имея однозначно антипрусскую направленность, стал лишь первым звеном в системе договоров, предварив собой целую цепочку других международных соглашений России.
Вслед за русско-австрийским соглашением Бестужеву 10 июня 1746 года удалось заключить оборонительный союз с Данией, имевший ярко выраженную антишведскую направленность. Для этого ему нужно было, наоборот, отказаться от защиты интересов голштинского двора. Как нам представляется, большой жалости канцлер по этому поводу не испытывал. Великий князь Пётр Фёдорович, формальный правитель утерянной Голштинии, своими претензиями доставлял ему одни только хлопоты. Голштинский министр Петер Пе(х)лин, совершенно преданный канцлеру Бестужеву, и датский посланник в Петербурге Линар
[77], занимавшиеся этим вопросом, предложили великому князю замену — Ольденбургское герцогство и княжество Дельменхорст, но Пётр Фёдорович с Голштинией расставаться не захотел. Пришлось просто пренебречь его желанием, естественно, не ставя его об этом в известность. В секретной статье договора, абсолютно неизвестной тогда и шведам, Елизавета Петровна брала на себя перед датчанами ответное обязательство никогда не позволять шведским королям владеть Голштинией и обещала уговорить Адольфа-Фредрика отказаться от своих наследственных прав на герцогство. Копенгагену это реальное и выгодное предложение понравилось куда больше, нежели ничем не подкреплённые обещания Швеции. Всё это свидетельствовало о том, что в Петербурге стал преобладать реальный взгляд на развитие событий в Скандинавии, и что на Адольфа-Фредрика в Коллегии иностранных дел ставку уже не делали.
В следующем, 1747 году России, то есть Бестужеву-Рюмину, удалось заключить выгодную конвенцию с Османской Портой и на некоторое время нейтрализовать её агрессивные по отношению к России намерения. Австро-русский договор — краеугольный камень внешнеполитической программы Бестужева-Рюмина — несколько позже был также дополнен договорами с Польшей и Англией. Курс на союз с Австрией, взятый ещё дипломатией Петра I, но реализованный лишь Бестужевым-Рюминым, продолжится — плохо ли, хорошо ли, об этом следует судить в другом месте, — на протяжении более сотни лет. Во всяком случае, в тот период этот альянс был для России весьма необходимой и полезной мерой.
За новые успехи на внешнеполитическом фронте на Бестужева-Рюмина посыпались милости императрицы: он получил от неё 6 тысяч червонцев, и ему была пожалована мыза Каменный Нос в Ингерманландии, конфискованная всё у того же А.И. Остермана. Трудно сказать, испытывал ли великий канцлер Елизаветы какое-либо внутреннее торжество над своим бывшим противником, хотя друзья и недруги Алексея Петровича полагали, что это так и было.
А.П. Бестужев-Рюмин очень рассчитывал также на вознаграждение со стороны австрийцев. Каково же было его удивление, когда посланник Й. Урзинн фон Розенберг рассказал ему, что у него не только не было свободных денег, но он испытывал недостаток средств даже на собственное содержание. На приёме у Елизаветы Петровны его пригласили к карточному столу, и несчастный австриец обливался потом при одной только мысли, что в случае проигрыша ему нечем будет уплатить долг. Ему удалось, однако, выиграть у русской императрицы 400 рублей, на которые он кое-как сводил концы с концами своё проживание в дорогой русской столице. Бестужев не был скаредным человеком и ссудил Розенберга своими деньгами, дав ему в долг 3 тысячи рублей. Позже за подписание договора Бестужев всё-таки «отыгрался» на австрийцах и получил, как он и рассчитывал, полагавшийся австрийский «пенсион» в размере 6 тысяч червонцев.
Вена и Петербург призывали присоединиться к договору и другие страны, в первую очередь Англию. Брат канцлера М.П. Бестужев-Рюмин пытался противостоять франко-прусской дипломатии в Польше и приступил к изучению условий для того, чтобы освободить из объятий Пруссии Саксонию и снова склонить Августа III на сторону Австрии и России.
Русско-австрийский договор застиг Версаль врасплох. В то время как д'Аржансон «ублажал» гостившего во Франции вице-канцлера М.И. Воронцова, рассказывавшего с таинственным видом о милостях, которыми он якобы пользовался у государыни-матушки Елизаветы, о своих разногласиях с Бестужевым и симпатиях к Франции, Бестужев женил своего сына Андрея на племяннице фаворита А.Г. Разумовского и ещё более укрепил своё положение. В отсутствие Воронцова его партия потерпела окончательное поражение и притихла, а сторонники великого канцлера на конференции в Зимнем дворце в конце 1746 — начале 1747 года сумели убедить императрицу в необходимости присоединиться к австро-английской конвенции, направленной против Франции. На деньги австрийцев и англичан Россия обязывалась выставить 30-тысячный вспомогательный корпус или вместо него сосредоточить в Курляндии и на Двине у Риги 90-тысячную армию и 50 галер.
Но канцлер не слишком заносился и старался сохранить со своим заместителем хотя бы видимость приличных отношений. Так в переписке с ним Бестужев называл Воронцова своим искренним и нелицемерным другом, а себя — вернейшим и усерднейшим слугой. Извещая Михаила Илларионовича о том, что императрица всегда милостиво отзывалась и о нём, и о его жене, Алексей Петрович писал:
«Я без похвалы сказать могу, что редко какой день проходит, когда б я с прочими вашего сиятельства приятелями за здравие ваше не пил».
Воронцов тоже знал цену всем этим уверениям и сердился на канцлера за то, что тот не информировал его о важных и секретных делах Коллегии. Ещё больше Воронцов рассердился, когда узнал, что человек, бывший его правой рукой — Адриан Иванович Неплюев — назначен резидентом в Константинополь, и не скрыл своего неудовольствия
[78]. Бестужев оправдывался, что и без Неплюева дела в Коллегии идут прекрасно, и что он по-прежнему хорошо относится к этому работнику.
Соловьёв пишет, что из переписки канцлера с вице-канцлером видно, что первый всё-таки сильно побаивался второго, льстил ему и желал бы
«войти с ним в прежние дружеские отношения, в прежнее политическое единомыслие…». Но Бестужев не упустил случая, чтобы не уколоть своего противника тем, что французы якобы не оказали ему при въезде в Париж подобающие его высокому рангу почести:
«Подлинно вашему сиятельству во всех французских городах толико чести, как коронованной главе оказано, ибо для вас гарнизоны в ружьё ставили, и из пушек стреляно, и капитаны с целою ротою для караула придаваны бывали, почему я ожидал, что потому жив Париже приём для вашего сиятельства распоряжён будет. Но в какое я удивление пришёл, когда я весьма противное тому усмотрел, особливо же, что её сиятельству дражайшей вашей супруге табурета у королевы не дозволено…»
Трудно сказать, чего в данном письме больше — издёвки, злорадства или притворного почтения, но искренним сожалением в нём и не пахнет. Как бы в ответ на это письмо канцлера Воронцов прислал подробный отчёт о том, с каким почётом и как пышно его принимал Фридрих II в Берлине. Но, кажется, зря он это сделал — Елизавета восприняла это с большим недовольством.
Сторонники Воронцова, по выражению д'Аллиона, ждали его возвращении в Петербург, как евреи пророка Моисея. А официальный Петербург с нескрываемым раздражением следил за тем, как враги России «ласкали» её министра: «шах Надир» подарил вице-канцлеру богатую шпагу с бриллиантами и велел даром возить его по всей стране, Мардефельд из Петербурга называл Воронцова
«наидостойнейшим министром и наичестнейшим человеком в Европе», и принцесса Иоханна Елизабет Анхальт-Цербстская, выдворенная из России за свою шпионскую деятельность, тоже рассыпалась в комплиментах о вице-канцлере. Цель такого обхождения с Воронцовым была очевидна — сделать его послушным и внушаемым для планов Берлина человеком. Приём старый, но испытанный.
Перед отъездом Воронцова в Россию с ним встретилась принцесса Анхальт-Цербстская и вручила ему письмо для своей дочери, великой княгини Екатерины Алексеевны, которое «чудесным образом» попало в руки Бестужеву. В этом письме шпионка Фридриха II жаловалась на то, что дочь ей редко пишет, что её муж Пётр Фёдорович удалил от себя Бруммера, что в Голштинии преследуют доверенных лиц её брата, шведского кронпринца Адольфа-Фредрика. И самое главное:
«Я в графе Воронцове нахожу человека испытанной преданности, исполненного ревности к общему делу… Соединитесь с ним,и вы будете в состоянии разобрать эти трудные отношения, но будьте осторожны и не пренебрегайте никем. Поблагодарите вице-канцлера и его жену Анну Карловну, что они для свидания с нами сделали нарочно крюк. Усердно прошу, сожгите моё письма, особенно это».
Не сожгли. Прежде его прочёл канцлер.
Кстати, в ноябре 1745 года Бестужев-Рюмин по приказанию Елизаветы Петровны направил Воронцову
«предостережение в запас, дабы супруга вице-канцлера графиня Воронцова… при свидании с принцессою Ангалт-Цербстекою руки у ней… не целовала (яко там сие неприлично)». Интересно, соблюла ли Анна Карловна сии приличия?
Конечно же, было очевидно, что Воронцов вольно-невольно уже попал в сети антибестужевского заговора Фридриха II. Представляя письмо принцессы Цербстской Елизавете, Бестужев снабдил его примечаниями. Он напомнил императрице, что перед отъездом за границу
«сближение вице-канцлера с Лестоком, Трубецким и Румянцевым ещё не было вполне утверждено…». Но:
«Как показал племянник Лестока Шапизо, Воронцов во время путешествия своего уже производил с Лестоком конфиденциальную переписку». И главная улика: “
Соединитесь с ним”; если б это только означало низвержение канцлера, то не было бы нужды принимать так много мер». Значит, Бестужев подозревал нечто худшее, нежели его удаление с поста канцлера, — по всей вероятности, нанесение ущерба его системе, а это для него, да и для Елизаветы было равнозначно государственной измене. И далее:
«“Сожгите, прошу прилежно, все мои письма, особенно сие”. Прилежная просьба о сожжении всех писем показывает, что и прежние письма не меньшей важности были, как и это».
Конечно, после такого письма вице-канцлера следовало бы непременно допросить, и допросить с пристрастием, например, в ведомстве А.И. Ушакова. Но Елизавете, так привыкшей к дворцовым интригам и, в общем-то, довольно безалаберной и временами легкомысленной (если речь не шла о троне или жизни), измена Воронцова, женатого к тому же на сводной её сестре Скавронской Анне Карловне, вероятно, не показалась таковой. Если она и взяла этот факт на заметку, то скоро позабыла.
А пока одна интрига накручивалась на другую, одни тайные замыслы переплетались с другими или уничтожали их, добродетель боролась со злом, лесть с коварством, зависть с легкомыслием, корыстолюбие с расточительностью, непотизм с родственными чувствами, и в центре всего этого находился один человек —
Великий канцлер, успевавший парировать удары и наносить ответные, перехватывать чужие письма и реляции и строчить собственные, содержать многочисленных агентов и увольнять их за измену или за непригодность, держать в руках десятки важных нитей и тысячи не менее важных мыслей в голове. Борьба изо дня в день, без компромиссов и остановок…
И всё это на фоне колоссальных усилий сдержать реваншистские и антиконституционные настроения в Швеции, противостояния с Берлином и Парижем, скрупулёзного применения «системы» напрягало нервы. И Бестужев выиграл эту войну нервов. Современный немецкий исследователь В. Медигер пишет, что ко времени шведского кризиса 1749—1751 гг. у русского канцлера ослабели умственные способности, сообразительность, память и комбинационные способности. Что можно сказать на это? Почитал бы херр Медигер архивы АВПРИ, а не только реляции прусских и французских дипломатов, тогда у него создалось бы совсем иное мнение об умственных способностях Бестужева-Рюмина.
…Прозевавшего русско-австрийское сближение д'Аллиона пришлось срочно отзывать из Петербурга, но в Версале почему-то никак не могли подобрать ему замену. Воистину этот посланник был большим несчастьем для Франции. Исчерпав все средства против Бестужева, он решил обвинить его в том, что тот затевает заговор в пользу заключённого в Шлиссельбургскую крепость Ивана Антоновича. На полях перехваченной депеши французского министра Бестужев делает очень важное замечание:
«Её величество о несомненной канцлеровой верности ещё прежде всерадостного восшествия на прародительский престол чрез графа Михаилу Аарионовина и Лестока удовлетворительные опыты получила и о том все милостивейше вспомнить изволит».
Мы простим бедному д'Аллиону незнание этого факта, потому что он был неизвестен не только ему, но, кажется, и многим русским историкам. Мы писали выше (и писали до нас), что Бестужев в государственном заговоре по возведению Елизаветы на русский трон не участвовал. Согласно всем данным, он неожиданно появляется на сцене в тот момент, когда заговор уже совершён, и ему поручают написать манифест о восшествии Елизаветы на «прародительский трон». Почему именно Бестужеву? Оказывается, причины были. Оказывается, Бестужев, якобы «болтавшийся» без дела в последние дни правления Анны Леопольдовны, «прежде всерадостного восшествия на прародительский престол, оказал какую-то важную услугу Елизавете! Какую? Этого, очевидно, не знал ни Соловьёв, вскользь упомянувший об этом факте в своём более чем объёмном труде, ни другие русские и советские историки. Но как бы то ни было, становится понятным, что у Елизаветы в своё время были веские причины отметить Бестужева-младшего своим вниманием и выдвинуть его на важный государственный пост.
…На выпады д'Аллиона Бестужев отвечал неизменными пометками на полях расшифрованных депеш француза типа:
«Сии и сему подобные Далионом чинимые враки ему неприметным образом путь в Сибирь приуготовляют…»
Несмотря ни на что, враги встречались друг с другом и, как положено дипломатам, делали хорошие мины при плохой игре. Во время обеда у английского посла Хиндфорда д'Аллион отказался пить за здоровье английского короля — так он решил отстоять честь Франции. Когда же английский консул Вульф предложил тост за Людовика XV, встал хозяин и сказал, что он знает лучше д'Аллиона, каким уважением он обязан коронованной главе другого государства.
Француз между тем продолжал сидеть.
— Я никогда не пью за здоровье иностранного монарха, не выпив за здоровье моего государя, — надменно произнёс он.
— Но встаньте, сударь, — не выдержал Хиндфорд, — раз вы видите, что я стою!
Сидевший за столом Бестужев-Рюмин взял бокал и воскликнул:
— Я пью за победу английской армии!
В утончённый галантный век дипломатические нравы были так же грубы и непосредственны, как боевые кличи на поле боя.
Заметим, что Франция в описываемый момент (Семилетняя война) была союзницей России в войне с Пруссией и одновременно воевала с Англией, что не мешало французскому посланнику присутствовать на обеде у английского дипломата.
Д'Аллион, метавший ядовитыми стрелами в Бестужева, ещё раз попал впросак, сообщив в Версаль о «новом возвышении» Лестока после его брака на своей старой любовнице Анне Менгден, сестре фаворитки Анны Леопольдовны Юлии Менгден. Бестужев перехватил этот отчёт и показал Хинд-форду. Англичанин, прочитав депешу д'Аллиона, покатился со смеху.
Раньше д'Аллиона Петербург был вынужден покинуть прусский посланник Мардефельд. Пруссак в который раз попытался открыть свой кошелёк перед канцлером, чтобы испытать его стойкость, но тот резко обрывал его и говорил, что ввиду предстоящей войны с Пруссией он не имеет права с ним сноситься. Елизавета, наконец, отозвала из Берлина своего посланника Чернышева и запретила своим дипломатам общаться с пруссаками.
Менее заметными были успехи Бестужева в Швеции, где усиливалось влияние Пруссии и Франции, хотя и там сторонник Бестужева, посланник барон И.А. Корф, неутомимо и ревностно пытался отстаивать позиции России.
Фридрих II отгородился от нападения морских держав Ганноверской конвенцией, отчего выступление русского вспомогательного корпуса не могло ему угрожать. Главным препятствием к этому был злополучный союз Англии с Пруссией. Лондон, по известным только одному ему правилам, одновременно, за одним и тем же столом, играл в две карточные игры. Это, естественно, мало нравилось Бестужеву, но поделать с этим он ничего не мог.
Фридрих II и Людовик XV продолжили свои антироссийские происки в Швеции и Польше, но, не удовлетворившись этим, стали науськивать против России Оттоманскую Порту. Австрийцы перехватили письмо д'Аржансона к своему берлинскому коллеге Валори, в котором, в частности, говорилось:
«Мы имеем надежду при Оттоманской Порте найти способы занять царицу с этой стороны и со стороны Персии». Берлинский двор стал нещадно третировать и выживать исполнявшего обязанности представителя России в Берлине графа Чернышева, что повлекло за собой ответные действия Бестужева в отношении прусского посланника в России Мардефельда. Напряжённость в отношениях между обеими странами достигла наивысшей своей точки.
Новый прусский посланник Карл фон Финкенштейн писал королю Фридриху успокоительные депеши о том, что русские войска никоим образом не угрожают Берлину, хотя вынужден был признать, что
«Бестужев обращается с нами довольно плохо, а императрица того хуже». В ответ Фридрих II писал, что пока у него есть договор с Англией, ему нечего бояться России.
«Охотно позволяю вам обрывать его всякий раз, как вы найдёте это нужным», — утешал король Финкенштейна по поводу грубых выступлений русского канцлера.
В августе 1746 года вернулся домой Воронцов, которого с нетерпением ждали все противники канцлера. Франкофил граф К.Г. Тессин, управлявший внешними делами Швеции, обнадёживал своё правительство тем, что с возвращением вице-канцлера дела пойдут вопреки системе Бестужева. На полях отчёта русского посланника в Швеции Корфа по этому поводу канцлер написал:
«Тессин весьма пристрастно и с истинностью несходно разглашает, что нынешняя система не канцлерова, но государя Петра Великого… канцлер же только малым орудием есть во исполнение толь премудрых её величества распоряжений и повелений».
На радостной депеше д'Аллиона о встрече с Воронцовым, перехваченной агентами Бестужева, вице-канцлер был вынужден оставить оправдательные пометы о том, что он к похвалам француза никаких поводов не давал. Приняв к сведению оправдания Воронцова, императрица прочитала также и замечание Бестужева, в котором канцлер обратил её внимание на то, что вице-канцлер, пройдя «обучение» в Европе, прибыл с явным намерением «опровергать» своего товарища и
«главное правление дел себе присвоить». Бестужев ссылался на 26-летнюю службу на дипломатическом поприще, указывал на постоянные интриги и подкопы под его деятельность и просил Елизавету
«от такого печального в пятьдесят четвёртом году своей старости жития защитить и освободить».
«Канцлер был защищен и освобождён», — пишет Соловьёв.
Но надолго ли?
А пока д'Аллион в панике информировал д'Аржансона, что позиции Бестужева с прибытием Воронцова лишь только усилились, а вице-канцлера постигла немилость императрицы Елизаветы.
«В обхождении моём с Воронцовым, — писал он, —
я в точности следую вашим намерениям, Я с великим старанием его приласкаю… я заставляю действовать в нём самолюбие… Бестужев в последнее время такое дело сделал, которое ему упрочивает милость и доверенность и разрушает планы графа Воронцова: он женил своего единственного сына на племяннице графа Разумовского…»
Да, в некотором роде канцлер пожертвовал сыном Андреем, женив его по расчёту на родственнице елизаветинского фаворита, но дело требовало жертв. Брак сына, кстати, окажется неудачным.
Воронцов, почувствовав холодок в отношении к нему императрицы, написал ей письмо, в котором заверял её в верноподданнических чувствах и сокрушался по поводу
«бедного и мучительного состояния своего сердца».
Канцлера же в это время мучили долги.
Он получил в подарок от императрицы большой дом, но не мог его обставить и привести в порядок за отсутствием средств. Он обратился за помощью к английскому министру Хиндфорду, попросив у него взаймы 10 000 ф.ст., и пытался также подвигнуть на новый «подарок» и Елизавету, но пока всё было напрасно. Наконец, английский консул Вульф выручил его и ссудил сумму в 50 000 рублей. Долги произошли и от крупных представительских расходов, и от игры в карты, и от пристрастия к Бахусу. Эти болезни пришли к канцлеру вместе с торжеством его блестящего положения, неограниченной властью и дерзким упрямым характером. Карты и вино стали предметом постоянных семейных ссор с женой и сыном.
В начале 1747 года продолжились переговоры о заключении военной конвенции и субсидиях с Англией. Уже на этапе переговоров палки в колёса стал вставлять вице-канцлер Воронцов, предъявив английской стороне явно завышенные требования. Что это было — желание «насолить» канцлеру или защитить законные интересы государства, — сказать трудно. Возможно, то и другое вместе.
Бестужев был возмущён: вместо того чтобы согласовать свои возражения с ним заранее, Воронцов и его сторонники в ходе начавшихся переговоров выступили вразрез с позицией своего канцлера, что, естественно, произвело на англичан дурное впечатление. Главным препятствием в переговорах стал вопрос о субсидиях. Бестужев за каждую тысячу русских солдат, которые должны были принять участие в войне против Пруссии, просил 375 тысяч рублей, а ещё 10 тысяч ф.ст. лично для себя. Англо-русская конвенция всё-таки состоялась, и на английские деньги в размере 100 тысяч ф.ст. в год в район Рейна был отправлен вспомогательный русский корпус генерала Репнина.
В Коллегии иностранных дел между тем создалась парадоксальная для её канцлера обстановка: большинство её сотрудников поддерживало линию своего управляющего — графа М.Г. Воронцова и было враждебно настроено к Бестужеву-Рюмину. Правда, на практике канцлеру удалось настолько умалить значение КИД во внешней политике, что он даже не удостаивал её своим присутствием и вёл все дела единолично.
«Что мне с ними делать? — объяснял Бестужев. —
Они не вскрывают ни одной бумаги и способны лишь противоречить мне, не приходя ни к какому заключению». Конечно, это не предвещало ничего хорошего на будущее, но таков уж был независимый и крутой нрав у великого канцлера: он шёл к цели напролом, сквозь все препятствия и преграды, используя друзей, устраняя или обыгрывая врагов, убеждая в своей правоте государыню.
Бестужев-Рюмин игнорировал КИД не только из-за её враждебной атмосферы, но и из чистого принципа — он полагал, что коллегиальность в политике вредна. Он был слишком тщеславен и горд, чтобы советоваться и делиться своими сокровенными мыслями с посторонними. В этом, естественно, были свои плюсы и минусы: в обстановке интриг, подвохов и доносов полагаться на кого-то было в самом деле опасно, а иногда и неразумно. В то же время лишаться возможности выслушать pro и contra относительно своих идей и приходить к общему решению было тоже вряд ли продуктивно. Но таков уж был Алексей Петрович — одинокий волк дипломатии.
Кстати, об отношении канцлера к Иностранной коллегии. Мы забежим на год вперёд и приведём рассказ Соловьёва о том, как 8/19 декабря 1748 года Бестужев провёл одно удивительное совещание, пригласив к себе в дом двух ведущих сотрудников Иностранной коллегии — тайного советника Исаака Веселовского и оберсекретаря Ивана Пуговишникова. Последовала интересная беседа, которую, по всей вероятности, записал Пуговишников.
Бестужев начал с того, что показал приглашённым кипу экстрактов (выписок) из присланных к нему необработанных министерских реляций, требовавших принятия решений, и выразил своё удивление тем, что
«господа члены по должности своей старания не прилагают», то есть укорил их в бездействии.
Веселовский возразил, что он, как и другие члены коллегии, на работе
«всегдашнее сидение имеет и по возможности своей в делах упражняется». Канцлер не согласился с этим и указал на дела, пролежавшие в коллегии по полугоду и больше без всяких резолюций.
«Если вы думаете, чтоб я сам наперёд на всякое дело свои рассуждения давал, то это не моя должность, да мне и не растянуться стать во всех делах одному», — резко ответил он. Ему времени не хватает и на самоважнейшие и срочные дела, которые нужно докладывать императрице. Веселовский невинно ответил, что он таких дел не знает. Тогда канцлер в качестве примера привёл обращение саксонского двора, предлагавшего России заключение союзного договора, ответ на которое ему пришлось сочинять самому. Веселовский сказал, что видел эту бумагу, но почему она так долго лежала без движения, он не знает. Канцлер ответил, что Веселовский или кто-либо другой в коллегии должны были сообщить ему своё мнение по этому документу.
В качестве примера добросовестного отношения к своим обязанностям Бестужев привёл покойного кабинет-секретаря Бреверна. Припёртый к стенке тайный советник обиделся и сказал, что если бы у него были силы и лета Бреверна, то и он мог бы так же успешно трудиться. Он же работает в силу своих ума и сил, но если их не хватает, то где же их взять? Если бы их можно было купить или в кузнице сковать, он бы с радостью это сделал. Бестужев, не обращая внимания на издевательский ответ тайного советника, назидательно заметил, что дело тут не в старости, а в прилежании. К тому же в распоряжении тайного советника есть секретари, которым можно приказать сделать всё необходимое.
Судя по всему, взаимопонимания со своими сотрудниками канцлеру достигнуть так и не удалось. Веселовский высказал мнение о том, что в коллегии теперь редко проводятся общие совещания и слушания дел, на которых вырабатываются и согласовываются решения по всем важным делам. В ответ Бестужев сказал, что он отказался присутствовать на этих собраниях, потому что вместо конструктивного обсуждения его предложений получал там одни лишь критические замечания. Эти сидения в коллегии были пустой тратой времени — «…я
гораздо больше у себя дома… нужнейших дел исправлять могу».
И перепалка закончилась ничем.
На этой беседе чувствуется незримое присутствие вице-канцлера Воронцова, и Веселовский выступал явно от его имени. Из беседы явствует, что тайный советник ведёт себя в разговоре с канцлером довольно независимо, виноватым себя не чувствует и без всякого стеснения по каждому поводу возражает Бестужеву. Оно и понятно: заменивший Мардефельда Финкенштейн продолжил курс на свержение Бестужева-Рюмина и поддерживал дружбу с
«важными и смелыми приятелями», то есть Воронцовым и Лестоком. Вместе они склонили на свою сторону бывшего члена бестужевского кружка и протеже Алексея Петровича тайного советника И. Веселовского, умного, деятельного человека, посвященного во многие тайны канцлера. На этой беседе Веселовский выступал уже клевретом Воронцова.
А когда-то еврей Веселовский имел на Бестужева-Рюмина определённое влияние: он даже уговорил его, тогда вице-канцлера, похлопотать перед Елизаветой Петровной об отмене указа от 13 декабря 1742 года о высылке всех евреев из Малороссии. Хлопоты, правда, ни к чему не привели, императрица указ не отменила, но дружбе Алексея Петровича с Исааком Веселовским это не помешало. И вот теперь Веселовский переметнулся в лагерь его противника…
Конечно, зря Алексей Петрович игнорировал Коллегию и её членов. Тем самым он предоставил в ней Воронцову большую свободу действий. Комментируя эту беседу, Соловьёв пишет, что, конечно же, канцлер сваливал вину с больной головы на здоровую: он сам приучил членов коллегии к бездействию, лично «исправляя все дела» на дому и не предоставляя им никакой инициативы. С этим также трудно не согласиться.
А в отношении бывшего друга Веселовского Бестужев всё-таки попытался отыграться: он написал Елизавете Петровне донос о том, что на одном из дипломатических приёмов Исаак Веселовский отказался пить здоровье государыни:
«Один только Веселовский полон пить не хотел, но ложки с полторы и то с водкою токмо налил и в том упрямо пред всеми стоял , хотя канцлер из верности Ея Императорскому Величеству и из стыда перед послами ему по-русски говорил, что он должен сия здравие полным бокалом пить, как верный раб, так и потому, что ему от Е.И.В. много милости показано пожалованием его из малого чина в столь знатный». Но из доноса ничего не вышло: государыня донос проигнорировала и осыпала Исаака Павловича новыми милостями. И это при том, что «жидов» Елизавета Петровна очень не любила.
В 1747 году Бестужев подал, как он теперь стал часто выражаться, своё
«слабейшее мнение» в пользу роспуска Сената и учреждения вместо него Кабинета министров,
«не имея притом никакого о себе вида». Сенат и на самом деле представлял собой громоздкое бюрократическое учреждение, с трудом проворачивавшее свои механизмы. При этом канцлер отлично знал, что он шёл против мнения императрицы, настаивавшей на том, чтобы сохранить это наследие Петра I. Сведений о том, что инициатива Бестужева каким-либо образом повлияла на его положение, нет, но нет сомнения и в том, что этим воспользовались его враги, чтобы обвинить в намерении подмять под себя весь государственный аппарат. В Кабинете министров канцлер, по всей вероятности, рассчитывал занять главенствующее положение.
Среди его преданных и немногословных исполнителей история сохранила имена саксонца Функа (не путать с Функом, «отличившимся» написанием памфлетов в Швеции), саксонца Прассе и итальянца Санти. Примечательно, что русский патриот Бестужев-Рюмин своим соотечественникам явно не доверял и в круг своих конфидентов их не привлекал. Кто же были эти конфиденты?
Функ, секретарь саксонской миссии в Петербурге, вплоть до 1754 года исполнял при канцлере фактическую роль заместителя, будучи и главным его советником, и вдохновителем.
«Он был необходимым alter ego человека, решительно не способного выполнить задачу, значительно превышающую его дарования, — зло пишет явно не расположенный к личности Бестужева Валишевский, —
был его мозгом и его правой рукой». Преемник Функа, сотрудник саксонской миссии Прассе, вкладывал в своё дело столько же рвения, что и Функ, но уступал ему в способностях. Валишевский утверждает, что, когда французской дипломатии в 1754 году удалось избавиться от Функа,
«Бестужев оказался телом без души, плывшим по течению вплоть до падения в роковую бездну». В 1754 году Функ, уже будучи посланником короля Августа III, без объяснения причин был назван Елизаветой «неугодным министром дружеской державы» и по её настоятельному требованию, при полном недоумении саксонского двора, отозван из России. Здесь явно чувствуется рука вице-канцлера Воронцова.
Итальянец Санти был полезен Бестужеву в делах этикета, протокола и внешних приличий. Он учил канцлера, как себя держать с иностранными министрами и прочими дипломатами и эмиссарами.
В августе 1747 года Воронцов принял прусского посланника Финкенштейна. В отчёте об этой аудиенции Финкенштейн назвал вице-канцлера «важным приятелем» Пруссии. Согласно отчёту, Воронцов рассказал пруссаку о том, что Бестужев обвиняет его в передаче секретных сведений прусскому королю, в то время как он, человек честный и благонамеренный, якобы просто не умеет хранить тайны и искренно делится ими, питая любовь к Фридриху П. Воронцов рассказал пруссаку также о своих последних беседах с Елизаветой, на которых он излагал свои мысли о том, как сократить чрезмерные полномочия канцлера, в том числе предложение о том, чтобы все дела Бестужев решал только через Коллегию иностранных дел. Письменный проект вице-канцлера императрица оставила у себя, пообещав внимательно изучить его на досуге.
Вице-канцлер в своей «искренней любви» к прусскому королю пошёл ещё дальше и предупредил Финкенштейна о том, чтобы тот в своей переписке проявлял осторожность, потому что агенты Бестужева перехватывают депеши иностранных министров и читают их. Финкенштейн подумал, что «смелый» его друг трусит и не поверил последнему его заявлению. Тогда Воронцов рассказал пруссаку содержание его последней депеши в Берлин, чем поверг его в чрезвычайное изумление.
Болтливость Воронцова, граничившую с предательством, Финкенштейн вознаградил «сногсшибательной новостью» о том, что канцлер замешан в заговор в пользу Иоана Антоновича. Воронцов нашёл смелость возразить своему другу, сказав, что такое Бестужев просто не в состоянии предпринять.
Вот с таким вице-канцлером приходилось работать Бестужеву-Рюмину, вот так деградировал человек, бывший когда-то его ближайшим помощником.
В борьбу с Бестужевым в 1747 году включился и послушный Франции Стокгольм. Шведы посчитали действия своего посла в Петербурге в этом отношении слишком слабыми и заменили его новым — Вульфеншерной. Посланнику в Стокгольме Корфу удалось добыть информацию о полученных новым послом секретных инструкциях: главной задачей Вульфеншерны было определено свержение канцлера Бестужева со своего поста (разумеется, в союзе с д'Аллионом и Финкенштейном). Швед должен был также стараться — ни больше и ни меньше — сменить настоящий русский кабинет министров другим, более дружественным шведам. Шведский посланник должен был войти в контакт с врагами Бестужева и выяснить, на каких придворных дам можно было бы делать при этом ставку. Почему именно дамы? Как пишет Соловьёв, Стокгольм рассчитывал на смазливое лицо Вульфеншерны, его страсть к игре в карты и к волокитству, — оружие, которое швед якобы успешно применял до этого в качестве посланника при саксонском дворе. Если понадобятся деньги, говорилось в инструкции, то Вульфеншерна должен был обратиться за ними к д'Аллиону — тот не откажет. В особую заслугу новому послу будут поставлены также его усилия об отзыве слишком активного русского посла Корфа из Стокгольма, ибо только одними его усилиями упорно держится прорусская партия в Швеции. Вульфеншерна должен был также всячески препятствовать назначению в Стокгольм послом брата
канцлера М.П. Бестужева-Рюмина.
Но Бестужев продолжал зорко следить за всеми шагами своих врагов по депешам Финкенштейна. Прусский министр, предупреждённый вице-канцлером, по всей видимости, слишком понадеялся на крепость своих шифров и продолжал информировать не только Фридриха II, но и русского канцлера Бестужева. Ирония ситуации состояла в том, что копии перехваченных депеш Финкенштейна читал и Воронцов, что ставило его в деликатное положение по отношению и к канцлеру, и к прусскому посланнику. Недаром Финкенштейн пишет в Берлин, что Воронцов стал боязлив и делится с ним не всеми подробностями.
В это время вся интрига разворачивалась вокруг экспедиции русского корпуса Репнина в Европе, и Лесток с Воронцовым пытались убедить Фридриха II в том, что ему никаких опасений от русских солдат испытывать не стоило, потому что в армии нет никакой дисциплины, солдаты не подчиняются офицерам, а главнокомандующего корпусом генерала Георгия Ливена никто не любит и т.п. Бестужев, комментируя реляцию Финкенштейна и его переписку с Лестоком, горько сетует на то, что Воронцов с Лестоком плюс обер-прокурор Трубецкой,
«желая его погубить, вредят интересам своей монархии и отечества».
Вице-канцлер критиковал своего начальника и официально, демагогично утверждая, что посылкой 30-тысячного корпуса в Европу против Пруссии и на помощь Австрии и Саксонии Бестужев вовлекал империю в «европейские замешательства». Бестужев справедливо возражал, что в данной ситуации отсиживаться за забором было бы пагубно для интересов самой России, и что сам Пётр Великий поступил бы аналогичным образом.
Из депеши Финкенштейна от 23 июля/3 августа Бестужев выяснил, что Воронцов находится на содержании Фридриха II и получает от него пенсию. Посланник, докладывая королю, что срок пенсии истекает 1 сентября, писал, что «важный приятель» намекнул ему, что рассчитывает на её продление. «Приятель» Воронцов, писал Финкенштейн, несмотря на то, что сильно сократил объём передаваемой ему информации, всё равно продолжает оставаться полезным для прусского двора. Бестужев написал на полях перехваченной депеши:
«Христос во Евангелие глаголет, не может раб двума го-сподинома работати, Богу и мамоне; а между тем из сего видно, что сия сумма ещё прежде его бытности в Берлине знатно чрез Мардефельда назначена». Бестужеву многое теперь становилось ясно, например, что именно Воронцов выдал пруссакам тайного советника Фербера, казнённого по приказу Фридриха II за передачу важных секретных сведений русскому правительству, и из Дрездена снабдил прусского короля важными сведениями накануне похода прусской армии в Саксонию.
Воронцов выступал предателем России в чистом виде.
В конце августа 1748 года канцлер перехватил новое послание Финкенштейна, из которого было видно, что Лесток снабдил пруссака сведениями о том, что Елизавета Петровна сильно раздражена против морских держав и что этим обстоятельством следовало немедленно воспользоваться противникам канцлера. Бестужев пометил депешу словами:
«Её импер. величеству лучше известно, изволила ли такие разговоры при Лестоке держать; но преступление его в том равно, лгал ли он на её величество или верный рапорт делал министру короля прусского. Её импер. величество из прежних писем уже усмотреть изволила, что Лесток советовал, чтоб ни министра её величества на конгресс не допущать, ни же России в мирный трактат не включать».
Старик Репнин, командовавший 30-тысячным русским корпусом, направленным в помощь Австрии и не сделавшим во время своего похода в Германии ни одного выстрела, скоро был вынужден отдать приказ возвращаться домой. Впрочем, Н.И. Костомаров полагает, что этот поход содействовал скорейшему заключению Аахенского мира (18.10.1748). Вид русских «медведей», направлявшихся на запад мимо Пруссии, чтобы померяться силой с галльскими «петухами», всё-таки здорово перепугал Фридриха И. Конгресс закреплял присоединение Силезии к Пруссии и подводил черту под восьмилетней войной за австрийское наследство. Русская делегация по подсказке Лестока на Аахенский мирный конгресс приглашена не была, что, конечно, было большим упущением дипломатии Бестужева. Европа договорилась обо всём без участия России, хотя она послала свой корпус для участия в военных действиях. Правда, главнокомандующий Репнин, человек больной и нерешительный, так и не принял никакого участия в военных действиях на стороне Англии, Австрии и Саксонии, за что Бестужев получил от своих союзников нарекания.
Теперь, когда руками Пруссии, Франции и, к сожалению, союзников России Австрии и Англии была создана новая обстановка в Европе, прусский посол в России Финкенштейн предлагал использовать её против Бестужева как лица, якобы виновного в умалении авторитета России. Воронцов по поручению Финкенштейна должен был внушить эту мысль императрице Елизавете. И вице-канцлер пообещал сделать это при первой представившейся возможности.
Аналогичное поручение получил и Лесток. Неизвестно, пишет Соловьёв, успел ли он объясниться с Елизаветой, потому что вскоре, в декабре (Соловьёв указывает ноябрь) 1748 года, он был арестован. Лестоку уже давно запретили вмешиваться в государственные дела, а потом Елизавета по совету Бестужева отказала хирургу в доступе ко двору и в лечении её императорской особы. Но лейб-медик, как мы видим, продержался до 1748 года.
В 1747 году Лесток в третий раз женился на девице Анне Менгден, члены семьи которой сильно пострадали после переворота 1741 года. Своим браком с Лестоком Анна надеялась облегчить судьбу своих опальных родственников
[79]. Елизавета сама причесала невесту и украсила её голову своими бриллиантами. Уступив Бестужеву и отказавшись использовать Лестока как врача и советника, она всё ещё оказывала ему знаки внимания и милости.
Но Лесток, как мы видим, скоро выдал себя сам. Перехваченные Бестужевым депеши прусского посланника Финкенштейна однозначно свидетельствовали о том, что посланник вместе с Лестоком выступал в качестве заговорщика. За Лестоком с мая месяца было установлено наблюдение. 20 декабря 1747 года, когда он был в гостях у прусского купца, его секретарь и племянник, французский капитан Шапюзо (Шавюзо, Шапизо), обнаружил за собой около дома слежку, которая велась довольно грубо. Угрожая шпику шпагой, Шапюзо заставил того войти в дом, где тот после долгих препирательств признался в том, что ему поручено следить за каждым движением Лестока.
Лейб-медик бросился во дворец к императрице с жалобой. Там был какой-то приём, и первой Лестока увидела великая княгиня Екатерина Алексеевна. Она бросилась ему навстречу, но тот остановил её словами:
— Не подходите ко мне! Я человек подозрительный!
Он нашёл императрицу и стал с ней грубо и бесцеремонно объясняться. Он дрожал от возбуждения, лицо его покрылось красными пятнами, и Елизавета, подумав, что он пьян, удалилась, пообещав обелить его от всяких подозрений. Но нужно было знать Елизавету, чтобы возлагать на неё теперь хоть какую-то надежду, писал Финкенштейн. Скоро был арестован Шапюзо и несколько слуг. Лесток снова бросился во дворец, но его туда уже не пустили.
Два дня спустя Елизавета сказала Бестужеву, что он может делать с Лестоком всё, что захочет. 24 декабря шестьдесят гвардейцев под началом С.Ф. Апраксина (1702—1758), кстати, близкого друга Лестока, оцепили дом, в котором должна была состояться свадьба одной из фрейлин императрицы и на которой в качестве свидетеля то ли жениха, то ли невесты должен был присутствовать Лесток. Там его и арестовали и отвезли в крепость.
Ему было предложено ответить на несколько вопросов: с какой целью он поддерживал связи с прусским и шведским министрами, зачем он согласился выполнить поручение «богомерзкого Шетардия» вернуть обратно подаренные ему императрицей табакерки, в чём состояли его советы великой княгине. Екатерине Алексеевне о том, как «водить за нос» своего мужа, не способствовал ли он ссоре Петра Фёдоровича с Елизаветой, в чём заключалась его дружба с обер-прокурором Трубецким. Потом ему были предъявлены обвинения в намерении переменить образ правления в России, в склонении И. Веселовского на враждебную канцлеру сторону, в передаче сведений Пруссии об охлаждении отношений России с морскими державами и о деталях посылки русского экспедиционного корпуса в Европу, а также в получении «подарка» от Фридриха II в сумме 10 000 рублей. Бестужев ничего не забыл и ничего не упустил.
На допросах Лесток держался бесстрашно и мужественно. Одиннадцать дней он не принимал пищу, поддерживая себя лишь минеральной водой и отказываясь давать какие бы то ни было показания. По приказанию Елизаветы его вздёрнули на дыбу, но он и там не открыл рта и не попросил ни помощи, ни милости от власть имущих. Напрасно жена уговаривала его сознаться в заговоре, обещая милосердие императрицы. Он якобы показал ей свои изувеченные пытками руки и отвечал:
— У меня уже нет ничего общего с императрицей, она выдала меня палачу.
Н.И. Костомаров утверждает, что уличающие его документы Лесток успел перед арестом передать шведским эмиссарам Волькеншерне и Хёпкену, приехавшим накануне его ареста в Санкт-Петербург со специальным поручением своего правительства. Шведы увезли их с собой в Стокгольм.
Процесс над бывшим лейб-медиком императрицы длился до 1750 года, а потом его сослали в Углич, откуда перевели в Великий Устюг, дозволив приехать к нему жене. Там он встретился со своим сообщником по государственному перевороту 1741 года Петром Грюнштейном, тоже сосланном после наказания кнутом
[80]. В 1759 году Лесток обратился к фавориту императрицы И.И. Шувалову с просьбой прислать шубу жене, страдавшей от холода. Когда на престол взошёл Пётр III, Лестока помиловали, и он появился в Петербурге, полный энергии и жизненной силы, невзирая на 14 лет ссылки и свой возраст (ему исполнилось 74 года).
Он умер в 1767 году, пережив на год своего ненавистного противника.
«Падение Лестока произвело сильное впечатление при иностранных дворах, — заключает Соловьёв, —
оно показывало несокрушимую силу Бестужева, показывало, следовательно, и будущее направление русской политики…»
* * *
…В сумятице всех этих событий канцлер как-то не заметил или не придал значения такому событию, как появление у Елизаветы Петровны нового фаворита. Старому фавориту, А.Г. Разумовскому, была дана отставка, а его место занял молодой и светски образованный Иван Иванович Шувалов. С уходом Разумовского и с приходом Шувалова для канцлера началась пора новых испытаний и трудностей. Возвышение нового фаворита происходило на глазах у старого, покладистого фаворита графа Алексея Григорьевича Разумовского, не шевельнувшего и пальцем, чтобы вернуть былое расположение государыни-императрицы. Ничего не мог предпринять и внутренне «ощетинившийся» граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Шуваловы облепили трон, как мухи банку с вареньем, и кусали каждого, кто хотел приблизиться ко двору. При этом всё семейство Шуваловых было настроено исключительно профранцузски и, естественно, хотели низвергнуть англофила Бестужева с поста канцлера. А.Г. Разумовский, негласно уже получивший кличку «бывший фаворит», в некоторой степени даже сам способствовал возвышению графа Ивана. С Шуваловыми тем труднее было бороться, что они предложили Елизавете эффективную внутреннюю политику, осуществляли поддержку русской экономике, образованию и наукам.
Аахенский конгресс поставил Бестужева-Рюмина перед новыми задачами. Главной проблемой для канцлера стали теперь союзники России — Австрия, Саксония и Англия. С первой уже ранее возникли проблемы на почве гонений в ней православных верующих, вторая стала стремительно сближаться с Францией, в то время как Англия всё больше шла навстречу Пруссии. Это должно было неизбежно вызвать отход Парижа от Берлина и подтолкнуть Францию в лагерь союзников России. Но Франция как союзник России не вмещалась в концепцию Бестужева, и слишком жёсткая система канцлера начинала давать трещины, а сам он стал терять почву под ногами. Его противник Воронцов, получивший поддержку дружного клана Шуваловых, торжествовал, потому что система Бестужева оказалась ненадёжной и не выдерживала проверку на постоянство союзников. К тому же к Воронцову в это время примкнул обозлившийся брат Михаил, и Бестужев фактически остался вообще без всякой поддержки. Императрица Елизавета продолжала заниматься государственными делами по остаточному принципу.
В 1750 году в разговоре с посланником Австрии графом Й. фон Бернесом Бестужев излил всю свою горечь:
«Вы находите, что дела моей коллегии плохо идут. Если бы видели остальные! Если бы её величество посвящала управлению страной сотую долю времени, отдаваемой вашей правительницей управлению своим государством, я был бы счастливейшим из смертных. При настоящем же положении вещей терпение моё истощается, и я решил выйти в отставку через несколько месяцев».
Главным врагом России канцлер по-прежнему справедливо считал Пруссию, для чего, по некоторым данным, он пытался возбудить у Елизаветы Петровны неприязнь к Фридриху II, передавая ей остроты прусского короля, которые он любил расточать в адрес императрицы. Бестужев постоянно напоминал государыне о безбожном поведении короля, о его распущенных «вольтерианских» нравах, а также о нежелании возвращать в Россию русских солдат-великанов, подаренных когда-то Анной Иоанновной отцу Фридриха П. Король утверждал теперь, что все эти солдаты обзавелись в Пруссии семьями и возвращаться на родину не хотели.
А в 1751 году канцлер почувствовал ощутимое колебание почвы у себя под ногами, когда около императрицы появился брат фаворита, граф Пётр Иванович Шувалов, умный царедворец, хитрый политик и неплохой военачальник, начавший бесцеремонно вмешиваться во внешние дела страны. Его другой брат, Александр (1710—1771), «оседлал»освободившуюся после смерти Ушакова Тайную канцелярию, а его сын Иван Петрович стал главным «олигархом» и меценатом России.
Шуваловых было много, а Бестужев — один. В смысле напора, энергии и интриг они, конечно, друг друга стоили, но не в принципах Бестужева было сдаваться. Он предпринял попытку отвлечь внимание императрицы от Шувалова и с помощью бывшего фаворита графа Алексея Григорьевича выдвинул на роль фаворита совершенно безродного и скромного воспитанника кадетского корпуса Н.Н. Бекетова, игравшего роль в трагедии А.П. Сумарокова. Увидев Бекетова на сцене, любвеобильная Елизавета немедленно произвела его в сержанты. Потом он был изъят из кадетского корпуса и спешно произведен в майоры. Граф А.Г. Разумовский взял его к себе в адъютанты, а жена другого адъютанта, графа Ивана Перфильевича Елагина, одела Бекетова в кружева и тонкое бельё. У бывшего кадета появились бриллианты, часы, но этого было мало, и тогда за дело взялся сам великий канцлер Бестужев.
В мае 1751 года Бекетов трудами Бестужева был произведен в подполковники и поселился во дворце. Всё шло великолепно, если бы наш Бекетов не увлекался поэзией и музыкой. Гуляя по парку в Петергофе, он окружил себя молодыми людьми и устраивал спевки и танцы с их участием под музыку собственного сочинения. Шуваловы немедленно распространили слухи, что Бекетов развратничает, а поскольку пребывание на свежем воздухе вызвало на его лице многочисленные веснушки, то к этим слухам они добавили, что молодой повеса заразился какой-то заразной болезнью. Испуганная императрица немедленно покинула Петергоф, запретив Бекетову следовать за ней. От расстройства тот заболел лихорадкой, стал в бреду говорить несуразности, а то и вовсе какие-то непотребные фразы и окончательно испортил всё дело, затеянное Бестужевым. По выздоровлении Бекетова удалили из двора за «непристойное поведение».
Интрига канцлера потерпела полный крах
[81]. Ко двору снова явился И.И. Шувалов и занял своё «законное» место. С главенствующим положением семьи Шуваловых при дворе Елизаветы Петровны следует связывать и поворот внешней политики в сторону Франции, и создание русско-австро-французской коалиции против Пруссии. Бестужев был на страже всех начинаний Шуваловых и Воронцова, но активного участия в них не принимал. Против антипрусской направленности этой коалиции он возражать, естественно, не мог. Новый фаворит целиком овладел расположением государыни и успешно парировал все контрвыпады канцлера.
В 1751 году канцлер, по оценке Соловьёва, ещё
«крепко держался на своём месте, пользуясь полною доверенностию императрицы», неуклонно проводя в жизнь свою систему «осоюзивания» европейских держав, чтоб связать руки Пруссии и Франции.
Главной его личной проблемой в этот период было безденежье. Еще в 1745 году он обратился к Елизавете за разрешением продать подаренный ему дом А.И. Остермана: ни содержать, ни ремонтировать его средств не хватало.
В октябре 1752 года он обратился с письмом к Елизавете, в котором просил оказать ему помощь:
«Я такой тягости долгов подпал, что оной прибавить уже невозможно. Кредиту тем лишаюсь, никакого уже заимодавца… не нахожу и так что при наступающей поездке в Москву, как с места тронуться, не знаю. Всё заложено, что с пристойностью заложить можно было».
Он подробно описывает своё трудное финансовое положение и жалуется, что доходов с личных деревенек не хватает, а представительские расходы его как великого канцлера Российской империи постоянно растут. Кроме того, много денег уходит на содержание дома в Москве и на ремонт полученного в подарок от императрицы огромного дома в Петербурге. Кстати, сообщает он, петербургский дом, когда-то принадлежавший А.Д. Меншикову, а после него — Б.-Х. Миниху, уже заложен, а выкупить его за уже пожалованные 40 000 рублей до сих пор было невозможно. Отделку дома и окультуривание близлежащей территории канцлер «хитро» объясняет необходимостью соответствовать находящимся рядом императорским дворцам и садам — самому-то ему по возрасту (60 лет) и болезням всё это было бы не нужно, а для сына он и конуры бы не оставил после своей смерти! И в конце письма — сама просьба:
«да соизволите пожаловать мне из субсидных денег заимообразно 50 000 рублей на десять лет так, чтоб каждый год из моего жалованья по 5000 вычитаемо, а в случае пресечения моей жизни без взыскания с моих наследников оставлено было».
Канцлер забыл упомянуть ещё об одной статье своих огромных расходов — вино и карты. Впрочем, Елизавета об этом отлично знала, и ответа на письмо не дала. Враги Бестужева радовались. Но воспоможение всё-таки последовало — правда, пришло оно к нему лишь через два года.
Конечно, канцлер сильно преувеличивал своё безденежье. О том, что Алексей Петрович гневил Бога, постоянно ссылаясь на свою бедность, пишет историк М.И. Пыляев. В окрестностях Петербурга у канцлера было имение Графское, оно же Каменный Нос, что в Новой и Старой Деревне. Имение было отобрано у Э. Бирона и подарено А.П. Бестужеву-Рюмину. (Граф, по свидетельству Пыляева, «подобрал» многое из того, что когда-то принадлежало опальным Остерману, Головкину и Бирону.) В 1762 году Бестужев построил в Новой Деревне для крестьян церковь во имя Благовещения, на колоколе которой были изображены герб и медали, выбитые когда-то в честь великого канцлера.
Ещё было имение на Каменном острове, доставшееся графу от М.Г. Головкина. Бестужев вложил в него деньги, которые пошли на устройство поперёк острова рва. Он велел обложить ров камнем, вокруг развёл голландские сады, а ниже, по Большой Невке, устроил тоню, которой могла воспользоваться гуляющая публика. Стоимость рыбалки колебалась от 50 копеек до полутора рублей. Рядом был построен так называемый вокзал с несколькими комнатами, в которых желающие могли откушать ухи, выпить мёда и вообще подкрепиться. Разумеется, небесплатно. Согласно Щербатову, расставленные в имении палатки имели шёлковые верёвки.
Пыляев рассказывает, что жена пострадавшего в деле А.П. Волынского, сосланного в Иркутск, а потом помилованного и поселённого в одной из симбирских деревенек графа Платона Ивановича Мусина-Пушкина, женщина колоссально богатая, просила вернуть ей ранее конфискованные в пользу казны деревни и обратилась за помощью к Бестужеву-Рюмину. Канцлер выразил сомнение, что Елизавета Петровна согласится вернуть отобранное, но посоветовал Мусиной-Пушкиной составить список лучших деревень. Графиня последовала совету Бестужева и представила ему записку, в которой были перечислены все её богатые подмосковные деревни. Прошло некоторое время, и выяснилось, что канцлер убедил императрицу отдать эти деревни ему.
Канцлер владел недвижимостью не только в Северной столице, но и в Москве, которую он очень любил. М.И. Пыляев сообщает нам, что Слободской дворец и вся местность вокруг бывшей Немецкой слободы являлась собственностью графа Алексея Петровича. Дворец канцлера в Москве был выстроен в 1753 году по точному образцу его петербургского дома. План расположения комнат в нём был точной копией плана расположения комнат в петербургском особняке. Как пишет Пыляев, это было сделано для того, чтобы не забывать своих привычек.
Роскошь в домах графа, по словам историка, была изумительной: даже верёвки в палатках этого загородного дома были шёлковые, а когда дом продали графам Орловым, то в подвале нашли столько всего, что только от продажи его содержимого составился целый капитал — одного серебра оказалось более 20 пудов.
В Москве у Бестужева-Рюмина был не один дом — ещё был дом у Арбатских ворот, что в приходе Бориса и Глеба. В церкви, которую граф реставрировал на собственные средства, висел его портрет. Дом, находившийся на реке Яузе, против Екатерининского и Лефортова дворцов, Екатерина II позже выкупит у наследников канцлера и подарит графу А.А. Безбородко (1747—1799). Польский король Станислав Понятовский (1738—1782) писал, что
«во всей Европе не найдётся другого ему по пышности и убранству». Особенно хороши в нём были бронзовые изделия, ковры и стулья. Между тем граф продолжал жаловаться на нищету!
А вот эпизод 1754 года, который приводит в своей «Истории» С.М. Соловьёв: 23 января 1754 года купцы благодарили императрицу за отмену внутренних таможен и под предводительством магистратского обер-президента Зиновьева явились перед Елизаветой и преподнесли ей алмаз достоинством в 56 каратов и ценою в 53 000 рублей плюс 10 000 червонных
«да рублевою монетою 50 000 рублей». От имени Сената благодарение императрице выразил великий канцлер А.П. Бестужев-Рюмин.
«Можно догадываться, с какими чувствами благодарил он за приведение в исполнение проекта врага своего графа Петра Шувалова… Страх пред усиливающимся враждебным влиянием Шуваловых заставил Бестужева с восторгом пойти навстречу великой княгине Екатерине Алексеевне», — пишет наш историк.
И в это время отчаявшийся от посыпавшихся на него бед канцлер стал сближаться с Екатериной Алексеевной. Великая княгиня сама сделала первый шаг к сближению с человеком, который по её приезде в Россию был заклятым врагом её и матери. Вражда прекратилась и переросла в приязненные отношения — в основном на почве неприятия великого князя Петра Фёдоровича, и канцлер стал оказывать Екатерине одну услугу за другой. Для этого ему не пришлось жертвовать своей системой — системой своих взглядов пожертвовала Екатерина, и это было началом её неожиданного вознесения на самую вершину власти и долгого и славного шествия в качестве самодержицы Российской империи.
В 1754 году Алексей Петрович предпринял шаг к примирению с братом Михаилом, временно оставшимся без работы и проживавшим в это время в Дрездене
[82]. 21 марта он отправил ему письмо, в самых первых строках которого он сообщил о получении помощи от Елизаветы в сумме 50 000 рублей. Это было сделано не зря: канцлер показывал, что он по-прежнему пользовался доверием и уважением Елизаветы. Далее он выражал сожаление о разрыве с братом и говорил о крайнем своём прискорбии
«видеть, когда б только наружно казалось, якобы мы в несогласии». Кажется, Алексей Петрович ещё не верил в то, что разногласия между ними были уже непреодолимы, а потому считал тех людей, которые говорили и спрашивали его об этом, бессовестными лжецами или своими недругами. Во всяком случае, продолжал он развивать свою мысль, своими действиями он никакого повода для таких утверждений не давал и упрекал старшего брата, что тот на его частные и официальные обращения не отвечал и от его услуг демонстративно уходил:
«Мне прискорбно примечать ваше старание меня во всём обходить. Не завидую я и тем комиссиям, кои вы другим поручали разные от вас партикулярно присыланные вещи её импер. величеству подносить; но я также не понимаю, для чего в том брата вашего, хотя бон только камер-юнкером, а не канцлером был, обходить… Дивятся люди, когда их однофамильцы, будучи в великом числе, меж собою несогласны, так что же о нас скажут… когда нас только двое, оба родные братья, в совершенной старости…» Радоваться разладу между близкими людьми могут только враги, пишет младший Бестужев и заканчивает письмо словами:
«Отпустите мне, мой дражайший брат, буде я сим простосердечным письмом вам с огрубляю, хотя я сего в намерении отнюдь не имею».
Но дражайший брат никакого простосердечия в отношениях с канцлером признавать не хотел. Великий канцлер, вознесшись на самую вершину власти, оставался одинок, как горный орёл.
Современник канцлера генерал В.А. Нащокин, близко стоявший к императрице и придворным кругам, оставил воспоминания о том, как в апреле 1755 года Бестужев-Рюмин вместе с Елизаветой Петровной в её летнем дворце принимал посланника Оттоманской Порты:
«Её императорское величество изволила быть под троном: статс-дамы и фрейлины в богатом платье рядом по старшинству стояли в галерее по правую сторону трона, а пяти классов генералитет и придворные кавалеры по левую сторону, также в богатом платье… По подании от посланника грамоты принял её для поднесения всемилостивейшей государыне великий канцлеру сенатор и разных орденов кавалер Бестужев-Рюмин и по поднесении её императорскому величеству положил на приготовленный по правую сторону столик и, отшед из-под трона по степеням задом, приступя к посланнику, ответ говорил именем её императорского величества вкратце…»
Горизонт был чист, и вроде бы ничто пока не предвещало грозы.
ПАДЕНИЕ
Нет врачевства для раны твоей,
Болезненна язва твоя…
Наум. 3:19.
Чувствительный, а главное, неожиданный удар по системе Бестужева нанесла любимая им Англия. Мы уже упоминали о коварстве Альбиона по отношению к России. Подробности дела были таковы: осенью 1755 года Лондон начал секретные переговоры с Фридрихом II о союзе, который и был оформлен 16 января 1756 года и вошёл в историю как Вестминстерский договор. А 2 мая из орбиты бестужевской системы вышла Австрия, подписав с Францией союзный Версальский трактат. Стройная система взаимоотношений с Европой, от которой остались одни воспоминания, рухнула. Противники и союзники России осуществили своеобразную рокировку и перемешали канцлеру все карты. Получалось, что долговременных интересов с союзниками, во всяком случае у Англии с Россией, вовсе не было.
Виновата ли была система Бестужева, отсутствовали ли у союзников долговременные общие интересы (а если так, то они были недостаточно просчитаны), возобладала в европейской политике быстро меняющаяся конъюнктура или начали действовать все причины сразу, судить трудно. Государыня Елизавета Петровна осыпала Бестужева-Рюмина справедливыми упрёками, а Шуваловы — Воронцовы сильно приободрились. Враги канцлера стали поговаривать, что он стал стар и плохо соображает.
«Ошибки молодости… извиняются легко, ибо считаются средством к приобретению искусства, — замечает в этой связи Соловьёв, —
ошибки старости не прощаются, ибо могут только служить признаком падения сил».
Скорее из упрямства, чем из искреннего расположения, канцлер всё ещё продолжал вести переговоры с Англией о субсидиях — теперь уже через посланника A.M. Голицына, ставленника Воронцова, пытаясь перетянуть его на свою сторону. Но правительство Англии, в частности, премьер-министр герцог Ньюкасл, отделывался отговорками. Но Елизавета уже слабо воспринимала «слабейшее мнение» канцлера, потому что Воронцов со своей стороны при поддержке И. Шувалова уже готовил союз с Францией. Англия из антипрусского кольца выпадала.
Самое печальное для Бестужева было то, что даже если исходить из его антипрусской логики, действия его противника Воронцова в создавшейся ситуации следовало бы признать более правильными, но Бестужев, на первых порах ещё не имея никакой информации о Вестминстерском договоре, продолжал делать ставку на битую английскую карту. Он уже подписал с англичанами договор о предоставлении России субсидий, когда разгневанная Елизавета, уже получив к этому времени сведения о предательстве англичан, в клочья разорвала подписанный русско-английский документ и бросила остатки пергамента на пол. Коллегия иностранных дел вслед за этим с нескрываемым злорадством поспешила официально заявить, что англо-русский договор уничтожается.
Канцлер в защиту субсидного договора с Англией подал Елизавете пространный меморандум, но он, продиктованный, по словам Соловьёва, крайне раздражённым самолюбием, был скорее направлен против Воронцова и Шуваловых, нежели соответствовал реальной расстановке сил в Европе. К тому же его враги в принципе не отвергали целесообразность заключения военной конвенции с Англией, но вся проблема заключалась в том, что конвенция не определяла достаточно однозначно способ использования финансируемой англичанами русской армии. Елизавета вместе с Воронцовым и Шуваловыми, полагали, что особым пунктом конвенции должно быть оговорено, что русская армия будет воевать исключительно против Пруссии, в то время как английская сторона старалась этот вопрос всячески затушевать — ведь Пруссия стала теперь союзницей Англии. Русские партнёры не могли понять, в чём тут было дело, пока до них не дошла весть о прусско-английском сговоре, хотя сомнений в том, что позиция Лондона нисколько не отвечала интересам русской стороны, у них не было. Переговоры с англичанами, естественно, зашли в тупик.
1 февраля 1756 года Бестужев в присутствии Воронцова был вынужден зачитать посланнику Уильямсу ответ русской стороны. Англичанин пытался возражать, но русские партнёры непоколебимо стояли на своей позиции. И только 4 февраля Уильяме признался Бестужеву в том, что у Англии есть союзный договор с Пруссией, и тогда настала очередь негодовать канцлеру. Особенно возмутило Бестужева то обстоятельство, что англичане о своём союзе с Фридрихом II проинформировали сначала австрийцев, а потом уже русскую сторону. Посланник Уильяме, вместо того чтобы поддержать Бестужева, сердился на его неспособность повлиять на ход переговоров и стал от него удаляться. Он не понимал, что нанёс Бестужеву и России непоправимый ущерб и что канцлер, практически единственный союзник Лондона, буквально повис теперь в воздухе, не имея абсолютно никакой поддержки.
А Лондон, не испытывая никаких угрызений совести, сделав, как всегда, хорошую мину при плохой игре, повёл себя высокомерно: он поручил своему послу в Петербурге Уильямсу вернуть второй экземпляр документа русским и сказать им, что
«договор, ратифицированный императрицей, не нуждается в комментариях».
Обе стороны шли к разрыву отношений.
С влиянием Англии, то есть с проанглийской ориентацией России во внешней политике, было надолго покончено. Вместе с ней пришёл конец и системе Бестужева. В ходе и после Семилетней войны возникла новая внешнеполитическая концепция — система Н.И. Панина, ученика Бестужева, вошедшая в историю под названием «Северный аккорд». Но её время ещё не пришло
[83].
Символом постоянства в жизни канцлера в это время была, пожалуй, лишь связь с Паниным, его посланником в Стокгольме. Они постоянно поддерживали между собой переписку и обменивались мнениями по поводу последних событий.
В начале 1756 года в Стокгольм с соболезнованиями по случаю смерти шведской королевы-матери поехал протеже Воронцова граф Ягужинский-младший, и канцлер в частном письме предупреждает Панина об этом визите:
«Вы, чаю, и без меня ведаете, что он зять его превосходительству Ив. Ив. Шувалову: я рекомендую и прошу ваше превосходительство показать ему там вашу благосклонность, дружбу и всякие учтивости…» Такая предупредительность со стороны Бестужева объяснялась не только тем, что «командировочный» граф был родственником фаворита императрицы, а главным образом тем, чтобы у Панина не возникли сложности по службе. Панин, наряду с бароном Корфом в Копенгагене и Кайзерлингом в Варшаве
[84], ещё не задетый «чисткой» посольского аппарата, предпринятого Воронцовым против приверженцев и учеников Бестужева-Рюмина, стал объектом тайной проверки Воронцова. Так что наряду с официальной миссией Ягужинский имел поручение вице-канцлера проверить, как исполняет свои обязанности посланника самый ревностный сторонник Бестужева-Рюмина.
Так оно и случилось: приехавший вместе с Ягужинским переводчик Бартеломанов стал повсюду совать свой нос и, как доложил канцлеру Никита Иванович,
«пред моими подчинёнными часто показывает своё любопытство о моих здесь обращениях, а наипаче о корреспонденции с вашим высокографским сиятельством». К лету подозрения Панина относительно Бартеломанова окончательно подтвердились, и он незамедлительно проинформировал об этом Бестужева. Переводчик, между прочим, стал интересоваться контактами Панина с бароном Корфом, который, как и его шеф Бестужев, был ярым противником сближения с Францией и игнорировал полученные из Петербурга инструкции о совместном взаимодействии с послом Франции, чем и навлёк на себя гнев Воронцова в виде выговора. Бартеломанов намекнул Панину, что мог бы оказать ему содействие в том, чтобы попасть в любимчики вице-канцлера. Панин, не скрывая иронии, пишет Бестужеву, что дал Бартеломанову дипломатичный «отлуп», заявив, что предпочитает поддерживать ровные деловые отношения и с канцлером, и с вице-канцлером.
Крутой поворот во внешней политике России, выразившийся в установлении союзнических отношений с Францией, был воспринят русскими посланниками за границей с определёнными сомнениями, и они перестроились не сразу. Так случилось и с Паниным, удостоившимся резкого выговора со стороны вице-канцлера Воронцова. Бестужев писал своему ученику:
«Я вашему превосходительству уже остерегал, чтоб вы в реляциях ваших рассуждения свои как возможно сокращали и доносили только об исполнении посылаемых вам рескриптов, ибо при нынешних переменившихся конъюнктурах весьма легко случиться может, что министр рассуждениями своими… заслужит себе великий выговор. Сие недавно… воспоследовало с бароном Корфом: он, распространяясь в своих рассуждениях о старой системе и выхваляя тех, кто оной ещё держите к, отправлен к нему рескрипт с таким жестоким за то выговором, что жесточее того почти и написать нельзя было».
Канцлер сообщает, что из-за болезни ему не удалось предотвратить выговор, недавно вынесенный Панину на заседании Конференции, и даёт практический совет, как поступать честному слуге отечества и императрицы: выдавать в реляциях собственные «крамольные» мысли и рассуждения за высказывания третьих лиц. Таким образом, заключал канцлер, и совесть дипломата будет очищена, и опасность выговора исключена. (Вот откуда, по всей видимости, у дипломатов пошла присказка о том, что для пользы дела не грех обмануть начальство.)
Панин, как явствует из его ответного письма Бестужеву, испытывал в этот период серьёзные психологические трудности, связанные с необходимостью приспосабливаться к новым веяниям в Петербурге и с постоянным и неусыпным контролем за каждым своим шагом и действием:
«Не знаю, что начать боюсь сойти с ума. Могу ли я сохранять твёрдость и противиться упадку духа…? Всё это происходит при таких обстоятельствах, когда я от всей коллегии вижу над собой ковы, и нет сомнения, что они твёрдо решили искоренить меня».
Панин был прав: скоро его «искоренят» и отзовут, а вместо него в Стокгольм отправят ставленника Воронцова — барона Ивана Андреевича Остермана. Но до самых последних дней пребывания Никиты Ивановича на посту посланника в Швеции Бестужев буквально «вёл» его, направлял и помогал своими советами. Когда воспитанник Бестужева стал возражать против направленных ему шуваловско-воронцовских инструкций, Бестужев с горечью порекомендовал ему поменьше рассуждать и только доносить ему об исполнении полученных рескриптов. Ныне в Петербурге, добавил он, не выносят тех, кто
«рассуждает о старой системе и выхваляет тех, кто оной ещё держится».
Воронцов повсюду расставлял своих людей и отзывал тех, кого считал приверженцами системы канцлера Бестужева, и канцлер ничего не мог с этим поделать. Летом 1757 года в Варшаву был назначен новый посланник — племянник канцлера, сын его несчастной сестры Аграфены Петровны, боевой генерал Михаил Никитич Волконский. По-видимому, М.Н. Волконский никоим образом не был скомпрометирован связью со своим всесильным когда-то дядей и считался вполне лояльным шуваловско-воронцовскому направлению. Впрочем, Волконскому недолго пришлось быть дипломатом — за недостатком опытных и боевых генералов в русской армии он после Цорндорфского сражения скоро был призван на Семилетнюю войну.
В январе 1757 года канцлер подал императрице обширную записку, в которой в хвалебных выражениях охарактеризовал годы своего управления внешними делами государства. Чтобы как-то нейтрализовать действия Шуваловых — Воронцовых, уставший от противостояния Бестужев-Рюмин предлагал государыне вариант передачи внешних дел в руки специально созданной комиссии, которая была названа Конференцией. В неё, по его замыслу, должны были войти 10 человек, включая великого князя Петра Фёдоровича, и она должна была заседать два раза в неделю. Бестужев, очевидно, надеялся, что, имея перед собой всех своих противников, он мог бы контролировать все их шаги и противостоять им.
Волей Елизаветы Петровны предложение канцлера было удовлетворено. Но её волей и Коллегией иностранных дел управлял теперь её фаворит граф Иван Шувалов. С ним вместе ведущие позиции при дворе и в правительстве заняли брат Пётр Иванович Шувалов и другие члены этой семьи. М.И. Воронцов, сблизившись с Шуваловыми, со своей стороны имел все шансы занять место канцлера. Вступление в борьбу на стороне врагов старшего брата Михаила ещё больше осложнило положение Алексея Петровича при дворе и знаменовало постепенную утрату им позиций. Он уже не мог по своему усмотрению не только назначить посла, но и перевести из одной миссии в другую какого-нибудь секретаря. Посланника в Варшаве Гросса, сторонника системы Бестужева, отозвали, и Воронцов назначил на его место своего протеже поляка (!) Ржичевского, на что последовал горький комментарий канцлера:
«…Паписту против папистов действовать невозможно по русской поговорке: ворон ворону глаз не выклюет, но решение сего дела от меня не зависит». Ни одно из предписаний Бестужева сотрудниками КИД просто не выполнялось. Если прежде канцлер игнорировал КИД, то теперь КИД по закону мести игнорировала канцлера.
Первое собрание Конференции
[85], совещательного органа, созданного по инициативе Бестужева, с участием императрицы состоялось 14 марта 1756 года, а через две недели Конференция выработала программу, нацеленную на достижение соглашения с Веной о военном взаимодействии против Пруссии и учитывавшую состояние войны между Англией и Францией. Предполагалось теперь сблизиться с Францией и вместе с Австрией и Польшей начать наступление на Пруссию. Обширная программа предусматривала возвращение Силезии австрийцам, союз против Турции, нейтрализацию Швеции, присоединение части Пруссии к Польше, Курляндии — к России, а также исправление польско-русской границы.
Великий князь Пётр Фёдорович оказался в Конференции частичным союзником канцлера, поскольку он был настроен в пользу Пруссии и категорически против сближения с Францией. Когда граф Александр Шувалов принёс к наследнику протокол Конференции с решением обменяться послами с Францией, тот решительно отказался его подписать. Тогда с протоколом к великому князю послали С.Ф. Апраксина, друга Бестужева и ладившего и с Шуваловыми, и с «молодым» двором. Но Пётр отказал и Апраксину. Правда, он позже сломался и протокол всё-таки подписал. После этого английский посланник Уильяме окончательно признал своё поражение и решил уехать из России.
Но личные надежды канцлера на Конференцию не оправдались: его слово на заседаниях Конференции уже мало что значило, и он ничего не мог противопоставить стремлению партии Шуваловых — Воронцовых сближаться с Парижем.
Даже голштинский «чёртушка» не был в состоянии помешать линии Воронцовых — Шуваловых. Впрочем, как утверждает Фавье, канцлер сам в своё время сильно постарался дискредитировать Петра Фёдоровича в глазах Елизаветы Петровны. Как бы то ни было, в марте 1756 года Бестужев узнал, что без его ведома начались переговоры между Австрией и Францией. В беседе с посланником Австрии Эстергази
[86] Бестужеву оставалось выразить надежду, что Вена не станет
«односторонне приступать к делу», то есть игнорировать интересы России, но к этому замечанию уже вряд ли кто прислушивался.
Французы, почуяв в российской внешней политике смену обстановки, предприняли целую серию разведывательных экспедиций в Россию: шотландец Александр Питер Маккензи Дуглас (был в России дважды), Мейссонье де Валькруассана (зима 1756 года) и скандально известный кавалер д'Эон де Бомон. Окончательный прорыв в своих отношениях с Россией Версаль накануне Семилетней войны совершил в результате миссий шотландца кавалера Дугласа, тайно отправленного в Петербург принцем Конти с рекогносцировочным заданием.
Дуглас появился в русской столице в октябре 1755 года, имея рекомендательное письмо к шведскому посланнику графу Поссе. Но Поссе не имел никаких инструкций в отношении этого французского «туриста» и запросил Стокгольм. Маркиз д'Авренкур, французский посланник в Швеции, естественно, не проинформированный Конти о цели приезда Дугласа в Россию, ответил Поссе, что
Дуглас — скорее всего авантюрист (что, впрочем, соответствовало действительности), подосланный внушать русским зловредную мысль о том, что Людовик XV ведёт переговоры с Россией за спиной Швеции.
Английский посланник Уильяме в депеше от 7 октября 1755 года писал в Лондон:
«Когда приехал сюда какой-то господин Дуглас из Парижа, то одержимый подозрительностью австрийский посланник спросил его, чего тот хочет в России. И тот отвечал: я приехал по совету врачей, чтоб пользоваться благодеяниями холодного климата». Легенда французского разведчика, как мы бы сказали сейчас, была «липовая», но английский посланник, к несчастью, не был одержим подозрительностью и важный для интересов Англии визит пропустил.
Результаты первой поездки Дугласа оказались многообещающими — его при посредничестве И. Мишеля де Руана, русского купца с французскими корнями, принял вице-канцлер Воронцов. Правда, поскольку никаких «верительных грамот» Дуглас при себе не имел, а только одни устные заверения в том, что он являлся эмиссаром принца Конти, то Воронцов его отпустил с миром, но дал понять о заинтересованности Петербурга в восстановлении с Версалем отношений. Так что в апреле 1756 года Дугласа послали в Россию во второй раз — теперь уже, по всей видимости, для того, чтобы воспользоваться «благодеяниями» сырой петербургской весны.
Когда Дуглас в апреле появился в столице Российской империи, второй французский кавалер, М. де Валькруассан, в это время уже два месяца сидел в Шлиссельбургской крепости. В феврале 1756 года он по подозрению в шпионаже был арестован в Риге, имея при себе письмо государственного секретаря Рулье к фавориту Елизаветы графу И.И. Шувалову. Арестованного доставили в Петербург и представили братьям Петру и Ивану Шуваловым на допрос. Арестованный сообщил братьям Шуваловым примерно то же самое, что и Дуглас Воронцову, но после консультации братьев с Воронцовым всё равно был посажен в тюрьму. Им показалось, что кавалер слишком много врал. Письмо Рулье фаворит Елизаветы Петровны на всякий случай сжёг. В конце года кавалера, правда, с Богом отпустили домой. Кто стоял за Рулье — король со своим «секретным кабинетом» или фрондирующий с ним принц Конти, — до сих пор неясно.
10 апреля 1756 года в девятом часу вечера Михаил Илларионович получил от Дугласа извещение о том, что находится в Петербурге и желает немедленно увидеться с ним. Вице-канцлер встретил шотландца благосклонно, поскольку тот на сей раз предъявил письмо от госсекретаря Рулье. В письме Дуглас был назван «библиотекарем», установление отношений с Россией — «образцами бургундского вина», так что Воронцову все эти меры конспирации сначала не понравились (но как бы они порадовали Алексея Петровича Бестужева-Рюмина!), и он снова заподозрил неладное. Вице-канцлеру явно чудились повсюду «злокозненные происки» Бестужева! Но у Дугласа была для Воронцова вторая записка, в которой он утверждал, что послан в Россию самим королём для установления дипломатических отношений с Елизаветой Петровной. Тогда Воронцов обещал доложить обо всём императрице, и дело завертелось.
10 июля Дуглас предъявил Воронцову верительные грамоты поверенного в делах Франции в России. В этот же день Елизавета повелела Воронцову
«сообщить господину канцлеру о всём, что с приезда Дугласа происходило». В письме к графу И.И. Шувалову Михаил Илларионович писал:
«Вследствие оного повеления сего утра (13 июля. —
М. Ю. А.) ездил я к канцлеру на остров (Каменный, где находилась резиденция Бестужева-Рюмина. —
М. Ю. А.) и ему отдал 22 письма», сообщив также о деталях визита Дугласа, в том числе о приёме Елизаветой от него верительных грамот. Алексей Петрович принял визитёра с
«особливой ласковостью» и уговаривал его остаться на обед. Но вице-канцлер решительно отказался, потому что в дом к канцлеру должен был вот-вот появиться с визитом Маккензи Дуглас, а Воронцову не хотелось
«показать себя предводителем сего Дугласа».
В этой ситуации Бестужев, конечно же, уже не мог ни возражать, ни препятствовать восстановлению дипломатических отношений с Францией. Он восстановил бы против себя уже заангажированный Версалем венский двор, не говоря о Елизавете, Шуваловых и Воронцове. Единственное, что он хотел спасти — это отношения с Англией, упрямо настаивая на своём теперь уж и вправду «слабейшем мнении» о необходимости подписания с ней субсидного договора. Но всё было напрасно. Вероятно, именно в этот «подлый» период, как писал австрийский посол барон И.Ф. фон Претлак, он стал побаиваться Елизаветы и теряться перед ней.
Первый после длительного перерыва в отношениях между Парижем и Петербургом дипломатический агент Елизаветы Петровны Фёдор Дмитриевич Бехтеев, в ответ на присылку в Петербург Дугласа, был тоже назначен в Париж помимо Бестужева. В конце 1756 года Бехтеева, по выражению Соловьёва, «домашнего человека Воронцова», из ранга дипломатического агента перевели в ранг полномочного министра. Но Бехтеев, как и Дуглас, был лицом малозначительным, хотя и долго жил за границей и считался человеком рассудительным и осторожным. Инструктировал его перед отъездом Воронцов. Бехтеев для проформы посылал Алексею Петровичу из Парижа пустые отчёты, но самое главное докладывал вице-канцлеру.
Переговоры с Францией продвинулись настолько, что Россия 31 декабря 1756 года присоединилась к Версальскому договору и образовала вместе с Австрией и Францией антипрусскую наступательную коалицию. Версаль пытался было исключить из договора с Россией обязательства по Турции, но Бестужев, в данном случае поддержанный Воронцовым и Шуваловыми, настоял на этом условии, заявив, что без casus foederis для Турции договор для России будет иметь значение
«листа чистой бумаги». Русские на сей раз выступили единым фронтом, и Дуглас подписал договор в том виде, как его предложил Бестужев.
Но в Париже были возмущены самовольными действиями своего эмиссара, и Людовик XV лично обратился к Елизавете с предложением отказаться от конвенции в том виде, как она была подписана Дугласом. Польщённая этим призывом Елизавета сдалась, и Бестужев и Воронцов были вынуждены в присутствии Дугласа разорвать документ, вызвавший бурю возмущения в Версале и столько препирательств между обеими сторонами. Всё это канцлеру вряд ли нравилось, но что он мог сделать?
Справедливости ради следует, однако, признать, что новая антипрусская коалиция в целом соответствовала духу антипрусской внешней политики России, проводимой на протяжении последних лет Бестужевым. Восстановление отношений, а теперь и союза с Францией привело Россию снова лицом к лицу с сильной военной державой Фридриха II. Так что ничего принципиально нового Шуваловы и Воронцов не изобрели, они просто исключили из процесса формирования внешней политики ненавистного им Бестужева-Рюмина.
Наступательный российско-австрийский союз был заключён 22 января 1757 года. Австрия, согласно договору, выплачивала России два миллиона флоринов субсидий, хотя Бестужев просил четыре. Россия обязалась выставить против Пруссии 80-тысячную армию и флот с 15—20 линейными кораблями и 40 галерами. Спустя 3 месяца к коалиции присоединилась Швеция, обязавшаяся воевать против Пруссии вместе с Россией. Привлечь Швецию к антипрусской коалиции было нетрудно: ведь в ней участвовали французы, а уж они постарались нарисовать шведам соблазнительные картины возвращения потерянных во время Северной войны германских территорий.
Говоря о тяжёлом положении Бестужева, надо упомянуть, что кроме партии Шуваловых — Воронцовых оживились не только все его старые враги, но появились и новые, включая союзников-австрийцев. Австрийский посол Й. фон Бернес в конце 1758 года предложил союзным дворам организовать нечто вроде коалиции, дабы
«или низложить Бестужева, или заставить его принять систему императрицы», то есть профранцузскую линию Шуваловых-Воронцовых. Правда, хитрый и осторожный австрийский канцлер Кауниц на все предложения подобного рода отвечал, что какой бы ни был канцлер, его необходимо сохранить. По всей видимости, он видел в нём сильный антипрусский заряд, символ надёжности, залог стабильности и безопасности.
Вражда с Шуваловыми и Воронцовым заставила Бестужева давно искать сочувствия и дружбы в окружении великой княгини Екатерины Алексеевны. Как сообщает в своих записках А.И. Тургенев
[87], канцлер от самой Екатерины ещё до рождения у неё наследника
«сведал, что она с супругом своим всю ночь занимается экзерсицею ружьём, что они стоят попеременно у дверей, что ей занятие это весьма наскучило, да и руки и плечи болят у неё от ружья. Она просила его сделать ей благодеяние уговорить великого князя, супруга её, чтоб он оставил её в покое, не заставлял бы по ночам обучаться ружейной экзерсиции…».
Уговорить великого князя Петра Фёдоровича бросить обучение супруги ружейным приёмам было не так просто, но Бестужев-Рюмин нашёл другой способ «облагодетельствовать» будущую императрицу. Тот же Тургенев пишет, что ввиду отсутствия у молодой пары всякой супружеской жизни и перспективы родить наследника трона канцлер подставил Екатерине молодого камергера, красавца Сергея Васильевича Салтыкова
[88]. Правда, сам приказ подобрать для великой княгини «дееспособного кавалера» поступил от Елизаветы Петровны, сильно обеспокоенной тем, что у молодой пары наследников престола спустя несколько лет после брака детей так и не появилось. Но автором «проекта» подставы был великий канцлер: он приказал фрейлине Екатерины Марии Чоглоковой поговорить с Салтыковым, он же составил подробную инструкцию для любовника. И хотя Сергей Васильевич был страстно влюблён в свою жену Матрёну Павловну Балк, он немедленно принялся за дело. Пётр III к этому времени дал согласие сделать себе хирургическую операцию, дабы иметь способность иметь детей, но девственности Екатерина лишилась по вине Салтыкова.
В 26-летнем камергере канцлер нашёл весьма способного ученика, который буквально схватывал всё на лету. Салтыков начал обхаживать Екатерину, не стесняясь в средствах и пуская в ход всё своё красноречие, мужское обаяние, лесть, подкуп слуг и разыгрывание пламенной страсти к самому «предмету». После рождения у Екатерины сына Павла Бестужев-Рюмин отослал Салтыкова с дипломатической миссией в Швецию, а когда влюблённая в молодого дипломата Екатерина стала умолять канцлера оставить его в России, Алексей Петрович преподал ей первый урок для монархов:
— Ваше высочество, государи не должны любить. Вам угодно было, потребно было, чтоб Салтыков вашему высочеству служил. Он выполнил поручение по предназначению, ныне же польза службы всемилостивейшей нашей императрицы требует, чтобы он служил в качестве посла в Швеции.
С 1754 года канцлер регулярно оказывал Екатерине поддержку и советом, и делом. Государыня Елизавета Петровна стала хворать, многие ждали печальной развязки и готовились к тому, что русский трон займёт «голштинский чёртушка». Бестужев в таком развитии событий не усматривал ни для себя, ни для России ничего обнадёживающего.
«Затащили меня в эту проклятую Россию, где я должен считать себя государственным арестантом, тогда как если бы оставили меня на воле, то теперь я сидел бы на престоле цивилизованного народа», — как-то в сердцах бросил будущий император России, имея в виду под цивилизованным народом шведов
[89]. Бестужев боялся, что Пётр Фёдорович, придя к власти, отдаст шведам все завоевания Петра I, чтобы получить взамен из рук датчан любимую Голштинию. Кроме того, зная о приверженности наследника к Фридриху Прусскому, можно было с уверенностью ожидать, что он в угоду своему кумиру и во вред империи круто поменяет внешнюю политику империи. Поэтому канцлер заранее готовил для себя союзницу в лице супруги наследника.
Кстати, Бестужев сразу после удаления из России Бруммера приложил руку к воспитанию, а точнее, к исправлению воспитания, полученного наследником русского трона Петром Фёдоровичем. Вместо прусского солдафона Бруммера к Петру Фёдоровичу был приставлен князь В.Н. Репнин, но он занимал эту должность недолго — его уволили за то, что он допустил появление к великому князю голштинской роты. Его место занял Николай Наумович Чоглоков (1718—1754), которому канцлер собственноручно написал подробную инструкцию, а супруга его Мария Симоновна Чоглокова (1723—1756), статс-дама и кузина императрицы Елизаветы, как мы уже упомянули выше, была приставлена к Екатерине Алексеевне.
Вот основные положения этой инструкции, представленной Елизавете на утверждение 10 мая 1746 года.
Его высочество не должен был забывать Бога и святые его заповеди; он должен был заботиться о своём здоровье (наследник обладал хрупким здоровьем и постоянно болел); между ним и его супругой должно быть полное согласие; наследник должен отводить достаточное время для своего образования (шёл перечень необходимых занятий); Чоглокову предписывалось препятствовать увлечению воспитанника чтением всяких романов, игре на скрипке и других инструментах, пустыми забавам с егерями, пажами и лакеями и
«иными негодными и к наставлению неспособными людьми». Понедельник и пятница отводились для дел и занятий по управлению Голштинским герцогством, вторник и четверг — для занятий с надворным советником Якобом (Яковом Яковичем) Штелином (1712—1785) (чтение иностранных газет, знакомство с внешней политикой, трактатами, государственными делами России, занятия по географии, физике, математике и др. наукам), в среду и субботу Петру Фёдоровичу вменялось в обязанность заниматься историей России и изучать дела своего деда Петра Великого.
«При сем же его импер. высочество в здравую и приятную погоду иногда поутру в манеж ходить или на часок верхом выехать может, когда б токмо одеванием целые часы не проходили». В среду и воскресенье нужно было ходить в церковь, давать аудиенции,
«дабы его высочество тем… знание людей и любовь нации себе приобрести мог». Чоглокову нужно было также следить, чтобы его воспитанник прилично вёл себя на людях, сохранял достоинство,
«за столом разумными разговорами себя увеселял, от шалостей над служащими при столе, а именно от залития платей и лиц и… неистовых издёвок над бедными служителями… воздерживать надлежит» и т. д. и т.п. Инструкция даёт представление о том, что был за человек Пётр Фёдорович и какое он получил от Бруммера воспитание. Добавим, что справиться Чоглокову с «предерзостным» голштинским болваном так и не удалось
[90].
В своих записках о Петре III Я. Штелин упоминает о том, что учение наследника пошло серьёзнее, как только к этому процессу подключился канцлер. Штелин пишет, что Бестужев-Рюмин часто встречался и беседовал с наследником. Н.И. Павленко пишет, что в инструкции были предусмотрены пункты, касающиеся и великой княгини Екатерины Алексеевны. Канцлер обнаружил в ней активную и склонную к интригам личность, а потому инструкция запрещала ей вмешиваться в
«здешние государственные или голштинского правления дела». Переписываться ей разрешалось только через Коллегию иностранных дел, причём письма за неё должны были составлять чиновники КИД, а ей оставалось только подписаться под ними.
Костомаров пишет, что у Бестужева в это время были составлены два проекта наследования престола: один заключался в том, чтобы побудить Елизавету составить новое завещание в пользу сына Екатерины Алексеевны — Павла Петровича, а второй предусматривал формальное оставление за Петром Фёдоровичем титула императора, но всю власть предоставить его жене Екатерине. По некоторым данным, Елизавета, возмущённая действиями «молодого двора», в это время взвешивала возможность изменить завещание о престолонаследии в пользу великого князя Павла Петровича или даже томившегося в темнице царевича Ивана Антоновича. Как было на самом деле, история умалчивает, во всяком случае Бестужев намеревался показать свои проекты государыне Елизавете, но она последнее время канцлера к себе не допускала и к одному только намёку на свою возможную смерть, как в своё время Анна Иоанновна, относилась весьма болезненно.
Сама великая княгиня Екатерина Алексеевна рано созрела для восприятия российского трона и для занятия большой политикой. Наглядным примером тому является её попытка повлиять на польские дела в 1756 году. Началось с того, что Август III, саксонский курфюрст и польский король, рассорился с влиятельным кланом Чарторийских, и те решили поправить своё положение с помощью англичан и русских. Их заступниками стали российский посланник Гросс в Дрездене и его английский коллега Чарльз Уильяме в Варшаве. Гросс ссылался при этом на то, что Елизавета якобы была очень недовольна отчуждением «её польских друзей» от польско-саксонского двора, но он не подозревал, что его шеф Бестужев через своего конфидента Функа, саксонского посланника в Петербурге, уже давно дал понять канцлеру Саксонии Брюлю, что Елизавета в дело Чарторийских вмешиваться не собирается.
Убедившись в том, что Бестужев относится к их хлопотам безразлично, Чарторийские обратились за помощью к враждебной ему партии Шувалова—Воронцова, поставив своей целью убрать Алексея Петровича с поста канцлера. Уильяме, рассерженный тем, что канцлер в качестве условия для заключения субсидного договора с Англией поставил его невмешательство в польские дела, закусил удила и тайно стал на сторону врагов Бестужева. И вот в этой ситуации Екатерина, явно с подачи Уильямса, решила под видом искренней дружбы предупредить Бестужева о грозившей ему опасности и направляет ему большое письмо. Вот его содержание:
Великая княгиня, ссылаясь на надёжные источники, пишет, что враги канцлера решили обвинить его в потворстве действиям, направленным на преследование в «соседнем королевстве» русской партии, и поставить на его место своего человека. Для этого эти враги намереваются также убрать из Варшавы Гросса и послать вместо него брата канцлера, который должен выступить в качестве истинного защитника русской партии в Польше.
«Вы могли бы сохранить г. Тросе а, который Вам приятен, и отразить удар, который Вам хотят нанести, если бы Вы первый заявили о своём намерении поддержать в Польше ослабленную русскую партию… Только усердие и быстрота, с какими Вы будете действовать, могут лишить их этого случая повредить Вам…» — пишет Екатерина и продолжает, что вопрос о назначении Михаила Петровича послом в Варшаву уже решён Елизаветой положительно,
«поэтому я полагаю, что Вам остаётся только сделать то, что я советую Вам из дружеского расположения, а отнюдь не то, что советуют лица, которым Вы доверяете», В конце письма Екатерина выкладывает ещё один «козырь»: ссылаясь на циркулирующие в Петербурге «недостойные» Бестужева слухи, она сообщает о неразумном поведении канцлера Брюля, который якобы похваляется поддержкой Бестужева в деле с Чарторийскими
[91].
Но Екатерина и Уильяме явно недооценили великого канцлера. Он без труда распознал всю подоплёку этого достаточно наивного и прямолинейного послания. Это было первое (известное историкам) политическое письмо Екатерины, ей ещё предстояло много потрудиться и над стилем, и содержанием своей эпистолярной деятельности. А пока Бестужев ограничился «скромным» ответным письмом.
«Яне нахожу слов высказать… мою покорную и почтительнейшую признательность за это, В(аше) В(ысочество),
которая не иссякнет до конца моей жизни… — начинает он в своём неподражаемом стиле. —
Я отнесусь со всевозможным вниманием и к тем козням, которые мои враги так упорно строят против меня…» — пишет он, а далее по пунктам сообщает, что: 1) о происках врагов своих ему уже давно всё известно; 2) в польских делах его поведение абсолютно безупречно, и обвинить его совершенно не в чем — на это у него есть неопровержимые доказательства, 3) а попытки замешать в дело канцлера Брюля — клевета и ложь, и он будет стоять выше этих измышлений. Всем этим козням он готов противопоставить чистую
«совесть и твёрдость».
Ему также хорошо известно, что вице-канцлер (Воронцов) и церемониймейстер двора (Шувалов) затеяли составить доклад Елизавете о польских делах, не разобравшись при этом, кто на самом деле являются друзьями России в Польше.
«Доклад этот явно имеет целью лишь доставить моему брату посольство в эту страну», — с убийственным хладнокровием пишет он далее. Впрочем, добавляет он, вопрос о его назначении ещё не решён, и «клика», выступающая за его назначение, выдаёт желаемое за действительное. А если и случится такое, продолжает Бестужев, то
«долг и служебное положение повелевают мне в данном случае, как только е(ё) В(величество)
заговорит со мною, об это дать почувствовать ей твёрдо и правдиво, какие неудобства, трудности, невзгоды и опасности могут произойти от ошибочно принятых мер…». И не личными интересами руководствуется он в данном случае — в конце концов, ему было бы даже очень удобно избавиться от брата и «сплавить» его подальше от Петербурга, а интересами государства. Михаил Петрович, по его мнению, может в Варшаве «наломать много дров», как он это сделал в 1752 году в Вене
[92].
Заканчивает канцлер своё письмо «убийственным» для сочинителей «дружеской информации» пассажем: он просит Екатерину сообщить источники её информации, ссылаясь на необходимость оградить её от дурного влияния. Он в свою очередь ссылается на слухи «из очень важного источника» о связи великой княгини с Уильямсом, что неблагоприятно может сказаться на положении великой княгини при дворе. Канцлеру также известно, что в распространении всех этих слухов участвуют и «кавалер Уильяме», и его друг, «кавалер польского посольства». Под последним канцлер имел в виду любовника Екатерины Станислава Понятовского.
Великий канцлер с блеском продемонстрировал все свои деловые и боевые качества. Он чувствовал себя на высоте проницательности и информированности, он находился в расцвете творческих сил. Можно только предполагать, с какими выражениями лица читали сие послание Екатерина и Уильяме. Функ, проинформированный своим патроном о письме Екатерины, писал в Дрезден:
«Уильяме, кажется, вообразил, что ему удастся одновременно запутать канцлера намёками …о грозящей ему лично большой опасности и проникнуть в его намерения». «Проникнуть в намерения канцлера» врагам канцлера не удалось, но удалить из Петербурга важное связующее между Бестужевым и Брюлем звено им удалось вполне.
«Русский канцлер в награду за разные услуги удостоился в октябре 1756 г. со стороны Августа III подарка —
10 тысяч червонцев», — заключает В. Конопчинский эпизод с письмом Екатерины.
Летом 1756 года императрица Елизавета сильно и опасно заболела, и великая княгиня составила чёткий и смелый план своих действий, которым она поделилась с посланником Англии в России сэром Чарльзом Уильямсом. Вот что она написала ему в письме от 11 августа:
«Когда я получу безошибочные известия о наступлении агонии, я отправлюсь прямо в комнату моего сына. Если я встречу или буду иметь возможность немедленно призвать обер-егермейстера [А.Г. Разумовского],
я оставлю его с его подчинённым при сыне; если нет —
я отнесу сына в мою комнату. Вместе с тем я пошлю верного человека известить пять гвардейских офицеров, в которых я вполне уверена. Они приведут мне каждый по 50 солдат —
это будет исполнено по первому же знаку. Может быть, я и не обращусь к их помощи, но они будут у меня в резерве на всякий случай. Они будут принимать повеления только от великого князя или от меня. Я пошлю к канцлеру, к Апраксину и к Ливену, чтобы они явились ко мне, а в ожидании их направлюсь в комнату умирающей, куда призову командующего караулом капитана, велю ему присягнуть и оставаться при мне. Кажется, надёжнее и лучше, чтобы оба великие князья были вместе, чем чтобы один был со мною. Думаю также, что местом сбора должна быть моя приёмная. Если я замечу какое-либо, хотя бы самое малейшее, движение, я отдам под стражу Шуваловых и дежурного генерал-адъютанта. Младшие офицеры лейб-компании —
народ надёжный, и хотя я в сношениях не со всеми ими, но на двух или трёх я могу вполне рассчитывать и уверена, что имею столько влияния, чтобы заставить себе повиноваться, кто не подкуплен».
Каков холодный и трезвый расчет, какова решительность и предусмотрительность! Недаром сэр Уильяме расщедрился и передал Екатерине 10 тысяч фунтов стерлингов. И заметим, что канцлеру Бестужеву, генералу Апраксину отводится в этом плане важная роль.
Однако Елизавета Петровна неожиданно поправилась, план был похерен, а сама Екатерина с трудом выпросила себе её прощение. Потом она, вероятно, помнила о заботливом канцлере, предупредившем её от дурных связей, и сохранила к нему уважение на будущее.
Соловьёв указывает, что, по более поздним рассказам Екатерины II, Алексей Петрович составил и подал ей в 50-х гг. проект, согласно которому она должна была править вместе с мужем, а сам он рассчитывал получить в своё ведение сразу три коллегии — Иностранную, Военную и Адмиралтейскую и иметь чин гвардии подполковника всех четырёх гвардейских полков. Что ж, если всё это соответствовало действительности, то можно сказать, что Бестужеву явно не суждено было умереть от скромности. Но если по части личных амбиций канцлеру явно изменило чувство реальности, то его предвидение того, как будет царствовать Пётр Фёдорович — будущий Пётр III, — полностью оправдалось.
Позже великая княгиня Екатерина Алексеевна пережила бурный роман с князем Станиславом Понятовским, приехавшим в Россию в свите английского посла Уильямса, и к проекту канцлера отнеслась несколько легкомысленно, хотя и благодарила его через Понятовского (общаться напрямую им было уже опасно), не отказываясь от него вовсе, чтобы не противоречить упрямому старцу. Она только просила сказать ему, что претворить такой план в жизнь было не так просто. «Упрямый старец» несколько раз переделывал проект — то сокращал, то дополнял его, в зависимости от постоянно менявшейся вокруг великой княгини обстановки. По части проектов граф был неутомимый и изобретательный мастер.
Екатерине на самом деле было не так просто определиться со своим будущим, потому что её благосклонности добивались сразу несколько партий. Новый посол Англии сэр Уильяме для проникновения в дворцовые сферы России решил взять на себя роль Шетарди и использовал Понятовского как основное орудие влияния на будущую супругу императора. Но благосклонности Екатерины Алексеевны добивались и братья Шуваловы, причём она, судя по всему, делала ставку на более сильную партию Шуваловых.
Екатерина потребовала от Бестужева добиться для Понятовского самостоятельного посольского поста — она хотела бы, чтобы поляк представлял в России польско-саксонский двор. Канцлер вступил в тайные сношения с канцлером саксонского кабинета графом Брюлем и добился, чтобы блистательный молодой поляк сделался послом страны — союзницы России.
Вся возня вокруг «молодого двора» прекратилась 22 октября в связи с неожиданным выздоровлением Елизаветы Петровны. Уильямсу, после неудачных попыток помешать русско-французскому союзу, пришлось уехать в Лондон выслушивать упрёки лордов по поводу краха своей миссии. Напрасно Екатерина Алексеевна пыталась утешить Уильямса тем, что на случай смерти Елизаветы у неё имелся план осуществить переворот в пользу своего сына Павла. При этом активная роль в нём отводилась Бестужеву, Апраксину, Ливену и даже Шуваловым.
В этих условиях и началась война России с Пруссией, вошедшая в историю как Семилетняя. Она давно подготавливалась канцлером, но теперь его участие в событиях было весьма ограниченно. России помогали Австрия и весьма слабо — Франция. Военные действия были поручены приятелю Бестужева фельдмаршалу Степану Фёдоровичу Апраксину (1702—1758). От его успешных действий зависела и судьба Бестужева.
Позиция России в вопросе о войне была выражена в
«Манифесте об объявлении войны прусскому королю» от 16 августа 1757 года и в
«Ответе со стороны императорского величества всероссийской на обнародованную королём прусским декларацию», в тексте которых чувствуется и рука канцлера
[93].
Накануне Семилетней войны в высшем эшелоне русской армии не оказалось ни одного способного полководца. С. Соловьёв винит Миниха в том, что тот, на протяжении многих лет исполняя обязанности военного министра, не давал ходу русским генералам и выдвигал на высшие командные должности одних иностранцев. К 1757 году фельдмаршал Лейси умер, а Кейт перешёл служить к Фридриху П. Кстати, в судьбе этого, несомненно, способного военачальника определённую роль сыграл Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Находясь в 1743 году в качестве командира русского вспомогательного корпуса в Швеции и главного дипломатического представителя России, фельдмаршал своими прошведскими настроениями зародил у Бестужева подозрения
[94]. Когда в 1746 году Кейт попросил канцлера исходатайствовать у императрицы разрешение на получение в России убежища для своего брата, лорд-маршала Шотландии Джорджа Кейта (1693—1778), Бестужев отказал ему в этом, объясняя, что брат Кейта, участник шотландского восстания в пользу Стюартов, своим появлением в России возбудит недовольство Англии. И вообще странно: почему он не просит убежища во Франции, которая приютила у себя всех стюартистов? Уж не происки ли тут французов?
Как сообщает в своих мемуарах В.А. Нащокин, в Военной коллегии Кейт подвергся также гонениям со стороны младшего по званию, но большого ревнивца и старшего по должности генерала С.Ф. Апраксина. Кейт затаил обиду. Обида обострилась после того, как Кейта «прокатили» при назначении на важные, по его мнению, командные должности в русской армии, и в 1747 году он оставил русскую службу и перешёл в прусскую армию. Король Фридрих принял его с распростёртыми объятиями.
На генеральском «безрыбье» выбор командовать русской армией пал на 54-летнего С.Ф. Апраксина. Рядовой, потом капитан Преображенского полка, секунд-майор Семёновского полка, с 1739 года — генерал-майор, посланник в Персии, вице-президент Военной коллегии, генерал-кригс-комиссар, генерал-фельдмаршал, — вот его плавная и довольно успешная карьера. Но Степан Фёдорович ничем особенным не блистал.
«Наружность Апраксина, его чрезмерная тучность, изнеженность не говорили в его пользу», — пишет Соловьёв. Его обвиняли в трусости, когда он не принял вызова на дуэль от гетмана К.Г. Разумовского, сильно избившего его в драке. Участие его в русско-турецких войнах 30-х годов было ничтожно. И вот этому человеку, ценившему выше всего личный покой и комфорт, поручили командовать в войне с вышколенной прусской армией. От этой же личности зависела судьба великого канцлера. Так получилось, что накануне Семилетней войны два эти совершенно разных человека оказались тесно связанными. Других друзей у Бестужева к этому времени не осталось.
Говоря о Семилетней войне, следует поставить в заслугу великому канцлеру и такое дело, как введение в заблуждение короля Фридриха II относительно конкретных намерений России накануне войны. Король Пруссии полагал, что Австрия была настроена открыть военные действия немедленно и подталкивала к этому Россию, в то время как Россия якобы планировала отложить войну до будущего года из-за неудовлетворительного состояния своих армии и флота. На самом деле всё было наоборот: с войной торопилась Россия и склоняла к этому Австрию. Фридрих накануне войны лишился возможности получать из Петербурга разведывательную информацию и полагался на своих шпионов в Дрездене и Берлине. Но шпионы снабжали его дезинформацией, которую, судя по всему, опять же организовал Бестужев. Для доведения дезинформации до адресата канцлер использовал либо великого князя Петра Фёдоровича, либо своего бывшего помощника, саксонского дипломата Функа. Первый использовался «втёмную», в то время как Функ действовал из Дрездена вполне целенаправленно. И тот и другой каналы выходили прямо на короля Пруссии.
Но всё это мало помогло русской армии. Карта фельдмаршала Апраксина оказалась заранее битой. Медлительность и нерешительность, с которыми Апраксин вступал в войну, вызывала всеобщее негодование в Петербурге. Бестужева это очень задевало и чрезвычайно беспокоило — враги могли приписать медлительность Апраксина его внушениям. И Бестужев, и великая княгиня Екатерина Алексеевна торопили главнокомандующего своими письмами и призывали к более решительным действиям. Привыкший жить со всеми дружно, спокойно, роскошно и весело, главнокомандующий очень надеялся, что до настоящей войны дело не дойдёт. Войны не желал и молодой двор, к которому кунктатор, как и Бестужев, был тоже близок. Апраксин надеялся, что умница-канцлер, его сердечный друг Алексей Петрович, всегда что-нибудь придумает и поможет ему выйти из любого положения. Ведь он сам сказал на прощание, что в поход не следовало выступать до тех пор, пока всё к нему не будет подготовлено.
Правда состояла и в том, что во многом инициатива главнокомандующего была связана жёсткими и не всегда своевременными и компетентными инструкциями Конференции, члены которой все считали себя полководцами. Созданная от безысходности в противовес врагам по инициативе Бестужева Конференция явно оправдывала природное недоверие канцлера к коллективным решениям. Но дело было уже сделано, и жаловаться было не на кого.
17 февраля Апраксин пишет Бестужеву письмо с угрозой сложить с себя командование армией, потому что ему со своими понуканиями надоели австрийцы. Он недоумевает, почему его торопят: уж не переменился ли во мнении сам Алексей Петрович? Канцлер пытается успокоить друга и отвечает, что жаловаться и быть недовольным Степан Фёдорович не имеет ни малейших оснований, ибо все объяснения его и ссылки на трудности принимаются в Петербурге с пониманием, и если и были
«некоторые отчасти строгие побуждения», то они
«предавались всегда на ваше рассмотрение и волю». Канцлер пишет, чтобы в его
сантиментах, то есть дружеском расположении, фельдмаршал никоим образом не сомневался, — они остались без изменений.
Переписка шла тайно, с привлечением генерал-квартирмейстера Веймарна. Через этот же канал Апраксин получил письмо от великой княгини Екатерины Алексеевны с просьбой более с наступлением не медлить. Апраксин был сердит: он надеялся получить подтверждения в обратном, то есть тянуть время, а тут от него требуют совершенно противоположного!
— Это всё канцлеровы финты! — сказал главнокомандующий в сердцах и полез в шкатулку за старым письмом Екатерины, надеясь на то, что последнее письмо принадлежало не ей. Она ведь никак не могла торопить его! Но нет, сличив почерк, он увидел, что письма были исполнены одной и той же рукой.
Ещё в середине июля Апраксин с основными силами армии не переступил границы. 15 июля Бестужев был снова вынужден напомнить Апраксину о том негативном впечатлении, которое фельдмаршал оказывал на Петербург своим бездействием.
«Совершенное моё к вашему превосходительству усердие побуждает меня и то не утаить, что в день конференции… её императ. Величество… за отсутствием других ко мне, к князь Никиту Юрьевичу (Трубецкому),
к Александру Борисовичу (Бутурлину)
и к князь Михаилу Михайловичу (Голицыну)
с великим неудовольствием отзываться изволила, что ваше превосходительство так долго в Польше мешкает».
Через три дня канцлер пишет ещё одно письмо, призывая Апраксина ускорить вступление русской армии в пределы Пруссии. Но это произошло только 20 июля.
Потом была одержана нечаянная, а потому ещё более желанная победа над пруссаками под Грос-Егерсдорфом. Нужно было бы развивать успех и преследовать отступавшего противника, чтобы добить его окончательно. Но не тут-то было: Апраксин не только остановил движение, а повернул вспять. Зимнее отступление русской армии после победы при Грос-Егерсдорфе, о которой главнокомандующий к тому же долго не доносил, привело канцлера в отчаяние.
«Я крайне сожалею, — писал он 13 сентября 1757 года, —
что армия Вашего Превосходительства почти во всё лето недостаток провианта имея, наконец, хотя и победу одержала, однако ж принуждена, будучи победительницею, ретироваться. Я собственному Вашего Превосходительства глубокому проницанию представляю, какое от этого произойти может безславие, как армии, так и Вашему Превосходительству, особливо-ж когда вы неприятельския земли совсем оставите».
Как и ожидал Бестужев, по России поползли слухи о том, что отступление Апраксина — плод бестужевских интриг по делу о престолонаследии и что главнокомандующий в связи с возможностью смены власти в России отводил армию ближе к своим границам. Слухи на самом деле соответствовали реальному положению вещей лишь наполовину: Апраксин принял решение о временном отводе армии 27 августа на военном совете, ссылаясь на отсутствие провианта, а вот приказ об отступлении был отдан лишь 14—15 сентября, когда до фельдмаршала могли дойти известия о болезни Елизаветы Петровны (государыня заболела 8 сентября). Но в любом случае вины Бестужева в этом не было никакой — в этом сходятся практически все русские авторитетные историки.
Н.И. Костомаров пишет, что Бестужев мог принять свои меры предосторожности на будущее, заключавшиеся в том, чтобы русским не стать слишком ярыми врагами прусского короля в глазах Петра Фёдоровича. Было совершенно очевидно, что если наследник станет править Россией, то его первым союзником окажется старый враг России Фридрих II. Н.Г. Устрялов тоже считает, что канцлер вместе с Апраксиным, приняв во внимание тяжёлую болезнь Елизаветы, решили угодить будущему царю Петру III, преклонявшемуся перед Фридрихом II и тем самым обеспечить себе будущее при новом императоре. Возможно, что так оно и было в действительности, но никаких доказательств на сей счёт не существует. На наш взгляд, маловероятно, чтобы канцлер стал бы действовать в угоду великому князю, не говоря уж Фридриху II. Личные расчёты канцлера могли брать верх над государственными, но только, как нам кажется, не в этом случае.
А вот приятель Бестужева фельдмаршал Апраксин так рассуждать мог. На случай кончины Елизаветы Петровны он мог ублажить наследника престола и решиться на то, чтобы пощадить пруссаков. И отступил. При этом нет совершенно никаких намёков на доказательство того, что отступление было подсказано канцлером. Бестужев, убедившись в том, что Елизавета стала выздоравливать, предпринял попытку исправить эту «ошибку», но было уже поздно. Русская армия уходила на зимние квартиры.
Как бы то ни было, этим сразу воспользовались противники Бестужева.
Апраксина сняли с поста главнокомандующего и приказали возвращаться в Санкт-Петербург. В Нарве его арестовали и отобрали всю переписку, в которой находились письма Бестужева и Екатерины Алексеевны. Защитником Апраксина — возможно, для видимости — выступил граф И.И. Шувалов, а главным обвинителем главнокомандующего стал… его приятель Бестужев. С.Ф. Апраксин скончался во время следствия и избавил следователей от всякого рода неприятностей, причём никаких доказательств его измены в ходе расследования получено не было.
Но положение канцлера ещё более пошатнулось.
Валишевский сообщает, что, отправляя Апраксину письма великой княгини, Бестужев некоторые из них показал пребывавшему в то время в Петербурге австрийскому генералу Буккову, чтобы убедить венский двор в том, что великая княгиня отнюдь не сочувствует Пруссии. В письмах канцлера и Екатерины на самом деле не было ничего предосудительного, но посол Эстергази донёс о них Елизавете Петровне, придав им характер противотронной интриги, а Шуваловы решили воспользоваться этим случаем, чтобы свалить Бестужева с должности. Кроме Эстергази, против дальнейшего нахождения у внешних дел Бестужева выступил новый французский посланник маркиз Поль Галлюцио Лопиталь, бывший до этого послом в Неаполе (1740—1751). Последний заявил Воронцову, что если Бестужев через две недели не будет уволен, то он прервёт с ним всякие отношения и будет обращаться только к Бестужевым. Михаил Илларионович дрогнул и вместе с И.И. Шуваловым стал вести дело к падению канцлера.
«Нагие несчастье состоит в том, — жаловался Бестужев английскому послу, —
что он (И.И. Шувалов. —
Б. Г.) говорит по-французски и любит французские моды. Ему страх как хочется иметь при дворе француза-посланника. Власть его так велика, что нам тут невозможно ничего сделать». Из этой фразы мы видим, как канцлер устал от постоянной борьбы и, по всей видимости, смирился со своим положением, отдавая себя полностью на волю событий.
Валишевский справедливо пишет, что иностранное участие в низвержении Бестужева сыграло всё-таки лишь второстепенную роль. Однако, хотя главной причиной этого явились интриги русских противников канцлера, влияние австрийцев и французов в этом деле, как мы видели выше, также умалять вряд ли бы стоило. Падение Бестужева случилось не в один день или час, оно готовилось ими исподволь месяцами и даже годами. Его руководство иностранными делами отбиралось из его рук постепенно и даже незаметно для всех, включая самого канцлера. И вот только в 1757 году он, ещё первый министр Елизаветы Петровны, прервал свою «лебединую песню» и расторг связи с Англией. Подчиняясь воле Шуваловых, он уже не возражал, чтобы Россия объявила войну Пруссии, против которой теперь сражалась и Франция. «Окоротить “Надир-шаха”» в конце концов было и его желанием.
Борьба со всемогущим великим канцлером, как водится, поначалу велась на периферийных участках, удары направлялись против второстепенных лиц, ему служивших, и главное лицо постепенно лишалось помощников и верных адептов и агентов. Бестужев ещё сопротивлялся, ему даже удалось прогнать с должности секретаря КИД ставленника Шуваловых Д.В. Волкова и поставить вместо него своего человека — Пуговишникова, до этого служившего при Петре Фёдоровиче связным по любовным делам. Но Шуваловы парировали это поражение ещё более мощным ударом: они свалили заведующего канцелярией барона И.А. Черкасова и поставили на его место А.В. Олсуфьева, тайного врага канцлера.
«Таким образом, — писал французский посол Лопиталь в конце 1757 года, —
Олсуфьев будет единственным хранителем драгоценностей и денег её величества и будет производить все расходы на её одежду и гардероб».
Ныне это может показаться нам странным и даже смешным, чтобы первый
министр, формально не отстранённый от своей должности, лишившись возможности распоряжаться гардеробом Елизаветы Петровны, автоматически терял влияние на внешние дела государства! Но таковы были нравы «галантного» века и правила придворного этикета.
Месть была жестокой — это был конец.
Говорят, что за битого десять небитых дают. Вряд ли эту пословицу можно было применить теперь к Бестужеву-Рюмину. Жизнь жестоко била этого человека и в конце концов добила.
Расследование по делу Апраксина имело своей целью добраться в первую очередь до канцлера. Так что Алексей Петрович отлично понимал, чем всё это могло закончиться. В субботу 26 февраля 1758 года он был арестован. В этот день проходили два правительственных заседания, и канцлер, вероятно, чувствуя грозу над своей головой, не поехал ни на одно из них и остался дома. Но поступило приказание Елизаветы явиться, и Алексей Петрович был вынужден поехать. Его арестовали у дворцового подъезда сразу, как только он вылез из коляски. Один из братьев Воронцовых так описал это событие:
«В соседней комнате находился наготове гвардейский капитан. Маршал, князь Трубецкой, непримиримый враг Бестужева, взялся объявить ему его опалу и сделал это довольно бессердечно, собственноручно сорвав с него Андреевскую ленту… Затем позвали гвардейского капитана, сопровождавшего Бестужева домой. Отряд гвардейцев окружил карету, а в доме его уже стоял усиленный караул».
После ареста Бестужева наследник престола Пётр Фёдорович приветствовал Лопиталя сияющим от радости лицом и словами:
— Как я жалею, маркиз, что мой бедный друг Шетарди уже умер! Это известие доставило бы ему столько удовольствия!
Есть данные о том, что падению великого канцлера сильно посодействовал его камергер Брокдорф, сделавший на него донос. Бедный голштинец! Его беспечная радость по поводу крушения русского патриота скоро, слишком скоро отзовётся ему непредвиденными бедами и страданиями.
Документы бывшего канцлера конфисковали, но самые «интересные» для его врагов бумаги Алексей Петрович успел сжечь. Он заранее готовился к худшему и успел также предупредить об этом великую княгиню Екатерину Алексеевну. Но последовавшую после ареста переписку между ними следствие всё-таки перехватило, что и составило главный обвинительный материал против бывшего канцлера. Следственная комиссия, состоявшая из членов Конференции князя Трубецкого, генерал-фельдмаршала А.Б. Бутурлина (1694—1767), начальника Тайной канцелярии графа А.И. Шувалова и секретаря Д.В. Волкова, рьяно и с большим пристрастием принялась за дело, но ничего существенного Бестужеву-Рюмину предъявить так и не смогла. Александр Борисович Бутурлин признавался:
«Бестужев арестован, а мы теперь ищем причины, за что его арестовали». Ничего нового для себя Алексей Петрович на сей раз не узнал: всё было, как в тот первый арест во время правления Анны Леопольдовны…
Вслед за канцлером были арестованы бывший наставник великой княгини в русском языке и начальник департамента герольдии Василий Ададуров, бывший адъютант графа А.Г. Разумовского, тесный приятель С. Понятовского Елагин, а также служивший у Бестужева на побегушках итальянец-ювелир Бернарди.
Судопроизводство тянулось более года, не дав нужных результатов. Правда, пытке Бестужева не подвергали. Преступное сообщничество канцлера с великой княгиней Екатериной Алексеевной, имевшей целью парализовать действия русской армии в Пруссии, доказано не было. Остались также ненайденными и письмо Екатерины фельдмаршалу Апраксину, и проекты Бестужева о наследовании русского престола. Их канцлер успел уничтожить. Бестужев заранее почувствовал сгущающиеся над головой тучи и постарался, чтобы все улики, в том числе у его сообщников, исчезли.
Следствие главным образом уцепилось за письмо канцлера Екатерине, переданное на следующий день после ареста через управляющего голштинскими делами князя Штамбке.
В нём бывший канцлер сообщал Екатерине, чтобы она ничего не опасалась, поскольку он все компрометирующие бумаги сжёг, и советовал
«поступать смело и бодро с твёрдостью и помнить у что подозрениями ничего доказать нельзя». Бестужев условился со Штамбке продолжить переписку с великой княгиней и общаться с ней через тайник, закладываемый в груде кирпичей рядом с домом Бестужева. Но тайник был вскорости обнаружен, а курьер — музыкант, изымавший и закладывавший записки в кирпичи, был схвачен на месте.
Доказательств государственной измены, тем не менее, добыто не было, но следствие и даже императрица догадывались о существовании далеко идущих проектов Бестужева, поэтому Волков главное внимание на допросах арестованного уделял именно им. Если бы они обнаружились, или если бы Бестужев признал их составление, ему без сомнения грозила бы смертная казнь за государственную измену.
Следствие длилось целых 14 месяцев, и всё это время Алексей Петрович сидел безвыездно в своём доме. Через полтора месяца после ареста к нему явился председатель следственной комиссии князь Трубецкой и приказал содержать своего недруга в строгости, никого к нему не допускать, кроме слуги Редкина, не давать ножей, а страже — сержанту с часовым — ни на минуту не отлучаться с поста. Костомаров пишет, что супруга Бестужева беспрестанно плакала, сын Андрей сердился, а сам граф только стонал и терпеливо ждал смертного часа.
Наконец, в апреле 1759 года состоялся приговор.
Его обвинили в том, что он старался вооружить великого князя и великую княгиню против императрицы; что он не выполнял письменных высочайших указов и мешал их исполнению; что, зная о намерениях Апраксина отвести армию в тыл, не донёс о том государыне, а вместо того хотел исправить дело сам, приплетя
«в непозволенную переписку» такую персону,
«которая не должна была принимать участия», то есть Екатерину, чем
«нечувствительно в самодержавное государство вводил соправителей и сам соправителем сделался».
Е. Анисимов справедливо считает, что Бестужев, вмешавшись в придворную интригу о престолонаследии на стороне великого князя Петра Фёдоровича и великой княгини Екатерины Алексеевны, совершил серьёзную ошибку. Но, с другой стороны, сведения о том, что Елизавета и «братья-разбойники» Шуваловы задумали лишить великого князя права престолонаследия, выслать его с женой обратно в Голштинию, а на трон возвести их сына Павла, не оставляли им иного выбора, как попытаться помешать таким планам, а ставка на них канцлера, с учётом плохого состояния здоровья Елизаветы, была вполне реальным и здравым шагом. Плохо, конечно, что в эту интригу был замешан английский посол Уильяме. Спустя 44 года англичане приложат свою «тяжёлую» руку к свержению сына Петра Фёдоровича.
В качестве наказания комиссия назначила Бестужеву смертную казнь
отсечением головы. Однако государыня-императрица проявила милость и приказала отправить его в ссылку в подмосковное имение Можайского уезда, которое бывший канцлер назвал Горетовом. За ним последовала его жена и единственный сын Андрей. В манифесте о преступлениях бывшего канцлера, в частности, говорилось:
«велено ему жить в деревне под караулом, дабы другие были охранены от уловления мерзкими ухищрениями состарившегося в них злодея». Бывший канцлер беспрекословно сложил с себя все чины и обязанности и вернул в казну все награды, кроме одной — портрета Петра I.
С Бестужева начали усердно взыскивать долги, которых у него накопилось на целых 120 тысяч рублей. Указом Петра III от 8 февраля 1762 года велено было за долги взять принадлежащее опальному канцлеру имение на Каменном острове, из которого одно только строение «с уборами» было оценено на сумму 26.214 рублей 15 копеек. Указ Петра III, однако, не был приведен в исполнение. 28 июля 1765 года великий князь Павел Петрович с Н.И. Паниным и кавалерами ездил осматривать Каменный остров с целью его покупки, что и было сделано впоследствии.
«Сообщников» канцлера наказали довольно мягко: Штамбке выслали за границу, Елагина — в казанскую деревню, Ададурова отправили в почётную ссылку товарищем губернатора в Оренбургскую губернию, а ювелира Бернарди — на поселение в Казань. Станислава Понятовского отправили обратно в Варшаву — потом Екатерина сделает его королём Польши. Екатерину Алексеевну государыня императрица ночью 23 апреля 1758 года подвергла тщательному допросу, но, как мы знаем, великая княгиня оправдалась, а Елизавета Петровна, сделав вид, что поверила, её простила.
НЕ У ДЕЛ
Среди грома сражений Семилетней войны падение канцлера было встречено в Европе почти без всякого ажиотажа. Одновременно был отправлен в отставку министр иностранных дел Франции Польми.
«Вот два министра в опале: Польми в Версале и Бестужев в Петербурге, — писал Фридрих II своему брату. —
Мне от этого ни жарко, ни холодно». Конечно, король лицемерил: после падения Бестужева ему стало намного теплее. Впрочем, если смотреть на поединок между русским канцлером и прусским королём непредвзятым взглядом, можно с уверенностью сказать, что победа осталась за Бестужевым-Рюминым.
Маркиз Лопиталь известил Париж о низвержении Бестужева в постскриптуме к своей депеше из Петербурга от 25 февраля 1758 года. В основном тексте депеши он утверждал, что в Петербурге без ведома Бестужева ничего не делается, между тем уже как все вокруг знали, что это было далеко не так. Впрочем, впоследствии это не помешало маркизу говорить, что в устранении Бестужева он принял самое активное участие.
Более «проницательным» оказался подчинённый Лопиталя (а позже секретарь вице-канцлера Воронцова) Ж.-Л. Фавье. Канцлер, согласно Фавье, в течение 12 лет систематически управлял императрицей посредством страха.
«Раскрытие этих хитростей было чуть ли не единственной причиной падения министра», — утверждал француз. Продолжение «этих хитростей» она якобы нашла теперь возмутительным и под удобным предлогом удалила его с должности.
Уже через несколько месяцев после ссылки Бестужев-Рюмин был отомщён самим ходом событий. Даже Лопиталь отмечал, что его обидчики явно не справлялись с внешними делами государства, императрица болела, и все документы кипами валялись у неё на столе неподписанными. Только Бестужев был в состоянии подвигнуть её на то, чтобы взять в руки перо или вникнуть в содержание бумаг, но он был уже не у дел.
«Союзники императрицы извлекут из падения Бестужева, по крайней мере, одну пользу, — иронизировал Лопиталь в отчёте своему министру Берни, —
они узнают, что старый политический обманщик, великий маг и волшебник России, державший её на ходулях, выставлявший её великой и грозной, уже более не существует… Я вряд ли обманусь, если скажу, что вы увидите, как с каждым годом эта держава будет слабеть и падать».
Лопиталь обманулся в своих предсказаниях, как и многие другие пророки из Европы. Бестужев, несомненно, был значительной фигурой у руля страны, но Россия богата на таланты. И откуда ему было знать, что своенравную Елизавету скоро сменит деятельная и проницательная Екатерина Алексеевна, и что для России настанет своеобразный золотой век — правда, уже без Бестужева. Прогноз Лопиталя оказался верным всего на пару лет, когда престиж России на самом деле стал резко падать. Шуваловы, во внешних делах мальчики в коротких штанишках по сравнению с Бестужевым-Рюминым, по словам Валишевского,
«ничего не понимали в искусстве внешнего декорума, чудесно использованном впоследствии Екатериной, недаром внимавшей советам Бестужева».
Бестужева «ушли», но труды его на почве дипломатии и разведки не пропали втуне. М.Ю. Анисимов справедливо пишет, что накануне Семилетней войны российской дипломатии пришлось выдержать настоящее сражение с дипломатией Швеции, Франции, Пруссии и Турции, и сражение это было выиграно не в последнюю очередь благодаря умной, проницательной и последовательной политике её канцлера. Надежды Парижа и Берлина столкнуть Россию со Швецией и Турцией, несмотря на все интриги и козни, не оправдались. Практически Бестужев-Рюмин вынес это противостояние один, на своих плечах. Будучи хорошо информированным, он уверенно вёл свой корабль сквозь все невзгоды и трудности. Он выиграл это сражение без единого выстрела — одним только дипломатическим искусством. Россия вступила в войну, обеспечив себе фланги, укрепив свой авторитет в Европе и приобретя сильных союзников.
…Ссылку свою Бестужев, по свидетельству знавших его в эту пору людей, нёс с большим достоинством и твёрдостью духа. Пыляев пишет, что опальный граф жил в дымной избе, как простой мужик, носил лапти и простой овчинный тулуп. Позже ему позволили построить дом, который он назвал «Обителью печали». В Горетове он увлёкся богословием, собирая изречения из Священного Писания, в результате чего написал в 1763 году книгу «Избранныя из Св. Писания изречения в утешение всякого неповинно претерпевающего христианина». Под «неповинно претерпевающим христианином» он явно имел в виду прежде всего себя. Печатное издание книги предварялось предисловием ректора Московской Духовной академии Гавриила Петрова и дополнялось текстом оправдательного манифеста императрицы Екатерины. Книга была в том же году издана в Петербурге на французском языке и на немецком языке в Гамбурге, а в 1764 году — на шведском языке в Стокгольме.
Утешал себя Алексей Петрович и чеканкой медалей. В память о постигшей его беде 1758 года он отчеканил две медали со своим портретом и соответствующими надписями на фасе (
«Immobilis in mobile» и
«Semper idem»[95]) и изображением на реверсе двух скал среди бушующих волн, озаряемых с одной стороны солнцем, а с другой — молнией. Таковы, по всей видимости, были символы его жизни — солнце и молнии, которым он долгие годы противостоял, как монолитная скала.
В Горетове 25 декабря 1761 года скончалась его супруга Анна Ивановна. (Двое сыновей, один из которых Пётр, упомянутый в 1742 году как совершеннолетний, умерли задолго до этого.) Пока великий канцлер ютился в крестьянской избе, в его роскошном дворце в Петербурге ежедневно заседала комиссия по похоронам преставившейся Елизаветы Петровны во главе с его заклятым врагом князем Н.Ю. Трубецким.
Восшествие на престол Петра III никакого облегчения ссыльному не принесло, и это было вполне понятно: любовницей у императора была племянница вице-канцлера Елизавета Романовна Воронцова (1739—1792), и Михаил Илларионович был у Петра III в большом фаворе. Да и прежде Пётр III относился к Бестужеву-Рюмину, мягко говоря, с большим недоверием. Он имел все основания говорить про Бестужева следующим образом:
«Я подозреваю этого человека в тайных переговорах с моей женой, как это было уже раз обнаружено; в этом подозрении подкрепляет меня то, что покойная тётушка на смертном одре говорила мне весьма серьёзно об опасности, какую представляло бы возвращение его из ссылки». По некоторым данным, император подозревал Бестужева-Рюмина в совместном с женой заговоре, имевшем целью лишить его трона, и Елизавета перед своей смертью якобы наказала ему никогда не освобождать графа из ссылки.
М.И. Воронцов в первый же день восшествия на престол Петра III — 25 декабря 1762 года — исходатайствовал у него помилование и освобождение из ссылки Лестока и Бирона. Естественно, о Бестужеве-Рюмине он даже и не подумал. Людей, пользовавшихся благосклонным отношением императора и испытывавших при этом уважение к ссыльному Бестужеву, вокруг нового императора просто не было. Если Бирон, сохраняя достоинство, по части изъятого и разграбленного у него имущества никому не предъявил претензий, то Лесток, получив от императора разрешение отыскивать свои пропавшие вещи, без всякого приглашения стал наносить визиты некоторым вельможам. Он придирчиво осматривал гостиные и будуары хозяев и молча забирал то, что узнавал принадлежащим когда-то его дому. Думается, он ни секунды бы не раздумывал нанести «визит триумфатора» и к графу Бестужеву-Рюмину, но граф в это время сам был жертвой жесточайшей опалы и, лишённый всех дворцов и домов, сидел в курной избе своего Горетова.
Ссылка лишила Бестужева возможности стать непосредственным свидетелем заключения Петром III позорного мира с Фридрихом II — мира, который свёл на нет все громкие победы русской армии в Пруссии и фактически спас Фридриха II от полного разгрома. Алексею Петровичу не пришлось наблюдать за тем, как прусский посол в России Бернхард Вильхельм фон Гольц (? — 1795) стал руководить всей внешней политикой России, как всю русскую армию переодели в прусские мундиры и заставили принять устав армии Фридриха II…
Что ж, император Пётр Фёдорович, подозревая бывшего канцлера во всём нехорошем, в данном случае вряд ли ошибался: будь Бестужев летом 1762 года в Петербурге, он, возможно, принял бы в свержении императора самое активное участие.
…1 июля 1762 года, едва успев похоронить убитого то ли Алексеем Орловым, то ли лейб-гвардейцем Александром Шванвицем
[96] супруга, Екатерина II послала в Горетово специального курьера, гвардейского офицера Колышкина, с приказанием Бестужеву-Рюмину немедленно явиться в столицу. Как пишет Соловьёв, старый Калхас незамедлительно исполнил приказание новой государыни, и в середине июля его уже видели при дворе. Он мог с удовлетворением видеть, что некоторые его проекты о престолонаследии и пророчества теперь стали претворяться в жизнь.
Императрица приняла заметно одряхлевшего старика самым любезным образом. Она нуждалась в дельных советах опытного дипломата и царедворца, но на высокую должность призывать его не захотела. Зачем ей был нужен старый упрямец со своими закосневшими взглядами на внешнюю политику России, когда в Европе всё сильно перемешалось, когда нужны были новые подходы и когда она сама хотела играть во внешних делах заглавную роль?
Покладистый и начинавший быстро дряхлеть Воронцов остался пока и её канцлером. Сразу после переворота 1762 года прусский посланник Б. Гольц посетил канцлера и узнал, что тот, ссылаясь на слабое здоровье, подал Екатерине II прошение об отставке. Гольц докладывал Фридриху, что канцлер был очень доволен тем, что это прошение он вручил императрице за четыре часа до того, как узнал о возвращении из ссылки Бестужева-Рюмина. Михаил Илларионович не хотел, чтобы кто-то подумал, что он боялся своего неприятеля и потому спешил уступить ему место канцлера.
Через четыре дня Гольц с тревогой писал в Берлин, что прибытия графа Бестужева в столицу ждали со дня на день и что там никто не сомневался в том, что он заменит Воронцова. Но Екатерина пока и не думала менять канцлера, она просто оставила при Воронцове своим доверенным лицом Н.И. Панина, воспитателя её сына великого князя Павла Петровича. Никита Иванович со своими принципами и взглядами тоже был крепким «орешком», но помягче Бестужева и поэластичней в обращении, это был человек более современный, с которым Екатерина могла без труда найти общий язык. Хорошо информированный и проницательный Гольц уже в это время отмечал, что Бестужев непременно должен был столкнуться с Паниным, который вряд ли бы уступил кому добровольно своё единоличное влияние на императрицу, в том числе и своему бывшему учителю.
Зато сам Бестужев считал себя ещё вполне пригодным для свершения великих дел. Отсутствие у него высокой должности императрица компенсировала максимумом почёта и внимания. Она обращалась к нему в самой тёплой манере «Батюшка Алексей Петрович!» 31 июля/11 августа Гольц сообщил своему королю, что
«Бестужев вернулся в Сенат и занял то же положение, как и прежде, так что он старший из сенаторов», и назвал его первым в списке лиц, которым больше всех доверяла в этот момент Екатерина Алексеевна
[97]. Бестужев, по словам Гольца, продолжал
«уклоняться от участия в делах, ссылаясь на свой преклонный возраст, в сущности же для того, чтобы его больше просили». М.И. Воронцов говорил Гольцу, что ему было бы в высшей степени неприятно оставаться на своём посту, если бы истинным руководителем внешней политики страны стал бы Бестужев. В таком случае, прибавил Михаил Илларионович, он бы снова попросился в отставку.
Но проситься в отставку Воронцову не пришлось. У Екатерины не было планов менять канцлера, хотя логика событий подсказывала, что шансы вернуться на своё место у Алексея Петровича были. И в этом смысле Гольц не ошибался. Прусский посланник внимательно наблюдал за положением Бестужева, понимая, что с его приходом в КИД участь Пруссии стала бы снова незавидной, а потому он подмечал каждую мелочь в поведении бывшего ссыльного. Так в реляции от 10/21 августа он с нескрываемым злорадством сообщил Фридриху II:
«Граф Бестужев принялся опять за свой обыкновенный образ жизни, то есть пьёт столько, что почти каждый день после полудня уже теряет соображение». Оставим на совести прусского посланника определение меры опьянения Бестужева — сам факт прикладывания графа к рюмке в это время наблюдали и другие лица кроме Гольца. Заметим только, что к вину наш герой пристрастился давно, а после того как убедился, что его планы вернуть былое положение были обречены на неудачу, тяга к нему только усилилась.
По приезде в Санкт-Петербург Бестужев потребовал реабилитации, для чего была создана специальная комиссия, в основном удовлетворившая его претензии. Соловьёв указывает на одно сильное препятствие на пути полной реабилитации Бестужева-Рюмина. Канцлер пострадал при Елизавете, а её память на фоне мрачного, беспорядочного и бесславного царствования Петра III стала чуть ли не священной. Признавать Алексея Петровича невинно пострадавшим было бы всё равно что положить хулу на правление достославной дочери Петра Великого, а делать этого Екатерине было по политическим соображениям вовсе не с руки.
Но Бестужев, получив за свои страдания материальную компенсацию, особенно настаивал именно на своём полном моральном оправдании. Свои чувства по этому поводу Бестужев изложил в письме к племяннику князю М.Н. Волконскому. Он писал, что оправдание своё считает дороже всех других милостей, оказанных Екатериной. Чувствовать себя преступником для него было самым тяжёлым моральным бременем.
И вот 31 августа 1762 года был обнародован вывешенный в храмах и других публичных местах манифест Екатерины, в котором объявлялось, что императрица из любви и почтения к Елизавете и по долгу справедливости считает нужным исправить невольную ошибку покойной императрицы и оправдать Бестужева в возведенных на него преступлениях. Текст манифеста является шедевром лицемерия и изощрённости в мастерстве сокрытия правды. Он начинался высокопарными многообещающими словами:
«Граф Бестужев-Рюмин ясно нам открыл, каким коварством и подлогом недоброжелательных доведен он был до сего злополучия».
Люди, совершившие «коварство и подлог» — Трубецкой, Бутурлин, братья Иван и Александр Шуваловы, Воронцов и некоторые другие, — жили и здравствовали, их всех знали в лицо, они продолжали занимать высокие должности, и их никто не наказывал. Реабилитация их врага должна была показаться им обидной, но обида для них была теперь слишком большой роскошью.
Вина Елизаветы легко и изящно опровергалась словами манифеста:
«…наша все любезнейшая тётка, императрица Елизавета Петровна, как нам самим и всему свету известно было, прозорливая, просвещённая и милосердная и притом и правосудная монархиня» всё-таки не была Богом и проникнуть в человеческие помышления не смогла,
«и потому несомненно противу воли и намерения её дело к несчастию его, графа Бестужева-Рюмина до сего времени обращалося». (Получилось прямо по пословице: «Не взыщите: и на старуху бывает проруха!») И далее:
«Итак, в защищение её имени и добродетелей… за истинную к ней любовь и почтение, а паче за долг христианский и монарший мы приняли: его, графа Бестужева-Рюмина, всенародно показать паче прежнего достойным покойной тётки нашей, бывшей его государыни, доверенности и нашей особливой к нему милости». Ему были возвращены
«с прежним старшинством чины генерал-фельдмаршала, действительного статского советника, сенатора и обоих российских орденов кавалера с пенсионом по 20 000 рублей в год». Бестужеву было выплачено жалованье за годы ссылки, ему было возвращено конфискованное имущество, уплачены его долги в казну.
Манифест был составлен Паниным и подписан собственноручно самой государыней. Тем же манифестом Бестужев назначался
«первым Императорским советником и первым членом нового, учреждаемого при дворе императорском совета».
Привилегированное положение Бестужева при дворе Екатерины выразилось даже и в том, что одной из камеристок императрицы стала Прасковья Никитишна Владиславлева, тёща главного приказчика Бестужева. Екатерина любила слушать её устные забавные рассказы (анекдоты).
Пострадавшие вместе с Бестужевым и близкие к Екатерине Ададуров и Елагин реабилитации не домогались, а потому были просто возвращены из ссылки и щедро вознаграждены новой императрицей.
Конечно, выпуск вышеуказанного манифеста был весьма важным и почётным знаком для Алексея Петровича, но никакой реальной власти он ему не доставил. Правда, государыня на первых порах довольно часто прибегала к его советам и рекомендациям. Например, она пригласила его в числе восьми своих советников поучаствовать в опросе с целью дачи рекомендаций относительно того, как следовало поступать России после её одностороннего выхода из Семилетней войны
[98]. Она привлекала Бестужева к иностранным делам и сделала его первоприсутствующим в Сенате, назначила его в комиссию, которая занималась выработкой рекомендаций по вопросу о так называемых дворянских вольностях
[99]. Он занял почётное председательское место в Императорском совете
[100], работал в комиссии о Курляндском герцогстве, но этого ему было мало. Екатерина направляла ему проекты своих указов и прочих важных документов с просьбой:
«Батюшка, Алексей Петрович, прошу вас приложенные бумаги рассмотреть и мнение ваше написать».
Во всех обстоятельствах Бестужев играл формальную роль первого советника Екатерины, но влияние его на государственные дела было незначительным. Он явно претендовал на большее, о чём рассказал в упомянутом выше письме к племяннику. Отвечая на некие слухи о том, что он якобы впал в младенчество и лишился всякой памяти, а потому к государственным делам допущен быть не может, он писал: пусть бы кто иной, хоть вполовину моложе его, попробовал бы так быстро войти в перипетии внешней политики России после длительного отсутствия от дел, после ареста, следствия, суда и прочих гонений, как сделал это он, 70-летний старик!
«А впрочем я не завидлив — себе в утешение заключает он письмо, —
но по пословице отдаю тому книги, кто лучше знает, и ничего себе не желаю —
ни славы в великой знатности, ни богатства, будучи одною ногою почти в гробе, а только желаю оставить по себе честное имя».
Внешне довольный и наполненный благодарностью, Алексей Петрович дважды выступал в Сенате с инициативой поднести Екатерине титул «Матери отечества», но императрица эту честь отклонила:
«Видится мне, что сей проект ещё рано предложить, потому что растолкуют в свете за тщеславие. А за ваше усердие благодарствую».
Как бы то ни было, а в Англии, включая английского короля, его продолжали считать лицом достаточно влиятельным. Прибывший в 1762 году ко двору Екатерины II английский посол Джон Бэкингхэмшир не преминул установить с ним связь, полагая, что 70-летний Бестужев-Рюмин пользуется у императрицы таким же доверием, что и всесильный Н.И. Панин. В письме королю Георгу III от 19 января 1763 года он сообщал, что намерен вручить подарки следующим русским сановникам: фавориту Екатерины графу Григорию Орлову, Бестужеву-Рюмину, Н.И. Панину и вице-канцлеру A.M. Голицыну (1718—1783).
Пообщавшись с Алексеем Петровичем, который, как можно предположить, делал всё необходимое, чтобы оставить англичанина в благоприятных относительно себя заблуждениях, Д. Бэкингхэмшир скоро констатировал:
«Несмотря на последний политический переворот и на… изменения в отношениях между европейскими державами… он держится своих старых понятий с таким же упорством… каким в недавнее время отличались и более его способные головы. Он считался и сам всегда выдаёт себя за приверженца Англии, но когда он увидел, что её виды уже не угодливы по отношению к австрийскому двору, единство его интересов с нашими тотчас прекратилось…»
Ещё бы не прекратиться после вероломного предательства Лондона, вступившего накануне Семилетней войны в тайный сговор с Фридрихом II! Лукавый англичанин даже наедине с собой не может быть искренним и правдивым: уж ему-то должна была быть хорошо известна эта история. И австрийский двор здесь ни при чём — Алексей Петрович, как мы помним, был разгневан вероломством Сент-Джеймсовского двора именно по отношению к России.
Но Бестужев не был бы Бестужевым, если бы отказался от маленькой игры с английским послом. Если его считают важной персоной, то почему бы не согласиться с этим? Глядишь, из этого возникнут какие-нибудь дивиденды. И в самом деле, новому послу захотелось отличиться и попытаться навязать России оборонительный договор 1742 года, срок которого формально истёк в 1759 году. При том недоверии, которое Екатерина II и её ближайшие советники питали к Англии вообще и к этому предложению в частности, и бывший канцлер мог пригодиться. Но тут Бэкингхэмшир в своём рвении допустил большой «ляп»: он взял и направил Алексею Петровичу ноту (?!), как будто тот был официальным дипломатическим лицом, в которой попросил адресат посодействовать если не в проталкивании оборонного договора, то хотя бы в заключении договора о торговле.
Бестужев-Рюмин при получении сего документа, вероятно, внутренне ухмыльнулся, но вида не подал. А вот от своего короля посол схлопотал выговор. Пришлось оправдываться, что, мол, Екатерина II вряд ли узнает об этом, потому что доверенное лицо, которое вручало Бестужеву ноту, видело, что тот по прочтении ноту сжёг. Король Георг наставлял Бекингхэмшира, что Бестужева следовало побудить к тому, чтобы он достал точный проект условий, на которых Екатерина II согласится подписать договор об обороне с Англией.
Но Бэкингхэмшир к этому времени уже прозрел и понял, что никакой пользы от престарелого Бестужева он иметь не будет. Оставалось только убедить в этом короля Георга III. И посол не преминул лягнуть старого дипломата, оставив потомкам негативную на него характеристику, основанную, естественно, не на собственном опыте, а на прежних слухах, имевших когда-то хождение в европейских столицах.
Вернувшись из ссылки, Бестужев-Рюмин получил доступ к своему следственному делу и, ознакомившись с ним, оставил на нём свои комментарии. Материалы дела, согласно его анализу, косвенно указывали на то, что лицом, донесшим Елизавете о переписке Екатерины с гетманом К.Г. Разумовским
[101], был Григорий Николаевич Теплов (1711—1779), когда-то подвизавшийся в должности воспитателя К.Г. Разумовского, затем адъюнкт Академии наук, потом член Комиссии о духовных имениях (1760). При Петре III он был нечто вроде кабинет-секретаря и начальника канцелярии, а при Екатерине стал членом Комиссии о коммерциях.
«О сём секрете никому известно быть не могло, кроме Теплова, — писал Бестужев-Рюмин, по-видимому, имея в виду близость Теплова к младшему графу К.Г. Разумовскому в прошлом. —
Он единственно,
злясь на Елагина и Бестужева, тайным доносителем был». Бестужев предупреждал Екатерину о склочном характере Теплова, давая понять ей о необходимости вывода этого человека из состава правительства.
Но Теплова оставили в покое, а наказали оберсекретаря Брянчанинова и секретаря Сената и генерал-поручика Веймарна, уличённых в утаивании брильянтов и золотой табакерки, которые были изъяты у Алексея Петровича при аресте и во время следствия.
В августе 1762 года, когда на повестке дня возник вопрос о курляндском герцогстве (герцогом Курляндии в этот момент был саксонский принц Карл, сын короля Августа III), Бестужев-Рюмин вспомнил о своём благодетеле Бироне и способствовал его восстановлению в былых правах герцога Курляндии. Но он по-прежнему был расположен и к саксонскому двору и хлопотал о соответствующей компенсации саксонскому курфюршеству. 29 августа того же года он обратился к Екатерине с просьбой наградить супругу Бирона орденом Св. Екатерины для
«кредиту герцогу у короля и республики Польской и для его там подкрепления».
В августе же 1762 года сенатору Бестужеву нанёс визит венский посол. Согласно всё тому же Гольцу, австриец затронул вопрос о возобновлении австро-русского союзного договора, автором которого в 1746 году был великий канцлер. Очевидно не надеясь на память Бестужева, австриец прихватил с собой текст упомянутого договора. Реакция русского собеседника оказалась для австрийца непредсказуемой. То ли разгорячённый вином, то ли возбуждённый неприятными воспоминаниями о том, как австрийцы в 1759 году усердствовали в деле его свержения с поста великого канцлера, то ли под влиянием этих обоих факторов Бестужев ответил, что всякий раз, когда Екатерина II будет спрашивать у него совета, он будет давать один и тот же: не вступать в союз ни с венским, ни с берлинским двором. Его опыт свидетельствует, как дорого с точки зрения денег и людских ресурсов, причём без малейшей выгоды для России, обошёлся союз с Австрией. Он прямым текстом заявил посланнику, что весьма разочарован в тех австрийских дипломатах и государственных деятелях, с которыми он в своё время имел дело. За исключением графа Претлаха, все они были людьми необыкновенно высокомерными и упрямыми. Бестужев с резким презрением отозвался также о французах, но по-прежнему позитивно оценивал англичан. Англофильство пустило в Алексее Петровиче глубокие корни.
Когда в конце разговора посланник захотел оставить свои предложения на просмотр Бестужеву, тот ответил, что в этом нет никакой надобности: во-первых, он знает об их содержании, а, во-вторых, он не пожертвовал бы ради них своим слабым зрением. После этого обескураженный австриец поспешил удалиться.
К управлению государством пришли новые люди, и попытки бывшего канцлера вмешаться в дела успеха ему не принесли. Он по-прежнему возлагал надежды на то, что восторжествует его антипрусская и антифранцузская «система», но Н.И. Панин, его ученик, пришедший в КИД, разделяя его оценку в отношении Франции, уже думал о другом — о северном союзе или
северном аккорде, о союзе России с Пруссией, Англией и Скандинавией в противовес союзу южных государств — Франции, Австрии и Испании.
«Я рассчитался с графом Бестужевым, — говорил Панин прусскому посланнику Сольмсу, —
я заплатил ему за все прежние обязательства, я ему не должен ничего, и он не в числе моих друзей». Соловьёв пишет, что Панин, по всей вероятности, имел в виду свои хлопоты по реабилитации бывшего учителя.
Между учителем и учеником наметилась борьба, и Панин даже жаловался Екатерине, что вмешательство Бестужева в государственные дела заставит просить его об отставке. Конечно же, Екатерина предпочла Бестужеву Панина, но это решение доставило ей чувство неловкости. Она очень ценила и уважала старика Бестужева и не могла просто так выбросить его на обочину дороги. Бестужев, кстати, в отличие от Панина, не страдал конституционалистскими «замашками» и не предлагал учредить при Екатерине так называемый Имперский совет — орган, ограничивающий её полномочия как самодержавной императрицы. Она яростно защищала Бестужева от клеветы, выставлявшей его человеком продажным:
«Это ложь. Бестужев обладал упорной твёрдостию, и никто никогда не мог подкупить его». Совершенно противоположного мнения она была о сопернике Бестужева графе Воронцове:
«Гипокрит[102], какого не бывало; вот кто продавался первому покупщику; не было двора, который бы не содержал его на жалованье».
Так что Екатерина некоторое время должна была терпеть бывшего великого канцлера, а он, не привыкший жертвовать своими убеждениями, понимая, что своим упрямством досаждает императрице и создаёт для неё дополнительные трудности, должен был прибегать к старому испытанному средству всех царедворцев — к лести и угодничеству.
Сильное раздражение у Екатерины вызвало вмешательство Бестужева-Рюмина в церковные дела, в частности, в так называемое дело Арсения Мацеевича (1697—1772). Ростовский архиерей Арсений Мацеевич был своеобразным протопопом Аввакумом XVIII века. При Петре III монастырские и некоторые церковные земли были секвестрированы, но при Екатерине они снова стали возвращаться церкви. Но Екатерина была вынуждена признать справедливость указа бывшего супруга и всячески стала тормозить процесс возвращения церкви секвестрированных земель. Для упорядочения этого вопроса императрица назначила специальную комиссию, которая снова занялась переписью возвращённого церкви достояния, что вызвало со стороны воинственного Арсения естественные подозрения и резкие выпады против новой «неправильной», по его мнению, императрицы. Синод вместе с Екатериной, усмотревшей в этом выпаде оскорбление её чести и достоинства, решил наказать строптивого архиерея, лишить его архиерейского сана и сослать в отдалённый монастырь. Перепуганный Арсений Мацеевич, и ранее, при Елизавете, обращавшийся к Бестужеву-Рюмину за помощью, написал ему письмо.
Справедливости ради следует отметить, что граф Алексей Петрович, к старости благоволивший православной церкви, ни в коей мере не заступаясь за бедного Мацеевича, написал Екатерине вполне мягкое письмо с рекомендациями затушевать это дело и оставить старика в покое, чтобы, как он выразился, не разворошить весь церковный муравейник. Он просто
«рабски просил о показании ему монаршего и матерного милосердия», дабы предупредить
«разных о сем и без того в публике происходящих толкований». Между тем императрица была явно уязвлена тем, что Мацеевич в своих филиппиках намекнул, что она, как немка, никакого права на русский трон не имела, и в своём отзыве на обращение Бестужева утверждала, что ни один государь не потерпел бы такого оскорбительного поступка, который совершил Мацеевич по отношению к ней, а без всякой церемонии отрубил бы ему голову.
Бестужев, ничтоже сумняшеся, попытался успокоить раздражение Екатерины и снова написал ей:
«Во всенижайший ответ всеподданнейший раб доносит, что как он прежде за ростовского архиерея не заступался», так и теперь только принял
«присланную от него цидулку» и представил её императрице со своими соображениями. Он считал необходимым пресечь все лишние толкования в народе, тем более что сам Мацеевич о содеянном уже жалеет и сокрушается
[103]. На записке Бестужева Екатерина написала:
«Сожалею, что сокрушается: я писала с тем, чтоб вы имели что соответствовать тем, кто вас просьбою мучит. Желаю вам спокойно почивать». Очевидно, реакция императрицы была немедленной, так что поспешила вернуть записку со своей пометой её автору прямо на сон грядущий.
С этого момента отношение Екатерины к старику Бестужеву стало резко охладевать. По донесениям иностранных послов в Петербурге, Бестужев не сдавался и нашёл общий язык с фаворитом императрицы Г.Г. Орловым (1734—1783). Весной 1763 года он, зная тайну брака Елизаветы Петровны с А.Г. Разумовским, подал графу Григорию идею официально жениться на Екатерине II и стал собирать подписи среди дворянства в пользу этого брака.
Согласно версии Дидро, которую приводит Н.И. Павленко, Бестужев открыл свои брачные замыслы канцлеру Воронцову. Тот, якобы не захотев и слышать об этом, прервал Бестужева и сказал:
— Чем я заслужил такое унизительное доверие с вашей стороны?
После этого Воронцов побежал к Екатерине и стал говорить о неприличии и опасности её брака с Орловым. Он предложил вместо этого осыпать фаворита богатствами и почестями, но отнюдь не думать о бракосочетании с ним. От Екатерины канцлер отправился к Панину и стал умолять его тоже повлиять на императрицу.
Особого сочувствия инициатива Бестужева не вызвала ни в народе, ни у дворян. Особенно была недовольна этим предложением гвардия, инициатор и исполнитель всех последних государственных переворотов. Императрица поставила вопрос на обсуждение в Государственном совете. Во время обсуждения все сохраняли молчание. Тогда встал Н.И. Панин и заявил:
— Императрица делает, что захочет, но госпожа Орлова не может быть русской императрицей.
Екатерина немедленно закрыла заседание
[104].
Но Орловы и Бестужев-Рюмин продолжали настаивать на своём. Из брака Разумовского и Елизаветы они решили создать прецедент. Екатерина повела при этом тонкую игру. Она не могла прямо отказать своему фавориту в желании стать её мужем — её довольно шаткое на первых порах положение во многом зависело от расположения всесильных братьев Орловых, — и согласилась составить проект соответствующего указа об официальном признании брака покойной Елизаветы и старика Разумовского. С проектом этого указа Екатерина направила к Алексею Григорьевичу графа и канцлера М.И. Воронцова.
Бывший фаворит жил в Москве в доме на Покровке. Канцлер застал Разумовского у растопленного камина. Гость показал хозяину проект и попросил у него бумаги, подтверждающие его тайное венчание с Елизаветой Петровной. Несколько минут Разумовский молчал. Потом подошёл к комоду, достал оттуда ларец и извлёк из него свёрток из розового атласа, в котором оказались пожелтевшие листы двадцатилетней давности. Подержав их в руках, Алексей Григорьевич бросил их в огонь.
— Я не был ничем более, как верным рабом её величества, — произнёс он, с трудом опускаясь в кресло…
Идея Бестужева-Рюмина сгорела в камине вместе с брачным свидетельством. Панинская партия и тут взяла верх.
Пользуясь поддержкой Орлова, граф Алексей Петрович затеял против Панина новую интригу, но, по всей видимости, не рассчитал силы. Ему уже не хватало ни такта, ни чутья, ни чувства собственного достоинства. Французский посланник Бретёйль в одной из своих реляций описывал, как Екатерина на каком-то приёме никак не могла отделаться от пьяненького Бестужева, досаждавшего ей, по-видимому, очередным прожектом.
Каплей, переполнившей чашу терпения Екатерины, оказались польские дела. Ввиду тяжёлой болезни Августа III Екатерина предпринимала отчаянные попытки сделать после его смерти королём
Польши своего бывшего фаворита Станислава Понятовского. Существенную помощь в этом ей оказывал Фридрих II, а всю дипломатическую сторону дела обеспечивал Панин. Бестужев-Рюмин тоже привлекался к польским делам, но его настойчивые советы сохранить Польшу за саксонскими курфюрстами уже не отвечали новым реалиям, и Екатерина окончательно разочаровалась в нём.
«Батюшки Алексея Петровича» не стало, остался вовсе никому не нужный упрямый старец. Таким образом, тяжба за верховенство в вопросах внешней политики закончилась для Бестужева плачевно, а Никита Иванович не только удержался на своих позициях, но и скоро значительно укрепил их после отставки также «вышедшего из моды» М.И. Воронцова. В октябре 1763 года Панин, как было написано в указе о его назначении,
«по теперешним небезтрудным обстоятельствам» стал безраздельно заведовать делами КИД. Не будучи официально назначен канцлером («великие канцлеры» Екатерине были ни к чему), он, тем не менее, был поставлен выше вице-канцлера князя Д.М. Голицына и в течение двух десятков лет оставался главным советником императрицы по иностранным делам.
Осенью 1763 года в Петербурге прошли совещания по поводу событий в Швеции, на которых выступил А.П. Бестужев-Рюмин. Именно он с большой настойчивостью озвучил неприемлемость для русских интересов восстановления в Швеции абсолютизма. К Бестужеву прислушались и другие участники совещания, а потом их одобрила и Екатерина. Впрочем, ничего нового бывший канцлер не присоветовал: самодержавный Петербург, начиная с Петра Великого, всегда пытался держать Стокгольм в конституционных рамках и бороться с любой попыткой шведских королей вернуться к абсолютизму.
Несмотря на холодность в отношениях с императрицей, милости Бестужеву время от времени продолжали ещё перепадать. Так, например, в конце 1763 года ему по иронии судьбы был пожалован голштинский орден Св. Анны 1-й степени — вероятно за то, что голштинская партия при русском дворе всегда его ненавидела, а он отвечал ей взаимностью.
В 1764 году, при реформе Сената и разделе его на департаменты, Алексея Петровича назначили в первый департамент, но ходить в присутствие дряхлый старик был уже не в силах, и его потихоньку уволили. Кажется, в это время новоиспечённый сенатор представил-таки Её императорскому величеству ещё одну записку, в которой предлагал заступиться за ущемлённого в чём-то Коммерц-коллегией голландского купца Рейнгольда. Соловьёв приводит следующий ответ императрицы, сохраняя её оригинальную орфографию и синтаксис:
«Я видела оная прозба и она отослана в Сенат монополии признани за вредни и не один город разарён все exclusions (то есть исключения. —
Б. Г.) служит другим в пример и много таких пример будет есть ли одному дадут в прочем я услышу сенатская рассуждения. Где общество выигрывает тут на партикулярный ущерб не смотрют»[105].
В это время Алексей Петрович, озабоченный, очевидно, сохранением у потомков памяти о роде Бестужевых, направил своему дальнему родственнику Ивану Дмитриевичу Бестужеву-Рюмину
«собранную трудами покойного моего родителя родословную книгу». Письмо к Ивану Дмитриевичу датировано 10 июля 1764 года, книга была тщательно и красиво переписана и переплетена в малиновый бархат. В книге находилась грамота о выезде из Англии представителя рода Бестов, полученная Алексеем Петровичем от герольда графства Кент в бытность его в Англии.
В 1765 году при содействии сенатора Бестужева в почётные члены Петербургской Академии наук был избран Вольтер. По всей видимости, ему при этом пришлось перешагнуть через себя, через свои франкофобские принципы, тем более что поклонником Вольтера он никогда не был. Но с Вольтером переписывалась сама «мать отечества», так что старику нужно было проявить гибкость. Впрочем, когда встал вопрос о том, чтобы поручить Вольтеру написать историю Петра Великого, Бестужев воспротивился и сказал, что гораздо лучше эту работу поручить Петербургской Академии наук.
За два года до смерти Бестужев-Рюмин на свои деньги соорудил в Москве у Арбатских ворот храм во имя Святых Бориса и Глеба. Оказывал он также покровительство — вероятно, под влиянием супруги — лютеранской церкви Святых Петра и Павла в Петербурге. Несмотря на старость, он сохранял находчивость и остроумие и никогда не лез в карман за словом. Когда клир Казанского собора просил разрешения присоединить к себе находившийся по соседству храм Св. Петра и Павла, то для пущей убедительности священники стали уверять графа Алексея Петровича, что им явилась Богородица и плакала, жалуясь на оскорбительное для неё соседство лютеранской церкви. Бестужев приказал вернуться им за решением через три дня. Когда святые отцы появились у него снова, он безапелляционно заявил им, что к нему за эти три дня тоже явилась Богородица, которая передумала и присоединять протестантскую церковь Св. Петра и Павла к Казанскому собору больше не желала. Богородица, согласно рассказу Бестужева, обосновала своё последнее решение тем, что церковь была построена не по православному принципу — с востока на запад, а с севера на юг. Так он сохранил в целости и сохранности опекаемый им лютеранский храм.
Кончину свою Бестужев заранее увековечил медалью. Её лицевая сторона повторяла рисунок медали, изготовленной им в 1747 году, только на обратной стороне её был изображён катафалк между четырьмя пальмами, на нём — урна с гербом графов Бестужевых-Рюминых, по обеим сторонам аллегорические фигуры: слева — постоянство, опирающееся на колонну и венчающее урну лаврами, справа — вера с крестом в руке, возлагающая на урну пальмовую ветвь, а сверху надпись: tertio triumphat — третий одержал победу.
ОТЕЦ И СЫН
Последние годы Бестужева были омрачены его взаимоотношениями с сыном Андреем (? — 1768), который отличался на редкость взбалмошным и буйным нравом, усугублявшимся беспробудным пьянством. При этом Андрей Алексеевич оказался неспособным к какой-либо служебной деятельности, несмотря на то, что отец усиленно продвигал его по дипломатической и придворной линии, а Елизавета Петровна и Екатерина II жаловали его вниманием и чинами. Петербургское общество и высшие сановники воспринимали графа Андрея довольно критически. Между тем личность его сильно занимала всех, поскольку ему предстояло стать наследником всего богатства бывшего великого канцлера.
Воспитатель великого князя Павла Петровича С.А. Порошин в своих «Записках» писал:
«Приходили ему (то есть великому князю. —
Б. Г.) раза три сказывать, что граф Андрей Алексеевич пришёл: не изволит ли Его Высочество выйдтить? Государь цесаревич очень недоволен был сим посещением и говорил: “Что мне с этим дураком делать: ни по-русски, ни по-французски не умеет, да хоть бы умел, о чём с ним говорить станешь?” Вышел наконец Его Высочество и на гостя очень изволил смотреть косо». Далее Порошин пишет, что Павел подошёл к своему учителю Н.И. Панину и, не стесняясь, достаточно громко прошептал ему на ухо по-французски: смотрите, мол, на этого дурака.
Как бы то ни было, Никита Иванович, вероятно, в уважение своего бывшего начальника, иногда принимал у себя его непутёвого сына, что отмечает Порошин в «Записках» за 7 декабря 1764 года:
«Из сторонних у нас обедал только граф Андрей Алексеевич Бестужев. Его превосходительство Никита Иванович разговаривал с ним о доме их, в котором, по рассказам графа Андрея Алексеевича, человек с полтораста людей и великое в том числе множество всякого звания мастеровых. Ещё говорили о Каменном острове и о деревне графа Бестужева, что на Каменном носу, которая тысячи три в год доходу ему приносит, не считая дров и сена…» По-видимому, граф Андрей был приглашён Паниным специально, чтобы получить более подробное представление о недвижимости, которая приглянулась его ученику великому князю Павлу Петровичу.
О воспитании Андрея Алексеевича сведений не сохранилось, известно только, что он был баловнем матери графини Анны Ивановны, и что он с малых лет доставлял родителям много хлопот. Пристрастие к вину, по предположениям современников, он унаследовал от отца, что весьма сомнительно. Алексей Петрович пил, но не спивался и дело разумел куда лучше непьющих. В доме, где пьют, не обязательно, чтобы дети вырастали пьяницами. А вот некоторые черты характера отца к графу Андрею перешли — правда, в довольно гипертрофированном виде: склочность, высокомерие, склонность к розыгрышу, вспыльчивость.
Как бы то ни было, Бестужев, став канцлером, ещё в 1744 году стал проявлять заботу о служебной карьере сына. Он помог ему в том же году стать камер-юнкером при дворе великой княгини Екатерины, а потом послал его к брату Михаилу Петровичу, который был полномочным министром при дворе короля Польши и курфюрста Саксонии Августа III. Андрей Алексеевич, послужив два года «дворянином» при русской миссии в Саксонии, стал в 1746 году камергером.
Казалось, что впереди его ожидали завидное будущее и счастливая жизнь. Но всё сложилось как нельзя хуже, и виной тому стали дурной характер и дурные наклонности молодого графа. Во-первых, не складывалась у него личная жизнь. Алексей Петрович пытался упрочить положение сына блестящей женитьбой на юной Авдотье Даниловне Разумовской, племяннице обер-егермейстера императорского двора А.Г. Разумовского. Однако заключённый Андреем Алексеевичем 22 февраля (по другим данным, 5 мая) 1747 года брак с ней длился всего 2 года и способствовал скорее упрочению положения самого канцлера. Саксонский резидент Петцольд в своей депеше в Дрезден сообщал:
«Хотя Бестужевы так недавно женились, однако у них уже не раз бывали домашние ссоры. Молодая графиня не раз грозила пожаловаться государыне и обер-егермейстеру, обещаясь обратить своё замужество к унижению великого канцлера и его семейства во столько же, во сколько оно до сих пор служило к их возвышению».
В конце 1747 года молодые супруги были посланы в Вену с поздравлениями по поводу рождения эрцгерцога Леопольда. Венский двор тепло их принял, но в поездке Андрей Алексеевич дал волю своему расточительству, дорого стоившему отцу. Это дало повод к новым ссорам между супругами и, по утверждению историка семьи Разумовских А.А. Васильчикова, граф скоро вогнал Авдотью Даниловну в гроб. Она скончалась 14 мая 1749 года, и вдовец с горя ударился в пьянство и дебоши. Не помогло и вмешательство Елизаветы, посылавшей в дом к Бестужеву барона Миниха-младшего, чтобы урезонить буяна, а потом ещё издавшей специальный именной указ по этому поводу.
После смерти супруги Андрей Алексеевич был назначен комендантом в Нарву, но и здесь он не замедлил проявить свой буйный нрав и «задор»: злоупотреблял самоуправством, бранил людей непотребными словами, грозился высечь чиновников кнутом, а с людьми нечиновными вообще не чванился и бил их по щекам, наказывал палками, сёк нещадно, уводил чужих жён.
После падения в 1757 году канцлера сын его последовал вслед за ним в ссылку в Горетово, и там, в деревне, дурные наклонности младшего Бестужева получили дальнейшее развитие. Кроме увлечения хиромантией и прочими, по выражению отца, «суеверствами», он нашёл себе товарища по кутежам в лице караульного офицера, приставленного к отцу, «предался великому пьянству». Он постоянно ссорился с Алексеем Петровичем, прилюдно обзывал его изменником и государственным преступником, оскорблял память матери, науськивал слуг против отца, так что тот был вынужден обратиться с жалобой к духовнику Елизаветы Петровны Ф.Я. Дубянскому. Жалоба возымела действие, императрица приказала сменить караульного офицера, а касательно самого молодого Бестужева Тайная канцелярия предписала
«смирить его в чинимых им беспокойствах по воле родительской». Как был наказан пьяница и дебошир, история умалчивает, но, кажется, нужных выводов он для себя не сделал.
«Но и тут немного ж времени прошло, как ты опять не токмо за пущее пьянство и горшие… отважнейшие мне оскорбления, но и за самую явную против меня злобу взялся», — писал Алексей Петрович сыну уже в 1765 году.
«Злоба» и
«горшие оскорбления», о которых упоминал Бестужев-отец, состояли не только в побоях отца, но и возведении на него клеветы и в попытках присвоить права на его недвижимое имущество.
После снятия Екатериной II опалы с Алексея Петровича сын решил примириться с отцом и попросил у него прощения, и Алексей Петрович возобновил о нём свои попечения. По его просьбе Екатерина «утешила» графа Андрея, который уже имел чин генерал-поручика, действительным камергером и кавалером орденов Святых Александра Невского и Анны, и в 1762 году присвоила ему высокий чин действительного тайного советника.
Но и после этого Андрей Алексеевич не успокоился и продолжал испытывать терпение отца. Он прогневал его в очередной раз и в очередной раз попросил у него прощения, о чём свидетельствует его письмо от 6 февраля 1763 года, писанное из Москвы.
«Милостивый государь родитель! Бог сам да будет мне судья здесь и на оном свете,
если я когда-либо с умыслу искал вас оскорблять, а потому нижайше и со слезами прошу о прощении», — начинает он письмо, а затем сообщает, что поскольку сам он припасть к ногам родителя не может, то посылает ходатая — Лукьяна Ивановича Камынина, племянника Алексея Петровича.
Бедный старик растрогался и простил единственного сына, который в письме от 9 февраля 1763 года благодарил отца и клялся вести себя подобающим образом и во всём слушаться родителя. В противном случае он был готов отдать себя на полную родительскую волю и снести от отца любое наказание, которое тот только придумает. Естественно, слова своего Андрей Алексеевич не сдержал и занялся своим обычным делом — дебоширить, пьянствовать, клеветать на отца, оскорблять людей, драться со слугами и людьми ниже себя по званию.
Сохранилось ещё одно его покаянное письмо отцу, от 19 марта 1765 года, в котором он, отвечая на письмо Алексея Петровича от 9 марта,
«последнее крепкое на письме увещание», перечисляет и
«с крайним сокрушением сердца, к собственному стыду» признаёт все свои прегрешения, допущенные
«по вкоренившейся… слабости к пьянству» — неповиновение родителям, игнорирование указов императрицы, пьянство, презрение увещеваний духовника, избиение слуг родителя, ночной скандал со слугой Алексея Петровича Иваном Белым перед спальней отца и др., — и обещает… исправиться.
Но сын был уже не в состоянии разжалобить отца. Об этом свидетельствует упомянутое выше письмо Алексея Петровича от 31 августа 1765 года, написанное в увещевательном тоне, но, по-видимому, без всякой веры в исправление сына. Длиннющее письмо это было вручено Андрею Алексеевичу под расписку и вводит нас в тайны семейных отношений бывшего канцлера
[106].
В первой части письма Алексей Петрович, напоминая сыну все его прежние неблаговидные поступки, перечисляет и все свои финансовые издержки, которые он претерпел «благодаря» своему сыну. Если верить ему, а не верить у нас нет оснований, потому что и сам обвиняемый признаёт это, то сумма их зашкаливает за несколько сотен тысяч рублей. Все семейные драгоценности Андрей Алексеевич раздал, заложил и пропил — взять хотя бы для примера осыпанный бриллиантами перстень с портретом матери, который он подарил Ивану Белому.
Отец заявляет, что приостанавливает выплату оставшихся долгов на сумму более 10 тысяч рублей, но приветствует решение сына «остепениться» и жениться во второй раз.
«На сие твоё объявленное намерение столь приятнее было мне согласоваться, что ты у меня, каков ни есть, один», — горестно признаётся Бестужев, —
«и что мне натурально желательно тебя на путь истинный обращенным… видеть». Находясь в преклонных летах, отец хотел бы утешиться надеждой, что выслуженное графское достоинство не кончится на сыне и что он, вступив в брак, родит себе наследника.
Однако и тут, с горечью отмечает Бестужев-отец, граф Андрей не внял никаким увещеваниям и снова принялся за старое. Приехав сразу после сговора с Долгоруковой в дом к адмиралу Ивану Лукьяновичу Талызину, к кузену Алексея Петровича, чтобы позвать его на обед, граф Андрей,
«сверх разных шалостей и бесчинств, о которых и сказать неприлично», умудрился самым жесточайшим образом оскорбить его супругу, за что по приказу хозяина был сброшен с лестницы и «выбит» из дома. На другом обеде он стал обливать столы и полы вином, потом оскорбил тётку невесты Анну Сергеевну, потом обругал её брата, а в заключение обеда стал выгонять из дома отца его племянницу Маргарету Родионовну Волконскую.
«Шалости» сына этим не ограничились. Он наврал Анне Сергеевне, что отец специально удерживает его при себе и не отпускает к невесте и что он его спаивает, подставляя ему для этого майора Беттигера, племянника умершей матери и генерала Веймарна. Эта наглая ложь, возведённая на него, на достойного уважения Беттигера и на известного своей трезвостью Веймарна несказанно оскорбила Алексея Петровича, тем более что для посещения невесты он выделил сыну и лошадей, которые им были загнаны, и кареты, которые сын своей ездой привёл в полную негодность. (Кстати, Веймарн был старым испытанным приятелем Алексея Петровича: это он в качестве генерал-квартирмейстера в 1757 году играл роль передаточного звена в переписке Бестужева с фельдмаршалом Апраксиным.)
Старик был буквально убит этой выходкой и другими непристойными поступками сына и пишет, что больше терпеть их не намерен и
«на всякий случай я тебя в сём твоём против меня злом поползновении родительским… проклятием заклинаю». Он имел все основания подать на сына жалобу императрице, но сдержал себя ввиду предстоящего его бракосочетания. А пока он предлагает сыну «разойтись»: он отлучает его от своего дома, предлагает завести свой и выделяет ему на будущее часть движимого и недвижимого имущества.
Далее идёт перечисление того, что отец жалует сыну в связи с женитьбой: денежное содержание ему и жене в сумме 3000 рублей в год, родословные Пошехонские вотчины (кроме конного завода) с 1096 душами и годовым доходом около 3500 рублей, столовое серебро и сервизы из саксонского фарфора (подарок польско-саксонского короля и курфюрста), камердинера Калмыка, 6 лакеев в ливрее, 3 истопников и, «буде понадобятся» — 3 прачек. Кроме того, он предоставляет в его распоряжение приказчика Таланова с семьёй, 3 кареты с 14 лошадьми при двух кучерах и двух форейторах в ливреях с их семьями, двух поваров и ученика повара с семьями, мебель, гобелены, постельное бельё, а для жены — 1 фарфоровый и 1 позолоченный туалетный прибор и серебряную с позолотой чернильницу.
Как мы видим, на «приданое» для сына Алексей Петрович не поскупился, хотя, конечно, при нормальных условиях раздела сын мог рассчитывать на большее. Итак, бывший великий канцлер в последний раз предлагает сыну «вспомнить Бога» и жить прилично чину и званию. Письмо заканчивается пожеланиями сыну всяческого благополучия в браке и вообще в жизни и приглашениями будущих супругов к себе в гости. Но видеть сына Алексей Петрович желал непременно в обществе жены.
В расписке, составленной 2 сентября пред полуднем, о получении отцовского письма граф Андрей пишет, что разделом имущества доволен и выражает отцу благодарность.
После обручения с княжной Долгорукой, которое 5 июня 1765 года императрица на очередном куртаге свершила лично, 19 октября 1765 года состоялась свадьба. Но уже через год супруги развелись: граф Андрей обращался с ней грубо и жестоко, и после развода Анна Петровна удалилась к своим родителям.
Порошин в своих записках за декабрь 1765 года отмечает:
«Разговаривали о графе Андрее Алексеевиче Бестужеве, который недавно женился на княжне Долгоруковой. 24-го числа нынешнего месяца обобрал он её и сбил её со двора. Велено к нему приставить гвардии офицера с солдатами и отдать его отцу в полную диспозицию».
Разгневанный Алексей Петрович распорядился на сей раз круто: он попросил императрицу лишить сына чинов и орденов и сослать его в Свирский Александровский монастырь. Сначала императрица не сочла проступки Андрея Бестужева слишком тяжёлыми, чтобы помещать его в монастырь, но потом вняла просьбам отца, и граф Андрей Алексеевич всё-таки очутился в монастыре. Письмом от 31 января 1766 года Екатерина просила митрополита Новгородского Дмитрия Сеченова
«дать повеление архимандриту того монастыря, чтоб он, Бестужева туда приняв, содержал по предписанию отцовскому, под началом до тех пор, доколе нового повеления о свободе его не последует».
Андрей Алексеевич просидел в монастыре до мая 1766 года, а потом был освобождён с предписанием жить
«смирно и допропорядочно, где пожелает, кроме своих деревень». Свобода, вероятно, последовала согласно предсмертному указанию отца, тихо скончавшегося 10 апреля того же года. Отец намеревался лишить сына наследства, но не успел. Над имением и недвижимым имуществом бывшего великого канцлера — при жизни он был владельцем нескольких деревень в разных губерниях империи и 4225 крепостных душ, — по просьбе племянников была учреждена опека
«за развратною и неистовою жизнью графа Андрея». Половину доходов граф Андрей с имущества отца всё-таки получил, а половина пошла на уплату его долгов. Распоряжаться наследством граф Андрей, однако, не мог, над ним было учреждено попечительство, и попечители выдавали ему на руки по 3 тысячи рублей в год.
Умер граф Андрей в 1768 году бездетным в Ревеле. С ним прекратился род Бестужевых-Рюминых, потому что и у его дяди, Михаила Петровича, детей не было. Как писал историк Бюшинг,
«он оставил в 1768 году мир, для которого был бесполезен».
Об обстоятельствах смерти самого великого канцлера или о его похоронах никто из современников воспоминаний не оставил. По всей видимости, он скончался тихо в своём доме и тихо, по-домашнему, был предан земле.
М.М. Щербатов писал о том, как несправедливо Екатерина II обошлась со своим другом, оказавшим ей в своё время бесценные услуги:
«…Граф Алексей Петрович Бестужев, спомоществующий ей, когда она была великою княгинею, во всех ея намерениях и претерпевший за неё несчастие, при конце жизни своей всей её поверенности лишился, и после смерти его она его бранила».
ЛИЧНОСТЬ БЕСТУЖЕВА-РЮМИНА
Посол Великобритании при дворе Екатерины II Д. Бэкингхэмшир дал нашему герою такую беспощадную характеристику:
«Вначале он обладал довольно живым темпераментом, а благодаря положительному опыту приобрёл общее знакомство с европейскими делами. Хотя он до крайности распутен, бесстыден, лжив и корыстолюбив, однако преобладающей его страстью является стремление передать своё имя потомству. Это побуждает его рисковать в последние дни жизни навлечением на себя новой опалы и тратить остатки своего существования на слабую борьбу с целью приобресть положение, которого он, за физической и умственной дряхлостью занимать не может».
Современный русский историк Е. Анисимов пишет:
«Нет сомнений —
канцлер был продажен, брал взятки ото всех держав, но, тем не менее, держался раз и навсегда принятой ещё при Петре Великом дипломатической доктрины —
ориентироваться в политике на те государства, с которыми у России общие долговременные имперские интересы».
Сокрушительно-негативную характеристику даёт Бестужеву-Рюмину Валишевский:
«В России в политике Бестужева усмотрели в качестве руководящей нити национальную идею, глубокое понимание истинных интересов и естественных судеб страны. Вышеприведенные факты достаточно ярко показывают шаткость этого тезиса… Бестужев имел за собой то преимущество, что был или казался русским в ту минуту, когда естественная реакция вооружала народные чувства против иностранцев; кроме того, у него не было ни серьёзного соперника, ни преемника… Цинически развратный, корыстный под покровом невозмутимого и безукоризненного внешнего достоинства, он не приобрёл личной благосклонности Елизаветы, но зато завоевал симпатии среды, где под ярлыком национализма снисходительный режим поощрял развитие некоторых пороков, и в нынешнее время считающихся национальными, тогда как они являются лишь историческим пережитком совокупности чуждых русскому духу влияний».
Поляк К. Валишевский не одинок в своём негативном отношении к А.П. Бестужеву-Рюмину. Русские историки и эксперты тоже относились к великому канцлеру довольно негативно. Со скрытой неприязнью относился к нему и всегда тактичный и осторожный в выводах С.М. Соловьёв. Современный русский историк Н.И. Павленко тоже считает Бестужева-Рюмина личностью
«весьма сомнительных нравственных качеств». И.В. Курукин называет его
«опытным и волевым интриганом и карьеристом». Впрочем, князь М.М. Щербатов, наряду с негативными, наделяет нашего героя и позитивными качествами:
«Человек умной, через долгую привычку искусный в политических делах, любитель государственной пользы, но пронырлив, зол и мстителен, сластолюбив, роскошен и собственно имеющий страсть к пьянству».
Как мы уже убедились из предыдущего изложения, личность А.П. Бестужева-Рюмина была довольно противоречивой. Это не был целостный и монолитный характер, а натура, подверженная настроениям, раздираемая страстями и не всегда руководимая высокими идеалами. Возможно, он не нуждался бы вовсе в нашей защите, если бы на описаниях его личности не было бы всего того наносного и ложного, что накопилось за годы после его смерти. Не претендуя на истину в последней инстанции, мы только попытаемся высказать здесь к этому своё отношение и взглянуть на него с расстояния в 250 лет.
Современник великого канцлера Манштейн характеризовал его как человека «ума разборчивого», весьма образованного, опытного в государственных делах, чрезвычайно трудолюбивого, гордого, хитрого, мстительного, неблагодарного и невоздержанного в жизни. Думается, он был ближе всех, кто знал Бестужева, к истине.
Нам кажется, что для такого рода суждения главную роль играет вопрос: можно ли человека, имеющего личностные недостатки, считать выдающимся, если он сослужил своей стране и народу большую и полезную службу? Крупный историк Н.Г. Устрялов, не углубляясь в вопросы морали и этики, на этот вопрос отвечает положительно. Он рассматривает Бестужева-Рюмина исключительно как государственного деятеля и даёт его деятельности весьма лестную оценку. Он говорит, что Бестужев-Рюмин с искусством управлял внешней политикой России:
«Бестужев, соединяя с подробным знанием всего хода политики смелость, решительность и зрелое искусство дипломата, думал, что для России настало, наконец, время занять в системе европейских держав почётное место… и доставил своей государыне славу первого деятельного участия в делах европейских».
Эти слова известного русского историка и поныне не потеряли свою актуальность: России до сих пор отказывают в равноправном участии в европейских делах. Историк между тем напоминает нам, что
«Бестужев поставил Россию в такое положение, что западные венценосцы с величайшим старанием, наперебой друг перед другом, искали дружбы Елизаветы».
И далее:
«Слава улучшений в устройстве внутреннем принадлежит наиболее Шуваловым… честь искусных действий на поприще дипломатии —
Бестужеву-Рюмину».
В то же время, характеризуя графа М.И. Воронцова, сменившего Бестужева на посту канцлера, Николай Герасимович пишет:
«Уступая предшественнику в образовании и искусстве дипломатическом, он превосходил его честностью и благородством характера». Если вспомнить, как предательски по отношению к своей стране вёл себя вице-канцлер Воронцов, передавая прусскому послу накануне Семилетней войны важные секретные сведения, и если вспомнить характеристику, данную Воронцову Екатериной II выше («Лицемер, не имеющий себе подобных»), поневоле возникает вопрос: в чём же Михаил Илларионович был честнее и благороднее Алексея Петровича? Нет, тут с Николаем Герасимовичем согласиться нам трудно.
Казимир Валишевский, давший нашему герою в основном негативную оценку, вместе с тем тоже нехотя, признавал:
«Он, безусловно, не был лишён некоторых личных дарований, из тех, что приносят счастье большинству авантюристов; он действовал с помощью тонкой хитрости и грубого нахальства, невозмутимого спокойствия и безошибочного инстинкта внешнего декорума, соединяя их с величавостью, которую он сумел сохранить в самых унизительных положениях, и которым он вводил в заблуждение не только Елизавету, но и всю Европу. Он властным тоном требовал субсидий России и принимал взятки с таким видом, будто оказывал этим великую честь».
В этой характеристике ярко проступают и недооценка Валишевским уровня духовного развития России к моменту правления Елизаветы Петровны, и предвзятое его мнение по отношению к Бестужеву. Если же попытаться пересказать отмеченные Валишевским недостатки, присущие Бестужеву-Рюмину, в нейтральной тональности, то получим, что канцлер для достижения своих целей использовал целый арсенал средств: и почти безошибочный инстинкт человека, умевшего при необходимости рисковать, и гибкий подход, и умение настоящего дипломата применяться к партнёру и собеседнику, и использовать, где и когда нужно, блеф и тонкое мастерство актёра. Так поступали тогда все европейские дипломаты, и Бестужев, несомненно, перенял их нравы и манеры и успешно применил их на русской почве. Да иначе он не мог выжить при дворе Елизаветы.
А британский посол Бэкингхэмшир мог бы вообще попридержать при себе своё мнение о Бестужеве: уж по части хитрости, бесстыдной лжи и лицемерия английские дипломаты были большие мастера. А вот когда партнёры отвечают им той же монетой, они обижаются и надевают на себя тогу целомудрия. Да и вообще: были ли во времена Валишевского или после него дипломаты с безупречной репутацией? Может быть, князь Меттерних блистал честностью и высокими моральными качествами? Или херр Бюлов, сэры Грэй, Даллес, Идеи и иже с ними? Да и сегодня можем ли мы сказать, что, к примеру, американская или английская дипломатия не прибегают к блефу, дезинформации и лжи?
В 1749 году канцлер пишет длинное письмо посланнику Корфу в Копенгагене о том, как следовало бы тому обходиться с министром иностранных дел Дании Шулином. Профранцузски настроенный датчанин пытается увильнуть от принятых вместе с Россией обязательств по сохранению конституционного порядка в Швеции и объясняет свою позицию тем, что такие обязательства якобы могли бы возбудить в других странах зависть и подозрение, что пошло бы лишь во вред делу стабильности в Скандинавии.
Корф недоумевает над такой формулировкой, а Бестужев терпеливо и пространно объясняет ему, что это его нисколько не удивляет, поскольку профранцузские взгляды Шулина он знал, когда ещё был посланником Анны Иоанновны в Дании. Шулин коварен и хитёр, пишет Бестужев, а потому с ним нужно держать ухо востро.
«Я слышал также помощию некоей посторонней переписки, — несколько загадочно сообщает он Корфу, —
что ваше превосходительство изволили у некоторых тамошних ваших приятелей называть г. Шулина пенсионером Франции». И по-отечески предупреждает посланника от возможного скандала:
«Ваше превосходительство можете легко себе представить, что если сие дойдёт до ушей г. Шулина, то он, спасая честь свою, подговорив двух свидетелей, потребует от вас отчёта». Поскольку доказать истинность своего утверждения Корф не сможет, то Шулин может за диффамацию потребовать отзыва посланника домой, что в своё время с Корфом проделал шведский министр граф Тессин. И заключение: чтобы не настроить Шулина антирусски, Бестужев советует Корфу быть гибче и по возможности уступить в чём-то непринципиальном, дабы
«не привести оба двора в расстройку».
В этом эпизоде мы видим и осведомлённость канцлера в датских делах, стоящих далеко не на первом плане в Иностранной колллегии, и мудрый, государственный трезвый подход к делу, и мягкая, не оскорбляющая достоинство Корфа начальственная назидательность. Разве так действуют авантюристы?
Или затронем больной вопрос о мздоимстве. Как известно, Бестужев-Рюмин на всю жизнь сохранил тёплые чувства к Бирону. Когда Курляндия осталась без герцога, канцлер неоднократно ходатайствовал перед императрицей о возвращении Бирона в Митаву. Этим самым Россия освободилась бы от критики Европы об узурпации герцогства и укрепила бы свой авторитет в Балтийском регионе. Лояльность Бирона Бестужев предлагал контролировать взятием его сыновей на русскую службу (что, кстати, предлагал сам Бирон), но Елизавета категорически отказывалась от этой идеи.
И тем примечательней, что когда в 1749 году к Бестужеву обратился граф Гуровский, представлявший интересы Морица Саксонского, с просьбой за 25 тысяч червонцев поддержать кандидатуру Морица на пустующее место курляндского герцога, канцлер деньги не взял, хотя легко мог это сделать. Государственные интересы в данном случае перевесили, о чём Алексей Петрович писал фавориту графу Разумовскому:
«Но я весьма верный её императорского величества раб и сын отечества у чтоб я помыслить мог и против будущих интересов её и государства малейше поступить».
Далее Валишевский пишет, что предание
«относительно его дарований государственного человека, по крайней мере в России, стоит в полном противоречии с целой совокупностью столь согласных между собой документальных данных, что у историка на этот счёт не остаётся никаких сомнений… Этот ложный великий человек не обладает… никакими данными, кроме удачи, обусловленной внешними обстоятельствами, благоприятствовавшими ему, которые позволяли бы ему стоять в первом ряду среди людей не с ярлыком великого негодяя».
Заметим, что удача не так уж часто баловала Бестужева и на дипломатическом поприще, и в жизни вообще, а скорее наоборот. Взять хотя бы шведские дела, в которых русской дипломатии редко удавались крупные победы и удачи. Внешняя политика вообще определяется чаще всего обстоятельствами, не зависящими от министра иностранных дел. Удача удачей, но Россия в течение 15 лет вполне уверенно действовала в «концерте» европейских государств, причём в довольно неспокойное и чреватое всякими опасностями время. Во главе внешней политики Российской империи стоял в этот период А.П. Бестужев-Рюмин.
Интересный эпизод, характеризующий Бестужева с совершенно неожиданной стороны, приводит Соловьёв. Чтобы провести графа Брахе на пост лантмаршала (президента или спикера) шведского парламента — риксдага, посол России в Швеции Н.И. Панин в 1755 году на подкуп его депутатов запросил у Петербурга от 20 до 30 тысяч рублей. Панин, при вступлении в должность считавший использование денежных подкупов бессмысленным делом, по всей вероятности, успел за прошедшие 5 лет «ошведиться» и забыл про свои принципы пятилетней давности.
Петербург ему их быстро напомнил. Ответ канцлера на реляцию посла был подобен холодному душу. При этом Бестужев подчёркивал, что его письмо следует рассматривать как частное и дружеское, потому что над составлением официального ответа Иностранная коллегия ещё должна была потрудиться. В Петербурге, писал канцлер, никто и слышать не хочет о том, чтобы выдать Панину запрашиваемую им сумму, так что он просто не в состоянии что-либо сделать по этому поводу. В этой ситуации, по мнению Бестужева, остаётся только
«предавать шведов их собственному жребию, довольствуясь одними безубыточными случаями вселять между ними… недоверенность и несогласие; образ их правительства сам то по большей части… делает; а что до посторонних денег принадлежит, то… пример неоднократных издержек… показует, что сколько нам волка ни кормить, он в лес убежит; …и какие бы мы великие суммы ни истощили, Франция с половинными издержками всегда больше нашего сделает…». Избрание графа Брахе, продолжает канцлер, ничего существенного для России не изменит, потому что он — швед и будет ничем не лучше предыдущего лантмаршала Унгерн-Штернберга, который, получив от русских мзду, лишь только вредил России. Таким же шведом, по мнению канцлера, был и посланник Швеции в Петербурге граф Поссе, который
«сколько наружность ни наблюдает, есть однако же внутренно клятвенный мне и вам злодей, хотя к тому другой причины и не имеет, как только что он родился швед да таким и жизнь свою скончает».
Утверждать, что бессменный руководитель внешнеполитического курса России в 1742—1758 гг. не соответствовал своему посту, было бы, с нашей точки зрения, довольно безответственно и легковесно. Лучшим доказательством того, что Бестужев-Рюмин был успешным русским политиком и дипломатом, выступавшим за утверждение национальных интересов страны, являются то уважение к России со стороны европейских держав, тот страх, та неприязнь и огульная критика, с которой обрушивались на него все эти годы из европейских столиц. Вот Карл Нессельроде не снискал к себе в Европе такого негативного отношения, а что он сделал для России и что он оставил после своего 40-летнего нахождения у руля внешней политики страны?
Сейчас мало кому понятно, при каких раболепных и унизительных обстоятельствах действовали в абсолютистской России все её подданные, включая канцлеров и министров. После смерти Петра вплоть до пришествия на трон Екатерины II у кормила государственной власти не было ни одного монарха, который бы терпеливо и заинтересованно вникал во внешние дела страны. Как мы уже упоминали выше, Елизавета Петровна, с которой пришлось все эти годы работать Бестужеву, временами испытывала чуть ли не патологическую неприязнь к государственным делам, предпочитая им всякие развлечения, а между тем без подписи государыни не мог действовать ни один министр, ни один сенатор.
Бестужев, чтобы заинтересовать императрицу внешними делами, нашёл к ней верный подход — ссылаться на заветы Петра I. Он и систему свою называл системой Петра Великого.
«Это не моя политика, а политика вашего великого отца», — часто говорил он. Когда ему нужно было добиться от неё нужного решения, он буквально заваливал её кипой бумаг — нот, меморандумов, протоколов, вызывая у неё полное отвращение к делу.
«Вот она какова, политика!» — произносила она в отчаянии и просила изложить дело вкратце. Тогда Бестужев делал ей такой путаный доклад, что она, ничего в нём не поняв, махала в отчаянии рукой и говорила:
«Делайте, как хотите» и подписывала бумаги, не заглядывая в их содержание, за исключением документов об объявлении войны или о вынесении смертного приговора. В первом случае она откладывала решение до зрелого и всестороннего обсуждения, а во втором — отказывала вообще.
Канцлеру приписывали и другие трюки и хитрости, выражавшиеся в том, что он якобы в беседах с иностранными посланниками симулировал заикание или приказывал своим помощникам писать неразборчивые ноты, чтобы потом иметь возможность их исправить или дополнить. Мардефельд отмечает, что Бестужев часто ссылался на свою плохую память, в то время как она у него работала прекрасно. Под этим предлогом он часто просил устные представления изложить в письменном виде. На наш взгляд, это был отличный способ сбить спесь с прусского посланника, ненавидевшего всеми фибрами своей души русского канцлера, и собраться с мыслями для ответа.
Прусский посланник также утверждает, что Бестужев был архитрусом и для придания смелости часто выпивал перед беседой несколько рюмок вина. И тут мы не согласимся с А. Мардефельдом. Бестужев не был трусом — в пользу этого свидетельствует хотя бы то, как он переносил свои аресты, ссылки и наказания. А вино он пил, по всей видимости, как всякий русский (да и не только русский), например, для придания бодрости духа. Что касается трюков и хитростей, применяемых им в дипломатической работе, то в этом мы вообще не видим ничего дурного, а наоборот, расцениваем их как положительное качество дипломата или, по крайней мере, как вполне безвредную причуду, придававшую его характеру дополнительную привлекательность.
В 1742 году А. Мардефельд отмечал, что Бестужев был скрытен, не умея скрытничать, строил честолюбивые планы, не обладая глазомером и последовательностью. Что ж, если Мардефельд был более проницательным и дальновидным политиком и дипломатом, то это делает ему только честь. Только следует вспомнить, что если бы Бестужев был лишён упомянутых качеств, вряд ли бы он смог одолеть своих врагов и всех расставить по местам, включая того же Мардефельда.
Не исключено, что именно под воздействием реляций своих посланников в России у Фридриха II тоже сформировалось, мягко говоря, неадекватное представление о русском канцлере:
«Это был человек невысоких способностей, пало сведущий в делах, гордый по невежеству…»
Французский посланник д'Аллион писал в 1746 году о Бестужеве-Рюмине:
«Он был вознесён благодаря случаю и удержался на высоте больше интригами, чем талантом». Шетарди утверждал, что Бестужев в своё время подделывал векселя в Гамбурге. Но всё это бездоказательные выпады, принадлежавшие ярым и злобным недругам канцлера, и даже Валишевский пишет, что не склонен верить этим заявлениям.
Довольно резкие характеристики в адрес Бестужева-Рюмина высказывали и дипломаты союзных государств. Так в 1745 году единомышленник и друг Бестужева, английский посланник Хиндфорд писал, что до последнего времени Россия не дала ни одного ценного и мужественного министра, и
«императрица обладает гораздо большим мужеством и способностями, чем все её министры, вместе взятые». Возможно, в этом высказывании содержится доля правды: рабские условия не могли способствовать появлению рядом с монархами-самодурами мужественных и умеющих говорить правду министров. Карьера, да и жизнь любого прямодушного министра при Анне Иоанновне, да и при Елизавете Петровне были бы весьма и весьма скоротечны.
О смелом и, можно сказать, мужественном и одновременно рискованном поступке Бестужева свидетельствует Й.С. Петцольд, секретарь, а затем резидент миссии Саксонии (1736— 1749) в России. Дипломат докладывал в Дрезден о своём разговоре с вице-канцлером А.П. Бестужевым:
«…вице-канцлер сообщил мне: он на совете, в котором обсуждался вопрос о том, оставить ли на свободе великую княгиню (Анну Леопольдовну. —
Б. Г.) и детей её или нет, дал ответ положительный…» — мотивируя это тем, что
«спокойнее и безопаснее будет, когда семейство выедет за границу, чем когда оно остаётся в пределах России. Таким образом, он с помощью восьми других лиц, бывшего одинакового с ним убеждения, отклонил ещё некоторые насильственные меры…». Чтобы подать такое мнение Елизавете, тоже нужно было иметь мужество.
Бестужев в
беседе с саксонцем давал понять, что за вариантом содержания брауншвейгского семейства в русских тюрьмах стояли Шетарди и Лесток, оказывавшие на Елизавету Петровну сильное влияние. Аналогичного мнения придерживался и прусский король Фридрих II, которому в этот момент нужно было усилить неприязнь между петербургским и венским дворами. Однако когда английский посланник в России (1742—1744) Сирилл Уич (Вейч) попытался через Бестужева передать Антону-Ульриху письма от его брата герцога Карла Брауншвейгского, вице-канцлер категорически отказался их принять, справедливо опасаясь гнева императрицы.
За благосклонным отношением канцлера к Брауншвейгскому семейству, пишет Валишевский, скрывались его расчёты добиться дополнительного «кредита» со стороны Елизаветы Петровны. Получив от посланника в Стокгольме Панина сообщение о готовящемся в Петербурге заговоре в пользу Ивана Антоновича
[107], Бестужев планировал обвинить в этом заговоре Фридриха II и организовать утечку об этом заговоре со стороны Вены. Елизавета Петровна считала бы тогда императрицу Марию-Терезию своей спасительницей, а Бестужев мог бы легко уговорить её согласиться с некоторыми мерами по сближению с Австрией.
Что ж, такие расчёты Бестужев мог иметь, но ведь их конечной целью был не кредит доверия у императрицы, а государственный интерес — смягчение напряжённости в отношениях с союзницей России. Как бы то ни было, Бестужев ещё раз соприкоснулся с судьбой Брауншвейгского семейства. После похорон Анны Леопольдовны 21 марта 1746 года он уже на следующий день известил об этом её отца Карла Леопольда Мекленбургского. Он сообщил, что его дочь похоронена рядом с могилой матери Екатерины Ивановны. О том, что у Анны Леопольдовны перед смертью родился ещё один сын, канцлер умолчал — он выполнял волю Елизаветы Петровны.
Соловьёв упоминает о реакции Бестужева на приговор, который получили Остерман, Миних и некоторые другие лица, «запятнавшие» себя верным служением режиму Анны Леопольдовны. Сам Бестужев, приговорённый к четвертованию и переживший ужасные минуты, в беседе с Петцольдом проявил сочувствие к указанным лицам и надеялся, что Елизавета Петровна проявит к ним милосердие. Бестужев, как бы оправдываясь перед собеседником, сообщил, что на смертной казни Остерману и Миниху настояли канцлер Черкасский и генерал-прокурор Трубецкой.
Австрийский дипломат барон Й.Ф. фон Претлак (Бретлах) говорит о
«природном недостатке ума у этого министра», а его коллега граф Бернес заметил, что
«желая всё делать сам, канцлер в то же время не отказывался от своих удовольствий, предаваясь с некоторых пор не только страсти к чревоугодию, но и к игре, за которой он проводит многие дни и целые ночи напролёт». Трудно поверить в рассуждения барона Претлака об умственных способностях Бестужева, а вот в картишки наш герой последнее время действительно частенько поигрывал, причём превратился в настоящего картёжника, проигрывавшего иногда крупные суммы. Канцлер не был лишён человеческих слабостей и пороков, и тут ничего убавить или прибавить нельзя.
Кажется, наиболее адекватную оценку от своих современников наш герой получил из уст Екатерины Великой:
«Он внушал к себе гораздо больше страха, нежели привязанности, был до чрезвычайности пронырлив и подозрителен, твёрд и непоколебим в своих мнениях, довольно жесток с подчинёнными, враг непримиримый, но друг друзей своих, которых не покидал, пока они сами не изменяли ему, в прочем неуживчив и во многих случаях мелочен… а характером своим неизмеримо превышал дипломатов царской передни… его трудно было водить за нос».
Бестужев часто получал реприманд от Елизаветы за невоздержание в приёме пищи во время постов (сама императрица строго придерживалась постов и критиковала своих вельмож за их нарушение). В результате ему так надоела рекомендованная церковью диета, что он был вынужден обратиться к Константинопольскому патриарху за специальным разрешением не есть грибных блюд.
Бернес, бывший свидетелем семейных ссор в доме канцлера, утверждает, что его сын Андрей покинул дом родителей из-за нездоровой развратной обстановки. Как видно из воспоминаний Бернеса, имелись в виду пьянство Алексея Петровича и игра в карты. Согласно Бернесу, супруга канцлера Анна Ивановна выступала в этих ссорах на стороне сына.
«Я старался умиротворить её, уговаривая войти в положение её мужа у заваленного делами и с трудом добивающегося резолюций её величества у вследствие чего немудрено было у что он искал иногда развлечений, — пишет Бернес. —
Она на это отвечала, что если дела шли плохо, то виноват в том был гораздо более он сам, чем государыня, ввиду того что он днём пьян, а ночи проводит в игре, проиграв недавно 10 тысяч рублей в одну неделю».
В семейные дела Бестужева, как мы уже знаем, пришлось вмешиваться самой императрице, о чём уже было рассказано выше.
Валишевский пишет далее, что до 1752 года, хотя руки Бестужева и не были чистыми, он старался сохранять внешнюю благопристойность. Вопреки неоднократным утверждениям Фридриха II и его историков, канцлер отказывался от прусских и французских «пенсионов», а к английскому золоту прикасался лишь с «целомудренными ужимками и благородными жестами». По сведениям историка, Анна Ивановна Бестужева в 1745 году приняла от д'Аллиона тысячу дукатов, причём, как оценили сами французы, деньги были потрачены очень непроизводительно. Об этом поступке своей жены Алексей Петрович мог ничего не знать.
В 1742 году, передавая вице-канцлеру вознаграждение за оборонительный союз, заключённый с Англией, посланник Уич намекнул ему, что король Георг I охотно присоединил бы к нему и дополнительный подарок — официальный или тайный, по желанию Бестужева.
— Я ничего тайно не принимаю, — сухо ответил вице-канцлер.
На этом дело было закрыто — в этот период канцлер от недостатка средств, по-видимому, не страдал.
Преемник Уича сэр Хиндфорд в 1746 году был однажды сильно удивлён тем, как Бестужев, рассказывая ему про дом Остермана, полученный по милости Елизаветы, стал говорить, что не в силах содержать его, и чтобы привести его в порядок, ему нужно не менее 10 тысяч фунтов стерлингов, которые следует передать ему как можно секретнее. Хиндфорд стал возражать против этой астрономической цифры, на что канцлер, приняв величественный вид, заявил, что он не просит вознаграждение, а всего лишь ссуду сроком на 10 лет.
Конечно, в Лондоне и пальцем не шевельнули, чтобы выполнить такую экстравагантную просьбу Бестужева, и тогда Хиндфорд, чтобы угодить Бестужеву, пустился во все тяжкие. Он писал в Форин Офис, что отказ в выдаче денег станет большой дипломатической катастрофой для Англии, и представил такие рискованные аргументы, как утверждения о том, что невестка канцлера Разумовская якобы была внебрачной дочерью Елизаветы Петровны, о чём государыня якобы поведала Алексею Петровичу под большим секретом, обещая ему полное доверие и защиту от всех врагов на всё время её царствования.
«Таким образом, она теперь обращается с ним скорее как с деверем, а не как со своим канцлером», — писал посланник. Больше того: канцлер рассказал Хиндфорду, что и его жена была якобы родственницей императрицы — двоюродной сестрой!
Мы видим, как изобретателен и убедителен мог быть канцлер, когда хотел добиться своего. Опытный дипломат и разведчик Хиндфорд «заглотил» его «наживку», потому что, судя по всему, искренно поверил в выдумку Бестужева.
И старания Хиндфорда увенчались успехом: деньги канцлеру выплатили, правда, не из государственной казны Англии, а от имени банкира Вульфа под заклад упомянутого дома канцлера. Выплачивая ссуду в течение 10 лет, Бестужев удержал в свою пользу за счёт английского правительства накопившиеся проценты — почти 5 тысяч фунтов. Сделка делает честь хитроумию русского министра, но не его добродетели, пишет Валишевский. Да, добродетелью в этом эпизоде не пахнет, добродетельным человеком Алексей Петрович и правда не был.
При «вспрыскивании» новоселья в упомянутом доме Остермана Бестужев пошёл ещё на одну проделку: он уговорил фаворита Елизаветы графа Разумовского, когда будут пить здоровье хозяина, выступить и рассказать, что хозяин весь в долгах и что дом фактически принадлежит английскому банкиру Вульфу. Бестужев рассчитывал, что Елизавета при этом известии расщедрится и оплатит «долги» своего канцлера. Но Елизавета на этот «трюк» не клюнула, хотя позже, в 1754 году, Бестужеву всё-таки удалось получить от неё «на бедность» 50 тысяч рублей.
Когда деньги от Хиндфорда были получены, посланник пытался намекнуть Бестужеву на взаимную услугу, но тут же получил высокомерный ответ:
— Неужели вы собираетесь входить в сделки со мной?
Конечно, все эти «проделки» не делают чести графу и канцлеру Бестужеву. Он находился тогда в расцвете сил и в зените славы, а испытание властью и славой выдерживал не каждый русский. Не выдержал его и вельможа Бестужев-Рюмин, к тому же постоянно нуждавшийся в деньгах из-за карточных долгов и сильного «преклонения» перед Бахусом.
Финансовыми сделками для него занимался саксонец Функ. Функ заявлял о пожеланиях своего патрона без всяких дипломатических околичностей — начистоту, прямым текстом. Так в ноябре 1750 года, по случаю присоединения Англии к австро-русскому союзу, Функ по поручению канцлера стал требовать от австрийского и английского дворов по тысяче фунтов стерлингов. Австрийский посланник Бернес напомнил ему, что стороны уже обменялись подарками и все своё уже получили. Функ,
«приготовивший даже перья для подписи» и рассчитывавший получить и свою долю, нимало не смутился и в течение беседы с Бернесом трижды возвращался к этому вопросу, пока не добился своего.
В 1752 году, когда денежные затруднения Бестужева достигли апогея и ему пришлось «позаимствовать» в КИД и почтовом ведомстве казённые деньги, Функ пытался получить деньги у преемника Бернеса графа Претлака. Канцлеру грозило разоблачение о казнокрадстве, к тому же он должен был сопровождать императрицу в Москву, а все драгоценности и платья супруги Анны Ивановны были заложены. Функ просил у Претлака 20 тысяч дукатов. Три миссии — австрийская, саксонская и английская — вступили между собой в переговоры, но англичане сказали, что они уже выплатили канцлеру 10 тысяч ф. ст., у саксонцев средства были ограничены, и только венский двор посулил ему пенсию. Бестужев, убедившись в ничтожности суммы, воскликнул в негодовании:
— Что мне делать с подобной суммой?
В июле 1753 года Претлаку пришлось выплатить канцлеру 8 тысяч дукатов за ратификацию секретнейшего пункта нового трактата, на который Россия дала своё согласие. Функ продолжал клянчить, используя своё красноречие.
«Нельзя называть человека пьяницей, если он просит пить только тогда, когда его жучит жажда», — говорил он, в то время как Бестужев прикрывал своё мздоимство гордыми и независимыми манерами. Претлаку с трудом удалось выпросить у Марии-Терезии 2 тысячи дукатов, но в 1754 году, когда России вместе с Австрией предстояло выступить против Пруссии, Функ просил австрийского посла выложить ещё 12 тысяч дукатов. Преемнику Претлака Эстергази с трудом удавалось «умилостивить» Бестужева третью этой суммы.
Таковы факты.
Определённая склочность характера канцлера и отдававшее высокомерием всевластие и слава доставляли ему много неприятностей. В апреле 1751 году Алексей Петрович не на шутку поссорился с советником и членом Академии наук И.Д. Шумахером, отвечавшим за выпуск «Санкт-Петербургских новостей». Поводом для ссоры между русским и немецким педантами послужило обращение канцлера в редакцию «Новостей» с просьбой напечатать к номеру № 30 важное «Прибавление» — сообщение о болезни и кончине короля Швеции Фредерика I и о восшествии на шведский престол Адольфа-Фредерика I. Отвечавший за выпуск номера надворный советник Я. Штелин (1709—1785)
[108] принял материал, но в дело вмешался его начальник И.Д. Шумахер, который, сославшись на установленный порядок, приказал ему напечатать «Прибавление» лишь в следующем номере.
Почему канцлер считал принципиально важным напечатать указанное сообщение безотлагательно? Адольф-Фредерик, администратор герцогства Готторп-Голштинского и дядя несовершеннолетнего герцога Готторп-Голштинского Карла-Петера-Ульриха (будущего Петра III), был предложен, как мы знаем, на шведский трон именно императрицей Елизаветой. Она потребовала от шведов принять эту кандидатуру и взамен обещала вернуть им часть только что завоёванной Финляндии.
Именно на этих условиях в 1743 году Петербург подписал со Стокгольмом мир. Канцлер, получивший известие о смерти прежнего короля и восшествии на престол нового короля из депеши своего посла в Стокгольме Н.И. Панина, считал необходимым для повышения престижа России и её императрицы, чтобы мир узнал об этом из русского источника. И вот теперь педант-немец испортил всё дело! Через неделю вся Европа узнает об этой новости, но уже из других источников.
Разъяренный Алексей Петрович вызвал к себе Шумахера и в присутствии десятка посторонних лиц сделал ему внушение. Но Шумахер повёл себя с достоинством и со своей стороны высказал Бестужеву претензии: канцлер вообще не имел права вызывать его к себе, поскольку он ему не подотчётен. Вероятно, были сказаны и другие резкие слова: например, Бестужев обвинил немца в том, что тот
«Лестоковым духом наполнен», на что Шумахер, по всей видимости, тоже нашёл, что ответить, и каким духом наполнен канцлер. Так что Алексею Петровичу пришлось указать Шумахеру на дверь.
Бестужев, чувствуя себя виноватым в этой ссоре, чтобы как-то замять скандал, обратился к Елизавете с жалобой на «ругательства» Шумахера, говоря о себе в третьем лице: он писал императрице о том,
«колико чювствителъно ему подобное ругательство. А паче, что оное по такому делу произошло, которое по должности зделать и ускорить надлежало: …Шумахер… при компании с лишком десяти человек знатных людей ругательски канцлеру ответствовал… Канцлер, сколко тем ни преогорчён, не сказал, однакож, Шумахеру более, как толко чтоб он из комнаты его вышел, когда его так ругает[109]».
Интересно отметить, что Бестужев не изменил своего отношения к Бирону, когда тот находился в опале в ярославской ссылке, что, на наш взгляд, свидетельствует о постоянстве его привязанностей и умению испытывать благодарность к человеку, сообщившему его карьере решительный толчок. Между ними продолжалась хоть и редкая, но дружеская переписка, причём бывший временщик только один раз, в декабре 1744 года, попросил Бестужева улучшить своё положение и перевести его из Ярославля в Нарву. Когда в это время возник вопрос о том, кого следовало бы избрать на пустовавшее место Курляндского герцога, Бестужев без колебаний предложил Эрнста Бирона, хотя отлично знал, что Елизавета метила на это место принца Гессен-Гомбургского или дядю Петра Фёдоровича, принца Августа Голштинского.
Определённую поддержку Бестужев оказал в 1745 году старому приятелю астраханскому губернатору и историку В.Н. Татищеву (1686—1750), в течение шести лет находившемуся под судом при весьма сомнительных обвинениях. Алексей Петрович решил просто освободить Василия Николаевича от непосильной должности губернатора и тем самым избавить его от обвинений. При этом канцлер сильно сердился на Татищева за то, что тот обратился за помощью к злейшему врагу Бестужева, обер-прокурору князю Трубецкому, и вступил с ним в переписку. Татищева уволили, он удалился в свою деревню и увлёкся историей, оказав отечественной исторической науке ценные услуги.
Внешняя политика России в середине XVIII века и великий канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин — синонимы. М.И. Воронцов лишь корректировал некоторые его шаги, а Елизавета принимала окончательные решения, но олицетворял русскую дипломатию того времени Бестужев-Рюмин, справедливо пишет М.Ю. Анисимов. Он оказался одним из самых искусных политиков Европы нового времени. Именно он добился, чтобы Россия полноправно могла участвовать в делах Европы.
Повторимся в заключение, что А.П. Бестужев-Рюмин и в самом деле был далёк от образца добродетели и высокой морали. Он был сыном своего времени и являл собой типичного русского вельможу XVIII века. Он всю свою жизнь вращался в дипломатических и дворцовых сферах, представители которых отнюдь не блистали высокими моральными качествами. Но его дела и вся жизнь, как бы ни старались это опровергнуть его противники и недоброжелатели, были посвящены служению и величию России. Он был великим государственником.
Мы изложили факты, и читатель сможет сам сделать окончательный вывод, заслуживает ли это служение благодарной памяти потомков.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ А.П. БЕСТУЖЕВА-РЮМИНА
1693, 22 мая — дата рождения Бестужева
1708—1711 — учёба в Дании и Пруссии
1712 — участие в составе русской делегации в Утрехтском конгрессе
1713 — полковник и камер-юнкер Ганноверского курфюрста
1714—1717 — при дворе короля Англии Георга I
1717 — приезд с особым поручением Георга I в Петербург к Петру I; попытка войти в контакт с беглым царевичем Алексеем в Вене
1718 — обер-камер-юнкер при дворе Анны Иоанновны в Митаве
1721—1731 — резидент в Дании, брак с Анной Ивановной, урожд. Бёттигер
1723 — вызов Петром I в Ревель для консультаций
1731—1734 — резидент в Нижнесаксонском округе (Гамбург)
1734—1740 — посланник в Дании.
1736, май — получение чина тайного советника
1740, лето — получение чина действительного тайного советника
1740, август — кабинет-министр в правительстве Анны Иоанновны
1740, ночь с 8 на 9 ноября — арест и помещение в Шлиссельбургскую крепость в результате переворота в пользу Анны Леопольдовны
1741, январь — смертный приговор
апрель — помилование и ссылка в деревню
октябрь — появление в Петербурге
ноябрь — пишет манифест на восшествие Елизаветы Петровны на российский престол и становится управляющим почтовым ведомством
1741, 31 ноября — награждение орденом Андрея Первозванного
декабрь — назначение вице-канцлером Российской империи
1742, 25 апреля — возведение в графское достоинство Российской империи всей семьи Бестужевых-Рюминых
1743 — дело Лопухиных
1744, июнь — триумф Бестужева над своими врагами, высылка Шетарди из России, назначение великим канцлером Российской империи
1745 — возведение в графское достоинство Римской империи
1756 — развал внешнеполитической системы Бестужева
1758, январь — арест и падение великого канцлера
1759, апрель — смертный приговор, помилование, ссылка в деревню
1761, 25 декабря — смерть жены Анны Ивановны
1762, июль — возвращение в Петербург из ссылки 31 августа — реабилитация А.П. Бестужева-Рюмина
1766, 10 апреля — дата смерти А.П. Бестужева
БИБЛИОГРАФИЯ
Анисимов Е.В. Иван VI Антонович. М.: Молодая гвардия, 2008.
Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. СПб.: Питер, 2008.
Анисимов М.Ю. Российский дипломат А.П. Бестужев-Рюмин (1693—1766)// Новая и новейшая история, № 6, 2005.
Анисимов М.Ю. Российская дипломатия в Европе в середине XVIII века. От Аахенского мира до семилетней войны. М.: КМК, Scientific Press Ltd., 2012.
Бантыш-Каменский Д. Словарь достопамятных людей русской земли, т. 1. М.: Типография Семеха, 1836.
Бердников А. Евреи в ливреях. М.: Человек, 2009.
Бойцов М.А. Дворцовые перевороты в России, 1725—1825. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998:
— депеши Э. Финча лорду Харрингтону от 18/29 ноября
1740 года, 3/14 января, 3/14 марта;
— записка Э.И. Бирона;
— депеша Шетарди Людовику XV от октября 1740 года и депеши Шетарди к Ж.Ж.Амело от 6/17 января,14/23 февраля и 21 апреля/2 мая и 26 ноября/7 декабря 1741 г.;
— письмо Ж.Ж. Амело Шетарди от 26 октября/6 ноября 1741 года;
— экстракт из сочинений А.Ф. Бюшинга «Основательно исследованные и изысканные причины перемен правления в доме Романова»;
— предисловие М.А. Бойцова к пятой части.
Валишевский К. Дочь Петра Великого. М.: Престиж Бук, 2007 (репринт).
Вейдемейер А. Царствование Елизаветы Петровны. СПб.: Тип. Департамента внешней торговли, 1834.
Герцог Лирийский. «Записки о пребывании при императорском российском дворе в звании посла короля испанского», сб. Россия XVIII в. глазами иностранцев. Лениздат, 1989.
Гордин Я. А. Хроника одной судьбы. М.: Советская Россия, 1980.
Гордин Я. А. Между рабством и свободой. СПб.: Лениздат, 1994.
Донесения прусского посланника Гольца Фридриху II, сборник «Екатерина. Путь к власти». М.: фонд С. Дубова, 2003.
Емелина М.А. Алексей Петрович Бестужев// Вопросы истории, 7/2007.
Елисеева О. Екатерина II. М.: Мир энциклопедий, Авсента-Астрель, 2008
Каменский А.Б. Послесловие к сборнику «Екатерина. Путь к власти». М.: Фонд С. Дубова, 2003.
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей: Фельдмаршал Миних и его значение, Императрица Анна Иоанновна и её царствование и Императрица Елисавета Петровна. М.: Эксмо, 2006.
Князьков. Время Петра Великого, репринт. М.: Планета, 1991.
Конопчинский В. Два политических письма Екатерины II// Русская старина, 1912/149.
Кургатников А.В. Русская старина. Путеводитель по XVIII веку, М., СПб., РИК Культура и ЛИК, 1996.
Кургатников А.В. Год 1740, из серии «Роковые годы России». СПб.: ЛИК, 1998.
Курукин И.В. Бирон. М.: Молодая гвардия, 2006.
Курукин И.В., Плотников А.Б. 19 января — 25 февраля 1730 года: события, люди, документы. М.: Квадрига, 2010.
Лавринович М. Указатель имён к сб. «Екатерина. Путь к власти». М.: Фонд С. Дубова, 2003.
Левин А. Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих. СПб.: 2000.
Миних Б.Х. Очерк, дающий представление об образе правления Российской империи; сб. «Безвременье и временщики», Л.: Художественная литература, 1991.
Миних Э. Записки, там же.
Молева Н.М. Ошибка канцлера. М.: Советский писатель, 1987.
Нащокин В. А. Записки; сб. «Империя после Петра, 1725— 1765». Фонд Сергея Дубова, М.: 1998.
Нелипович С.Г. Союз двуглавых орлов, русско-австрийский военный альянс второй четверти XVIII в. М.: Квадрига — Объединённая редакция МВД России, 2010.
Неплюев И.И. Записки; сб. «Империя после Петра, 1725— 1765». М.: Фонд С. Дубова, 1998.
Одерова М. Русское посольское духовенство в Европе // «Родина, 2/2008
Павленко Н.И. Анна Иоанновна. Немцы при дворе. М.: АСТ-Пресс, 2002.
Павленко Н.И. Екатерина Великая. М.: Молодая гвардия, 2004.
Письма барона И.А. Черкасова вице-канцлеру А.П. Бестужеву-Рюмину (1743—1747), том MMVI, Российский архив. М.: Российский фонд культуры, студия «ТРИТЭ» Н. Михалкова, Российский архив, 2007.
Письма императора Петра III к прусскому королю Фридриху II, сб. «Екатерина. Путь к власти». М.: Фонд С. Дубова, 2003.
Письма Фридриха II к Петру III, там же.
Письма графа Бестужева-Рюмина к графу И.И. Шувалову (1745—1759). Русский архив, 1863.
Письмо гр. А.П. Бестужева-Рюмина к И.Д. Бестужеву-Рюмину// Русская старина, 1876/15
Письмо канцлера Бестужева-Рюмина к Константинопольскому патриарху. Русский архив, 1865. Изд. 2. М., 1866. СПб. 351—354.
Протоколы приёмов императрицей Елизаветой Петровной руководства Коллегии иностранных дел в 1745 г., там же
Пыляев М.И. Старая Москва. СПб.: Паритет, 2002.
Пыляев М.И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. СПб.: Паритет, 2003.
Пыляев М.И. Старый Петербург. СПб.: Паритет, 2004.
Редкий А.П. Джон Бэкингхэмшир при дворе Екатерины II 1762—1765. Русская старина, 1902/109.
Рондо. Письма дамы, прожившей несколько лет в России, к её приятельнице в Англию сб. Безвременье и временщики, Л.: Художественная литература, 1991.
Российский архив. История отечества в свидетельствах и документах XVII—XIX в.в., вып. XIII, XIV, XV и XVI. М.: 2004, 2005 и 2007;
Русский биографический словарь, т. П. СПб., 1900. (репринт).
Сборник Императорского Русского исторического общества. СПб., т.т. 76 (1891), 80 (1892), 85 и 86 (1893).
Сборник «Памятники новой русской истории», т. 1. СПб.: Типография Майкова, 1871. Переписка А.П. Бестужева-Рюмина с сыном и бароном Черкасским.
Семевский М.И. Царица Катерина Алексеевна. Анна и Виллим Монс (1692—1724). М.: Пресса, 1994.
Соболева Т.А. Тайнопись в истории России// «Международные отношения». М.: 1994.
Соловьёв С.М. Птенцы Петра Великого; сб. Чтения и рассказы по истории России. М.: Правда, 1989.
Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Т. VIII—XIII, М.: Голос-Колокол Пресс, 1999.
Устрялов Н.Г. Русская история до 1885 года. Петрозаводск: корпорация «Фолиум», 1997 (репринт с издания 1885 г.).
Фавье Ж.-Л. Русский двор в 1761 году; сб. Екатерина. Путь к власти. М., Фонд С. Дубова, 2003.
Шапкина А.Н. Новые ориентиры. Канцлер А.П. Бестужев-Рюмин и союз с Австрией; сб. Российские дипломаты в портретах. М.: 1992.
Шаховской Я.П. Записки; сб. Империя после Петра, 1725— 1765. М.: Фонд С. Дубова, 1998.
Шишов А.В. Знаменитые иностранцы на службе России. М.: Центрполиграф, 2001.
Штелин Я.Я. Записки о Петре III; сб. Екатерина. Путь к власти. М.: Фонд С. Дубова, 2003.
Щербатов М.М. О повреждении нравов в России; сб. Столетье безумно и мудро. М.: Молодая гвардия, 1986.
Энциклопедия. Отечественная история с древнейших времён до 1917 г. М.: Издательство БСЭ, т. 1 (1994), 2 (1996) и 3 (2000).
Henrikson Alf Svensk historia, Sthlm, Bonniers, 1963
Malmstrom C.G. Sveriges politiska historia. Stockholm, hos L.J. Hjarta, del. 2—5, 1863, 1870, 1874, 1877.
Aberg A. Var svenska historia, Natur och kultur. Stockholm, 1978.
ИЛЛЮСТРАЦИИ

А.П. Бестужев-Рюмин. Неизвестный художник

Екатерина I. Неизвестный художник

А.Д. Меншиков. Художник Ж. Симон

Петр II. Неизвестный художник

Анна Иоанновна. Неизвестный художник

Анна Леопольдовна. Неизвестный художник

Э.-И. Бирон. Неизвестный художник

А.П. Волынский. Неизвестный художник

А.П. Волынский на заседании кабинета министров. Художник В.И. Якоби

Елизавета Петровна. Художник И.Я. Вишняков

Великая княгиня Екатерина Алексеевна. Неизвестный художник

Маркиз де ла Шетарди. Неизвестный художник

П.П. Ласси. Неизвестный художник

Дж. Кейт. Художник А. Пэн

С.Ф. Апраксин. Неизвестный художник

М.И. Воронцов. Художник А.П. Антропов

Манифест Елизаветы Петровны об аресте и наказании А.П. Бестужева-Рюмина

Х.А. Миних. Неизвестный художник

А.П. Бестужев-Рюмин в ссылке. Художник Ф. Мхов

А.П. Бестужев-Рюмин. Гравюра XVIII в.
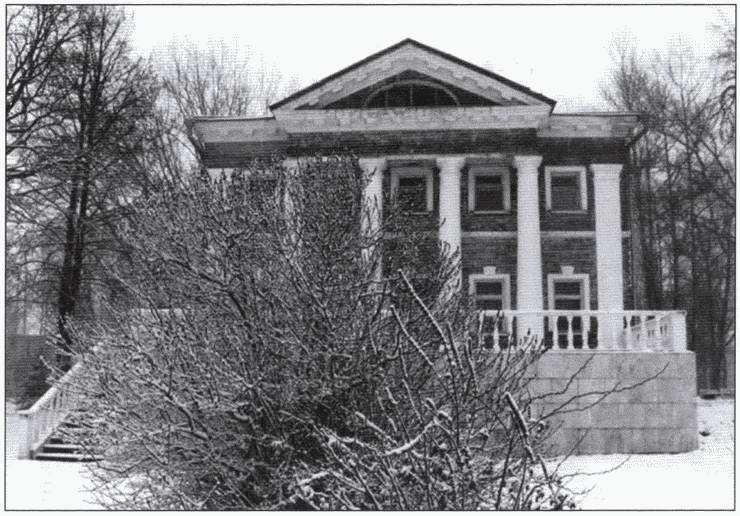
Горетово — усадьба А.П. Бестужева-Рюмина

Дворец А.П. Бестужева-Рюмина на Каменном острове

Вид на Каменноостровский дворец и плашкоутный мост через Большую Невку со стороны Строгановской набережной. Художник С.Ф. Щедрин

Слободской дворец. Неизвестный художник

Церковь Благовещения в Санкт-Петербурге. Современный вид

Примечания
1
См. мою книгу «Повседневная жизнь царских дипломатов». «Молодая гвардия», 2009 г.
(обратно)
2
Само слово «бестуж» произошло вроде от древнерусского прилагательного «бесстоуж», в котором корень «стоуж» означал «стыд». Получается, что род этот получил говорящую фамилию.
(обратно)
3
Иван Талызин побывал с русским посольством в Лондоне (1662), а после этого был направлен послом в Польшу и занимал высокие должности в правление Алексея Михайловича Тишайшего.
(обратно)
4
Напоминаем, что супруг Анны Иоанновны, племянницы Петра I, герцог Курляндский умер с перепоя сразу после свадебных торжеств в Петербурге, по дороге в Митаву, не успев вернуться в родные пенаты.
(обратно)
5
В делах со Швецией Меншиков тоже оставил «след»: за небольшую взятку он выдал шведскому посланнику в Петербурге важные государственные секреты и нанёс большой вред политике России в отношении этой страны.
(обратно)
6
О. Генрих-Иоханн-Фридрих, барон, потом граф, на русской службе с 1704 г., в 1721 г. заключил Ништадтский мир со Швецией и пожалован Петром I в бароны, с 1723 г. вице-президент Коллегии иностранных дел, с 1726 г. член Верховного тайного совета, с 1731 г. кабинет-министр, в 1740—1741 гг. генерал-адмирал и высший начальник военно-морского ведомства. Арестован Елизаветой Петровной при восхождении на трон и приговорен к смертной казни, но был помилован и вместе с супругой Марфой, урожд. Стрешневой (1698—1781), отправлен в ссылку в Берёзов, где и скончался. Русский историк Д.А. Корсаков так характеризует О.:
«Вся жизнь О. —
упорный и постоянный труд, всё его нравственное содержание —
хитрость, лукавство, коварство и интрига… Всегда сдержанный, методичный и последовательный, О. постоянно действовал наверняка. Он точно следовал пословице: “Семь раз смеряй —
один раз отрежь“. На Россию он смотрел как на арену для своих честолюбивых, но не корыстных целей. О. был “честный немец” и оставил в истории свой образ воплощением дипломатической увёртливости и придворной эквилибристики, он не запятнал своего имени казнокрадством и лихоимством; в частной жизни он был в лучшем смысле слова немецкий бюргер: человек аккуратный и точный, он любил домашний очаг, был примерный муж и отличный семьянин».
(обратно)
7
Там Морицу повезло больше: он стал маршалом Франции и способным полководцем.
(обратно)
8
В кружок Маврина входили также оба её братья-дипломаты Алексей и Михаил, известный арап Петра Великого Абрам Ганнибал, кабинет-секретарь Иван Черкасов и член военной коллегии Егор Пашков.
(обратно)
9
Впоследствии И. Корф станет президентом Академии наук и послом в Дании и Швеции.
(обратно)
10
Н.И. Павленко приводит данные о том, что в феврале 1728 г. Анна Иоанновна получила из императорской казны 12 000 рублей в качестве единовременной помощи. За ссылкой на «разорение» скрывалось элементарное попрошайничество и намеренное прибеднение, которыми герцогиня пыталась разжалобить своих корреспондентов.
(обратно)
11
Согласно бесспорным данным, матерью обоих сыновей Бирона — Петра и Карла — была Анна Иоанновна. Бирон для маскировки своей связи с императрицей вступил в фиктивный брак с баронессой Б.Г. Трейден.
(обратно)
12
В 1754 году императрица Елизавета Петровна издала указ провести переучёт всех чиновных кадров России. В исполнение указа чиновники сами или с помощью специальных секретарей представили так называемые «сказки» — биографические справки.
(обратно)
13
Шафиров Пётр Павлович (1669—1739), барон, с 1709 г. вице-канцлер, 1711 —1714 гг. — посланник в Турции, с 1717 г. — вице-президент Коллегии иностранных дел. В 1723 г. обвинён в должностных преступлениях и приговорён к смертной казни, которая была заменена ссылкой в Нижний Новгород. В 1725 г. освобождён Екатериной I и был назначен президентом Коммерц-коллегии (1725—1727 и 1733—1739), а в 1730—1733 — посланник в Персии.
(обратно)
14
Дипломат, посланник в Париже, Вене, Лондоне и Варшаве. Как член семейства Долгоруких, замешан в обхаживании молодого и не опытного царя Петра II, за что подвергся преследованию со стороны «верховников» и отправлен ими в ссылку. В 1738 г. был возвращён из ссылки Анной Иоанновной и назначен послом в Англию, но в связи с возобновлением следствия над Долгорукими
был неожиданно арестован и казнён.
(обратно)
15
Сын будущего вожака «верховников» князя Дмитрия Михайловича Голицына и племянник полководца Михаила Михайловича Голицына, которого царь Пётр II стал неожиданно приближать к себе. Остерман и клан Долгоруких, ревниво следившие за обстановкой вокруг царя-отрока, решили удалить Сергея Дмитриевича Голицына из России, назначив его посланником в Пруссию.
(обратно)
16
В.Л. Долгорукий входил при Петре II в Верховный тайный совет и активно поддерживал требования «верховников» по ограничению полномочий царицы Анны Иоанновны. По словам герцога Лирийского, он был умён и недурён собой, заслужил имя хитрого и искусного дипломата, владел несколькими языками и был приятным собеседником:
«Вместе с тем он очень любил взятки, не имел ни нести, ни совести и способен был на всё по корыстолюбию». После расторжения
Кондиций был назначен губернатором в Сибирь, но по дороге был арестован, лишён всех званий и наград и сослан сначала в родовую деревню, а потом в Соловецкий монастырь. В 1739 г., в связи с повторным следствием по делу его племянника, бывшего временщика И.А. Долгорукого, был переведен в Шлиссельбургскую крепость и после повторного следствия, как и его родственник С.Г. Долгорукий, казнён (обезглавлен).
(обратно)
17
Сын первого канцлера России (1709) Г.И. Головкина (1660—1734) и брат вице-канцлера (1740—1741) М.Г. Головкина (1699—1755).
(обратно)
18
Куракин Борис Иванович (1676—1727), один из талантливейших «птенцов» Петра, государственный деятель и дипломат. С детских лет при Петре I, участник его воинских «потех», был послан на учёбу в Венецию, участвовал в Нарвском и Полтавском сражениях, выполнил целый ряд ответственных дипломатических поручений Петра и содействовал созданию мощной антишведской коалиции. Участник Утрехтского конгресса (1711—1713), посланник в Гааге (1711), Лондоне (1712) и Париже (1724), участник Аландского мирного конгресса (1718—1719). Прожив долго за границей, говорил на странном наречии — смеси русского, итальянского и французского языков.
(обратно)
19
По характеристике герцога Лирийского, посла Испании при дворе Петра II, фельдмаршал В.В. Долгорукий из всех русских вельмож
«более всех приносил чести своему отечеству»; Д.М. Голицын
«был человек сведущий, но чрезвычайно злой, несносно тщеславен и до невероятности горд», в то время как его брат фельдмаршал Михаил Дмитриевич был человеком умным и благородным, хорошо знающим военное дело и любим войсками —
«словом, это был истинно великий человек»; В.Л.Долгорукий, по словам герцога, был умён и недурён собой и заслужил славу искусного и хитрого дипломата; Апраксин имел посредственные способности, но был храбр и решителен и довольно прозолив. Был склонен к сохранению старых допетровских обычаев и не любил иностранцев. Страдал корыстолюбием и едва не погиб из-за этого, но
«отделался деньгами», графа Ягужинского испанец называл одним из способнейших людей в России. См.:
Я. Гордин. «Между рабством и свободой».
(обратно)
20
Антон Мануилович Девиер, сын португальского торговца, был женат на сестре Меншикова Анне. В поле зрения Петра I попал в 1697 г. в Голландии, когда служил юнгой на голландском судне. Стал личным денщиком царя, потом генерал-адъютантом, капитаном гвардии, графом. Будучи полицмейстером столицы, сформировал полицейский штат, создал пожарную часть, осуществлял благоустройство города. В 1739 г. назначен начальником Охотского порта, способствовал подготовке 2-й Беринговой экспедиции, основал штурманское училище. При Елизавете Петровне из ссылки освобождён, восстановлен во всех чинах и титулах, был опять назначен генерал-полицмейстером Петербурга.
(обратно)
21
Фёдор и Авраам (1685—1783) Веселовские, бывшие царские дипломаты, попросили убежища в Англии. Авраам был замешан в дело царевича Алексея, а Фёдор, попав из-за него в опалу, отказался выехать в Копенгаген, как приказал царь. Пётр I под предлогом растраты братьями посольских денег потребовал их выдачи, но король Георг I отказал в этом, сославшись на священное право убежища. Фёдор Веселовский уже при Анне Иоанновне вступил в контакт с вице-канцлером А.И. Остерманом и стал снабжать его важной информацией. Вернуться в Россию ему в 1742 г. разрешила Елизавета Петровна.
(обратно)
22
Двое сыновей А.П. Бестужева-Рюмина умерли ещё в младенчестве, выжил один сын Андрей (см. далее). Есть данные о том, что у него была дочь: то ли это был четвёртый ребёнок, то ли её спутали с умершим в младенчестве вторым сыном.
(обратно)
23
Вице-канцлер контролировал в это время всё, что происходило не только за пределами страны, но и внутри её. Когда главный интендант Москвы обратил внимание московского губернатора графа С. Салтыкова на то, что у задних ворот Кремлёвского дворца обнаружили тараканов, губернатор ответил:
«…Извольте ехать сей день к его сиятельству графу Андрею Ивановичу Остерману: то его сиятельство покажет вам секрет, чем тараканов выводить». Недаром Остермана заглазно называли Оракулом.
(обратно)
24
Лесток Йоханн Герман Арман (29.4.1692—1767), родился в Целле. Отец, лейб-медик французского двора и директор Медицинской канцелярии и факультета, происходил из французских дворян Шампани, принял имя Лестока Гельвека. По причине веры семья вынуждена была бежать за границу и жить в Англии, Голландии и Германии. Наш герой на русской службе с 1713 г., назначен царём Петром дворцовым хирургом, в 1719 г. за связь с дочерью придворного шута сослан в Казань, возвращён в Петербург в 1725 г. Екатериной I и назначен лейб-хирургом. Был близок к А.П. Волынскому, но к следствию по его делу не привлекался. Состоял лейб-медиком при царевне Елизавете Петровне, сыграл видную роль в возведении её на престол.
(обратно)
25
Таких проектов, дополняющих кондиции, было несколько: проект 364-х от 5.2., проект 25-ти от 6.2. и проект 13-ти от 7.2.1730 г.
(обратно)
26
Завещание гласило:
«Ежели великий князь (Пётр II) скончается без наследников, то после него вступает на престол герцогиня голштинская Анна Петровна… потом цесаревна Елизавета Петровна и, наконец, великая княжна Наталья Алексеевна (сестра Петра II) с их потомствами —
так, однако, чтобы мужское колено имело преимущество перед женским».
(обратно)
27
Андрей Иванович Ушаков, граф (1744), с 1712 г. адъютант Петра I, в 1727 г. арестовывался за противодействие планам А.Д. Меншикова, с 1730 г. генерал-аншеф, в 1731—1746 гг. начальник Канцелярии тайных розыскных дел.
(обратно)
28
Сын молдавского господаря Дмитрия Константиновича Кантемира (1673—1723), поступившего на русскую службу; дипломат, посол в Пари же; его брат Константин — зять вождя «верховников» Д.М. Голицына.
(обратно)
29
М.А. Голицын в 1715 г. тайно обвенчался с итальянкой и принял католичество.
(обратно)
30
В 1765 г. Волынский был реабилитирован. Из сохранившейся записки Екатерины по этому поводу видно, что она высоко оценила дела Волынского и посвятила ему лестные, прямо-таки восторженные отзывы.
(обратно)
31
Царевич именовался также Иоанном III.
(обратно)
32
Черкасский Алексей Михайлович (1680-1742), князь, 1715-1719 гг. — обер-комиссар Петербурга, 1719-1724 гг. — губернатор Сибири, сенатор (1726), 1731-1741 гг. — кабинет-министр, 1740 г. — канцлер. Современниками, в частности иностранными послами, характеризовался вполне положительно: умён, честен, бескорыстен, благороден, но слегка ленив и нерешителен.
(обратно)
33
Рейнхольд-Густав Левенвольде, лифляндский (остзейский) барон, камергер (1725), граф (1726), фаворит Екатерины I, по поручению брата Карла-Густава известил Анну Иоанновну о решении Верховного тай ного совета об избрании её на русский трон. Обер-хофмаршал (1730), близкий человек Анны Леопольдовны, арестован во время переворота 1741 г. и сослан в 1742 г. в Соликамск, где и умер в 1758 г. Герцог Лирийский писал, что он
«был такого дурного характера, каких я мало встречал… Он был лжив и коварен, и одна только корысть управляла им». Его старший брат Карл-Густав Левенвольде, граф (1726), генерал-адъютант при Петре I и Екатерине I, камергер при Петре II, в 1727—1730 гг. жил в отставке, с 1730 г. генерал-поручик и полков ник Измайловского полка, в
1731—1732 гг. посол в Австрии, Пруссии и Польше, обер-шталмейстер. Умер в 1735 г. По словам герцога Лирийского, был страшный картёжник и вместе с тем скряга, любил взятки,
«но, впрочем, был такой человек, с которым можно было по советоваться». Ещё один брат, граф Фридрих-Казимир Левенвольде (1692—1769), с 1735 г. на австрийской службе, генерал от кавалерии и тайный советник.
(обратно)
34
Сын Миниха был женат на дочери барона Менгдена. Жена Мини- ха-мл. была сестрой Юлии Менгден, фаворитки Анны Леопольдовны, а впоследствии — четвёртой жены Лестока. Как представляется, Минихи готовили себе на будущее опору на своих людей.
(обратно)
35
Александр Борисович Куракин (1697—1749), князь, сын Б.И. Куракина, государственный деятель и дипломат, как двоюродный дядя Петра II занял высокое положение при дворе, потом входил в ближайшее окружение Анны Иоанновны. Императрица, резко осуждавшая употребление алкоголя, только Александру Борисовичу позволяла пить вина столько, сколько захочется, ибо в подпитии князь отличался большим остроумием. Посол в Париже (1727—1728), д.т.с. и обершталмейстер (1736), основатель госпиталя в Москве для отставных офицеров и раненых солдат. Ревностный сторонник Э. Бирона, после свержения временщика и показаний арестованного вместе с ним А.П. Бестужева-Рюмина попал под подозрение, но был прощён и продолжал пользоваться влиянием при дворе Анны Леопольдовны. Женат на сестре Н.И. Панина.
(обратно)
36
Миних Эрнст (1707—1788), хофмейстер при дворе Анны Леопольдовны, в 1741—1762 гг. — в ссылке, с 1763 г. — главный директор таможни, автор «Записок» о времени Анны Иоанновны — Екатерины II. Был ещё Миних Христиан-Вильгельм (1686—1768), брат фельдмаршала Б.Х. Миниха, с 1742 г. оберхофмейстер Елизаветы Петровны, главный судья Дворцовой канцелярии, а с 1744 г. неофициальный наставник в.к. Екатерины Алексеевны.
(обратно)
37
Так у Анисимова. В некоторых источниках приводится слово «Небось!», что, на наш взгляд, вряд ли подходит к ситуации.
(обратно)
38
Я. Гордин и А. Кургатников утверждают, что Камынин являлся племянником А.П. Бестужева-Рюмина.
(обратно)
39
Брат Густав (1700—1746), на русской службе с 1730 г., в Русско-турецкую войну в чине генерал-майора, а потом генерал-поручика командовал сводным гвардейским отрядом. Генерал-аншеф (1740), в 1741 г. сослан в Нижнеколымский острог, в 1742 г. переведен в Ярославль, в 1744 г. освобождён, восстановлен в чинах и возвращён на службу.
Брат Карл (1684—1746) служил в русской армии ещё при Петре I, попал в плен к шведам, но бежал в Польшу и с 1705 г. служил в польской армии. Вернулся на русскую службу в 1730 г. в чине генерал-майора, тоже участник Русско-турецкой войны, с 1739 г. генерал-аншеф. После ареста сослан в Среднеколымск, но переведен в 1742 г. в Ярославль, в 1744 г. освобождён и жил в своём лифляндском имении.
Оба брата временщика служили России вполне исправно и пострадали из-за своего брата напрасно.
(обратно)
40
Яковлев Андрей Яковлевич, д.с.с, кабинет-секретарь Анны Иоанновны, арестовывался Бироном по подозрению в заговоре, перенёс пытки. В 1741 г. был снова арестован и предан суду как «конфидент Меншикова», лишён чинов и разжалован в писари астраханского гарнизона.
(обратно)
41
Христофор Герман Манштейн, прусский офицер, родился в России в 1711 г., на русской службе с 1740 г., был командиром 2-го Московского полка. Как человек, близкий к Миниху, подвергся преследованиям со стороны Елизаветы Петровны, пытался получить отставку, но неудачно. Летом 1744 г. отправился в отпуск на лечение в Германию и записался там волонтёром в прусскую армию. Полагаясь на покровительство Фридриха II, уклонялся от возвращения в Россию, чтобы сдать Московский полк новому командиру. Не помогли увещевания отца, генерал-лейтенанта Себастьяна Манштейна, проживавшего в Лифляндии, и в 1746 г. он был заочно приговорён Военной коллегией к смертной казни. Автор известных записок о России времён Анны Иоанновны, отличающихся серьёзным беспристрастным анализом и симпатиями к России и русским. Погиб в 1757 г. в сражении с австрийцами.
(обратно)
42
Так в старину называли ордена и медали.
(обратно)
43
По другим данным, 372 души.
(обратно)
44
Он же Ласси, Лессий и Леси Пётр Павлович (Питер) (1678—1751), уроженец Ирландии, граф, на русской службе с 1700 г., талантливый полководец, один из немногих иностранцев, честно служивших России. Участник Нарвского и Полтавского сражений и многих баталий Северной войны и последующих войн с турками и шведами, генерал-аншеф, генерал-фельдмаршал (1736), последние годы губернатор Лифляндии. Герцог Лирийский писал, что он был человеком робким и осторожным; его все любили, хотя в обращении с подчинёнными офицерами проявлял высокомерие.
(обратно)
45
Существует версия, что Шетарди «купил» принцессу Елизавету, помогая ей приобрести отцовский трон взамен на возвращение шведам прибалтийских провинций. К. Валишевский уверенно утверждает, что, во-первых, денежная помощь француза была символичной, а, во-вторых, Елизавета никаких конкретных обещаний ни Шетарди, ни Нолькену не давала и вела себя весьма осторожно. Возможно, она и обещала кое в чём поспособствовать в будущем шведам, но наверняка это было сделано лишь по тактическим соображениям. Она была уверена, что, став императрицей, она «забудет» о всех своих обещаниях.
(обратно)
46
Неформальная, но важная должность в группе из 10 министров и сановников, выступающих в роли советников императрицы Елизаветы.
(обратно)
47
Употребляемое нами выражение «Великий канцлер» не несёт оценочной информации: так при Елизавете Петровне называлась должность, присвоенная А.П. Бестужеву-Рюмину.
(обратно)
48
Английский король Георг II, как и его отец Георг I, представители Ганноверской династии, были одновременно и курфюрстами Ганноверскими.
(обратно)
49
Имеется в виду Румянцев Александр Иванович (1677—1749), граф, любимец Петра I, участник Северной войны и Персидского похода. Был назначен Анной Иоанновной президентом Камер-коллегии, но Румянцев не принял назначения, за что разгневанной императрицей был сослан в свою деревню, но скоро был прощён, послан в Казань губернатором, в войне с турками в 1736—1739 гг. в звании генерал-поручика командовал дивизией, с 1737 г. генерал-аншеф. Не путать с его знаменитым сыном полководцем Румянцевым (Задунайским) Петром Александровичем (1725—1796).
(обратно)
50
Не путать с однофамильцем дядей, бывшим посланником Пруссии при дворе Петра II и Анны Иоанновны. Что касается племянника, преемника дяди на дипломатическом посту, то герцог Лирийский, посол Испании при дворе Петра II, писал о нём, что тот
«не имел ни малейшей способности быть министром и обладал всеми пороками своего дяди, не имея хороших его качеств». Это был человек умный, но злой, не имевший никакой чести. Он вёл дурную жизнь, любил играть в карты и проигрывал больше, чем мог заплатить.
(обратно)
51
Бруммер, обычный кавалерийский солдафон, до приезда голштинского принца в Россию был его воспитателем. По сведениям, полученным посланником России в Дании и Швеции Й. Корфом, Бруммер издевался над принцем, унижал его человеческое достоинство и по приезде в Россию, ненавидя всё русское, прививал подобные же чувства своему воспитаннику. Он был один из тех, кто сильно поживился за счёт «бесхозного» герцогства Голштинского и представлял собой наихудший тип средневекового мужлана.
(обратно)
52
Кейт Джеймс (Яков Виллимович) (1698—1758), шотландец, на русской службе с 1728 года, участник Русско-турецкой войны (1735—1739), наместник Малороссии (1738—1741), генерал-аншеф (1737), в войне со шведами в 1741—1743 гг. занял Аландские о-ва. С 1747 г. на прусской службе с условием не воевать против русских. Погиб в сражении при Хохкирхене во время Семилетней войны.
(обратно)
53
Фридрих II, планируя захват Силезии, исходил из того, что, во-первых, она в своё время принадлежала Бранденбургскому курфюршеству, но была уступлена императору Священной Римской империи. Теперь (и это во-вторых) император этой фиктивной империи Карл VI умер, а его дочь Мария-Терезия, восшедшая на австрийский престол 9/20 октября 1740 г., никаких прав на Силезию не имела.
(обратно)
54
С приходом в КИД Воронцов М.И. станет противником бестужевской системы и сближения России с Англией. В 1758 г., после временного устранения от внешних дел, он возглавил КИД и в течение нескольких лет определял внешнюю политику России. Во время переворота 1762 г. остался верен Петру III и отказался присягать Екатерине II, однако на некоторое время оставался на посту канцлера. Его брат Роман (1707—1783), генерал-аншеф, отец знаменитой Екатерины Дашковой и Елизаветы Воронцовой, любовницы Петра III, был «птицей другого полёта»: будучи наместником в ряде губерний, прославился лихоимством и получил кличку Роман — большой карман.
(обратно)
55
Ныне здание Петербургского университета.
(обратно)
56
С.В. Лопухин скончается в ссылке в 1748 г. Н.Ф. Лопухина, отбывавшая ссылку в Селенгинске, в 1753 г. просила Елизавету об амнистии, обещая перейти в православие, но только Пётр III в 1762 г. дал ей свободу. Она появилась в Петербурге, но никто не узнал в ней бывшую красавицу. Через 8 месяцев после возвращения из ссылки она умерла. А.Г. Бестужева страдала от голода и холода до самой своей смерти в 1761 г. и скончалась в Якутске в доме при воеводской канцелярии, в то время как её дочь блистала на балах в Санкт-Петербурге, а муж разъезжал по европейским дворам и вступил во второй брак с госпожой Хаугвиц.
(обратно)
57
Ботта просидел некоторое время в тюрьме, а потом был прощён Елизаветой и отправился на войну с французами.
(обратно)
58
В этом письме М.П. Бестужев укоряет брата-канцлера в том, что тот оставил свою сестру без помощи, когда она, чтобы поправить своё вдовье положение, пыталась выйти замуж за какого-то курляндца. Михаил Петрович просил Шувалова не говорить Алексею Петровичу о своей просьбе, а действовать как бы самостоятельно, по дружбе. Письмо это вызывает недоумение: во-первых, 18-летний камер-паж Шувалов вряд ли мог давать какой бы то ни было дружеский совет престарелому Алексею Петровичу Бестужеву, великому канцлеру России; во-вторых, неясно, о какой сестре шла речь. Единственная сестра братьев Бестужевых Аграфена после лопухинского дела находилась в ссылке.
(обратно)
59
Под «курляндцами» М.П. Бестужев-Рюмин имел в виду Германа Карла фон Кайзерлинга (1695 или 1696—1764), по некоторым данным, продававшего русские секреты Пруссии в бытность свою там посланником (1747—1749), и Й.-А. Корфа.
(обратно)
60
Стремление Петра I выдать свою дочь Елизавету за Людовика XV было отвергнуто Версалем в силу низкого происхождения матери невесты. Француз предпочёл русской принцессе Марию Лещинскую, дочь «бездомного» короля Польши Станислава Лещинского.
(обратно)
61
Фридрих Георг, он же Фёдор Юрьевич Аш, проработал почт-директором 67 лет, верно прослужив трём императорам и четырём императрицам.
(обратно)
62
Прусский посланник Густав Аксель фон Мардефельд в 1728— 1746 гг.
(обратно)
63
Фридриху II.
(обратно)
64
Советника юстиции.
(обратно)
65
Шетарди, как мы уже замечали, официально не был аккредитован при русском дворе, и официальным посланцем Версаля был д'Аллион.
(обратно)
66
К 1760 г. X. Гольдбах удостоился звания тайного советника, в то время как Л. Эйлеру, несмотря на его выдающиеся достижения в математике, такого чина так и не было присвоено.
«Тайных советников у меня много, а Гольдбах один», — отшучивалась Елизавета.
(обратно)
67
Андрей Иванович умер в 1746 г. После него шефом Тайной канцелярии стал граф Александр Иванович Шувалов.
(обратно)
68
Бедного Шетарди сослали в его собственное имение в Лимузэне, но уже через 8 месяцев опала была снята, и он поступил во французскую армию. Его не покидала мысль вернуться к дипломатической карьере, но ни прусский король, ни его связи в Версале не помогли. В Турине он сблизился с любовницей сардинского короля графиней Сен-Жермен, наделал много долгов и был вынужден вернуться опять в армию. Потом он участвовал в Семилетней войне и скончался в 1758 г. на должности коменданта крепости в Ганау.
(обратно)
69
Позже Ф.И. Чернев в 1759 г. поехал в Париж секретарём российской миссии, которую возглавил М.П. Бестужев-Рюмин.
(обратно)
70
Ловиса-Ульрика, супруга кронпринца и сестра прусского короля.
(обратно)
71
Вожди партии «шляп».
(обратно)
72
Люберас.
(обратно)
73
Петербург
(обратно)
74
Прорусская партия, «колпаки».
(обратно)
75
Муж Марии-Терезии, Франц-Штефан герцог Тосканский, позже станет императором Францем I.
(обратно)
76
Надиром звали шаха Персии.
(обратно)
77
Не путать с однофамильцем саксонским посланником и любовником Анны Леопольдовны К.-М. Динаром (Люнаром).
(обратно)
78
М.Ю. Анисимов, работавший с архивами АВПРИ, наоборот утверждает, что А.И. Неплюев был креатурой канцлера, а Воронцов был недоволен его назначением в Османскую Порту, потому что хотел направить туда своего человека.
(обратно)
79
Напомним читателю, что её сестра Юлия Менгден, фрейлина двора Анны Леопольдовны, после государственного переворота 1741 г. последовала в ссылку вместе с правительницей.
(обратно)
80
Грюнштейн стал одним из наглых и распущенных лейб-компанейцев Елизаветы. Каплей, переполнившей чашу терпения императрицы, стало избиение Грюнштейном родственников её фаворита А.Г. Разумовского на Украине.
(обратно)
81
Бекетов Н.Н. сохранил чин подполковника, в сражении под Цорндорфом он командовал гренадёрским полком, при Петре III стал генералом, а при Екатерине II назначен астраханским губернатором. Он был отличным администратором, оставил службу в 1780 г. и кончил свои дни холостяком, утешая себя литературными и музыкальными занятиями в подмосковном имении Отрада, подаренном ему Елизаветой.
(обратно)
82
М.П. Бестужев был удалён из Вены за чрезмерную активность в деле переселения сербов из Австрии в Россию, чем вызвал немилость императрицы Марии-Терезии.
(обратно)
83
Г.И. Герасимова, описывая систему Панина, отмечает главную её черту: она заключалась в том, что Россия могла следовать
своим собственным воззрениям на развитие международных событий, не находясь в постоянной зависимости от эгоистических желаний своих европейских партнёров, как это было, например, при А.П. Бестужеве-Рюмине.
«Мы системы зависимости нашей от них переменим и вместо того установим другую беспрепятственного нашего собою в делах действования», — говорил Панин.
«Время всем покажет, что мы ни за кем хвостом не тащимся», — вторила ему Екатерина II.
(обратно)
84
Кайзерлинг (Кейзерлинг) Херман-Карл (1697—1764), на русской службе с 1730 г., президент Петербургской Академии наук (1733), посол в Польше (1733—1741, 1748—1752, 1762—1764), граф (1741), действительный статский советник (1746), посол в Пруссии (1744—1748) и в Австрии (1752—1761).
(обратно)
85
В состав Конференции вошли великий князь Пётр Фёдорович, канцлер А.П. Бестужев, его брат Михаил Петрович (летом 1755 года он вернулся в Россию), генерал-прокурор Н.Ю. Трубецкой, сенаторы А.Б. Бутурлин (1694—1767) и М.М. Голицын (1684—1764), вице-канцлер М.И. Воронцов, генерал С.Ф. Апраксин и братья Александр и Пётр Ивановичи Шуваловы.
(обратно)
86
Николаус Йозеф Эстергази фон Таланта (1714—1790).
(обратно)
87
Цитата из О. Елисеевой.
(обратно)
88
Н.И. Павленко пишет, что Екатерина сама нашла Салтыкова и завязала с ним роман по собственному почину.
(обратно)
89
Напомним, что, как двоюродный внук Карла XII, Пётр Фёдорович имел также право на ношение королевской короны Швеции.
(обратно)
90
Я. Штелин, образованнейший человек своего времени, член Петербургской АН, называл Чоглокова невеждой и был о нём как воспитателе наследника довольно низкого мнения.
(обратно)
91
Эту информацию Екатерина могла узнать только из прусских источников. В саксонском министерстве иностранных дел Фридрих II обзавёлся солидным агентом, который щедро снабжал Берлин самой секретной информацией.
(обратно)
92
Намёк на активные действия М.П. Бестужева-Рюмина по защите православного населения от преследования австрийскими властями, имевшие своими последствиями отзыв посланника из страны.
(обратно)
93
См. приложение к «Запискам» В.А. Нащокина.
(обратно)
94
Подозрения канцлера были вполне основательными: Кейт, будучи временным посланником России в Стокгольме после Обуского мира и командующим воинским русским контингентом в Швеции, как масон вошёл в шведскую масонскую ложу и поддерживал тесные отношения с антирусской шведской руководящей верхушкой.
(обратно)
95
«Неподвижный в движении» и «Всегда одинаков»
(лат).
(обратно)
96
Согласно последним исследованиям, Пётр III стал жертвой заговора графа Н.И. Панина, который хотел возвести на трон своего воспитанника Павла Петровича, а Екатерину оставить в качестве регентши. По этой версии, убил императора некий лейб-гвардеец Александр Мартынович Шванвиц (Шванвич), получивший приказ на устранение императора непосредственно от Г.Н. Теплова, сообщника Панина. Известная записка А.Г. Орлова Екатерине, в которой Алексей Григорьевич брал смерть Петра III на себя, согласно этой версии была подложной, а в фальсификации подозревается граф Фёдор Ростопчин, друг Павла I.
(обратно)
97
После Бестужева в списке шли Воронцов, Панин, генерал князь М.Н. Волконский (племянник Бестужева) и граф Кайзерлинг.
(обратно)
98
Сразу по восшествии на престол Пётр III отдал русской армии в Европе приказ прекратить военные действия против Пруссии и заключил с Фридрихом II позорный для России и весьма выгодный для Пруссии мирный договор.
(обратно)
99
Этот вопрос тоже достался Екатерине II в наследство от Петра III. Советники императора, в надежде повысить его авторитет среди дворянства, посчитали, что в принуждении дворян к учению и воинской службе, ввиду явного прогресса (?), больше не было необходимости. И Пётр III издал манифест, освобождавший дворян от указанных обязанностей. Естественно, это было преждевременной мерой, в стране ощущалась острая нехватка грамотных офицеров и чиновников, поэтому Екатерине II пришлось отменять это явно преждевременное нововведение, способствовавшее лишь увеличению числа фонвизинских недорослей.
(обратно)
100
Императорский совет — проект Н.И. Панина — вспомогательный орган управления страной, учреждённый в помощь императрице. Он предполагал устранить от государственных дел фаворитов и упорядочить работу Сената. Сначала Екатерина утвердила указ о создании совета и включила в него, согласно проекту Панина, 8 человек: кроме А.П. Бестужева-Рюмина, в него вошли князь Я.П. Шаховской, граф К.Г. Разумовский, Н.И. Панин, князь М.П. Волконский, граф З.Г. Чернышев и канцлер М.И. Воронцов. Но Екатерине начали нашёптывать, что Императорский совет имеет целью ограничить её самодержавную власть, и тогда императрица пошла на хитрость, поручив некоторым вельможам оценить проект Панина со стороны. Из всех «экспертов» отличился один — фельдцейхмейстер Вильбоа, который не без участия братьев Орловых признал проект Панина вредным и опасным. Екатерина после этого надорвала лист с указом об учреждении совета, и дело было закончено.
(обратно)
101
Гетман был братом фаворита Елизаветы А.Г. Разумовского, до украинского гетманства он заведовал Академией наук, принимал активное участие в перевороте 28 июня 1762 года.
(обратно)
102
То есть лицемер.
(обратно)
103
Раскаяние А. Мацеевича было, вероятно, неискренним. Он продолжал «хулить» императрицу и выступать в пользу Иоанна Антоновича, что положило конец терпению Екатерины. В 1767 г. на него был сделан донос, он был расстрижен из монахов, лишён фамилии и сослан в Ревельскую тюрьму под фамилией Враль, где и нашёл свой конец.
(обратно)
104
Согласно А.Б. Каменскому, эту фразу произнёс канцлер М.И. Воронцов, что, на наш взгляд, является весьма сомнительным.
(обратно)
105
В нашем «переводе» на правильный русский язык это должно гласить примерно так:
«Я видела эту просьбу, она отослана в Сенат монополий. Там признана вредной, ибо не один город разорён, исключения из правил служат другим примером, и за одним последуют многие другие. Впрочем, я подожду мнение Сената. Там, где выигрывает общество, на частный ущерб внимания не обращают».
(обратно)
106
Недаром сб. «Памятники новой истории» печатает переписку Бестужева с сыном под рубрикой «Из нравов XVIII века».
(обратно)
107
Согласно реляции Панина, надёжным источником была жена одного члена риксрода, проболтавшаяся своему любовнику о том, что её муж с президентом канцелярии графом Тессином замыслили способ отомстить России (любовник этой дамы, по всей видимости, был агентом или доверенным лицом Панина). Заговорщики разыскали какого-то майора, долго жившего в России, который предложил им два варианта мести: один дорогой, другой — подешевле. За 100 тысяч риксталеров он брался убить Елизавету Петровну, а за сумму, в 10 раз меньшую, — доставить Иоанна Антоновича в Швецию.
(обратно)
108
Немецкий поэт и переводчик, историк русского искусства и культуры, адъюнкт (1735), профессор элоквенции (1737) Российской АН, гувернёр великого князя Петра Фёдоровича (1742).
(обратно)
109
Орфография по подлиннику.
(обратно)
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ПЕТРОВА
СТАРШИЙ БРАТ
МЛАДШИЙ БРАТ
ВЗЛЁТ, ПАДЕНИЕ И СНОВА ВЗЛЁТ
ВИЦЕ-КАНЦЛЕР. ПЕРВЫЕ ШАГИ
СИСТЕМА ДЕЙСТВУЕТ
ДЕЛО ЛОПУХИНЫХ
БРАТ В ЛАГЕРЕ ВРАГОВ
ГРАФ ПРОТИВ МАРКИЗА
ВЕЛИКИЙ КАНЦЛЕР
ПАДЕНИЕ
НЕ У ДЕЛ
ОТЕЦ И СЫН
ЛИЧНОСТЬ БЕСТУЖЕВА-РЮМИНА
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ А.П. БЕСТУЖЕВА-РЮМИНА
БИБЛИОГРАФИЯ
ИЛЛЮСТРАЦИИ
*** Примечания *** 





















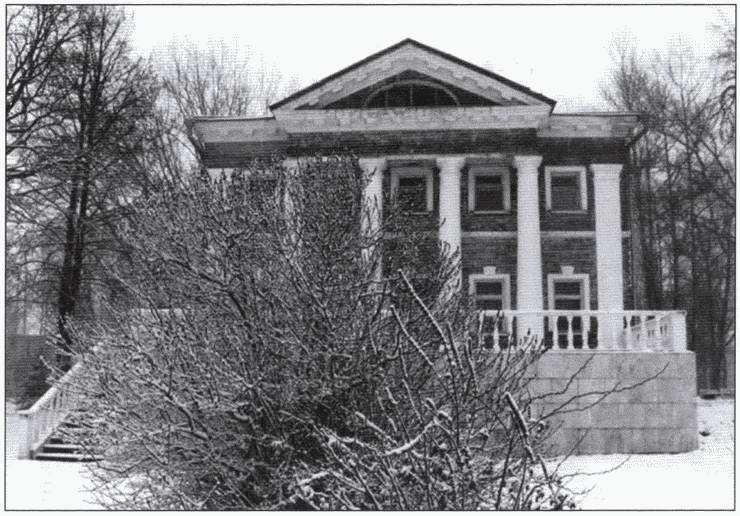





Последние комментарии
1 час 33 минут назад
2 часов 47 минут назад
3 часов 53 минут назад
5 часов 2 минут назад
17 часов 16 секунд назад
17 часов 13 минут назад