Борис Бернштейн Старый колодец. Книга воспоминаний
Нынче издаётся много мемуаров. Ещё больше — пишется. Удачи — редки, удачи подлинные исчисляются единицами. Воспоминания Бориса Бернштейна — редчайшее исключение. Жизнь Б. Бернштейна, блестящего либерала — гуманитария, известного ученого, сохранившего нравственное и профессиональное достоинство в самые лихие времена, рассказана им с талантом одарённого литератора и тонкой ироничной мудростью. Свидетель своего века, участник и аналитик научной и художественной жизни России XX‑XXI столетий, Бернштейн написал великолепную книгу. Михаил Герман Для историка завтрашнего дня и для сегодняшнего читателя мемуары Б. М. Бернштейна представляют первостепенный интерес. Содержательные, ярко и остроумно написанные, эти очерки живо восстанавливают уходящую эпоху, значение которой мы только начинаем понимать сегодня. Борис Моисеевич — крупный искусствовед, автор многих замечательных работ, равно высоко оценённых специалистами и публикой. Я уверен, что, подобно другим книгам Бернштейна, его мемуары найдут восторженного, преданного читателя. Александр Эткинд Диалог есть цепь или венок фрагментов. Переписка есть диалог большего масштаба, мемуары же — целая система фрагментов… Фрагмент, словно маленькое произведение искусства, должен совершенно обособляться от окружающего мира и замыкаться в себе, подобно ежу. Фридрих Шлегель Что до моих личных склонностей, то я охотнее всего оказываю услуги умершим: они не могут себе помочь и тем больше, мне кажется, нуждаются в нашей помощи. Это проявление благодарности, и притом в ее наиболее чистом виде. Мишель Монтень. О суетностиАвтор призывает тени в поисках оправдания
Рене Магритт, мастер визуальных парадоксов, как‑то нарисовал курительную трубку и надписал — «Это не трубка». Мишель Фуко сочинил по этому поводу остроумное эссе. Первый шаг в его замысловатых рассуждениях — и самый простой — был тот, что нарисованная трубка на самом деле не трубка, а рисунок. Вслед за Магриттом я мог бы прибавить к заглавию этой книжки подзаголовок «Это не мемуары». И, вслед за Фуко, пояснить, что это лишь некая симуляция мемуаров, рисунки, изображающие мемуары. Если бы я вел дневники, записывал собственные и чужие мысли по поводу выдающихся или заурядных событий, собирал и систематизировал документы, особенно — относящиеся к себе самому, я бы, возможно, написал настоящие мемуары. Но ничего такого не было. Я всегда беззаботно относился к современности — словно бы она вовсе не становится историей со скоростью времени, но должна длиться вечно. Теперь приходится рассчитывать только на свою неверную память. Я выбрал для заголовка метафору колодца. Возможно, тут сыграла свою роль безмолвная подсказка Томаса Манна. Помните, с чего начинался его роман о библейском Иосифе? «Прошлое — это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет его назвать просто бездонным?» Манн говорил об исторической памяти народов. Но персональная память ей в чем‑то подобна. Забывание не образует дна, забытое просто уходит на другую глубину и нечаянно может всплыть. Собранные здесь отрывки написаны в разное время и по разным поводам, отсюда неизбежные различия в выбранной оптике, в интонации и стилистике. Многое тут — об ушедших. Не раз бывало так, что утрата близкого человека, друга, требовала немедленного отклика. Случались и другие причины. Ворот колодца начинал со скрипом вертеться — и из глубины удавалось поднять толику живой воды. Иногда поверхностная рябь позволяла различить неясно отраженные черты повествователя, а за его силуэтом — серые небеса эпохи, в которую ему случилось родиться. Трудно вытянуть в одномерную нить повествования то, что Б. Р. Виппер назвал однажды «толщиной времени». Конечно, рассказчик один, но вокруг разыгрывается множество параллельных сцен. Уже поэтому я не собирался сочинять мемуарную книгу: с самого начала понимал, что придется по нескольку раз возвращаться в одно и то же место. И затем, пока вспоминаешь, время идет, мемуарное поле расширяется. Поэтому честный мемуарист знает, что сочинение мемуаров — занятие субъективно бесконечное. В конце, разумеется, будет точка, но поставит ее не он. Ясно, что тут записано куда менее того, что я хотел бы и мог рассказать. Я говорю не обо всех, ох, далеко не обо всех, кто этого заслуживает. Но пока — вот столько. Не исключено, что я вспомню еще кое‑что. Рыхлая форма собрания фрагментов открыта. Ибо прав был Фридрих Шлегель: мемуары на самом деле — не что иное, как система фрагментов. Даже и не система. Не надо притворяться, что это не так, и заполнять пустоты между блоками бесцветным связующим. Вот почему в качестве введения я позволил себе поместить отрывки из интервью, которое было задумано некогда для таллиннского журнала «Kunst». Ответы не были опубликованы в связи с безвременной кончиной журнала. Вопросы, которые задавала проф. Криста Кодрес, затерялись, но они легко восстанавливаются из ответов. Коллега Криста умеет спрашивать — и потому мои ответы могут служить своего рода биографическим каркасом, кое‑как собирающим автономные фрагменты, «подобные ежу». Заранее предупрежу о том, чего здесь нет и чего не будет в других моих мемуарах, если таковые появятся. В нынешнем разливе воспоминательной литературы нет недостатка в бесстыдных исповедях — всё на продажу! — и сплетнях о других. Я полагаю, что жизнь каждого человека принадлежит ему прежде и более всего — и никто не вправе совать свой нос куда не просят. Сокровенными вещами, своими и, тем более, чужими, торговать нельзя. Здесь исповеди будет ровно столько, сколько требует необходимость и позволяет чувство меры. Интимных сплетен и вовсе нет. Любители таких вещей могут закрыть книгу, не читая. Всем другим автор будет рад. (обратно)Забытое интервью Ответы на вопросы эстонского журнала «Kunst»
Я действительно родился в Одессе в 1924 году. Ленин умер в январе, а я родился в ноябре. Между этими двумя событиями нет прямой связи. Одесса — удивительное место. Где еще в Российской империи можно было найти город, где главные улицы были бы названы в честь французов или португальцев, самый важный памятник поставлен герцогу Ришелье, где другие названия улиц — Греческая, Еврейская, Польская, Большая Арнаутская — громко заявляли об этнической гетерогенности и поликультурности, а третьи — Старопортофранковская! — о жизни большого южного порта, открытого Европе, Азии и миру; город, с пляжей которого — через море — угадывалось анатолийское побережье с его памятью о древних поселениях, мудрецах, мастерах, поэтах и воинах, определявших судьбу и облик европейской цивилизации? Что делать, если не только воспитание, но сама атмосфера Одессы сформировала меня так, что — независимо от апостола Павла — я не научился отличать эллина от иудея? Отец был родом из Балты — маленького городка на Украине, он сдал за гимназию экстерном (евреев принимали в гимназии по «процентной норме», туда попадали единицы) и получил право обучать грамоте «своих единоверцев». Во время гражданской войны он создал в Одессе уникальную по своим педагогическим установкам школу для погромленных, обездоленных и потерянных еврейских детей, школа славилась по всей Украине. Когда в начале 1930–х годов ее стали перекраивать по лекалам советской схемы образования, отец ее покинул и в дальнейшем работал, выражаясь официальным языком, в системе подготовки кадров для промышленности. Мать происходила из довольно состоятельной одесской семьи, у которой от ее состоятельности после революции, разумеется, ничего не осталось. Одного из ее братьев чекисты расстреляли без суда в 1920 году. Позднее в ГУЛАГе погиб другой ее брат, крупный инженер. Мама окончила Одесскую консерваторию и учила детей, в том числе и меня, игре на фортепиано. Что касается меня, то это была ошибка: я начал более серьезно относиться к музыке, попав к другому педагогу. Кончилось тем, что я два года проучился в известной одесской школе — десятилетке имени П. Столярского. Я не вышел звездой из этого звездного инкубатора (у наших профессоров учились Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс, Лиза Гилельс, Яков Зак, Михаил Фихтенгольц, Борис Гольдштейн, Самуил Фурер, Михаил Вайман, Ольга Каверзнева, Эдуард Грач, Евгений Могилевский и другие…), но многому научился, школа была прекрасная. Там я познакомился с Фридой. Мы оказались в одном классе (по общим предметам) и вскоре сидели за одной партой. Окончить школу не удалось: помешала война. — Жестокие бомбардировки Одессы начались в июле 1941–го. Вскоре Одесса была окружена. Наша семья бежала морем: было хорошо известно, что нацисты евреев не пощадят. Погибли две мамины тетки — старухи, погибли друзья — мальчики и девочки из нашего класса, они не смогли уйти… Эвакуационная судьба занесла нас, в конце концов, в степной Алтай; жизнь в городе Рубцовске мало чем отличалась от любой сибирской ссылки. Оттуда меня призвали в армию и направили в военное. училище, а там за год научили, как быть техником зенитной артиллерии. С конца 1943 года я служил в Москве и под Москвой, где главным образом обучал других устройству зенитных пушек и приборов. Это был первый опыт преподавания. Надо сказать, что тонкие и остроумно придуманные приборы (напомню, что ни радаров, ни компьютеров еще не было, то есть — у Советской армии не было) мне нравились, свободными вечерами я пробовал самостоятельно разобраться в началах высшей математики; дело дошло до того, что я подал бумаги в Артиллерийскую академию, на инженерный факультет. Интересно, как повернулась бы жизнь, если бы меня приняли? В конце 1945 года части, где я служил, расформировали за ненадобностью, но меня не отпустили на волю, как я просил, а отправили в советские войска, стоявшие в Польше. Там мне не удалось прослужить по своей военной специальности ни минуты, зато я кое‑что повидал из несоветской и не совсем советской жизни, стал понимать польский язык — словом, более полугола жизни в заграничной стране не прошли даром. С девицей Фридой Приблудой, тогда уже студенткой Ленинградской консерватории, мы сочетались браком по гражданскому обряду в ноябре сорок пятого. Летом следующего года меня, наконец, уволили в запас. — Выбор профессии был актом мгновенной импровизации. Я знал только одно — кончая с военной службой, я кончаю с техникой. О консерватории не могло быть и речи — я был не готов профессионально и не уверен в своем музыкальном призвании. Фрида и ее друзья сориентировали меня, как могли, и вскоре я был в кабинете проректора университета. Я просил принять меня на отделение истории искусства исторического факультета, мне предлагали место на биолого — почвенном. Две с небольшим недели моего упрямства, жалоб, настояний и невероятных приключений — и я был зачислен, куда хотел. Только тогда, оглядевшись вокруг, я заметил, что тут говорят о живописи, скульптуре, архитектуре, опять о живописи, а другие искусства словно бы вовсе не существуют. Нет, я рассчитывал на нечто другое… За этими делами я не сразу заметил, что 25 августа было опубликовано знаменитое постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», главными и показательными жертвами которого были Михаил Зощенко и Анна Ахматова. Это был очередной акт невиданного культурного террора, раздавившего едва ли не все живое и талантливое, что еще сохранялось или рождалось в искусстве, в гуманитарной и научной мысли огромной поликультурной державы. В микрокосме исторического факультета это сказалось самым трагическим образом. Когда я начинал учиться, это был все еще — несмотря на ближайшую историю — академический центр с огромным научным потенциалом. Когда я покидал университет, от него почти ничего не осталось. Но я еще успел. Я слушал лекции таких ученых, как Иеремия Иоффе, Николай Пунин, Наталия Флиттнер, Михаил Доброклонский, Владимир Левинсон — Лессинг, Михаил Каргер, Матвей Гуковский, Моисей Каган, Татьяна Знамеровская, Элеонора Гомберг, Валентин Бродский… Вопреки царившей в университете удушающей идеологической атмосфере, эти люди, не только серьезные специалисты, но и многосторонние гуманитарии, сумели многому нас научить. Начиная со второго курса я мечтал стать медиевистом. Это была пустая иллюзия, изучение западного искусства полагалось постыдным и непатриотичным, а средневекового — совсем недопустимым; мне пришлось забыть о французских иллюминованных рукописях из Публичной библиотеки, которыми я занимался с увлечением, и писать дипломное сочинение об Александре Иванове. Но до того я много слушал на кафедре истории Средних веков. Заведующий кафедрой профессор Осип Вайнштейн, крупнейший историк, был при мне изгнан из Университета и прозябал где‑то в провинциальном среднеазиатском педагогическом институте. Незабываемый курс профессора Матвея Гуковского «Папский Рим и итальянские походы» я помню по сей день — хотя и не во всех подробностях, увы, но даже зрительно и акустически. Нас было человека четыре или пять слушателей, профессор садился во главе кафедрального стола и скрипучим голосом — без всяких конспектов, разумеется, — сканировал Италию конца пятнадцатого века, представляя нам годовые срезы этой пестрой страны в самое замечательное время ее истории. Матвей Александрович был арестован вместе со своим братом, выдающимся литературоведом Григорием Александровичем на Рижском взморье летом 1949 года. Григорий погиб в лагере, Матвей выжил и вернулся… Исторический факультет был не худшим местом: на соседнем (территориально) экономическом факультете посадили почти всю профессуру. Сажали и студентов — почему этих арестовывали, а других оставляли на воле, сказать невозможно, в этой смертельной лотерее действовали только статистические закономерности; сажали тех, на кого поступил донос, но доносчиков и идеологических палачей сажали тоже. Нас, не закаленных и не иммунных, не попробовавших никакой альтернативы, успешно формировали в ортодоксальном марксо — ленинско — сталинском духе. Я меньше всего склонен винить в этом всех подряд своих учителей. Конечно, диктатура и террор порождают фанатиков и негодяев в наибольших количествах. Но в непрозрачной, студенистой субстанции страха можно было, пусть не всегда четко, отличить, где палачи, а где жертвы, одураченные или вынужденные лгать. Азарт разоблачений мне, в общем, чужд. Я понимаю, почему доцент Валентин Бродский объяснял нам, как с импрессионизма, который был выражением субъективного идеализма в живописи, началось разложение буржуазного искусства, а деформации в картинах Сезанна появились только потому, что у художника был органический дефект зрения. Попробовал бы он объяснять иначе! Преследования Пунина начались с того, что он прочитал доклад «Импрессионизм и картина» — за это его выгнали из Союза художников. Бродский, как сказал бы юрист, не превышал пределы необходимой обороны: калеча наше профессиональное сознание, он защищал собственную жизнь и жизнь своей семьи, граждане судьи! Музеи? Эрмитаж открыл после реэвакуации часть своей экспозиции 8 ноября 1945 года; в тот день я случайно был в Ленинграде, но еще ничего не знал о своем будущем призвании. В январе 1946–го, попав снова на несколько дней в Ленинград, я с Фридой долго бродил по безлюдным тогда залам музея; до сих пор храню купленные тогда бедные, серым по серому напечатанные репродукции. Перед поступлением в Университет я еще успел посмотреть «третий этаж» — вскоре его закрыли, и надолго. Не менее стерильно выглядели в годы моего учения и экспозиции Русского музея. Естественно, русский авангард был упрятан подальше от людского взора — да что авангард, если Мир Искусства был признан исчадием империализма. В начале пятого курса я устроился в Эрмитаж водить экскурсии по античному отделу. После первой же — пробной! — экскурсии меня оттуда выгнали. Заведующая античным искусством, ее фамилия была Передольская, на меня ужасно накричала: в моей экскурсии были обнаружены аморальные выходки — я объяснил, кто такие были гетеры, а еще назвал Гиацинта (его мраморный торс приписывался тогда Пифагору Регийскому) «молодым человеком», и чуткие уши дам из античного отдела услышали в этом намек на безнравственные и даже подсудные отношения юноши с Аполлоном. Кроме того, я был обвинен в формализме — это меня очень утешило в моем несчастье… Полагаю, что за мной числился еще один грех, непроизносимый, но наиболее существенный — мое еврейство. После окончания университета мне предложили было должность заведующего колхозным клубом в Херсонской области; никто, впрочем, не настаивал, когда я отказался. Признаться, у меня в дипломе не было ни одной оценки ниже пятерки. Тем хуже. Меня удалили из городского экскурсионного бюро, где я водил экскурсии, пока был студентом. Передо мной была стена: работы по специальности для Бернштейна не могло быть нигде. Марксистско — ленинский антисемитизм входил в высшую фазу — отец народов обдумывал в деталях план окончательного решения еврейского вопроса в СССР. Засорять структуры социалистического государства людьми, которых все равно вскоре придется изолировать и истребить, было бессмысленно. — Вот причина, по которой я — в июле 1951 года — сел в таллиннский поезд. Надежда найти работу была невелика, но я хотел попробовать. Почему Таллинн? Я сегодня вполне вооружен для того, чтобы перечислить множество серьезных оснований, но все это будет неправда. О Лотмане я ничего не знал, о Тартуском университете — не намного больше. На самом деле потому, что Таллинн был ближайший к Ленинграду культурный центр, и мне было где в Таллинне переночевать, только и всего. Считайте меня циничным карьеристом. — Каким я увидел эстонское искусство, когда я попал в Таллинн? Прекрасный вопрос. Мне жаль отвечать на него коротко! Но попробую — в надежде, что смогу в другой раз ответить подробно. Прежде всего надо представить «сенсор», воспринимающий аппарат, т. е. себя самого в то время. Даже в физике измерительный прибор влияет на результирующее описание процесса. Глядя на себя, каким я себя помню и понимаю в пятидесятые годы, я не устаю удивляться. Какую невероятную смесь или, если по — научному, какие гетерогенные структуры личности формировала эпоха! Я был в некотором смысле совершенно «советским человеком». Во — первых, я был марксистом: формационная концепция истории и социализм как «разрешение ее загадки» — достаточно стройная и логичная философия истории, не хуже многих других, а социалистический идеал справедливости для бедных и угнетенных ничем не хуже феминистского идеала справедливости для женщин или эгалитарного идеала справедливости для сексуальных меньшинств. Чтение наших коллег феминистского направления, подсчитывающих процент картин второй половины XVIII века, где образ женщины помещен в центр композиции, горячит кровь — вспоминается, как мы искали и находили образ труженика в картинах безусловно прогрессивных мастеров, на которых держалась история искусства… Кстати: последнее издание Webster’s College Dictionary советует заменять fireman на firefighter, policeman — на law enforcement officer и mankind — на homo sapiens. Мало кто помнит, как в эпоху идеологической борьбы с космополитизмом «французскую булочку» переименовали в «городскую», кафе «Квисисана» в Ленинграде — в «Север», кинотеатр «Норд» — тоже в «Север» и т. д. Урок истории состоит в том, что справедливый homo sapiens, преемник патриархального mankind, не извлекает из истории никаких уроков. Но у нашего поколения, в отличие от предшествующего и последующего, не было выбора, однобокость и фанатизм были приготовлены нам судьбой в качестве стартовой ситуации. Я верил в коммунизм, в реализм, в общественный и художественный прогресс. В то же время меня тошнило от лживости и наглости партийно — государственной политики, от пустоты официальной литературы и кино, от оголтелой шовинистической демагогии, от ксенофобии, от самой атмосферы партийных и государственных институций. Я уже не говорю о КГБ, Гулаге, паутине доносов и слежки, чье окутывающее присутствие ощущалось постоянно. Сказать, что это было противостояние идеала и реальности, было бы уловкой. «Двоемыслие» — «думаем одно, а говорим другое» — слова, которые хотя и справедливы, но механически и односторонне изображают дело. Система проникала в наши клетки, раскол был внутри. Энтузиазм и страх, вера и ересь, лицемерие и искренность, достоинство и сервильность странно и неразличимо переплетались между собой, образуя удивительную диалектику личности, сформированной сталинской эпохой. Эти строки — не опыт самооправдания, скорее это опыт исследования с использованием интроспекции; метод, в психологии известный. Поскольку исследуется прошлое полувековой давности, можно говорить о методе меморативной автоинспекции, применяемом для описания поколения, которое, как, впрочем, и все другие, не выбирало время и место посещения этого мира. Этот психологически — поведенческий коктейль был серединной, исходной субстанцией. В зависимости от того, какие элементы брали верх, человек становился, в конце концов, тупым фанатиком, коммунистическим прохвостом, циничным ханжой, двоемыслителем или — диссидентом, еретиком режима, отшельником, внутренним или реальным эмигрантом, наконец — тем типом «неконформного интеллектуала в системе», которого позднее назовут шестидесятником. Как видим, и тут было общество открытых возможностей. В некотором смысле. Я и был сосудом этого коктейля к концу университетского курса и в момент приезда в Таллинн. Конечно, я верил в высокий идеал. Когда писал, особенно в первые годы, — рука сама поворачивалась писать «как надо». Но поворачивалась не каждый раз! Я искренне жаждал освобождения от нормативности соцреалистической доктрины и партийно — идеологического контроля над художественной жизнью. Тем не менее собственные критические статьи, разборы, обобщающие сочинения на актуальные темы, написанные в начале — середине пятидесятых годов, я сегодня перечесть не могу, не хватает мужества. А исторические работы — в порядке. Написанные еще в середине пятидесятых исследования об Александре Иванове доныне не потеряли смысла, сделаны были добротно в научном отношении и без уступок конъюнктуре. К концу десятилетия профессиональное и нравственное сознание стало существенно прочищаться, но и позже из‑под моего пера выходили иногда сочинения, скажем так, не вполне достойные. Впрочем, иногда элементы лицемерия имели рассчитанную цель: барабанная дробь казенной риторики «вообще» прикрывала и защищала акты живого творчества. Так, после хождения Хрущева в Манеж мы публично обличали абстракционизм «у них», но никто из эстонских художников не пострадал, чего нельзя сказать о московских или киевских. Существуют разные мнения насчет того, насколько эта тактика была морально оправдана. Я думаю, что она имела известный смысл. Но к делу. Первые выставки «эстонского советского искусства» поразили меня несколькими особенностями. Первая, чисто количественная: они были бедны экспонатами и участниками. Я узнал не сразу, какого террора это было следствием. Второе: больше всего было произведений идеологически нейтральных жанров — пейзажи да портреты… Их советская окраска сгущалась в названиях: «Kukruse kaevanduse stahhanovlane X. X.» (стахановец шахты Кукрусе) или короче, без имени — «Lццktццlise portree» (портрет ударника)… Третье и самое специфическое: творения наиболее, так сказать, ударные в идейном отношении, так называемые «тематические композиции» отличались от своих российских и других двойников отсутствием авторского соучастия, искусственной, надутой патетикой, явным притворством. Сравните солнечное «Письмо с фронта» А. Лактионова с не менее солнечным, образцовым «Вызовом трактористов на соревнование» В. Карруса и Р. Треймана — эстонские живописцы «правильно изображают, но не верят». Вранье давалось трудно, пафос вообще не получался естественным, и не только из‑за отсутствия опыта. К середине десятилетия ситуация постепенно стала меняться. В те времена мы были хорошо натренированы, наша художественная и политическая чувствительность не нуждалась в шоковых эффектах, как она нуждается сейчас. Едва заметные колебания листьев или травинок сигнализировали нам о происходящих или предстоящих геологических сдвигах. Когда же О. Соанс, изображая строительство Нарвской ГРЭС, позволил себе работать длинными, текучими, отдаленно напоминающими югенд штрихами, а Л. Микко стал декоративно обобщать формы, то это ощущалось как взрыв свободы… Я думаю, что история искусства пятидесятых годов будет неполной без описания процессов в формальных и неформальных институтах культуры. Это не потому, что институциональная сторона художественной культуры меня давно занимает. Просто «художественная жизнь» бывала интересней художественных творений. То, что происходило в середине и второй половине десятилетия, я бы назвал кристаллизацией, отчасти стихийной, круговой обороны от власти. Съезд художников Эстонии в 1957 году посредством тайного голосования не избрал в правление ни одного члена правящей партии… Импровизированная, никак не оформленная, но тем более прочная круговая оборона приносила эффективные результаты. Без нее легендарные шестидесятые годы были бы куда менее легендарными. Власти в Эстонии и московские распорядители не раз оказывались бессильными изменить ход вещей, громы из центра докатывались до нас и гасли, не производя разрушений или нанося относительно небольшой ущерб. Вспомним внешне наиболее заметный жест — знаменитый искусствоведческий демарш Никиты Хрущева: у нас он практически не имел последствий, вскоре после него «официальные» выставки стали формироваться в основном по принципу качества, а не направления, слова «социалистический реализм», «партийность» и прочие заклинания, обретшие второе дыхание там, бесповоротно выпали из обихода здесь… Сложнейшая ткань художественной жизни шестидесятых — семидесятых годов заслуживает того, чтобы расплести ее многоцветные нити и проследить их полифонию. Но это особая работа. Кстати, многое уже сделано. Может быть, и я успею кое‑что добавить. Вижу ли я сейчас шестидесятые годы иначе, чем тогда, изнутри? Да, конечно. Современник различает событие по его отношению к фону, он же, превратившись в историка, — еще и по отношению к будущему. Но мне меньше всего хочется задним числом классифицировать направления, группы и пер — спективы их распада, трансформаций или ухода за кулисы, хотя я и знаю, что было потом. Наибольшую ценность для меня сохраняет непосредственное переживание — переживание разрастания свободы, расширения и дифференциации эстетической чувствительности, завоеванного художественного многоязычия, которое, однако, оставалось структурированным, в том числе и аксиологически — в отличие от постмодернистской лингвистической плазмы. Словом, память мне дороже ретроспективного анализа. Возможно, это возрастное. — Интерес к теории, скорее всего, врожденный. В университете я был непременным участником кружка эстетики; в Институте мне сразу пришлось читать курс эстетики. Следовательно, требовалось быть «в форме» и следить за событиями — хотя бы в пределах советской эстетики, так как другая эстетическая литература была недоступна и контакты закрыты. Феноменология зарубежной эстетической мысли (вплоть до перестройки!) была сведена к «критике буржуазной идеологии», еще в восьмидесятые годы в некоторых издательствах обзор зарубежной литературы по теме мог быть только критическим — или его не должно было быть вовсе. Поэтому даже серьезные теоретические издания бывали часто однобокими. Исключениями были, скажем, исследования школы семиотиков — структуралистов, получившей благодаря Юрию Лотману известность под именем тартуской, работы некоторых выдающихся гуманитариев масштаба А. Лосева, М. Бахтина или С. Аверинцева, некоторые специальные исследования по зарубежному искусству и культуре. Эти нарушения нередко дорого обходились авторам. Мне очень помогло знание польского языка — в Польше активно переводили современную западную литературу, да и их собственные теоретические работы бывали на совсем другом уровне компетентности и интеллектуальной свободы. В семидесятые годы доступ к информации стал немного легче, тогда, собственно, я и занялся теоретической проблематикой. Перекормленный «единственно верной марксистско — ленинской методологией», я начал задумываться над методологическими проблемами искусствознания; это была стартовая черта. Несмотря на кажущуюся пестроту тематики следующих работ, они внутренне связаны между собой, но только нелинейной связью: это неостриженные ветки одного куста. Советское искусствознание тех лет непросто описать в нескольких словах. В стране, где все было политизировано, научная и политическая позиции взаимно окрашивали и определяли друг друга. С этой точки зрения можно обозначить некий полюс, по отношению к которому выстраивалась шкала нравственно — научного качества. Пусть таким полюсом будут стражи догмы, блюстители чистоты веры, борцы за соцреализм, цензоры, инквизиторы и сикофанты. Их главным средоточием была Академия художеств СССР с ее Институтом истории и теории искусства, а также, насколько власти хватало, подчиненные ей заведения — скажем, Институт им. Репина в Ленинграде, хотя там не все искусствоведы были полностью подавлены академическим рабством — к ним никак нельзя отнести таких ученых, как, скажем, Ц. Нессельштраус или В. Раздольская. Еще в середине шестидесятых годов Академия пробовала заставить руководство Эрмитажа снова закрыть залы «третьего этажа», правда — безуспешно. Академические люди завладели ключевыми постами в ВАКе — Высшей аттестационной комиссии: вице — президент Академии В. Кеменов заседал в президиуме, а директор Института А. Лебедев председательствовал в экспертной комиссии по искусствознанию — и таким образом контролировали присвоение ученых степеней и званий в нашей области, и это по всей стране! На моей памяти были провалены докторские диссертации таких крупных ученых, как Герман Недошивин, Григорий Островский, Глеб Поспелов. Теперь можно признаться, что тайный (так называемый черный) отзыв на диссертацию Недошивина я имел возможность прочитать благодаря недискретной любезности члена экспертной комиссии — сказать? — Яана Вареса; трудолюбивый вице — президент и борец с буржуазной идеологией Кеменов написал 120 (сто двадцать) страниц идеологически — политического доноса. Искусство Прибалтики было для Академии художеств и партийных властей вечной угрозой, а искусствознание и критика — enfant terrible: после первой конференции искусствоведов трех республик в Таллинне (1965) всякое совместное действо искусствоведов прибалтийских республик оценивалось как возможный акт сепаратизма и эстетического бунта. Но, как следует из сказанного ранее, во многих местах существовали группы и институции, сильно удаленные от принятой точки отсчета. В Москве я бы назвал первым делом Институт искусствознания, принадлежавший когда‑то Академии наук, а позднее, когда Академия наук стала освобождаться от гуманистики, переданный в ведение Министерства культуры. Там, несмотря на неизбежные трудности, всегда оставалось место для научной порядочности и человеческого достоинства — не случайно искусствоведческие секторы этого института были вечной мишенью интриг и атак Академии художеств. Кафедра истории искусства Московского университета, где атмосферу создавали большие ученые: В. Лазарев, Б. Виппер, Д. Сарабьянов, В. Гращенков, — была другим таким местом. Некоторые коллеги в поисках профессиональной независимости укрывались в институтах истории и теории архитектуры, технической эстетики и даже — в Институте истории рабочего движения (!), где, кажется, можно было заниматься почти чем угодно. В Ленинграде совсем неплохой оазис образовался под крышей Русского музея, где был создан не имевший музейной функции отдел теоретического искусствознания, сотрудникам которого (М. Герман, Б. Сурис, Л. Мочалов, Л. Карасик, А. Боровский) платили зарплату за то, что они думали и писали, не особенно оглядываясь или вовсе не оглядываясь на официоз. В Средней Азии (Г. Пугаченкова, Л. Ремпель, Л. Айни) и в Закавказье (Г. Чубинашвили, В. Беридзе, Л. Бретаницкий) сложились свои серьезные исследовательские школы, их штудии по богатейшей истории искусства этих ареалов полностью сохраняют свое значение для мировой науки. Разумеется, музеи — Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, Музей имени Пушкина — делали свою исследовательскую, атрибуционную (тут были существенные открытия) и экспозиционную работу; Пушкинский музей устраивал элитарные «Випперовские чтения», куда приглашали сливки независимо мыслящей гуманистики, — душой этих конференций была И. Данилова, заместитель директора по науке. Немногие художественные журналы выстраивались по той же шкале: самым темным и наглым был журнал Союза художников России (и Академии художеств) «Художник», толстый журнал «Искусство» был безликим, но печатал достаточно обширные научные статьи, свободнее был облик «Творчества», наиболее независимую позицию занимал журнал «Декоративное искусство», камуфлируясь спецификой предмета. С начала 1970–х гг. стал выходить ежегодник «Советское искусствознание», а вслед за ним — целое соцветие других ежегодников; эта библиотека может быть монументом создателю и руководителю редакции ежегодников в издательстве «Советский художник» Юрию Овсянникову… Пора остановиться — нет никакой возможности, у меня во всяком случае, описать или оценить в нескольких абзацах итоги работы многих искусствоведов, которые вовсе не были нивелированы или раздавлены режимом. Правда, глядя отсюда, я не могу не заметить, что долгая изоляция, усиленная трудностями изучения языка и чтения кириллицы, обусловила расхождение в способах думать, плохое знание на Западе всего того, что заслуживает знакомства, с одной стороны, и закомплексованность мысли в странах, бывших недавно Советским Союзом, — с другой. Это, однако, слишком серьезная и тонкая тема, чтобы обсуждать ее мимоходом. — Мои типологические штудии… Тут я должен назвать некоторое обстоятельство, не имеющее научного объяснения. Боковая ветвь «типология культуры» — от только что названного ствола. Размышления о методологических проблемах искусствознания не могли обойтись без учета их функциональной стороны. Далее, нетрудно было заметить, что многие места и эпохи обходились без искусствознания вообще — не было ни функции, ни самой деятельности. Группируя во множества различные случаи и культурные ситуации, нетрудно было прийти и к некой обобщенной исторической типологии, а она — в свою очередь — задала вопросы о месте и функционировании самой пластической деятельности, самих артефактов в своем историческом контексте. Как раз в это время западное искусствознание переживало очередной методологический переход от ориентации на текст (формалистические методологии) к ориентации на жизнь текста в контексте. Однако ни работы Т. Кларка начала 1970–х годов, признанные первыми манифестациями «новой истории искусства», ни первая формулировка «институциональной теории искусства» Д. Дикки мне тогда не были доступны и даже не были известны. Логика собственных рассуждений и желание освободиться от традиционного для советского марксизма упрощенного социологического подхода вынудили меня двинуться в сходном направлении. Не знаю, стоит ли резюмировать эти сочинения — они опубликованы, это во — первых, а во — вторых — сюжет не закрыт, напротив, он становится все более интригующим: продолжение следует… Изменились ли мои точки зрения? Ю. Лотман как‑то напомнил грустную истину: идеи — товар скоропортящийся. В общефилософском плане это вопрос о кумулятивности знания (или хотя бы гуманитарного знания) вообще. В персональном смысле это вопрос о том, как долго вам кажутся съедобными — без глубокого замораживания — собственные высказывания. Для некоторых моих статей известным консервантом может служить такое их свойство, что они не содержат радикальных идей, не предлагают революционных стратегий, но только описывают, селектируют и упорядочивают имеющиеся практики. В общем — я продолжаю верить в продуктивность принятых подходов, хотя беспощадно переписал бы многое наново, вооруженный иного формата эрудицией, опытом обдумывания и чувством внутренней свободы, граничащей с интеллектуальной безнаказанностью, — если бы не ленился разогревать вчерашний обед. Но я намерен продолжить обсуждение, и мне грезятся достаточно интересные результаты. — Семидесятые и восьмидесятые… Каждый Ваш вопрос просится на хорошую монографию. Отвечая на предыдущие вопросы, я невольно затрагивал семидесятые и восьмидесятые годы. К тому же восьмидесятые, как известно, надо разделить на два, так как с середины десятилетия начался обвал. Стагнация — термин сначала затертый, а затем полузабытый, так как быстротекущая история нуждалась в более энергичных словах. Но он хорошо описывал положение вещей. После хрущевских импровизаций, грозивших раскачать систему, и постхрущевского аппаратного контрудара наступила пора некоторого равновесия. Иногда кажется, что консервация наличного положения вещей заботила систему больше всего. Было неявно институционализировано даже «подпольное искусство» — подполье давили и преследовали, но задавить не могли, так и остановилось дело на полпути: организовали московский «профсоюз графиков» или как там он назывался, туда собрали «неофициальных» художников, чтобы следить, если нет сил уничтожить, в мастерские допускали прогрессивных и просто денежных иностранцев: покупайте, пожалуйста, только платите в советскую казну, — как говорил мой друг, художник — диссидент, абстракционист, бунтарь и Герой Советского Союза Алексей Тяпушкин, за доллары у нас разрешалось фотографировать даже пытки. Кстати о диссидентах — при Сталине хватило бы одного дня, чтобы диссидентское движение исчезло, как рассветный туман. Дряблая власть на это уже не решалась. Соблюдение традиции часто носило ритуальный характер, а выродившийся ритуал оборачивался пародией: где‑то в семидесятых годах появилось постановление ЦК о художественной критике; в отличие от классических постановлений ждановской поры, запускавших гильотину, этого никто, кроме подхалимов и функционеров, не заметил. Давление власти то более энергично, то относительно вяло осциллировало вокруг некоторой условной оси: в Эстонии было можно то, что было бы невозможно в Ленинграде или Киеве; если М. Лейс, или П. Улас, или Р. Меель выставляли свои работы дома, то это входило в сложившийся порядок, но если они без разрешения посылали свои работы за рубеж, куда‑нибудь в Краков, Любляну или, упаси Боже, в Венецию, то выходил скандал и следовало наказание, мерзкое, но не смертельное. Институционализация «прибалтийской витрины» имела для нас еще и то значение, что, в отличие от оттепели и разнонаправленных прорывов к свободе в шестидесятые годы, синхронизация движения эстонского искусства с западным стала гораздо более последовательной: вслед за запоздавшими отблесками поп — арта, гораздо плотнее к образцам появились гиперреалисты, неоэкспрессионисты, тут же, вслед за ними — первые эклектические почки постмодернизма… К началу восьмидесятых годов словесный блок «эстонское советское искусство» потерял остатки смысла. Большая выставка эстонского искусства в Москве, последняя в роли «искусства союзной республики», состоялась в ту пору, когда пластическим искусствам оказалось практически «все позволено». Московские коллеги были полны воодушевления: им сдавалось, что выплеснувшийся отовсюду поток творческой активности нуждался в регулятивных, образцовых моделях пластической культуры — и эстонская выставка такие модели показывала! Издательство «Советский художник» тут же предложило мне приготовить альбом, съемку начали на месте, немедленно, в залах Дома художника на Крымском Валу. Общую вводную статью написал по моей просьбе Яан Кросс, я сочинил специальное введение… Прививка пластической культуры, правда, не состоялась: пока созревал альбом, Эстония перестала быть союзной республикой, во — первых, а во — вторых — проблема пластической культуры быстро и бесповоротно перестала быть актуальной… — Художественный институт? Этот дом на углу Тарту маантее в течение десятилетий был моим вторым домом. Поэтому о нем рассказать ненамного проще, чем о первом. Во всяком случае — не могу в нескольких строках. Попробую потом, но обязательно более подробно… — Сиюминутные проблемы искусствознания… Вот что я позволил бы себе в тезисной форме сказать по этому поводу. Это отчасти банальности, но без них не обойтись. Современный комплекс вещей, событий, процессов, слов, объединяемых названием искусства, настолько отличается от классического — в широком смысле — набора, что попытки объединить их в некой общей теории можно считать безнадежными. Традиционная эстетика, поставившая категории эстетического и художественного во взаимодефинирующую зависимость, становится историческим документом и свидетельством, ее объясняющая способность исчезает на глазах. Искусствознание в роли критики реагирует на эту необратимую качественную трансформацию первым делом. Поскольку лингвистическая деконструкция добралась до молекулярного уровня и каждое высказывание художника выполнено, как правило, на особом языке, созданном для этого и только для этого текста, — критик становится толмачом, предлагающим россыпи более или менее адекватных и доступных переводов. Все чаще, естественно, он передоверяет эту работу автору — и критическую статью вытесняет интервью. Такой ход оправдан, поскольку многие артефакты рассчитаны на мотыльковый век, и самое прочное, что от них остается, это вербальная пыльца. В конечном счете, расширенная биография художника как мифологизированная последовательность актов становится главным, если не единственным «произведением». Далее, эстетические или, тем более, этические критерии теряют всякий смысл, сама новизна, которой, казалось бы, суждено аксиологическое бессмертие, сильно скомпрометирована, и потому генеральным критерием может быть — и становится — этически бесцветный успех любого сорта, хотя бы только коммерческий.(Недавно Джордж Сорос заметил, что общество, где главной ценностью стал успех, обречено на нравственную деградацию. Интересно было услышать это из уст человека, заработавшего прозвище современного Мидаса. Хотя мой доход существенно скромнее соросовского, я с ним согласен.) О роли критика — куратора, критика — организатора, критика — квазихудожника, критика — коммерческого агента, словом — критика как универсальной закваски всего художественного и околохудожественного брожения сказано достаточно. Где прекрасная заря времен Лафона и Дидро, где сияющий полдень критик Бодлера или Аполлинера? Но история искусства, которая никогда не могла уберечься от современности, сегодня стоит на пороге самой грозной, но — может быть — и самой продуктивной трансформации. Утрата предмета, или, если хотите, утрата границ предмета изучения, о которой столько сказано («всеобщая история чего?»), вынуждает историю искусства достойно принять вызов. Взгляд, не затуманенный традицией, все лучше видит, как очертания «искусства» теряют отчетливость не только сейчас, но и с противоположного, условно говоря, конца. Иначе говоря — история искусства, не как описание, а как предмет описания, растворяется в многообразии и разнообразии ролей, которые поручались артефактам в истории и в топологии культуры. История искусства, если она хочет строгости, должна ограничить свой объект несколькими эпизодами, несколькими столетиями из всемирной истории артефактов. Если же она, поступаясь своей спецификой, сохранит за собой весь майорат, от палеолита до завтрашней Документа, то ей придется стать интереснейшей и трудной междисциплинарной культурологией. Нефиксированное, плавающее место пластических артефактов в культуре вынудит нас дрейфовать вместе с объектом — протеем. В конце концов, это судьба искусствознания всякий раз, когда оно отказывается от претензии на полную методологическую автономию и, следовательно, на формальный изоляционизм, описание абстрактной жизни форм. Такова имплицитная интенция Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, иконологии или социологизирующей «новой истории искусства». Мы уже сказали А, остается сказать Б — или не сказать ничего. (обратно)Бебеля, 12 Частное введение к Еврабмолу
У бедняков нет генеалогического древа, это капризное растение требует тучной почвы и хорошего ухода. История рода Бернштейнов плохо различима в негустом, клочковатом тумане семейных преданий. Мой прадед со стороны бабушки, Хаим Оберштейн, исполнял в городе Балте малозаметную, но необходимую роль — он развозил воду. Память о нем в устной традиции лучше сохранила его функциональное имя — Хаим — Воссерфирер. Кроме этого я, как ни стыдно, ничего рассказать о нем не могу. Другой прадед был кантонистом и николаевским солдатом, родом, я полагаю, из польско — литовских краев. Отслужив «под барабаном» положенные ему четверть века, он получил право поселиться где угодно в пределах империи: в балансе человеческих прав, обязанностей и качеств честно исполненный долг перед царем и отечеством в течение половины жизни искупал — до некоторой степени — органический дефект мальчика, рожденного в иудейском вероисповедании. Он мог стать мещанином Рязани, Царевококшайска или Самары, да что там — Москвы и даже самого Петербурга. Прадед выбрал малозаметный городишко Балту. Некогда, в золотые дни солдатчины, он вместе со своим полком квартировал в этих местах, балтские пирожки запомнились ему на всю жизнь. Легенду о поселении предка в Балте многие толковали поверхностно — в его выборе видели знак неудовольствия высшего разума, наказавшего род геном тупости. Оценивая этот факт из будущего, с точки зрения его дальних последствий, я нахожу такую позицию несправедливой. Ничтожные обстоятельства и, казалось бы, нелепые поступки экзистенциально определяют судьбы многих поколений: если бы не чары балтских пирожков, нам бы не удалось посетить сей мир в его минуты роковые, да и в другие минуты тоже. В некотором метафизическом смысле возвращение в Балту исторически оправдано. Психологически осуждение прадеда тем более неверно. Предок из кантонистов вряд ли мог стать другим: двадцать пять лет солдатчины, начатой в нежном возрасте, должны были полностью подавить сопротивляемость организма к искушениям балтской кухни, а заодно и способность провидеть будущее. Далее для меня какая‑то неясность: в документах говорится, что мой дед, сын царского солдата, юридически считался «гродненским мещанином»; что бы это могло значить? Так или иначе, но дед Борух (а если совсем официально, то Берко Овший Мордкович) Бернштейн, женатый на Соре, был классическим местечковым неудачником: предприимчивый «мой брат Эля» из «Мальчика Мотла» (Шолом — Алейхема, молодые люди, Шолом — Алейхема!) мог быть списан с него, требовалось лишь небольшое художественное сгущение, которое не противопоказано классическому реализму. Одно время он держал прачечную, позднее — мелочную лавку. Или сначала лавку, а потом уж прачечную. Последовательность не имеет существенного значения, тем более — в наши цинические дни, когда наиболее прогрессивные теоретики полагают историю всего лишь содержанием сочинений историков, которые — сочинения, а не историки — принадлежат, по их (теоретиков, а не историков) мнению, скорее к области литературы. Важно, что дела шли плохо, крах следовал за крахом. Изо всех разрешенных или даже поощряемых библейской моралью инициатив деду хорошо удавалась одна: дом стихийно — планомерно заполняли все новые младенцы. Дора, Моисей, Полина, Рахиль, Матвей, Ида, Абрам, Фрида… Дети помогали в прачечной, но поедали съестное из фамильной лавки, тормозя тем самым развитие капитализма в России. Когда вся семья собиралась за обеденным столом, предприимчивый дед Берко Овший любил повторять, горестно оглядывая прожорливую молодую поросль: «филе штиб мит идиотн». Эта идиома могла бы стать девизом нашего герба, если бы нынешнее Дворянское Собрание, или Президент Страны, или, скажем, сохранившиеся наследники Престола пожаловали Бернштейнам потомственное или, пусть, ладно, личное дворянство; пока что историческая фраза остается семейным motto. Полезное в качестве самокритического дезодоранта и уместное во многих отношениях, оно не во всем справедливо. Про деда, автора фразы, которая ставит его в один ряд со знаменитыми Людьми Фразы, чьи изречения записаны золотыми буквами на скрижалях: «И ты, Брут», «Государство — это я», «После нас хоть потоп», «Мы пойдем другим путем», «Хотели как лучше, а получилось как всегда» и т. п., — я знаю не больше, чем здесь написано. Когда дети встали на ноги, они перебрались в Одессу и забрали отца с собой. В семейном архиве хранится справка о том, что дед служил курьером в отделе кладбищ. Справка от 28 июня 1921 года удостоверяет, что он был уволен с 1 февраля 1921 года по приказу от 25 февраля 1921 года за № 11. Даты показывают, что время в подотделе кладбищ одесского горкоммунхоза было дезорганизовано, как и полагается в непостижимом, узком, как лезвие, почти двухмерном мире на грани бытия и небытия. Такова была последняя, с мрачноватым оттенком, фаза его трудной и деятельной жизни.* * *
Дети Берко Овшия, Боруховны и Боруховичи, не заслужили суровой отцовской оценки, если говорить о ее прямом смысле. Это были способные и порядочные люди. Они дышали воздухом времени. Жизненные перспективы, которые открывал перед ними традиционный балтский уклад, казались им бедными, незавидными и унизительными. Они не знали, что сотню лет спустя местечко, штетл, разделяя судьбу многих исчезнувших культурных сообществ, станет предметом романтической идеализации. Если бы они чудесным образом получили такую вот — окутанную серебристым ностальгическим туманом — картину собственной Балты, если бы она выглядела голографически правдоподобной, вряд ли их выбор стал бы другим. Проживать и вспоминать — экзистенциально разные вещи. Образование и эмансипация сулили другие горизонты, другие, куда более достойные возможности, нежели бочка водовоза Хаима, жалкая лавка Боруха Овшия или, пусть, хрестоматийный коровник Тевье — молочника. Вот почему гимназическое, если не университетское, образование, равно как и политическая левизна были эмблематическими признаками поколения. Тут нет ничего нового: не стоило бы об этом упоминать, если бы не метания идеологий и причуды философской моды, лишенной инерционного ядра. Неонеоконсерватизм, взращенный на почве шоковой ментальности авангарда, странная помесь памяти и забвения, прокурорской непримиримости к грехам предшественников, за которой скрывается ощущение собственной вины, мешает понять жизнь отцов и дедов. По темным историческим преданиям, в России конца XIX века действовала процентная норма. Как царская тюрьма и каторга по отношению к социалистической пенитенциарной конструкции, так процентная норма была неумелой любительской репетицией будущей мудрой национальной политики коммунистической партии — своего рода интернационалистской affirmative action, имевшей своей целью защиту коренного населения от дискриминации со стороны национальных меньшинств и справедливое выравнивание образовательных и других возможностей. В этой связи пора извлечь из неизвестности город Ананьев. В Ананьевской гимназии к евреям — экстернам относились с либерально — интеллигентской, неосмотрительной, как показала история, благожелательностью. Поэтому туда не зарастала тропа, по которой еврейские мальчики устремлялись к вожделенному свету учения. В свидетельстве № 2506 сказано, что: «Предъявитель сего мещанин Мошко Борухович Бернштейн. на основании Высочайше утвержденных, 22 апреля 1868 года, 13 декабря 1894 года и 11 декабря 1895 года мнений Государственного Совета о специальных испытаниях по министерству народного просвещения, подвергшись сокращенному испытанию в педагогическом совете Ананьевской мужской гимназии и выдержав оное удовлетворительно, удостоен звания учителя начальных училищ, для обучения своих единоверцев. В удостоверение чего дано ему это свидетельство за надлежащим подписанием и с приложением печати канцелярии Ананьевской гимназии». Среди оценок, выставленных ананьевскими учителями, действительно, преобладают тройки. Трудно сказать, по какой причине гимназический документ Моисея, в отличие от его инженерского диплома, выглядит неблестяще. Думаю, что его дистанционное гимназическое учение было отрывочным, надо было зарабатывать на хлеб. Ананьевский аттестат был завоеван, когда соискателю было за двадцать. Отец был наделен глубоким и гибким умом, а также волей и умением организовать себя и других — но эти качества не должны быть точно отражены в экзаменационных отметках. У него были отличные способности и прекрасная память. Когда я, на исходе первого курса исторического факультета, искушаемый мелким бесом тщеславия, стал вставлять в свои письма к отцу латинские изречения, он — разумеется, по памяти — поправлял мои ошибки. Его латынь была исключительно ананьевско — экстернального происхождения и не обновлялась по меньшей мере лет сорок, поскольку последующие его занятия и интересы были далеки от классической древности; не думаю, чтобы он открывал учительские советы своей школы или факультетские деканаты Промакадемии им. Сталина хрестоматийными цитатами, наподобие Quousque tandem, Catilina… — или, на худой конец, О tempora, о mores! — или, на совсем уж плохой, — Ave, Caesar, morituri te salutant… Нет — нет, такого не могло быть, поверьте моему слову. Хотя поводы были. Социалистические увлечения тоже не миновали детей Берко Овшия. Среди фотографий, сделанных в балтском фотосалоне начала века и непостижимыми путями добравшихся до Калифорнии к концу века, по меньшей мере одна могла бы служить — в зависимости от всемирно — исторического контекста — либо уликой, либо охранной грамотой. Моя старшая тетка Дора, ее ближайшая подруга Ида Луммер и другие девицы в блузках и сильно перетянутых в талии длинных юбках — отблеск угасающего югенда — запечатлены в качестве активисток российского социал — демократического движения. Композиционный, смысловой и политический центр группы — молодой человек, стриженный ежиком, с небольшой бородкой, в демократической косоворотке. Это знаменитый революционер, большевик. Вспомнить имя, данное ему при крещении, я не могу, требуются специальные разыскания. Но его партийная кличка известна каждому сознательному одесситу.* * *
* * *
Молодой бородач был сам Дед Трофим, в честь которого революционно названа одна из улиц Одессы. Насколько я знаю, после увековечения Деда ее ни разу не переименовывали. Это верное свидетельство идейно — политической неуязвимости героя, которая лучше всего обеспечивалась биологической уязвимостью: самым надежным путем к топонимическому бессмертию была преждевременная смерть от руки классового врага или от сыпняка. «Преждевременная» означает в нашем случае — имевшая место прежде времени его, удачливого покойника, идейно — политического перерождения и разоблачения, практически неизбежного, как показала позднейшая судьба его более живучих соратников. Впрочем, и ранняя трансгрессия из бытия в ничто не всегда уберегала героя от номинативной кары в мире его бывшего присутствия. Вспомним горестную комедию ошибок с переименованиями Дерибасовской улицы. Как известно, основатель города, чужеземный аристократ и генерал в русской службе, вынужден был уступить улицу имени себя Фердинанду Лассалю, основателю Всеобщего германского рабочего союза, который, по оценке самого Ленина, превратил рабочий класс Германии из хвоста либеральной буржуазии в самостоятельную политическую партию. Казалось бы, не самый худший кандидат для поднятия подмоченного престижа славной некогда Дерибасовской. Недолго, однако, тень немецкого вождя тешилась своим незримым присутствием там, где зримо прогуливались одесские пижоны (на тогдашнем диалекте — жоржики), красавицы и иностранные моряки. Хотя Фердинанд Лассаль покоился в могиле с 31 августа 1864 года, его оппортунистические шатания и уступки философскому идеализму гегельянского толка не остались незамеченными. Когда все эти дела, хоть и с опозданием, стали достоянием широкой общественности, улицу пришлось передать выдающемуся пилоту Валерию Чкалову. Но не навечно. Жизнь, как говорится, внесла свои коррективы. В ходе войны с нацистской Германией прояснилось значение национальных патриотических традиций, героических фигур прошлого и их деяний. Волна обоснованного энтузиазма почему‑то захватила и принесла на пенном гребне заслуженного француза (вообще‑то, он был португалец, но в народной памяти все основатели Одессы — французы) — улице вернули имя де — Рибаса. Незапятнанный Чкалов не мог быть ущемлен, ему отдали легендарную Большую Арнаутскую, которая уже давно называлась улицей Леккерта. За что наказали Леккерта, я сказать не берусь, к тому времени он был, конечно, мертвый революционер, но что‑то небось за ним числилось, хоть бы фамилия. Без причин бы не переименовали, в деле исправления ошибок у нас тогда не ошибались. Столько о Деде Трофиме. Но раз уж зашла речь об археологии имени, нельзя не сказать, что улица, на которой повествователь начал познавать мир, тоже имела некоторую номинативную стратификацию. Я родился и вырос на улице Бебеля, в доме, стоявшем посередине квартала, между Пушкинской, сохранившей древнее имя, и Кангуна, бывшей Польской. Девичье имя улицы Бебеля было еще реакционней, с течением времени его непроизносимость ощущалась все более остро, почти болезненно, в нем было некое свойство, которое ставило его ниже площадной брани. Это был опасный языковый кентавр: непристойности сейчас принято квалифицировать как «ненормативную лексику», а слово, сделанное некогда именем улицы, принадлежало к нормативной лексике, но по своей угрожающей постыдности ее далеко превосходило. Наблюдатели российской духовно — политической сцены не устают удивляться и негодовать по поводу флирта с церковью, очевидно показного и лживого, руководителей страны, не успевших сносить башмаки из цековских или обкомовских каптерок. Русский христианский живописец Илья Глазунов вполне мог бы написать серию исторических картин: «Причащение мэра Лужкова / генсека Зюганова…» и т. п. — лица заменяемы, композицию и одухотворенные глазуновские глаза можно сохранить. Если вдуматься, однако, это видимое притворство не так уж противоестественно, воцерковление коммуниста как способ поведения логично, привычно, рутинно, пуристов может смущать лишь смена церкви. В свое время один теоретик успешно защитил диссертацию, где была научно показана антирелигиозная сущность социалистического реализма. Диссертация так и называлась: «Антирелигиозная сущность социалистического реализма». Автору, разумеется, нужна была не столько истина, сколько ученая степень. Тем не менее нельзя не воскликнуть: сколько иллюзий! Ничего антирелигиозного в социалистическом реализме не было, точно так же как и в практике реального социализма. Другая религия, другие каноны, другая церковь, другая инквизиция, другая цензура, другое ханжество, другие святыни, святые, мученики… Если уж говорить об антирелигиозном эффекте советского опыта, то он — благодаря своей одноприродности и своему структурному подобию — мог бы стать пастеровской прививкой от религиозности. Но и этого не случилось. Вакцина должна быть ослабленной культурой, а советская церковь — в своей наглядной гротескности и анахроничных преувеличениях, в своей смертельной серьезности — только подавляла иммунную систему. Спора религии и атеизма не было, была битва церквей. Антицерковность советской системы была всего лишь эвфемизмом, плохо скрывавшим смысл неравного противостояния церквей и вер, из которых одна была одновременно и властью, и государством. Это обширная тема, из которой сейчас интересна лишь та ее часть, которая касается образа и слова. Откуда такое специфически советское отношение к слову и имени? Истоки его нетрудно найти в древних мифах о сотворении мира через слово — от древнейшего египетского и до библейского, в магии и мистике слова, в суровом Моисеевом запрете произносить имя Божие, в теологической лингвистике, возводившей связь между словом и называемой вещью к Первотворцу. Труды товарища Сталина по вопросам языкознания… При царском режиме улица называлась Еврейской. Нет, нет, никто никогда не посмеет обвинить меня в чувстве или, еще хуже, пропаганде какой‑нибудь там национальной исключительности, в указании на особую судьбу, качества и предназначение некоторого этноса. Любая улица, в имени которой звучала национальная нота, подвергалась в те времена назывательному исправлению. Так было, как мы видели, с Польской и Большой Арнаутской, но так было и с Малой Арнаутской (этого еще не хватало, две улицы имени одной загадочной нации!), Греческой улицей и площадью (опять!)… Если я позволил себе как‑то выделить трудное ономастическое прошлое улицы Бебеля, то оправданием для такого отличия может быть ее интересное будущее.* * *
* * *
Заколдованное слово, надежно погребенное, казалось бы, под прочным слоем уличного новояза, демонстрировало редкую живучесть и проступало сквозь покровы — пусть частично, но очень заметно, хотя бы в одной точке, вот там, в середине квартала между вечной Пушкинской и доисторической Польской, впоследствии Кангуна. Там, под номером 12, стоял жилой дом, выстроенный в самом начале века по проекту известного в Одессе архитектора В. Прохаски — настолько известного, что его имя было высечено на мраморной дощечке, вмурованной в стену дома навсегда. Эстетский снобизм ему был чужд — Прохаска не был поклонником упадочных форм модерна, он развивал в своем творчестве лучшие традиции Ренессанса. Так считают специалисты, авторы комментария к альбому об Одессе. Это указание, изложенное на научном языке своего времени и места, не следует понимать буквально: дом не был похож ни на флорентинские палаццо XV века, ни на собор святого Петра. «Лучшие традиции» означает «про — грессивные»; в некотором смысле историк одесской архитектуры прав. Когда я встречаюсь ныне с одесситами, начинаются неизбежные в таких случаях биотопографические обнюхивания по стереотипной формуле «А где вы жили в Одессе?» Стоит мне признаться, что я родился и вырос на Бебеля, 12, как в глазах моих собеседников возникает особого рода свечение. Нет, говорят мне они, вы в этом доме жить не могли, это невозможно! Надо принять во внимание, что большая часть моих земляков принадлежит, скажем так, к следующим после моего поколениям. Между тем, я действительно жил в этом доме до самого нашего бегства из Одессы в августе 1941 года. В прошлые времена случалось встречать одесситов, которые не сомневались в моей правдивости. Например, где‑то в конце 1943–го или в начале 1944 года, в Москве, за Киевским вокзалом… Причуды судьбы сделали меня, тогда — младшего техника- лейтенанта, преподавателем ПУАЗО и МЧЗА в 33–м ОУДРОА МУЛ ВЗА КА. Государственные виды России и сейчас не позволяют мне раскрыть эти завораживающие аббревиатуры, но любой, кто сочтет их невероятными, выдаст свою неспособность понимать специфику военных реалий. Скажу только, что институция под столь моудроаёнът названием была предназначена совершенствовать профессиональные знания офицеров, временно оказавшихся без должности. Однажды к нам в ОУДРОА поступила группа старших офицеров — от майора до полковника; мы вместе отправились в ЦДСА заслушать авторитетную лекцию о международном положении, которое доставляло нам много тревог. Мы заблудились в парадных лабиринтах дворца военной культуры — и некий майор обратился ко мне: — Ну, младший лейтенант, вы москвич, ведите нас. — Я не москвич, я одессит. Майор тоже оказался одесситом! И, представьте себе, я его спросил: — А где вы жили в Одессе? — Я жил на Бебеля, 12, — отвечал честный майор. — Я там учился. Сказанного было достаточно для мгновенного усмотрения истины. — Знали ли вы Моисея Борисовича Бернштейна? — спрашиваю я. — Как же! — восклицает майор. — Это был наш отец! — Мой тоже, — говорю я в некотором смущении, не столько от скромности, сколько от сознания, что становлюсь похож на О. Бендера в своем пристрастии к сильным эффектам. Майор Дудник был воспитанником Еврабмола. Создателем и руководителем Еврабмола был отец. Общежитие Еврабмола и квартиры многих его сотрудников находились в доме, выстроенном с использованием лучших традиций Возрождения. Аббревиатуру «Еврабмол» можно раскрыть. Полное имя школы было — Первый дом еврейской рабочей молодежи «Еврабмол». Позднее в бумагах встречался другой вариант — Школа — завод «Еврабмол». Так или иначе, но слово «еврейский» оставалось на бывшей Еврейской улице до самой войны. Вот так, молодые люди из Одессы. Тогда в доме на Бебеля, 12 можно было рождаться, расти, учить, учиться, жить, быть людьми. Тогда никто не догадывался, какое новое предназначение готовила ему история. Несовместимым с жизнью дом стал позже. Но вскоре.* * *
* * *
Как известно, война началась в ночь на 22 июня 1941 года. Месяц Одессу не бомбили. Иногда над городом кружились досужие немецкие самолеты, зенитки стреляли, сирены загоняли людей в убежища; для жителей нашего дома таким спасительным местом были подвальные дровяные сараи, выглядывавшие во двор и на улицу небольшими горизонтального формата окошками под сводчатыми потолками. На окнах были негустые, но крепкие решетки — от воров. Было страшно, но настоящих бомбардировок не было. «Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert…» В ночь на 22 июля, ровно в час назначенный, немецкая бомбардировочная авиация впервые показала одесситам, что она умеет. Тяжелые бомбы, омерзительно свистя, врезались в каменные дома — эта не в наш, — с грохотом рушились стены, и люди погибали в завалах. То ли в соответствии с политико — стратегическими планами немецкого руководства, то ли случайно, но в результате первых же налетов разрушены были здания одесского НКВД, внешне аккуратный и ужасающий своей опрятностью квартал Маразлиевской улицы, напротив Парка культуры и отдыха имени Тараса Шевченко. Педантическое указание места и времени должно скрыть неуверенность повествователя — во — первых, улица не могла быть имени Маразли, а какого она была имени, никак не вспомнить, во — вторых, я все это изображаю по памяти, и историки могут легко уличить меня в других фактических неточностях. Но суть и смысл событий я стремлюсь передать верно, в соответствии с принципом одного из лучших и мудрейших наших гуманитариев. Важна, говорил В. Бахтин, не точность описания, а глубина постижения. Разрушение чекистского гнезда вызвало, надо полагать, чувство глубокого удовлетворения у врагов социализма по обе стороны подвижной линии фронта. В некотором смысле оно было преждевременным. Мы—το знаем, что живучесть этих органов и их способность к регенерации превосходят любые природные образцы. А главное, органы‑то нужны всем, особенно — если политические системы близки друг другу. Неосмотрительное уничтожение помещений и устройств, приспособленных для изоляции, допросов и других способов добывания истины, отомстило за себя, когда Одесса была оккупирована и отдана под румынское управление[1]. Сигуранца оказалась бездомной. Между тем представительный и монументальный дом, спроектированный Прохаской, как мы помним, с самыми что ни на есть прогрессивными и, можно сказать, гуманистическими намерениями — ибо Возрождение и гуманизм нераздельны, — этот замечательный дом уцелел в дни бомбежек и осады. Здесь—το и поселилась сигуранца. Оставшихся жильцов выгнали, подвалы, где хранились дрова, уголь и ненужные вещи, где недавно пытались спрятаться от бомб и снарядов матери с детьми, улучшили, усовершенствовали, слегка оборудовали, окошки укрепили, и они стали удобными тюремными камерами; как переустраивали квартиры для новых функций, мне как неспециалисту сказать трудно. Но — на всякое дело есть знатоки и умельцы. Древние греки называли такие умения словом techne (техне); вслед за ними и мы говорим — «дело техники». С тех пор в этом доме, действительно, перестали рождаться и расти, учиться и учить; здесь только убивали или готовили убийства. Когда Одессу освободили от немцев и румын, родимые органы, органически родственные органам враждебным, пришли на готовое. И это было очень кстати. Работы было по горло, как говорится — таскать не перетаскать. Бебеля, 12 стало одесской Лубянкой.* * *
* * *
В квартире № 10 (некогда безусловно барской, но средней руки: парадная мраморная лестница в глубине двора, бельэтаж, четыре комнаты, ванная, кухня и при ней комната для прислуги) поначалу, если вести отсчет времен от рождения хрониста, жили всего две с половиной семьи — наша занимала две комнаты, из них первая, она называлась условно кабинетом, была проходная, в другой проходной, «столовой», жила тетка, мамина сестра, а в независимой комнате напротив входной двери жил некто Михаил, управдом, со своей женой Зинаидой; ее серьги, кольца, крашеные губы и халаты заставили меня считать ее первой красавицей, которую судьба позволила мне увидеть своими глазами. Позднее тетка уехала в Москву, а управдом съехал, надо полагать — с целью улучшения своих жилищных условий. Управдом, как это ему полагалось по должности, двигался против течения, поскольку власть как раз в те времена — в интересах трудовых масс — развернула кампанию по уплотнению жилья и жильцов. В бывшую теткину комнату вселились сестры Мария и Неонила Даниловны, которые уплотняли человекометраж нашей квартиры, будучи сами уплотнены вон из небольшого собственного домика на 5–й станции Среднего Фонтана. Проходить через них в кухонную зону стало невозможно. Под коммунальную кухню переоборудовали ванную. В комнате для прислуги время от времени квартировали наши домработницы, пока одна из них, отличенная былинным идиотизмом, Оля по имени, не схлопотала ребенка; дитя греха, правда, куда‑то девалось, Оля тут же родила другого, он тоже исчез, но метод серийного производства был освоен, Оля естественно и без пауз переходила из состояния беременности в состояние кормящей матери и обратно, а выселить потенциальную или готовую мать будущего советского человека было невозможно, это противоречило бы принципам социалистической человечности и чадолюбия. В комнату красавицы Зинаиды вселилась молодая пара — еврейский поэт Ханан Абрамович Вайнерман с женой Верой Абрамовной. Ханан писал стихи на идиш, у Вайнерманов собиралась литературная богема: Ноте Лурье, Айзик Губерман, Ирма Друкер; друзья густо курили и обсуждали писательские дела. Когда вышла книжка стихов Ханана, в квартире был устроен большой пир. У Вайнерманов вскоре родилась голубоглазая дочка Юленька, я любил показывать ей козу, вызывая бессмысленный и прекрасный младенческий смех. В таком составе квартира № 10 встретила лето 1941 года. Перед сдачей города еврейская часть жильцов, Вайнерманы и мы, бежали; если сказать то же терминологически — эвакуировались. Даниловны и непрерывная мать остались. Сигуранца выставила всех. Сестер Даниловен, Марию и Неонилу, я разыскал году в 1950–м, они ютились в крохотной подвальной квартирке на Канатной, тогда еще Свердлова, не знаю, как сейчас. О годах оккупации говорили мало. Вайнерманы после войны вернулись в Одессу. Мне казалось, что Ханан, этот робкий и безобидный человек, ничего больше не умел, как только сочинять стихи на идиш. Вот тогда это было уже очень нехорошо, и чем дальше, тем становилось хуже. Нет сомнения, что в поэзии Ханана Вайнермана четко прослеживались партийные и патриотические идеи, ноты гордости за свою социалистическую родину звучали с подлинной поэтической силой, а образы счастливой жизни советских людей, в том числе и даже в особенности — людей еврейского происхождения, отличались определенностью контуров и солнечной яркостью красок. Эти качества были необходимым условием существования советской поэзии и самого поэта. Да, верно, совершенно необходимым. Но не достаточным, ибо высшие цели и сокровенные причины требовали от власти проницательных интуиций и решительных действий — вне зависимости от слов, поступков и убеждений отдельных поэтов. Наконец за Хананом пришли и увезли его — на Бебеля, 12[2]. Ханан выжил. Не потому, что был невиновен или могуч телом и духом, ему просто повезло, он не успел погибнуть. Мы встретились с ним и с Верой в Одессе в конце пятидесятых, вскоре после его возвращения оттуда. Нам не терпелось расспросить его, но он помалкивал. Вера сказала мне: Боря, не спрашивай у него ни о чем, он ничего не расскажет, ему страшно. Если хочешь что‑нибудь узнать, спроси у меня, мне он рассказывает, иногда, ночью, под одеялом, шепотом… Тем не менее одну фразу Ханан мне сказал сам. «Боря, — сказал он (это слышали только абрикосовые деревья дачного кооператива «Солнечное»), — меня допрашивали в нашей квартире, в вашем кабинете».* * *
* * *
Какое‑то внутреннее препятствие все еще мешает мне приступить к изложению центрального сюжета. Собственно, я знаю какое. Сходные случаи описаны во всех популярных сочинениях по теории литературы. Автор начинает все более отождествлять себя со своим героем («Госпожа Бовари — это я») и следует за ним туда, куда и не чаял. Мне совсем нетрудно отождествить себя с еврейским поэтом Хананом Вайнерманом. Когда его «взяли», он знал, куда его повезут и где будут мучить. Скорее всего, железные ворота и верные часовые в сводчатом туннеле за ними ему не были видны, его вытолкали из фургона государственной безопасности уже в дворе — колодце и отвели в подвальную камеру. В довоенное время туда вела небольшая лестница — мимо дворницкой квартиры, очень было удобно приспособить ее под тюремную контору. Канализации там в подвальных камерах, не было, это мы точно помнили, но она в тюрьме и не требуется. О чем размышляет невинный человек в темном ожидании первой встречи с гражданином следователем? О жене и дочери? О наименее губительных признаниях, когда начнут бить? Или при первых угрозах? Кого оговорить, а кого не предать? Возможно, Ханана била неуемная дрожь, и он вообще ни на чем не мог сосредоточиться. Сколько времени так можно погибать? Были ли соседи по камере — сараю и что они? Но вот — Вайнермана вызывают на допрос. Какой путь вел от бывшего сарая до бывшей квартиры № 10? Инженерная служба румынских, а тем более советских органов могла себе позволить рационально обоснованные расходы и соорудить подземный коридор до лестниц, парадной или черной, по которым можно было привести преступника на допрос в наш кабинет. Но можно было и без подземного коридора. Если по парадной, то его следовало провести через двор, затем — полтора марша по светлой мраморной лестнице (не так уж высоко, удобно, если ноги не держат), первая, левая дверь на площадке бельэтажа — и он оказывается прямо напротив двери своей комнаты — той, с большим окном слева, куда он вселился с Верой лет за восемь до войны, где писал стихи, спорил о литературе с друзьями, где родилась Юленька. Затем ему велят идти направо… Возможно, инженерная мысль организовала движение заключенных на допросы иначе, был такой конструктивный ход, и он кажется мне более удачным. Из подвалов левой стороны двора, там, где вход охраняла бывшая квартира дворника Григория, нетрудно было соорудить подземный выход к длинному коридору, который вел мимо публичного туалета на черный двор. В каждом дворе нашего южного города, в каком‑нибудь дальнем углу можно было найти спасительную нишу, такова была традиция. Одессит, попавший в Москву или Питер, не уставал удивляться бесчеловечной жестокости отцов и строителей города — известны случаи, когда отсутствие поблизости общественного туалета имело необратимые последствия. Обширный, темный бифункциональный коридор в детстве внушал мне ужас. Чтобы попасть на черный двор, надо было миновать это место, открытое взорам прохожего; маленьким я был стыдлив. Иногда мне покровительствовала старшая кузина Жозя, она жила в нашем же доме и была моим самым близким другом и покровителем; входя в ужасный коридор, она громко и нараспев кричала: «КТО ЕСТЬ?» Я изумлялся ее героической находчивости. Если НИКОГО НЕ БЫЛО, мы смело следовали мимо человеколюбивого устройства на три очка и выходили на черный двор, откуда по черной же лестнице можно было попасть на кухни многих квартир, в том числе и нашей. Трудно допустить, чтобы пространственно — психологические стратеги из одесского КГБ упустили такую возможность. Вообразите — из тесной и вонючей камеры разоблаченного агента Моссада, ЦРУ и всего мирового сионизма вели по ступенчато расширяющемуся коридору, где густая вонь параши переходила в разбавленную вонь дворовой уборной, затем — через узкий черный двор и по черному ходу его вводили на бывшую кухню, там наверняка за казенным столом сидел дежурный старшина в фуражке с исторически малиновым околышем, он что‑то проверял и регистрировал, затем, мимо малой дежурки (там в мирное время неутомимо зачинала эмансипированная домработница Оля), через узковатый проход — в обширную канцелярию, бывшую комнату Даниловен, где углублялись в папки с надписью «ДЕЛО» молчаливые офицеры в форме и в статском, гладкие, невыразительно пристойные, без индивидуальных примет… Далее — чистый коридор, где справа — та самая парадная дверь, а напротив нее, слева, — дверь в свою комнату, в комнату Вайнерманов. Интересно, в каком положении находилась дверь, когда Ханана вели на допрос — закрытом наглухо? Распахнутом? Или чуть приоткрытом? Слышались ли оттуда, из комнаты, какие‑нибудь звуки — крики, хрипы, или, скажем, гул доверительной беседы? — Проходить, проходить, не останавливаться! Не смотреть по сторонам! Прямо! Прямо — это и была дверь в наш кабинет. Стол следователя, вероятно, стоял у окон… нет, скорее — слева от двери, около высокой кафельной печи, а одинокий аскетический стул для поэта — преступника, шпиона и вредителя — посреди комнаты, спиной к окнам… Нет, первый вариант лучше: следователь спиной к окнам, тогда его силуэт против света, в контражуре, как говорят специалисты, воспринимается обобщенно и выражение лица плохо различимо, тогда как мимика допрашиваемого видна во всех нюансах и выдает проницательному следователю попытки скрыть истину. Впрочем, почему его надо допрашивать днем? Значит, так. Следователь сидит спиной к простенку между балконной дверью и окном, примерно в том месте, где находилась клавиатура рояля. Мама была пианистка, она окончила Одесскую консерваторию, дома бывало много учеников и постоянно звучала музыка так называемого педагогического репертуара, я с младенчества знал ее на слух. Рабочий инструмент был кабинетный рояль фирмы «Мюльбах»; я рано научился читать, но, конечно, одну кириллицу; слово MЬHLBACH я легко прочитывал как русское «мунгвасн» — и эти непроизносимые «мунг», <гнгв» и «васн» очень меня раздражали. Позднее ко мне стала приходить учительница немецкого Елизавета Адольфовна Гут, коммунистка, бежавшая от Гитлера, не знавшая ни слова по — русски, оголодавшая и запуганная, с глубоко запавшими немецкими глазами, — мама всегда приготовляла ей к уроку чай с бутербродами. Она научила меня латинскому шрифту и, чтоб не измучилось дитя, давала мне читать что‑нибудь интересное для мальчика — вначале это был Reineke Fuchs Гёте, не адаптированный, впрочем, для нежного возраста. Благодаря науке я стал правильно читать название фирмы на крышке фортепиано, но зато появились другие неясности, и среди них такая — куда, спустя некоторое время, девалась сама Елизавета Адольфовна? Да. Значит, так. Там, где кончались клавиши четвертой октавы, спиной к простенку, — к простенку, простенку, слышите, как это просто рифмуется? — сидит следователь. — Вайнерман, за дачу ложных показаний вы будете нести ответственность по статье 000, параграф 00, пункт 0 Уголовного кодекса УССР. Вам понятно? Распишитесь вот здесь. Да нет, здесь!! Вы должны говорить мне только правду. Нам все известно. Добровольное признание может облегчить вашу участь. — Товарищ лейтенант… — Я вам не товарищ! — Извините! Гражданин лейтенант, я не…[3]***
Слово «Еврабмол» я помню столько же, сколько я помню себя. Оно принадлежало к тому набору первых слов, которые определяют и организуют мир ребенка, а потому они — больше чем слова, это экзистенциально данные сущности, абсолютные категории — свет, мама, мамина сестра тетя Фаня, отец, окно, звуки фортепиано, молоко, кабаковая каша, двор, акация. Еврабмол и еврабмольское было для меня исходной субстанцией, не имевшей начала и не подверженной изменениям. Ею все было пронизано. Она не имела ограничений ни во времени, ни в пространстве, то есть не принадлежала к конечным вещам. Вот тут, первая парадная лестница справа от ворот, на втором и третьем этаже — общежитие, где живут еврабмольцы и еврабмолки. Сколько их — такой вопрос не приходил мне в голову, их — неопределенное множество. Они приходят сюда и отсюда уходят в Еврабмол, который, следовательно, продолжается куда‑то вовне чувственно воспринимаемой ойкумены. То же с большинством здешних взрослых. Дядя Абраша, папин брат, чему‑то учит в Еврабмоле. Фридман Нухимович, их сосед, тоже. В том же коридоре, в другой комнате живут Енета Семеновна Гликсберг и ее муж Яков Моисеевич Плих — они тоже там работают. Ниже этажом, в похожем коридоре живет Ревекка Яковлевна — она фельдшерица в Еврабмоле. Еще там живут Сосисы. На нашей лестнице — Банкальтеры, Скибинские, Гоникманы, Флейшеры, Путиловы — они тоже причастны к Еврабмолу… Отделить себя и отца от Еврабмола я не мог, и только существенно позднее всепроникающее присутствие Еврабмола, его бесконечность во времени и пространстве и потому его идеальная внешняя и внутренняя неоформленность стала уступать место более определенным контурам и членениям. Я долго не мог понять, кто такой в Еврабмоле Моисей Борисович, — и не чувствовал такой нужды. Даже и тогда, когда формально, на словах, я узнал, что отец — «заведующий», из этого ничего решительно не следовало. Вплоть до критического события, которое обогатило меня неслыханным жизненным опытом. Почти квадратный двор — колодец, столь типичный для архитектурной эклектики конца девятнадцатого века и столь ценимый ее современными поклонниками, был, прежде всего, пространством детского общения. Там происходили всякого рода традиционные игры, обсуждения, завязывались дружбы, складывались иерархии. Небольшой космос двора имел свое гравитационное поле. Не забудем, что дело происходило в Одессе, где мир подростков — а при них и детей — был стихийно организован в единицы различной мощности, но имевшие одно классификационное название — шпана. Шпана с Большой Арнаутской, шпана с Бебеля не шла, разумеется, ни в какое сравнение с жуткой Портовой или Молдаванской шпаной — при одном только их имени волосы становились дыбом. Тем не менее и мы были шпана. Шпана с Бебеля, в соответствии с принципами Генеральной Теории Систем, состояла из подсистем; шпана с Бебеля, 12 и была такой минимальной системной единицей, ниже шли уже подсистемы подсистем другой природы. Сама жизнь сделала лидером нашей дворовой шпаны Володьку Генкенёва, сына упомянутого ранее дворника Григория, пьяницы. Его, Володьки, кандидатура никогда и никем не обсуждалась, само собою разумелось, что вождь — он. Теперь это таинственное свойство называют харизмой. Шпана наша, рыхлая и слабая, ничем не походила на сплоченную стаю, внутридворовое общение разнообразного свойства было ее главным занятием. Понятно, тут были свои аристократы и свои парии. Два мальчика Гоникманы, видимо — из очень бедной семьи, тихие, всегда сопливые и плохо одетые (и мы тогда не у лучших кутюрье с Дерибасовской одевались, но они уж совсем были рвань), занимали в сообществе самые последние места. Старшего, вдобавок ко всем бедам, еще звали Ира, это было уже слишком. Однажды сообщество, полное затей, избрало предметом испытания меня. В тот серенький день зрелой одесской осени Володьку, видимо, посетила муза. Охваченный творческим восторгом, он бросил мне вызов. — Слабо тебе (это мне, значит), —сказал Володька, — дать Ирке в морду! Народ очень оживился: моя кротость и флегматическая медлительность были широко известны. Володьку шумно поддержали. Дворовые дамы, в возрасте от шести до примерно одиннадцати, кровожадно вторили руководителю, что, мол, куда ему, слабо ему. Ирка безучастно стоял тут же. За что я должен был дать ему по морде — вопрос неуместный, вся интрига не имела отношения к проблеме вины и возмездия. Суть дела была в том, и только в том, может ли он, то есть я, дать человеку в морду. Всем было ясно, что драки не будет, что Ирка, мой ровесник, но еще более хилый, чем я, сдачи не даст. Он был всего лишь орудием проверки, неизбежной для исследовательских целей и для общего блага жертвой, морской свинкой, вот и все. Так в древней Спарте свободный юноша, чтобы доказать свое право вступить в сообщество мужей, должен был убить илота. Давление общественного мнения нарастало и вскоре стало невыносимым. Ирка ждал. Чего мог ждать от судьбы мальчик, носивший девичье имя? В конце концов, всякому малодушию есть предел. Я сдался, развернулся и неловко ткнул его кулаком в щеку. Ирка заревел и, смешивая сопли со слезами, пошел домой. Публика, довольная гладиаторским представлением, разбрелась. Герой тщетно пробовал услышать в душе медь победных фанфар. Ничего, кроме неясного чувства отвращения к самому себе. Насильственное прикосновение моего кулака к невинному Иркиному лицу имело для меня роковые последствия: до сих пор не могу вообразить себя наносящим другому человеку удар по лицу — даже если лицо этого просит и мне очень хочется. Надо было как‑то избавиться от мерзкого осадка — и я отправился еще погулять. Когда стемнело, я вернулся домой. И вот тут… Оказывается, Ирка дома нажаловался на меня, а его отец, спустившись тремя этажами ниже, рассказал обо всем моему. Как папа Гоникман построил жалобу, установить невозможно. Но мой отец был вне себя. Не помню, чтобы я видел его когда- нибудь в таком гневе и отчаянии. — Директорский сынок! — кричал он страшным голосом. — Директорский сынок избивает детей его сотрудников и подчиненных! Тебе, думаешь, все можно?! Позор! Что я теперь должен делать?! Я хотел объяснить, что мне такое не могло даже в голову прийти, что все было совсем не так. Конечно, не надо было, ох, не надо было, но при чем тут сынок, я даже не очень понимаю, что это значит «директор» и чем он отличается от Гоникмана. Но меня не слушали. Самое ужасное и непостижимое было то, что отец кричал и плакал вместе. Мне тогда, я думаю, было лет семь, не больше. Понятие «директор», этот непроницаемый прежде для сознания атрибут Моисея Борисовича, в некотором отношении стало для меня яснее и было наконец соотнесено с занятиями отца. Причина его крайнего — до слез — расстройства стала проясняться куда позднее. Создатель и ведущий уникальной школы, собравший единомышленников, с которыми вместе формировал — из сотен обездоленных и затерянных в трещинах исторических разломов еврейских детей — достойных и вооруженных к жизни людей, он переживал мой поступок как педагогическое поражение, как крах собственных моральных принципов, как несмываемый позор.* * *
* * *
Впрочем, были вещи еще более опасные для его дела и идей, чем мое бессознательное и непреднамеренное хамство. У вечного, как‘мне казалось, единства «папа — Еврабмол» было временное ограничение, начало и конец. Конец я видел своими глазами, не вполне понимая, что происходит. Странно, не понимал ведь, меня в то время очень охраняли от травмирующих знаний, но из сотен и сотен дней детства один остался в памяти с преувеличенной оптической внятностью — как батальная диорама, созданная мастерами Студии военных художников имени Грекова: дали написаны на холсте, а передний, главный, план исполнен в трех измерениях, цветной, совсем как настоящий. Отец в тот день был дома. К нему с утра и до вечера ходили люди, которых я хорошо знал, — его друзья и сотрудники. Они уговаривали его что‑то сделать или, напротив, чего‑то не делать. Он не соглашался. Его рабочий стол стоял тогда в большой комнате, «кабинете», под углом к стене, стул спиной к кафельной печке. Посетители сидели по другую сторону. Отец был взволнован до крайности и по большей части стоял. Каждому он повторял один и тот же довод, наглядно моделируемый. — Сначала придет кто‑нибудь и скажет мне: поставь этот стул сюда! — и он ставил стул к стенке. — Потом придет другой и велит поставить стул сюда! — и он переставлял стул к печке. — Затем является третий и распоряжается поставить его сюда… — Стул перемещался на новое место… Каждому, даже мне, становилось ясно, что так никто на стуле усидеть не может. Это был день, когда отец решил оставить Еврабмол. Творческая магма, освобожденная вовсе не Октябрем, как принято было считать, а Февралем, и получавшая свои формы от послереволюционного интеллигентского идеализма, энтузиазма и самопожертвования, к началу тридцатых стала немыслимой, невозможной, враждебной. В хорошо расчерченной амбарной книге советского образования для необычной и по одному этому уже вредной школы тогда не было — и не могло быть — подходящей графы. Демонстративная перестановка стула только частично, плоско и бесцветно, демонстрировала внешнюю сторону событий, ибо каждое новое переустройство Еврабмола сопряжено было с варварским искажением его замысла, опыта, его сути. Уход отца был, помимо всего, символическим жестом, указанием на то, что идея убита. Заведение осталось как пустая и скособоченная форма. Вскоре оно получило новое имя — Школа — завод имени С. М. Кирова. После своего ухода в 1932 году отец передал богатейший архив Еврабмола в музей имени Менделе Мойхер Сфорима. Был такой музей в Одессе. Гитлеровцы сожгли музей вместе с его коллекциями. Осталась только память создателей школы и ее воспитанников. Это условное разделение: Еврабмол был их общим творением. Но целое оставалось в памяти одного, первого.* * *
Получив ананьевское свидетельство, отец несколько лет учительствовал в разных местах пестрого юга — в Молдавии, в Каменец — Подольске, в Елисаветграде, в Севастополе, обучая своих единоверцев, как было ему позволено. В начале Первой мировой войны его мобилизовали. Одно время он служил в госпитальной лаборатории, но вскоре был отпущен с белым билетом из‑за очень сильной близорукости. Позднее семья перебралась в Одессу. Советы трудно овладевали югом Украины. Цвета власти в Одессе менялись то и дело; случалось, государственная граница делила город пополам. В конце концов судьба, как известно, улыбнулась большевикам. Один из высших иерархов православной церкви того времени полагал, что таким способом небо покарало Россию. Это нам за грехи наши, говорил он. Возможно. В таких делах я воздерживаюсь от спора, хотя принцип коллективной ответственности и коллективной вины вызывает у меня возражения. Во всяком случае, если целью наказания было нравственное преображение погрязшей во грехе страны, мера оказалась неэффективной. Воспитание пошло другим путем. Среди наказанных войной, революцией, гражданской войной грешников особый класс составили дети. В 1919 году отец был среди наиболее деятельных учителей и принял на себя труднейшую миссию — заботу о бесприютных, бездомных, уличных и просто неприкаянных подростках. Еврейские дети были класс в классе. Родимое слово «погром» вошло во многие иностранные языки, оно есть и в Оксфордском иллюстрированном словаре английского языка, где сказано: pogrom п. Organized massacre, orig, that of Jews in Russia (1905–1906) [Russ., = ‘destruction’ (grom thunder)]. В Оксфордский словарь включены только те слова, которые вошли в повседневное употребление. Буква «п», набранная курсивом, указывает, что «погром», как и «хлеб», — имя существительное. Даты в знаменитом словаре можно дополнить: в гражданскую было не меньше. Бывало, что родителей убивали, но дети оставались в живых. Еврейские дети, просто выбитые из колеи историей, новой властью, военным коммунизмом, отданные улице, не приспособленные и не приспособляемые к новым условиям, тоже нуждались в опеке. Отсюда идея Клуба еврейской молодежи, из которого впоследствии вырос и выстроил себя Еврабмол. Тут начало педагогической истории, которую можно назвать, вслед за модным в те поры Анри Бергсоном, творческой эволюцией. Не знаю, как о ней рассказать, потому что мое знание — не вполне живое, оно — «со слов». Отец сначала вспоминал мне — урывками, по случаю, а позднее, по моему наущению, записал, как сумел. Запись подлинная, там все первичное. Это целая книга, более трехсот машинописных страниц. Скоро ее выход: ей пора на сцену. Но прежде — несколько подготовительных строк. После ухода из Еврабмола отец служил на менее заметных должностях в различных образовательных институциях особого рода: все они так или иначе принадлежали к «системе подготовки кадров». Одесский филиал Промакадемии им. Сталина (лексика эпохи, я надеюсь, придаст повествованию сразу и некоторую живость, и привкус достоверности), позднее преобразованный в Институт повышения квалификации хозяйственников, давал среднее и затем, если удавалось, повышенное образование выдвиженцам — руководителям предприятий и проч., заслуженным коммунистам, не всегда знавшим грамоте. Там он преподавал, одно время был деканом, заведовал учебной частью, и тогда же сам экстерном сдал экзамены и защитил диплом на инженера. Можно предположить — он сам был в этом уверен, — что скромная эта позиция уберегла его, беспартийного и более не директора, от ареста и гибели в 1937 году. К началу войны он был начальником отдела подготовки кадров на заводе имени Октябрьской революции. Завод изготовлял сельскохозяйственные машины, и отдел занимался обучением юных контингентов нужным заводу специальностям: токарей, слесарей, фрезеровщиков, литейщиков, модельщиков и всякое такое. С этим заводом мы бежали в августе из почти окруженной Одессы — морем, на грузовом теплоходе «Ян Фабрициус». Подробности опустим до времени. Вот пунктир нашего бегства: Мариуполь, Ростов — на — Дону, Северный Кавказ: село Благодарное Ставропольского края, первая остановка, я посещаю школу, отец — мастер — нормировщик в мастерских МТС. Немцы захватывают Ростов и нависают над Северным Кавказом, второе бегство — через весь Северный Кавказ, на пороге зимы, на открытой платформе с железной рудой, мимо беженских таборов в чистом поле под открытым небом, куда должны были сбросить и нас, но почему‑то не сбрасывали — до самой Махачкалы. Многотысячный бивуак — очередь в вязкой, перемешанной с человеческими отходами грязи необъятного порта Махачкалы, костры, детский плач, холодные ночи, всепроникающая липкая вонь, и через несколько суток — посадка на дряхлую грузовую посудину, которую долго будет носить по штормовому Каспию, затем — Красноводск, теплушки, набитые людьми, длинное странствие по среднеазиатским равнинам, стоп — выгрузка на станции Багдад, именно так, дрянной городишко Серов посреди неописуемой Ферганской долины, меж двух хрустальных горных гряд, визирь из райкома партии распределяет человеческий материал по колхозам Багдадского района, нам достается колхоз Игермаилык Октябр — возможно, я озвучиваю неточно, но за перевод ручаюсь: то был колхоз имени Двадцатилетия Октября. Как все насыщено Октябрем! Там бы мы, возможно, и остались навеки, если бы в городе Рубцовске, на далеком Алтае, не обнаружился завод имени Октябрьской революции, тот самый, и не прислал бы отцу усиленный грозными печатями вызов, вызволивший нас из неолитического колхозного строя. К январю 1942 года мы добрались в Рубцовск, сняли два или три квадратных метра пола в глинобитном, утопленном по крышу в снегу домишке на Алейском проспекте (напоминаю: имена, адреса и даты гарантируют правдивость рассказа) и… как это сказать: и что? Начали жить, — наверное, так. Отец продолжил готовить рабочих, уже из местных, для завода, который вместо плугов поставлял те — перь военную продукцию, строго засекреченную; крылышки хвостового оперения мин, по — специальному — «стабилизаторов», закодированных в заводской номенклатуре символом «деталь № 3», можно было подобрать на любой улице, зимой — в снегу, летом — в пыли; весна и осень были самым трудным временем для шпиона, так как крылышки приходилось выковыривать из густой и глубокой грязи. Там я завершил свое среднее образование и к осени ушел в армию. Родители остались на Алейском проспекте вдвоем. Надолго. Им предстояли трудные и безрадостные годы: зрение отца все ухудшалось, начальствовали над ним уже другие — малопрофессиональные и неумные люди. Мать преподавала музыкальные дисциплины в педагогическом училище на другом конце города, ее добросовестность и прилежание доставляли немало хлопот учащимся, администрации, а больше всего — ей самой. Степной Алтай, плоский и пустой, с его неистовым климатом, не был спроектирован для обитания, это были резервные пространства, но, как оказалось, они требуются истории куда чаще, чем предполагалось вначале. Надорванное здоровье родителей чутко отзывалось на морозную зиму и знойное лето, песчаные смерчи и свирепые снежные бураны. Одиночество становилось все ощутимей. Когда к середине пятидесятых мы осели в Таллинне, стало ясно, что родителей пора забирать из Рубцовска.* * *
Последний адрес — многонаселенная коммунальная квартира, большой доходный дом начала века на углу улиц Кройцвальди и Гоголя, бывшей до того Paya (то есть Железной), а теперь снова Paya, в Таллинне. Чего еще желать: улицы, дома и коммуналки уже получили свое. Поговорим о чем‑нибудь другом — например, о XX съезде КПСС. Темные тексты газет и партийные слухи давали почувствовать масштабы перемен. Сдавленные голоса дикторов Би — Би-Си или «Голоса Америки», рассудительные интонации лондонского комментатора Анатолия Максимовича Гольдберга пробивались иногда сквозь монотонные громы глушилок и освещали новости дополнительным, заметно более ярким светом. Знал ли Анатолий Максимович, каким он был другом нам всем? Может быть, где‑нибудь в архивах подразделений ГБ, уполномоченных следить за собственным народом, еще найдутся статистические данные или экспертные предположения о числе немых собеседников мудрого журналиста, о масштабах этого одностороннего диалога. Анатолию Максимовичу это, правда, уже безразлично, современной России, я думаю, тоже. Но для историков такая находка была бы еще интересна, право же. Однажды, вскоре после исторического съезда, когда мы вдвоем слушали запретные слова, отец сказал: «Смотри, как интересно стало, даже умирать не хочется». Он не мог знать, что жить ему отведено еще шестнадцать лет, что он увидит, как ускорение истории трансформируется в дряблую, но удушающую, давящую рутину того же качества. Оставшиеся годы были трудными. Первая неизбежная драма, при всей своей банальности, никогда не утрачивает остроты — я говорю о драме неприменимости деятельного человека, внезапно (тут постепенность случается редко) переключенного на заслуженный отдых. Отец пробовал найти себе профессиональное приложение, предлагал свои услуги и советы эстонским институциям, посылал в газеты и министерства полезные, разумные, целесообразные и потому никому не нужные проекты обновления образования. Знакомые дела. Между тем здоровье ветшало, и, главное, зрение становилось все хуже. В Москве ему сделали операцию по удалению катаракты — под непрозрачным хрусталиком оказалось мертвое глазное дно. Другой глаз видел немного, свет проникал сбоку. Вскоре он стал способен только на первично бытийное отделение света от тьмы. Читать он уже не мог, писал на ощупь, по памяти, строчки наезжали друг на друга и уходили за пределы листа. Между тем, ясный, сильный и активный ум требовал пищи и смысла. Мы купили кошмарную новую пишущую машинку «Москва», она была первая, позднее удалось ее сменить на «Эрику», я наклеил бумажки на опорные клавиши, и отец самодеятельно выучился печатать вслепую, с опечатками, с ошибками, медленно, но писал. Мама читала ему вслух до изнеможения, а изнемогать ей было нельзя — ее мучила стенокардия вместе с многими другими недугами. В доме появились «чтицы», по — нынешнему — секретарши, одни были платные, другие — добровольные, большая их, волонтеров, часть были ученицы близлежащей таллиннской школы — их воодушевляла в течение долгих лет классная руководительница и учительница английского, сейчас она живет тут неподалеку, в Сан — Хосе, мы иногда видимся. Лия Александровна, я не забываю, как это было! Время «чтиц» было святое, ничто не должно было и не могло помешать. Чтение газет, книг, писем, письмо под диктовку… Тем не менее энергия рассеивалась без фокуса. Вот тогда‑то мне и пришла мысль о мемуарах. Отец время от времени рассказывал мне об Еврабмоле — по случаю, в связи с каким‑либо смежным сюжетом, человеком. Однажды я сказал ему, слепому: память об Еврабмоле надо сохранить, почему бы тебе это не записать? Он подумал, подумал, и начал.* * *
* * *
Он строил словесную копию Еврабмола так же методично и так же творчески, как строил некогда сам Еврабмол. Он разыскивал своих воспитанников. Некоторые переписывались с ним, навещали его в Таллинне и раньше, через них нашлись другие, эти знали о следующих. Стал накапливаться архив — взрослые и изрядно немолодые люди должны были вспомнить о годах учения и рассказать о своей жизни. Этот архив был упорядочен и снабжен списком — каталогом. Туда же были включены письма учителей — соратников — тех, кто еще оставался. Не все, что там рассказано, вошло в текст — композиция «Очерка», как назвал его отец, определила способ отбора. Из архива получился в конце концов живой ореол судеб и воспоминаний, связанный с «Очерком», но не принадлежащий ему, — как и полагается ореолу; в те времена интеллектуалы называли подвижную совокупность этого рода «большим текстом». Далее, отец тщательно продумал структуру «Очерка», который должен был соединить повествование, «историю — контейнер», вместивший микроистории, случаи, действующих лиц, с многогранным анализом педагогической системы, какой она кристаллизовалась в токе самой этой истории. И наконец — труд по наращиванию самой текстовой плоти «Очерка». Никак не могу найти подходящего эпитета к слову «труд». Великий труд? Адский труд? Может быть, но хотелось бы избежать патетики. Сизифов труд? В некотором смысле верно, иногда пропадали написанные фрагменты, заготовки, кусок, напечатанный на машинке, невозможно было прочесть — лист незаметно для пишущего кривился и комкался, надо было делать сначала, — однако камень в конце концов, после долгих лет работы, удалось вкатить на вершину. Пусть так и останется: труд, без эпитетов. К привычной технологии мы со временем добавили еще одну сказочную новинку отечественной промышленности — лентопротяжный магнитофон: отец в одиночестве диктовал на пленку, девочка — чтица потом переписывала надиктованный фрагмент. Так можно было сэкономить время, это во — первых, а во- вторых — записать мысль сразу, не дожидаясь урочного визита. Сохранилась магнитофонная запись: отец диктует — медленно и внятно, обдумывая суть и выстраивая фразу. Но целое надо было держать в памяти. План и написанные куски отец посылал нескольким друзьям по Еврабмолу — учителям и ученикам. Енета Семеновна Гликсберг, некогда учившая еврабмольских мальчиков и девочек русскому языку и литературе, и ее муж, Яков Моисеевич Плих, присылали из Одессы подробные разборы. (Енета Семеновна, Вы это знали, но тут я не могу удержаться, чтобы не сказать всем, кому интересно: письма Ваших бывших учеников, будь они профессорами, белошвейками, офицерами или инженерами, написаны грамотно! И говорили они грамотно! И это во времена, когда заговорила улица безъязыкая, когда нормативная русская речь, в газете, на радио и на телевидении, билась в конвульсиях, от которых остались несводимые шрамы — «нагнетают обстановку», «над нами довлеет груз» и т. п.; когда днепропетровское произношение «под Брежнева» стало всесоюзным холуйским правилом орфоэпии.) Были и другие референты. Особая роль отдана была любимой ученице Ханке Бурдо, учительнице, директору школы на Украине, в Прилуках. Она редактировала готовую, вернее сказать — почти готовую рукопись, написала вступительную статью, успела приехать в Таллинн — повидаться и поговорить. «Это было в 1972 году, за два месяца до его смерти, — писала Ханка. — 28 сентября на рассвете я позвонила в парадную дверь кв. № 2 дома № 7 по улице Кройцвальди в Таллинне. Рука у меня дрожала от волнения. Около 35 лет я не видела моего учителя, с которым почти все время переписывалась. Я уже — пенсионерка, убеленная сединой, каков же он — мой 85–летний учитель? Кто откроет мне дверь? Но вот — дверь отворилась, и передо мной Он — мой старый мудрый „четырехглазый“ учитель. Ростом стал ниже, морщин побольше, но голос бодрый и радостный. Возглас: „Ханочка, это ты? Наконец‑то!“ Этот день останется для меня памятным до конца дней моих. Мы целый день вспоминали. Было о чем вспомнить: счастливые дни моей юности под его руководством, когда он находился в расцвете творческих сил, суровые годы войны, погибших родных и друзей. Он смотрел на меня незрячими открытыми глазами сквозь свои двойные очки и спрашивал: „Какая же ты теперь, Ханочка? Я ведь не вижу тебя и представляю такой, какой ты была 40 лет назад“. А затем предложил записать на магнитофонной пленке наш разговор, чтобы иметь возможность „послушать твой родной для меня голос“…» С поправками и замечаниями Ханки Бурдо я передал черновую машинопись для перепечатки набело.* * *
* * *
Очерк «На заре» — так озаглавил его отец — должен шокировать нынешнего читателя по меньшей мере дважды. О первом и главном шоке — позднее, а сначала — о стиле. Часто кажется, что это отчет, написанный для некой руководящей инстанции — разумеется, советской. Скажем, для наробраза — это колючее слово, гибрид нар, робы и дикобраза, вечно звучало в доме моего детства и означало «отдел народного образования». Почему отец, прекрасно владевший живым и острым письмом, то и дело впадал в эту официальную, «клякспапирную», как сказал бы Гейне, манеру — трудно сказать. Впрочем, есть в «Очерке» прекрасно изложенные эпизоды и сочные характеры, и не так уж мало. Но отцу важно было не столько рассказывать, сколько изложить принципы школы, собственно история ему мешала, и он хотел побыстрее с нею управиться — или привести ее к дезиндивидуализированной принципиальной схеме. К тому же ему было важно, чтобы его поняла советская власть брежневской эпохи, чтобы она как‑то запомнила его педагогический опыт. Ему казалось, и не только ему, и не без оснований, что эта склерозированная система — на много поколений. Стирание уникального, персонального начала я вижу и в том, что о себе самом он писал нейтрально — «руководство», «заведующий», в крайнем случае — М. Б. Местоимение первого лица единственного числа в рукописи надо специально выискивать, можно подумать, что такая грамматическая форма в русском языке редкость. Поэтому, думаю, он не включил в «Очерк» почти ничего из писем учеников — там было много от реальности, но отслоить их рассказы от его личности было бы невозможно. Вот отрывок из письма военных лет: «Дорогой отец, бушует война, трудно мне сейчас с осиротевшими тремя малышами. Но я вспоминаю Вас, Вашу науку преодолевать трудности, и в этих воспоминаниях нахожу источник силы. Вспоминаю 1920 г., когда мы жили на бывшей барской разрушенной даче, и Вы с ребятами на своем горбу таскали мешки с крупой для нас, голодных сирот. Как сейчас вижу Моисея Яковлевича Баска[4], который впрягался в телегу вместо лошади и вез с ребятами воду в бочке. Рядом с ними были Вы, Вера, Надежда и Любовь…» Подписано — Л. H., не знаю, как ее звали. «Я помню Ваши посещения больницы, когда я болел тифом, Вашу ласку и заботу обо мне. Быть может, я и не выжил бы, если бы не Вы». Это Флейшер, учитель, кончил войну подполковником, был директором школы в Днепропетровске; с ним отец дружил и переписывался десятки лет. Разбавим напряжение. Пишет Улановский, тоже солдат последней мировой войны, позднее профсоюзный деятель. «Вспоминаю, как Вы как‑то зашли к нам в комнату общежития, где я жил с Дудником. Он в это время курил, но успел выбросить окурок. Вы, почувствовав запах никотина, намекнули: „здесь пахнет чем‑то посторонним“ — и, больше ничего не сказав, вышли из комнаты. С тех пор мы больше никогда не курили до самого ухода из общежития в самостоятельную жизнь». Это о том самом Дуднике, с которым мы опознали друг друга в царственных залах Центрального Дома Красной Армии зимой 1944 года. Дети и подростки, которые стали воспитанниками Еврабмола, почти везде в рукописи были названы «контингентами». Ханка, редактируя, кое — где зачеркивала казенное слово и писала сверху «ребята». «Дорогой Моисей Борисович, Вы для меня, как сами понимаете, представляете особое явление в моей жизни. Я решился зайти к Вам за помощью в голодном 21–м году, потому что знал Вас по Мясоедовской, по клубу, где Вы меня похвалили за нарисованную мною мелом на доске собаку. Запомнили меня босоногого. Для меня Вы — целая легенда. Нас в семье осталось четверо голодных сирот. По Вашей записке я младших двух сестер отнес на плечах в Наробраз. Носил их поочередно почти голыми с самой Молдаванки до Греческой площади. А там долго плакал на лестнице, пока их не забрали машиной. Я остался у Вас в „Еврабмоле“. Вы не только спасли нас, а вывели в люди, за что я всю жизнь Вам благодарен». Это Натан Шипетин, московский художник. Еще один из «ребят», составлявших «контингенты». Мудрому достаточно, чтобы сквозь точечное, как отверстие зрачка, наробразное слово увидеть жизни сотен детей, каждая из которых, как полагают отдельные гуманисты, есть целый мир, полный, единственный и неповторимый — как мир вокруг нас.* * *
* * *
Так вот, дальним предтечей Еврабмола был Клуб еврейского юношества, организованный в апреле 1919 года с тем, чтобы преодолеть уличную неприкаянность еврейских детей, для которых идиш был не только родным, но и единственным понятным языком. После нескольких не вполне удачных проб клуб ожил, когда ребята, по свежей памяти, сочинили и разыграли спектакль из «старого быта»; они похоже и смешно представили хедер: учеников, ребе, его жену — ребецн, учителя русского языка, зубрежку, детские уловки, педагогические побои и прочее. В клубе их еще и подкармливали. Это там отец похвалил Шипетина за нарисованную мелом на доске собаку; похвала спасла три жизни. Осенью пришли деникинцы, но клуб еще несколько месяцев продолжал жить — пока однажды ночью его не разгромили белые в поисках следов большевизма. Красноты не нашли, но клуб замер. Когда же пришли настоящие красные, он возродился. Весной 1921 года в судьбе клубного народа произошел первый критический перелом. В голодной и разваленной Одессе эти подростки — не без подсказки руководителей и советчиков — решили прокормить себя сами. Сами, именно — сами: не быть иждивенцами, не просить, не ждать, а работать, а еще и учиться, выстраивать себя и свою жизнь собственными руками; организовать коммуну, артель огородников, товарищество, колхоз, киббуц… нужный словарь еще не был отчеканен. Назвали без затей — «Коллективом». Законы его построения, разработанные в клубе, были просты. «Коллектив» организуется в целях объединения молодежи для совместного труда и совместного пользования его результатами, для повышения производственной квалификации и повышения своего культурного уровня. Основной принцип: интересы коллектива выше личных интересов; все работают для каждого, каждый работает для всех. В «Коллективе» должна соблюдаться строжайшая дисциплина. Вступление в члены «Коллектива» добровольное, но выход из него разрешается не ранее 10 сентября 1921 года. Первоначальный прием в члены «Коллектива» производится специальной комиссией, избираемой общим собранием членов клуба. Я цитирую по машинописной копии очерка «На заре», с. 5 второй главы. В этой главе точное и методичное описание структуры и деятельности «Коллектива» освещено живыми эпизодами и характеристиками; память восьмидесятилетнего рассказчика поражает рельефностью. Я не собираюсь пересказывать очерк, но уставные позиции следовало привести: они несут в себе важнейшую часть генетической программы школы, о которой тогда еще никто не думал. Помимо того, что там сказано, они замечательны еще и тем, что там пропущено. Достаточно внимательного чтения, чтобы увидеть логическую недостачу. Смотрите: прием в члены коллектива произведет не Директор, не Начальник, не Секретарь, не Правление, не Бюро и не Коллегия Взрослых — сами ребята, уполномоченные на то общим собранием членов клуба. Ну, а дальше как? Коллектив не может быть однородной массой, сплоченной кучей, его выживание прямо зависит от толкового и дееспособного управляющего центра и разумной организации. Но об этом — ни слова. Что это значит — строжайшая дисциплина? Помимо строжайшего исполнения уставных правил (которые наполовину и не правила вовсе, а принципы) тут предусмотрено, видимо, выполнение установленных порядков, текущих, повседневных указаний, распоряжений и тому подобного — но кто же устанавливает, указывает и распоряжается? Где вершина пирамиды, командный пункт? Это не забывчивость. Называть управляющий блок не было нужды. Структура и ее идеология были очевидны, отчасти испробованы, сами собою разумелись. В основе коллектива, как и предшествовавшего ему клуба, лежала идея самодеятельности и самоуправления. Мы сами. Мы сами будем выбирать из своей среды руководителей и, полностью им доверяя, сами, коллективно, будем решать важнейшие жизненные проблемы. Мы сами будем строить коллектив и себя. Ну, а взрослые? Кто здесь Моисей Борисович, Моисей Яковлевич, Фридман Нухимович? Для них нет опробованной классификационной рубрики. Но они есть — и роли есть.* * *
Для задуманного таким образом педагогического и экономического эксперимента отец выхлопотал у советской власти ничью (тогда много было ничьего) большую дачу на Французском, позднее — Пролетарском, бульваре, а проще говоря — на Аркадийской дороге. В ушах одессита «дорога в Аркадию» звучит столь же естественно и незаметно, как «дорога на Привоз», или «Ланжероновская», или «Куликово поле» — да, Куликово, при чем тут битва? Аркадия с ее парком и знаменитым пляжем входила в сознание одесского ребенка как один из углов ойкумены. Много позднее удавалось — или не удавалось — услышать о бедной пастушеской области на севере Греции, которую капризы литературной судьбы превратили в утопическую страну гармонии и счастья. Тогда те, кто услышали, могут, стерев привычную патину, увидеть в словах «Аркадийская дорога» полное символического смысла обещание светлого аркадского будущего. Коммуна и была общей утопией детей и взрослых, но только наполовину. Суть — в другой половине, но развести их никак нельзя, без первой не было бы и второй. Коммуна, совместный свободный труд, хозяева своей судьбы, светлое будущее — понятия — призывы, понятия — эмблемы, понятия — магниты, которые сегодня никто не принимает всерьез, даже те, кто не стесняется называть себя коммунистами. Где коммунисты, там и Маркс. Это он говорил (очень популярная цитата была), что история трагична только в первый раз, а повторяется она как фарс — это затем, пояснял он, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым. Сказанное столько же касается недавних сенильных вождей, сколько и современных ленинцев: непокорный речевой аппарат Брежнева исторически там же, где крестное знамение Зюганова. Но никто не смеется, веселое время, вероятно, еще впереди. И напротив, что касается историков и биографов обвинительного уклона, то они торопятся изобразить в виде фарса первичную трагедию. Вооруженные — в отличие от своих персонажей — знанием того, что наступит, мудрые задним умом, они умело разоблачают и высмеивают всех и каждого, кто не разгадал с самого начала сущность большевизма и не восстал против него. Такова модная драпировка, выгодно оттеняющая моральные прелести обвинителя. Когда‑то это называли фарисейством. Можно найти и более жесткие слова. В начале семидесятых отец писал Ханке Бурдо: «Я не в силах в письме рассказать, как я, еврейский учитель, нищий, босой и голодный, как и мои питомцы, был счастлив свободой, влюблен в жизнь, с каким энтузиазмом и верой встречал каждое начинание Коммунистической партии и Советской власти». Вот так. Сказанное не имеет отношения к предшествующим и современным этому письму начинаниям Коммунистической партии и Советской власти — скажем, к празднованию пятидесятилетия Октября, славной победе над контрреволюцией в Чехословакии, к судебным процессам над клеветниками Синявским и Даниэлем или тунеядцем Бродским, столетию со дня рождения Ленина и, наконец, к какому‑нибудь из бесцветно — исторических съездов КПСС, чьи порядковые номера так трудно было запомнить. Но в 1920 году вплетенность личной судьбы в историю страны переживалась нищим еврейским учителем иначе. Он собирал, спасал, готовил для вживания в перевернутую вверх дном страну, духовно выстраивал потерянных и обездоленных еврейских ребятишек — вот они, тут и сейчас, вот, видите: мальчик Шипетин на плечах тащит в наробраз свою младшую сестренку! — делая это тем человеческим способом, который реально, там и тогда, не имел альтернативы. Осудите его, если посмеете.* * *
«В течение второй половины 20–го и до середины 21–го годов по всему югу и юго — западу Украины бесчинствовали контрреволюционные банды украинских националистов, руководимые „батьками“ — Махно, Тютюником, Григорьевым, Петлюрой и др. Бандиты нападали на местечки и города, громили и убивали еврейское население, иногда вырезали поголовно всех жителей…» Однажды «Коллективу» предложили принять 12 подростков из интерната для сирот, расположенного неподалеку, на том же Французском/Пролетарском бульваре. «Это все ребята, которым каким‑то чудом удалось спастись от банды Тютюника, напавшей на их местечко Литин, разгромившей его и почти поголовно вырезавшей все взрослое еврейское население». (В кавычках курсивом — прямые цитаты из «Очерка».) Предложили впервые, как и все вообще — впервые. Пополнение не было предусмотрено замыслом: сообщество к тому времени складывалось, строилось, налаживалось как замкнутый круг товарищей, партнеров и единомышленников. Но и приказа не было, было предложение. Коммунары с Аркадийской дороги оказались в затруднительном положении, мнения разделились, противников и сомневающихся было больше, чем сторонников. В этой ситуации детский коллектив поступал куда разумней, чем многие парламенты, которые нам приходилось наблюдать. Общее собрание избрало комиссию, куда, помимо нейтрального председателя, входили противник и сторонник приема: они должны были познакомиться с кандидатами, рассказать о своих впечатлениях, показать литинским подросткам коллектив, объяснить, что он такое, и узнать, согласны ли они влиться в коллектив на условиях, которые приняты всеми. Литинские были согласны, тем не менее следующее общее собрание так и не пришло к единодушному мнению, другая комиссия должна была еще раз обсудить с возможными новичками все грани проблемы… Разлад, однако, продолжался. «Мудрили, мудрили ребята, спорили, кричали и, наконец, разозлились: что же это наши старшие товарищи — молчат да только хитренько ухмыляются — мол, решите‑ка сами задачку. Пусть скажут свое мнение — как поступить?» Обратите внимание — нет дирекции, нет воспитателей, есть только «старшие товарищи». Действительно, в этом сообществе у отца и двух — трех его единомышленников и друзей был невероятный статус — «взрослых помощников, чьи советы необходимы коллективу». Созывают еще одно собрание, на котором прямо, в лоб просят помощи у старших товарищей. «Деться было некуда. От нашего имени выступил Ф. H., он и сказал: „Неужели мы так мало верим в свои силы, что боимся, будто не справимся с десятью или пятнадцатью ребятами, которые тянутся к нам, нуждаются в нашей помощи, дружбе?..“». Фридман Нухимович не сказал «вы», он сказал «мы». Не было ли тут некоторого притворства? Конечно, не было: строили вместе. Конечно, было, потому что лучшее воспитание, какое только можно придумать, — скрытое. Оно предусматривает обращение с воспитуемым на равных. Твой воспитуемый — в любом возрасте — такая же полная и полноценная личность, как и ты сам; иначе воспитание неизбежно вырождается в тренировку, дрессировку, муштру. Но он — воспитуемый, а ты — воспитатель. Поэтому мудрое притворство входит в сердцевину подлинно педагогических стратегий. Самоуправление, как и весь эксперимент с «Коллективом», было простой и наглядной моделью классической идеи свободы: личность становится ответственной тогда, и только тогда, когда она обладает свободой выбора. Ты вменяем, если ты сам решал, невменяем, если у тебя не было выбора. И наоборот, свобода выбора влечет за собой некоторое нравственное и юридическое принуждение: она делает тебя ответственным. Поэтому Сартр как‑то сказал, что человек приговорен к свободе. Принцип самоуправления, заложенный в основу Клуба и развитый в «Коллективе», отец стремился сохранять затем в Еврабмоле — столько, сколько было сил. Но принцип был обречен. В социальном организме, где все построено на жесткой авторитарности, автономный и самодеятельный орган, да еще производящий новые клетки, невозможен. Ответственность начинает выстраиваться строго по вертикали — никто не отвечает ни перед нижестоящими, ни перед равными, ни перед собой, но только перед высшими, а те в конце концов — перед наивысшим. И тогда «ответственность» становится сценическим псевдонимом хамства, холуйства и страха, страха превыше всего, страха осознанного и укрытого, подкожного, поджелудочного; никак нельзя забывать, что «империя зла» не может не быть «империей страха». Закоулки порядочности в конечном счете возникали из‑за дезорганизации системы, которая вечно стремилась к тотальности и никогда не могла ее достичь. Столь же традиционная для страны, сколь и порожденная советской властью безалаберность была благом, хотя и скромным по природе и по объему. Но пара «свобода — ответственность» была упразднена, соответствующие духовные органы атрофировались от неупражнения в течение двух — трех поколений. Не надо удивляться нравственным пустотам в нынешней свободной России и бывших братских республиках, результат пребывает в полном согласии с разумными ожиданиями. Не потому ли так высоко поднялась волна религиозности, искренней и показной, что вытравленная способность отвечать перед собой прочно замещена привычкой или потребностью отвечать перед высшими?* * *
В «Очерке» постоянно и настойчиво говорится о педагогической идее, которая сегодня может показаться архаичной или по меньшей мере привязанной к реалиям того времени. Питомцев Еврабмола надо было выпустить в мир не просто грамотными или, скажем более звонко, образованными, культивированными в первичном значении слова людьми. Их надо было приготовить к выживанию в трудном и меняющемся мире. «Коллектив» начинал свое существование с труда на земле, но уже в аркадийской протошколе началась специализация, приходилось плотничать, штукатурить, шить… Некоторые ремесла родила эпоха, так и оставив их без имени. «В 1921 году очень остро стоял вопрос с обувью. Кожаная обувь вышла из употребления из‑за отсутствия материалов. Широкое распространение получили так называемые „стукалки“. Они представляли собой нечто вроде сандалий, состоявших из деревянной подошвы, передняя часть которой крепилась к главной на шарнирах (петлях), что позволяло ей следовать за изгибом ноги в пальцах. Стукалки имели задник из картона или жести и прикреплялись к ноге ремешками. „Обувь" эта одевалась на босую ногу. Была в употреблении более элегантная обувь, состоявшая из матерчатого верха, картонной стельки и подшитой к ней веревочной подошвы. Процесс изготовления такой обуви был весьма несложен. Это давало возможность занять производительным трудом 10–15 девушек из нашего коллектива. …В первую очередь заказчиками были сами члены нашего коллектива. Производство полностью себя оправдало. Чуть не все сотрудники и сотрудницы близлежащих детских учреждений стали щеголять в обуви нашего производства. Трудно теперь вспомнить, какую плату мы брали за изготовление пары обуви, но, помнится, мы были довольны доходами мастерской». Назовем это, прижмурив один глаз, сапожным делом. Позднее в Еврабмоле была создана настоящая сапожная мастерская, настоящая швейная мастерская, столярная — мебельная, плотничья, основные специальности металлообработки — вплоть до литейной! Соль, однако, в том, что тогда, на Аркадийской дороге, девушек заняли производительным трудом. Вот словосочетание, которое можно встретить на страницах «Очерка» десятки раз. То, что казалось самому отцу наиболее существенным в педагогической и воспитательной программе Еврабмола, было «соединение обучения с производительным трудом». Не исключено, что этот синтез был для него не менее — если не более — важен, чем самоуправление. На самом деле, я думаю, оба принципа взаимно порождали и питали друг друга. Конечно, тогда все были извещены, что владыкой мира будет труд, что труд создал человека; чуть позднее стала популярной трудовая — или хотя бы «трудмагическая» — теория происхождения искусства. Если же отвлечься от всемирно — исторических измерений, можно вспомнить, что еврабмольца надо было выпустить из стен школы с ремеслом в руках. Но не в том соль. «Производственным специальностям», если мне не изменяет память, обучали в наши времена РУ и ПТУ — учебные заведения, чьи воспитанники («пэтэушники») в воображении обывателя рисовались не иначе как малолетними преступниками, уже готовыми или потенциальными. Впрочем, сознание отражало бытие. В Еврабмоле ученики производили всерьез полезные и кому- то реально нужные вещи, за качество которых они должны были отвечать. То, что они делали, не было учебными макетами, это были изделия, обладавшие — выразимся экономически, черт возьми! — потребительной стоимостью, а затем — стоимостью и ценой.Еврабмол находил заказчиков и добросовестно выполнял заказы. И за этот труд платили. Еврабмольцы зарабатывали. Еврабмол зарабатывал на Еврабмол. Все это значит, что Еврабмол был экономически независим. Когда материальное самостояние соединяется с самоуправлением, то принцип «производительного труда» получает важнейший, глубинный смысл. Эти ребята могли быть уверенными в себе, они не только сами организуются, сами решают и сами отвечают — они сами обеспечивают свою независимость и волю. В 1930 году, перед уходом отца из Еврабмола, там наработали продукции на полтора миллиона тогдашних рублей. Поверьте, это много. Может быть, слишком много.* * *
* * *
К зиме 1922 года Моисей Борисович перестал быть «старшим товарищем» и «помощником», он был сделан заведующим. Этому предшествовали события, которые тут можно только перечислить. «Коллектив» был организован на одно лето — до 10 сентября 1921 года никто не мог его покинуть. Но лето скоротечно даже в Одессе, сентябрь приближался, а вместе с ним — новый критический поворот в истории школы. К концу лета коллектив настолько конституировался, что о его роспуске не могло быть и речи, тем более что не одним огородничеством он был жив: ребята научились строить, плотничать, слесарничать, шить, сапожничать. Решено было коллектив сохранить и перебраться в город. Удалось получить помещения бывшего Еврейского казенного училища на углу Пушкинской и Бебеля и приспособить его для нужд учебного заведения, не имевшего даже определенного названия. Школа, самоуправляемое сообщество подростков и инструкторов, мастерские и бригады владеющих ремеслом ребят, зарабатывавших на жизнь и обеспечение всех нужд коллектива… Литинское пополнение давно ассимилировалось, а новые нуждающиеся все приходили и приходили — погромы, голод, эпидемии поставляли «контингенты», которым нужно было помогать немедленно. «На почве недоедания, холода, голода, наплыва беженцев, мешочничества, грязи в Одессе распространилась эпидемия брюшного и, особенно, сыпного тифа. Эпидемия беспощадно косила людей, целые семьи вымирали и подолгу оставались в своих жилищах, так как некому было хоронить покойников. Если не вся семья вымирала, то оставшиеся в живых выволакивали покойников из квартиры на улицу и оставляли прямо на тротуаре, а по утрам их подбирали и отвозили на кладбище специальные площадки[5] — там трупы штабелями складывали в общую могилу… Бывало и так, что смерть, поразив взрослых членов семьи, обходила ребенка или подростка, и он чудом оставался в живых. Тогда кто‑нибудь из соседей сообщал соответствующим организациям об оставшихся сиротах для определения их в интернаты. Многие осиротевшие подростки сами предпринимали попытки найти для себя убежище и, узнав про наш Коллектив, являлись прямо к нам, требуя приюта. Был период, когда почти каждое утро мы у входных дверей обнаруживали подростков со знакомым зелено — желтым цветом лица. Тут было уже не до „порядка“: тут нужна была немедленная помощь, и мы стали в меру наших возможностей оказывать ее». Среди многих последствий роста «Коллектива» было и то, что помещения бывшего казенного училища оказались переполнены сверх всякой меры, и тогда — не без борьбы и уловок — была отвоевана большая часть дома, построенного архитектором Прохаской. Туда, на Бебеля, 12, вселился весной 1922 года уже не безымянный «Коллектив», но I — й Дом еврейской рабочей молодежи имени Октябрьской революции, учебное заведение в системе отдела профессионального образования Одесского наробраза. Это был триумф, и здесь была скрыта угроза. «Трудно описать восхищение и восторг, охватившие наших ребят, когда мы впервые ввели их для осмотра нового жилища. Эти просторные, полные света и воздуха комнаты, эти залы с колоннами, паркетные полы, люстры, ванная со стенами, выложенными изразцами, и полом, выложенным кафельными плитками, с мраморной ванной, с зеркалом во всю стену, — показалась царскими чертогами им, всю жизнь ютившимся в жалких каморках — клетушках, сырых и темных подвалах Молдаванки или в убогих хатенках грязных местечек. По много раз сбегали они по лестнице и подымались вверх, обегали все комнаты, заглядывали во все углы, веселились, радовались и были счастливы; на них глядя, радовались и мы. А маленькая Лида Махлин вдруг подбежала ко мне, прильнула и, вскрикнув: „Ой, Моисей Борисович!“ — заплакала». Так прогрессивные архитектурные традиции Ренессанса внесли свою лепту в судьбу еврейских тинэйджеров в Одессе начала 1920–х годов. Но тот же 1922 год принес новую меру интеграции школы в систему. «До перехода в ведение Наробраза мы были „вольные казаки", никому не подчинялись, ни от кого не зависели… Мы были самоуправляющейся единицей, полные хозяева своей жизни. С переходом в ведение Наробраза дело изменилось: наш коллектив стал УЧРЕЖДЕНИЕМ, государственным учреждением; я — ответственный руководитель „ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ", подчиненный в своих действиях „вышестоящей" организации (вот оно! словно раньше был безответственный! — Б. Б.) и ее руководителям, большим и маленьким, а члены коллектива — стали воспитанниками, моими и моих руководителей. Прежде всего это коснулось канцелярско — бюрократической и учетно — отчетной стороны дела. Я начал получать разные „бумаги" (вызовы на заседания, совещания), инструкции, предложения „в порядке боевого приказа" и т. д.; наш завхоз, который был приглашен в качестве инструктора и помощника членам хозяйственной комиссии (самоуправления. — Б. Б.) в организации нашего быта и, главным образом, питания, завхоз этот превратился в материально — ответственное лицо и мог, ссылаясь на инструкции, вводить свои порядки, рационы и т. п. и тем самым ограничить роль членов комиссии. Это и еще многое другое (! — Б. Б.) грозило совсем свести на нет роль нашего самоуправления, весь дух самостоятельности, инициативы и ответственности, царившие в коллективе, стимулировавшие его на преодоление различных трудностей и составлявшие, так сказать, его „изюминку". Как сохранить этот „дух", эти устоявшиеся традиции, как их сочетать с новыми сложившимися условиями? На первых порах нам помог, чувствительно смягчая его остроту, тот беспорядок, та несусветная административно — управленческая неразбериха, которая царила во всех углах и закоулках Наробраза. Искусно лавируя в лабиринте разноречивых директив, указаний и пр., мы продолжали жить по нашему укладу, стараясь выиграть время, чтобы приспособиться к новым условиям». Погодите, вскоре соперником самоуправления станет молодая и агрессивная комсомольская организация, а за нею и партийная. Кстати: из 310 стандартных машинописных страниц «Очерка» глава «Партийная организация» занимает две с половиной. Комментировать эту сдержанность нет смысла. Впрочем, подлинная катастрофа Еврабмола началась не с учреждения партийной организации, не с ревизии учебных планов, программ или даже педагогических стратегий. Она — совершенно по — марксистски и материалистически — началась с экономики: школу передали какому‑то тресту металлообработки, а тот стал превращать ее в «производственное предприятие». Очень просто. Самодостаточное единство самоуправления и материального суверенитета, немыслимое и нестерпимое для власти, было взорвано. В моем изложении трагические интонации начинают, кажется, брать верх. Это деформация. Включенный в начале 1920–х годов в становящуюся систему, Еврабмол неизбежно терял некоторую долю своей уникальности, но не был полностью интегрирован. Он сохранил существенную часть первоначальной созидательной свободы. Впереди были счастливые годы педагогических импровизаций и человеческих радостей. В двадцатые годы слава Еврабмола гремела по всей Украине. Еврейские мальчишки и девчонки из дальних углов каким‑то чудом добирались до Одессы и обивали пороги городского наробраза до тех пор, пока не выпрашивали «направление», подкрепленное личным звонком Моисею Борисовичу должностного лица. И становились еврабмольцами. «Как мы творили, Моисей Борисович, как мы творили!» — воскликнула в одном из поздних писем отцу Енета Семеновна Гликсберг. Почти полтора десятилетия блистательного творчества, сотни выпрямленных подростковых судеб — совсем немало. Не буду дальше пересказывать — там, в «Очерке», все есть.* * *
На старости я сызнова живу. Минувшее проходит предо мною… Отец помнил добрую половину «Бориса Годунова» наизусть, возможно, эти строки он не раз повторял про себя, вспоминая, восстанавливая, записывая концепцию и историю Еврабмола. Увы — тогда это мало кого интересовало. Практически законченный, отредактированный текст очерка «На заре» остался у меня. Я понимал, что в семидесятые годы XX века в Советском Союзе его никто полностью не опубликует. Но хоть часть, хоть что‑нибудь. Отобрав некоторые существенные и драматургически выстроенные самой историей эпизоды, я перепечатал их набело и привез в Москву, в редакцию журнала «Советише Геймланд». Редактор Вергелис жил в горних пространствах, но секретарь редакции Бейдер меня обнадежил. Из месяцев получались годы, когда я еще раз навестил редакцию, за столом секретаря сидел другой человек, молодой и излучавший энергию. Он считал, что публиковать воспоминания надо обязательно. Правда, есть технические трудности: некому перевести текст на идиш. Но он будет об этом думать. Так и осталось. Недавно в местной (я имею в виду Соединенные Штаты Америки) русской прессе промелькнуло сообщение, что господин Бейдер живет в здешних палестинах. Вряд ли он может что- нибудь сказать о судьбе фрагментов, захороненных среди вековых редакционных отложений. В минувшем году я передал текст «Очерка», бумаги, документы, фотографии Моисея Бернштейна в Нью — Йорк, в архив Института еврейских исследований (YIVO Institute for Jewish Research), где он будет доступен для ознакомления и изучения. А там — кто знает, может быть, найдется, кто отряхнет от хартий пыль веков.* * *
Сегодня, 28 июля 1997 года, в городе Пало Алто, штат Калифорния, в обществе, где не все были знакомы между собой, немолодой мужчина обратился ко мне. Он сказал с долей смущения: извините, скажите, пожалуйста, имя Моисея Борисовича Бернштейна вам ничего не говорит? Михаил Абрамович Биберман потерял отца еще в 1920 году, а когда в 1927–м умерла его мать, осталось трое сирот. Дядя, брат матери, замечательный детский еврейский поэт Лев Квитко, убитый впоследствии Сталиным, определил младших сестер в харьковский детский дом, а Михаила — через одесский наробраз — в Еврабмол. Семьдесят лет миновало. Он услышал, как назвали мою фамилию, и ему показалось, что я похож на Моисея Борисовича. Такой подарок. Только ни отцу, на которого я стал похож, ни учителям и выученикам Еврабмола об этом уже не рассказать. (обратно)В школе Столярского
Было в моем отрочестве недолгое время, когда на вопрос, где я учусь, я отвечал, что учусь в таком‑то учебном заведении, и это название неизменно провоцировало стандартный ответ: «А, в школе именимене». «Именимене» в устах одессита означало: Музыкальная школа — десятилетка имени профессора П. С. Столярского при Одесской Государственной Консерватории. Школа была имени живого, совершенно живого, талантливого и полного энергии человека, он сам и был ее художественным руководителем. Такое в тридцатые годы прошлого века никого не смущало: в стране Советов городам, весям, заводам и фабрикам, колхозам, совхозам, улицам и площадям, университетам и детским садам предпочитали присваивать имена живых людей, ушедшим доставались немногие недопереименованные остатки. В Одессе словесный блок «имени профессора П. С. Столярского» упростили. По городу ходила легенда, будто профессор, хорошо владевший идиоматикой одесско — русско — еврейской речи и не знавший, как справиться с длинным названием руководимой им школы, решал проблему прямолинейно. Домашним он якобы сообщал без затей: «Иду в школу имени мене». Насколько легенда отвечала историческим реалиям, значения не имеет, ибо достоверней мифов ничего нет — вся Одесса знала, что великий Столярский выражался именно так. А школа его имени была замечательная. В этом году ей исполнилось 70 лет. То есть, она была основана в 1933 году. Синхронное зрение придает истории некоторую объемность. В том году Гитлер стал германским канцлером, Сталин только недавно наказал Украину чудовищным голодом, а тем временем для музыкально одаренных детей города Одессы открыли специальную школу. Каждое из этих событий имело далеко идущие последствия, отчасти переплетенные между собой: одни — для всего мира, другие — для успехов колхозного движения, третьи — для судеб одесских детишек. Некоторым из них суждено было стать большими музыкантами. Отдельный интерес для повествователя представляет тот частный факт, что в новооткрытую школу поступила девочка по имени Фрида Приблуда, с Большой Арнаутской. Хаотическая мозаика событий и поступков задним числом выстраивается в ясную логику причин и следствий. Что Фрида станет прекрасным музыкантом, мастером — ну, на это еще можно было надеяться, но другое судьбоносное следствие ее поступления предвидеть было невозможно. Спустя шесть лет в эту же школу поступил некий одесский мальчик, который стал впоследствии ее мужем и остается им до сих пор, он сейчас пишет эти строки. Собственно, о школе должна была бы написать она, свидетель с самого начала. Но она не любит писать. Она поможет мне вспомнить. Петра Соломоновича Столярского мы за глаза звали запросто — Пиней. Не знаю, как другие, а я боялся его смертельно — с той самой минуты, как я пришел на вступительный экзамен, сел за инструмент, а Пиня, стоя прямо надо мной и опираясь локтем на угол рояля, велел мне сыграть самую отвратительную из минорных гамм — ту, где на самом верху надо было подменить палец. Я на роковом месте, разумеется, споткнулся, даже не потому, что не знал, как это делается, а от страха. Он был невысокого роста, длинные, совершенно белые, но помнившие о рыжине волосы он стриг «под горшок» — а может, в те времена это считалось артистической стрижкой, не знаю. Сильные очки бликовали, скрывая глаза. Я плохо понимаю, как он все успевал. У него был свой класс в консерватории. У него был свой класс в школе, туда были взяты самые яркие: Артур Зиссерман, Миша Унтерберг, Рафа Брилиант, Сарра Грунтваге, Мира Фурер, Нюся Пелех… (я, естественно, вспоминаю ребят нашего поколения). Его ассистенты (которыми он руководил) занимались с другими — там тоже мерцали, как окажется, будущие звезды: Миша Вайман, Оля Каверзнева, Эдик Грач, Дина Шнейдерман, Роза Файн… Кроме того, Пиня руководил школьным симфоническим оркестром, был его воспитателем и дирижером. Кроме того — перед концертным выступлением (а мы были обязаны выступать на публичных ученических концертах по нескольку раз в год, концерты происходили еженедельно!) Столярский прослушивал всех: ни один ученик, начиная от крох — виртуозов первоклассников и кончая старшими артистами, не мог выступить прежде, чем было получено добро художественного руководителя школы. Всего учеников было человек 200–250, значит — по меньшей мере 500 раз в течение учебного года он слушал чужих учеников, потом он слушал их на концертах, и это — не считая вступительных и переходных экзаменов! Однажды весной он неожиданно вошел в наш класс во время урока физики. Важно отметить, что старшие классы располагались на самом верху, на четвертом этаже. Дверь открылась, на пороге стоял сам Столярский, учитель физики, блистательный Александр Григорьевич Брахман, несколько смешался, мы вскочили, как полагается, с большим грохотом, Столярский сделал знак, чтобы мы сели, и тихо прошел на заднюю парту. Тут была какая‑то загадка, интрига: Пиня и физика в нашем сознании никак не связывались друг с другом. Урок продолжался, а когда раздался звонок, художественный руководитель знаменитой школы своего имени подошел к столу учителя и сказал нам короткую речь. — Дети, — сказал Пиня, — приближаются весенние каникулы. Так вот, имейте в виду, надо будет играть каждый день. Потому что если день не поиграешь, за два не догонишь. Это закон физике. Вот ви учите физике, так знайте, это закон физике! И для этого он забрался на четвертый этаж и терпеливо просидел половину урока! Он был окружен славой. К тому времени имена его учеников гремели: Натан Мильштейн, Самуил Фурер, Давид Ойстрах, Наум Бронфман, Лиза Гилельс, Миша Фихтенгольц, Борис и Михаил Гольдштейны… Казалось, что он способен превращать детей в лауреатов, как фригийский царь Мидас превращал все в золото — одним своим прикосновением. И одесские мамы приводили к нему все новых ушастых мальчиков и девочек со скрипочками, а после прослушивания спрашивали замирающим голосом — ну, как мой ребенок? Еще одна легенда из бесконечной одесской Петриады: ах, говорил Столярский, ничего особенного, обыкновенный гениальный ребенок… Глядя из будущего, я должен признать, что был, видимо, на редкость обыкновенным гениальным ребенком и попал в школу поздно, в восьмой класс, в 1939 году. А год был, как мы помним, не рядовой. В конце августа был подписан пакт Молотова — Риббентропа, нацистская Германия напала на Польшу, начав тем самым вторую мировую войну, в сентябре в обреченную Польшу с тыла вторглись советские войска, поделив страну с Гитлером; на картах, опубликованных в газетах, мы увидели новые границы страны социализма, а за ними на запад простиралось неопределенное пространство, на котором было написано: «Область государственных интересов Германии». Из чего можно было понять, что там у Германии просто свои государственные интересы, ничего особенного. Мы же протянули руку помощи братьям из Западной Украины и Западной Белоруссии, освободив их от невыносимого гнета. Одесские остроумцы дополнили официальную версию: «Мы протянули им руку помощи, чтобы они надели на нее часы». Наручные часы и вправду были вознаграждением освободителям, вожделенным и справедливым вместе. В истории школы Столярского это тоже был переломный год. Первые несколько лет школа была только музыкальной, общее образование ученики получали в разных городских школах. В том году было закончено постройкой специальное здание, спроектированное группой архитекторов под руководством Ф. Троупянского, — неподалеку от Сабанеева моста, наискосок от Дома ученых. Там все слилось — музыкальные и общеобразовательные дисциплины были сведены в одно учебное заведение. Новый дом бы удобен и великолепен, все вместе. Тогда я не очень понимал, какой интерес он будет представлять для будущего историка советской архитектуры; теперь мне виднее. Проект был выполнен тогда, когда конструктивизм и функционализм, справлявшие свои оргии в архитектуре 20–х и начала 30–х годов, получили суровый отпор свыше: оказалось, что их концепции не отвечают основным принципам социалистического реализма в архитектуре. Возвращение к классическим традициям набирало силу, спустя десяток лет каждая захудалая железнодорожная станция будет похожа по меньшей мере на захаровское Адмиралтейство, а украсившие Москву высотные здания будут похожи уж и вовсе неизвестно на что. Фольклорная мудрость окрестит этот стиль «ампиром во время чумы». Ну так вот, дом школы Столярского возник на переломе архитектурных эпох, и эта переходность отразилась на его лице. Главный фасад школы предлагал глазу соблазнительную игру симметрии и асимметрии. Мощный ризалит — портал в центре имитировал гигантскую, на три с лишком этажа, триумфальную арку, декорированную коринфскими колоннами. Ему отвечали два узких ризалита по углам. Первый, вернее — цокольный этаж, как бы сдавленный тяжестью верхних этажей, был покрыт рустикой, намекающий на мощь цоколя; окна следующего этажа, по всем классическим правилам, дышали свободней на фоне гладкой стены, а декор окон третьего этажа был максимально облегчен. Но это все происходило на левом крыле здания, если стоять к нему лицом. А на правом — второй и третий этажи образовали некое целое, о чем сигнализировали огромные, на два этажа, окна с арочным завершением. Если же зайти несколько сбоку, справа, то там первый этаж закругляла великолепная полуротонда, украшенная теми же коринфскими колоннами соответствующего размера. Конечно, тут архитектура заговорила старинным языком символических форм: общая композиция несла на себе отпечаток классической гармонии, а господствующая надо всем триумфальная арка прямо указывала на минувшие и еще более — на будущие триумфы советской музыкальной культуры. Зато асимметрия окон не менее внятно говорила о функции: за большими окнами правого крыла находился просторный, высокий концертный зал, а полуротонда облекала единственный в своем роде дворцовый класс самого Столярского. Внутри все было рационально, удобно и торжественно вместе. От просторного вестибюля расходились два коридора первого этажа, в левом размещалась дирекция, учебная часть и всякое такое, а в торце — класс Столярского. Это был красивый и интимный зал, внутри он оказывался полной ротондой. Окна полуротонды веером раскрывались на спуск, мост, а за мостом — гавань и море. На сцене стоял очень хороший рояль. Пол был покрыт огромным ковром серо — сиренево — голубого цвета — в Одессе с ее французской наследственностью такой цвет назывался «перванш» — перед сценой, по стенам была расставлена музейная мебель и главное кресло, в котором сидел сам профессор. Если вернуться в вестибюль, то в центре его поднималась парадная лестница; там, где она разбегалась на два марша, мир отражало огромное зеркало во всю стену. Такие же зеркала были между другими этажами. Перед залом было просторное фойе, где находился и школьный буфет, очень приличный по тем временам. В фойе можно было посидеть и поболтать после уроков, там бывали ученические вечера, там же вывешивали школьную стенгазету, в которой старшеклассники демонстрировали народу свое остроумие. В одной из них, помню, было напечатано расписание радиопередач, начало было такое: «6.00. Передача для грудных младенцев. У погремушек — Зингер». Марк Зингер, профессор, доктор искусствоведения, сейчас обучает скрипачей в Чикаго. Зал был хорош: высокий, светлый, с хорошей акустикой и с разумными деталями; артистическая была в первом этаже, это был класс Столярского, оттуда на сцену вела крутая лестница: перед выступлением можно было разыграть руки, не мешая концерту, наверху ничего не было слышно. В зале постоянно звучала музыка, много музыки. Там все репетировали перед концертами, а ученические концерты, как я сказал, бывали каждую неделю. Там Столярский работал со школьным симфоническим оркестром. Наконец — что самое замечательное — бывшие выученики наших профессоров, тогда уже известные музыканты, приезжая в Одессу, непременно приходили в школу и играли для нас, щедро, прямо днем, после уроков: Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс, Яков Зак… После концерта Зака его учительница, профессор Старкова, крупная, грузная женщина, поднялась на сцену и под наши аплодисменты обнялась и расцеловалась со своим блистательным учеником. Вслед за нею на сцену поднялся и сам Петр Соломонович. Он тоже расцеловал пианиста, а после повернулся к залу и воскликнул: — Дети! Ви видите, чего достиг ваш товарищ! Он занимался, и он этого достиг. Дети! Я вас призываю преследовать его примеру! Столярский ни на минуту не забывал о своей воспитательной миссии. Надо заниматься, дети, надо заниматься! И мы занимались. У нас было несколько прекрасных учителей по общеобразовательной части. Завуч по наукам Яков Рымалис, заглядывая в конспект, очень логично излагал нам экономическую географию; он обладал умением, которое нас приводило в восторг, — не оглядываясь попадать указкой в нужное место на карте! Мы его побаивались, даже называли «Яков Грозный», но в общем отношения были хорошие. На каком‑то ученическом вечере наша одноклассница Песя Папиашвили, игриво заглядывая завучу в глаза, спела специально для него переиначенную песенку: Яша, ты помнишь наши встречи В приморском парке, на берегу… Грозный не обиделся. Характер небольшой привилегированной школы располагал к некоторой патриархальности. Прекрасным, увлеченным учителем русского и литературы был Василий Дзедзинский — вместо того, чтобы терзать нас классовым анализом и разбирать положительных и отрицательных героев, он приучал нас к ощущению живого слова: мог стать среди класса и великолепно, артистично прочесть наизусть «Песню о купце Калашникове». Химию нам преподавала моя двоюродная сестра Надя; я химию никак не мог понять и полюбить, но она не была в этом виновата, она была очень толковым педагогом, тут вся вина — на мне. Я уже назвал физика Брахмана — в сильных очках, за которыми видны были неестественно уменьшенные глазки, с глубокими вертикальными морщинами на щеках, он выглядел свирепо, а объяснял свою физику точно, понятно и весело. Брахман был дьявольски остроумен, никто из старшеклассников — чемпионов не мог его переострить… Казалось, что после урока Брахмана учить нечего, все ясно. Впрочем, это была всего лишь иллюзия. Как‑то ко мне обратилась соученица, виолончелистка Рита. Боря, попросила она, объясни мне физику. Мы спустились в буфет, сели за столик с блестящим стеклянным покрытием, и я принялся за дело. Мои старания стоит оценить, я до сих помню тему: тело на наклонной плоскости. Сначала я объяснил ей «по Брахману»; в качестве тела он брал самую крупную и круглую девочку в классе, Ию Иванову, виртуально клал ее на наклонную плоскость, затем выстраивал параллелограмм сил, выводил равнодействующую, потом стирал ставший ненужным параллелограмм, приговаривая вслед за Тарасом Бульбой — «я тебя породил, я тебя и убью»… Рита слушала меня как зачарованная, но по ее коровьим глазам было видно, что она как‑то еще не поняла. Тогда я взял несколько подручных предметов, устроил наклонную плоскость, поместил на нее круглую ручку, напомнил, что земная гравитация тянет прямо вниз, но ручка туда падать не может, плоскость мешает… Волоокая Рита преданно смотрела мне в рот. Я начал снова… Наконец, она меня остановила. — Боря, — сказала она, — ты очень интересно рассказываешь. Но теперь ты мне скажи — как ему сказать? Рита, дорогая моя однокашница! Если бы я мог, я бы тебе поставил памятник. Ты произнесла великую фразу — фразу, полную глубокой жизненной мудрости. Разве кого‑нибудь интересует суть дела? Кому, кроме оторванных от реальности и объективно опасных мечтателей, требуется понимание? Главное — знать, как ему сказать, это знание и есть смазка фундаментальных механизмов культуры и социума. А уж социалистического социума (как интересно звучит, не правда ли?) — и подавно. Там знание как ему сказать решало все проблемы. Увы, Рита не поняла, что она сказала великую фразу: она была глуповата, как сама поэзия, и не заметила, что чуть не стала пророком умения, основанного как раз на непонимании. Как она управилась с телом на наклонной плоскости, я не помню. Но вообще‑то успевала плохо, что очевидно. Неочевидно другое — что эта неуспеваемость по всяким там предметам не имела для человека особого значения. Не имела она значения. Решающей была, в сущности, одна отметка — в графе «специальность». Все дело было в том, как ты играешь на скрипке, флейте, фортепиано или арфе, прочее относилось к маргиналиям. Рафка Брилиант, сын консерваторской уборщицы, вор, сквернослов и хулиган, публично хватавший при случае девчонок за стыдные места, учился из рук вон плохо, ну — никак. Но когда он на ученическом вечере сыграл концерт Бетховена, у Столярского, сидевшего, как всегда, в первом ряду, из‑под очков поползли слезы. Мы это видели. Вот оно, главное. Я был все‑таки очень обыкновенным гениальным ребенком, даже слишком. Обманувшись, видимо, моей игрой на вступительном экзамене, меня взяла в свой класс Берта Михайловна Рейнгбальд, учительница Гилельса, профессор — орденоносец, как тогда принято было писать. Вскоре она убедилась, что ошиблась. Я тоже чувствовал, что она ошиблась. В классе было принято приносить на урок к профессору не просто хорошо разобранную, но вчерне выученную вещь. И какую вещь! Дима Тасин, на два класса меня младше, разыгрывал концерт Листа, слегка подскакивая на стуле при выполнении бурных октавных пассажей, как и полагалось виртуозу. Вскоре он должен был выступить в филармонии с симфоническим оркестром Советского Союза. Нора Левензон, из моего класса, сразу играла (небось летом выучила) концерт Шопена, весь. А Люся Майская, а Вера Хорошина, а Циля Райхштейн! Да что, крохотная Генечка Мирвис из какого‑то там третьего или четвертого класса, и та… А я приносил едва разобранное и, спотыкаясь, мямлил что‑то на профессорском рояле; Берте Михайловне я быстро стал неинтересен — и она отдала меня «на подтягивание» своему молодому ассистенту, Зигмунду Ильичу Зильбергу. Система была, по крайней мере для массовых музыкальных профессий — пианистов и скрипачей, подобна солнечной: в центре был профессор с собственным классом, а вокруг него — несколько ассистентов, постоянно находившихся в зоне его педагогического притяжения. Ближайшими ассистентами Столярского были Леонид Лембергский и Вениамин Мордкович. Столярский внимательно присматривался к ученикам ассистентов и сам часто занимался с теми, кто больше обещал. Профессоров — пианистов было трое — Берта Михайловна Рейнгбальд, Мария Митрофановна Старкова, тоже профессор — орденоносец, и Мария Ипатьевна Рыбицкая. Существует некий обобщенный образ тогдашней одесской исполнительской школы: безусловная виртуозность, энергетический напор, яркая эмоциональность… Но профессора были, конечно, разные. Я тогда эти вещи плохо различал, будучи музыкально недалек. У Зигмунда Ильича, в народном словоупотреблении — Муни, нас было трое: помимо меня еще Ира Сигал и Рита Фишман. Ира была прекрасная пианистка, умница, потом она училась некоторое время у Г. Нейгауза, а после окончания Одесской консерватории попала с мужем в Смоленск, учила и концертировала. А Рита… О Рите я скажу чуть позже. Муня был красив, в его лице с высоким покатым лбом было нечто вдохновенное и даже ангельское. Он много и хорошо играл сам, показывая, как надо, а когда играли мы, он не мог усидеть на месте, ходил по классу и пел, увлекая нас за собой. Он никогда нас не ругал, не кричал, Боже упаси, но стихийно создавал в классе атмосферу музыкального воодушевления. Возможно, иногда следовало с нас спрашивать строже, но его метод тоже был неплох. Естественно, мы должны были изучать все музыкальные дисциплины, теоретические — историю музыки, теорию музыки, гармонию, сольфеджио — и практические: ансамбль, аккомпанемент, у оркестровых специальностей еще и оркестр. Профессиональных концертмейстеров в школе не было — если не считать замечательной Мили Брейтман, работавшей в классе Столярского; всеми остальными концертмейстерами были сами ученики. Моим солистом и партнером по ансамблю была скрипачка Песя Папиашвили. С Песей мы ходили на уроки к Лембергскому. Там царил какой‑то другой дух, нежели в фортепианных классах, — непринужденный и импровизационный. У пианистов был строгий распорядок: один приходит на урок к двум часам, следующий — к трем… У Лембергского после общеобразовательных уроков собирался весь его класс. Учитель запаздывал, кто‑то из пианистов садился за инструмент, начинал — и весь скрипичный народ, от мала до велика, хватал скрипки и в унисон изображал концерт Мендельсона, или Испанскую симфонию Лало, или что‑нибудь еще не менее популярное, а умели это сыграть почему‑то все, ну — если не целиком, то хоть начало. Наконец, приходил учитель. Он задумчиво оглядывал класс и после недолгого размышления останавливал свой царственный выбор, мне непонятный, на ком‑нибудь: «Ну, ты играй». Таким образом, каждый урок был в некотором смысле публичным, слушали все. Словом, школа Столярского была прекрасна. Только сейчас, тут, в Америке, я понял, что это была школа не только замечательная, но еще и привилегированная и, представьте себе, дорогая. Никакой платы за обучение не взимали, более того — старшеклассникам еще и платили стипендию. Все оплачивало государство, которое неустанно заботилось о нашем счастливом и даже золотом детстве. Правда, неясно, откуда брались государственные деньги. На пьедесталах новооткрытых памятников Горькому, или там Чайковскому, или Пушкину, бывало высечено: «Такому‑то (имярек) от Правительства Советского Союза». Можно было подумать, что товарищи Молотов, Ворошилов, Каганович, Микоян и немногие другие, развязав каждый свою личную мошну, скинулись для славы отечественной культуры… Читая родимую советскую прессу, мы узнавали много интересного, скажем, об американских налогоплательщиках. Но ничего и никогда не было слышно о советских налогоплательщиках, такого словосочетания и быть не могло; «советский налогоплательщик» — вы слышите, как нелепо оно звучит? Налогоплательщик — это тот, кто может спросить, на что идут его деньги, но о чем мог спрашивать советский человек, который проходил как хозяин необъятной родины своей, ибо ему, а то кому же, это все и так принадлежало — фабрики, заводы, колхозы, правительственные и цековские дачи, танки, самолеты, Артек и школа имени профессора Столярского? Конечно, наша школа, равно как и организованные вскоре по ее образцу школы — десятилетки для музыкально одаренных детей при Московской, Ленинградской, Киевской консерваториях, были созданы увлеченными и выдающимися музыкантами, продолжателями и представителями блистательной русской музыкальной традиции. Но власть была щедра небескорыстно: ей нужны были эти чудесные юноши и девушки, которые способны были получать премии на международных конкурсах, нужны были так же, как спортсмены, побеждавшие на международных состязаниях, — не сами по себе, но как идеологические орудия. Их победы неопровержимо свидетельствовали о преимуществах социалистического образа жизни, благодаря которому (физ)культура страны переживала невиданный расцвет. Вот о чем, между прочим, вещала на своем архитектурном языке триумфальная арка фасада нашей школы. Что касается самих музыкантов, а заодно и музыки, то их можно было унижать и даже уничтожать, сколько правительственная душа пожелает. Об этом не мешает напоминать время от времени, иначе историческая память вянет. Ко мне недавно обратилась знакомая девушка: по совету своего профессора она собралась написать исследование о композиторе (советском композиторе?) Моисее Вайнберге. Когда я упомянул о трагической судьбе этого человека и его произведений, она не сразу меня поняла. Мой короткий рассказ о самоотверженной борьбе партии против лучшего, что было в отечественной музыке, был для нее, естественно, откровением. Эти самые — великие, вылетевшие из одесского гнезда, равно как и другие, из других мест, выступая в лучших концертных залах мира, покорно несли заслуженный ими гонорар в родимое посольство, оставляя себе положенную московскую концертную ставку «высшей категории», сопоставимую с гонораром любителей, арендовавших в воскресенье вечером какую‑нибудь церковь в Напе, чтобы поиграть для своих знакомых и поклонников. Эмиль Григорьевич Гилельс как‑то рассказывал — и я это слышал собственными ушами, — как торговый атташе советского посольства в Париже внятно объяснял ему: «Поймите, товарищ Гилельс, я ведь тоже заключаю многомиллионные сделки, но получаю только свою зарплату». Мудрость новейшего времени, выраженная чьими‑то авторитетными устами (неужели самого?), — «талант есть достояние народное» — не была известна Моцарту или Шекспиру. Но вот Гилельсу, Народному артисту СССР, это наглядно объяснил толковый внешторговец. А народу, в лице правительства Советского Союза, — народу, чьим достоянием был талант, капиталистическая валюта была нужна позарез — и он выменивал принадлежащий ему неосязаемый, но драгоценный товар на доллары и франки. Поток сознания, однако, увлек меня далековато от темы… В школе Столярского, как и везде, свирепствовала социалистическая демократия. Поэтому там существовала автономная комсомольская организация и ученическое самоуправление, учком. Поскольку школа была на особом счету, музыкально одаренными комсомольцами руководил «прикрепленный» комсорг, назначенный райкомом, Митя Вайсберг. Митя был полон комсомольского энтузиазма и марксизма. Он знал ответы на все вопросы. «Любовь? — переспрашивал он. — Маркс учит, что любовь — это: общность интересов, плюс взаимное уважение, плюс половое влечение». Вот так‑то, доктор Фрейд. Задачи учкома и комитета комсомола были ясны: надо бороться. И мы боролись — за высокую успеваемость и дисциплину, разумеется. Это был наш сектор. Есть люди, наделенные от природы неукротимым общественным темпераментом. У одних он сохраняется всю жизнь, у других проявляется всего ярче в молодости, а с возрастом его энергии сублимируются и направляются в другие области. Упомянутая выше комсомолка Фрида Приблуда одно время была председателем учкома, а я был ее заместителем. Позднее я был секретарем комитета комсомола, а она была моим заместителем. Только теперь я понимаю, насколько это было по — советски: именно так обеспечивалась надежная преемственность власти. Не могу сказать, что мы отдавали все силы общественной работе, — были слишком загружены. Только самостоятельные занятия музыкой, дома, за инструментом, занимали часа четыре в день, и это не считая всего прочего. Так что наши демократические органы, как и положено, относились более к категории «как ему сказать», они были, поскольку они должны были быть. На вопрос, что мы делали, честно было бы ответить, что не делали ничего. Кроме одного случая. Пока мы вяло боролись за высокую успеваемость и дисциплину, Европа снова катилась в пропасть. Прошли месяцы «странной войны» между «линией Зигфрида» и «линией Мажино», потом немецкие танковые орды, подмяв Бельгию и Голландию, вторглись во Францию, а там — Дюнкерк, падение Парижа… Страна Советов разрасталась: вслед за востоком Польши в нее влились маленькие республики Прибалтики, грамотные люди тогда их называли «лимитрофами». С одним лимитрофом пришлось повозиться — победа над маленькой Финляндией выглядела странно и напоминала скорее поражение, но кусок лимитрофической земли и там удалось урвать. Мы, дети, волновались, обсуждали, судачили в меру своего понимания, но в общем — это было там… Иногда в школу залетали какие‑то обломки не нашего мира. Жора Фельдгун, скрипач, одевался очень как‑то на заграничный манер: несоветские полуботинки, высокие клетчатые гетры, невероятные, чуть ниже колен, штаны — гольфы… Я ему обязан, но совсем не примером буржуазной моды: как‑то на большой перемене он мне открыл глаза на эффект Допплера и чудо разбегающейся вселенной. Только теперь, недавно, мне попалась газетная статья о нем — оказывается, его мама была советской агентессой в буржуазно — лимитрофной Эстонии, за что и была наказана впоследствии лагерем и ссылкой, Жора, однако, сумел выпрямиться и стал доктором искусствоведения, профессором Новосибирской консерватории. Другой кометой из заграничного мира был молодой львовский скрипач, недавно освобожденный от гнета и приехавший учиться у Столярского. Филипп Кесслер был ослепителен — высок и строен, слегка нафабренные каштановые волосы свободной волной, костюмы! Девочки перестали нас замечать, а Филипп не замечал их, он ходил тенью за профессором, видел и слышал только его. Русский он понимал плохо, кое‑что надо было ему объяснять. Как‑то после репетиции оркестра он обратился к ученице Столярского, чтобы справиться о неизвестном ему музыкальном термине, который употребил профессор: где‑то в середине репетиции Учитель вскричал — «бехейме!»[6] …Закончился учебный год. Еще в мае нашего педагога Муню Зильберга призвали на военные сборы. В июне, по — моему — числа двенадцатого или четырнадцатого, его отпустили на день-другой домой, к красавице — жене и только что рожденному дитяти. Муня сразу же вызвал нас троих, Иру, Риту и меня, к себе домой, чтобы задать нам летние программы. В военной форме (хлопчатобумажной, «х/б») и больших, не по ноге, кирзовых сапогах он выглядел неважно, но планы для нас были готовы. Какую программу он приготовил для меня! Я был уже не тот отстающий недотепа, а тут открывались новые исполнительские горизонты — серьезный Бах, этюды Шопена, крупная форма, какая — убейте не помню, но нечто замечательное… Я уходил от учителя окрыленный. На другой день военнообязанный рядовой Зигмунд Ильич Зильберг вернулся в часть. Спустя неделю началась война — и больше никто никогда ничего о нем не слыхал. Вот и все про Муню. Я все еще был секретарем комсомольской организации — ясно, что с первых же дней войны мое место было в школе. И правда, из райкома комсомола (Воднотранспортного района — факты, и только факты!) мне звонили непрерывно, едва ли не каждые полчаса. «Бернштейн, — кричал в трубку кто‑то из руководства, — подготовь сто комсомолок в школу медсестер!» Распоряжение было вполне идиотическое: во — первых, в школе не было ста комсомолок, во — вторых — наступили каникулы, и взять и в пять раз меньшее количество старших девочек было невозможно, некоторые уже разъехались. Впрочем, исполнения приказа никто не требовал, казалось, о нем тут же забывали, потому что через полчаса другой руководитель уже кричал в трубку: «Бернштейн, давай сто человек на рытье окопов!» Еще полчаса, и новый звонок… Они там думали, видимо, что в школе Столярского учится несколько тысяч народу. Впрочем, верней предположить, что хаотическая симуляция деятельности началась сразу. Назавтра никто не помнил о вчерашнем, поступали новые распоряжения, столь же абсурдные. Важно, что они были спущены. Великое Правило виолончелистки Риты — «как ему сказать» — в условиях военного времени соблюдалось особенно строго. Но дело для нас было. Школа как‑то незаметно и быстро опустела. Исчезла дирекция, исчезла учебная часть, исчез сам Столярский. Его личный автомобиль, знаменитый довоенный М-1, «эмка», стоял брошенный во дворе школы. Мы, дети, стали единственными хозяевами школы — и я оказался главным. Да. Вот тут, сейчас, перед вами, господа, последний начальник школы Столярского в 1941 году. Мы — те, кто был в пределах моей досягаемости, — установили круглосуточное дежурство по школе иохраняли ее от разграбления. И все было наше! Ночные дежурные сидели в святая святых — на псевдоампирных козетках в кабинете — зале самого Пини! До конца июля школа — прекрасная, нарядная, полная дорогих инструментов — была в полном порядке, была жива. В конце июля начались систематические еженощные бомбардировки Одессы, и родители перестали отпускать от себя детей, ночами все жались в подвалах, прислушиваясь — куда направляется омерзительный свист очередной бомбы. В августе наша семья бежала из Одессы, уже морем. Школу вскоре разворовали, а затем и разбомбили. Возможно, все произошло в обратном порядке: сначала разбомбили, а потом уже крали, что уцелело. Обыкновенных и необыкновенных гениальных детей предали. Московскую и Ленинградскую десятилетки вывезли в эвакуацию, детей вместе с родителями. Одесскую бросили. Бросили все. Кто‑то авторитетно приказывал не паниковать: в райкоме есть план эвакуации, в нужный момент… Как и многое другое, это было пустым враньем. Когда пишут о школе Столярского, триумфальные интонации безусловно преобладают. Это выигрышная тема — кто кем стал. Школа воспитала много выдающихся музыкантов, но и те, кто не стал лауреатами или известными профессорами, воспитавшими новых лауреатов, стали крепкими, надежными профессионалами, которые служили и продолжают служить отечественной, нет, далеко не только отечественной — мировой музыкальной культуре. Сейчас я хочу помянуть тех, кто только мог стать, да не стал. Передо мной старая фотография, большого формата, снятая, наверное, для газеты. На обороте надпись: «Молодежь слушает музыку». Вот подряд ребята из нашего класса — какие хорошие лица, серьезные, сосредоточенные, они действительно слушали музыку, когда их снимали, это не инсценировка. Вот наш ближайший друг Шурик Абрамович; он был скрипачом, Фрида — его пианисткой. Высокий, красивый, арийского типа блондин, голубоглазый, с коротким носом, с очень белой кожей. Его отец сидел, он жил с матерью и старшей сестрой, бедствовал, у них просто не было денег, чтобы бежать из Одессы, — и они погибли там. А вот Рита Фишман, моя соученица по классу Зильберга, — она тоже погибла в Одессе. Левее от нее — круглолицая, в очках, интеллигентски неловкая Лиля Фишман, пианистка. И она погибла в Одессе… Всех не перечту, о многих просто не знаю. Как они умирали — шестнадцатилетние, семнадцатилетние? Может, кого‑то из них вывели из дома в тот день, когда в отместку за взрыв бывшего здания НКВД сотни евреев были повешены на деревьях Александровского проспекта? И тысячи сожгли живьем в складских зданиях? И Риту? И Шурика? Кроме оставшихся в Одессе, были и другие жертвы. Рафа Брилиант попал в Ташкент, там он не удержался и что‑то украл, дело вышло наружу, его исключили из консерватории — и след его потерялся. То ли его тут же призвали в армию и он погиб где‑то, то ли пропал в голодном Узбекистане… Возможно, мир лишился выдающегося скрипача. Берта Михайловна Рейнгбальд провела годы войны в Ташкенте, там она была профессором Ленинградской и Ташкентской консерваторий. В 1944 году, когда Ленинградская консерватория собралась в обратный путь, Берту Михайловну почему‑то в списки не включили. Она вернулась в освобожденную Одессу, но оказалось, что ее никто не ждет. Берта Михайловна скиталась по каким‑то знакомым, просила дирекцию консерватории выделить ей временно комнатушку в консерваторском доме; дирекция отказала. Вернувшись к каким‑то приютившим ее людям и не застав никого дома, она поднялась на верхний этаж и выглянула в пролет лестницы. Пролет оказался достаточно просторным. Ее сын, Алик Рубинштейн, спустя годы эмигрировал в Америку, в 1990 году мы были у него в Голливуде. Он старательно собирал материалы, документы, записи — все, что относилось к матери и ее ученикам, к Гилельсу в особенности. Алика уже нет, где его архив — не знаю. Петр Соломонович умер в эвакуации, в Свердловске, в 1944 году. (обратно)Кефира не будет
Моя сестра Жозефина была филологом. Всю свою жизнь, после окончания института и до выхода на пенсию, она преподавала русский язык и литературу. После выхода на пенсию — тоже. Знала и любила литературу всегда. Критерии качества были высокими. Видимо, поэтому она мало кому показывала собственные стихи. Даже мне не показывала. Однажды она мне написала: «сочиняю стишата на злобу дня — от графоманов меня отличает то, что я знаю цену своему „творчеству“».Я их прочел, когда она ушла.
В России я жила как жил народ —
Под игом беззаконья и закона.
Но между птиц различнейших пород
Всегда была я белою вороной.
И я решилась! Принимай скорей
Меня, аэропорт Бен Гуриона…
Иерусалим. Кругом одни евреи,
А я меж ними белая ворона.
* * *
Нас было трое — Жозефина, Сарра и я. Это триединство было дано. Оно было готово до пробуждения сознания и казалось вечным. Время вмешается позднее. По родству мы были двоюродные, но жили в одном доме, в одном дворе, росли рядом. Братик и сестрички. Сарра была моя ровесница, моложе на четыре месяца. Жозя была нас старше на два с лишком года. Для детства это много, и она могла смотреть на нас свысока. Она не злоупотребляла своим правом, скорее я чувствовал себя допущенным, когда она рассказывала о школьных событиях или — тем более! — вводила в свою компанию. Старше меня на два класса, она открывала мне школьное будущее — учителя, предметы, взрослые проблемы и отношения… Юноши из ее класса сочиняли утонченную литературу: «В комнате пахло апельсинами, но это были не апельсины, а от волнения…» Я замирал от поэтической дерзости. Учительница биологии Александра Дмитриевна, Алекса, по прозвищу хламидомонада. — Что ты смеешься, дурак? Ты знаешь, что такое хламидомонада? И я заодно узнавал наперед, что это такое. Иногда будущее предварялось буквально: миновал годик — другой, и хламидомонада Александра Дмитриевна оказалась нашей классной руководительницей в школе Столярского. Мы очень дружили, и в этой дружбе бывали наравне; в конце концов, у нас появлялись даже общие друзья. В нашей троице были свои группировки. Мы с Жозефиной были в некотором смысле перфекционисты, хорошо учились и сами отвечали за свои дела. Поэтому мы не без иронии принимали к сведению, что Сарра готовит уроки под неусыпным наблюдением матери и что наблюдению нередко сопутствуют крики и другие кары. С точки зрения прописей педагогики наша тетка вела себя неверно, но и случай был особый. Была ли Саррочка ленива? Возможно, но главная причина лежала глубже. В эту девочку с прехорошеньким личиком, но склонную к одесской полноте, природа вложила дьявольскую энергию. Состояние покоя или равномерного прямолинейного движения было для нее непереносимо. Эпикуров клинамен был ее будничным состоянием. Она была полна непредсказуемых затей — часто непредсказуемых для нее самой. Однажды на глазах у изумленного двора она залезла на крышу нашего высоченного четырехэтажного дома по внешней пожарной лестнице, железной и шаткой. Школьным учителям она являлась в ночных кошмарах. Тройка по поведению была недостижимой мечтой семьи. Понятно, что прилежание было ей чуждо. Окончив школу во время войны в далеком Акмолинске, она отправилась в Москву за высшим образованием. Начала Сарра с престижного Института стали и сплавов, тогда — имени Сталина. Институт стали имени Сталина — какая музыка! Мамы рядом не было, присмотреть было некому, свобода. По прошествии недолгого времени ее из института выставили. Она перешла в другой. Там дела тоже не заладились. В конце концов она, уж не помню, с которого захода, выучилась на экономиста. Ничего, успеваемость — совсем не главное в жизни. Она стала дельным работником, вышла замуж, подняла и воспитала двух преданных дочерей. Мы с Жозефиной очень ее любили. Отца Жози звали Иосиф. Он не дожил до рождения дочери — тиф. В его память она и стала Жозефиной. Мама — Полина Борисовна — воспитывала ее одна. Что в сестре было от отца — не знаю, тут одно биологическое наследование. Возможно, ум и остроумие от него тоже. Но от матери она получила кой — какие вещи, которые генетическим путем не передаются, — главные жизненные ценности. Я листаю старые фотографии и вижу то, чего когда‑то, мальчишкой, не замечал. Тетка в молодости была красивой женщиной — высокая, с так называемым тяжелым узлом волос на затылке, с чудесным профилем. Она, как и все ее братья и сестры, была интеллигентом в первом поколении. По каким‑то врожденным свойствам личности она стала подлинным интеллигентом — в том лучшем смысле, который сегодня одни стараются замарать, другие обмазывают елеем до неразличимости образа, а третьи рады забыть. Полина Борисовна, тетя Поля, была учительницей младших и средних классов. Здесь было ее поприще, как говорили в старину: школа и дети были столько же предметом неукоснительного долга, сколько предметом любви. Это удачное сочетание: педантизм, исступление служения, сухая фанатическая устремленность к цели исключались. Везде, в классе, дома, с друзьями, она оставалась обаятельным живым человеком. Она могла со смехом рассказывать о безобразиях учеников, потому что понимала их и любила. К тому же она сама была наделена прелестным, мягким остроумием. Во всем, в большом и в малом, она была нравственно неумолима. Она не могла себе позволить никакой лжи или лицемерия, не могла совсем, никак, внутренний запрет действовал автоматически, до всякого рассуждения. Она была разборчива и брезглива в пище, но наибольшую брезгливость она проявляла к любому нравственному компромиссу. Однажды Жозефина, уже совсем взрослая, попросила Полину сказать по телефону назойливому знакомому, что ее, Жози, нет дома. Мать просьбу не выполнила, а Жозефине попало за намерение солгать. Мы виделись практически каждый день. Балкон Сарры выходил во двор, который принадлежал к типу дворов — колодцев. Но мы неудобств не видели, напротив: стоило громко крикнуть, и подвижная сестричка тут же откликалась. Если, конечно, не была занята с мамой. Окна универсальной комнаты тети Поли — столовая, спальня, гостиная, детская и кухня в едином пространстве на два окна — выходили на улицу, там тоже нетрудно было выкликнуть сестру и даже взобраться с улицы на подоконник, поскольку это был высокий и торжественный первый этаж. Регулярность наших встреч обеспечивалась еще и музыкальными занятиями. Поскольку моя мама была учительницей музыки, то, как это было принято в Одессе, детям нашего двора заботливые родители пытались дать музыкальное образование прямо в нашей квартире. На рубеже веков, на другом конце света, в Калифорнии, я встретил двух бывших мальчиков из нашего двора: Путилова, чей отец работал вместе с моим в Еврабмоле, и Губермана, чей отец был еврейским писателем. И в первых же воспоминаниях появилось имя Эсфири Григорьевны, которая некогда обучала обоих игре на фортепиано. Племянницы пианистки уже никак не могли уйти от судьбы. Поскольку инструмента не было ни у той, ни у другой, обе приходили к нам готовить уроки «по музыке». Приходили, естественно, тогда, когда старших не было дома. Сарре музыка была противопоказана по психофизиологическим параметрам. Жозефина была даровитей, но не намного. Обе приходили заниматься, в разное время, — и мы проводили вместе восхитительные часы. Однажды в музыкальный час мы с Жозефиной, увлекшись спором, не имевшим отношения к музыке, немного подрались и, налетев на неустойчивую этажерку, разбили довольно дорогую вазу. Победила дружба. Мы были типичными одесскими детьми из интеллигентных семей. Нас многое занимало, мы много читали. Это была мерка, в Одессе так и говорили — «начитанный мальчик». Чтение было неотъемлемой частью нашей детской жизни, знакомые подростки при встрече первым делом спрашивали: а что ты сейчас читаешь? Обсуждение прочитанного входило в класс важнейших ритуалов подростковой жизни. Иногда читали вместе, вслух. Особенно славно получалось с юмористической литературой, потому что вместе выходит смешней. Впрочем, об этом еще Анри Бергсон знал: комическое, — писал он, — не доставляет удовольствия в одиночестве. Он был прав, хотя только отчасти. Явственно вижу, как мы с Жозефиной в чудесный июньский день сидим у распахнутого окна и читаем вслух Гашека. «Исповедь старого холостяка». Это невыносимо смешно. Окно высокого первого этажа («бенуар»), как сказано, выходит на улицу, и наш истерический хохот останавливает прохожих… В сороковом году дистанция между нами как бы увеличилась — Жозефина стала студенткой. Раньше дружба скреплялась общностью школьной жизни и школьных интересов, опыт старшеклассницы освещал жизненную перспективу. Теперь я школьник, а она — студентка. Какая сила направила ее в Институт связи, сейчас уже не вспомнить. Кажется, туда поступали ее приятели. Выбор был неудачный, хотя училась она успешно. То ли по поводу перемены статуса, то ли еще в последний школьный год, в предчувствии перемены, у нее появилось новое зимнее пальто с недурным, в крупных пятнах под ягуара, кошачьим воротником. Ему суждено было сыграть важную роль в истории.* * *
Многие еще помнят, что война началась 22 июня. Нам было известно, что Красная армия непобедима, что мы будем бить врага на его территории, что броня крепка и танки наши быстры. В июле стало ясно, что из Одессы надо бежать. В том же июле, кстати, я впервые в жизни услышал, как учащиеся ремесленного училища из окон кричали «жид!». Это они мне кричали. Мы покидали Одессу в августе. Завод «имени Октябрьской революции», где работал отец, эвакуировали морем, на грузовом пароходе «Ян Фабрициус» (был такой латыш — революционер, красный военачальник, утонувший ранее в том же Черном море). Как видно из истории нашей семьи, попасть в трюм «Яна Фабрициуса» могли не только работники завода, но и члены их семей. При определенных условиях понятие семьи можно было толковать в расширительном смысле. В нашу семью входили — кроме отца, мамы и меня — сестра мамы с мужем, профессором медицинского института, и малолетней дочерью, брат мамы с женой, вдова другого брата мамы — с дочерью и маленькой внучкой, чей отец вскоре должен был погибнуть под Севастополем. Всего одиннадцать ртов. Признание этого конгломерата за полноправных членов семьи одного работника завода стоило денег — лицу, ответственному за выдачу талонов на размещение в трюме «Фабрициуса», надо было уплатить взятку в размере двух тысяч рублей с носа. И то — ответственное лицо было приятелем отца и, это уже чистая случайность, дядей моего лучшего школьного друга. Искомой суммы денег у нас не было, не было их даже у профессора Гиммельфарба, были деньги только у маминого брата, дяди Шуры. Он, бездетный, копил всю жизнь и, спасая себя, уплатил, т. е. — как бы дал взаймы, ибо на более широкие жесты был неспособен. Словом, мы отплывали с родней мамы. Между тем, три сестры отца оставались в Одессе. Осталась мать Жози, Полина, а с нею старшая сестра, Дора, и младшая, глухая — Идочка, с которой они жили одним хозяйством. Денег на взятки у них тоже не было, но главная причина была в другом: Жозефину, студентку, только что окончившую первый курс, отправили вместе с другими студентами куда‑то в Одесскую область — то ли еще помогать социалистическому сельскому хозяйству, как всегда — беспомощному, то ли уже рыть окопы. И три сестры остались ее ждать. А вдруг вернется. Мы знали, что остаться в оккупированной Одессе значило погибнуть. Все были в мучительной тревоге, а отец места себе не находил. Тем временем «Фабрициус» неторопливо плыл по черноморским волнам. Иногда объявляли тревогу — где‑то замечены вражеские самолеты — и всех сгоняли в трюм. Известно было, что плывем в Мариуполь, но почему‑то корабль пристал в Евпатории и простоял там целые сутки. Потом, в Мариуполе, мы узнали о причине — вышедший в море перед нами пассажирский теплоход «Ленин» с тремя тысячами беженцев на борту напоролся на немецкую мину и затонул. Спаслось несколько сот человек. Из Мариуполя заводской коллектив направился в Ростов — на- Дону, где находился завод родственного профиля. Однако в Ростове уже никто не чувствовал себя в безопасности. Дяде, профессору — эпидемиологу, предложили должность заведующего противочумной станцией в селе Благодарное, это Ставропольский край. Мы потянулись за ними. Сняли комнату, отец устроился в МТС инженером — нормировщиком, я отправился в местную школу доучиваться. 16 октября, после двух месяцев осады, Одесса была сдана. Остались ли там Жозенька и сестры отца? В конце ноября немцы взяли Ростов — на — Дону и нависли над Северным Кавказом. Надо было снова бежать. Дядю — профессора призвали в армию, дали звание капитана первого ранга и назначили флаг — эпидемиологом Черноморского флота. С ним на черноморскую базу флота отправилась его семья и две вдовы с маленькой синеглазой Реной. Мы решили бежать за Каспийское море. Вновь сложив убогие чемоданы с одеждой, кое‑как добрались до Буденновска — и вскоре железнодорожный эшелон вез нас в Махачкалу. Эшелон состоял из открытых платформ с красно — коричневой рудой в порошке, мы сидели на металлических дюнах, бешеный ноябрьский ветер, помноженный на скорость товарняка, обдувал группу счастливых беженцев. Счастливых, потому что мы проносились мимо других беженцев, снятых с предыдущих поездов и ютившихся в пустой степи. Те, кому повезло, жгли костры. Другие просто лежали на более или менее родной земле. Естественно было ожидать, что и нас вот- вот сбросят — ну, в Гудермесе ссадят непременно! — однако наша руда мчалась от одной заставы к другой без остановок и наконец сбросила нас в желанной Махачкале. Уютно переночевав на асфальте ближайшего тротуара, мы перебрались в порт. В порту была организована живая очередь из ждущих посадки на плавучее средство, способное доставить на другой берег Каспия, в Красноводск. Многие тысячи людей жили под открытым небом, варили что‑то на кострах, ели, спали, кормили грудных детей, погруженные примерно на треть в вонючую смесь природной грязи и человеческих экскрементов. Уйдешь — потеряешь место в очереди. Если семья, то можно было распределять дежурства. То есть, это было просто необходимо, поскольку кто‑то должен был добывать пропитание. Вот и мы с отцом холодным солнечным утром отправляемся в город. Одного отца отпускать в город не следовало — уже тогда его зрение было никудышным. Мое было несопоставимо лучше, хотя во время лихой езды на платформе с рудой я потерял очки. Судьба в то утро была к нам по — особому милостива. Постояв недолго в очереди, мы достали две прокопченные до деревянного состояния рыбины, неизвестной породы, но довольно крупные. Бредем по пустынной улице в надежде напасть на еще какую‑нибудь снедь. И тут… Нет, действительно, я хорошо помню, что улица была пуста, ветер во все концы, дряблый солнечный свет поздней осени не согревал, но позволял видеть многие детали, хотя моя близорукость размазывала дали. Так вот, именно в этой дали, квартала за полтора от нас, из‑за угла показывается фигура с неразличимыми для меня чертами лица. Ничего интересного, если бы не единственный в мире кошачий воротник, украшенный крупными леопардовыми пятнами. Пятнистый кошачий воротник! Жозя! Жозя, живая, спасенная, тут же, рядом с нами, вот она! И Поля, и Дора, и Идочка — все целы и все здесь! Почему я так пишу — Поля, Дора, Идочка? Почему не Ида? Потому что так говорили в семье. Младшую, оглохшую, миловидную, добрую и кроткую, никогда не называли Идой, только ласково — Идочка. И я, повторяя давно ушедшее, на минуту воскрешаю атмосферу теплого семейного микрокосма, невидимую сеть привязанностей, характеров, отношений. Кроме меня никто уже не знает, почему Идочка. Все, для кого это было естественно и понятно, ушли. Теперь, когда Жози больше нет, я последний.* * *
* * *
Так неожиданно, неописуемо и счастливо, в смердящем месиве махачкалинского порта происходит воссоединение большого сегмента семьи. Дальше мы бежим вместе. Грузовое суденышко, подобравшее нас в Махачкале, попало в шторм и долго носилось по каспийским волнам без руля и без ветрил. В конце концов оно причалило в Красноводске, где был налажен конвейер — с корабля на рельсы, в теплушку — и марш в необъятные пространства Средней Азии. В казахстанских степях было не теплей, чем в степях Северного Кавказа, но, если захлопнуть наглухо ворота теплушки, дуло только в щели. Эшелон мчался неизвестно куда. Нас выгрузили в Багдаде. Железнодорожная станция почему‑то называлась «Серово», но принадлежала она городу Багдаду. Наш Багдад, центр Багдадского района, Ферганской области, напоминал сказочную столицу Аббасидов времен Гаруна аль Рашида только двумя зданиями — двухэтажным райкомом партии и двухэтажным райисполкомом. Остальные строения были скромнее. Беженцы выстроились в очередь к райисполкому, где распределяли — кого куда. Нас направили в колхоз Игермаилык Октябр километрах в десяти — двенадцати от Багдада. Новым домом стала колхозная школа. Она состояла из двух обширных классов. В каждом классе поселили по два — два с половиной десятка беженцев. В углу каждого стояла печурка, на которой по очереди можно было готовить еду. Если так можно назвать вещество, которое составляло основу рациона. Колхоз как бы взял нас на содержание — на каждого стали выдавать определенную норму дров, лепешек и джугары. Джугара и была главным питанием: крупноформатная, твердая как алмаз крупа, которую надо было толочь тяжелым деревянным пестом в неолитической ступе часа полтора, лучше — с водой. После цикла механической обработки наступала очередь термической: два — два с половиной часа варки на медленном огне — и основное блюдо можно было есть. Я хотел сказать «с отвращением», но это была бы неправда. К моменту относительной готовности джугаровой каши так хотелось есть, что об отвращении не могло быть и речи. За эти блага мы должны были трудиться на хлопковом поле, собирая пресловутые коробочки, — что мы и делали с усердием, присущим интеллигенции в полевых условиях. Тем не менее органическое сосуществование частных беженцев с колхозным строем выпадало из системы. Вольные возделыватели колхозного хлопка — оксюморон, сочетание несочетаемого, нарушение космического порядка. На колхозном поле должен трудиться колхозник же. В один прекрасный вечер в школу явился наш попечитель, молодой человек со зловещим именем Умералы. Он был приставлен к нам, по — видимому, как знаток русского языка. Умералы уговаривал нас вступить в колхоз. Подать заявление и стать нормальными, полноценными колхозниками. Уговоры сопровождались угрозами в вынужденно лаконичном стиле: — Завлэння нэт? — втолковывал Умералы, — лапешка нэт, дрова нэт, джугара нэт, ничего нэт! Умералы влюбился в Жозю. Наступил момент, когда он сделал ей предложение. Но его ультиматумы от этого не стали мягче, поскольку он чувствовал себя исполнителем высшей воли. Вот такой, молодой и неиспорченный, он не смешивал общественное и личное. Заявления никто не хотел подавать. Наше нежелание было обосновано — мы, хоть и городские, а знали, что коллективизация сельского хозяйства была социалистической модификацией утраченного при царе Александре Втором крепостного права. У колхозников отбирали паспорта, это было почище крепости. Поэтому мы настаивали на том, что вступление в колхоз — дело добровольное, так и в Примерном Уставе Сельскохозяйственной Артели написано! Мы честно трудимся, этого достаточно. Но Умералы был неумолим, за словом следовало дело. Нам переставали выдавать лепешко — топливно — джугаровый паек. Тогда мы с отцом отправлялись жаловаться в Багдад. В райкоме или райисполкоме наши ссылки на Примерный Устав почему‑то встречали с пониманием, достойным Гаруна аль Рашида, в колхоз на горячем коне скакал гонец, который гневно кричал на председателя по — узбекски, размахивая нагайкой. После этого статус — кво восстанавливался, но ненадолго. В один прекрасный вечер в класс являлся влюбленный Умералы и обновлял ультиматум: завлэння нэт? джугара нэт… Наша борьба с колхозным строем могла кончиться для нас плохо. Но отцу удалось отыскать покинутый нами в Ростове завод, который оказался на Алтае, в никому не ведомом городе Рубцовске. Завод прислал ему вызов — и мы, захватив старшую тетку Дору, снова отправились в путь. В то же время в Киргизии нашелся муж младшей из сестер Бернштейн, Фриды, — Нахман Лейках. Известный агроном, специалист по масличным культурам, он нашел работу в киргизском совхозе «Эфиронос» — и вызвал к себе Полю, Идочку и Жозю. Мы разъехались в разные стороны. Но для каждого из нас Игермаилык Октябр был значительным эпизодом и оставил важный след — в мыслях и в жизни. Еще в теплушке, мчавшей нас по среднеазиатским просторам, мы познакомились с удивительной семьей Шломьюк. Три сестры, Реа, Пепи и Кока, и муж младшей, Жан. Все они были родом из Румынии. Оттуда же, из Румынии, каким‑то чудом добежал до Красноводска потерявшийся и потерявший всех парень лет семнадцати, Мойше. Оборванный, заросший, вшивый, без денег, он прибился к нам — и мы кое‑как подкармливали его. Это были люди из другого мира, они видели мир иначе и не готовы были скрывать свой угол зрения. Мойше был наивный апологет капитализма. Смотри, — говорил он мне на своем бедном, но понятном русском языке, — капиталист получает большую прибыль, да, но он все съесть не может, сколько бы он ни проел и ни потратил, все остальное он вкладывает в производство, и оно расширяется и улучшается! Он же сам заинтересован, чтобы его дело росло! Опровергнуть логику Мойше не получалось, но я все равно знал, что социализм — самый прогрессивный и эффективный способ производства. А вот Шломьюки… Шломьюки были румынские коммунисты. Несовершенство русской грамматики не позволяет мне дать понять, что были в данном случае должно означать прошедшее время, предшествующее прошедшему времени повествования. То есть, к той осени 1941 года они коммунистами быть перестали. Это была заслуга реального советского социализма. Старшая из сестер, Реа, была не просто коммунисткой, она была видной коммунисткой, ближайшей соратницей и подругой Анны Паукер, в будущем — первого министра иностранных дел социалистической Румынии, казненной позднее, с подачи Сталина, за еврейство. Реа отсидела свое в румынских концлагерях. Когда — в соответствии с пактом Молотова — Риббентропа — советские войска захватили Бессарабию и была учреждена Молдавская союзная республика, вся семья Шломьюков снялась с места и отправилась в страну обетованную. Осели в Кишиневе. Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что Сталин был не так уж неправ, когда велел сажать и уничтожать всех западных коммунистов, оказавшихся в Советском Союзе. Ибо, если только они не были продажными холуями или тупыми фанатиками, они должны были испытывать катастрофическое разочарование — как Шломьюки. Впрочем, известно, что холуев и фанатиков тоже уничтожали — таков уж был сталинский метод социальной асептики и антисептики. Шломьюки пришли в ужас от советских реалий — но было поздно, они были уже здесь. Хорошо хоть, что не успели в Гулаг. Декабрьскими узбекскими вечерами, при свете догорающих в печурке углей, они говорили нам о том, что увидели, пережили, передумали. Это была жизнь, которой мы жили, не зная о другой, но увиденная другими глазами. Боль разочарования и утраты личных идеалов придавала их словам особое напряжение. Для нас, юных, Жози и меня, это был катастрофический взрыв. Не могу сказать, что семья воспитывала нас в коммунистическом духе. Ничего подобного не было. Мама происходила из состоятельной семьи, которая, разумеется, была разорена. Один ее брат, Даниил, был расстрелян в ЧК еще в бурные послереволюционные годы — на него написала фальшивый донос брошенная им любовница. Другой, Яков, видный инженер, побывал однажды в служебной командировке в Германии, этого было более чем достаточно, чтобы его забрали в тридцать седьмом и расстреляли в тридцать девятом. Со мной мама благоразумно не касалась этих тем. Отцу просто было некогда. Иногда до моих ушей доносилось кое‑что. Помню, как в нашей столовой сидел какой‑то из друзей отца и громким шепотом повторял — «не верю, не верю, что Зиновьев, Каменев, Бухарин — изменники и диверсанты! Не верю, не поверю никогда…» Мне, значит, было двенадцать. Но это так, проблески. Куда сильнее была вездесущая, окутывающая идеологически — воспитательно — пропагандистская субстанция, в которую постоянно погружали детское и юношеское сознание: школа, газета, пионерская и комсомольская жизнь, журнал «Пионер», дворец пионеров, радио, собрания, митинги, парады, книжки, торжества. В детстве все это воспринималось как данное и незыблемое мироустройство. Однако к шестнадцати годам — а Жозефине уже девятнадцать исполнилось — голова достаточно созрела, чтобы услышать и задуматься. Недели, проведенные со Шломьюками, были первой школой сомнения. Помню, как я брел в очередной раз из Багдада в колхоз. Мир вокруг экзотически прекрасен. Дорога — аллея обсажена диковинными деревьями — ствол заканчивается толстым кулаком, из которого торчат во все стороны тонкие голые веточки. По обе стороны — хлопковые поля, а в глубине долину замыкают призрачно — хрустальные пики горного хребта. Если обернуться, то с другой стороны такая же декорация. Идти более десятка километров, и в голове тянутся бессвязные мысли: вон за долиной горы, за горами, небось, следующая долина, потом опять горы, а между тем поверхность Земли медленно изгибается, ибо Земля шарообразна… постой, а шарообразна ли Земля? Таково было последействие вечерних бесед со Шломьюками. Они были славные, чистые и честные, добрые люди. Горестное co — бытие тоже сближает. Многое совершалось вместе. После того как поклонник Жози и вестник власти объявлял прекращение довольствия, приходилось совсем туго. Ночами мы ходили воровать колхозные дрова: я в паре с Жаном занимался преступным промыслом непосредственно, а Жозефина стояла на шухере. При этом нам было весело! Шломьюкам тоже удалось выбраться из благословенной Ферганской долины. Позднее, как только стало возможным, они вернулись в Румынию, но вовсе не затем, чтобы — как старые коммунисты — делать карьеру в новосоциалистической стране. Напротив, вскоре они покинули народно — демократическую Румынию и обосновались в Израиле. Мы с ними долго переписывались — я, отец, Жозя. У меня сохранилось письмо Реи от июня 1973 года, из Тель — Авива, на сравнительно неплохом русском. Ничего из политического просвещения, знали они, что такое переписка с заграницей, да еще с такой специфической… Жизнь, болезни, общие знакомые, то да се. Ну, и напоминание о ферганских днях: «…Ты был еще юношем и мы уже пожилые люды когда встречались и считаем чудом факт, что ты сохранил нам твою симпатию и дружбу. Что мы Вас не можем забить естественно, ибо без Вас первую зиму войны не пережили бы». Сохранили мы симпатию, дружбу и память, и еще нечто важнейшее — благодарность за пробуждение интеллектуального зрения. Боюсь, что несчастный Мойше не вернулся ни в Румынию, ни в Израиль. Скорее всего, лишившись нашего нищенского покровительства, он погиб от голода в цветущей Ферганской долине… Ферганские дни были последние, когда мы с Жозей жили рядом. Позднее уже только встречались — гостили, заезжали на денек — другой.* * *
* * *
Сегодня, когда я пишу эти строки, — 3 июля 2006 года, день рождения Жозефины. Ей бы исполнилось 84, возраст смертный, конечно. Обычно я утром звонил в Израиль, и мы болтали полчасика. Первый день рождения без нее, звонить некому. Остается вспоминать. Однажды, кажется к моему пятидесятилетию, она сделала мне подарок, который говорит то ли о хитрости, то ли о мудрой предусмотрительности дарителя. Она подарила мне персональный столовый прибор — ложку, вилку, нож. Это мой прибор — трижды в день я прибегаю к его услугам. Каждый раз я беру его с теплым чувством, так называемый внутренний голос, похоже, произносит: Жозенька.* * *
* * *
Совхоз «Эфиронос», как сказано, находился в Киргизии. Кажется, в Ошской области. Ну, неважно. Жозе надо было учиться дальше, ближайшим возможным местом был Фрунзе, некогда Пишпек, ныне Бишкек, столица республики. Педагогический институт, филологический факультет. Не знаю, кто там преподавал. Возможно, достойные люди, беженцы, доставленные туда из столиц, — военная волна. Позднее туда нахлынет послевоенная волна: воинствующий антисемитизм последних лет сталинского царствования выдавливал на периферию крупных ученых; во Фрунзенском пединституте, я помню, нашел пристанище выдающийся медиевист Осип Львович Вайнштейн — после того как его прогнали с заведования кафедрой в Ленинградском университете. Но это было уже после Жозефины, к тому же ее занимала русская литература, а не западное Средневековье. Ну, не знаю, кто там ее учил, но знаю, что чему ее там не доучили, она — умница и одаренный филолог — доучилась сама. В лучшие или хотя бы менее подлые времена ей бы сулилась научная карьера или карьера блестящего литературного критика. А так, в послевоенном советском обществе, ее ждала роль народного учителя — теоретически почетная, но давно лишенная уважения и достойного денежного содержания. Большую часть своей жизни она учительствовала в городе Электростали, Московской области. Город — новодел с бездарномонотонной застройкой, индустриальный центр, наполовину засекреченный, с убийственной экологией — данные о ней были более секретными, нежели сведения об оборонных заводах. Ну, что же, везде люди живут, даже хорошие, везде невинные семивосьмилетние детки с букетами отправляются в первый класс, везде их надо учить родному языку и знакомить с родной литературой. Везде есть Отделы народного образования, которые знают и учат, как учить, везде есть горкомы и райкомы партии, они тем более знают как, и везде есть местные органы госбезопасности, где тоже кое‑что знают и кое — кого учат. Давно я не держал в руках советского стандартного учебника по классической русской или, еще лучше, по советской литературе для старших классов средней школы. Правда, у меня с собой есть советская классика: доклады тов. А. А. Жданова на Первом съезде советских писателей (1934) и о журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946). Этого достаточно, чтобы освежить в памяти основы партийного литературоведения, стоит только протянуть руку к книжной полке. Напоминаю, мать Жози Полина Борисовна не могла солгать даже по мелочам. У ее дочери категорический императив был уже менее категорическим — она могла соврать, что ее нет дома, когда на самом деле она дома была. Но вот лгать ученикам в классе она не могла ни под каким видом. Императив запрещал. А программы были построены на лжи, учебники были полны вранья, да что учебники — сама предназначенная для изучения литература бывала художественно бескачественна и насквозь лжива, будучи, надо признать, своего рода отражением самой обманной реальности. Перед тем как войти в класс, надо было решить задачу, чьи условия делали ее неразрешимой. Первое решение: я, как большинство, если не все, подчиняюсь и учу, как написано в программах и учебниках. — Не может быть принято, потому что это противоречит моим убеждениям, а поступать вопреки убеждениям мне не позволяет совесть. Ну, что же, тогда говори правду! Показывай, где ложь, и давай объективные оценки литературным достоинствам и недостаткам. Как бы это было хорошо! Но, во — первых, мой бунт очень просто будет обнаружен. Если даже никто не донесет, мое учение скажется в ученических ответах и сочинениях, а их слышу и читаю не я одна. За такие дела в два счета изгоняют из школы, возможно — с волчьим билетом. Есть и другое возражение. Я себе хозяйка и могу портить собственную жизнь как мне угодно. Но имею ли я право портить жизнь этим ребятам? Им придется строить свое будущее в этой системе — и ни в какой другой. Не надо далеко ходить — после десятого класса многие ребята захотят поступить в институты, им придется писать вступительные сочинения, а там оценивается способность писать правильно сразу в двух смыслах — грамотность весит столько же, сколько говорение по доктрине. Да что вступительные, до того есть еще выпускные… Мои честные уроки будут губительны для их карьеры — позволяет ли это моя совесть? Первое соображение Жозефина отвергала. Сказать, что она была бесстрашна, я не могу. Конечно, она боялась. И неприятностей у нее было более чем достаточно. Но судьба ее сберегла, из советской школы ее не выгнали, доучила до пенсии. Со вторым было труднее, поскольку оно содержало внутренний конфликт: направо пойдешь — худо, налево пойдешь — худо… Решать приходилось каждый день. И я знаю, как она выбиралась из тупика. Сублимированный феномен господина Журдена: Жозефина наверняка не знала, что такое метауровень, но пользовалась методом стихийно. Она говорила своим ученикам примерно следующее. Вот это, это и это — безусловно ложь. Вот это, это и это — плохая литература или вовсе не литература. Эти и эти оценки — конъюнктурное хамелеонство. На самом деле все обстоит так‑то и так‑то. Но если вы хотите успешно окончить школу и поступить в какой‑нибудь институт, вам придется принять навязанные правила игры и солгать по казенным выкройкам. Тогда вы должны сказать так‑то и так‑то. Но только раз! Решение внутри ситуации было заменено на объективное описание ситуации извне. Но тем самым детям был преподнесен совсем другой урок — они узнавали о возможности и необходимости самостоятельного морального выбора. Правда, можно было изменить ракурс обсуждения и предъявить учительнице счет: не принимая собственного решения, ты перекладываешь ответственность на плечи вот этих подростков! Более того, ты поощряешь их на то самое двуязычие, которое было судьбой и привычным проклятием большей части отечественной интеллигенции! Ну, не знаю, не знаю. Не знаю, смог ли кто‑либо придумать лучший выход из уродливой — уродливой по определению — ситуации, где ответственность спорила с ответственностью в безнадежном противостоянии. Я не могу согласиться с выкриками непримиримых максималистов, изданными задним числом. Тут, у поздних обличителей, свободные слова без ответственности, а там — ответственность за поступки в напряженном поле несвободы. Попробуйте‑ка сами! Так или эдак, а незапятнанную белизну одежд сохранить было трудно. Вот слова самой Жозефины, как всегда честные и беспощадные к себе. «Несмотря на любовь и ласки моих выпускников и их родителей, я, отбыв срок, не останусь больше — я не буду сверх- срочницей, пусть другие пашут эту ниву… Я выхожу из корпорации с замаранной совестью. Нет, я не король, который высоко держит свое знамя. 90 человек кончали у меня в этом году, и все 90 выдержали. И так во всем городе, во всей области. И это, оказывается, вовсе не трудно: нужно только исходить из идеи целесообразности. И вообще нельзя пахнуть ландышем, сидя в горшке с г…. Мне надо уходить, пока мои ученики меня не заложили, ибо есть (есть‑таки!) вещи, кт. я не выговариваю, а если выговариваю, то после вступления: „это все вранье, но авторы, экзаменационных билетов хотят, чтобы вы им сказали то- то и то‑то. Ответите на экзамене и забудьте, больше нигде не повторяйте“. Они знают, что я уважаю Александра/ И/саевича/ и А[ндрея/ Д[митриевича) и терпеть не могу М/ихаила/ Александровича] и КГБ. Однако никто на меня не наклепал и, вероятно, уже не наклепает: в будущем году у меня 4–й и 8–й классы. В 4–ом „прибежали в избу дети", а в 8–м все есть для того, чтобы сесть, но аудитория больно соплива, так что обойдется». Написано, как видно, за год до выхода на пенсию. Постойте, я еще не все сказал. Школа школой, там было не избежать двойственности. Но была еще иная жизнь — и там можно было предпринять нечто для разложения самой лживой и давящей системы. Даже зная, что эти попытки могут дорого обойтись и, скорее всего, обречены на неуспех. Ибо в те вязкие годы самые мудрые не могли предвидеть обвального кризиса в конце века. Жозефина стала участницей диссидентского движения. Такое вот приложение принципа дополнительности.* * *
* * *
В этом месте я позволю моей ярости вырваться на волю. Где‑то в девяностых годах, когда я еще читал «Литературную газету», в статье одного критика мне попалось на глаза такое крепкое слово — диссидюги. Критик в то время принадлежал к самой что ни на есть прогрессивной формации, был знаменосцем литературного постмодернизма и апологетом писателя- эстета Сорокина. С позиций деконструкции раскованный постмодернист припечатал диссидентов словечком, которое удачно высмеивает негодников и в то же время указывает на их угрожающую вредоносность. Оплевывать диссидентское движение, винить диссидентов во всех бедах России стало модным занятием умников всякого рода — интеллектуальных петиметров, евразийствующих, патриотов, тоскующих по великому советскому прошлому, других патриотов, тоскующих по самодержавию, третьих — тоскующих по лучезарно — подлинным дохристианским временам, и еще четвертых, провидящих особое и великое будущее России — сколько патриотизма в одной, отдельно взятой, стране! — а еще различной окраски монархистов, святош, циников, бесцветных конъюнктурщиков и, разумеется, людей охранки, которые первее всех нынче у пирога. Эти‑то должны помнить, как диссиденты, оправдывая их охранное существование, доставляли им в то же время множество хлопот. За поношение диссидентов не отправляют в лагеря, не пытают годами в психушках, не изводят слежкой, не ведут душеспасительные беседы в лубянских и других кабинетах, не запугивают… Критикуй себе, сколько душе угодно, в твоей критике есть нечто похвальное. В отличие от критикуемых, которым за свои убеждения приходилось платить твердой валютой — здоровьем, нервами, благополучием близких, жизнью[7]. Ладно, вообще‑то не о критиках речь. Согласимся в том, что нынешнее антидиссидентство грязно и бессовестно. Тут еще одно прибежище негодяев. Кто бы мог подумать, что вот эта Жозефина, Жозенька, может быть таким каменным конспиратором. Она удивительно твердо умела молчать, если находила нужным. Только в самые последние годы, в сущности — в нашу последнюю встречу, она намекнула мне, что знает куда больше бернштейновских семейных тайн, чем я бы мог заподозрить. Но не стала рассказывать. Этих людей больше нет, зачем тревожитьпамять о них. Так и осталось. И про ее диссидентские дела я знаю немногое, без деталей. Как‑то я привез ей пишущую машинку, хорошую, не какую‑нибудь там «Москву», а немецкую, то ли «Эрику», то ли «Рейнметалл», в те времена это была ценность, на ней можно было печатать. Когда я заехал в Элекросталь через год, Жозя, между делом, со смешком сказала, что эту машинку я никогда больше не увижу, потому что она на надежном хранении в кладовках КГБ. Недолго послужила она делу подрыва советской власти, увы. Но как машинка попала в недра охранки, я так и не узнал. Вот так. Попала. Кстати о машинке.«Преимущественно женскими были три сферы деятельности в диссидентском движении: (1) машинописные работы самиздата (машинистки); (2) налаживание контактов, осуществление информационного обмена между диссидентской средой на воле и местами заключения, осуществление связи с Западрм („связные“); (3) создание и поддержание в своих квартирах „открытых домов" диссидентского движения, в частности, домов „центров помощи“ и „центров информации", которые были узловыми точками его инфраструктуры (хозяйки „открытых домов“)».Это цитата из объективного, очень даже наукообразного социально — психологического исследования о женщинах в диссидентском движении[8]. Бесчеловечность ученой интонации не мешает признать — все верно. Вот — вот, машинописные работы. Поработала машинка и упокоилась где следует. Раздобыли другую. Я знаю, что деятельность Жозефины хорошо подпадала также под пункты 2 (контакты, информационный обмен) и 3 (открытый дом). Поэтому, в частности, на площадке лестницы, где была ее по — советски компактная двухкомнатная квартирка, нередко тосковали т. наз. топтуны. Служба, надо сказать, собачья — стоять часами, смотреть и запоминать: кто туда и кто оттуда. Видел я их своими глазами, когда приезжал. И они меня, надо полагать, своими. Служба есть служба. Впрочем, надрессированы они были, скорей всего, не на меня. В том же исследовании отмечено, что женщинам была отведена по преимуществу роль менее творческая, нежели мужчинам: теории, проекты и программы — а в них движение безусловно нуждалось — были не женским делом. Действительно, у Жози не было своего проекта будущего устройства советского пространства, ей с лишком хватало неприятия наличного, а ее неясный идеал был либерально — гуманистического толка. Но время от времени она сочиняла тексты. На свой манер. И на свой манер их распространяла. В 79–м, когда сенильная власть затеяла нелепую и кровавую афганскую авантюру, она написала стихотворение на тему. Вот четыре строки оттуда:
Не на Малаховой кургане
Не за Орел, не за Калач —
Твой сын падет в Афганистане,
Падет бесславно, как палач.
* * *
Мне давно следовало сменить местоимение — «она» на «они». Вскоре после того, как Жозефину с матерью судьба привела в Электросталь, где они никого не знали, добрые люди познакомили их с тамошней учительницей, вообще‑то москвичкой, Евгенией Соболевой. Это была удивительная находка. Когда встречаешь таких людей, как Женя, защитные механизмы интеллекта отказывают. Тут, у витрины Творца, перед демонстрационным экземпляром, начинаешь верить, будто человечество может стать лучше, или может быть лучше, так сказать, виртуально. Возможность почему‑то не реализуется, но она существует! Вот она: умница, безупречно порядочная, наделенная, сверх неизбежных чувств, непререкаемым чувством долга, чувством справедливости, тончайшим чувством такта, деликатностью, неспособная к измене принятым принципам гуманности и именно поэтому способная к разумному компромиссу в межчеловеческих отношениях… Словом, такие как Женя являются в мир, чтобы скрыть концептуальные огрехи творения. Вот и Жозя говорит: «Опора моя — это Женька, которая ангел — и как её земля терпит? Не даёт она мне ни сдохнуть, ни гражданский подвиг совершить». Я не могу сказать, что Жозефина и Евгения идеально подошли друг другу. Тут требуются какие‑то более сильные слова, мне не удается их подобрать. Большую часть жизни они прожили рядом, вместе, в редком взаимном уважении, понимании, внимании и единомыслии. Ссорились ли они когда‑нибудь? Я такого не видел, но быт есть быт. Вот фрагмент позднего письма Жозефины. «Память, конечно, стала хуже (и давно), но избирательно, а так как я всегда была рассеяна, то идиотические выходки бытового характера („Где кошелек?“, „Куда делся проездной?“, „Здесь вчера лежала газета со статьей Е. Боннэр, и ее нет. Это ты…“) раздражают…» «Это ты» относится, конечно, к Жене. Совместной жизни в течение десятков лет без неизбежного «этоты», наверное, не бывает. Но высокая дружба, которая связывала двух замечательных женщин, Жозефину и Евгению, случается редко. «Что делать? — писала Жозя однажды в трудную минуту, когда казалось, что ни с кем и ни с чем она согласиться не может, все не так. — Жить дальше, благо рядом единомыслящая Женька». Единомыслящая Евгения не давала ни сдохнуть, ни гражданский подвиг совершить. Была заодно, разделяла способ видеть мир и спасительно удерживала от крайностей. Ну, не знаю я, насколько деятельно Женя принимала участие в диссидентском движении, — издали не видно было. Полагаю, что не вовсе была в стороне. Но в горбачевские и постгорбачевские времена, когда демократическая и либеральная интеллигенция вышла из подполья, они точно были вместе и поступали сообща. Митинги, предвыборная пропаганда, встречи с демократическими кандидатами — наконец‑то свободная, открытая политическая активность. Их кандидатом и «подопечным» был профессор Юрий Афанасьев, лицо известное, поначалу ректор Архивного института, а затем создатель Гуманитарного университета в Москве, один из самых видных тогда персонажей в демократическом движении. Жозя и Женя бились за его успех по — львиному. То были недолгие годы больших ожиданий. Но и сомнений хватало. «Что касается моей общественной физиономии, то она просит кирпича: старая дура (твоя старшая кузина) написала статью в „Литгазету". Резонанс такой, что доктор философских наук В. Шубкин прислал мне письмо с приглашением „на рандеву“, подписав его „Ваш Шубкин“. Не написал только, с вещами являться или как…» Статья касалась коренных пороков системы образования и была опубликована — время было такое, либеральная заря заливала горизонт. А вещи стали собирать позднее, в 1992–м. По собственному почину. Почему? Я не устану повторять, что исторические события любого масштаба — от глобальных потрясений до поворотов в индивидуальных судьбах — никогда не бывают следствием одной причины. И на этот раз их было много. Поводы были всякие. Экономическая ломка сказывалась на «простых людях» наиболее болезненно — кому до них было дело! Пенсионный быт двух отставных учительниц становился все ближе к постыдной нищете. Патриотически настроенные интеллектуалы, незатейливая подворотня и свежие политические деятели все чаще вспоминали проверенный рецепт спасения России — посредством избиения жидов. Друзья, осевшие в Израиле, звали и обещали поддержку. Но первее всех причин, наверное, была та, что надежды, которые составляли смысл движения, деликатно называемого диссидентским, — эти надежды не сбывались. Возможно, там, в диссидентско — интеллигентском сознании, видение свободной и демократической, поистине современной России было — в который раз — утопией, не учитывающей исторических, социальных, социально — психологических, экономических и многих других реалий страны. Казалось, что Россия (Узбекистан, Белоруссия, все) хотят и готовы быть свободными парламентскими демократиями. Может быть — лучшими из демократий, ведь за плечами какой опыт! Оказалось, что не хотят и не готовы. Точнее, хочет и показывает готовность некоторое меньшинство. А остальные… Во времена затяжной, чуть не бесконечной агонии реального социализма трудно было просчитать, что на рыхлой почве массовой психологии, растленной семьюдесятью годами советской власти, быстро привьются идеи государственников, шовинистов, монархистов, дегенерировавших коммунистов, что тоска по величию сталинских времен или по благолепию николаевских, с их самодержавием, православием и народностью, будет сильнее, нежели желание нормального, отработанного опытом Запада демократического устройства, что на политической сцене великой страны среди главных действующих лиц прекраснодушных либералов западного толка быстро и легко оттеснят беспринципные демагоги, проходимцы, властолюбцы, циники и паяцы вроде Жириновского, что — и это, на мой взгляд, едва ли не главное — гигантское население страны, ее реальная инерционная масса, окажется политически и всячески безразличным, неподвижным, озабоченным собственным выживанием, или ничем не озабоченным вовсе. Еще не было Путина, еще Ельцин казался надеждой, а чувство, что неясный образ будущей свободной и человечной России не приближается, а удаляется в бесконечность, — это чувство наверняка подталкивало Жозефину и Евгению к эмиграции. Не хотелось видеть, как желаемое освобождение приобретает все более странные и нежеланные черты. И захотелось уйти от всего этого. Как будто от всего этого можно уйти. Нет, я неправ, вообще‑то можно. Я знаю, и Жозефина знала людей, которые легко, едва ли не играючи, сбрасывали с плеч собственное прошлое, ступив на землю Израиля, Америки или какой‑нибудь другой бывшей зарубежной страны. Ничего нет, ничего не было, все, что происходит там, меня никак не интересует, я наново рожден, я теперь израильтянин, американец, у меня другая кожа и другое сознание. Для верности надо слиться с наиболее традиционной, почвенной, консервативной и агрессивной из здешних ментальностей — тогда уж наверняка можно счесть, что преображение свершилось, дело в шляпе. Но для Жози и Жени этого типа метаморфозы были немыслимы. Из другого материала были сделаны, да и выкроены иначе. «Господи, уже 50 лет я не идентифицирую себя с покинутым государством, 3 года не живу в нем, но почему до сих пор чувствую стыд за его деяния?!» Это написано 12 января 1995 года. Отнимем полвека и получим январь 45–го. Вот оно. Ворона хоть и давно белая, да тамошняя. Один мой знакомый, тонкий аналитик и любитель парадоксов, пробовал описать феномен советского еврея: чтобы быть советским евреем, писал он, надобно не быть им. То есть — не быть евреем. Более того — как видим, не надо даже быть советским. А чтобы болеть за Россию, вовсе не обязательно быть русским, можно быть и евреем. Вам не кажется, что проблема запутана безнадежно?* * *
Другой мой знакомый, графолог — любитель, учил меня, что если строки на письме бегут вверх, это свидетельствует об оптимизме пишущего. В израильских письмах Жози строки часто сползали вниз: «Мир в наших палестинах возможен при одновременном желании двух народов увидеть друг в друге людей и начать с нуля. Как будто ничего не было… Сказка, которая не может стать былью». Я не хочу сказать, что существует единая израильская ментальность, с которой Жозефине не дано было слиться. Нет такой. Находятся в Израиле люди, и их, вероятно, немало, которые не увидели бы в первом предложении ереси. То есть, в их понимании действительно существуют два народа. Или, если угодно, два народа. Мой дальний родственник, Мошик, родился, вырос и проработал в киббуце всю прожитую жизнь. Киббуц этот создавала его мать, Браха, которая минувшей весной отметила свое столетие. Она была выслана в Палестину, если я верно помню, году в 1927–м, за сионистские симпатии. Тогда еще высылали. Браха, как и ее муж, были среди тех, кто создавал нечто большее, нежели киббуц, — Израиль. Мошик, старший сын этой пары, был — и остается сейчас — своего рода хозяйственным руководителем киббуца, где ради экономического выживания придумывают самые разнообразные производства. Главная его часть — сельскохозяйственная, это он показывал нам наиболее вникновенно. Гуляя по ровным, по нитке, аллеям среди лимонных деревьев — на них желтели какие‑то особенные мелкие лимончики, очень вкусные, предмет экспорта в Америку и еще куда‑то, — мы разговорились об арабах — палестинцах. — Они у меня работают, — рассказывал Мошик. — Им надо как‑то кормить семью. Такой работник встает в три — четыре часа утра, чтобы добраться сюда к шести — семи. Мы начинаем рано, иначе нельзя. Он трудится здесь полный день, затем два с половиной — три часа снова тратит на дорогу. Ему остается поспать несколько часов — и снова в путь… Знаешь, я всю жизнь тружусь на земле, и он тоже. Поэтому я его хорошо понимаю, лучше, чем многих своих городских. Если бы этих Мошиков было большинство на одной стороне, и им бы соответствовали — в сходной пропорции — такие же Мусы на другой! Вот где Жозефина видела единственный человеческий выход из безвыходной ситуации. Не менее ясно она видела его невозможность в мире, который показывал себя повсеместно абсурдным. И строчки писем ползли вниз. Читая в ее письме строчку «объявлено, что найден еврейский ген», я слышал ее саркастический смех, так хорошо мне знакомый. Строчка соскальзывала. Жозя и Женя жили в Израиле достойно. Их быт был скромен — впрочем, как всегда. Народный учитель на родине был приучен к аскезе, так что тут мало что изменилось. Если изменилось, то к лучшему: они могли себе позволить несколько экскурсий в ближнее зарубежье — Италию или Испанию, и даже слетать в дальнее — в Москву, Электросталь или в Литву, на Балтийское взморье. Они немного зарабатывали уроками русского языка и литературы — впрочем, спрос на эту услугу со временем падал. Много читали и думали о прочитанном, посещали хорошие концерты и смотрели российские спектакли, которые в изобилии вывозили и вывозят в Израиль. Они прилежно изучали иврит; Жене он давался легче, Жозефину училась на совесть, постоянно, до последних дней, но успеваемость была низкой — она признавалась, что наибольшую речевую развязность может показать на рынке, но победы на этом поле ее мало радовали. Разумеется, языковая преграда не давала погрузиться по- настоящему в течение израильской жизни. Но были и другие, невидимые преграды, которые не давали ей безоглядно впасть в израильскую ментальность. Если, повторяю, предположить, что такая ментальность, единая и неделимая, существует.Хоть лысина кипой покрыта,
В руках шабатних три свечи —
Не мог он идиш от иврита,
Как мы ни бились, отличить.
Здесь издавна прописаны три Бога,
Но до сих пор согласья не нашли,
А мы, робея, жмёмся у порога
Такой прекрасной, но совсем чужой земли.
Мы рождены в стране утопий: у нас такой менталитет,
что видим брата в эфиопе…
А он в нас — нет.
Впереди последняя дорога…
Вопрошаю небеса в тоске:
Как я буду с иудейским Богом
Говорить на русском языке?
Даже если бы Жозефина хорошо выучила иврит, она бы заговорила в горних на русском языке, с этим ничего не поделать.
Где дождь грибной — душе отрада?
Где звонкозвучная капель?
Здесь не бывает листопада,
И на июль похож апрель.
Ни гололедицы, ни вьюги,
Свод неба вечно — голубой.
Но сколько можно жить на юге?
Пора! Давно пора домой!
Ужель мое еврейство мнимо?
О гены! Что молчите вы?!
Прекрасен лик Иерусалима,
Но мне милей лицо Москвы.
И лишь в музее «ЯД Ва — шем»
Я чувствую себя причастной
Ко всем убитым и несчастным —
Их боль живет в моей душе…
С моим народом обреченным,
Зарытым заживо, сожженным,
Я прохожу последний путь —
И не спастись и не свернуть.
Вот так иногда поворачиваются дела с патриотизмом, чувством племени, расы, почвы… Бывают, бывают вещи посложнее простых антиномий «мы — они», «наши — не наши», «я — другие». Да, более полувека она не идентифицировала себя с «покинутым государством». Но государство и страна, культура, природа, жизненная субстанция — вещи, видимо, разные. Когда стало возможно, она начала ездить в Россию. Не часто. Возвращалась со смешанными, очень смешанными чувствами. Говорила, что больше не поедет. Потом ехала снова. О последней поездке я еще вспомню.
* * *
назови меня стервой
я хочу уйти первой
Я хочу уйти сразу,
Не дожив до маразма,
Не дожив до инсульта И до нового культа,
До обкомов, райкомов,
До еврейских погромов.
Не дожить хорошо бы
До побед Баркашова…
Не все получилось. Первой ушла Женя. Она всегда была худенькой и хрупкой. И всегда с папиросой. Если в доме были люди, она деликатно выходила за дверь — на лестницу, во двор… Бросив курить, я пробовал было увлечь ее величием собственного примера, но не преуспел. Ее убил рак легкого — она чахла, слабела, в одно утро ее не стало. Для Жози это была жесточайшая травма. Она говорила об этом не раз, сдержанно и с достоинством, без истерики. Но прийти в себя не могла долго. Да что там долго — не смогла вовсе. О глубине своего горя сказала в стихах, написанных для себя и обращенных к Жене. Их я цитировать не буду. Если уж она не раздирала на себе одежды публично и не посыпала голову пеплом, то не мне теперь выносить ее беду на люди. Не всякое лыко в строку. Тем не менее в последний год ее жизни, нет, даже полгода, ей был подарен некий свет. Собравшись — всячески, душевно и экономически, — она еще раз поехала в Россию. Меньше — в Москву, а больше — в Электросталь. Хотела повидать друзей, сходить на могилу матери… И это была счастливая поездка — счастливая, благодаря ученикам. Бывшим ученикам. Вот этим, которые в четвертом классе «прибежали в избу дети», а в десятом — «это ложь, но выпускное сочинение напишите так, а потом забудьте и никогда не повторяйте!». Они, оказывается, кое‑что запомнили и знают, что такое благодарность. Они устроили ей праздничное и радостное возвращение. Передо мной фотография, которую мы нашли среди оставшихся бумаг. Вот они идут в летний день по типично безликой электростальской улице, похожей на сотни и сотни улиц в советских городах послевоенной постройки, разве что за полвека с лишком деревья выросли и, прикрыв, чуть очеловечили монотонную архитектуру, — взрослые люди, мужчины и женщины, кому за тридцать, а кому и за пятьдесят, идут свободной группой, а посередине — улыбающаяся седая Жозя. Я знаю, что ей стало хорошо, она рассказывала о встрече, и голос был живой, и интонации, как бы это сказать, переливчатые. Кое‑что разумное и доброе удалось посеять. С этим она прожила последние месяцы в Иерусалиме, вплоть до того момента, когда внезапный инсульт выключил сознание. Впрочем, инсульт всегда бывает внезапным. Она похоронена рядом с Женей на крутом каменистом склоне иерусалимского кладбища.
* * *
В старые времена они уезжали летом в деревню — недалеко, километрах в двадцати пяти от Электростали. «Я начинаю отходить (в лучшем смысле слова) и перехожу из состояния задавленности и вечно невыполняемого долга к блаженству безответственности и лени. Мы живем с Женькой вдвоем в деревенской избе, направо — лес, налево — лес: изба наша крайняя. Мы обрели тишину и беззаботность и ту постылую свободу, по которой изныла душа. По два раза в день мы ходим в лес. До обеда спим. Вечером у хозяйки смотрим очередное мгновение весны. Эти встречи со Штирлицем завершают наши дни и приготовляют нервы к глубокому восьмичасовому сну. Кормимся в основном от земли: на первое суп с собранными грибами, на третье — земляника… …Женька спит после обеда. Ее не будят ни мопеды деревенских мальчишек, которые испукали всю атмосферу, ни соседка, которая ругает кур блядями, ни выстрелы, доносящиеся с полигона («мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне»). Она спит безгрешным сном, а я перевожу бумагу, что само по себе не патриотично. До сна Женька велела передать тебе поцелуйный привет. Я кончаю наконец этот тягомотный лепет и иду в магазин за кефиром, которого не будет». Вот так и получилось. Черт догадал, а там — столько раз отправлялась за кефиром, не зная, или догадываясь, или зная, что его не будет. (обратно)Младший техник — лейтенант заграницею, дан ль этранже
Майор из управления кадров артиллерии выводил на казенном бланке: «Настоящим младший техник — лейтенант Бернштейн Б. М. направляется в распоряжение Северной группы войск в г. Лигниц, Польша, для прохождения дальнейшей службы…» — Что вы пишете? — восклицаю я с допустимой мерой возмущения. — Вы просились в Европу, поедете в Европу. Следует оценить остроумие кадровика. Я ни в какую Европу не просился — и по реальным обстоятельствам, и по нищете воображения. Просьба была о другом. К этому декабрьскому дню 1945 года я уже более месяца был женатым человеком. Об этом я и сообщил майору, когда он любезно спросил меня, где я желал бы служить. Я сказал, что у меня семья, что моя жена — музыкант, студентка Консерватории, а потому я бы хотел продолжать службу в таком городе европейской части Союза, где есть консерватория, — с тем, чтобы моя жена могла продолжить образование. Выслушав меня, майор удалился. Вернувшись, он без лишних слов стал писать бумагу. Зато путь в Европу я постарался сделать возможно более извилистым. Сначала надо поехать в Ленинград повидаться с молодой женой. Правда, армейская подорожная у меня в другую сторону и в ленинградском поезде мне делать нечего, мне и билет никто не продаст. Но судьба, если она склонна помочь человеку, непременно придумает что‑нибудь. На этот раз она устроила в Москве Всесоюзный конкурс музыкантов — исполнителей — первый после войны, тот самый, на котором у пианистов Рихтер разделил первую премию с Мержановым. Рихтер играл лучше, но нельзя было дать первую премию немцу. Ленинградские исполнители были там хорошо представлены, среди них были друзья и знакомые жены, которые стали в дальнейшем и моими друзьями. Ближайшим из них был Ися — Виссарион Исаакович Слоним, ассистент профессора Калантаровой и непосредственный учитель жены. На конкурсные прослушивания я не ходил, меня отвлекали другие заботы. Но с Исей встречался и даже попробовал сладкой жизни. Осенью победного года в Москве открыли коктейль — холл — анклав мирного и роскошного будущего в голодной и разоренной стране. Прямо на улице Горького. Как любят писать склонные к эффектам западные журналисты — в шестистах-семистах метрах от Кремля. Или еще лучше — в тени Кремля. И вот мы с Исей и еще одним пианистом, Славой Соколовым, решили испытать это. В тот морозный вечер даже очереди не было, у дверей топталось человек пять. Остальные, видимо, стояли в других очередях. Мы быстро попали в зачарованное пространство: швейцар у входа, гардероб, теплый полумрак, небольшие столики, мерцание бара в манящей глубине. Рассаживаемся, заказываем три коктейля — конечно, разных, чтобы можно было незаметно меняться, — и предаемся неторопливой беседе. Сидим мы так, что я — спиной к входу, а Ися и Слава — хоть и под некоторым углом, но лицом, им видно. Вдруг оба как‑то подтягиваются, напрягаются и даже отмобилизовываются. «Софроницкий вошел, Софроницкий», — шепчут они мне и себе. Напоминаю читателям других поколений: Владимир Софроницкий был профессор Московской консерватории, выдающийся пианист — и член жюри конкурса. На его репутацию падала жуткая и соблазнительная тень — скрябинист, декадент, может быть — страшно вымолвить — морфинист, ну, и еще нечто глубоко упадочное и недозволенное… Сбросив шубу, Софроницкий быстро проходит мимо нас к бару, нет, постойте, мимо бара, в какую‑то дверь рядом. Сразу стало ясно, что он тут не простой интересант, ротозей вроде нас, а знаток. Именно это наблюдение стало предметом нашей дальнейшей беседы, которая длилась на этот раз недолго. Вскоре Софроницкий вышел из‑за бара; было заметно, что он уже хорош. Вот тут он увидел нас. То есть теоретически он увидел обоих пианистов, я от них заметно отличался, поскольку был в своей офицерской форме — другой одежды у меня и не было — при погонах и медали. Софроницкий направился к нашему столику, мы почтительно встали. Здравствуйте, сказал он и пожал руку Славе. Здравствуйте, сказал он, пожимая руку Исе. Здравствуйте, сказал он не менее приветливо, пожав руку мне. Чтобы не повторяться, скажу сразу, что рукопожатия продолжались по кругу в течение всего разговора. Вы прекрасно играли, сказал он Исе. И вы, сказал он Славе. И вы, похвалил он меня. Москвичи сильны! — продолжал он. — Москвичи сильны. Но мы будем бороться. Мы будем бороться. Вы прекрасно выступили. И вы. И вы. Москвичи сильны. Но мы будем бороться… Обнадежив нас, он ушел. Мы уселись, чтобы обсудить происшествие. Но через минуту музыканты снова оживились. Софроницкий вернулся и, как был, в шубе, направился к нашему столику. Мы вскочили. «Хочет одолжить рубль на швейцара», — успел шепнуть Ися. Он ошибся. Вы прекрасно играли! — пожал профессор руку Славе. И вы! — пожал он руку мне. И вы! Москвичи сильны!.. Так я познакомился с Софроницким. Моя причастность к конкурсу этим бы и ограничилась, если бы не одна идея, которая родилась и была обсуждена, пока коктейли ходили по кругу — вслед за рукопожатиями члена жюри. Вот она: ленинградские участники конкурса будут возвращаться все вместе, заняв более половины плацкартного вагона. Так неужели мы не провезем одного безбилетника! И верно, мне вынесли билетик, я прошел, а далее ленинградские показали, что такое человеческая солидарность: никто не ложился спать, чтобы нельзя было заметить, что один тут лишний и своей полки не имеет. Всю ночь, сбившись в большую кучу, шутили и рассказывали анекдоты. Впрочем, не обошлось без штрейкбрехера — Маня Меклер, прекрасная, между прочим, пианистка, улеглась спать на вторую полку. Но после каждого взрыва хохота просыпалась: ой, восклицала она, вы сказали что‑то неприличное, повторите! Утром я был в Ленинграде. Холодный конец декабря и едва не половину января мы провели чудесно. Коллега Фриды уступил нам комнатушку в безликом доме между Витебским вокзалом и Технологическим институтом. Печурку топить было нечем, иногда мы совали туда несколько газет, нам казалось, что после этого температура поднималась несколько выше нуля. Но можно было теснее прижаться друг к другу. Немного согреться удавалось в Эрмитаже — конечно, если держаться подальше от зала Кановы. Чудесно встретили Новый год. Мы были счастливы — и мне даже в голову не приходило, что я, кажется, в бегах. Вместо того чтобы исправно явиться к месту прохождения дальнейшей службы, я проводил время неведомо где и мог быть сочтен дезертиром. Ну, не думал я об этом. Наконец, числу к десятому я почувствовал, что пора собираться. Повторение маневра: знакомый знакомого провел меня в вагон — но на полках все спали, и где‑то в районе Бологого меня выловил контролер, взял с меня штраф размером в стоимость билета; квитанция об уплате давала право беспрепятственно доехать до Москвы. А еще считается, что времена и нравы были бесчеловечные. Теперь — на Запад. Первая пересадке была в Минске. В январе 1946 года там можно было увидеть только отсутствие города и невозможность жизни. Разрушено было все. Исключения, правда, были. Во — первых, наспех восстановленный вокзал. Затем, на вокзальной площади стояло нерушимое железобетонное сооружение, наподобие дота, воздвигнутое во время оккупации; на его стене было начертано огромными, хотя и побледневшими готическими буквами: ABORT. На языке Гёте это значит, что тут отхожее место. (Пусть тень великого Гёте простит мне эту выходку, я говорю сейчас об ощущении еврейского мальчишки — лейтенанта в первую послевоенную зиму.) Среди развалин копошились военнопленные. На бывших улицах попадались горожане. Где они ютились — непонятно. Где‑нибудь под землей, наверное. Над руинами как ни в чем не бывало возвышался Дом Правительства. Вторая пересадка — в Бресте. Я добираюсь туда простуженный, с высокой температурой, в полном одурении. К счастью, у меня есть адрес — в Бресте заведует музыкальным училищем ученик Слонима, только что окончивший консерваторию. Он принимает меня сердечно, кормит, поит, оставляет ночевать. Оказывается, что он в Бресте — человек видный, училище училищем, но он дает еще частные уроки жене военного коменданта станции Брест. Поэтому с билетом на заграничный поезд проблем не будет, а пока, вечерком, я сквозь гриппозную муть слушаю всякие комендантские истории. …Вот коменданта извещают, что через Брест проследует персональный поезд Маршала Жукова — с самим Маршалом внутри. Ну, приняты положенные меры — почетный караул, оркестр, оцепление, все как положено. Комендант готов встретить, приветствовать, рапортовать. Трепетать. Поезд подходит к перрону, останавливается. Никто оттуда не выходит, ну, совсем никто. Все ждут. Поезд загадочно и страшно безмолвен. Летучий Голландец на рельсах… Вдруг, невесть откуда взявшись, к коменданту сзади подходит невысокий мужик в цивильном, воротник поднят, шляпа, как полагается, надвинута — а из укрытия выглядывает знаменитая нижняя челюсть. «Ты что!» — говорит маршал — и из дальнейшего высказывания я не решаюсь воспроизвести ни слога, поскольку краткая и мужественная речь военачальника состоит из сплошного мата. Пафос ее сводится к тому, что комендант допустил грубую оплошность, учинив парадную шумиху. Комендант ни жив ни мертв: крутой нрав маршала известен всей армии. В гневе может и расстрелять! На этот раз, однако, обошлось. Верно, некогда было.* * *
* * *
Утром на пограничном брестском вокзале мой благодетель спрашивает, какой мне вагон: мягкий, плацкартный? Мягкий, конечно, я совершенно болен и мечтаю только, как бы лечь. Вот он, мой билет, вот первый заграничный поезд. А вот и первая заграничная пакость: вагон сидячий. Сиденье, действительно, мягкое. Спартански проведенная ночь помогает. Я приезжаю в Познань (очередная пересадка) в приличном виде, в моем распоряжении несколько часов, можно осмотреть иностранный город. Первый в жизни. У вокзала останавливается трамвай. На нем написано «Dworzec», то есть «Дворжец», то есть дворец. Ага, значит тут где‑то есть дворец. Пойдем вслед за трамваем, оглядывая все окрест, пока не дойдем до дворца. Идти пришлось долго — пока непоказалась окраина города, домишки, пустырь, тут и трамвайная линия кончилась. Потому что «дворжец» по — польски это вокзал. Так я узнал, что похожие слова на родственных языках — это лингвистические ловушки для быстрых разумом пижонов. Но по дороге я кое‑что увидел. Конечно, на улицах чужого города все интересно, на улицах иностранного города, первого в жизни, — вдвойне. Но самое интересное было выставлено в витринах фотографических заведений. Их оказалось неожиданно много, и везде показывали одно и то же. Нет, не матовые красавицы с взбитым коком и подложенными плечами, не влюбленные пары, не парадные групповые портреты, не свадебные поцелуи под фату, ничего такого. Предмет был один — Грайзер. Грайзер во время оккупации был гауляйтером провинции Познань, так в переводе, при Грайзере она называлась, естественно, иначе — «провинц Позен» (Provinz Posen). Гауляйтер сбежал в Германию, но его изловили, привезли в Познань, судили и повесили. Все это я увидел на витринах — как в кино. Суд. Грайзера везут на место казни. Вот выгрузили. Виселица, на высоком холме, чтобы всем было видно. Толпы горожан. Телеги с крестьянами из окрестных деревень, да и из дальних тоже. Никакой объектив не мог схватить целиком гигантское скопление разгневанных людей, казалось, что сюда съехалась половина Польши… Познанские фотографы преподнесли мне наглядный урок социальной психологии — общественное настроение в лицах, фигурах и эпизодах. На следующий день я добрался в некогда уютный и благополучный, хорошей сохранности город Лигниц, ставший Легницей. Тут расположился штаб Северной группы войск во главе с маршалом Рокоссовским. Наверное, город за то и был выбран, что уцелел. Армия, то бишь ее Северная группа, была распределена по всей стране, но мозг был здесь. Присутствие штаба братской армии придавало Легнице столичный лоск. Внешне штаб с его многочисленными подразделениями, расположенными в разных представительных зданиях, производил впечатление завершенного величия. Но я‑то знал, что не все в порядке: Северной группе войск мучительно не хватало одного артиллерийского техника, младшего техника — лейтенента по званию, специалиста по зенитным пушкам и приборам. Пришлось выписывать его из самой Москвы. Но вот он здесь! И управление кадров артиллерии, не обратив внимания на незаконную задержку в пути, незамедлительно велит ему ехать в распоряжение штаба артиллерии 43–й армии, которая дислоцирована на переданных Польше северо- западных землях, в треугольнике Познань — Щецин — Гданьск. Столица армии — город Щецинек, бывший Нойштеттин. Заботиться о билетах не надо. Советские военнослужащие пользуются польскими дорогами бесплатно, их может проверять только советская комендатура. Снова пересадка в Познани. А вот и Щецинек. Являюсь в кадровое заведение с импровизированным планом в голове. Война окончена, хочу демобилизации. Поэтому когда капитан Манохов, ведающий кадрами, предлагает мне должность техника по приборам в захолустной зенитной батарее, я отказываюсь. Я ссылаюсь на то, что последняя моя должность была майорская. Это правда. Вот документы. Вы не смотрите, что у меня одна звездочка на погонах. Вот тут написано — первая должность была капитанская, между прочим, а следующая — вот тут, видите — майорская, помощник начальника отдела боевой подготовки МУЛ ВЗА КА. Начальник отдела был полковник, а его помощники, независимо от звания, находились на майорских должностях. Поэтому, товарищ капитан, вы не смеете меня так понижать в должности, это трибунал может так понизить, а я никаких проступков не совершал. Вот так, ни за что ни про что, за здорово живешь, невинного человека — в техники по приборам? Ну, нет. Я не согласен! Наши пререкания длятся три дня, на третий день уже не капитан какой‑то, а начальник управления кадров лично заявляет, что он меня отдаст под трибунал сейчас же. На этих условиях я соглашаюсь отправиться к месту службы с понижением. Надо ехать в зенитную часть, расположенную прямо на берегу Балтийского моря, штаб корпуса — в городе Слупск, ранее — Штольп. Поехали. Пересадка в Кошалине поздним вечером, в непонятной околовокзальной тьме. Утром просыпаюсь в пустом поезде. В целом вагоне никого нет. И в соседнем никого нет. И в третьем. Поезд едет сравнительно быстро. Но нигде никого нет. А он все едет и едет, без остановок, по пустынной местности. Поезд — привидение везет меня в никуда. Я тогда не знал, что такую ситуацию надо называть сюрреалистической. Примерно через час нашелся еще один обитатель поезда — кондуктор. На смешанном языке он мне объяснил, что конечный пункт — отнюдь не Слупск, а совершенно разрушенный город, Колобжег (б. Кольберг), где никто не живет. Но поезда туда ходят. Так надо. Поезд там постоит часок — полтора и повезет меня назад в Кошалин, где следует сесть на правильный поезд. Пока что — он мне не рекомендует удаляться от вокзала более чем на метр, потому что в развалинах все же кое‑кто есть, и эти люди будут не прочь мною заняться. Словом, потеряв уже счет времени, я добираюсь в Слупск, являюсь в штаб, откуда меня переправляют в воинскую зенитно — артиллерийскую часть, тут неподалеку, в лесу, среди дюн, на самом берегу моря. Даже в разгар января видно, что местечко совсем неплохое. Начальник штаба приморской части, майор, подняв глаза от подорожной, посмотрел на меня и сказал: — Вот что, младший лейтенант. Сходи‑ка ты в баню, отмойся, побрейся, отоспись, попей молочка — а через пару деньков, в понедельник, мы с тобой поговорим. Оказывается, это была пятница. Мне везло в армии на хороших людей. В училище мой отделенный, сержант Ваня Мухин, родом из какой‑то приуральской деревни, был человек незаурядной душевной тонкости. Уже воевавший, после ранения, он был куда опытней и мудрее нас. Вот взводный, лейтенант Прохоров, сам мальчишка, играющий сурового отца солдатам, решает меня наказать за какое‑то нарушение — то ли не вовремя стал в строй, то ли обмотка размоталась. — Мухин! Гонять Бернштейна по — пластунски до завтрака! — Есть гонять Бернштейна по — пластунски до завтрака! Мы выходим на заснеженный училищный двор. — Ложись! — командует сержант. — По — пластунски — вперед! Он ложится на снег рядом со мной и ползет — чтобы мне не было обидно. Такой был человек Ваня Мухин. В 33–м ОУДРОА МУЛ ВЗА КА, а затем и в штабе МУЛ ВЗА КА, где я служил после училища, моим непосредственным начальником был майор Федор Вершеня, замечательный мужик. Он умел делать добро людям — молча и незаметно. Федю тоже надо бы когда‑нибудь помянуть подробно. О капитане Чемезове и некоторых других мы еще поговорим. А сейчас — безымянный начальник штаба, к которому я, чистый, сытый и отоспавшийся, являюсь в понедельник. — Понимаешь, лейтенант, — говорит он мне, — у нас сейчас нет свободной должности техника. Но есть более высокая должность, главная по твоей части — начальника артснабжения. Хочешь, давай. — Нет, — говорю я ему. — Не справлюсь. И поскольку я вижу, с кем имею дело, продолжаю — уже начистоту. — Поймите меня, товарищ майор. Война кончилась, профессиональным военным я не буду. Пора увольняться в запас и идти учиться гражданскому делу. — Понимаю, — говорит майор. — Сам бы уволился. Ладно, напишем, что должности для тебя нет. С этим я возвращаюсь в Слупск. Но в корпусе других кадровых идей для меня тоже нет. И меня отправляют назад в штаб армии, в город Щецинек. Это судьба. Опять Манохов. Я больше не торгуюсь. Новое направление — в Гроссборн. Это военный городок километрах в двадцати от Щецинка. Еду на попутках, попадаю в бетонный лагерь в лесу. Немцы строили — сурово и основательно. Там теперь стоит наша танковая дивизия. Мое появление производит движение среди штабных. Посмотреть на меня собирается довольно много народу, поскольку никто не понимает, что со мной делать. В Гроссборне нет ни одной зенитной пушки или даже, на худой конец, счетверенной пулеметной установки. Совершенно ничего зенитного. Есть танки, но техников для них достаточно. К тому же этот в танках не разбирается. — Ну вот что, — говорит кто‑то из начальников, — хочешь, дадим пехотный взвод? Нет. Я не хочу командовать пехотным взводом. И меня отправляют назад в Щецинек. Круг замкнулся. Должности, оказывается, для меня нет. Я снова в штабе артиллерии 43–й армии, перед Маноховым, который смотреть на меня не может. Такие дела, товарищ майор из Главного Управления Кадров Артиллерии Советской Армии, заславший меня в Европу. Нету в Европе должности для младшего техника — лейтенанта Бернштейна, нету! Этот факт очевиден для начальника отдела кадров на месте — и его посещает на редкость здравая мысль. — А что, Манохов, может быть, будем увольнять его в запас? — Чего? — орет Манохов страшным голосом. — Так это же Бернштейн! Он же саботажник! Он отказывался ехать на должность! Да он!.. Армия, как известно, — институция абсурдно — разумная. Там лишних офицеров не бывает, бывают только временно не используемые по назначению. Для таких существуют заведения под названием «Резерв офицеров», где они служат родине потенциально. — Ну, Манохов, пиши его в резерв.* * *
Резерв офицеров 43–й армии находился в десятке километров от города, в немецкой деревушке. Немецкой в полном смысле слова, там в добротных каменных домах жили немецкие крестьяне. Время переходное — поляки еще только осваивали переданные им территории, так называемые «западные земли», а немцы их еще не покинули. В каждом доме командование разместило по нескольку офицеров, хозяевам что‑то там платили — и они нас кормили и следили за чистотой. Если бы им не платили, они, возможно, делали бы то же самое. Но им платили. Я вспоминал школьный немецкий — для школы у меня был довольно приличный немецкий, — беседуя с хозяйкой. Муж ее погиб где‑то на фронте. Конечно, она ничего не знала о гитлеризме и о его преступлениях. А может, знала. А может, знала, да не все. Кто проверит? Если знала, то разве признается? Передо мной была немолодая женщина, потерянная, не понимавшая, где теперь ее место и что ей делать. Я ей давал советы — кажется даже, что вполне разумные. Я ей говорил, что надо собираться на ту сторону, за Одер — hinter Oder, verstehen Sie? Здесь у вас нет будущего, нет прав, нет власти, вы не граждане этой страны. Германия теперь начинается там. Власти, действительно, не было, немцы, а их оставалось немало, были не только бесправны, но и беззащитны перед лицом унижений и издевательств любого сорта. …Капитану, моему соседу, владельцу аккордеона, пришел приказ об увольнении в запас. У него оставались деньги, злотые, их надо было реализовать. Платили нам так: полная зарплата шла на сберкнижку, а еще половину выплачивали в злотых. Питались мы за казенный счет, а злотые оставались на мелкие расходы. Так вот, у экономного капитана, да еще в нашей деревушке, где и потратить не на что, оставались деньги. Покупать в польских лавках — тогда еще исключительно частных — было дорого или очень дорого. Капитан прослышал, что у немцев — в глубинке — можно было купить чего‑нибудь куда дешевле. На базар они относить свое боялись — любой мог подойти и просто отобрать, управы искать им не полагалось. Сосед раздобыл грузовик, а меня попросил быть переводчиком. Он знал, куда ехать, минут через сорок мы добрались до искомой немецкой деревни. Она была пуста. Крепкие каменные дома стояли открытые настежь, с выбитыми стеклами, внутри не было ничего — ни людей, ни вещей, ничего. Где‑то валялась разбитая электрическая лампочка. Во дворе одного дома стояло растерзанное пианино — без передней стенки, с вырванными клавишами и разодранными струнами. Кто‑то мстил — то ли немцам, то ли культуре. Моему капитану труп фортепиано был ни к чему. Мы развернулись, чтобы ехать домой, но на выезде из деревни оказался прохожий, поляк. Мы спросили его, куда девались немцы. Те, которые остались, — вон там. Он показал на большой двухэтажный дом в стороне, на пригорке. Мы подъехали, дверь была заперта, капитан постучался. За дверью раздались истерические женские и детские крики, вопили все вместе, ничего нельзя было разобрать. Я попробовал орать еще громче. В конце концов они, видимо, услышали, что мы не бандиты, что мы хотим у них что‑нибудь приобрести за честные деньги — ну, и всякое такое. Дверь отворилась. Там плотной группой стояли женщины, дети разного возраста, старухи, мужчин не было. Они снова стали кричать наперебой, но в конце концов мне удалось выделить рассказчицу. Молодая женщина со свежими синяками на лице, под восклицания и дополнения остальных, описала положение дел. Эти люди, остаток жителей деревни, поселились все вместе в большом доме. Тут их обнаружил Колька, наш человек. По — видимому, дезертир. Обычно он приезжал на телеге, ночью, с товарищами. Товарищи менялись. Все были пьяны и вооружены. Они нагружали телегу немецким барахлом, насиловали женщин, били всех подряд. Поэтому женщины помоложе в доме перестали ночевать, они брали детей и уходили в лес — и это померанской зимой. Но Колька был пьян — и ему было все равно кто. «Hier ist alles kaput!» — кричала страшная, с черными кругами вокруг глаз, старуха, все пытаясь задрать юбку и показать мне результаты Колькиных усилий. Несколько ночей Колька пропускал, пока не пропивал награбленное. А затем снова появлялся. Жаловаться было некому. Формально немецким населением ведала польская власть, советско — армейские структуры не могли вмешиваться в эти дела. Нет, конечно, пускать столь ответственную проблему на самотек было бы политически неверно. При политотделе армии был специальный отдел по работе с местным населением, его начальник, майор Альтшулер, был подготовлен к миссии и знал оба туземных языка. Но работа проводилась деликатно, с необходимыми приседаниями. Так, скажем, политотдел издавал для немцев газету. Но сами мы эту газету не распространяли, а передавали ее польской власти для бесплатной раздачи. Однажды, зайдя в мэрию, майор Альтшулер обнаружил, что газета продается — по злотому за экземпляр. Он поднимается к бургомистру и задает ему вопрос в лоб — что это, мол, такое, пане бургомайстрже! — Пан майор не знает немцев, — парирует бургомистр. — Если немец получит газету бесплатно, он завернет в нее селедку, а если купит, то прочтет от доски до доски! Но одно дело продавать бесплатную газету, а другое — защищать от гулящего советского дезертира каких‑то немецких обывателей, которым пора отсюда убираться. Свежа память. Грайзера недавно повесили. Тем временем немецкой клиентелой Кольки занялись другие поляки. Пара переселенцев, то ли супружеская, то ли вольная, заняла неподалеку от большого дома пустующую оранжерею, которую они превратили в нетривиальный уголок на двоих. Переселенцы, подобно птицам небесным, не жали и не сеяли, а кормильцами своими и обслугой сделали близлежащих немок. Эти женщины, если им удавалось что‑либо продать, должны были накормить бездельников, а из остатка — собственных детей. Вот и мой капитан купил кой — чего, честно расплатившись. Часть этой платы пойдет на пропитание польской пары — если Колька не отберет. Надо было что‑то предпринять. Многое сделать мне не было дано, но следовало хотя бы изловить Кольку. Прямиком из бывшей немецкой деревни я отправился в город, в армейскую комендатуру, положил перед дежурным вещественное доказательство — потерянный пьяным Колькой охотничий нож — и написал подробное донесение. Позже я познакомился, а потом и подружился с некоторыми юристами из армейской прокуратуры — и немедленно рассказал им о Кольке. Спустя месяцы заместитель прокурора сказал мне, что они, кажется, напали на колькин след. Дальше не знаю. Ну, а собственно, что мне было до всего этого? Подумаешь, какие‑то немки. А они что с нашими делали? Признаюсь, я не испытывал к этим женщинам ни вражды, ни ненависти. Передо мной были смертельно напуганные, беззащитные, выдернутые из жизненных порядков дети, матери, старухи, вот и все. Такой подход требует объяснения, не так ли? Тем более что я, случалось, попадал в сходные ситуации. Однажды в нашу резервную деревушку приехал какой‑то армейский хозяйственник. Приехал на телеге, кучером у него был немецкий военнопленный. Капитан зашел в наш дом, кто‑то из моих соседей был его дружком. Сели перекусить, налили по рюмке. Я вышел наружу — у телеги, под смешанным снегодождем, в слякоти, терпеливо дрожал насквозь промокший немец. Я повел его в дом, усадил и принес ему тарелку горячего супа. Только позднее, задним числом, я стал обдумывать это дело. Был ли я прав? Честно, я не имел ответа на этот вопрос. Я поступал по первому импульсу, не размышляя. Но как с моментом истины? Илья Эренбург был первым и величайшим публицистом военных лет — как бы ни пытались затереть этот факт литераторы и историки т. наз. патриотического направления, называя в одном ряду с ним Алексея Толстого, Леонида Леонова и самого Шолохова (классик за всю войну удосужился написать, кажется, одну публицистическую статью). Нет, я там был, меня не проведешь. Никакое печатное издание тогда не ценилось так, как номер «Красной звезды» с очередной статьей Эренбурга. Я не перечитывал их позднее; возможно, сейчас я бы иначе отнесся к его тогдашней риторике. Но мои нынешние вкусы не имеют никакого касательства к делу. Раскаленные строки Эренбурга работали там и тогда. Одна из его знаменитых статей называлась «Убей немца!». Никто не сомневался в правильности заголовка, всем было ясно, какого немца надо убивать и почему. Но когда война приблизилась к победному концу, перемену курса решили обозначить, щелкнув по носу публициста. В «Правде» появилась статья под серьезным заголовком: «Товарищ Эренбург упрощает». Статья — не помню уж, редакционная или авторская — развивала известный тезис тов. Сталина, гласивший, что «гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается». Когда тов. Сталин формулировал эту мысль, он, видимо, был убежден в собственном бессмертии. Помню, что нам, мне в частности, было тогда обидно за Эренбурга. И когда я дал тарелку супа пленному немцу, я не руководствовался указанием центрального органа партии. Я просто дал суп голодному и замерзшему человеку. Врагу? Да. Но бывшему. А жены, вдовы и дети врагов? Ну что же, мне уже тогда была непонятна и чужда идея коллективной ответственности. Да они все такие. Бойся данайцев, дары приносящих. Все критяне — лжецы. Стереть с лица земли. Повесить каждого десятого. Кровная месть. Аристократов на фонарь! Терпеть не могу поляков. Расстрелять сотню- другую попов, чем больше, тем лучше. А вы нашего Христа распяли! Все евреи — жулики. Сам принцип стадного отличия — в любую сторону — вызывает у меня отвращение. Когда мне говорят: «Вы, евреи, все такие музыкальные», то так, конечно, лучше, чем «вы, евреи, жулики», но и от этой первой глупости меня тошнит. В конечном счете принцип «все они…» и простое деление на два — «наши / не наши» — восходит к биологической, природной установке на сохранение и выживание своего вида. Для природной жизни отдельная особь не имеет самостоятельной ценности, и ею всегда можно пожертвовать в интересах вида. На резкое изменение природных условий вид отвечает взрывом плодовитости — пусть большая часть погибнет, лишь бы какие- то экземпляры вида выжили. Ориентация на ценность отдельной особи — личности, на свободу выбора и следующую за ней личную ответственность есть принадлежность культуры, да и то не всякой, а высокоразвитой и особым образом настроенной. Так вот, это тонкое культурное наслоение поверх биосоциальной толщи, где определяющая установка ориентирована на сохранение социокультурных подвидов — этноса, племени, рода, религиозного или политического сообщества, — это наслоение мне было наиболее близко уже тогда.***
Через два дня после того, как я записал эти истории, мне попался на глаза свежий номер журнала «J». Там, среди прочего, я нашел рассказ о солдате гитлеровской армии. Его зовут Рольф Байер, он окончил немецкую гимназию в 1942 году и был призван в армию. Значит, он примерно мой ровесник, я окончил среднюю школу и пошел в армию летом того же года, когда Байер был выучен на парашютиста, я — на техника — зенитчика, наша 85–миллиметровая пушка могла его сшибить вместе с самолетом, зенитный пулемет мог расстрелять в воздухе… Но прыгать ему не пришлось, он воевал на суше. После полутора лет на фронте он смог поехать в отпуск. По дороге домой ему поручили охранять на станциях теплушки (в английском тексте — cattle саг) с советскими военнопленными. На одной из остановок пленный, просунув руку сквозь щель, коснулся солдата — охранника и попросил, на приличном немецком, выпустить его по нужде. После некоторого препирательства Байер нарушил долг и разрешил. Тем временем выяснилось, что пленный — ровесник немецкого солдата, что воевать ему не хочется, а хочется учиться — «как и мне», замечает Байер. Позднее, говорит он, я понял, что этот враг — такой же, как я[10]. Дальнейшая судьба Байера занимательна сама по себе: ранения, американский плен, университет во Фрайбурге, участие в международном семинаре, где он знакомится с еврейской девушкой, женится на ней, а в 79 лет принимает иудаизм. Но это уже не относится к сюжету. Мы там, в сороковых годах. Немецкий солдат замечает, что этот русский — такой же, как он. Русский военнопленный замечает, что не «все они» — немецкие солдаты — изверги. Я не знаю, как был настроен немецкий пленный, которого я накормил супом. Он мог быть таким же не — нацистом, как Рольф Байер, а мог быть напичкан гитлеровской пропагандой и знать, что «все они» — евреи — недочеловеки и враги человечества. Тогда, может быть, мой суп хоть на йоту поколебал это знание. А может, не поколебал. Достаточно того, что суп открывал такую возможность. Хотя, повторяю, я не собирался очищать от навета еврейскую нацию. Я действовал импульсивно, Кант скорее всего счел бы мой поступок автоматическим исполнением категорического императива. Тема увлекательная, и я готов многое сказать по этому поводу. Но тут у нас воспоминания, и потому рассуждения отложим до подходящего случая. Пока что договоримся об одном: «все они…» я попрошу в моем присутствии никогда не произносить.* * *
В деревушке офицерского резерва делать, кроме как есть и спать, было нечего. За окном тянулась гнилая померанская зима, сырость, дожди со снежком. У капитана, спавшего на соседней койке, был трофейный аккордеон. Это дело. Немного терпения — и можно овладеть нехитрым инструментом. Но невозможно играть на аккордеоне все время. В городе есть Дом офицеров — библиотека, пианино, и не одно, показывают кино… Нужно только прошлепать десяток километров по вязкой дороге, но что это для младого младшего техника — лейтенанта. В библиотеке я менял книги, а в салоне — садился за фортепиано и вспоминал, как на нем играют. Вот там однажды меня застал какой‑то капитан. Он отрекомендовался начальником армейского ансамбля песни и пляски и пригласил меня у него играть. Ты свободный, говорил он мне, а нам позарез нужен нотный пианист. В том смысле, что слухач у нас есть, хорошо играет, но нот не знает. А нам нужно. Я сказал, что подумаю. Вообще‑то надо было соглашаться, но я был совестлив не по разуму. Незадолго до того к нам в деревню занесло директора школы — русской, советской школы для детей военнослужащих. Прослышав, что я знаю музыкальной грамоте, он пригласил меня пойти, покамест я в резерве, к нему — учить детей музыке. Словом, я как бы уже обещал. Поэтому несколько дней спустя, когда были решены какие‑то формальности, я переехал в город и поселился в школе, в большой комнате, на пару с завучем. Директор школы, как оказалось, был туповат. Он полагал, что я буду учить музыке всех учеников школы — их было около трехсот. Поскольку эта нагрузка казалась ему недостаточной, он поручил мне оборудовать спортплощадку. Это мне—το! Неужели по мне не было видно, что я окончил военное училище с пятерками по всем теоретическим и практическим предметам, но слабо успевал по основным — строевой и физической подготовке? Что все детство и юность мои прошли в оранжерее, поскольку у меня в результате всех мыслимых и немыслимых детских болезней было больное сердце и мне запрещено было бегать, прыгать, плавать, бывать на солнце? Что сердце выздоровело ровно к моменту призыва в армию? Что первый в военном училище лыжный кросс на десять километров я, одессит, только начал на лыжах, а оставшиеся девять с половиной, вдохновляемый матом Прохорова, пробежал пешком, увязая в снегу, потому что пешком получалось все‑таки быстрее? А ведь взводу засчитывали время по последнему! Что медленней меня прибегал обычно к нужному месту только печально — пучеглазый курсант Гольдберг, который на матерные (а то какие же!) угрозы Прохорова посадить и растерзать отвечал философски — ну, товарищ техник — лейтенант, кто‑то же все равно должен быть последним, так я буду последний, какая разница, что вам жалко? Словом, со спортивной частью нагрузки я медлил, зато музыкальной стороной занялся со свойственным мне прилежанием. Я проверил слух и чувство ритма у всех трехсот. Я выяснил, кто из них когда‑либо учился музыке. Я узнал, у кого дома есть инструмент. Словом, тут была проведена необходимая подготовительная работа… И вдруг выкликает меня в отдел кадров артиллерии этот самый капитан Манохов! Он не без злорадства сообщает, что получена телеграмма из Лигница: младшего техника — лейтенанта Бернштейна направить в распоряжение штаба артиллерии Северной Группы Войск для прохождения дальнейшей службы. Так. Теперь я им понадобился. А проходить дальнейшую службу у меня, как известно, желания уже нет. Я отправляюсь к директору школы и прошу его задержать меня тут на педагогической работе. Директор не хочет. Боится. Нет, говорит он, это надо с командующим артиллерией генералом Щегловым, он человек суровый. Нет, не могу, езжай послужи. Вот тут я вспоминаю про капитана из ансамбля, которому нужен был нотный пианист. Иду в дом офицеров, нахожу капитана и со всей возможной откровенностью описываю ситуацию. Если задержите, говорю, отдаюсь с потрохами, буду нотно играть в ансамбле. И капитан тут же, не отходя, снимает телефонную трубку и звонит прямо суровому генералу Щеглову. Товарищ генерал, врет он напропалую, тут у нас младший техник — лейтенант Бернштейн, его вызывают в Лигниц, а ведь приближается 23 февраля, день Советской Армии, праздничный концерт, у нас на нем вся программа держится! Такой уж был капитан Чемезов, Иван Иваныч. И генерал что‑то там ему разрешает. Теперь я должен сделать себя гвоздем программы. Я сажусь за инструмент и сочиняю некую фантазию на темы вальсов Штрауса. Это был удачный выбор. Фильм «Большой вальс», шедевр музыкально — биографического жанра, с шармантной колоратурой Милицей Корьюс в главной женской роли, был для нас моднейшей новинкой — мотивчики из «Прекрасного голубого Дуная», «Сказок Венского леса» и «Летучей мыши» были у всех на слуху. И я из них сделал эдакий салатоливье или, по — благородному, парафраз — с пассажами вверх и вниз, с роскошными октавными каскадами — и постарался тщательно выучить собственное изделие, проводя часы на сцене полутемного зала дома офицеров. Больше я никак в программе не участвовал. И вот — 22 февраля, вечер, праздничный концерт. Зал полон, сверкают генеральские погоны и лампасы, море офицерства, дамы, дамы, дамы… Мой номер. На сцене, это я уже хорошо знаю, убогое и глухое пианино, в набитом битком зале меня будет плохо слышно. Чтобы лучше несло звук, я снимаю переднюю крышку и обнажаю благородное фортепианное нутро — позолоченную деку, молоточки, струны толстые и тонкие, они выстроились параллельными рядами, их группы пересекаются под углом, радуя своими порядками строевой глаз. Виртуоз ударяет по клавишам, пальцы бегают как ненормальные, молоточки с невиданной скоростью бьют по струнам и отскакивают на место, демпферы опускаются и поднимаются целыми волнами, в зал несутся, кружа головы, зажигательные звуки знаменитых вальсов: па — па — па — па — пам, пам, пам! Музыка и зрелище вместе, художественное событие переживается аудиовизуально, возбуждены важнейшие сенсорные центры! Никогда и ни при каких обстоятельствах я не переживал большего триумфа. Меня вызывали без конца! Я не мог ничего сыграть на бис, ибо ничего не было. Нет, кое‑что я помнил, но сыграть кусок из первой части концерта Баха ре — минор или из концерта Бетховена до — мажор было бы артистическим самоубийством. В конце концов, как учил Эмиль Гилельс, никогда не следует уходить со сцены под стук собственных ботинок. Я удалился под бурные аплодисменты всего штаба 43–й армии. Жил я все еще в школе, и потому утречком 23 февраля, встав ото сна, мы с завучем и еще каким‑то учителем приступили к празднованию. Приняли по первой, после первой не закусывают, приняли по второй, закусили, хорошо пошло… И тут, ни к селу ни к городу, кто‑то стучится в дверь, и на пороге появляется неизвестный солдат. — Младший техник — лейтенант Бернштейн тут живет? — спрашивает он казенным голосом. — Это я. Голос неизвестного солдата становится еще более абстрактным, статуя Командора какая‑то, судьба стучится в дверь, бум- бум — бум — бум: — Вас вызывает к себе командующий артиллерией гвардии генерал — лейтенант Щеглов! Хмель мгновенно выдыхается, быстро — шинель, затягиваю ремень, расправляю складки и бегом в штаб артиллерии. Это такой добротный большой двухэтажный особняк на берегу озера, какой‑нибудь немецкий буржуй себе строил, когда было его время. Хм. Штаб, однако, закрыт, кроме дежурного офицера никого нет, потому что праздник. Дежурный выдвигает абсурдное предположение, будто генерал вызывал меня к себе домой. Хотя такого быть не может, я все же справляюсь, где генеральский дом. Надо проверить все гипотезы. Дом вон там — вон, тоже на берегу озера, такая себе вилла. (Другого, небось, буржуя, подсказывает классовое чувство.) Отправляюсь к генеральской вилле. Ее охраняет солдат, который меня ждет! Он вежливо впускает меня в облицованную темным дубом просторную прихожую. Сверху по лестнице спускается генерал — сначала красные лампасы, затем китель, потом седая голова, стриженая ежиком. — Товарищ генерал, младший техник — лейтенант гав — гав — гав- гав — гав — гав! — докладываю я по всей форме. — Здравствуйте, товарищ Бернштейн, — как‑то по — штатски отвечает генерал и протягивает мне руку! — Раздевайтесь, заходите! И я снимаю шинелку. И захожу в обширную и недурно обставленную гостиную. И генерал подводит меня к пианино марки «Ибах». Это была хорошая фирма. — Я хотел бы вас послушать. Вот где пригодилась моя приличная музыкальная память. Тут пошла в ход и соната Грига, и ре — минорный Бах, и то, и се… Но главное, оказывается, впереди. Генерал ставит передо мной ноты, вокальные. Читал я с листа из рук вон плохо, четыре года армейской службы без чтения с листа тоже давали себя знать. Но в моем положении и не такой, как я, заиграл бы. И я играю. А генерал начинает петь. Он поет вполне профессионально, хорошо поставленным баритоном! Другая пьеса, третья… Он правильно, хорошо поет! За пением следует беседа. Оказывается, генерал окончил Одесскую консерваторию по классу вокала. Окончил вечернее отделение, когда командовал Одесским артиллерийским училищем в чине полковника. Жена генерала — пианистка. Дочь тоже учится игре на фортепиано — в музыкальном училище. Но жена и дочь сейчас в Союзе, генерал один. Наслушавшись и попевши, генерал говорит мне главную фразу. Вам, говорит он, надо учиться. Так, товарищ генерал, говорю я жалобно, вот требуют в Лигниц… Да, отвечает генерал, именно поэтому я вас уволить сейчас не могу. Но мы сообщим, что используем вас на месте, переждем, забудется, а там и демобилизуем… Так ровно 23 февраля 1946 года, в день Советской Армии, началась моя дружба с генералом Щегловым.* * *
* * *
Изменив школе, я не мог более пребывать на школьной территории. Как артисту ансамбля, мне выделили небольшую комнатушку на третьем этаже дома офицеров; туда влезли диван, письменный столик, пианино и шкаф, что еще требуется для счастья? На втором этаже была ванная и душевые общего пользования. Питание — в офицерской столовой, в полутора кварталах от главного центра армейской культуры. Индивидуальные занятия и репетиции — можно сказать, дома. Именно туда, дежурному по дому офицеров, время от времени, примерно раз в неделю — полторы, звонил генерал и просил меня к телефону. Он вежливо справлялся, не занят ли я сегодня вечером. Я оказывался свободен. К вечеру за мной приезжала генеральская трофейная машина — черная, лоснящаяся, квадратных очертаний, которые должны были извещать всех и вся, что обтекаемые формы — для тех, кто торопится на работу, а нам при нашем положении спешить некуда. И шофер не спеша вез меня к вилле, которая находилась вообще‑то неподалеку, ногами дойти — раз плюнуть. Но так — все видят, едет генеральский пианист. Вечер бывал посвящен музыке, мы с генералом занимались вокалом и беседовали о соотнесенных с ним материях. Затем мы ужинали вдвоем. Генералу был положен персональный повар. А может, это был искусный денщик, я не исследовал. Так или иначе, но готовил он отменно. Часть ужина генерал готовил сам. Настаивать водки он не доверял никому, алкогольная алхимия была его личной монополией. К каждому ужину полагалась другая настойка. А главная тонкость была в том, что генерал страдал язвой желудка и пить ему было никак нельзя. Так что все эти водочные кружева полагались мне одному. Художник наслаждался своим творением посредством персональной аудитории из одного: я вкушал, генерал справлялся — ну, как? — и я подробно описывал наслаждения нёба и гортани. После интеллигентного ужина с подробной дегустацией неторопливый барский автомобиль был и вправду необходим. Щеглов был моим первым генералом, но не единственным. Однажды мне было сообщено, что меня вызывает к себе заместитель командующего 43–й армией генерал — лейтенант Пархоменко. Этот вызов был по — простому, в главное здание штаба, в служебный кабинет, который мог бы служить небольшим стадионом. Другой стиль — и я испытываю определенные трудности в выборе техники его описания. Я обещал, что ненормативной лексики не будет. Но если ее изгнать совсем, образ заместителя командующего в моем изложении останется бесцветным. Остановимся на компромиссном решении — лексики не будет, но необходимые лексические единицы будут репрезентированы короткими тире. Одна единица — одно тире. — А, пришел,! — дружелюбно поднялся мне навстре чу коренастый генерал. — Понимаешь тут какое дело, — . Из Союза дочка приезжает, Так надо ее, — , музыке учить, она уже занималась. Так может, ты, — , возьмешься, а? Поезжай на трофейный склад на —, посмотри, выбери там пианино, а то я в этом ни — не понимаю… По всему видно было, что генерал несколько смущен собственной просьбой, но деваться ему было некуда, дочка, — , приезжает. Эту дочку, позднее дитя, он обожал. Уроки происходили на дому, где грозный генерал и классный матершинник превращался в добродушного семьянина и трогательного отца. Девочке было лет одиннадцать — двенадцать. Худенькая, бледненькая, хрупкая, она была странным отпрыском крепкого, коренастого, седого отца и крупной, раза в полтора выше мужа, полной соков мамы. Девчушка действительно уже училась музыке, но музыкальные ее данные были посредственные и продвигались мы неторопливо. А вот общение с ней было удовольствием, ибо ученица была наделена — ко всем несходствам в добавление — редким душевным изяществом. Интересно, что стало с нею потом? Сейчас, надо полагать, она уже вполне сложившийся человек лет семидесяти с небольшим. Так я, можно сказать, музыкально двух генералов накормил. На подходе был третий. Служила на какой‑то штабной работе у нас еврейская девушка, Ривочка, родом из Белоруссии. Весной, в мае, к ней приехала погостить ее сестра Миррочка. Ривочка спаслась тем, что была в армии, Миррочка партизанила всю войну. Я смотрел на эту девушку из белорусских лесов с восхищением, снизу вверх, хорошо различая героическое гало. Случилось так, что Ривочке пришлось выехать на несколько дней в поле, на маневры, и она просила нас, ее приятелей и приятельниц, развлекать сестру. В тот воскресный день я был свободен и увез Миррочку куда‑то за город, вернулся часам к семи. На пороге дома офицеров стоял бледный майор Смолов, начальник Дома. Он ждал меня. — Где тебя носит! — кричит он страшным голосом и добавляет еще несколько неконвенциональных слов:!! Тебя командующий ищет! Вот оно. Меня разыскивает Командующий 43–й армией, Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета, генерал- полковник Попов. Я ему нужен. Наскоро почистив сапоги, я бегу к самой большой, трехэтажной генеральской вилле на берегу озера. А сам быстренько соображаю, зачем я ему понадобился. Я выбирал его в Верховный Совет и потому знаю генеральскую биографию. Он в Красной Армии с 1919 года, пению не учился. Детей нет. Ага, кажется, у него молодая жена, говорят — опереточная актриса. Может быть, ей хочется петь? Или у него просто гости и надо поиграть под танцы? Последняя версия кажется правдоподобной — все окна виллы ярко освещены, мелькают тени и слышатся праздничные клики. Чертог сиял. Захожу. Действительно, гости, праздник — и генерал просит поиграть. Ну, мы, младшие техники — лейтенанты, — люди негордые, можем и под генеральские танцы кой- чего изобразить. Если еще Командующий вежливо просит. Когда праздник стал увядать, генерал велел мне не уходить. Проводив последнего, он подсел ко мне — и с другой просьбой! Не в пошлых танцах, оказывается, дело было, это так, повод… И опереточная жена не при чем. Выясняется, что до судьбоносного ухода в Красную Армию в 1919 году он учился в духовной семинарии! Недаром и фамилия и него такая. В семинарии, кроме прочих наук, обязательно учили музыке: в будущем приходе надо быть мастером на все руки, и хором руководить, так что извольте владеть инструментом, скрипочкой. В Красной армии Попов музыкальными делами не занимался. Но вот сейчас, война кончена, можно расслабиться, да тут и скрипка трофейная есть, и соблазняет как‑то… — Товарищ генерал, — говорю я честно, — я на скрипке не умею. Ни играть, ни учить. — Это ничего, — властно возражает Командующий. — Будешь мне наигрывать мотивчик, а я буду по слуху подбирать. Первый урок завтра, в тринадцать часов. Ну, вот и завтра наступило. Тринадцать часов. Я наигрываю для начала нехитрый мотивчик, Командующий пробует его поймать. Фальшиво. Он слышит, что фальшиво, пытается нащупать верную ноту. Почти поймал! Нота уже приблизительно верная, и мы можем перейти к следующей! Нет, не то. Не то. Совершенно не то. Ага, вот тут! Ну, примерно в этом районе… В других случаях человеческое упорство в движении к цели вызывает уважение и даже восхищение. Но когда при этом смычок, как кажется, зажатый в кулаке, елозит по струне… Нет, я положительно в сорочке родился! И мама мне говорила, что в сорочке: у генерала сохранилась способность к самокритике, в том числе и музыкальной. Он слышит, что получается. Ему становится неловко. — Что‑то у меня пальцы как сосиски стали, — говорит он решительно, отложив скрипку в сторону. — Пойдем лучше чаю попьем. Эй, Ванька, Манька, кто там! Чаю лейтенанту! И мы, Командующий и я, чинно пьем чай с вареньем. — Хочешь, — спрашивает он вдруг, — я тебе свой парадный мундир покажу? Командующий обязан быть психологом и угадывать тайные желания своих подчиненных. — Хочу, товарищ генерал. Попов был высокий, крупный, широкий в кости мужик. И молодая его жена была здоровенная собой. И в спальне вся мебель соответствовала — как у Собакевича. Генерал достал из циклопического шкафа парадный мундир — весь, от шеи до стыда, в орденах и медалях, отечественных и иностранных. Как в броне. — Ну что, хорош? Мундир был и вправду хорош, ничего не скажешь. А демонстрация была не без повода. В тот день Попов получил еще два польских ордена, которые пришлось привинтить уже совсем внизу. Ну, хотелось хоть кому‑нибудь показать. Все‑таки. Простим ему эту слабость — тем более что уроки скрипичной игры этим и завершились. Мне случалось еще приближаться к дворцу командующего, но по другим поводам.* * *
В ансамбле песни и пляски 43–й армии имелось все необходимое и достаточное для такого рода художественных коллективов. Был начальник, Иван Иваныч Чемезов, капитан, тот самый, который, не зная меня, стал защищать мои интересы и выпросил меня у генерала Щеглова на 23 февраля. Он был добрый и славный человек, и ансамбль под его крылом существовал спокойно и достаточно благополучно. Костяк составлял группа музыкантов — два — три скрипача, контрабас, разного рода духовики, ударник, аккордеонистка, всё прожженные профессионалы, на все руки мастера. Собравшись на репетуху, спрашивали, чего лабаем, a cлaбаmь умели что угодно. Был замечательный, на грани гениальности, джазовый пианист, тот, который не знал нотной грамоте, слухач, Жора Иоанисян. Он лaбάл джаз как дьявол; я подсмотрел у него множество секретов. Был небольшой, но достаточно слаженный хор с грамотным руководителем. Были солисты. Исполнительница русских народных песен имела низкое и хрипловатое этнографическое контральто и необходимого формата бюст, который полагается подпирать вручную во время исполнения. На одном из наших концертов, в момент, когда я был не занят и был в зале, сидевший рядом поляк, увидев ее на сцене, побледнел и зашептал мне в ухо: «Если я правильно помню, это по — русски называется грудь колесом, да?» Был парень, Володя Рожнятовский, которого природа наградила сильным баритоном и прекрасным слухом. Он был музыкально неграмотен, но быстро схватывал мотивчик и выучивал слова, мы с ним занимались регулярно (вот где сгодился нотный пианист!) и успешно выступали в шаляпинском репертуаре — от русской удали до куплетов Мефистофеля. Володька был маленького роста, коренаст, сильно курнос, с низким лбом и маленькими глазками — такими древние греки изображали сатиров и подобных им существ низшего ранга. Чтобы довершить сходство с мифическими обитателями лесов, природа преподнесла ему еще один дар, вполне сатирического свойства. Об этом даре ходили легенды — и несколько оголодавшая женская половина населения Щецинка, независимо от гражданства и национальной принадлежности, не давала Володьке прохода. Мужичок он был крепкий, но случались утра, когда он еле держался на ногах. Да, разумеется, имеласьтанцевальная группа, без этого невозможен «Ансамбль песни и пляски 43–й армии». Так вот, о пляске. Еще в те дни, когда я на сцене пустого офицерского зала готовился к своему первому выступлению, я заметил однажды, что из закулисной тьмы меня стали разглядывать чьи‑то глаза. Это была балерина — балетмейстер — постановщик ансамбля, Ольга Николаевна Ракитяньска — Деплер. Лет ей было этак 27, но за спиной была сложная биография. Она начинала свою карьеру на сцене одесского оперного театра. Начинала, видимо, успешно, ибо спустя/некоторое время стала примой — балериной оперного театра в Харькове. Там ее застала война — и то ли нечаянно, то ли как, но бежать из Харькова она не успела. Танцевала в оккупированном Харькове, а затем то ли ее увезли, то ли сама уехала в Германию, где тоже танцевала, так как больше ничего делать не умела. Видимо, там она вышла замуж и родила дочку. Может быть, она вышла замуж еще в Харькове — и там родила дочку. Я подробно не расспрашивал. Ее нашли советские войска и освободили в лагерь, вместе с дочкой и свекровью. Муж пребывал где‑то в Германии, его судьба проступала в ее рассказах неясно. В лагере ее разыскали власти — и привлекли в ансамбль. То есть, числилась она за лагерем, но, будучи специалистом редкой квалификации, жила и работала в Щецинке, как бы на вольных хлебах. В лагере, для верности, оставалась маленькая дочурка с бабушкой. Каждый раз, когда Ольга съедала что‑нибудь вкусное, она вздыхала: ах, моя бедная крошечка… У Ольги был друг — бравый майор, адъютант командующего. Это было красиво, более того, это было правильно: у главного генерала — красавец адъютант, у адъютанта — любовница балерина. Для Ольги это тоже было полезно, ибо как‑то укрепляло ее неясный статус. Как только состоялось знакомство, Ольга стала меня расспрашивать о событиях культурной жизни на родине, которой она как бы несколько изменила. Рассказывая о том о сем, я не мог миновать недавний конкурс музыкантов — исполнителей. Когда я назвал имя Святослава Рихтера, Ольга всплеснула руками и воскликнула: Светик! Светик был влюблен в нее, когда она танцевала в одесском оперном театре, отец Светика служил там органистом. Это правда. Узнав про Рихтера, она захотела немедленно ему написать. Я посоветовал ей послать письмо на адрес Московской консерватории. Рихтер отвечал ей длинными теплыми письмами, одно она дала мне прочесть. Ольга жила там же, в доме офицеров, этажом ниже, мы оба трудились в ансамбле и дружили. Этого было достаточно, чтобы население советской колонии нас заподозрило. Я вообще‑то, вопреки модному поветрию, не собираюсь разговаривать на подобные темы. Но сейчас надо сделать исключение, поскольку без необходимых разъяснений дальнейший рассказ может быть неверно понят. Так вот, ничего такого не было и быть не могло. Во — первых, Ольга была старая — ей было, как я сказал, лет 27, а то и все 28. Кроме того, она была балерина и потому, или еще почему‑то, у нее заметно выдавались косточки на ногах, у основания большого пальца. Это уж и вовсе пресекало любое искушение. Все, сюжет исчерпан. Я как генеральский пианист пользовался известными послаблениями. Нам, советским офицерам, настоятельно не рекомендовалось вступать в контакт с местным населением. Я на эти рекомендации не обращал внимания, но меня никто не наказывал за это и даже не предупреждал. Одним из моих местных знакомых оказался пан Гурвич. Панство Гурвич уцелело, потому что успело бежать в советский тыл. Но оставаться там им не захотелось — и после войны они немедленно вернулись в Польшу, на западные земли, где все было ничье и можно было развернуться. Пан был человек тучный, с очень большим животом, и сильно напоминал капиталиста с советских плакатов 20–х годов. Он и был капиталистом: ему принадлежала большая «кавъярня», т. е. кофейня, и примыкающий к ней «Огрудек Адрия», то есть сад «Адрия». Капитализм Гурвича был диалектическим — в согласии с духом времени, ибо перспективы социального устройства послевоенной Польши были туманны. Поэтому огрудек с кавъярней были записаны на пани Гурвич, ну — на всякий случай, а сам пан скромно служил в государственном учреждении, кажется — в мэрии, и к годовщине свободной Польши получил орден. Пан Гурвич, естественно, размышлял о способах увеличения доходов своей жены. И тут ему пришла в голову интересная мысль. Огрудек у них был обширный, в центре была сооружена сцена с защитно — акустической раковиной. И он предложил мне устроить сольный вечер. Клавирабенд в саду. Это было увлекательно, но непонятно юридически. Пришлось справиться в политотделе, может ли офицер Советской армии давать сольные концерты для местного населения. Выяснилось, что может, но не в военной форме. В штатском — можно. Штатского, правда, не было, но удалось кое‑что собрать у людей, у кого пиджачок, у кого даже и галстук. Другая проблема — с репертуаром, на два отделения получалось как бы жидковато, а учить новое было некогда. Я решил пригласить Ольгу — пусть станцует что‑нибудь сольное в первом отделении и что‑нибудь еще — во втором. Заодно заработает малость, ей уж точно не помешает, пошлет гостинец своей бедной крошечке. Все слажено, установлена дата, по всему городу развешаны большие, типографским способом исполненные афиши. Одну такую я привез с собой и гордо хранил еще лет двадцать — пока она не потерялась при очередном переезде с квартиры на квартиру. В городе, естественно, оживление, последний фортепианный вечер тут был, вероятно, когда Щецинек был полноценным Нойштеттином, и людей, которые его слышали, тут давно уж нет… Я усиленно занимаюсь, срепетировали танцы с Ольгой, все готово. Так. Наступает назначенный апрельский вечер, собираются тучи и начинает накрапывать мелкий дождик. Народ отважно покупает билеты, толпится под зонтиками — но дождик продолжается… Что делать — находчивый пан Гурвич приглашает всех пересидеть непогоду в кафе. Конечно, концерт откладывается, будет объявлено особо, но пока что — «запрашамы панство до локалу». Так это звучит. Кафе имело в тот вечер недурной доход. Нас с Ольгой, естественно, принимают за хозяйским столиком, кофе, пирожные, ликер, коньячок… Тем временем дождик прошел — и для оставшихся, в качестве премии, был исполнен фрагмент концерта. Правда, Ольга во время танца разок упала, но накладку можно было отнести за счет непросохшей сцены. Стемнело. Ольга попросила меня проводить ее к ее майору. Он жил, разумеется, во дворце командующего, в первом этаже. — Боря, — спрашивает она меня вдруг, — что вы думаете о майоре? В возрасте двадцати одного года я был максималистом. — Ольга, — говорю я, — он, конечно, эффектный парень, красивый и на виду, ничего не скажешь. Но он, по — моему, мало интеллигентен. Он что‑нибудь читает? У него хоть одна книга стоит где‑нибудь на полке? Вообще, о чем вы с ним разговариваете? Кроме того, как он за вами ухаживает?! По — моему, вы ему нужны только для удовлетворения животной страсти. Он вам когда‑нибудь сделал хоть какой‑нибудь, ну — символический, подарок? Букет цветов принес? Так, беседуя о майоре, мы дошли до места, и Ольга юркнула в известную ей дверь. Как выяснилось впоследствии — я говорю со слов самой героини, — дела в первом этаже приняли неожиданный оборот. Майор, в согласии со сложившейся поведенческой нормой, захотел было приступить к делу, но хватившая коньяку Ольга его остановила. — Постойте, — сказала она твердо. — Мне кажется, что вы неинтеллигентны. Вы ничего не читаете! Когда вы прочли какую‑нибудь книгу? И потом, как вы за мной ухаживаете? Разве так ухаживают за любимой женщиной! Вам бы только удовлетворить животную страсть. Хоть один цветочек… Возможно, обалдевший майор в конце концов получил свое. Про это Ольга не рассказывала. Но новый тон, как мы увидим, заставил его насторожиться.* * *
В каком бы углу ты ни оказался, вокруг образуется паутина человеческих связей. Так и в Щецинке. Профессор Рожанский был первый польский интеллектуал, с которым меня свели обстоятельства. Он не был полным профессором, в Польше, как оказалось, этим званием наслаждался даже гимназический учитель. Рожанский был музыкант, пианист, историк и теоретик, интересы были общие. Меня тогда восхищала его культура, профессиональная и гуманитарная эрудиция. Я не знал тогда, как высоко была поднята в Польше планка профессионального образования для исполнителей и музыковедов. Не могу вспомнить, как мы познакомились. Я любил бывать у него дома — он жил один, посреди главной комнаты стоял рояль, с которого он стирал пыль не каждый день. На рояле и кругом лежали ноты, книги. Мне было интересно там бывать. Он был для меня окном в мир польской, а в некотором смысле и западной или, скажем так, ориентированной на Запад образованности. Это важно. Рожанский отчасти отвечает за мое полонофильство. Наш ансамбль обслуживал прежде и больше всего наши войска. Но были у него и другие задачи, не без политически — пропагандистской подкладки. К ним относились и концерты для польского населения. Вещь это была тонкая, не могли же мы, скажем, нагрянуть вот так себе, за здорово живешь, в какой‑нибудь польский город, объявить концерт, разумеется платный, и развлекать народ. Мы, напоминаю, — политотдельская часть. Для такого дела существовал специальный общественно — политический механизм — Товажыство пжыязни польско — радзьецкьей, то есть Общество польско — советской дружбы. В Щецинке дружбой ведала энергичная и восторженная пани, имя которой я силюсь вспомнить вот уже который день. Она не только организовывала наши выступления для местных, но бывала едва ли не на всех наших концертах, знала всех и всеми восторгалась. Иногда она приносила цветы особо ценимым советским солистам. Было видно, что дело польско — советской дружбы находится в надежных руках. С таким человеком всегда приятно было побеседовать на польско — русском диалекте. Однажды пани — по какому‑то поводу — пригласила хормейстера ансамбля и меня к себе в гости; редкий случай, когда можно было побывать в заграничном доме. Угощение, в согласии с трудными временами, было скудное, но изысканное — кофе, печенье. С напитками же оказалось свободно, на столе были разные ликеры, даже коньячок. Обилие выпивки при ограниченной закуске ведет к сильному алкогольному опьянению. Состоявшие на армейском довольствии оказались, естественно, более стойкими, тощая пани упилась совсем. Вот тут началось самое интересное: пани стала рассказывать о себе. Выяснилось, что она из весьма состоятельной, более того — аристократической семьи, что от бабушки ей досталось некогда имение под Варшавой, размером эдак в добрую тысячу гектаров, что теперь, при народной власти, все девалось невесть куда, ничего нет, ни кола ни двора, везде правит это быдло, темное мужичье и хамье, ненавижу! Презираю и ненавижу! Наутро польско — советская дружба продолжала укрепляться. Более обширным был, понятное дело, круг знакомств в армейской и околоармейской среде. Кого только не привела военная судьба в Щецинек! Был там Лейба Гордон, рижский еврей, знавший несметное количество языков. Он обслуживал генералитет — его дело было слушать по ночам иностранное радио и составлять для командования обзор, который он сам называл брехунцом. Возможно, таково было официальное название, поскольку сообщения иностранных радиостанций представляли собой сущую брехню. Ближе всего я сдружился с семьей заместителя армейского прокурора, московского юриста Самуила Эдельсона. Это был подлинно семейный дом, где я отогревался. Самуил был человек удивительный, умница, тонкий, теплый и мужественный одновременно, нетерпимый к любой пошлости, а это встречается не на каждом шагу. Жена его Ольга, историк по образованию, обаятельная и тоже умница, вела хозяйство и воспитывала малышку Таню. У них я бывал чаще всего. В гостиной стояло пианино, можно было и помузицировать. Почему в прокуратуре всегда был избыточный спирт — этого я не могу объяснить. Но был. Узнав, что я безоружен, Самуил подарил мне пистолет ТТ и несколько патронов. Это было кстати, ибо кое — где постреливали, ходить по ночам с пистолетом в кармане было спокойней. Через Эдельсонов я познакомился и с другими юристами — от второго заместителя прокурора Быкова и до младшего следователя, романтика и меломана Ильи Розмарина. Но и тут, в сети знакомств, не обходилось без экзотики. Однажды я среди дня возвращаюсь в дом офицеров, то есть домой, и прямо в вестибюле меня кто‑то знакомит с неизвестным старшим лейтенантом. Ну, я вам скажу, и тип: аристократ, высокий, белолицый, с крупными, красивыми белыми кистями рук, с длинными, как в старинном романе, падающими на воротник гимнастерки каштановыми волосами. С длинными, слегка вьющимися волосами! Офицер советской армии ранней весной 1946 года! — Владимир Лясковский, — представляется чудо — юдо — офицер, и примерно через семь минут переходит со мной на ты. Тут по лестнице балетной походкой спускается Ольга Ракитяньска — Деплер, Владимира представляют — и он с налету элегантно и чувственно целует даму в сгиб локтя! Ошалеть можно. Еще несколько минут беседы — и Владимир обращается ко мне с интересной просьбой: слушай, Борис, а можно я пока у тебя поживу? — Да можно, конечно, о чем разговор! Диван у меня один, но как‑нибудь уместимся, если тебе некуда деваться… Деваться, действительно, было некуда. В свои лучшие времена, совсем недавние, майор В. Лясковский был фронтовым корреспондентом «Комсомольской правды». Первый прокол в его карьере случился в освобожденном Бухаресте. Как известно, в деликатном процессе революционной демократизации стран Восточной Европы приходилось соблюдать идиотскую видимость; поэтому в Румынии некоторое — недолгое, впрочем, — время подержали на престоле юного короля Михая. Ему тогда было лет семнадцать — восемнадцать, точней не помню. И вот, в столице страны происходит парад, выезжает король на белом коне, а присутствующего там советского журналиста из «Комсомольской правды» бес толкает под локоть, и он — журналист, конечно, — говорит: — Смотрите, какой он молодой! Мы еще успеем принять его в комсомол. Тогда бес переключается на его соседа, которого он толкает под локоть в тот же вечер написать на Лясковского донос. Остроумца — очень даже гуманно — выгоняют из «Комсомольской правды», разжалуют из майоров в старшие лейтенанты и посылают в Лигниц, в газету Сев. Гр. Войск. А ведь могли и посадить! Понижение оставило в душе Лясковского горький осадок. Поэтому в Лигнице он журналистике уделял меньше внимания. Жизни — больше. Возможности для жизни были. Я уже говорил мимоходом о столичности Лигница. Это должно быть ясно: штаб Группы Войск качественно и структурно приближается к центральной матрице — Московской. Поэтому в армии — отдел кадров, в Группе — Управление кадров; в армии — политотдел, в Группе — Политуправление. Другие, важнейшие отличия наблюдались в области культуры. В армии — ансамбль песни и пляски, в Группе — тоже, но куда более мощный, не чета нашему. В армии больше ничего культурного не положено — идите в дом офицеров, смотрите кино, какое привезут, и будет с вас. А в Группе — свой Драматический театр. Ставят «Ромео и Джульетту», и еще всякое. Еще — свой Джаз — оркестр, который путем мгновенной мутации трансформируется в Театр оперетты. Художественный руководитель драмы — ленинградский театровед и театральный деятель Анатолий Васильевич С. Руководитель джаза и оперетты — Борис Смит. Смиток — стильно называет его Лясковский. С этим Смитком Лясковский сразу подружился. По его, Лясковского, словам выходит, что у Смита свободного времени было много. И они с Лясковским, выпивши, гоняли по городу в трофейном открытом кабриолете Смита, догрузив его какими‑нибудь красивыми девицами. И еще всячески — как это нынче называется? да, вот так — оттягивались. В конце концов вести о художествах друзей дошли до генерала, начальника Политуправления. Не знаю, были ли у него беседы со Смитом. Не исключено, что Смита он не тронул, поскольку главным покровителем искусств был сам Рокоссовский, а Смиток принадлежал к художественной элите. Но Лясковского он вызвал к себе для разноса. Генерал был совершенно лыс, это важно для дальнейшего. — Что это за поведение, товарищ старший лейтенант?! — кричал лысый генерал. — Разве это поведение советского офицера?! Володя смиренно молчал. — Вы позорите свои погоны! — развивал свою мысль" генерал. Володя молчал. — И потом, что это за прическа! Разве это прическа советского офицера?! Явился бес. — Это чтобы лысые завидовали, — возразил Лясковский. В тот же день он был изгнан из газеты СГВ и приказом политуправления направлен в глушь, в Саратов — литературным сотрудником в газетенку танковой дивизии, расположенной в бетонном Гроссборне, в лесу. Так Лясковский доехал до нашего Щецинка, огляделся — и понял, что ниже пасть он не может себе позволить. В Гроссборн он не поехал и поселился на моем диване. Удивительные все же были времена. Ему это почему‑то сошло с рук, редактор армейской газеты, майор Воробьев, взял его на работу в свое заведение, каким‑то образом комбинация была оформлена, уж не знаю как. Вскоре они подружились — и Володя перебрался к редактору. Все же у Воробьева была целая квартира и денщик. Кроме того, я был человек непьющий — ну, не абстинент, выпивал иногда, но нерегулярно. А Воробьев посылал денщика за бутылкой монопольки прямо с утра. Отношения у них складывались не всегда. Случалось, что часа в три утра меня будил стук в дверь. Вваливался пьяный Володька. — Борис, — говорил он печально, — майор меня не понимает. Затяжная театральная пауза. — Можно, я у тебя переночую? Я экономно устраивался у спинки, Володька заваливался рядом как был. — Слушай, Борька, давай не будем спать! Будем сочинять стихи для венерического профилактория! Он был дьявольски талантлив. Стоило ему чуть выпить — и он начинал говорить стихами. И как легко струилось:Товарищ,
слово дай,
что больше
Ты баб не будешь трогать
в Польше!
* * *
* * *
В тот день Володя Рожнятовский, ведущий баритон, явился ко мне на урок часам к десяти утра, как было заведено. Лица на нем не было. Хуже того. Видели ли вы плачущего силена? Даже теперь, будучи профессионально искушен в иконографии, я не могу припомнить ничего подобного. Силены сопутствовали Дионису. Силены пьянствовали, картины такого содержания имели успех у публики. Когда в Москве открыли для народа сокровища Дрезденской галереи, картина Ван Дейка «Пьяный силен» привлекала множество зрителей, самые впечатлительные восхищались вслух — да, силён пьяный! В конце концов администрация Музея им. Пушкина повесила новую этикетку: «Вакханалия с пьяным силеном». Силены гонялись за нимфами и нередко их настигали. Известны трагические сюжеты. С силена Марсия по приказу Аполлона спустили шкуру живьем — в наказание за дерзость. В Эрмитаже есть скульптура, представляющая Марсия, уже привязанного к дереву; вот сейчас, через мгновенье холодный острый нож коснется мускулистого, напряженного тела. Есть в Эрмитаже и небольшая ренессансная картина, где несчастный Марсий уже наполовину лишен кожи. Он кричит от боли. Но плачущего силена не изображал, по — моему, никто. Володя в тот момент мог быть прекрасной моделью. — Володя, что случилось? Коренастый баритон, отведя полные слез глаза, с тоской смотрел в окно. Видно было, что жизнь кончена. — Лейтенант, я поймал… Так. Приапическая обреченность Володьки сделала свое дело — он, выражаясь строго, заразился распространенным венерическим заболеванием. И пришел ко мне не петь, какое уж тут пение, а в надежде на покровительство, совет и защиту. Конечно, не он был первый и не он последний, чего уж. Но была тут одна деликатная вещь… Что делать, говорю я Володьке, пошли к капитану, буду тебя защищать как‑то. Капитан был человек мягкий и покладистый, я уже упоминал о его чудесных качествах. Но тут дело было уж очень плохо. — Подлец ты, Рожнятовский! — кричал Иван Иваныч, хватаясь за голову, — что ты наделал! (Ну, и тут еще разные слова, которые произносит военнослужащий, будучи в гневе и отчаянии.) Ты понимаешь, что ты натворил! Позор! Политотдельская часть! Вот в чем дело. Наш ансамбль — политотдельская часть, дело политическое. Репутация армейского артиста должна быть прозрачна как слеза ребенка! И капитан головой отвечает за морально — политическую стерильность каждого, каждого! Поэтому он долго ругает бедного Володьку, не зная, что делать дальше. В венпрофилактории сразу же засекут, откуда больной, из какой он части. Посередине разноса звонит телефон. — Да, товарищ генерал. Понял, товарищ генерал. Есть, товарищ генерал. Есть исполнять, товарищ генерал! Приказ начальника политотдела генерала Гросулова был прост: немедленно, по боевой тревоге, поднять ансамбль, собрать все необходимое и выехать в город Щецин, чтобы обслужить концертом съезд Общества польско — советской дружбы. Автобус будет подан через 30 минут. Выезд — через 40 минут. Все. Исполняйте. Быстро собираем народ, инструменты, костюмы, Рожнятовского с его триппером, все это грузим в автобус и через сорок минут выезжаем в Щецин крепить польско — советскую дружбу. Война пощадила Щецин, разглядывать город было интересно. Но я хочу добавить свою крупицу к тому, что уже сказано в мировой литературе о силе искусства. Как только в Щецине прослышали о появлении нашего артистического десанта, так посыпались просьбы. Просили дать платный концерт для польского населения. Дали — для этого сняли зал в церкви модернистской архитектуры, на которую я смотрел с изумлением. Польский военный госпиталь приглашал сыграть концерт для воинов, находящихся на излечении. Госпиталь не мог платить деньгами, деньги на искусство не были предусмотрены. Вместо этого госпитальные предлагали устроить обильное пиршество с неограниченным количеством медицинского спирта. И тут капитан мгновенно смекнул, что пиршества нам даже и не надо, а вот вы вылечите нам Рожнятовского. У поляков было то, чего в наших госпиталях еще не было, — пенициллин. С каждой инъекцией Володька пел все лучше. Когда мы вернулись в Щецинек, больных в ансамбле не было. Другая историческая поездка была в Гданьск — по случаю годовщины освобождения города. Политическое значение этого выступления трудно переоценить. Недаром и наших политотдельских там было многовато. И нас предупредили, что возможны провокации, классовая борьба далеко еще не кончилась! Гданьск был разрушен. От центра и припортовой части остались горы камня, покореженные металлические конструкции, между руин расчищены были прежние улицы. Костел св. Марии, один из величайших памятников кирпичной готики, сильно пострадал от пожара, стоял без крыши, с выбитыми окнами, один из углов бокового нефа был срезан бомбой. Если бы я предвидел, что стану историком искусства, я бы внимательней пригляделся к обнаженным готическим конструкциям; другой случай, слава Богу, так и не представился. Ценнейший из памятников церковной коллекции, «Страшный суд» Ханса Мемлинга, был припрятан в близлежащей деревне и уцелел. Город пережил жестокую осаду. Рокоссовский предложил, говорят, осажденным почетную сдачу — сопротивление безнадежно, фронт ушел далеко на запад, офицеры выходят с оружием. Немцы отказались, город после мощных бомбардировок был взят штурмом и на три дня отдан на разграбление победителям. Ничего нового. Греки тоже разграбили Трою — вон когда это было! Ассирийский царь Синнахериб в 701 году до новой эры взял и разорил 46 городов в Иуде, победы были запечатлены в знаменитых ныне рельефах на стенах его дворца в Ниневии — очень хорошо изображено, как город горит, стены рушатся, воины тащат мешки и ящики с добычей… Традиции, ничего не поделаешь. В те три дня все, что могло еще гореть, — горело. Разворочены были даже старинные захоронения в полу Марьяцкого костела — искали сокровища. Очевидцы мне рассказывали, как озверевшие солдаты хватали на улицах немок, насиловали и бросали в огонь. Помолчим, надо перевести дух.* * *
Мы поселились в представительном доме, который некогда был резиденцией наместника Лиги Наций в вольном городе. Теперь в хорошо отремонтированном особняке размещалась советская комендатура. А политическая обстановка, как я сказал, была непростой — и тут, в комендатуре, нам еще раз об этом напомнили. До сих пор я пробовал рассказывать так, как я видел людей и события тогда — будучи советским офицером, очень молодым человеком, едва перевалившим за двадцать. Повествователь и центральный персонаж должны были слиться воедино. Но до конца сохранить принцип не удастся. Пора начать раздваиваться. Когда я приезжал в Польшу через десятилетия, поляки меня спрашивали, каким образом я так бегло справляюсь с польским языком. Я отвечал честно — сразу после войны служил в Польше в рядах Советской армии оккупантом. Но тогда, в сорок шестом, я ни разу не задался вопросом — почему, собственно, мы здесь. Что мы тут делаем, в освобожденной Польше, от кого мы ее теперь защищаем, когда Германия сокрушена? Не умел задумываться, да и правды было трудно доискаться. А объяснения были просты. Враги народной Польши еще не сокрушены. В лесах скрываются вооруженные формирования контрреволюции — Народове силы збройне, Армия Крайова. Враги пока что существуют в самом правительстве — таков заместитель премьер — министра Миколайчик и вся его якобы народная партия, Польске Стронництво Людове. Напомню, как обстояли дела и что скрывалось за словами. Когда Польша — с помощью и при участии страны Советов — была оккупирована нацистами, было сформировано национальное правительство в изгнании, оно базировалось в Лондоне. Пока длился политический роман Сталина с Гитлером, лондонское правительство как бы и не существовало вовсе. Когда же Гитлер напал и союзниками Советского Союза стали Англия и Соединенные Штаты, польское правительство в изгнании было официально признано — как союзник. Один из уцелевших в советском плену польских офицеров, генерал Андерс, был назначен формировать в Средней Азии войско из уцелевших в лагерях польских пленных и лиц польского происхождения. Позднее армия Андерса ушла через Иран на Запад и принимала участие в военных действиях союзников. Там, естественно, она подчинялась польскому правительству в изгнании. Между тем, на территории Польши сопротивление никогда не угасало. Там действовала Армия Крайова, т. е. армия в стране — в отличие от армии на Западе. Сражались и другие силы сопротивления, которыми руководили из Лондона. Пока восточный фронт проходил по советской территории, проблем не было. Правда, когда открылось чудовищное катынское дело, лондонское правительство потребовало объяснений; советская сторона, свалив все на гитлеровцев, обиделась, и отношения были разорваны. Но не в обиде была суть, просто Сталин смотрел далеко вперед. Началось формирование других, «наших» польских частей, под командованием еще одного плененного в 1939 году польского офицера, согласившегося позднее сотрудничать с ГБ, генерала Жыгмунта Берлинга. Поскольку количество поляков, которых можно было мобилизовать в Советском Союзе, описывалось конечной величиной, в новое Войско Польское отправляли нормальных отечественных военнослужащих, достаточно было, чтобы фамилия кончалась на «-ский». В этом виде армия Берлинга участвовала в операции, которая вела в первый отвоеванный у немцев польский город Хелм. Как только город был занят, в нем стихийно — планомерно возник некий Комитет Национального Освобождения, а попросту другое польское правительство, которое было немедленно признано советским правительством, поскольку советское правительство само его придумало, приготовило и сотворило. Лондонское правительство нашу страну уже больше не интересовало — какой был смысл поддерживать какое‑то там правительство, которое ничем реально не управляло и в стране ни клочка земли не контролировало. Следовательно, и польское подпольное движение стало «не нашим», а лондонским, т. е. плохим. Когда советские войска вплотную подошли к Варшаве и стояли в ее пригороде, «на Праге», прямо на берегу Вислы, на той стороне польские силы сопротивления подняли восстание — они хотели освободить столицу собственными силами. Известно, чем это кончилось, — советская сторона спокойно позволила своему смертельному врагу утопить восстание в крови и затем методически уничтожить город, квартал за кварталом и дом за домом. Я однажды видел фильм об этом, отснятый главным образом самими немцами, — зрелище, о котором нелегко рассказывать. Так вот, могучая и искушенная в боях советская армия спокойно стояла за речкой. Что делать, восстание было чужое, у нас уже были свои виды, своя польская армия и свое польское правительство. Сами виноваты, что все погибли, нечего было тут самодеятельность разводить, да еще по приказу из Лондона. Вы удивляетесь, что Армия Крайова позднее повернула оружие против новых оккупантов? Западные союзники, однако, не хотели просто отдавать Польшу Сталину — в конце концов, из‑за этой страны они объявили войну Гитлеру в тридцать девятом. Другое дело, что их надежды были иллюзорными, поскольку им казалось, Рузвельту в особенности, что со Сталиным можно договориться и что договоренности будут соблюдаться. В Потсдаме был достигнут компромисс: в Польше должна быть сохранена многопартийная демократическая система и правительство будет синкретическим — во главе социалист, а заместителем премьера будет тогдашний глава лондонского правительства Миколайчик. Правда, другим заместителем стал коммунист Гомулка. Постепенно, но достаточно быстро, а главное — неумолимо, под руководством опытных гебешных инструкторов, посредством испробованных манипуляций, фальсификаций выборов и насилия, партию Миколайчика вытесняли из политической жизни; в конце концов Миколайчик, как сказано в одном, увы, современном отечественном справочнике, «покинул страну», на самом же деле бежал в последнюю минуту, чтобы спастись от приготовленной расправы. Позднее, правда, посадили Гомулку, но то уж был спор своих между собою, он выходит за пределы моей темы. Политическая призма, сквозь которую нам представляли положение вещей, была устроена несложно — и картина была отчетливо черно — белой: Армия Крайова и тем более правые Народове силы збройне — бандиты, которых необходимо раздавить силой. Миколайчик и его партия — враги, агентура империализма, которую приходится временно терпеть, но которая, само собой разумеется, исторически обречена. Надо быть бдительными, ясно понимать расположение политических сил и видеть неумолимые тенденции исторического развития. Борьба разыгрывалась на наших глазах. Утром в день годовщины освобождения города (я правильно выражаюсь?) перед восстановленной часовней неподалеку от собора было устроено торжественное богослужение. За ним последовала демонстрация трудящихся. Вернее, демонстраций было две: одна правильная, а другая — сторонников Миколайчика. Вторая была расценена как вылазка. Предстояло, однако, новое столкновение сил, которое, кто бы мог подумать, касалось нашего ансамбля непосредственно! Интрига началась издалека. Кому‑то из начальства пришла в голову замечательная мысль: поскольку ансамбль участвует в торжествах, сделаем так, чтобы правительство Польской Народной Республики наградило всех участников ансамбля польской медалью. Правительству эта мысль показалась интересной — и каждый из нас был награжден боевой медалью «Za Odrз, Nysз, Baltyk», то есть за новую границу Польши, проходящую по Одеру, Нейсе и Балтийскому морю, то есть за освобождение Западных земель. В документе, который сопровождал медаль, так и написано — что хорунжий Бернштейн Б. награждается за героические деяния (bohaterske czyny) по освобождению указанных земель. Я храню экзотическую иностранную медаль — и как память о моей польской одиссее, и как скромное свидетельство бесстыдного военно — политического цинизма. Однако в тот вечер, когда медаль была вручена, мне предстояло совершить небольшой подвиг. Нас предупредили, что выступление чрезвычайно ответственное. Политическая острота события, кроме всего прочего, была обусловлена тем, что от польского правительства на торжества прибыл некий Керник, ближайший соратник Миколайчика и его заместитель в руководстве партии! Это он будет вручать нам медали! Стойкость и бдительность, товарищи! К условленному времени мы прибываем в зал, где произойдет торжественная церемония, а за нею последует наш концерт. Это восстановленный кинотеатр, украшенный флагами, транспарантами и гирляндами. Забираемся на сцену… Вот она, вражеская провокация! На сцене нет фортепиано. То есть, фортепиано нет нигде! Силы реакции срывают концерт! Что делать? Нет, мы этого не допустим. Я со всех ног — в буквальном смысле, поскольку других средств локомоции не существует, — мчусь в советскую комендатуру, где есть рояль: знаем, мы на нем работали. Вбегаю в дом, сооруженный на деньги Лиги Наций, ищу коменданта. Но коменданта нет, и его помощников нет, и заместителей нет, кого ни хватишься — никого нет. Все уехали возлагать венки на могилы павших воинов. Но попадается какой‑то старшина и солдаты из взвода обслуги. Я принимаю командование на себя. — Старшина, шесть солдат ко мне! Живо! На заднем дворе нахожу довольно изрядную тачку, отвинчиваю рояльные ноги и педали, громоздим рояль на тачку и, впрягшись, везем его через город. Затаскиваем через боковую дверь — фух, как раз поспели, торжественная часть кончается. Ввинчиваем ноги и выкатываем инструмент на сцену, как только завершилось вручение медалей артистам — героям. Объявляется начало концерта. Тут я замечаю, что педали валяются в углу. Последний богатерский чин: на глазах у публики я выхожу на сцену, ложусь под рояль и завинчиваю болты. Аплодисменты. После этого я еще изобразил ля — мажорный, с барабанным боем, полонез Шопена, при относительно небольшом количестве фальшивых нот. Молодой был… Не знаю, может быть, я отчасти заслужил эту медаль. Позже, когда меня уже не было в Польше, власти, желая расколоть партию Миколайчика, вели сепаратные переговоры с моим знакомым Керником. Керник будто бы соглашался на какие‑то компромиссы, но выдвинул условия. Первое из них было: вывести из страны советские войска… На таких условиях с этим типом не о чем было разговаривать. Недаром он, вручая награду, смотрел на меня волком.* * *
Дом офицеров был местом высокого досуга. Чаще всего крутили кино. Иногда приезжали какие‑то артисты из Союза. Случались из ряда вон выходящие художественные события. Однажды в дежурке дома офицеров зазвонил телефон. Требовали начальника дома майора Смолова. Взявший трубку старшина Андрющенко толково разъяснил, что майор подойти не может, он занят. Майор действительно был занят. В кинозале сидел генерал, Член Военного Совета армии, и смотрел кино. Поясняю. Член Военного Совета — это высшее партийно — политическое руководство армии или фронта, комиссар при командующем. Для наглядности: тов. Брежнев Леонид Ильич воевал в качестве Члена Военного Совета. Наш Член Военного Совета в этот момент смотрел кино не для собственного удовольствия, а по службе: он политически дегустировал фильм. Ему надлежало решить, следует показывать фильм личному составу или нет. Ясно, что начальник дома офицеров должен был быть при нем неотлучно. На другом конце провода, однако, не унимались. Смолова вскоре потребовали вторично, сказав, что дело государственное и не терпит отлагательств. Андрющенко на свой страх проник в кинозал, майор отпросился у генерала и подошел к телефону. Звонил администратор джаз — оркестра Эдди Рознера. Эдди Рознер! Великий польский трубач и джазмен, он был освобожден нашими войсками в Белостоке осенью тридцать девятого и немедленно стал звездой советской эстрады. Эдди Рознер — это не какая‑нибудь там захудалая труппа, это высший класс! Администратор в императивном тоне объявляет, что ансамбль в данный момент находится на вокзале и немедленно отправляется в Гроссборн. После концерта в Гроссборне они возвращаются в Щецинек — как раз к субботе — и в субботу и воскресенье дают концерты для штаба армии. Приготовьте все необходимое. К вам прибудет наш второй администратор и договорится о программе выступлений. Смолов возвращается в кинозал и докладывает генералу. Генерал разрешает действовать. Немедленно снимают афишу о предстоящих на уик — энде киносеансах и вывешивают другую — про джаз Эдди Рознера. Проявив оперативность, майор отправляется в политотдел и докладывает о содеянном начальнику отдела генералу Гросулову. Тут обнаруживается, что допущено серьезное нарушение. — Это что такое, — морщится генерал, — порядка не знают! По правилам, всякая труппа сначала обслуживает штаб армии, а затем уже, по путевкам политотдела армии, повторяю, по путевкам политотдела, отправляется в части. А эти, минуя политотдел, самовольно — в Гроссборн! Вернуть немедленно. Звонят в Гроссборн: к вам сейчас едет джаз Эдди Рознера, так вот, никаких концертов, вернуть немедленно в Щецинек. Звонят через час — хм, Эдди Рознер не прибыл. А расстояние- то — километров двадцать, ну — двадцать пять. На другое утро звонят — нету, отвечают. Идиоты. Не знают, что у них под носом делается. Два политотдельских офицера садятся в джип и мчатся в Гроссборн. Обыскали все — действительно нету! Эти данные служат мощным импульсом, политически — стратегическая мысль начальника политотдела начинает энергично работать: Эдди Рознер из Польши родом, польский еврей, он тут как дома, буржуазное сознание в нем еще сидит… Поехал халтурить к полякам! Так на свет появился приказ по 43–й армии. В экспозиционной части излагались обстоятельства дела: такой — сякой Эдди Рознер со своим оркестром, опозорив звание советского артиста, вместо того чтобы обслуживать наши доблестные части, отправился обогащаться и т. д. В приказывающей: в расположении какой бы части ни появился джаз Эдди Рознера, немедленно арестовать и под конвоем препроводить в штаб армии в г. Щецинек. И вся рассеянная по померанским равнинам армия начинает ловить беглый джаз. Тем временем политотдел должен доложить по инстанции о событии и принятых мерах. Гросулов посылает донесение в Политуправление СГВ — так, мол, и так, к нам от вас прибыл джаз Эдди Рознера, но, опозорив звание советского артиста, вместо того чтобы обслуживать наши доблестные части… Издан приказ, джаз будет задержан. Генерал Гросулов. В Лигнице встревожены: джаз Эдди Рознера их не посещал и, следовательно, они никуда его не посылали. Но доносит не кто‑нибудь, а политотдел 43–й армии, в достоверности информации сомневаться не приходится. Значит, они каким‑то образом проникли через границу и сейчас где‑то… Сообщение об этом позорном факте и о принятых оперативных мерах необходимо послать в Москву. Сделано. Джаз поймать так и не удалось. В эти дни в московских газетах, в отделе культурных объявлений, можно было прочесть: «Сад „Эрмитаж“. Сегодня и ежедневно — джаз — оркестр Эдди Рознера с новой программой». Но туда никто не заглядывал. Миновало время. Начался сложный процесс расформирования 43–й. В конце июля был устроен прощальный банкет политотдела — уже распущенного; кого демобилизовали, кто получил новые назначения. В разгар торжества к Гросулову подошел редактор Воробьев и спросил с подобающим почтением: — Товарищ генерал, помните, к нам приезжал джаз Эдди Рознера? Генерал мрачно подтвердил. — Так это мы с Лпсковским пьяные были, решили Смолова разыграть. Сначала хотели сказать, что приехал Хмелев с покойными артистами МХАТа и Большого, но потом решили, что хоть и дурак, а догадается. Генерал почему‑то остался серьезным. Знал бы неделю назад, сказал он, посадил бы обоих. В тот день у него власти уже не было.* * *
* * *
День Первого Мая был отмечен большим праздничным концертом. Я был занят только в первом отделении, зато плотно. Открывался концерт торжественно, иное и представить себе невозможно; оркестр и хор исполняют что‑нибудь торжественное, патриотическое и громогласное, я за пианино помогаю изо всех сил. Из‑за кулис, за спинами хора, на четвереньках, так, чтобы из зала не было видно, через всю сцену ползет солдат. Ансамбль полнозвучно ликует, солдат ползет. Он подползает к пианино, передает мне записку и отползает на место. Продолжая левой давать басы — это в нашем деле главное! — я правой разворачиваю бумажку. Депеша от Эдельсонов: «Боря, мы празднуем в офицерском ресторане. Приходи, когда освободишься. Если у тебя есть дама, приходи с дамой». Ну, конечно, приду, это моя компания. Дамы у меня нет. Но я знаю, что Ольга не имеет кавалера, она мне вчера говорила, что ее майор — адъютант тяжело болен, у него высокая температура. Поэтому перед уходом я говорю Ольге, что если у нее есть желание, пусть приходит, когда отпляшет, в офицерский ресторан, там Эдельсоны со своим народом. До ресторана было рукой подать, полквартала. Существует, я надеюсь, по сей день, отечественный обычай — опоздавшему наливают штрафную. Надо быть мужчиной. В те годы мужество этого типа давалось мне без труда. Потом уже — в общем ритме. Мы довольно долго веселились, Ольга не являлась, и мужчинам пришла в голову мысль отправиться за ней. Когда я с двумя заместителями прокурора ввалился в дом офицеров, народ уже расходился. Мы поднялись на второй этаж, Ольга бежала из душевой по коридору, дверь ее комнаты была распахнута. — Ольга, где же вы? — Тсс, майор тут… — Он же вчера умирал! — штрафная, видимо, сказывалась на силе голоса. — Черт с ним, приходите с майором! Спустя минут пятнадцать они пришли, подсели к чьему‑то столику… К часу ночи администрация ресторана грубо дала понять товарищам офицерам, что празднество кончается, пора освобождать помещение. Разделяя общее чувство незавершенности, Эдельсоны пригласили часть народа к себе. Ольга повернула было с майором налево, но затем, по неясным причинам, бросила майору «прощайте» и побежала вслед за нашей компанией направо вниз, к озеру. Пока добрались до Эдельсонов, энтузиазм частично выветрился, и в уютном их домике мы мирно выпили по бокалу вина, послушали какую‑то тихую музыку, полюбовались на спящую Татку —и разбрелись по домам. Катастрофа разразилась утром. Ольга позвонила мне и просила зайти, требовался срочный жизненный совет. Оказывается, рано утром к Ольге явился денщик майора, очень напуганный. Он сказал, что майор рвал и метал, никогда ничего подобного не было видано, вот тут написано. По своему обычаю, Ольга показала мне мятое письмо. «Раньше была ты, а теперь Вы! — беззвучно кричал майор. — Вы связались с людьми, которые влекут Вас в пропасть разврата (а я еще клеветал, что он книг не читает)! Я Вас больше знать не знаю! Прощайте навсегда!» И т. д. — Боря, что теперь делать? — спрашивала она у меня, тонкого психолога, знатока тайных механизмов человеческого поведения. — Ничего! — отвечал я с апломбом, неподдельным, между прочим; я верил в собственную правоту. — Ровным счетом ничего! Вы увидите, он сам к вам вернется. Приползет. Миновало недели три Ольгиного ничегонеделания — согласно моему указанию. И вот — она звонит мне и приглашает зайти. Захожу и вижу: вся ее комната усыпана цветами, повернуться негде! И еще какие‑то подарки! Майор приполз, да еще показал, что он усвоил мои уроки. Я был рад, что гармония восстановилась и Ольга снова могла опереться на сильное адъютантское плечо. Вскоре, однако, оказалось, что этого плеча явно недостаточно. Ольгины дела приобретали худой оборот. Пришло известие, что нашу 43–ю армию будут расформировывать. Для одних это было обещание скорой демобилизации. Другим сулились новые назначения. Артисты ансамбля будут возвращены в части. Володьку Рожнятовского заберут в большой ансамбль — в Лигниц. А Ольгу вернут в лагерь. Если бы ее тоже перевели в Лигниц, это была бы оттяжка. А там — кто знает, вдруг ветры переменятся, расформируют и эти чертовы лагеря, не могут же они существовать вечно, да еще на территории чужой страны, это ведь временные такие устройства… Ольга надеялась и хотела что — ни- будь предпринять. Она готова была платить тем, чем еще обладала. Как говорят французы, самая прекрасная девушка не может дать больше того, что она имеет. Но это ведь не так мало. Ольга извлекла из архива и показала мне письма, которые она получала от упомянутого выше Анатолия Васильевича С., начальника драматического театра при Рокоссовском. С. видел ее танцующей на каком‑то смотре армейской самодеятельности — и полюбил. Он писал ей длинные, красивые и страстные письма, где сквозь стилистические кружева явно просвечивало желание ею обладать. В момент принятия экзистенциальных решений Ольга была готова утолить его печали — лишь бы он помог ей реализовать ее план. Но как до него добраться? Кто пустит ее, бесправную, в Лигниц? Благодаря случайным обстоятельствам, я смог ей помочь. В последний раз.* * *
* * *
К концу весны наши интеллектуально — музыкальные вечера с генералом Щегловым более не повторялись. Приехали из Союза две пианистки — жена и дочь, и деликатный генерал больше не злоупотреблял моим временем. Но слово свое он сдержал: как только началось расформирование армии, меня вписали в первый же список офицеров, увольняемых в запас. Списки отправляли в Лигниц на утверждение, но на сей раз это была уже простая формальность. Я ждал со дня на день, когда прибудет нужная бумага и я, наконец, перестану коптить небо и займусь делом. Ответ что‑то задерживался. Офицеры, которые были рядом со мной в первом приказе, уже уехали. Разъезжался народ из позднейших приказов. Пустела прокуратура, где служили мои приятели. Капитан Быков умчался, в оставленной квартире было пианино, которое забрал к себе платонический любитель музыки Илюша Розмарин. Он даже разобрал его — и обнаружил внутри небольшую подзорную трубу. Дурея от безделья, мы взяли трубу и стали ее продавать какому‑то владельцу велосипедной мастерской: мы объясняли ему, что труба не имеет цены, поскольку подобрана нами в кабинете самого генерал — фельдмаршала Геринга, в его служебном кабинете в Берлине, но что делать, стесненные обстоятельства, мы вынуждены продать исторический предмет — по бросовой, конечно, цене, отдадим просто задаром, за 14–15 тысяч злотых… Поляк не смел сказать троим советским офицерам, что не он идиот, и ссылался на материальные трудности. В конце концов мы все‑таки продали трубу за 500 злотых владельцу галантерейной лавочки, на 400 злотых тут же поели мороженого в огрудке Адрия, а сотню оставили владельцу брошенного фортепиано. Забавы забавами, а время бежало, миновал июнь, июль в разгаре, скоро все разъедутся, а я останусь служить в пустом Щецинке. А там начнется учебный год в высших учебных заведениях. Наконец, я собираюсь с духом и иду в хорошо знакомый отдел кадров артиллерии. Жалуюсь начальнику, подполковнику, что происходит что‑то странное, мне уже давно пора получить увольнение, вон когда приказ был отправлен… Полковник велит своим лейтенантам — писарям проверить документы. Достают копию того самого первого приказа, водя пальцами по букве Б, ибо список устроен в алфавитном порядке. Странно, но меня в этом списке нет. Проверяем еще раз, вместе. Нету. Смотрим следующие списки. Нету. Нет нигде, ни в одном списке. Подполковник требует у лейтенанта объяснения. Лейтенант, порывшись в памяти, вспоминает, что первый приказ был поначалу не в алфавитном порядке, но смекалистый писарь разрезал его на лапшу и собрал затем в нужной последовательности. — Наверное, я лапшину Бернштейна где‑то потерял, — говорит он без тени раскаяния. — Так пишите меня сейчас же в очередной приказ. Тут на кадрового подполковника находит вдохновение. — Чего это тебя увольнять! Ты парень молодой, послужи еще… Я в бешенстве выбегаю из кадровой конторы, чтобы разыскать Щеглова. Надо же было, чтобы генерал в это время выходил из машины прямо у дверей штаба артиллерии. Он видит меня и довольно сурово спрашивает, почему это я еще здесь. Я в нескольких словах обрисовываю положение дел. И тут я в первый и в последний раз услышал, как Щеглов сказал по — матери. Интеллигент, музыкант, но все‑таки военная косточка. Дальше все разыгрывалось в быстром темпе, прямо на моих глазах. Генерал вызывает к себе кадрового подполковника. Через две минуты подполковник выходит из командного кабинета очень раскрасневшийся. Он бегом взлетает к себе на второй этаж и велит немедленно вписать меня в приказ. Кроме того, он готов дать мне командировку в Лигниц — с тем, чтобы я лично проследил за движением документов без ненужных задержек. Все — сейчас, вот, сию минуту, давай. Когда капитан Чемезов, Иван Иваныч, узнал, что я собираюсь в Лигниц, он изобрел какую‑то комбинацию, уж не знаю точно какую, но в результате в моем командировочном удостоверении появилось дополнение: направляется мл. техник — лейтенант Бернштейн, с ним один солдат. Я объясняю успех чемезовского начинания размягченностью, которая царила в отделе кадров после генеральского нагоняя. Потому что солдатом была Ольга Николавна Ракитяньска — Деплер. Мы приехали в Лигниц часов в 5 вечера. Рядом с вокзалом жила балерина из большого ансамбля, приятельница Ольги, мы оставили у нее свой незаметный багаж и отправились в кино, где показывали невероятную новинку — английский фильм «Балерина». Когда мы вышли из кинотеатра, шел мелкий дождичек. По аллее прогуливался мрачный мужчина в плаще с поднятым воротником. Он немедленно подошел, нас представили. Это был С. — и он оглядел меня с явным подозрением: а это кто такой? Чтобы отмести с порога неуместные гипотезы, я немедленно простился и удалился в офицерское общежитие — гостиницу, по 20 офицеров на каждую комнату. Наутро все отправились по своим интересам: я в кадры, а С. с Ольгой (или без нее) — в отдел, который ведал тонкими лагерными делами. Когда мы встретились днем, то выяснилось, что, во — первых, в приказе «на меня» перепутаны данные и придется снова запрашивать Щецинек, так как документы, которые у меня с собой, недостаточно доказательны, во — вторых, Ольгины дела приняли неожиданный оборот — майор из соответствующего отдела пригласил С. с нею на завтра к себе домой, чтобы приватно отобедать, в — третьих — С., убедившись, что я не опасен, любезно пригласил меня остановиться у него: зачем, мол, маяться в общежитии, когда у него прекрасная квартира, в кабинете для меня найдется отличный диван, ну, право же, Борис! И я перебрался к Анатолию Васильичу. Квартира у него была просторная, но двухкомнатная. Ну, там, с большим коридором, кухней, ванной. Первая комната была огромная, она была столовой, а обширный и уютный эркер служил кабинетом. Другая, нетрудно догадаться, была спальня. Там происходили странные вещи. Ольга, как видно из ранее изложенного, советовалась со мной по самым разным проблемам, даже очень деликатного свойства. Она сообщила мне, улучив минуту, что С. всю ночь уговаривал ее отдаться, но ничего не делал. Так она и сказала — Боря, но он ничего не делал! На этот раз я не мог дать бедной женщине никакого совета и оставил ее на произвол судьбы. Ночное поведение С. показывало, что он был законченный гуманитарий и потому преувеличивал действенность слова. Но вид законченного гуманитария имел для меня последствия совсем иного рода, никак не связанные с проблемой риторики в спальне. Помимо дел Ольги у него были и свои. Перед вечером он извинился, сказав, что ему надо заняться, и уселся за письменный стол. Перебрал какие‑то бумаги и стал что‑то писать. Теперь это называют моментом истины. Я никогда не понимал до конца, почему у истины бывают моменты, но мне кажется, что тут выражение приблизительно подходит. Я смотрел на человека, который, сидя за столом, размышлял и что‑то писал. И я увидел собственную судьбу. Да, я был техником — и не просто техником. Мне нравилась эта техника, мне нравилась техника вообще, а уж свое, зенитное, я знал и понимал отлично. Я и сейчас могу объяснить, как 4–метровый дальномер устроен и как он вычисляет расстояние до самолета. Другое дело, что кому он теперь нужен, этот оптический дальномер. Я мечтал поступить в Артиллерийскую академию, на инженерный факультет; когда служил в 33–м ОУДРОА под Москвой, то в свободные вечера занимался началами высшей математики по учебнику Лузина, а заодно и английским — заочно. Но вот я увидел театроведа за работой — и вдруг сразу понял, что не хочу больше иметь дела с техникой, не хочу быть инженером, что мое место тут, за письменным столом: хочу сидеть за столом, при настольной лампе, и писать нечто интеллигентное. Мысль была неопределенная, Отто Вайнингер когда‑то назвал такие бесформенные идеи генидами. Но генида была сильная. Судьба еще раз постучалась в дверь. На обед к лагерному майору был приглашен и я. Обед был отменный, видно было, что хлебосольного хозяина снабжали недурно. Я не участвовал в переговорах, а потому сосредоточился на фасадной стороне события, ел и пил. Выяснилось, однако, что майор ничего для Ольги сделать не может. Обед — да, а что другое — никак. Отдаваться кому‑либо не имело больше смысла, расстроенный и злой С. одолжил у меня пистолет и ранним утром проводил Ольгу на поезд. Я остался, поскольку твердо решил не уезжать, пока приказ на увольнение не будет готов. Когда все исправили и оставалось только формальное подписание, я вернулся в Щецинек. Мой поезд прибыл среди ночи, часа в три. Я приплелся к дому офицеров, достучался, дежурный солдат открыл мне двери и посмотрел на меня странно. Со сна, наверное. Отоспавшись, я отправился на второй этаж умыться. По коридору бежала Ольга. Увидев меня, она завопила нечеловеческим голосом: — БОРЯ!! ВЫ ЖИВЫ!!!! — Да, вот, живой. Можете потрогать. — Боже! — воскликнула она на выдохе. — Мы вас уже похоронили! Тут все знают, и наши, и поляки, что вас убили. Возле Быдгоща. Бандиты вытащили вас из поезда и замордовали… Убедив Ольгу, что все еще присутствую в этом мире, я отправился в офицерскую столовую завтракать. Я не снимался с довольствия, поскольку думал, что еду в Лигниц на денек, не больше. К тому же со мной расплатился за уроки генерал Пархоменко, в кармане звенели злотые, сколько мне там понадобится! Мое появление в столовой было сенсационным. Народ уже отзавтракал, но служба была на месте. Сбежались официантки, повара, весь людской состав, и окружили меня, восклицая согласно, как оперный хор: — Живой! Бернштейн живой! Он живой! Эффект был недурен, но хотелось есть. — Живой, живой, — говорю. — Даже есть хочет, дайте позавтракать. — А мы вас кормить не можем! — Это почему же? — Потому что вы сняты с довольствия как покойник. — Вы что, все тут с ума посходили? — Да так вот. Все знают, что вас убили. Мы спрашивали у Манохова из отдела кадров, он сказал, что да, нам об этом уже известно, будем вычеркивать из списков личного состава и посылать похоронную жене… Погиб героически при исполнении воинского долга. Я очень даже просто мог стать зеркальным поручиком Киже — человек есть, а по бумагам его нет. А из Лигница через несколько дней придет приказ уволить в запас уже несуществующего мл. техника — лейтенанта Бернштейна. Я успел вернуться в Щецинек в последнюю минуту. Лясковский клялся страшной клятвой, что новость о моей гибели они с Воробьевым сплавили только одному человеку, какой‑то учительнице из русской средней школы.* * *
Ну, вот и все. Остатки 43–й армии доживают последние дни. Ансамбль расформирован и его балетмейстер отправлен в то место, где ему положено быть. Бедная Ольга со своей бедной крошечкой, по каким лагерям ее мотали, где, в какой приполярной самодеятельности она танцевала? Кому отдавалась, чтобы выжить и сохранить свое дитя, — если девочку ей оставили? Выжила ли? Эдельсоны вернулись в Москву, Самуил уволился и стал адвокатом, защитил кандидатскую диссертацию. Ольга работала на кафедре истории СССР, была такая наука, в Педагогическом институте. Мы немного переписывались, я приходил к ним, когда бывал в Москве. Жизни пошли по разным колеям, но память о теплой дружбе сохранилась. Однажды, незадолго до нашего отъезда в Америку, Ольга с дочкой Татой, уже не малышкой, а зрелой матерью семейства, приезжала в Таллинн и приходила к нам. Не знаю, что сталось с театром при Рокоссовском, но С. тоже демобилизовался и вернулся в Ленинград одновременно со мной. Первое время он мне покровительствовал. Я бывал у него на Исаакиевской площади, в Институте театра и музыки, где он не только служил, но и жил — в небольшой квартирке с сумрачной и грозной супругой. Он водил меня по театрам, я смотрел генеральные репетиции. Позднее у меня появилась своя компания — и мы практически перестали встречаться. Между тем, в страшные времена на границе 40–х и 50–х годов, когда каждый был заранее виновен и головы летели с плеч, взбесившаяся фортуна вознесла его на должность Начальника Отдела Культуры Ленинградского Горисполкома — вознесла только затем, чтобы и он допустил грубые идеологические ошибки и впал в ничтожество. Спустя годы его имя промелькнуло в прессе — сообщалось, что он был редактором в издательстве Эрмитажа и снова допустил ошибки. Володя Лясковский вернулся в Москву и занялся литературой. Мы и с ним поначалу переписывались, он присылал мне длинные и смешные послания. Надо было пробиться, он решил сочинить пьесу. «Не надо сочинять сто пьес, как Шекспир, — писал он мне, — надо написать одну пьесу, но чтобы шла она в ста театрах». Кажется, такую стотеатровую пьесу ему создать не удалось. Постепенно наша переписка увяла, что там с ним было дальше, я не знал. Но однажды, где‑нибудь на переломе 50–х и 60–х годов, я наткнулся на его имя, перебирая в библиотечном каталоге карточки новых поступлений. Владимир Лясковский. Черноморцы под землей. Одесское областное издательство. Интересно. В те годы мы летом отдыхали на даче в Одессе. Как‑то, сидя у моих одесских друзей, я вспомнил о Лясковском, взял телефонную книгу, нашел! Прямо на Дерибасовской. Позвонил — он! Скорей на трамвай, с Канатной на Греческую площадь, быстро на Дерибасовскую — и вот я у Володьки! Да. Раздобрел, оплыл, роскошное обаяние куда‑то улетучилось. Мы посидели, поговорили, пошли пройтись по городу, встретили какого‑то коллегу — писателя, я заслушал беседу о положении дел в одесской писательской организации, какая тоска. Господи, и зачем я его нашел. Остался бы у меня в памяти один образ — того, молодого, пижона, остроумца, жуира и хулигана Володьки! А теперь — литературная мелочь, поденщик. — «Черноморцы под землей»! Боря, это же об одесситах на шахтах Донбасса, какой заголовок, а? Писатель, подрабатывающий «встречами с читателями» по санаториям и домам отдыха… Очень грустная история, очень. Почти гоголевская, с засасывающей «тиной мелочей». Ну, а Щецинек остался позади. Я уезжал без сожалений, полагая, что весь польский эпизод был навязанной мне интерлюдней, собственно жизнь сейчас должна начаться. Я возвращался к Фриде, в которую был влюблен со школьной скамьи, чтобы уже не расставаться. Предстояло выбрать профессию и учиться всерьез… Но в биографии не бывает нулевых мест, остается след. Цепким оказалось польское начало. Никогда больше судьба этой страны не была мне безразлична. Мне стала близка музыка польского языка. Я старался не забыть то, что уже знал, и добавить к этому новое знание — слушал польское радио, покупал газеты, выписывал популярный «Пшекруй». Знание польского оказалось бесценным для профессиональных занятий — в долгие темные времена, когда зарубежная специальная литература была недоступна, я пробавлялся польскими переводами, их скопилась у меня целая библиотека. Да и сама польская искусствоведческая и теоретическая мысль была часто смелей и свободней нашей. Завязались профессиональные знакомства и дружбы. А визиты в Польшу были для меня праздником. Бывал в Варшаве, Кракове, Познани, Быдгощи, Щецине, Закопане. Но ни в один из моих приездов не удалось добраться до провинциального Щецинка. Жаль, конечно. Оттуда все пошло.* * *
* * *
Ну, все, домой, домой. Простые сборы. В черном чемодане гимнастерка, шинель, немного белья и подарки: две тетрадки нот — клавиры обоих фортепианных концертов Брамса в чудесном издании — и тонкая, необычайного изящества заграничная «комбинация», так это тогда называлось, — для Фриды, да еще отдельный трофей — металлическая настольная лампа с длинной изогнутой шеей, таких у нас еще и не бывало. Эта лампа светила мне почти полвека, только вот совершить путешествие в Калифорнию ей не судьба была… Эшелон из пожилых теплушек отвозит сотни демобилизованных на восток, советская граница, пересадка не помню где — и я выбираюсь из поезда в Питере, на Московском вокзале. В этом месте следует сказать сакраментально стандартное — ну, вот я и дома. Домом должен был служить город, где я провел до того в сумме недели три. Крышей? Да, вопрос непростой. Конечно, я семейный человек, в Ленинграде живет моя жена, черт возьми, поэтому меня и уволили в Ленинград. Но жена живет в филиале женского общежития Ленинградской консерватории, прямо в здании самой консерватории на Театральной площади, под самой крышей, в чердачной комнате кроме нее еще пять девиц. Вот и весь дом, если не считать черного чемодана и настольной лампы, символа уюта и интеллектуальной сосредоточенности. Туда, в женское общежитие, я и направляюсь. Шесть студенток — две пианистки, одна органистка, две виолончелистки — и я. Странствия моих бумаг в кадровых лабиринтах Северной Группы Войск съели драгоценное время. Я ступил на ленинградский асфальт 19 августа. 20 августа — последний день приема заявлений в высшие учебные заведения. Решать надо немедленно — сегодня не успеть, послезавтра будет поздно. Я знаю только, что не хочу в техническое. Значит, в гуманитарное. Надо полагать, что в этот день в недрах ЦК партии было уже готово постановление «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», с которого начался — напоминаю для молодых людей — послевоенный идеологический террор. Постановление было опубликовано через неделю. Увлеченный борьбой за собственное высшее образование, я его в те дни и не заметил. Ничего, заметил чуть позже. Я ведь был уже дома.* * *
* * *
День, ну — два, за такое время надо было выбрать, куда пойти учиться. Оглядываясь сегодня на себя в то время, я испытываю нешуточную тревогу. Надо признать, что я не понимал, какого веса был выбор. Беззаботность молодости и легкость собственного характера делали свое дело — мы с Фридой и с ее друзьями, своих у меня, собственно, и не было, перебирали возможности, о которых не знали ничего или знали понаслышке, словно держали в руках меню и выбирали, что закажем сегодня на обед. А между тем, судьбу решали, контур жизни обводили, можно сказать. Консерватория отпадала — у меня не было законченного среднего специального образования, надо было бы поступать в музыкальное училище, степень собственной музыкальной одаренности я оценивал трезво… Нет, это была бы дальнейшая трата времени с сомнительными шансами на успех. Фрида тоже считала, что одного пианиста в семье достаточно. Где‑то в самом конце списка маячил Институт точной механики и оптики — он был близок к моей военной специальности. Но меня неудержимо влекла гуманистика. Шведское отделение в институте иностранных языков? Или испанское? Филологический факультет? О, гляди‑ка, на историческом факультете Университета есть отделение истории искусства. Да, конечно, искусства — музыка в первую очередь, а затем — театр, кинематограф… Как демобилизованный офицер я имел преимущества. Нельзя сказать, что законодатель был чрезмерно щедр, в других местах, как я узнал позднее, бывало и получше. Но меня условия устраивали. Согласно закону, если ты окончил среднее учебное заведение на все пятерки (тогда выдавали т. наз. золотой аттестат, позднее стали давать золотую медаль), сразу после этого был призван в армию и только что демобилизовался, тебя должны были принять в любое высшее учебное заведение без экзаменов, принять — и все, без разговоров. Я был в своем праве. Именно в этом качестве я отправился к проректору университета, ответственному за прием. Это была дама с неожиданной фамилией Окрокверцхова. Позже я понял, что фамилия была грузинская. Женщина — проректор объяснила мне, что на филологический факультет прием окончен, там все вакансии заполнены, с историческим факультетом дела обстоят не лучше, туда мы вас принять не можем. Но есть вакансии на биолого — почвенном факультете, туда мы вас можем взять. На биолого — почвенный я не хотел категорически. Я хотел на исторический. Окрокверцхова не хотела принимать меня на исторический. Биолого — почвенный — и баста. Я ушел ни с чем, но сдаваться не собирался. Мир на Окрокверцховой (просклоняем ее так) клином не сошелся, есть власть повыше. Как я есть, в парадной форме, отправляюсь к Уполномоченному Министерства Высшего образования по городу Ленинграду, ректору Текстильного института. Происходит вежливый и внимательный разговор Уполномоченного Министерства и демобилизованного военнослужащего. В результате Уполномоченный собственноручно пишет проректору по приему записку: «Тов. Окрокверхцхова. Прошу переговорить с тов. Бернштейном по вопросу о приеме. Подпись». Собственно, т. Окрокверхцхова уже переговорила со мной по вопросу о приеме, просить ее об этом смысла не было. Но есть небольшая надежда, что подпись Уполномоченного мне поможет. Я снова на приеме у проректора по приему. Результат все тот же: биолого — почвенный. Вечером в женском общежитии Консерватории собирается военный совет. Выясняется, что у Виссариона — Иси Слонима, педагога Фриды, есть друг, молодой и многообещающий физик, аспирант Юра Каган. (В скобках можно заметить — будущий член — корреспондент Академии наук.) Отец Юры заведует фотолабораторией Университета. С отцом Юры дружит декан исторического факультета профессор Мавродин — он то ли фотографией увлекается, то ли они вместе ездят на рыбалку, но что‑то их связывает. Итак, Ися попросит Юру поговорить с папой, который в свою очередь попросит Мавродина… На следующий день я узнаю, что завтра утром мне надлежит явиться на исторический факультет, к самому декану. Весь вечер и половину ночи я готовлюсь к беседе с ученым деканом, штудируя его монографию «Образование древнерусского государства». До сих пор помню первую строку этого труда: «Под звон мечей и пенье стрел выходила на историческую арену молодая Россия…» Больше ничего не помню, но если даже я усвоил в ту ночь еще что‑либо из довольно толстой, большого формата книги, этого было недостаточно, чтобы достойно выдержать предстоявшую мне встречу. Наутро, пройдя в первый раз по Менделеевской линии мимо клиники Отто к каре торговых рядов, где размещался истфак, я вовремя добрался до комнаты учебной части. Секретарь, высокая, худощавая и усталая женщина, объяснила мне, что следует сесть у двери в кабинет декана и ждать. Спустя полчаса мимо меня в кабинет прошел невысокий мужчина, скорее квадратного сложения, с одним плечом несколько впереди другого. Худая секретарь, поведя взором, дала мне понять, что это тот, кого я жду. Постучавшись, я вошел в кабинет и начал в ужасе мямлить: — Владимир Васильевич, эээ, бээ, мээ, вот, это, значит, товарищ Каган, эээ, моя фамилия Бернштейн… — А, — сказал Мавродин, приоткрыл дверь в секретарскую комнату и скомандовал: — Лидия Леонидовна, запишите, пожалуйста, товарища Бернштейна в приказ! Так декан поставил яйцо. Ну что, теперь я уже студент? Нет — нет. Приказ не может войти в силу, пока я не докажу документально, что я окончил школу с отличием в 1942 году и тогда же был призван в действующую армию, откуда уволен в августе 1946 года. Отличие у меня с собой, остальное — в военкомате. Там меня встречают сурово: почему до сих пор не оформили демобилизацию, товарищ младший — техник лейтенант запаса, а? С военкоматскими майорами разговаривать мне как‑то сподручней, чем с проректорами и деканами. — А потому, — говорю, — товарищ майор, что прием в ВУЗы бывает раз в год, а военкоматы работают постоянно. Оформлю, не беспокойтесь, в армии не останусь. Сейчас мне срочно нужна справка вот такого содержания. — Мы такую справку дать не можем. Вы не у нас призывались, просите справку в том военкомате. Хорошенькое дело. Меня призвали в городе Рубцовске, Алтайского края. Пока я оттуда выманю справку, учебный год начнется и кончится. — Постойте, — говорю, — но вот же мое личное дело, вот оно у вас на столе, там все написано. — Справку не даем. Обратитесь по месту призыва. Так. Необходимо что‑то срочно предпринять. — Хорошо, — говорю, — я понимаю, что вы мне не верите. Ну, а маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому вы верите? Майор вынужден признать, что маршалу Советского Союза он верит. — Так вот, — говорю, — смотрите, вот приказ о моем увольнении, вот тут написано — призван тогда‑то, уволен тогда‑то, а вот тут подпись: Командующий Северной Группой Войск Маршал Советского Союза Рокоссовский, вот, видите? — Вижу. Но справку дать не могу… В конце концов я этого майора доконал! Пошел он к машинисткам, напечатал на военкоматском бланке справку, подписал, поставил круглую печать и вручил мне чаемую бумагу. Усталый, но довольный я выхожу на залитый предосенним солнцем Загородный проспект, разворачиваю драгоценный листок. Там написано: Военный комиссариат Куйбышевского района г. Ленинграда. Справка. Дана младшему технику — лейтенанту запаса Бернштейну Б. М. в том, что он, по его словам, был призван в Советскую Армию тогда‑то и уволен в запас тогда‑то. Подпись. Печать. Дата. С этим замечательным по своей юридической силе документом я в третий раз являюсь пред темные очи проректора по приему, тов. Окрокверцховой. Повертев в руках бумагу, Окрокверцхова, на этот раз — совершенно обоснованно, спрашивает меня, что это, мол, за филькину грамоту я ей принес. Она, конечно, права. Но у меня своя правота. Я понимаю, что нахожусь у последнего рубежа: если я не совершу сейчас нечто превосходящее человеческие силы, но необходимое для спасения дела, то все погибло. Я собираю свою волю, вскакиваю со стула, ударяю изо всех сил кулаком по проректорскому столу и ору страшным голосом: — Окопались тут в тылу и бюрокрррратию развели!! Кррретинскими бумагами нас мучают!! (Внимание, не слишком входи в образ, только без мата, осторожно!) Под трррибунал таких надо! За что кррровь проливали!! …Дурак, мямля, раззява, воспитанный очень, подумаешь, цаца какая, да с этого надо было начать! Рвать тельняшку! Хрипеть до травмы связок! О биолого — почвенном и заикаться бы не стали! Ну, наконец‑то, лучше поздно, чем никогда. Все. Дело сделано. Окрокхверцхова сдалась. Я зачислен. (обратно)О Лунине. Взгляд из аудитории
В 1976 году в Москве, в издательстве «Советский художник» вышел сборник статей Николая Николаевича Пунина. Издание книги было сопряжено с большими трудностями. Само имя Пунина, непроизносимое в течение многих лет, все еще звучало для властей как вызов, как нарушение неписаных правил или — и того хуже — как осквернение партийнореалистических святынь. Самый что ни на есть гигиенический отбор работ для публикации не мог извинить появление этого имени на обложке солидного тома с тисненым изображением дуба — эмблемой серии, которая представляла классику советского искусствознания. О, Господи, что это теперь значит — «советское искусствознание»? Все разнообразие лиц, дарований, традиций, трудов, страстей, судеб, бед и мерзостей, покрываемых этим исторически сложившимся словесным блоком, еще предстоит классифицировать и упорядочить. Для 1976 года и для серии, получившей в цеховом фольклоре название «дубовой», к советскому искусствознанию относились все искусствоведы, работавшие в стране между 1917 и 1976 годами, не сбежавшие, а если сидевшие и погибшие, то реабилитированные. Границы «классики», естественно, были более гибкими и подвижными, поскольку они пролегали так или иначе — в зависимости от особенностей зрения демаркатора. Поэтому с Луниным были большие трудности. Но книга вышла. Не надо удивляться, что во вступительной статье, написанной В. Петровым, и в биографической справке, составленной дочерью Пунина Ириной Николаевной, последние годы его жизни не упомянуты, а место и обстоятельства его смерти никак не обозначены. Изящный эвфемизм «нарушения социалистической законности периода культа личности» был в ту пору уже нелюбим. Спустя десяток с небольшим лет, в 1988 году, к столетию со дня рождения Пунина, ленинградское отделение Союза Художников выпустило листовку, посвященную его памяти. Странно, но и там ничего не говорится о лагерном эпилоге. Наконец, настали времена, когда все можно. Я повторяю — все можно. И вот, на моем столе изрядный том: Н. Пунин. «Дневники. Письма». С подзаголовком: «Мир светел любовью». Правду сказать, я предпочел бы увидеть том (или два) неизданных, а также изданных давно и малодоступных трудов Николая Николаевича. Но это желание, видимо, обусловлено профессиональной ограниченностью, а для так называемого широкого читателя более срочно было узнать о личном. В книге — правда — есть прекрасные, интереснейшие страницы из дневников, размышления об искусстве, литературе, жизни, дневниковые отражения бесед с замечательными людьми. Есть документы о травле и лагере, пришел их черед. Но, пожалуй, главное там — о любви, об Ахматовой и Пунине прежде и больше всего, до последней подробности. В одной дневниковой записи Пунин сказал — разумеется, себе самому: «Разоблачать себя во всем, а главное скрыть». Конечно, эти слова — не указ потомкам и наследникам. Жаль. А в том 1988 году, в начале сентября, я позвонил одному лицу, до того мне не знакомому, и попросил разрешения приехать к нему и побеседовать, под магнитофонную запись, на занимавшую меня тему. Лембит Лююс (Lembit Luis) в сороковые годы был министром пищевой промышленности Эстонской ССР. Когда в 1949 году бдительному вождю страны стало ясно, как глубоко буржуазный национализм пустил свои корни в здоровую эстонскую почву, всю руководящую верхушку республики пришлось убрать. Министр, уличенный в национализме, был посажен в тюрьму. Дело, однако, оказалось много серьезнее, чем думали поначалу, и националиста потребовалось передать в руки более квалифицированных исследователей — в Москву. В аккуратном домике в зеленом пригороде Таллинна Пяяскюла, за письменным столом, на полированной поверхности которого нет ничего кроме телефона, моего магнитофона и рук рассказчика, сидит пожилой и не очень здоровый человек. Вопреки лагерной школе, которая доказала свою эффективность, он плохо говорит по — русски. Наша беседа идет на эстонском, но совсем без русского обойтись трудно, и язык Лембита Лююса коверкает простое, казалось бы, слово. «Меня привезли на Люблянку», — говорит он. Это орфоэпическое отклонение придает образу лубянского ада освежающий теплый оттенок. Виктор Шкловский называл такой прием остранением, но Лююс труды русских формалистов не читал, его речь проста и бесхитростна. — Меня привезли на Люблянку, а там обвинение изменили, от меня требовали признаться, что я не только националист, но еще и агент английской и эстонской разведок. Когда меня привели в камеру внутренней тюрьмы на Люблянке, там уже был какой‑то профессор из Ленинграда. Это был Пунин. Мы провели вместе недели три или две, наверное — две, я уже плохо помню. Потом Пунин остался, а меня перевели в Лефортово — для принятия крутых мер. — Слова, выделенные курсивом, Лююс произносит по — русски. В соответствии с законами эстонского языка крутые у него получают ударение на первом слоге, от этого свирепость лефортовских мер, кажется, еще возрастает, а замена Лубянки на Люблянку оказывается относительно осмысленной. — Пунин, — продолжал сокамерник, — пел мне эстонские песни. В детстве у него няней была эстонская девушка, он помнил ее песни, правильно пел и слова, и мелодию. У него была хорошая память. Он правильно пел, и мотив, и слова помнил. Пунин говорил то, что сейчас (напоминаю, сентябрь 1988–го) все говорят: он считал, что беда страны в отсутствии гласности. За это его и арестовали, это было его преступление. Да. Еще я помню другое обвинение. Он был однажды в компании друзей, Ахматова там тоже была, и он сказал, что хорошо бы изобрести такой фотоаппарат — направляешь на человека, нажимаешь кнопку — и нет человека. Еще он сказал, что знает, на кого бы надо навести такой аппарат. На него донесли, и следователь обвинял его в терроризме и в подготовке покушения на товарища Сталина. — Рассказывал ли Вам Пунин об Ахматовой? — Нет, не говорил. Я знаю только, что следователь на допросах требовал от него компромат на Ахматову. Но Пунин ничего им не сказал…[12] Бесхитростный, спиралеобразный, с повторениями, перебиваемый жалобами на давность и плохую память, рассказ Лембита Лююса я записал и вскоре привез кассету в Ленинград, дочери Николая Николаевича. Мы устроили сложную систему из двух магнитофонов и микрофона — с их помощью я попытался надиктовать синхронный перевод на фоне речи неверного министра. Получилось не очень внятно. Эстонская запись хранится у меня. Пунин ненадолго пережил модель своей воображаемой фотографии. Он умер 21 августа 1953 года в лагерной санчасти, недобрав двух месяцев до 65–летия.* * *
* * *
Я сумел заслужить его гнев в первые же дни студенчества. «Введение в историю искусства» читал профессор Иоффе, «Введение в изучение искусства» — профессор Пунин. Иеремия Исаевич Иоффе, основатель отделения и заведующий кафедрой, невысокий, с прекрасными мудрыми глазами, удивительным образом сохранил сильный еврейский акцент и интонационный строй речи. Он с суровой последовательностью выстраивал перед нами опорные конструкции марксистской теории искусства. Пунин преподносил нам, художественно незрячим, элементарные уроки профессионального видения: плоскость и пространство, линия и пятно, открытая и замкнутая форма… За ними незримо стояла тень Генриха Вёльфлина, идеального формалиста, чье имя страшно было вспоминать, — остроумцы называли его классический труд, «Основные понятия истории искусств», подстольной книгой каждого искусствоведа. Пунин проектировал на экран репродукции африканских масок и палеолитических венер, объявляя ужасную, непонятную и завораживающую истину: это, говорил он, тоже искусство, запомните… Освоившись с венерами, я не мог, однако, столь же легко смириться с незаконным ограничением предметной области в целом. Я стремился на искусствоведческое отделение в полной уверенности, что буду изучать все искусства, какие только есть на свете, а слышу я все о живописи, да о скульптуре, да об архитектуре… Наконец, после недели или полутора сомнений, я взял себя в руки и, улучив минуту, остановил Пунина в коридоре у дверей кафедры. — Николай Николаич, — сказал я — и это мне трудно далось, язык все поворачивался сказать «товарищ полковник!» или, на худой конец, «товарищ профессор!» — Николай Николаич, — сказал я, — а историю музыки, историю театра, историю литературы, историю кино мы будем изучать? Я тогда, разумеется, ничего не знал ни о реальном Пунине, ни о мифах, которые сопровождали его образ в сознании студенческих масс. Один из мифов был такой, что Пунин нас всех презирает, но дифференцированно: когда он принимает экзамены, то в зачетку ставит формально требуемые оценки, а в свой страшный блокнотик записывает гамбургский приговор: такой-то — болван, такой‑то — слепой, такой‑то — блефующий невежда… Уже позднее, ретроспективно, обогащенный знанием факультетской мифологии, я предположил, что Пунин, взглянув на этого молодого человека в кителе, галифе и стоптанных сапогах, должен был подумать — «вот еще один идиот пришел учиться сам не знает чему…» Николай Николаевич страдал легким тиком. При моем вопросе лицо его несколько вздрогнуло, глаз мигнул, он рявкнул: «Нет!» — и удалился в кафедральную комнату. Так я опозорил себя в глазах самого главного профессора, а заодно выяснил, какую специальность я себе выбрал. Профессия была совсем не для этого места и времени. Конечно, конечно, система была враждебна всякой мысли, всякому исследованию, биологам было не легче, а физики, говорят, случайно избежали очищающего идеологического огня, уж очень бомба была нужна. Однако гуманитарные дисциплины были под особым, тотальным надзором, и университетские факультеты были своего рода Гревской площадью, где неутомимо и показательно трудилась идеологическая гильотина. Схема профессиональной казни была простой, процедура — монотонной. В трудах (лекциях, высказываниях) ученого обнаруживались вопиющие и нестерпимые идеологические ошибки, которые следовало немедленно разоблачить. Я помню аспирантку нашей кафедры, с азартным свечением в глазах оповещавшую нас о предстоящих избиениях. В 35–й аудитории — амфитеатром, вмещавшей наибольшее количество зевак, сзывали всеобщее собрание, где особо стремительные аспиранты, оголтелые доносчики, тупые или изощренные блюстители учения и спасающие себя, пусть на время, ученые публично обличали отошедшего от марксизма — ленинизма учителя и коллегу. Он каялся, признавал ошибки, оправдывался, хотя саморазоблачения и самопоругания имели чисто ритуальный характер и не влияли на дальнейшую судьбу нарушителя. В лучшем случае он отделывался отлучением от серьезных курсов с сохранением так называемой «почасовой нагрузки» — какой‑нибудь там спецсеминар, руководство дипломниками, обычно же его изгоняли из университета совсем. Могли и посадить, но разоблачение ошибок и арест не были причинно связаны, посадить могли, как известно, за неосторожно рассказанный анекдот, за шутку об убийственном фотоаппарате или и вовсе ни за что — был бы донос и пара свидетелей для так называемого суда, очень просто[13]. Мартиролог исторического факультета должен быть составлен, если этого никто не сделал до сих пор. Скажу только, что я покидал в 1951 году совсем другой исторический факультет, нежели тот, который я застал в 1946–м. Ученых там почти не осталось. Пунин был среди самых уязвимых. В сорок седьмом страна с большим патриотическим подъемом отмечала тридцатилетие Октябрьского переворота. В залах Союза художников была, как говорится, развернута большая юбилейная выставка. Мы, несколько студентов второго и третьего курса, решили устроить обсуждение выставки прямо в зале Союза, и не просто обсуждение — это было бы банально, — но научную, непременно научную конференцию. (Ко второму — третьему курсу у человека появляется прекрасная иллюзия, будто он уже все знает. Позднее она проходит, но не у всех.) Обдумали план, распределили темы, сформировали концептуальные костяки докладов, написали тезисы. Переведя дух в этом месте, мы подумали, что тезисы надо бы показать профессорам. Первым, конечно, был Пунин. Всей гурьбой докладчики вторглись в кафедральную комнату и окружили H. Н. — Я ваши тезисы читать не буду, — сказал он и дрогнул щекой, — Нельзя. Во — первых, в Союзе художников скажут, что Пунин из‑за кулис дирижирует. Вам же будет хуже. И потом: я эти выставки не смотрю. Теряешь камертон в глазу. Дисквалифицируешься. Идите. И мы ушли[14]. Пунин, конечно, слегка кокетничал. Смотрел он выставки; страдал, корчился, но смотрел. Я однажды застал его за таким занятием. Выставка живописи Юрия Пименова и некоего Одинцова в залах Союза художников на улице Герцена была идеально безлюдна. Заглянув в главный неф, я увидел Пунина, который присматривался к картине Пименова (землистая живопись Одинцова была для него, видимо, вовсе невыносима). То сняв очки и утыкаясь в картину носом, то одевая и чуть отстранясь, он разговаривал сам с собой в безлюдном зале. «График, — воскликнул он с чуть удивленной интонацией. — График по натуре…» Я незаметно исчез. В Союзе Художников Пунин был вне закона, исключен, запрещен; он был прав, когда раздраженно прогнал нас — для нашей же безопасности. Председателем ленинградского Союза в те времена был известный мастер историко — революционного жанра Владимир Серов, впоследствии председатель Союза художников РСФСР и президент Академии художеств СССР. Я не готов обличать людей, которые были столько же агентами, сколько продуктами и жертвами системы, одно переходило в другое незаметно для самого персонажа и не всегда заметно для окружающих; оставим прокурорскую работу тем, кто еелюбит. Но есть случаи, когда выхода нет, надо называть вещи своими именами. Не хотелось бы, чтобы эти строки попались на глаза детям Владимира Александровича, как ни мала вероятность такой встречи. Но не могу не сказать, что Владимир Серов был непревзойденным партийно — художественным душителем. Да, душителем, подхалимом, вельможей и гонителем, сломавшим многие судьбы — творческие и человеческие, и делавшим все, что было в его силах и власти — а было достаточно, — чтобы подавлять живое дыхание в искусстве огромной страны. Сталинское время было для него, вероятно, счастливым. Но и туманная осень хрущевской эпохи была недурна: посещение Манежа и последовавшие затем воспитательные мероприятия Никиты Сергеевича, обеды и дачные встречи с «творческой интеллигенцией» подарили Серову второе дыхание. Стоит пересмотреть хроникальные киноленты того периода: неизменно рядом, справа или слева, опережая всех других, успевая занять опорное место по направлению взгляда вождя, маневрирует невысокого роста, полный, холеный, с короткими ручками человек сверхприродной подвижности; Владимир Александрович один буквально окружал, нет — окутывал как облако, Никиту Сергеевича. Защита социалистического искусства с его принципами партийности и народности требовала большой затраты энергии и изощренного искусства. Но я о Лунине. Серов был яростным гонителем Пунина, он отлучил его от Союза. Повод найти было нетрудно: Николай Николаевич еще в 1946 году сделал доклад, который назывался, если я правильно помню, «Импрессионизм и картина». Одного слова «импрессионизм» было более чем достаточно. Это упадочное течение буржуазного искусства периода перерастания капитализма в последнюю, империалистическую стадию, как было вскоре научно вскрыто, оказалось квазихудожественным эквивалентом философии субъективного идеализма и, даже страшно произнести, солипсизма; недаром залы импрессионистов в Эрмитаже пришлось закрыть — другого способа пресечь тлетворное влияние империалистической живописи просто не существовало, не расстреливать же всех, кто поднимался на третий этаж музея, среди них могли быть и вовсе невинные трудящиеся. Пунин все еще был профессором в Университете и в Институте имени Репина, это не давало покоя Серову. И не только ему. Николаю Николаевичу досталась полная доза идеологических проработок. Я помню, как он униженно доказывал, что он вовсе не безродный космополит и не низкопоклонник — вот какое слово! — перед Западом. (Вы помните, господа, что у народа у языкотворца были замечательные забулдыги — подмастерья? Это они подарили нам алмазные россыпи партийного словаря.) Известно, что «космополит» было конвенциональное обозначения еврея, но и русские люди, если надо, разбавляли наши серые ряды — в соответствии со священными заповедями пролетарского интернационализма. — Я начинал свою жизнь искусствоведа с изучения древнерусского искусства, — жалко оправдывался Пунин перед научно — партийными борзыми и жадной до зрелищ факультетской толпой. — И диссертация, над которой я сейчас работаю, посвящена великому русскому художнику Александру Иванову… Работа об Иванове так и не была завершена. Более или менее законченные части увидели свет в сборнике 1977 года. И начало карьеры Пунина, действительно, было связано с древнерусским искусством. Его первым академическим учителем был Дмитрий Власьевич Айналов, выдающийся знаток византийского искусства и русского средневековья. В редких неформальных разговорах Николай Николаевич вспоминал свою профессиональную молодость. Школа звала к русской старине, которой он и сам был искренне увлечен, но не менее сильной была тяга к драматическим и судьбоносным художественным событиям, происходившим на глазах, здесь и сейчас. Айналов считал, что предмет научного искусствознания заканчивается на Ренессансе, откуда начинается современное искусство с его беззаконием и произволом. Однажды он пригласил к себе Пунина и сказал ему, что быть одновременно критиком и ученым никак невозможно, пора сделать выбор. Пунин выбрал. Он расстался с Айналовым. Судьба, однако, описала дугу: Пунин, некогда постоянный критик журнала «Аполлон», позднее идеолог левых, громивший реалистов со страниц газеты «Искусство коммуны», ужасавшей либерального Луначарского, Пунин, который не без презрения бросал нам: «Вы тут шумите — Маяковский, Маяковский… Я с Маяковским в карты играл!»[15] — этот Пунин в последней своей работе прозревал и обнажал скрытые контуры древнерусской живописной традиции у самого гениального и самого странного русского художника нового времени.* * *
Культ Пунина. Это нечто иное, нежели стертая до полной прозрачности словесная фигура, хотя и не вполне точное описание нашего отношения. Культ Пунина был частью, «подкультом» Искусства, ну, скажем, наподобие почитания Моисея в иудаизме. В наших глазах Пунин был пророком, посвященным, жрецом Искусства — не по должности, не по многознанию, а по дарованному ему откровению и благодати. Он был там, в сакральном пространстве, куда нам, смотри — не смотри, учи — не учи, читай — не читай, входа нет, хорошо уже то, что мы можем слышать его речи — оттуда. Мы слушали эти речи, где бы он их ни произносил, кому бы ни предназначался курс, была ли это лекция, семинар или что другое, внеакадемическое — мы бежали на звук пунинского голоса. И правильно делали — голос пресекся на полуфразе. Первокурсникам он настраивал зрение: пусть не камертон в глазу, но хоть первичные резонаторы. После пояснений и комментариев он проектировал на экран очередной диапозитив и требовал ответа на простые вопросы. Мы обычно тыкались куда попало, как правило — мимо смысла, терялись в частностях. «Смотрите на целое, — сердился Николай Николаевич, — на целое смотрите!» Поправлял выкрикнувших и ставил новый диапозитив. «Святой Себастьян!» — быстро орала первая ученица, демонстрируя эрудицию и умение пренебрегать деталями: на экране была полнотелая Андромеда Рубенса. Пунин имел в виду другое — ему нужно было ощущение стиля и способность читать пластику. Литературные интерпретации и «настроения» он не терпел. Все это были, по его слову, «анэстетические суждения», вносимые в картину извне, а не извлекаемые из нее самой[16]. Вот на экране «Положение во гроб» Рафаэля, а вопрос, заданный профессором, снова озадачивает всех нас: какова, по — вашему, идея картины, спрашивает Пунин. Насчет идей, идейности, идеологии и прочих вещей, входящих в «план содержания», мы уже хорошо наслышаны, и хотя сюжет замысловат, в предположениях нет недостатка. Все они отвергнуты. Пунин говорит о пластически выраженном: я полагаю, говорит он, что идея этой картины есть идея несения. Признаться, мне, вспоенному перекипяченным, процеженным и разбавленным марксистским молочком, потребовалось немалое время, чтобы понять это замечание учителя. А тогда… Ну, что же, непонятное и сакральное — близкой природы, камлание шамана сообщает нам тут, что он, там, беседует с духами. После окончания первого курса, весною, мы решили сделать Николаю Николаевичу подарок. Это, разумеется, должно было быть нечто художественное. В послевоенном 47–м году комиссионные магазины все еще ломились от коллекционных вещей, главное было не ошибиться: подарок покупали самому Лунину. Мнения разделились: одни полагали профессора модернистом и формалистом и требовали чего‑нибудь «левого», другие, не желая рисковать, настаивали на классическом. Модернисты победили. В магазине на Невском, то ли на углу Садовой, то ли у Екатерининского канала, была приобретена стилизованная женская фигура, ростом она была не менее полуметра, из камня, ее плавно текущие полированные поверхности указывали на времена перехода от увядшего югенда к набирающему силы ар деко. Впрочем, я ее помню смутно. Может, это была Богородица? Зато прекрасно помню, что выбор показался мне катастрофическим. Я предвидел, как Николай Николаевич примет эту безвкусную бандуру и как в душе, если не вслух, будет хохотать над безглазыми первокурсниками. Будучи среди уполномоченных, я решительно отказался идти вручать — чтобы избежать позора. Если бы я знал, что упустил единственный случай посетить легендарную квартиру в Фонтанном доме! Был робок и не осведомлен. На вечере памяти Пунина в 1989 году в Москве Ирина Николаевна, говоря об особой любви студентов к отцу, вспомнила, как однажды (только однажды!) ему даже преподнесли в дар небольшую скульптуру — и он этому безмерно радовался… Подарок был благодарностью за то, что мы услышали, а еще более — за то, что нам предстояло получить. Мне до сих пор легко вызвать в памяти образ пунинской лекции или семинара. Семинар по анализу картин Пунин вел вместе со своей ученицей и новой — после Анны Ахматовой — возлюбленной, Мартой Голубевой. Иногда студенты — участники семинара — представляли на обсуждение свои сочинения: хорошо помню необычайного изящества доклад Саши Немилова об эрмитажной картине Ватто «Затруднительное предложение». Но самым завораживающим был диалог ведущих. Вводной репликой «А не думаете ли вы, Николай Николаич, что…» Голубева открывала очередное представление интеллектуальной commedia dell’arte на двоих — и начинал литься поток импровизаций по заранее прочерченному руслу сюжета. Конечно, импровизационная форма и артистизм придавали лекциям Пунина особый блеск. Аудитория бывала переполнена. На столах, у которых жались четыре — пять студентов, стояли лампы, забранные цилиндрическими колпаками из черной бумаги — чтобы обеспечить темноту для репродукций на экране. Сначала зажигали общий свет. Николай Николаевич, подняв очки на лоб и уткнувшись в потрепанную тетрадку, занудно озвучивал нам, что Рембрандт родился в 1606 году, а умер в 1669–м, что его учителем в Лейдене был…, а в Амстердаме… и т. д. Наконец, с биографическими делами покончено, тетрадка (мне казалось — с отвращением) брошена на стол, очки вернулись на переносицу, верхний свет погашен. Вот тогда, в теплой полутьме, начинался магический спектакль, творимый на наших глазах. Краски платья Эсфири в московской картине, снятой на тоновой диапозитив, начинали сверкать, «как раздавленные драгоценные камни», открывалась качающаяся композиционная структура эрмитажного «Падения Амана» (теперь атрибутируется как «Давид и Урия»), бургомистр Ян Сикс, задумавшись, машинально натягивал перчатку, оставаясь мысленно еще там, на воображенном Пуниным обсуждении в амстердамской ратуше… Пунинское слово, опрокинутое на чернобелый экранный образ, воскрешало его, как живая вода. Конечно, конечно, не только идеи, но и многие риторические ходы были заготовлены впрок, импровизации накладывались на хорошо продуманные структуры курса; «раздавленные драгоценные камни» я как‑то встретил в написанной Пуниным главе «Истории западноевропейского искусства» (вышедшей под его редакцией). Тем не менее впечатление, будто он творил лекцию на наших глазах, верно: ее трепетные, но прочно сконструированные формы выстраивались и являлись здесь и сейчас. После ареста Пунина его курс продолжал вести другой коллега; однажды перед лекцией кто‑то из студентов, зайдя на кафедру, подслушал, как новый преподаватель, подбирая диапозитивы, сказал себе — «ну, это я обскажу». Однако самотекущее профессиональное «обсказывание», сдобренное наспех подогретыми эмоциями, было пусто. Когда я начинал свою преподавательскую карьеру, я не мог не поддаться искушению «сделать, как Пунин». Признаюсь, чего уж там, мне приходило в голову воспроизвести пунинскую лекцию или хотя бы анализ — вот так, как двоечнику, выдать за свое: Николай Николаич, дай списать… Николай Николаич не давал. Память была свежа, казалось бы, чего легче репродуцировать врезавшийся в душу образ, сыграть разбор — ну хоть того же Сикса! Нет, ничего не могло получиться, не давалась лекция, не повторить было ни порядок слов, ни порядок предложений, ни ход мысли, да их и не было в памяти: остался только образ лекции, гештальт, слитый с собственным переживанием, уникальный внутренний отпечаток. Высокий артистизм учителя, наверное, проявлялся и в том, что он не был учителем. Он не обучал нас, он был перед нами, готовый, непроницаемый, статуарно законченный, один на один со своим искусством, и сам — произведение; жрец и идол одновременно. — Смотри, Боря, Николай Николаевичу уже 60 лет, а какая стройная фигура, — говорит мне Валя Тимежникова, лаборантка нашей кафедры. Я смотрю ему вслед — и впрямь, как это я не замечал? Прямую стать, прямой угол пунинского плеча, да еще один, малый, снобистский прямой угол щеки у округлого подбородка можно увидеть на абстрагированном портрете Пунина работы Η. Ф. Лапшина[17]. Я впервые рассматривал репродукцию этого портрета в студенческие времена и сразу поразился сходству. Лишь много позднее я сообразил, что он написан очень давно, году в двадцать втором, не позднее, а куда больше похож на шестидесятилетнего Пунина, каким мы его знали, чем на фотографии двадцатых годов, — словно бы в геометрии плоскостей схвачен инвариант, постоянное в подвижном, или, лучше сказать, конечный, заранее трудно предсказуемый предел, к которому стремится живая форма. 1998/2001 (обратно)Танго «Дружба»
Любые мемуары начинаются с себя. Тем и кончаются. Где‑то на переходе от февраля к марту 1951 года меня разыскали люди из университетского клуба и сказали, что близится Женский День и надо устроить праздничный концерт для сотрудников Публичной библиотеки. Они у нас заслужили. Планируется большой праздник муз в здании на Фонтанке: одно отделение — артисты ленинградских академических театров, другое — мы, университетская самодеятельность. В университетской самодеятельности блистали незаурядные люди. Студент философского факультета Игорь Горбачев, впоследствии Народный артист и прочее, играл Хлестакова так, что весь город сбегался смотреть; на мой взгляд, это была лучшая его роль, да я лучшего Хлестакова и не видел никогда. Харитонова позднее забрали в кино. В драматической группе выступал еще один замечательный человек, студент истфака; несмотря на неважную дикцию, он бредил сценой и не обращал, кажется, особого внимания на свои достижения в других сферах; звали его Виктор Корчной. Красиво пели сопрано Катя Шарапова и Верочка Александрова, Верочка потом окончила Консерваторию. Все это говорится к тому, что мы могли потягаться с артистами академических театров и что я был не последним лицом в университетской службе Аполлона. Я играл на фортепиано. Седьмого марта в час назначенный, за кулисами большого зала в доме на Фонтанке, собрались артисты театров и университетские творческие силы. Вот там, бродя в традиционно пыльном полумраке закулисного пространства, я наткнулся на Бениаминова. — Здравствуйте, — радостно и искательно сказал я. Мы познакомились с ним минувшим летом, в июле или даже в августе. Конечно, в Одессе. Мы — это я, тогда — студент, посвятивший себя изучению истории искусства, и мои друзья и коллеги, студенты того же направления, изучавшие предмет либо в Университете же, либо в конкурирующем учебном заведении — Институте им. И. Е. Репина Академии художеств СССР (Университет тоже был имени — А. А. Жданова, Государственный и Ордена Ленина, если кто сомневается). Репинские приехали в Одессу на практику, которую, кажется, им следовало проделать в Кишиневе, но в Одессе им больше нравилось. Университетские отдыхали просто так, без академического прикрытия. В День Встречи с Бениаминовым мы практиковались на небольшом, зажатом между скал, но хорошо населенном пляже двенадцатой станции Большого Фонтана. Солнце сияло, море, известное дело, смеялось; на берегу царило рутинное пляжное оживление. Мы лежали ближе к углу, если стать лицом к морю, то слева. Неподалеку от нас, чуть правее, более чем наполовину в воде, стоял большой плоский камень, мягко устланный водорослями. Это был общественный камень: с него прыгали в море все, кто не хотел входить в воду постепенно. Мы увидели любимого актера в ту минуту, когда он направлялся к камню. Обойдя его слева, Бениаминов несколько вошел в воду — ну, так, чуть выше щиколотки (я не литератор и потому не засоряю рассказ «выразительными деталями», но говорю только о самом необходимом). В следующее мгновение стало ясно, что Бениаминов здесь впервые. Зайдя за камень и полагая, подобно африканскому страусу, что его никто не видит, он стал менять трусы. У великих артистов бывают свои причуды: Бениаминов купался в одних трусах, а загорал — в других. Боялся радикулита, наверное. Словом, он начал стаскивать трусы на наших глазах. Это было не самое скверное, наши глаза видели его сквозь золотистую пелену поклонения. Но вот, когда трусы были спущены ниже колен, на всеобщий камень взошла очень толстая одесская женщина. То есть, в качестве собственно одесской дамы она не была толстой, она была нормальной, это мы были недопустимо тощие. Меня всегда попрекали в Одессе моей худобой, а вид моей жены добавлял к эстетическим попрекам моральное осуждение, так как ее фигура лучше всяких слов свидетельствовала, как плохо я ее содержу. Дама увидела Бениаминова и окаменела, устремив взгляд в одну точку. Запомните: в 1951 году в советской стране вид полностью обнаженного человеческого тела был удивительней полка инопланетян из тарелки. Бесстыдные творения доктора Фрейда были навечно заключены в спецхраны, фотографии совсем или почти раздетых женщин считались порнографией, за которую советский суд давал срока, о геях или гейшах и говорить не приходится. Словом, на пляже 12–й станции творилось нечто экстраординарное и даже в некотором смысле противоправное. Но актер есть актер. Под взглядом зрителя, хоть бы и единственного, Бениаминов почувствовал себя на сцене. Он сделал знаменитое бениаминовское лицо — круглые глаза, губы бантиком, — и вытянул вперед и вверх руку в запрещающем жесте, открытой ладонью к даме. Женщина, не сгибаясь, как статуя, пала в море. Мы вскочили со своих подстилок и бросились к месту события. Мы наперебой закричали, что мы ленинградцы, что мы знаем и любим Бениаминова, что мы не в силах видеть его муки, что вот эта дощатая руина на возвышении и есть переодевалка, вот же она! И благодарный Бениаминов, искупавшись, примкнул к нашей небольшой и элегантной компании. Мы провели восхитительный пляжный день, болтая о разном. Бениаминов щедро рассказывал старые анекдоты. Это был сверкающий спектакль из минутных скетчей, мы от души веселились, море смеялось еще ослепительнее. Незадолго перед расставанием Бениаминов сказал: «Ребята (так он нам сказал), у меня к вам есть просьба, не могли бы вы мне помочь? Я, видите ли…» — и далее следовала просьба, вполне жизненная, но имевшая в тогдашних условиях дискретный характер. Вот почему, в отличие от многих людей, неспособных хранить секреты как живых, так и — тем более! — ушедших знакомых, я даже под пыткой ничего не скажу о ее содержании. Была такая себе просьба. Увы, мы не смогли ему помочь — и более его не видели. Там, в Одессе. И вот мы снова встретились. «Здравствуйте!» — сказал я. Напоминать об одесском пляже я счел неуместным. Вспомнил ли он меня сразу? Этого мы никогда не узнаем. «Здравствуйте, — сказал Беньяминов. — Слушайте, кто тут у вас играет на рояле?» — «Я», — сказал я. «Танго „Дружба“ можете сыграть?» — «Могу». Все‑таки я был украшением университетской самодеятельности. «Будете мне аккомпанировать. Все остальное — на сцене». Академические театры выступали прежде нас. Наверное, у кого‑то из них была в тот вечер не одна халтура. Приближался наш с Бениаминовым выход. Мы подошли к Тане, нашей ведущей или, как тогда называлось, конферансье. И вот тут… Я в тот год — последний студенческий год — сочинял дипломную работу и целые дни проводил в Публичной библиотеке. Порядок был такой, что в читальные залы «для научной работы» — на углу Невского и Садовой, вход напротив памятника Екатерине Великой — пускали людей с высшим и более образованием, студенты и прочие должны были тесниться, ждать в очередях и еще всячески переживать свою читательскую неполноценность в филиале на Фонтанке. Но можно было избежать унижения. Наш друг, молодой и талантливый пианист, уже преподаватель Консерватории, ассистент профессора Калантаровой, обладал высшим образованием и вожделенным читательским билетом, который я и получил взаймы. Уж не помню, как там было с фотографией, но я проводил долгие дни в «научном зале» в качестве Виссариона Исааковича Слонима. Вернее, он был Исер Исаакович, но суровые и возвышенные реалии советской действительности сделали его Виссарионом. Сегодня не каждый ощущает в этом имени присутствие сакрального начала. Но люди великой эпохи обладали иной чувствительностью. Они знали, что священное место, слово или образ таят в себе непостижимую притягательность и непредсказуемую угрозу. Тут следовало двигаться с предельной осторожностью, каждую минуту можно было нарушить неведомый или забытый запрет, пропустить нужное звено в ритуале — и все погибло. Сакральное имя создавало вокруг себя поле напряжения, которое не всякому дано было выдержать, его близость временами становилась непереносимой. Фортепианная кафедра была заряжена. Это прекрасное и страшное «виссарионисаакович» требовало тщательного произнесения, максимальной сосредоточенности, наконец, особой исполнительской техники, ибо внутренние усилия следовало скрыть за видимой непринужденностью и кажущимся автоматизмом. Имя Исера, переведенное на новояз, надо было огласить так, словно это, ну, совершенно ничего особенного, просто себе имя — отчество, как Петр Иванович. Достаточно было минутной слабости или, напротив, напряжения, превышающего человеческие пределы, чтобы произошло невозможное, несказуемо кошмарное, то, чего все смертельно боятся и чего ждут с мучительным нетерпением. Так и случилось. Однажды на заседании кафедры Виссарион Исаакович сделал замечание. Коллега, выступивший вслед за ним, не вынес. Он начал: «Как верно отметил сейчас Иосиф Виссарионович…» Все замолчали. В «Словаре театра» Патрис Пави различает несколько типов сценической паузы. Один из них — «метафизическое молчание»… На этот раз, однако, сверхнатуральные силы отвлеклись на что‑то еще более неотложное. Слонима вскоре выгнали из Консерватории, но не за оригинальное имя — отчество, а просто за еврейство. Сейчас он профессор в Иерусалиме. Постоянный посетитель научного зала, беспрерывно морочивший голову библиографам и девицам на выдаче (не на выданье, а на выдаче — это те, которые книги выдают, юноша!), я был известен тут всем и каждому, как — внимание! ап! — Виссарион Исаакович Слоним. Но были в Публичной библиотеке люди, которые знали меня под менее опасным именем Бориса Моисеевича Бернштейна. Весь предыдущий год — ну, не весь, не буду врать, но большую его часть — я провел в Отделе рукописей Публички, в том же доме, но в первом этаже, под Научными залами. Теперь, после недавнего опыта хищения нескольких очень дорогих манускриптов, о существовании Отдела рукописей и об уникальности его сокровищ знают многие. Грабили его и раньше. После революции молодая и полная сил власть продала оттуда некоторые наиболее ценные единицы хранения. Теперь за несколько пустяков условной стоимостью в пару миллионов некто Якубовский томится в Крестах, и неизвестно, когда это кончится, а в те времена вещи подороже продали желтому дьяволу безнаказанно. Впрочем, после революционных распродаж кое‑что, как видим, осталось, и я, мечтавший стать специалистом по искусству Средних веков, изучал там миниатюры французских рукописных книг XII‑XV веков, с тем чтобы написать о них курсовую работу, а потом и диплом, а потом — кто знает… Выдающийся американский искусствовед, известный всему миру, только что, увы, умерший в возрасте 91 года Мейер Шапиро тоже начинал с искусства Средних веков: его прославили исследования романской скульптуры, кстати — тоже французской, XII века — в Муассаке. Шапиро оплакала вся интеллектуальная Америка; газета «Нью — Йорк Таймс», подтверждая американскую бездуховность, так хорошо описанную Ст. Куняевым и другими отечественными духовидцами, поместила статью, посвященную его памяти, на первой полосе. Но мой выбор совершался в другом, иначе одухотворенном контексте. Вскоре выяснилось, что мое желание ошибочно и идеологически порочно. Во — первых, это неприкрытое низкопоклонство перед Западом. Во — вторых, это было бегство от современности, от актуальных научных проблем развития советской культуры, национальной по форме и социалистической по содержанию. Наконец, так называемые миниатюры украшали рукописные якобы книги по преимуществу религиозного «содержания» — библии, псалтыри, часословы и т. п.; да что там — даже в бестиарии и исторические хроники темные средневековые авторы, тем более — иностранные, ухитрялись включать поповские бредни о птице феникс или о сотворении мира. Словом, тема никуда не годилась. Мною занялись вплотную. «Борис, — увещевал меня мой научный руководитель, — зачем вы отрезаете себе путь в аспирантуру?» Это был, конечно, обманный прием. Валентин Яковлевич Бродский знал лучше меня, что «путь в аспирантуру мне отрезали на девятый день после рождения». Правда, неприличная и затертая эта острота в моем случае не отвечала реальному положению дел: мои родители были религиозно индифферентны и никак не нарушили телесную целостность и органическую полноту младенца. Но в том, что мой путь в аспирантуру был обрезан, так сказать, идеально, никто не сомневался. Просто дипломное сочинение о средневековой французской миниатюре обернулось бы безобразным идейно — политическим скандалом. Вся кафедра принялась меня массировать. Диплом мне пришлось писать уже о русском искусстве. Так я перебрался с первого этажа Публички на второй и превратился из Бернштейна в Слонима. Но незабвенный Николай Николаевич Розанов, хранитель рукописных древностей, равно как и его коллеги, прекрасно помнили меня под моей, так сказать, девичьей фамилией! Все это, исключая, конечно, Шапиро, Куняева и Якубовского, промелькнуло в моей бедной голове со скоростью мысли в тот момент, когда Таня — конферансье задала роковой вопрос: «Боря, как тебя объявить?» — Никак, — сказал я. (Боже, какой я находчивый!) — Я не из академических театров. Я просто тень. — (Но впереди сольный номер. Я должен буду остаться один на один с коллективом Публичной Библиотеки и исполнить Полонез, муз. Шопена, как скажет Таня ликующим голосом. Что еще она скажет? Между прочим, Слоним — концертирующий пианист. А меня все равно выгонят из Публички с волчьим билетом.) И мы с Бениаминовым отправились на сцену — он к рампе, а я — к пианино. Да, пианино: на сцене Фонтанного дома, в зале для концертов, стояло истерзанное, старое, склеротическое пианино без строя. И это было хорошо. Бениаминов стоял лицом к залу. Я, галерник инструмента, сидел почти спиной к залу и к спине Бениаминова. Происходящее я улавливал акустически. Бениаминов молчал. Зал покатывался от хохота. Бениаминов продолжал молчать. Хохот в зале переходил в истерику. Я знал, что делал актер, — он смотрел. Он смотрел в зал круглыми глазами, сложив губы бантиком. Он мог таким способом продержать зал минут пять. Это невероятно долго, да? Наконец, он сказал хриплым голосом, с примесью фальцета: «Петь буду». Дурам из Публички уже многого не надо было, они захохотали снова. Бениаминов обернулся ко мне и распорядился: «Маэстро, отыгрыш!» Я изобразил шикарное арпеджио, в до миноре, разумеется. Танго «Дружба» должно идти в до миноре. Бениаминов задумался, прокашлялся и сказал: «Пожалуйста, выше». Такие вещи, как танго «Дружба», я транспонирую бойко. Королевское арпеджио в ре миноре. Он задумался, прокашлялся и попросил: «Выше». Каскад серебристых звуков в ми миноре. «Извините, пожалуйста, ниже». Так. Си — бемоль минор, кто всерьез трогал фортепиано за клавиши, тот знает. Вот тут он вынимает из кармана два шарика от пинг — понга, в каждом такая дырочка, надевает их на пальцы и начинает петь и играть. Был у него такой кукольный номер для сборных концертов специально — пародия на Сергея Образцова. Когда мы вернулись за кулисы, я твердо сказал Тане: пианино расстроено совершенно, играть соло не представляется возможным, это будет надругательство над искусством, публичный женский день остается без Полонеза ля — бемоль мажор, муз. Шопена. И мы с Бениаминовым пошли гулять по позднему вечернему Ленинграду. По Фонтанке, к Аничкову мосту, по пустынному уже Невскому. Знаете ли вы, как это хорошо — бродить с Бениаминовым по Невскому, хоть бы и в ночь на Восьмое марта 1951 года? Мы говорили о Гоголе. Возможно, я подал повод. Тема моей дипломной работы, о которой вы, небось, уже слышать не можете, была такая — Александр Иванов и русская общественная мысль XIX в. Гоголь был одним из центральных персонажей этой истории, он был ближайшим другом Иванова в течение долгих лет. На последнем, так называемом «солдатенковском», эскизе картины «Явление Христа народу» в Русском музее можно увидеть персонажа с портретными чертами Гоголя — это так называемый «ближайший к Христу». Наверное, поэтому мы пришли к Гоголю. Бениаминов преклонялся перед Гоголем. Никто, говорил он, не чувствовал, не понимал природу театра, как он. Гоголь — театральный гений. Я думаю, что Гоголь был еще и гений Бениаминова, который тоже ведь вышел из Шинели. Я почему‑то хорошо помню его — не в классике, нет, а в дрянном пропагандистском «Русском вопросе» Константина Симонова. Симонов обличал, роль была продажного журналиста (других в Америке ведь не было, разве что в газете «Дейли Уоркер», «впоследствии покойной», как говаривал один литератор). Бениаминов сделал из карикатурного симоновского писаки «маленького человека» русской традиции; текста такого в пьесе не было, но он умел обойтись без слов — вы видели, как он везде таскал с собой фотографии детишек, как выпрашивал сигареты: молча, доставал из кармана зажигалку и воспламенял — этот маленький живой огонек на сцене, где все ненастоящее, вытягивал душу, хотелось бросить ему пачку сигарет из партера, — на, все возьми, только погаси ты эту зажигалку, ради Бога! Хотел ли он, следуя своему кумиру, преподнести сразу целой толпе живой урок? Или дело обстояло серьезней — как и с Гоголем, впрочем, — и постоянное балансирование на острие между смехом и страхом было продиктовано пониманием главного экзистенциального парадокса? Меньше всего я способен ответить на этот вопрос. Кажется, второе вернее. Во всяком случае, когда распускался комедиантский бантик губ и глаза теряли округлость, оказывалось, что у рта грустная складка, а взгляд печален. (обратно)Трусы из Египта
Я возвращался с базара на десятой станции. Этот базар вполне мог удовлетворить потребности дачников. Рынок на шестнадцатой был, говорят, пышней, но мы, летние обитатели двенадцатой, обходились ближним. В лучшие времена там можно было купить кило помидор за дореформенный рубль. Потом это был гривенник. А если уметь… Я имел перед глазами образцовую модель работы на одном интеллекте, без хамства. Когда я, еще студентом, гостил в Одессе, тетя Рая, профессорская жена, изредка брала меня с собой на Привоз — для науки и в качестве носильщика. Тетка не любила тратить деньги там, где можно было сэкономить. Там где нельзя было — тоже. — Почем яйца, хозяин? — спрашивала она без особого интереса. — Та руб, — отвечал продавец. Интонационный рисунок ответа, с высоким «та» и быстрым спуском к басовым нотам, показывал, что цена бросовая. — А по семьдесят? — стартовала тетя, доставая алюминиевый бидон. — Та не. — А если? — настаивала тетя Рая, кладя пару — другую яиц в бидон. — Ну добре, дэвьяносто пять. — А может семьдесят? — продолжала тетя, приступая ко второму десятку. — Ни, та и так уже дэшево. — Давай, хозяин, по семьдесят, возьму сотню! — настаивала тетя, заложив в бидон сорок четвертое яйцо… Владелец яиц уступал еще пятак. Дискуссия продолжалась на фоне монотонной загрузки бидона. — Давай по семьдесят, — стояла на своем алмазная тетя. В бидоне было уже шестьдесят яиц, семьдесят, семьдесят пять, восемьдесят, девяносто, девяносто шесть, семь… — Ну как, хозяин? — Ни, — стоял на своем продавец. И тогда тетя Рая, в том же спокойном ритме начинала выкладывать яйца из бидона. Прием работал безотказно. Яйца были наши. Проклятия на вороту не висли. Увы, урок не шел впрок, я проходил мимо сути. То есть, как эстет я ценил идею и ювелирное изящество исполнения, но оставался нечувствителен к практической стороне дела. Базарный идиотизм я сохранил до нынешних седых и редеющих волос. Иногда мне везло. Раз я встретил на десятой друга детства, сына нашего дворника с Бебеля, 12, вождя дворовой шпаны Володьку. Мы не виделись с лета сорок первого, но узнали друг друга. Я его — по акульему очертанию вынесенного вперед профиля. Он меня — даже не знаю, то ли по внешности, то ли по медлительной нелепости моего рыночного поведения. Володька! Что в его автобиографической прозе при бутылке было правдой, не имеет значения. Воевал, демобилизовался майором, целым и с орденами, был директором гастронома на Ришельевской угол Троицкой (или Успенской? кто лучше меня помнит?), имел неприятности по проискам завистников, сейчас ничем не заведует, но ничего… Володька, как оказалось, был князем базара. Он был настолько велик, что не опускался до заднего крыльца. — Маня! — кричал он через головы патетической и потной очереди, — сделай ему… И Маня делала, а очередь, приученная понимать, что если кому что положено, то не нам менять справедливый порядок, терпеливо ждала, пока Маня мне сделает. Однажды я все‑таки пожил на десятой настоящей жизнью! Такого базара не видал, наверное, никто из кооператоров известной дачной общины «Солнечное», к числу которых мы имели удовольствие принадлежать, а жулики среди них попадались изрядные… Какого качества продукты и в каком наборе принес я тогда! Володька покровительствовал мне только однажды в жизни. Вот почему в день, о котором речь, я возвращался с рынка с рутинной добычей. Но Тихе, загадочная богиня счастливого случая, ждала тут же, за углом. Она побрезговала дикой рыночной стихией ради упорядоченной государственной торговли. Тихе повела меня слегка кружным путем — мимо почты, чтобы я наткнулся на шестигранный киоск с галантереей, трикотажем и косметикой, столь необходимыми в дачном обиходе. Тут был приготовлен подарок. В окошечке мерцал тощий и бледный еврей. Я осмотрел выставленный товар и вздрогнул. На видном месте, практически снаружи, висели совершенно белые, трикотажные, в обтяжку, исподние трусики с элегантно завуалированной прорехой в нужном месте. Это была невероятная заграничная новость, которую привозили отмеченные Тихе счастливчики, посетившие страны народной демократии. А обыватели носили под брюками, как и на пляжах, просторные сатиновые трусы черного или, если повезет, синего цвета, которые были прозваны семейными гораздо позже — когда появился контрастный фон и стало возможным иронизировать. А пока никто не видел других, семейные трусы были так же естественны, как, скажем, дыхание, примус, небо, зеленая трава или парусиновые кальсоны с завязками. Но вот появились эти, белые, — и в картине мира что‑то сместилось. Нельзя не заметить как бы в скобках, что, когда я оказался в Соединенных Штатах множество лет спустя, я увидел свободную и полную достоинства молодежь в местном варианте семейных трусов — для купания и других забав. Мы просто не понимали своего счастья! Правда, исподние носят все те же, беленькие в обтяжку. Такова стилевая эклектика, присущая эпохе постмодернизма, где мы с вами неожиданно очутились и не можем выбраться. Словом, я вижу трусы, меня трусы пленяют. Зачарованный, я подхожу ближе, разглядываю… Все соответствует. — Откуда трусишки? — спрашиваю я у измученного советской коммерцией продавца. — Египетские, — вяло отзывается киоскер. Вот оно что. Самое время напомнить, что действие происходит в пору, когда Герой Советского Союза Гамаль Абдель Насер руководил названной страной. Когда‑то сыновья Иакова, впоследствии Иакова — Израиля, нечаянно отправили туда своего брата Иосифа, не предвидя дурных последствий для своего потомства. Герой Советского Союза и фиктивный наследник фараонов планировал расправиться с потомками Израиля, сбросив Израиль в море. Словом, на трусы падала политическая тень. — Как вы считаете, — вежливо спросил я у продавца, — можно ли натянуть эти трусы на честный еврейский орган? Глядя вдаль, мимо вещей и людей, в щель между мной и строениями, где синела бесконечность моря, он ответил серым голосом: — Пять семьдесят, будете брать? Пока я выгребал из кошелька пять семьдесят, к киоску набежал покупатель. Завернув трусы и отдав мне пакетик, хозяин будки вдруг высунул голову, твердо сказал очереди, что киоск на время закрывается, и захлопнул окошко. Я обошел левые грани шестигранника и направился к одиннадцатой станции, когда унылый продавец, выйдя, запирал свой служебный вход. Он быстро догнал меня, остановил и сказал — тихо, но с чувством: — Я ХОЧУ ПОЖАТЬ ВАШУ РУКУ! Нынче я вспоминаю эту историю скорее со смешанным чувством. Возраст располагает относиться к себе снисходительно. Или взыскательно? Известно: чистая совесть свидетельствует о плохой памяти. Над чем это я смеялся про себя, бредя по кривой трамвайной колее к одиннадцатой станции? Ну, над чем? Если честно: меня, наверное, веселила его запуганность, его загнанное в дальний уголок души сознание своего еврейства. Оно меня веселило, поскольку я невольно, не думая, проектировал его на собственную раскованность. Между тем, моя игра была всего‑то на какой‑нибудь градус свободней его страха. Мы оба — привычно и почти не замечая — носили на себе свою несвободу. Как кальсоны с завязками. Извини меня, старик. Я хотел бы еще разок пожать твою руку. (обратно)Теория перспективного построения тени шара
Несмотря на невиданные человеческие жертвоприношения первых тридцати лет советской власти, людские резервуары советской страны все еще поставляли агентов для решения актуальных задач. Фридрих Лехт был в 1949 году направлен в Таллинн для перестройки художественного образования на основе принципов социалистического реализма. Он был рожденный в Эстонии эстонец «по национальности», но, будучи вывезен в Россию в возрасте нескольких месяцев, плохо помнил свое младенчество, родину и ее язык. В Санкт — Петербургскую Императорскую Академию художеств он поступал в один год с Матвеем Манизером, в будущем — великим советским скульптором, народным художником, академиком, лауреатом и проч. Лехт рассказывал, что его приняли, а Манизер провалился. Значит ли это, что Манизер был бездарней Лехта? На следующий год приняли и Манизера, обеспечив будущее массовое производство образцовых бронзовых, гранитных и гипсовых Лениных и Сталиных. Винить за это профессоров Императорской Академии нельзя; не прими они Манизера, Лениных и Сталиных за него бы сделал кто‑нибудь другой… Карьера Лехта была менее заметной, но он не остался в стороне от главных событий века. В бурном 1919 году он стал коммунистом, одно время был комиссаром у Станиславского и Немировича — Данченко в Московском Художественном театре. Позднее он оказался одним из основателей и партийным организатором Ассоциации Художников Революционной России (АХРР). Из этого посева, как известно, взошла железная гвардия социалистического реализма. В последовавшие десятилетия его художественные убеждения не менялись. Именно такой человек нужен был для борьбы с пережитками формализма и буржуазного национализма в Эстонии. Если эти строки (или какие‑нибудь другие, похожие) попадутся на глаза будущему историку, он будет озадачен. Всматриваясь в искусство Эстонии тридцатых годов XX века, непосредственно перед катастрофой, он не обнаружит там формализма — даже в том смысле, какой это слово получило в советском идеологическом жаргоне. Это значит, что сколько- нибудь четко оформленные авангардные движения отсутствовали. Группировка конструктивистов, сложившаяся в двадцатые годы под влиянием парижского «Эспри нуво» и русского авангарда, в тридцатые годы — по разным причинам — сошла на нет. Тут не место входить в профессиональные тонкости и, разрезая волос на четыре части, анализировать стилистический спектр эстонской живописи или графики тридцатых годов. На этот счет существует серьезная специальная литература. Повторяю, авангардизма там, строго говоря, не было. Тем более не было его в те первые послевоенные годы, когда в Эстонии была насильно учреждена советская власть. Но в комплекс необходимых принципов, обеспечивавших существование и сохранение этой власти, входил «принцип присутствия врага». Благодаря присутствию врага общество перманентно пребывало в состоянии борьбы, то есть — в состоянии патетического возбуждения, ненависти и страха, массового сплочения и персонального разобщения, и потому становилось идеально управляемым. Следовательно, если врага не было, то его надо было выдумать. Отблески «принципа присутствия врага» ложились и на художественную жизнь: область дозволенного и поощряемого постоянно сужалась, а все, что оставалось за ее пределами, автоматически полагалось угрожающе вредоносным. Собственно, боевая часть стратегической задачи была выполнена без участия Лехта: Антон Старкопф, директор Тартуского художественного института, был уволен и лишен всех отличий; спасаясь от худших неприятностей, он, вместе со своим учеником Эрнстом Кирсом, бежал в Москву и укрылся в мастерской другого великого советского скульптора — Меркурова — в роли подручного. Руководитель Таллиннского института Адамсон — Эрик был также заклеймен как формалист/ буржуазный националист, уволен, лишен почетных званий, но, вместо того чтобы спрятаться в логове зверя, как Старкопф, он нанялся на обувную фабрику «Коммунар» в качестве рабочего — закройщика. Многие бывшие или потенциальные формалисты — в их числе Арнольд Акберг, Альфред Конго, Мярт Лаарман, Ольга Терри, Адо Ваббе — были изгнаны из Союза художников… Лехт назначен был скорее строить, чем разрушать: ему следовало возглавить и направить воспитание эстонскиххудожников нового типа, и он принялся за дело. Его личные умения отвечали общим требованиям. Помнил ли он, что царица Екатерина Великая основала Императорскую Академию художеств с целью выведения «новой породы людей», как это полагалось в век Просвещения? Возможно, что в генетической памяти воспитанника Академии что‑то сохранилось и слилось с задачей идейной переделки людей в духе социализма. Поэтому новый директор придавал значение видимым мелочам; тут все было важно, все решительно. В коридорах и классах института, как водится, находились гипсовые слепки с классических произведений пластики, необходимые для обучения искусству рисунка и для создания специфической среды. Среди них были на первый взгляд невинные создания, скажем — экспрессивные шлютеровские головы, созданные для украшения берлинского Цейхгауза еще в XVIII веке, или голова Антиноя, красавца, любимца императора Адриана. Императорские слабости относились к поздней античности, и об этом ни директор, ни студенты не знали. Зато там, где дело не ограничивалось головой, открывались видимые изъяны. Трудно сказать, почему революционная российская мысль унаследовала иудео — христианское предубеждение в отношении чувственности и сопутствующей ей наготы. В Ветхом завете встречались двусмысленности, но они были вытеснены аскетической христианской моралью; в искусстве Ренессанса изображение божественной наготы снова стало возможным ради подтверждения земной природы Спасителя — Слово стало плотью полностью, без каких‑либо ограничений и недомолвок. Но мы помним и решительные меры Контрреформации, которая — авторитетными устами Тридентского собора — запретила наготу в религиозном искусстве. Советская власть изгнала наготу из любого искусства. Правда, апокрифические тексты глухо упоминали, что среди женской части российской социал — демократии — я имею в виду большевиков — были одно время в ходу идеи свободной любви, но с ними быстро покончили. Какую роль в преодолении секса сыграла духовная семинария в городе Кутаиси — еще только предстоит выяснить. Так или иначе, но нагота исчезла из советского искусства, изображения полуодетых физкультурниц обозначали собою предел допустимого срама. Я как‑то попал — не по своей воле — в мастерскую знаменитого советского скульптора, народного художника, академика, лауреата и орденоносца. Скульптор не был лицемером, и в необъятных пространствах ателье мирно соседствовали изображения Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и их выдающихся соратников. Маэстро, видимо, никогда не пробовал вылепить обнаженный торс; френчи, кители, пиджаки, шинели и статские пальто радовали глаз пластическим разнообразием, их твердые и мужественные поверхности исключали предположение, будто под ними может быть еще что‑нибудь оформленное. Собственно нагая плоть была сведена к лысинам Ленина и Хрущева, да и они нередко исчезали под гипсовой кепкой. Это не значит, что все академики — народные художники столь истово соблюдали социалистическую аскезу. Прославленный певец крестьянства Аркадий Пластов как‑то в разгар оттепели написал деревенскую сцену: около неказистой деревянной баньки обнаженная молодая женщина, присев на корточки, кутает в платок маленькую девочку; деревья еще голы, с неба сыплется легкий снежок. Картина называлась «Весна». Жюри всесоюзной выставки было поставлено в трудное положение: не выставить Пластова как бы нельзя, но и картина невозможная; убогая банька — такое еще куда ни шло, но совершенно голая советская женщина, колхозница! Это было уже слишком. В результате тонких маневров удалось достичь компромисса — и картина была выставлена под улучшенным названием «Весна. Старая деревня». Так вот, в коридорах и классах Художественного института стояли гипсовые изваяния — пусть классические — нагих женщин и, что особенно недопустимо, мужчин. Пришлось исправлять положение; способ был известен: метресса самого Людовика XIV, набожная госпожа де Ментенон одевала в фиговые листы статуи Версаля. Лехт распорядился изготовить из гипса целомудренную листву нужного размера. Почему директор поручил прикрепить изделия на место скульптору женского пола — Линде Розин, — сказать трудно. Я отношу это на счет бедности его пластического воображения, неспособного представить эротические обертона совершаемой публично операции. Возможно, однако, что это был целенаправленный жест, символ социалистической десексуализации учебного заведения. Стыдливая Линда исполнила свою миссию глубокой ночью, когда дом был пуст. К утру все было кончено. В Таллинне в ту пору жил карикатурист Лев Самойлов. Прослышав об улучшении классических слепков в Художественном институте, он нарисовал сцену: Лаокоон и его сыновья, извиваясь соответственно эллинистической группе из Ватикана, натягивают штаны, легендарный троянский жрец говорит: «Дети, одевайтесь быстрее, Лехт идет!» Действительно, из глубины приближается Лехт, очень похожий, с элегантным фиговым листом в наружном кармашке пиджака. Для незнающих было сделано пояснение, что «лехт» по — эстонски значит «лист». В любой, самой продуманной системе бывают прорехи — то ли у Самойлова в редакции были друзья, то ли какая другая причина случилась, но карикатура была опубликована в журнале «Крокодил». Так маленькие добавления к чужим скульптурам сделали то, чего не сделали собственные творения скульптора: Лехт стал знаменит.* * *
Наряду с частными, но необходимыми операциями косметического характера требовались коренные реформы, затрагивавшие самую сущность учебного процесса. Минуло полвека, сменяются поколения, надо объяснять. Эстонское искусство вместе с художественной школой оказалось вброшено в систему соцреализма в годы наиболее свирепого культурного террора. Об этом много написано, хотя не все. Тут нужно провести лишь самые необходимые штрихи. Методическое, т. е. содержательное руководство художественным образованием было отдано Академии художеств СССР. Академия была учреждена незадолго до того, в 1947 году, когда послевоенная идеологическая борьба с собственной интеллигенцией двигалась к своей кульминации. До того Академия была всероссийской и ее власть и влияние на весь Союз не распространялись. Первый состав академиков был назначен правительственным указом, кажется — за подписью Сталина, а если не Сталина, а Молотова, то никакой разницы тут нет. Один современный искусствовед и философ интерпретировал Сталина как художника, творца целого стиля; книга об этом так и называется — «Стиль Сталин». Я придерживаюсь другой точки зрения, более традиционной, чтобы не сказать — банальной. Но определенность сталинского художественного вкуса не должна вызывать сомнений. Следующих академиков избирали сами академики. Определенность их вкусов тоже вне подозрений. Таким образом, Академии была обеспечена стабильность — она должна была тождественно воспроизводить себя в веках. Механизм оказался эффективным. Среди превратностей дальнейшей советской истории Академия успешно сохраняла свою неизменяемость. Впрочем, это отдельный сюжет, я к нему еще вернусь. Внешней задачей Академии была борьба за победу социалистического реализма в советском искусстве, которая, как полагается идеологической борьбе, требовала беспощадного истребления его врагов. (Я говорю о внешней задаче, поскольку имелись и внутренние, не менее существенные, хотя и скрытые.) Количество и коварство врагов, как сказано, должны были постоянно возрастать. Так, была разоблачена империалистическая и субъективно — идеалистическая сущность импрессионизма. О постимпрессионизме и последовавшем за ним упадке и разложении буржуазного искусства говорить не приходится. На очереди были более тонкие и потому наиболее ядовитые извращения самой сущности художественного творчества, такие, скажем, как несоблюдение строгих требований линейной перспективы, или необоснованное подчеркивание контура в живописи и особенно в рисунке, или увлечение так называемыми фактурными эффектами… Эти пережитки «художественности» отбирали у изображения значительную долю жизненной правды. Сессия Академии художеств СССР в 1949 году осудила вредные техники эстампа — офорт, гравюру на дереве и линолеуме и пр. — как неприемлемые для реалистической графики. Художественное образование и было тем местом, где враждебные влияния и идеи следовало искоренить, прежде всего — в интересах здорового будущего советского искусства. Такова была задача, поставленная партией перед Фридрихом Лехтом и достойная его. Директор твердо охранял принципы. В первые годы его миссии это было нелегко, но результаты вскоре стали очевидными: в институте воцарился тоскливый, монотонный, фальсифицированный реализм, который вслед за живописью и скульптурой успешно покорял прикладные искусства и — странным образом — архитектуру. Со временем, однако, трудности возрастали экспоненциально. Казалось бы, цель достигнута, и в эстонском институте, как и в эстонском искусстве, социалистический реализм утвердился навсегда. Но пришла хрущевская пора, а с нею — новые искушения и иллюзии. Студенты были чувствительны к ветрам перемен. Вместо тщательно растушеванных тоновых рисунков на полугодовых просмотрах стали появляться рисунки с отчетливо наведенным, а иногда и жирным контуром. По сведениям Плиния Старшего и других авторитетов, сама живопись произошла от обведенной контуром тени. Но даже этот аргумент вряд ли убедил бы Лехта. Увидев на стенде контурный рисунок, он багровел (он был от природы рыжий, белокожий и легко краснел) и картинно сердился. «Опять оконтуривают, — кричал он. — Опять оконтуривают! Сколько партия их учит, а они опять оконтуривают!» Кульминацией борьбы с оконтуриванием была драматическая история студента кафедры стекла Славы Малахова. Он представил на полугодовой просмотр проект небольшого витража на тему «Атрибуты искусства»: там была изображена ваза со вставленными в нее кистями и еще кое — какие художественные параферналии. Пытаясь вспомнить полузабытую азбуку витража, Слава стилизовал объемы и обвел цветовые плоскости толстыми черными линиями, обозначавшими витражный каркас. Лехт не был приучен читать стилизованные формы и не понял, что это. В узоре рам он увидел такое, что не могло ему привидеться в ночном кошмаре: ему почудилось, что студент его института представил на просмотр абстрактную композицию. — Так, — сказал тихим голосом директор и густо порозовел. — Комсомолец Малахов не хочет служить своим искусством пролетариату. Он хочет служить империализму! И исключил комсомольца Малахова после четвертого курса из института. Только благодаря длительному заступничеству нескольких преподавателей Лехт сменил гнев на милость и позволил формалисту окончить институт. Травма имела для Малахова тяжелые последствия — он оставил стекло и на всю жизнь остался карикатуристом. Перспективу Фридрих Карлович преподавал сам. Это дело он знал досконально, и глаз на перспективные промахи у него был беспощадный. Ильмар Торн в качестве дипломной работы приготовил серию графических листов «Под игом буржуазной Эстонии», где образным языком реалистической литографии разоблачал язвы капитализма в их конкретно — историческом эстонском воплощении. На предварительном просмотре Лехт увидел в одном из листов некоторое перспективное несоответствие. Если я верно помню, там была нарисована копна сена. Студенту было на это указано. Спустя недели две, на вторичном предварительном просмотре, директор отметил, что теперь с перспективой все в порядке и что от этого идейно — политический и художественный уровень работы повысился до нужной кондиции; теперь серию Торна можно допустить к защите. И действительно, защита прошла очень успешно. Сам Лехт, вслед за Брунеллески, Альберти, Учелло и Леонардо, сделал важный вклад в теорию перспективы. На одной из институтских научных конференций он изложил свои открытия в форме доклада «О перспективном построении тени шара». В классической науке было заполнено белое пятно. Не помню, было ли опубликовано это исследование, и потому не могу адресовать к нему художников, которым не хватает теоретической оснащенности для реалистического изображения тени шара. Если Эрвин Панофски был прав, когда исследовал перспективу как символическую форму, то борьбу за построение перспективы тени шара в живописи социалистического реализма можно рассматривать в качестве символа движения реализма к абсурду.* * *
С точки зрения советской эстетической культуры образца 1950 года Лехт был на месте. Но с точки зрения советской политической культуры 1950 года Лехт не был правильным коммунистом. Он был узок, прямолинеен, его квазиакадемические взгляды были вполне партийными — однако ему не хватало хитрости, продажности, холуйства, цинизма в нем не было вовсе — он был убежденный, верующий коммунист; в этом был его роковой недостаток, порок, атавистический ген, который не позволял ему полностью вписаться в идеальный образ партийного художника и партийного руководителя. Накануне нового 1952 года (подумать только — я написал эту дату и остановился перевести дух; вспоминать бывает страшней, чем прожить) студенты украсили коридоры второго этажа актуальными парафразами мировой классики; одна из картин пародировала «Сотворение Адама» с Сикстинского потолка: на земной тверди оживал нагой Адамсон — Эрик; в небесном пространстве, окруженный гениями, парил Лехт, протягивая лежащему животворный палец. Картина называлась «Воскрешение Адам(сон)а». Действительно, в 1951 году, через год после профессиональной и социальной казни Адамсона — Эрика, Лехт вернул его — напоминаю, с должности закройщика на обувной фабрике «Коммунар»! — в институт, сделав профессором кафедры общей композиции, которую возглавил сам. «Мы не можем не использовать специалиста такой высокой квалификации», — мотивировал свою акцию Фридрих Карлович, а поскольку за ним стояла Москва, то никто из местных гонителей Адамсона- Эрика не посмел ему препятствовать. Лехт решительно заступался за Гюнтера Рейндорфа, когда борзые соцреализма пытались его растерзать. Однажды Лехт спас Лео Генса. Напомню: после объединения Тартуского и Таллиннского институтов в Тарту временно, до полного вымирания, сохранялся Тартуский филиал. В 1952 году Гене читал историю искусства еще в Тарту. Двое половозрелых студентов, его слушателей, члены партии Зуев и Шляпин, живо уловив требования времени, начали травлю. В газете «Советская Эстония», которая была «органом ЦК КПЭ», то есть прямо принадлежала телу верховной власти, появилась большая статья тартуского корреспондента газеты, где — со слов бдительных студентов — были описаны грубые идеологические ошибки старшего преподавателя Л. Генса, к тому времени уже исключенного из коммунистической партии. В названном году для выгнанного из партии лица еврейской национальности, занятого идеологическим воспитанием советской молодежи, такая статья означала смертный приговор, и более того, — так американский судья без колебаний приговаривает преступника к 137 годам тюремного заключения. Любой директор на месте Лехта тут же выгнал бы Генса с работы с волчьим билетом — так что ему осталось бы только подметать улицы. Но Фридрих Карлович решительно не понимал принципиальной политики партии в национальном вопросе. Его дальнейшее поведение иначе как нелепым назвать невозможно. Лехт отправляется в ЦК КПЭ, берет сотрудника отдела культуры, ответственного за изобразительные искусства, садится с ним в автомобиль того же ЦК, приезжает в Тарту, созывает экстренное партийное собрание, устраивает головомойку интриганам и, восстановив идеологическую честь Лео Генса, возвращается в Таллинн. При этом Лехт Генса не любил, я утверждаю это как очевидец. Два года спустя оба идейных живописца кончали институт; меня назначили быть рецензентом зуевского диплома. Я громил его убогое творение с чувством, но не без холодного расчета: если бы интригану поставили двойку за дипломную картину, он бы стал писать следующую и защищал бы ее на следующий год. Следовало от него избавиться оптимальным путем. Я просил тройку, которую он и получил. При этом моя профессиональная совесть чиста: месть за коллегу и друга не потребовала искажения истины, дипломная картина была ужасна даже по меркам того времени. Впрочем, Зуев продолжал упорно продвигаться по партийно — художественной линии — и успешно: говорят, он стал директором художественного училища где‑то на Волге, кажется в Горьком. Долгая история преследования Лео Соонпяя — не менее, если не более серьезная, чем история с Генсом, поскольку инициатива исходила не от студентов, но от высшего начальства. Ежегодные научные институтские конференции происходили в период наивысшей художественной активности — в апреле. Треть этого весеннего месяца была отдана под Декаду пропаганды изобразительного искусства. Таким способом специально отмечались важнейшие события: день рождения В. И. Ленина и годовщина подписания им же — спустя годы и в качестве председателя Совнаркома — декрета о монументальной пропаганде, заложившего, как выяснилось, идеологические и практические основы будущего советского искусства. Но эта замечательная традиция сложилась после XX съезда, восстановившего ленинские нормы жизни. Сталин же, как известно, относился к культу личности резко негативно; особенно отрицательно он относился к культу личности своего учителя и друга. Капля хотя бы опосредованно отражает мир: институтская конференция 1951 года состоялась, кажется, в декабре. Зал был полон. При Лехте свободные нравы, которые превращали позднейшие институтские конференции в интимные беседы докладчиков, были немыслимы. Присутствовали все, кроме постельных больных. Не менее определенно надо было присутствовать и на ученых советах, не следовало даже опаздывать, поскольку протокол собрания вел тот, кто пришел последним. В тот декабрьский день, однако, в воздухе ощущалась тревога. На конференцию пришел сам председатель Комитета по делам искусств Макс Лаоссон. Лаоссон сделал карьеру на идеологических погромах; на его счету было много жертв, даже очень много, мне не сосчитать, — тут требуются другие мемуаристы, а также специальные изыскания. Явление Лаоссона я могу объяснить на основании современных событию слухов. Говорили, что позиции Председателя по каким‑то причинам пошатнулись и требовалось срочно их укрепить. Способ был известен: лояльность власти и идейная прочность, партийная подлинность человека могла быть проверена только в бою. Следовало разоблачить очередные идеологические диверсии врагов социализма и нанести им сокрушительный удар. Прием был не нов — так начальник личной охраны шахиншаха, царя царей, должен время от времени изобретать заговоры против повелителя и своевременно их разоблачать; несколько десятков невинных подданных повесят, а верный охранник еще раз докажет свою необходимость. Лаоссон пришел на конференцию, полный творческих планов, — ему срочно нужен был заговор, и он намерен был тут же его создать из подручного материала. Где‑то в моем архиве должна храниться программа этой конференции. Но я и так помню, что мой доклад был на животрепещущую тогда тему — о типическом в искусстве. Тема была задана самой партией. Незадолго до того произошел XIX ее съезд, где вместо Сталина главный доклад делал Маленков, а дряхлый вождь провещал лишь короткую афористическую речь. Доклад для съезда партии полагалось составлять универсальный, в него должен был входить специальный раздел «о литературе и искусстве»; без него художники страны чувствовали бы себя осиротевшими. Действительно, Маленков сообщил партии и народу нечто о типическом: типическое, говорилось в докладе, не есть статистическое среднее, типично то, что верно выражает сущность данной социальной силы, — и т. д. Эти глубокие истины мне предстояло комментировать и интерпретировать. Теперь я мог бы позволить себе назвать свою акцию перформансом — так вот, мой перформанс был не так прост, как может показаться. Дело в том, что пристальное изучение партийно — эстетического документа имело непредвиденные последствия: памятливые литературоведы в ходе штудий обнаружили, что весь текст о типическом списан слово в слово со статьи в советской Литературной энциклопедии издания 1932 (или что‑то в этом роде) года, то есть энциклопедии, безусловно, идеологически порочной и запрещенной к чтению; автор статьи, разумеется, был посажен в 1937–м и сурово наказан. То ли кто‑то из референтов (если по — нынешнему, спичрайтеров) халатно отнесся к своей задаче и списал скомпрометированный текст, то ли сам, что маловероятно, не нашел другого пособия под рукой и по незнанию доверился ошибочному изданию — трудно сказать. Но скандальное известие быстро распространилось среди заинтересованных лиц и стало известно мне. То есть я знал, что в своем скромном докладе излагаю и комментирую запретную статью репрессированного автора, воскрешенную по оплошности главным после Сталина секретарем ЦК. Лаоссон слушал меня с неослабным вниманием, глубоко вникая в каждое слово, я чувствовал это своим затылком. Но не я, старший преподаватель, только что принятый на работу в институт на полставки, был главным кандидатом в заговорщики; тут требовалась фигура покрупнее. Доклад Лео Соонпяя был посвящен каким‑то проблемам политики или идеологии эстонских социалистов 30–х годов. Я в этом тогда не разбирался и плохо понял суть дела. Заключительное заседание конференции, ввиду чрезвычайной заинтересованности всего института, проходило в Доме художника. Опять зал был полон. Но Лео Соонпяя отсутствовал — у него в это время была лекция; в таких случаях отсутствовать разрешалось. В самом конце заседания слово взял Лаоссон. Его речь целиком была посвящена разоблачению ошибочного и вредного доклада Л. Соонпяя. Исторические и, главное, идейные ошибки докладчика вынудили председателя Комитета задать главный вопрос: как такому человеку может быть доверено воспитание художественной молодежи? Нужно ли объяснять, что, несмотря на классическую форму, вопрос был не риторический, а, напротив, совершенно практический — указующий и направляющий? Полностью синонимичным ему было бы выражение: «Немедленно гнать Соонпяя в шею». Напоминаю, Лео Соонпяя не присутствовал, разгром был устроен за его спиной, и ответить он не мог. Кафедра решила сопротивляться. Собственно, никакого такого решения не было, была спонтанная реакция. Первым кинулся было Лео Гене, но я его остановил: вскоре Лаоссон должен был подписать приказ о его переводе из Тарту в Таллинн, ему не следовало рисковать. Самое удивительное было то, что Лехт предоставил мне слово! Это было нарушением священных правил: высший из присутствующих руководителей выступал, судил и смеялся последним. Оказалось, что я не зря провел пять лет — и каких! с 1946–го по 1951–й — в стенах Ленинградского Ордена Ленина Государственного Университета имени А. А. Жданова: я строил свое выступление по всем правилам тогдашней демагогики. Сделав как бы невинный обзор всей конференции и украсив речь приятными замечаниями, я лишь под конец перешел к Лаоссону. Тут была кульминация. «Товарищ Сталин, — восклицал я с положенными интонационными переливами, — учит нас, что пока дискуссия не завершена и верное решение не установлено, можно и необходимо высказывать различные мнения! Это показал и опыт недавно завершившейся дискуссии по вопросам языкознания…» — и пошел, и пошел! Против товарища Сталина Лаоссон ничего сказать не мог. Когда моя страстно — партийная филиппика подходила к концу, я краем глаза заметил, что ладони директора уже приготовлены для аплодисментов. И правда, не успел я выдохнуть, как Лехт хлопнул первым, а за ним, как по команде, весь зал. Нет, команда тут была не при чем — это был редкий миг единения директора и вверенного ему коллектива. После меня в защиту Соонпяя выступила еще Хелене Кума. Лаоссон удалился молча, раунд был проигран, ясно было, что Лехт так легко Соонпяя не сдаст. Но и Лаоссон был не мальчик. Более того, он был мастер. Спустя некоторое время председатель Комитета уехал в командировку. В дни его отсутствия — именно в дни его отсутствия! — в газете «Rahva Hддl» («Голос народа») появилась большая статья без подписи, то есть — выражающая мнение редакции, а поскольку «R. Н.» была органом ЦК, то и мнение ЦК КПЭ. Статья называлась: «Вместо научного исследования — ошибочный и путаный доклад». Там было написано все то, что Лаоссон говорил на конференции, включая роковой вопрос о возможности использования такого, с позволения сказать, ученого и педагога на преподавательской работе. Так конструировалась новая ситуация: это не Лаоссон пишет, это «общественность поддержала позицию Комитета», так оно тогда называлось. Общественность требует! И Комитет по делам искусств, и Художественный институт должны реагировать, должны ответить делом на справедливую критику. Кафедра пишет ответ в редакцию. Ответ редакцию не удовлетворяет. Происходит заседание кафедры с участием представителей Комитета и редакции, дискуссия ничем не кончается. В Комитете созывается специальное собрание общественности для обсуждения «дела Соонпяя» — и снова добиться изгнания Соонпяя не удается. Словом — Лехт Соонпяя не сдал. Я должен это подчеркнуть, поскольку наша аргументация, сколь бы логичной или демагогичной она ни была, не должна быть переоценена; она не имела бы эффекта, власть была у чиновников. Да, Фридрих Карлович был узок, партиен, прямолинеен, архаичен. Но несколько судеб он если не спас, то существенно улучшил, а это в те суровые времена было не так мало.* * *
Наконец, невозможно не упомянуть об еще одной грубой политической ошибке Ф. Лехта: летом 1951 года он принял меня на должность старшего преподавателя кафедры истории искусства — с половинной нагрузкой. В том самом 51–м году, когда государственный коммунистический антисемитский интернационализм торжествовал повсеместно. Единственная еврейская организация в стране — Еврейский антифашистский комитет — была распущена, ее председатель, великий актер С. Михоэлс, был убит, другие члены Комитета сидели в МГБ, где из них выбивали признания в шпионаже; в августе 1952 года их тайно расстреляют. В газетах что ни день печатали гадкие антисемитские статьи, борзописцы подробно описывали выковырянные из архивов судебные дела пяти или десятилетней давности — лишь бы в них замешаны были лица еврейской национальности. Раскрытие псевдонимов, если за ними скрывались еврейские фамилии, стало любимым занятием патриотов. Не за горами был процесс врачей — убийц. Черт догадал меня родиться в этой стране и окончить университет в тот год. Мало того, что моя фамилия была Бернштейн. Не менее омерзительно было то, что я посмел хорошо учиться, в дипломе стояли одни пятерки. Следовало принять необходимые меры. Под руководством партийной организации факультета (секретарь — Марк Кузьмин, пьяница) меня окатили с головы до ног помоями и вытолкали на улицу. В течение нескольких лет после окончания мне никак не хотелось заходить в помещения институции, которую принято называть aima mater, то есть мать- кормилица. Одновременно меня прогнали из городского экскурсионного бюро, где я подрабатывал, будучи студентом. Еще раньше меня выгнали из Эрмитажа, где я тоже успел провести несколько экскурсий. Нигде никакой работы по специальности. Но нигде не работающий молодой человек автоматически попадает в класс тунеядцев — и дворник дома номер 173 по Лиговке, учуяв гнилостный запах, уже наведывался в нашу комнатушку на четвертый этаж, чтобы предложить мне податься на сельскохозяйственные работы. Вот тогда наша приятельница Зельма Тамаркина, родом из Таллинна, подсказала мне идею — поехать в Таллинн и поискать работу там. Остановиться я смогу у ее родных. Я поехал. Начало моих поисков не было обнадеживающим. Меня нигде не хотели — ни в Художественном музее, ни в редакциях — не помню уж, куда еще я пробовал внедриться. Тогдашний директор музея, Рудольф Сарап, рассказал мне по секрету, что сам председатель Комитета по делам искусств, тот самый Макс Лаоссон, о котором уже была речь, пообещал ни за что не пустить Бернштейна в Эстонию. Чем он руководствовался: нежеланием допустить в эстонскую культуру иноземца или верным пониманием партийных установок по еврейско- национальному вопросу в конкретный исторический момент, — не знаю. Однако Фридрих Лехт, как я уже сказал, этих установок не понимал. И он, по каким‑то соображениям, захотел меня принять. Я опускаю подробности, которые тогда выглядели драматическими, а сейчас — скорее комическими. Замечу только, что сопротивление Лаоссона его только раззадорило: чем больше Лаоссон воздвигал препятствий, тем сильнее Лехт желал иметь меня преподавателем. И добился своего. Недавно мой молодой коллега задал мне несколько хороших вопросов. Здесь уместно будет привести, с некоторыми пропусками, фрагмент нашей заочной беседы. «В первом вопросе Вы говорите, что я „принадлежу к первой волне послевоенной эмиграции", имея в виду эмиграцию из советской России в Эстонию, — подобно Юрию Лотману, Заре Минц, Михаилу Бронштейну, Леониду Столовичу, не так ли? Я должен ответить на этот вопрос двояко. Нет, не принадлежу. Да, принадлежу. Оба ответа верны. Все дело в словах: когда текучая современность становится прошлым, история делается всего лишь содержанием текстов историков, публицистов, политиков, демагогов, идеологов. Для партийных интересов, идеологических аберраций и мифологизаций открываются неограниченные возможности. Вопрос о том, что сказано и как сказано в текстах, становится решающим. Поэтому я — хотя бы в нескольких словах — должен буду обратиться к контексту. Я не принадлежал к послевоенной эмиграции, поскольку невозможно эмигрировать из одной точки в другую точку одного и того же государства. Принятое словесное оформление недавнего прошлого Эстонии таково, что Эстония была в течение более полустолетия оккупирована Советским Союзом. Я полагаю, что это неполное описание ситуации. Эстония, действительно, была нагло, грубой силой, захвачена в сороковом году и вторично — в 1944–м. Это был акт оккупации, за которым последовали зверские репрессии. Но затем, и такой ценой, Эстония была интегрирована в советскую систему и разделяла с другими частями советской империи политическую структуру, принципы и практику экономической деятельности, организацию науки и образования, в значительной мере — институциональную структуру и содержание культуры, и даже, что самое трудное, некоторые стереотипы бытового поведения. В отличие, скажем, от хрупкой империи Александра, или мощной Римской империи, или даже Британской империи, целью советской экспансии была не примитивная, механическая оккупация и не создание конгломерата под общим управлением, а поглощение и трансформация, вплоть до тотальной унификации, поскольку это был не классический империализм, а химера новой формации — империализм, скрещенный с вульгарной коммунистической доктриной. Практическая реализация идеологемы „новой общности людей — советского народа" имела дальней целью полную этнокультурную энтропию. …В этих условиях я не мог эмигрировать — ни юридически, ни психологически, — поскольку переезжал из пункта А в пункт Б одного и того же государства… Я поехал в Таллинн без всякого чувства миссии, в простой надежде получить там какую‑нибудь работу по специальности. С теми же намерениями я мог поехать в Минск, Ереван или Рязань. Таллинн был ближе. То, что я ее получил в Таллинне, в Художественном институте, — чистая случайность. Тем не менее, в некотором смысле, как оказалось, я принадлежал к эмиграции. Эта сторона моей биографической антиномии прояснялась постепенно, со временем. Конечно, не требовалось большого ума, чтобы понять, что я собираюсь жить и работать не просто в некоторой части Советского Союза, но в стране с собственным языком и культурой и что условием жизни и работы здесь может быть только приобщение к этому языку и культуре. Персональный опыт постепенного погружения в эстонский культурный контекст, вместе с историческими переменами, которые позволили специфике этого контекста полнее проявиться, — вот главные факторы, благодаря которым я стал понимать и переживать свой переезд и свою жизнь в Эстонии как перемещение и врастание в другую цивилизацию и в особую этнокультурную традицию. При этом я никогда не отрекался от русской культуры, в которой я вырос. Но причастность к эстонской культуре и к эстонской точке зрения сделала меня более свободным, т. е. способным видеть русскую культуру не только изнутри, но и отстраненно, извне. Это такой случай бинокулярного духовного зрения, когда два изображения не обязательно совмещаются. Тем интересней. И — уж безусловно — причастность к эстонской ментальности позволила быстрее освободиться от ортодоксальных иллюзий и влечений моей комсомольской молодости». Вначале их было более чем достаточно. Когда я оказался преподавателем института, мне надлежало первым делом представиться заведующему кафедрой истории искусства Лео Соонпяя. Он уже был осведомлен и, как он сам мне позднее рассказывал, напуган: вот, этого только недоставало, на тихую маленькую кафедру из трех преподавателей с половиной Лехт подослал комсомольца! Дело оказалось не так скверно, как предполагал Лео. Комсомольские иллюзии постепенно увядали, а отношения на кафедре складывались благополучно.* * *
Человеческая природа обладает нечеловеческой приспособляемостью и способностью к выживанию. Жизнь продолжалась в разнообразных конкретных проявлениях — рождений и свадеб, предательств и спасительных жертв, свирепых будничных забот и расслабляющих пауз. В 1952 году вся необъятная советская страна праздновала 500–летие со дня рождения Леонардо да Винчи. Все прочие дела отступили на второй план перед юбилеем загадочного флорентинца. Районная газета в поселке Усть — Бухтарма, Алтайского края, посвятила памяти Леонардо обширную статью; она заканчивалась общепринятой тогда фразой: «Покойный до самой смерти оставался большим другом Советского Союза». (Прошу не принимать рассказанное за анекдот; мой друг, который проходил в тех местах военную службу, прислал мне экземпляр газеты.) Причина была в том, что стихийно возникший по инициативе самого миролюбивого поджигателя войны Всемирный совет мира признал юбилей Леонардо всемирным. Приказ отпраздновать подлежал неукоснительному исполнению. Дело нельзя было пускать на самотек, и потому из центра были получены необходимые указания. Во избежание отсебятины во все концы страны была разослана специальная брошюра профессора Дитякина, которая заключала в себе немало вздора. Я не последовал советам профессора и написал свою статью для пионерской газеты «Sдde» («Искра»). Лео Соонпяя ее высоко оценил, сказав, что это — лучшее из всего, что я писал. Не исключено, что эту статью мне не удалось превзойти до сих пор. Более вероятно, что это одна из трех статей пятидесятых годов, которые я мог бы перечесть без стыда. Две другие были об Александре Иванове, и удивительное дело — тяжкая печать времени, доктринальной ограниченности автора, внутренней и внешней цензуры их едва коснулась, они медленно стареют, ссылки на них в специальной литературе появляются еще спустя десятилетия после публикации. Чтобы взять в руки все прочие свои сочинения того времени, требуется либо мужество идиота, либо мазохистское извращение; ни того ни другого у меня нет. Перечитать бы статью о Леонардо для детей. Волна празднования нарастала и, наконец, достигла климакса: в театре «Эстония» состоялось общереспубликанское торжественное собрание в честь 500–летия со дня рождения создателя миланской «Вечери». Зал сиял. В президиуме сидели лучшие люди. Доклад сделал председатель Союза художников V Эдуард Эйнманн; он приблизительно воспроизвел по — эстонски брошюру Дитякина. После официальной части был дан концерт. Актеры выразительно читали стихи итальянских поэтов. Артур Лемба сыграл сонату Скарлатти. В заключение был представлен фрагмент балета «Ромео и Джульетта», создатели которого, правда, не были земляками юбиляра, но действие происходило в Вероне. Балет этот к тому времени в театре уже не давали; для торжественного случая извлекли поблекшие декорации и восстановили рисунок танца. Показывали сцену на балконе. На условном языке балета балкон был обозначен верандой первого этажа — так Ромео было легче добраться по паутинке, танцуя, до юной возлюбленной. И вот — на сцену легко и стремительно выпорхнул Ромео. Несколько па по диагонали к балкону — и танцор замер, простри руку и взор вверх, примерно к карнизу между первым и вторым этажами. Затем столько же па по диагонали вглубь сцены — и снова мгновение неподвижности, на этот раз — несколько согнувшись вперед и прикрыв глаза ладонью. Затем снова к балкону, устремив руку и взор в незримую точку. Потом снова в угол сцены, замирая в трагической позе невозможности… Лео Соонпяя был молниеносно остроумен. Память не смогла удержать его кинжальные остроты, надо было за ним записывать. Но эту я помню. Он наклонился к моему уху и прошептал: «Забыл номер дома…» Лекции Лео были блистательны. Репродукций ни в каком виде он студентам не показывал. Возьмете, говорил он, в библиотеке такие‑то издания и там посмотрите. Позднее можно было рекомендовать соответствующий том знаменитых некогда альбомов «Propylдen Kunstgeschichte», но это уже в либеральные времена после XX съезда. А до того процедура была куда более сложной. Дело в том, что в библиотеках не могли быть доступны книги, которые заключали в себе антисоветские высказывания. Перечитать все подозрительные книги было не под силу даже Аргусу. Следовало найти более рациональное решение — и оно было найдено. Антисоветские высказывания не могли появиться раньше советской власти, значит, потенциально антисоветскими надо было считать все книги, изданные вне Советской России / Советского Союза после 1917 года. Вот эти‑то книги и были сосланы в «спецхран». (Вообще приставка «спец-» в советском новоязе — «спецотдел», «спецснабжение», «спецслужбы», «спецпаек», «спецобслуживание», «спецтранспорт», «спецзона», «спецконтингенты», «спецдоступ», «спецназ», «спецлечение», «спецчасть», «спецпитание» и т. д. — заслуживает спецфилологического исследования, для которого в этом специальном повествовании нет места; можно только отметить, что советское общество было наиболее специализированным из всех, какие знала история.) «Propylдen Kunstgeschichte» были обречены на спецхран, т. е. на вечное погребение, если не на уничтожение. Тут я еще раз должен указать на исключительную живучесть и гибкость интеллекта. Студентам надо было что‑то показывать; диапозитивов не было, а библиотека была скудна до отчаяния… Контрманевр на этот раз был такой: виртуальную антисоветскую опасность несли в себе предваряющие каждый том короткие тексты, а также научный аппарат, сами же по себе репродукции классических художественных произведений можно было считать идеологически выносимыми. Наличные тома «Propylдen» разорвали на части: зараженные буржуазным сознанием, это уж безусловно, словесные страницы спрятали под замок, а картинки сделали учебным пособием, разложив их аккуратно по большим серым картонным конвертам с надписями: «Средние века», или там «Голландия XVII века» и т. п. Возможно, где‑нибудь в дальних амбарах нынешнего наследника кафедры — Института искусствознания — все еще хранятся исторические репродукции, превращенные в лохмотья в результате долгого учебного процесса. Да, так вот, Лео не унижал себя демонстрацией этих листочков. Он описывал сам, своими словами, и делал это замечательно; студенты согласно утверждали, что репродукции, которые они рассматривали после лекции, бывали куда бледнее и скучнее рассказов Соонпяя. Конечно, конечно, все мы — профессионалы — знаем, что искусство лекции, если только это не специальный исследовательский научный курс, включает в себя эклектику в качестве необходимого методологического принципа. Лео тоже заимствовал приемы, риторические ходы и остроты из разных источников, скажем, он любил веселые описания старого Рихарда Мутера и не раз их цитировал. Но не в том дело. Личное обаяние, прекрасная эрудиция, элегантный стиль речи и поведения перед публикой, манера острить, умение выстроить целое делали его признанным и почитаемым лектором. Его телевизионные лекции об искусстве пользовались невероятной популярностью. Внутренний разлад, который, конечно же, его мучил, внешне проявлялся редко. Вряд ли его смущало отсутствие у него громких званий и степеней. В других местах бывало иначе, но у нас на кафедре отношение к ученым регалиям было сравнительно индифферентным. Впрочем, однажды, когда я на какую‑то реплику Лео Генса о трудностях защиты сказал легкомысленно, что, в общем, каждый дурак может сочинить «проходную» кандидатскую работу (я имел перед глазами примеры), Соонпяя оборвал меня, очень даже сердито, сказав: «Нет, не каждый!» Но главное было в другом. Двойственная роль интеллектуала, вынужденного служить чуждой системе, его определенно угнетала. В отличие от меня или Лео Генса, инициированных с ранней юности и до некоторого момента наивно веровавших, Лео Соонпяя знал что почем. Он быстро освоил обритый наголо советский вариант марксизма и внятно его излагал. Защитной формой для него был внешний цинизм. Не раз и по разным поводам он убеждал меня, что интеллигенция во все времена и во всех местах была продажной служанкой власти и денег, а высокие идеалы интеллектуального служения — всего лишь мираж. Более изощренным вариантом цинизма было доведение навязанной догмы до идиотского гротеска. Примером может быть глава Лео об эстонском искусстве 1920—30–х гг. в VIII томе «Истории искусства народов СССР». Прочитав ее в рукописи, я испытал глубокое смущение. Лишь позднее я сообразил, что это была пародия, которую издатели, ортодоксы и стражи доктрины из Академии художеств СССР, заглотали без тени колебания. Зато как только в идеологическом монолите появились трещины, Лео заговорил свободно. Ну, пусть не совершенно свободно, — теперь все труднее становится объяснять психологические лабиринты тех времен, нынешний читатель проектирует слова надругой фон, и они получают другой смысл. Свободно тут означает свободу по отношению к тому, уже историческому, фону. На торжественном собрании (опять торжественном, вот так протекали советские будни, из одного торжества в другое), посвященном двадцатилетию основания Союза эстонских советских художников, Лео сделал доклад, который привел в ярость главного идеолога республики, секретаря ЦК тов. Ленцмана Л. Н. Спустя лет десять я случайно узнал, что Лео в тот день должен был получить — вместе с несколькими другими критиками и художниками — звание заслуженного деятеля искусств, однако после доклада Ленцман лично перечеркнул готовые указы. Союз художников временно остался без новой порции заслуженных. Зато Лео выговорился — raakis suu puh- taks — и не жалел об этом. Но то были уже другие, далекие от темного начала пятидесятых времена.* * *
А тогда едва заметное движение атмосферы мы умели воспринимать как небесное знамение. Кто сегодня помнит один из первых сигналов грядущих перемен? Весной 1953 года, в мае или июне — быстрые два месяца миновали после смерти ошалевшего тирана — в одной из самых казенных газет, то ли в «Правде», то ли в «Культуре и жизни» (уже давно прозванной «Культура или жизнь!»), появилась статья забытого ныне Пономаренко, переведенного из Белоруссии на должность председателя Комитета по делам искусств СССР. Статья называлась «Долг и право театра» и заключала в себе неслыханную идею, а именно — будто театр имеет право на собственное «творческое лицо», отличное от лица других театров, которые имеют аналогичное право. Дерзкое свободомыслие, видимо, стоило Пономаренко места. Во всяком случае, он — по испытанной схеме — был вскоре переправлен послом в Польшу. Этот ход под именем «пас в сторону» описан в известном исследовании «Закон Питера». Разница между капиталистическим и социалистическим применением закона была, как и во всем прочем, антагонистической. У Питера «пас в сторону» применялся к бюрократам, достигшим «уровня некомпетентности», в социалистической практике отпасовывали лиц, которые демонстрировали, напротив, излишнюю компетентность. Рассказывают, некогда секретарь Московского комитета партии, Егорычев по фамилии, потрясенный поражением египетского союзника в Шестидневной войне, задал коллегам по политбюро разумный вопрос о виртуальной неподготовленности советской армии к современной войне — после чего до конца своей карьеры куковал послом то ли в Дании, то ли в Швеции. Читал ли кто странную статью Пономаренки или нет, а смутное, едва заметное ожидание перемен носилось в воздухе. И вообще, тайная жизненная энергия, не задавленная полностью, должна была проявить себя. Какие‑то микронные, невидимые для нынешнего зрения сдвиги тогда ощущались как радикальные. Вот Анте Вийдалепп выставил картину «Кройцвальд собирает народные сказания» — вы не видите большой разницы между нею и картиной «Академик Бурденко оперирует в Тартуском университете»? Напрягитесь и постарайтесь посмотреть внимательней, не упуская из виду семантическую сторону дела. Ту же операцию можно проделать, скажем, с «Кихнускими пастухами» Валериана Лойка и его же «Кингиссепом в подпольной типографии»… Гюнтер Рейндорф снова стал рисовать пейзажи — еще не так давно он был разоблачен как искейпист, укрывшийся за мертвыми пнями от изображения советского человека, и потому перестал рисовать совсем. Айно Бах — после плохо нарисованных портретов советских людей (она поверила, что техники эстампа буржуазно — формалистичны по самой своей природе) — вдруг умолкла: стала вспоминать, как это делалось на медной доске; когда же вспомнила, то выставила гравюру сухой иглой… Стали появляться лица и имена, о которых давно не было слышно… Студент Энн Пылдроос как‑то обратился ко мне с вопросом, можно ли подготовить доклад о Вийральте, — я тогда исполнял обязанности научного руководителя студенческого научного общества. Разъясняю, он обратился ко мне за разрешением, так как творчество Вийральта, которое как раз в тот момент превращалось в наследие, было под запретом: эмигрант, формалист и отчасти порнограф в одном лице, он не был достоин даже критики, он просто не существовал. Можно было бы разработать особую кроссдисциплинарную область гуманистики — лингвистическую онтологию. Некоторые ее основы в общем виде намечены Оруэллом в «1984»; Министерство правды использовало ее правила. Есть и другие исследования. Материализм исходит из того, что мир материален, следовательно — чего нет, того нет. Номинативная онтология исходит из того, что мир называем, следовательно — что не названо, того нет. И напротив, что названо, то есть. Вийральта не называли, следовательно, его и не было. Стоило ему перейти в физическое небытие, как наметилась робкая возможность его номинативного возрождения. Правда, перед тем ушел в физическое небытие другой исторический персонаж, это необходимое условие надо принять во внимание. Словом, Пылдроос пожелал говорить о Вийральте и тем самым извлечь его из номинативного ничто. Я мужественно сказал, что не вижу препятствий для задуманного исследования, оно может и должно быть осуществлено. Одновременно — чтобы не ставить под удар прогрессивно мыслящего, но невинного студента — я пообещал при случае переговорить на этот счет с партийным руководством. Еще одно тривиальное напоминание: ЦК, как гипермозг, чья тотальность исключала возможность каких‑либо автономных спинномозговых узлов, управлял всем и на всякое дело имел свой центр. В извилине культуры была специальная субизвилина для изобразительных искусств; тогда этой субизвилиной был товарищ П. Народ присвоил ему прозвище «каменный гость»: тов. П. настолько боялся ошибиться, что по большей части грозно молчал, — в отличие от театрального прообраза у Мольера, который все же говорил, и оперного, у Моцарта, который немножко пел. Действительно, по какому‑то важному поводу тов. П. посетил институт, и я, не без тайного удовольствия, обратился к нему с провокационным вопросом насчет Вийральта. Каменная лысина тов. П. чуть изменила окраску. Возможно, это имя ему не было известно, хотя партия должна была знать все — по определению. Помолчав соответственно прозвищу, он сказал, что посоветуется у себя и даст мне ответ. Надо ли добавлять, что в дальнейшем П. ничего не сказал? Но дело было сделано. Если бы кто‑нибудь стал придираться к Пылдроосу или к нам обоим, я мог бы сказать, что в ЦК о докладе знали и никаких возражений не выдвигали. Так Энн Пылдроос стал первооткрывателем Вийральта в Советской Эстонии. Интересно, сохранился ли у него текст того студенческого доклада, вот бы перечесть…* * *
* * *
Вийральт вернулся после смерти и отчасти благодаря ей. Другие возвращались по другой причине — противоположной: потому что выжили. Среди многих и многих возвращений, о которых я узнавал и которые видел, возвращение Виллема Раама имело для меня особое значение. Разумеется, я впервые увидел его уже после Сибири. Потерянные годы только обострили его профессиональную жадность: он работал так, будто стремился заполнить задним числом украденные полтора десятилетия — лучшие в человеческой жизни. Странная вещь: перед ним я чувствовал себя виноватым. Просто потому, что он сидел и чудом уцелел, а я нет, я был на свободе и занимался искусствознанием. Словно бы я занимал его место. В этом чувстве не было логики, так и полагается чувству. В стране, где все были гонимы и никто не был застрахован от преследований, даже самые старательные гонители, — я принадлежал к особо гонимому меньшинству. Оголтелый и открытый антисемитизм пригнал меня в Эстонию. Когда арестовали врачей — убийц — а это был сигнал к главной травле, за которой должно было последовать окончательное решение еврейского вопроса в СССР — студентка целую лекцию сидела перед моим носом с газетой в руках, раскрытой так, чтобы я хорошо видел набранное самым крупным шрифтом правительственное сообщение. Очевидно, она указывала мне, что я тоже убийца, хотя и не врач, а историк искусства. Искусствовед — убийца. Вскоре профессор Пауль Лухтейн в какой‑то связи спросил, знаю ли я, что мне запрещено печататься; он слыхал об этом в Комитете по делам искусств… Я не знал. Жене я об интересной новости не сказал, она ждала ребенка. Жена Виллема тоже ждала ребенка, когда его арестовали. Но со мной Сталин управиться не успел; люди моего поколения хорошо помнят освобождающее дыхание Чейна — Стокса. Через месяц врачей — убийц — тех из них, кто не умер от пыток, — выпустили на волю. В апреле мне стало можно печататься, и газета «Ohtuleht» опубликовала мою статейку о Гойе по случаю 125–летия со дня смерти. В начале июля Берия был разоблачен как вредитель, английский шпион и еще кто‑то. В середине июля родилась наша дочь Лена. Тем не менее мне было совестно перед Виллемом просто потому, что я не сидел, а он сидел. Я, разумеется, никогда не говорил ему об этом — мои признания могли выглядеть дурацкой рисовкой. Теперь можно. Я не думаю, что я занимал его место. Однажды, в ту пору, когда я мог влиять на искусствоведческие дела кафедры наиболее эффективно, я предложил пригласить Виллема Раама читать общий курс и получил согласие. Виллем с его исследовательским темпераментом, увлеченностью и эрудицией был бы замечательным приобретением для института. Он пришел, посмотрел внимательно учебные планы, программы, расписания — и отказался, тут же на месте, без долгих размышлений. Время, которое в наших тогдашних планах, «нагрузках» и других институтских занятиях растрачивалось щедро, бездумно и, конечно же, безвозвратно, ему было дорого. И он был прав. В 1957 году произошел очередной, уже не помню, какой по номеру, съезд Союза художников Эстонии. Процедура выборов очередного правления была давно рационализирована — секции на своих заседаниях определяли кандидатов по отведенной им квоте, по числу членов, затем секционные списки сводили в общий список. Предвыборная борьба, таким образом, была децентрализована и переведена на низший уровень, в секции. На съезде уже все было просто — сами предлагали, сами и голосуйте за своих. В тот раз секция критики предложила в правление Виллема Раама. Это, конечно, был жест: Виллем вряд ли стремился управлять Союзом, хотя и в правлении мог быть полезен. Партия, однако, не дремала. Вечером накануне съезда партийную группу принимали в ЦК, где руководители представили художникам — коммунистам откорректированный список будущего правления: были убраны сомнительные кандидаты и вместе с тем «усилена партийная прослойка», так это называлось. Первой жертвой пал Раам, который в глазах секретарей ЦК был особенно виноват — тем, что пострадал невинно и потому может любить советскую власть меньше, чем полагается члену правления. Его вычеркнули сразу. Ночной телефон в тот поздний вечер распространил новость лучше нынешнего интернета. Наутро в Доме художника начался съезд. Ритуальная первая половина кое‑как миновала, после обеденного перерыва должно было начаться главное действо — выборы нового правления. Провести эту деликатную и в то же время судьбоносную операцию было доверено все тому же каменному П., который по должности был партийным пастырем съезда. В обеденный перерыв он предложил остаться в зале т. н. «активу» союза. Пассив отправился обедать. Автор настоящего повествования принадлежал по какой‑то причине к активу; кажется, я был тогда в должности председателя секции критики. Словом, я остался без обеда, зато вы сейчас читаете показания очевидца… Актив призван был договориться о процедуре предстоящих выборов нового правления. Объясняю, в чем была суть проблемы. Проведение столь тонкой операции было давно и тщательно продумано и отработано до деталей. Список будущего правления, как я только что сказал, составляли заранее, демократически; партия его шлифовала до солнечного блеска. Съезду оставалось проголосовать и тем самым облечь данных товарищей полномочиями править. Допустим, решено, что в правлении будет 32 человека, по одному на каждые 10 членов Союза. И в списке 32. Выпасть оттуда почти невозможно. Но если в списке будет более 32, то в правление пройдут первые 32, остальные останутся неизбранными. И тут могут произойти нежелательные случайности: лучшие и нужнейшие люди останутся за чертой. Поэтому недополняемость списка была политической аксиомой. Кое‑кто полагал уже тогда, а некоторые полагают теперь, что это были выборы без выбора. Они упрощают проблему. Во — первых, если кандидат набирал менее 50 % голосов, то он считался неизбранным. Правда, организовать провал кандидата было трудно, но опыты такого рода истории известны. Во- вторых, знакомиться с результатами выборов было захватывающе интересно. Против X, скажем, тайно голосовало 48 человек, а против Y — 92… Икс таким способом мог узнать, сколько у него недругов, и порадоваться, что у Игрека больше; другим тоже эти цифры были небезразличны. Нет, не говорите, в тогдашней жизни был свой азарт! Выборы были действом не менее захватывающим, чем, скажем, скачки на ипподроме. Но на этот раз в игре были другие ставки — и актив твердо стоял на том, что в уже готовый список съезд имеет право добавлять новые имена. Товарищ П. каменно настаивал на том, что список окончательный. Актив неумолимо требовал соблюдения норм социалистической демократии. Тов. П., преодолевая собственное безмолвие, громко отстаивал нерушимость списка. Актив не поддавался ни за что. В конце концов тов. П. в отчаянии воскликнул: но это значит пустить дело на самотек! Он имел в виду, что универсально — руководящая роль партии таким образом ограничивается и в данный момент сводится к нулю. Актив, напротив, готов был пустить дело на самотек. Не исключено, что он даже хотел пустить дело на самотек. Стороны не сумели договориться, а тем временем обеденный перерыв кончился и пассив, накормленный, а в большинстве своем и напоенный, разогретый и готовый на подвиг, стал собираться в зал. Началось вечернее заседание. В первую же минуту поднял руку, кажется, Риххи Сагритс и потребовал включить в список Виллема Раама. Проголосовали и включили. Затем включили других. Вписали всех, кто был вычеркнут в ЦК. Самотек неистовствовал: список достиг гомерической длины. Каменный гость проиграл битву. Но он еще не понимал, каковы будут потери. Когда результаты голосования были подсчитаны, оказалось, что в правление не избрали ни одного коммуниста. Всех вычеркнули. То есть, если быть совсем точным, то одного молодого художника, которого только накануне съезда приняли кандидатом в члены партии (так это официально писалось, господа, вопреки логике языка и языку логики), все‑таки избрали; о его переходе в новое состояние просто не знали. Принятого кандидатом в члены тут же поставили ответственным секретарем правления, и это стечение обстоятельств имело далеко идущие последствия — в перспективе тени шара. Председателем только что избранное правление сделало Арнольда Аласа, беспартийного. Авторитет Аласа в этот момент был высок вследствие особых обстоятельств. Незадолго до съезда он сделал в Союзе художников доклад об импрессионизме. Назвать анализ Аласа глубоким я бы не решился. Но Алас показывал репродукции хорошего качества и по поводу каждой из них говорил, что это красиво. Между тем, импрессионизм был давно осужден советской общественностью. Утверждения Аласа поражали неслыханной смелостью. За что он и был выбран председателем. Но «беспартийный председатель Союза» — даже выражение такое следовало считать оксюмороном, возможным, как известно, только в поэтическом языке. В реальности же ситуация выглядела фантасмагорией, бредом наяву, хуже того, дело пахло коллапсом системы. Председатель не мог быть вне партии. И Аласа немедленно приняли в партию. Виллем Раам стал членом правления — «и, я уверен, принес там столько пользы, сколько можно было принести в простых и суровых условиях времени» — так я закончил было эту фразу; потом, подумав, увидел, что написал нелепость — нельзя мерить пережитое его собственными мерками, надо смешать его с «будущим прошлого» — настоящим. — Какая польза?! Зачем и кому? Вот вопросы, которые я повторяю себе самому многократно — и не нахожу правильного ответа. Сколько пустого было в этой деятельности, сколько жизни уходило бесплодно в бермудские дыры системы, когда мы, играя по ее правилам, пытались ее переиграть! Но, может быть, польза все же была, что‑то живое удавалось прикрыть, отстоять, защитить? Или мы бессознательно принимали призрачные эффекты за реальные результаты, тем более что эта вера доставляла определенный нравственный комфорт? Или верно и то и другое? Я сам отдал многие годы засасывающей активности, чьи смыслы и цели сегодня двоятся, расплываются, теряют очертания, определенность окраски, смущают своим обманным мерцанием… Мы еще обсудим этот предмет. Избрание Раама было жестом, верно. Но он и тут, помню, довольно быстро понял, что правления и президиумы, заседания и советы, ходы и контрходы пережевывают отмеренное время — и стал равнодушен к заседаниям. Его исследовательский напор я как‑то раз ощутил на себе. Однажды Виллем попросил меня просмотреть русский перевод его книги об архитектуре Эстонии, приготовленной для ленинградского издательства. Перевод был плох; переводчица была мастером, но переводила всю жизнь изящную словесность, специальный текст не был ей знаком, и для точности она калькировала оригинал. Надо было переправлять едва ли не каждую фразу, лучше уж было бы переводить самому. Но худшей карой были неиссякающие поправки самого автора: он исправлял и уточнял датировки, вставлял добавления, пробовал формулировать более четко; самокорректировка продолжалась до последней минуты. Он приносил листы машинописи, где на полях, сбоку, между строк, наискосок мельчайшим почерком были вписаны новые данные и новые идеи. Я вздыхал и брал сильную лупу… Виллем никогда не говорил со мной о лагере. Только однажды, когда мы с ним, не разгибаясь, прямо в Ленинграде, в течение нескольких дней доводили рукопись после редакторской правки, он вспомнил — не лагерь, а ссылку. Он рассказал мне, как обучал местных крестьян возделывать помидоры в сибирских условиях: рассаду выращивать в избе, на подоконниках, а в грунт высаживать, когда потеплеет… Где‑то там остался драгоценный культурный след Виллема Раама. Но почему тамошние мужики этого не умели? Никак и никоим образом я не могу и не хочу отделить себя от русской истории и культуры. Но почему же эта великая страна все еще изобретает свой особый путь, но никак не построит порядочные дороги?* * *
* * *
Году в 1956–м — нет, еще раньше, безусловно, раньше — точную дату потрудитесь поискать в архивах — в жизни кафедры истории искусства произошла перемена: она исчезла. Вот один из многих парадоксов номинативной онтологии: перестав существовать, она, однако, не превратилась в ничто. Мы оставались на своих местах и продолжали обучать студентов по мере возможностей — внешних и внутренних. Но кафедры не стало. То было время, когда разгоралась очередная борьба за «сокращение управленческого аппарата». Кому‑то из вышестоящего управленческого аппарата явилась смелая мысль соединить две кафедры и тем самым сократить низший управленческий аппарат на одну должность заведующего кафедрой. Так возникла химерическая Кафедра марксизма — ленинизма и истории искусства. Понятно, слияние не могло произойти на принципах равенства и братства. История искусства очутилась на долгие годы в тени марксизма — ленинизма. Это могло кончиться очень скверно. Достаточно было бы одного тупого, фанатичного или, еще хуже, циничного и продажного цербера доктрины — сколько я таких видел! — и мы бы погибли. Но историю искусства в Художественном институте охраняла высшая сила. Вернее, нам везло. Первым заведующим кафедрой стал доцент Арнольд Бухт. Однажды, на выпускном банкете в Тарту, после нескольких рюмок, он мне шепотом рассказал, как за ним приходили в тридцать седьмом; он тогда жил где‑то на юге России — кажется, в Ростове. В ту ночь его не оказалось дома, а на следующую ночь уже были назначены планомерные аресты других врагов народа. Бухт остался на свободе — так можно выразиться, если ты принимаешь релятивистскую картину мира. Но к марксизму — ленинизму он стал относиться холоднее, так мне казалось, а свои обязанности заведующего кафедрой исполнял халатно. Что и требовалось для духовного выживания. Случай, сотворивший парадоксальную кафедру и охранявший ее от крайностей, был настроен игриво. Он соединил в небольшом педагогическом и воспитательном сообществе лиц, чье мирное соприсутствие являло собой живой и, как всегда, бесплодный урок истории. В судьбоносный день октября 1917 года будущий доцент политической экономии Карл Трейер был в рядах штурмующих Зимний дворец, а будущий доцент истории архитектуры Эрнст Эдерберг этот дворец защищал. На кафедральных собраниях об этом не вспоминали; было и так известно, что удача сопутствовала Трейеру. Но в частных беседах Эдерберг пытался как‑то ослабить сияние октябрьской победы, наводя тень на плетень. — Хо — хо — хо, — смеялся он знаменитым эдерберговским гулким смехом, — там, во дворе Зимнего, были сложены дрова, так мы прятались за дровами; а то еще какая‑нибудь, хо — хо — хо, шальная пуля… Я охотно предоставляю это подлинное свидетельство в распоряжение историков. Доцент Трейер преподавал политическую экономию и был, кажется, почти несменяемым секретарем крохотной институтской партийной организации. Как подлинный большевик, он любил критику и самокритику. Нет, еще больше — он не мог нормально существовать без них, критика была его воздухом. Трейер приходил на кафедру, садился к столу и начинал делиться: — В райкоме был. Ох, и ругали меня, — тут он сладострастно чесал лысину, — ох, и ругали! Чувствовалось, что он испытывал неподдельное партийное наслаждение. С таким же мазохистским упорством он требовал, чтобы коллеги прослушивали его лекции. Был такой свыше установленный ритуал обязательного взаимного прослушивания лекций; мы его соблюдали только отчасти — на лекции коллег не ходили, но записывали в соответствующую тетрадку результаты мнимого взаимного посещения. Результаты, как правило, бывали положительные. Трейера липа не устраивала, ему нужна была настоящая, материальная критика, данная в ощущении. Однажды он силой, схватив за рукав, завлек меня на свою лекцию. Тема была: Гениальный труд товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Хотя автор труда к тому времени покинул этот мир, но разоблачен еще не был и временно оставался величайшим гением человечества и корифеем науки. Гениальный труд лежал перед Трейером на столе, и он читал оттуда вслух. Иногда он поднимал глаза от брошюры и с восторженным удивлением спрашивал — восклицал: — Ведь правильно?! Ведь верно?! Аудитория (это была русская группа) напоминала отчасти картину Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», отчасти же картину Тома Кутюра «Римляне времен упадка». Лектора никто не слушал — но не слушал бдительно: как только Трейер задавал восхищенный вопрос, народ нестройно кричал в ответ: «Правильно! Верно!» — и снова возвращался к своим занятиям. Иногда Трейер отрывался от текста ради собственных толкований. — Закон стоимости, — разъяснял он, — при социализме действует в ограниченной сфере, ведь правильно?! — Правильно! Совершенно верно! — Он действует только в сфере потребления, — продолжал экономист под океанский шум аудитории. Спустя минут пятнадцать он снова натыкался на закон стоимости. — Товарищ Сталин учит нас, что закон стоимости при социализме действует в ограниченной сфере, ведь правильно?! — Верно! Правильно! — Он действует только в сфере сельского хозяйства… (Диссертационное сочинение Трейера было посвящено как раз роли МТС в коллективизации сельского хозяйства Эстонии. Роль была важной, и Трейеру присвоили ученую степень кандидата наук.) — Ну, как? — спросил меня Трейер, когда мы вернулись на кафедру. — Да знаешь, Карл Густавович, не очень… Предвкушая сладкую муку, Трейер почесал лысину. — Вот, — говорю, — сначала ты сказал, что закон стоимости действует только в сфере потребления, а потом — что он действует только в сфере сельского хозяйства… — Правда, я так сказал? Да — а-а… Нет, правда, так и сказал?! — Так и сказал, вот у меня записано. — Да — а-а… Так ты понимаешь, этот вопрос же мне самому совершенно неясен! Трейер был прав, вопрос был запутанный. Как‑то студенты из русской группы поделились со мной доверительно, что они постановили Трейеру вопросов больше не задавать. Жаль, сказали они, старика. Студенты бывали не чужды человечности. После гибели Бухта — он утонул во время купания — кафедру возглавил на долгие годы Аполлоний Чернов. Пора сказать правду: Чернов тоже относился к своим обязанностям халатно. Я отношу это к его заслугам, независимо от того, стояла ли за этим небрежением какая‑либо теория или хотя бы осознанное намерение. Халатное управление кафедрой марксизма — ленинизма (и истории искусства), если оценивать его по абсолютной шкале, было полезно само по себе.* * *
* * *
Жизнь чертила свою кривую. Лехт все еще боролся за правильную перспективу, мягко растушеванный рисунок и идеологически насыщенное искусство, а непредвиденные последствия XX съезда этому противодействовали. В железном занавесе образовались небольшие прорехи — и на сплошных стенах советского дома, как на стене платоновской пещеры, стали неясно рисоваться тени (естественно — плоские) какой‑то другой, внешней, хорошо освещенной и объемной реальности. Братские социалистические страны были первыми поставщиками образцов. Конечно, это были тени — но и тени, говоря языком Платона, позволяют восходить к эйдосам, пусть это доступно лишь избранным. Как только стало возможно, я сразу выписал «Bildende Kunst», «Przegld Artystyczny» и даже венгерский «Mьveszet», где уже вовсе ничего нельзя было понять. И я был — как все. Принцип относительности еще раз показал свою силу: в этих робких изданиях нам чудилось дыхание художественной свободы. Они — там — позволяли себе несколько деформировать видимые предметы, а кое — где, например в Польше при Гомулке, происходили еще худшие вещи! Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве, несмотря на самоотверженные труды КГБ, пробил еще одну брешь — вскоре охранители доктринальных основ заговорили о «фестивальном стиле». Американская выставка в Москве проделала следующую дыру. Геодезический купол Бакминстера Фуллера (оставленный в Сокольниках в подарок), салон красоты мадам Рубинштейн, цветные телевизоры, стереосистемы, штаны, ботинки, рубашки и еще Бог весть что… Ослепленная, одуревшая толпа посреди невиданного — ну, просто не от мира сего — изобилия… Под вечер у книжного стенда я увидел пару: молодой американский парень, студент — славист, помогал маленькой седой русской женщине найти какие‑то сведения в толстых справочниках; две головы, склонившиеся над книгой, образовали крохотный островок тишины и сосредоточенности посреди оргии вещественности. Остров утешения. Но главное было в другом месте. Каталог художественного отдела выставки, посеревший и поблекший, я хранил особенно заботливо — до самого отъезда в Штаты. Подлинные холсты Джексона Поллока (их было два рядом, помню отчетливо), Роберта Мотервелла, Марка Ротко, Джорджии О’Кифф, мобили Александра Колдера, скульптуры Ибрама Лассау обозначили мою первую встречу, лицом к лицу, с современным искусством. Это была провокация — непосредственный эффект видения был шоковым ввиду его несоразмерности моему опыту и доктринальной завороженности. Но некий тайный орган эстетической чувствительности, не атрофированный полностью, отозвался первым, и он дал неощутимый поначалу толчок последующим размышлениям. Я мог им предаваться с врожденной медлительностью, которая меня, правда, никак не украшает. Но жизнь вокруг не медлила. Протекавшая сквозь щели информация накладывалась на неубитую память, и это соединение было не то чтобы взрывоопасным, но — скажем так — продуктивным. Виды на перспективное сокращение тени шара в этой связи изменились. Вспомним, что среди пластических искусств реформы послесталинских лет коснулись прежде всего архитектуры. На метафорическом языке эпохи это властное побуждение называлось борьбой с украшательством и излишествами — соответствующее всесоюзное совещание произошло, если я правильно помню, в 1954 году, и архитекторы, вернувшись в свои мастерские, принялись виртуально сбивать с готовых проектов колонны, пилястры, волюты, статуи, фронтончики, сандрики, наличники, гирлянды, башенки, шатры и закомары. Воспоминания о конструктивизме и функционализме перестали быть запретными и стали постепенно похвальными; более того, вскоре обнаружилось, что социалистический реализм (как и реализм вообще) в архитектуре как раз и заключается в правдивом выражении функции и тектонической работы всех элементов здания и здания в целом. Вспомнили добрым словом и Баухауз. Кто бы мог подумать, что в этой ретроспективе был скрыт зародыш роковых событий? Во всяком случае, об этом совершенно не думал Лео Гене, когда он, году в 1958–м, а может — в начале 1959–го, написал и снес в редакцию «Siгр» ’ а статью, полную интересных мыслей. Гене заметил, что ГХИ ЭССР — уникальное учебное заведение, чья структура делает его потенциально подобным Баухаузу, поскольку вместе, пока — только под одной крышей, собраны все пластические искусства: тектонические, свободные, прикладные и декоративные… Идея статьи была проста и неожиданна вместе. Надо преодолеть феодальную обособленность отдельных кафедр и согласовать их программы так, чтобы готовить студентов к созданию единой (быть может — стилистически единой, или — концептуально единой), взаимно скоординированной предметно — пространственной среды. Тогда передовая искусствоведческая и эстетическая мысль, пытаясь обойти соцреалистический бастион, искала пути в архитектурно — прикладных сферах: близилась реабилитация дизайна и созревала теоретическая позиция, которая вскоре получила изящное название «средового подхода». Одним словом, Лео Гене с присущим ему темпераментом, не знающим дипломатических уловок, призвал к превращению института в Новый Баухауз. Статью опубликовали. Буквально на следующий день был созван Ученый совет. Я уже упоминал, что заседания Совета были обязательными для всех, включая технический персонал и моделей. Так называемый актовый зал был полон, когда вошел разъяренный Лехт с «Sirp»’oM в руках. Никогда еще контраст между белизной его бородки и краснотой карнации не был таким драматическим. Может быть, так багровел Зевс, перед тем как исторгнуть из себя молнии. Программа занятий Совета была объявлена заранее, но директор сразу заявил, что он возмущен статьей Генса. Этому, сказал он, будет посвящено специальное заседание Совета, вот сейчас, скоро, уже через два дня. Не вдаваясь в детали, он сделал только одно общее замечание. Гене, информировал нас Лехт, заражен буржуазным сознанием. Все вы здесь заражены буржуазным сознанием, добавил он. Партия вас учила, учит и будет учить. В последней фразе можно было уловить обещание. Во всяком случае, когда на следующее утро Гене явился в институт, его встретил в коридоре Макс Роосма, заведующий кафедрой стекла, тогда — суверенной, и спросил, спал ли он минувшей ночью. Я не мог уснуть, добавил он. Как выяснилось, беззаботный Гене смог. Но День Совета приближался, все замерло в ожидании. Первым на историческом Совете выступил сам директор. В статье Генса он, разумеется, ничего не понял. К тому же эстонский язык, как мы помним, был ему неизвестен, кроме «tere» он ничего не умел; в случае необходимости ему переводила секретарь, Вера Артуровна Брошниовски, — она делала это старательно, но не вникая в смысл. Словом, из всего, что было написано в статье, он воспринял только одно — что Гене критикует дела в Институте и, следовательно, его, Лехта, идейное и художественное руководство. Этого рода критика могла иметь место только в силу своей буржуазной и формалистической природы, которую следовало тут же разоблачить. После директора выступил старший преподаватель кафедры рисунка, неумолимый реалист и художник глубоко партийный. Он всей душой поддержал директора и его линию. Следующим попросил предоставить ему слово человек, которого никто не знал, поскольку он только что был назначен на работу в институт. Тут снова требуется небольшое отступление. О проблемах реального социализма сказано немало. Но одна из них должна быть упомянута немедленно. Имелась постоянная неуверенность в отношении военно — патриотической оснащенности студентов художественных учебных заведений. До какой степени будущие живописцы или там скрипачи должны быть подготовлены к защите социалистического отечества? — вот вопрос, который решался по — разному; видимо, политически правильный ответ найти было трудно[18]. В те дни, о которых речь, стрелка весов снова склонилась в сторону академической подготовки — и в институте была учреждена военная кафедра. (Боже мой, история военного дела в Художественном институте ЭССР заслуживает специального очерка — почему жизнь коротка, а воспоминания о ней бесконечны?) Заведовать военной кафедрой был назначен полковник Пауль. Он—το и поднялся на кафедру следующим — и все замерли, затаив дыхание; такой поворот сюжета выводил драму в совершенно непредсказуемое русло. Что скажет полковник? Пауль, в полной военной форме и при орденских колодках, стал за уникальную резную деревянную кафедру, которая была гордостью официальных церемоний института, пока — уже в либеральные времена — ее драгоценные украшения не были отчасти повреждены, а по большей части разворованы. Товарищи, сказал полковник, я не специалист и в искусстве не разбираюсь. Но то, что здесь происходит, это, по — моему, зажим критики. А Ленин учил, что если в критике есть хотя бы десять процентов правды (я цитирую полковника Пауля по памяти; сколько точно по Ленину должно быть процентов правды в критике, я помню плохо), то надо взять эти десять процентов и исправлять, а не глушить! Таково было краткое слово полковника Пауля, положившее начало его гражданской славе. Случайному наблюдателю могло бы показаться, что последующие выступления были исполнением приказа. Один за другим за историческую кафедру становились преподаватели института и грудью защищали Генса. Нет — нет, никто так и не воодушевился концепцией Нового Баухауза. Это был бунт на корабле. Когда же преподаватель рисунка, реалист и партийный живописец, взял слово вторично, чтобы заявить, что он вначале не разобрался, а теперь понял мысль Генса и полностью с нею согласен, всем послышался скрип колеса истории. Лео Гене, не подозревая об этом, инициировал лавину. Лед, хотя медленно и нелепо, но двигался в разных направлениях. Фридрих Лехт, рассорившись с целым институтом, остался на своей льдине один. Даже руководители эстонской компартии поняли, что надо что‑то менять…* * *
Однажды, все в том же 1959–м, я столкнулся в дверях института с Яаном Варесом. — Знаешь, — сказал он, смущаясь и как бы конфиденциально, — меня вызывали в ЦК и предложили подготовить бумаги на должность ректора… Близились легендарные шестидесятые годы. 1999/2006 (обратно)После оттепели
Пятьдесят девятый год мне кажется во многих отношениях переломным. Среди дипломных работ, одобренных и защищенных в тот год, была серия литографий Пеетера Уласа «Огнем и мечом» и иллюстрации Херальда Ээльма к «Правде и праву» Таммсааре в гравюре на дереве. Деревянный и лаконичный язык Ээльма был далек от заглаженных и безликих иллюстраций пятидесятых годов — если соотнести его с общим фоном, то можно было бы сказать, что его гравюры оказались провозвестниками «сурового стиля» и одновременно новым шагом в сторону «эстонских ценностей». В масштабах великой страны этот стиль сыграл свою роль и сравнительно быстро сошел со сцены, но приготовил ее — сцену — для других драм. Конечно, историк, который всегда знает, что наступило после, да еще и хорошо осведомлен о том, что делалось тогда в других мирах, видит в суровых нефтяниках, мужественных геологах и трактористах или воодушевленных наукой физиках простое продолжение идеального мира соцреалистической утопии, не более того. Этот взгляд на вещи имеет рациональные основания, я и сам сейчас гляжу на картины тех лет со сходными чувствами. Но я в состоянии раздвоиться и посмотреть на них оттуда, из памяти — и увидеть в них бунт. Да, конечно, бунт внутри доктрины, который и был главным нервом шестидесятничества с его наивной и часто искренней верой в возможность социализма с человеческим лицом в одной, отдельно взятой стране. Я еще вернусь к этому сюжету, а сейчас только добавлю, что эстонский вариант был, так сказать, неклассическим, особым: здесь индоктринация была покороче, иммунитет был сильней, коллективный духовный организм отторгал патетику… Дипломные литографии Уласа я бы не отнес к заре «сурового стиля» — это была уж вовсе другая экспрессия и другая мощь. Думаю, что профессор Пауль Лухтейн был по меньшей мере смущен странной птицей, которую высидела руководимая им кафедра; кажется, у Уласа были трудности с утверждением диплома. Возможно, Лухтейна и позже смущало, что в архиве кафедры хранился небольшой тираж серии, — один комплект он подарил мне, и я ему благодарен за удачное пополнение моей коллекции. Не знаю, как смотрит на свои дипломные литографии сегодня сам Пеетер Улас, но могу предугадать, как посмотрели бы на них сегодняшние лидеры эстонского постмодернизма, которые об этих листах, вероятно, не имеют понятия. Каждому мгновению жизни рефлектирующего искусства — а другого уже давно не бывает — присуще чувство собственного совершенства, достигнутого вот сейчас, только что; иначе говоря — свойственно полагать себя целью, к которой ведут предыдущие художественные события. То, что «было перед», ощущается не только как несовершенное, но и как средство, инструмент, как мощеная дорога, по которой влекли камни для воздвижения пирамиды. Пирамида готова — и дорога остается частью ее истории. Виртуальные миры, интеракции и все еще живые перформансы, концептуальные ребусы и высокосексуальные символы должны переживаться как гребень истории хотя бы потому, что они — на кромке времени, за которой всегда пустое будущее. К тому же глубоко въевшиеся представления о прогрессе, об истории искусства как восхождении питали и все еще питают профессиональное сознание. Я, однако, полагаю, что любое более или менее достойное произведение находится сразу в нескольких измерениях. Пространство временной последовательности, преемственности и отказа, соотнесение с тем, что будет, — только одно из них. В другом измерении произведение замкнуто на свое время и место и обладает собственной ценностью вне зависимости от того, что наступит или не наступит. Оно достаточно своему культурному мгновению, открыто говорит современникам и соплеменникам. В своем контексте, в своем отличии от фона, творения, подобные ранним эстампам Уласа, были революционными и значили куда больше, нежели сегодня может значить, скажем, самая что ни на есть дерзновенная экспозиция гигантских фаллосов вдоль дороги Таллинн— Тарту или еще что‑нибудь не менее героическое. Позднее эти молодые художники делали вещи более профессионально зрелые и глубокие? Да, конечно, но и эти самодостаточны и замечательны уже тем, что время говорит сквозь них без вранья, унижения и холуйства. Так или иначе, свою дипломную серию Улас защитил — а это была уже некоторая апробация. В том же 1959 году произошла первая выставка молодых художников. Это был прорыв. Поверьте мне, это был прорыв, публичная декларация внутреннего раскрепощения. Умело или неумело, эхом экспрессивных деформаций, виденных в журналах братских социалистических стран, или собственной, своей, доморощенной энергией и пониманиями, но тут произошел первый массовый выброс свободы, и он не мог не стать детонатором. Непокорность молодых воодушевила зрелых. После обсуждения выставки, которое, по обычаю, следовало запить, внизу, в клубе художников — kunstiklubi — ко мне подошел Эльмар Ките, уже немного запивший, и сказал с обидой и вызовом: — Знаешь, Бернштейн, а я тоже так могу. Только гораздо лучше. Я ответил, что догадываюсь, а Ките вскоре показал, что может. Эти молодые не только провоцировали старших, они обучали критиков. Меня уж во всяком случае. Вернемся наверх, в выставочный зал Дома художников. Конечно, там было выставлено всякое; среди молодых тоже имелись твердые сторонники реализма, партийности и народности искусства. К тому же, молодыми по правилам Союза художников считались все, кто завершил художественное образование менее десяти лет назад, так что среди молодых попадались лица второй свежести. Одно из незыблемых правил выставочной жизни пятидесятых годов требовало, чтобы после каждой выставки происходило ее обсуждение. Это был сакральный акт огромного значения. Нынешние постэкспозиционные симпозиумы, конференции, круглые столы и дискуссии — лишь бледная тень великих и патетических Обсуждений республиканских, межреспубликанских, всесоюзных общих и тематических выставок. Институту Обсуждений может быть посвящена отдельная мемуарная глава, нет — монументальное исследование или даже эпическая поэма. На это, однако, у меня нет ни времени, ни дарований. Автор этих строк был в тот момент как раз молодым критиком; десятка лет не миновало с того момента, как ему был вручен диплом историка искусства. Очевидно, его молодостью можно объяснить тот факт, что он взялся делать Основной доклад на Обсуждении первой молодежной выставки. Исходная мысль его доклада была та, что все стили хороши, что необходимо множество направлений, утверждающих свое место в свободном и дружественном соревновании. И пусть зрители, критики, одним словом — «общественность» — пусть она произносит свой приговор, пусть сама жизнь покажет, чьи творения наиболее убедительны и жизнеспособны. На сегодняшний взгляд идея эта банальна до полной неразличимости, а ее словесное выражение простоархаично, не так ли? Но докладчику тогда она казалась достаточно свежей. И, как выяснилось, не только ему. Тем более что, уже как критик и, некоторым образом, общественность, он заявил, что на этой выставке силы оказались неравны — реализм представлен профессионально слабыми и, как бы это деликатней назвать, не вполне талантливыми произведениями. Я не успел отойти от амвона, как ко мне подошел реалист К. и сказал хриплым голосом: — Слушай, я тебя убью. — На, убивай, — отвечал я, знаково распахнув пиджак. (Вот так, рискуя жизнью, мы пытались культивировать вирус художественного плюрализма. Но я не хотел бы искажать истину, прибавляя своей истории хоть каплю выдуманного героизма, которого не было на самом деле: нет, нет, у этого художника был вообще хриплый голос; после какой‑то операции на горле он всегда говорил хрипло.) После Обсуждения молодежная газета предложила трансформировать доклад в статью. Художнику К·, уж не знаю каким образом, стало известно о таком повороте дела, и он стал убедительно и хрипло просить меня смягчить интонацию абзаца, посвященного его произведению. Я, конечно, смягчил — и по слабости характера, и по принципиальным соображениям, ибо сам лансировал плюрализм! С этим мягким местом статья и вышла. Вскоре оказалось, что художник заходил с хриплым творческим разговором не только ко мне. Надвигался очередной съезд художников Эстонии: демократия соблюдалась неумолимо, каждые два года, хоть умри, а съезд должен быть. Вечером накануне съезда — этого, как мы помним, требовал социалистический характер демократии, — партийную группу Союза пригласили в ЦК на дружескую беседу и, во избежание самотека, дали ряд советов. Поздно ночью мне позвонила коллега и приятельница Хелене Кума, коммунистка, и предупредила, что перед секретарями ЦК, Первым и Вторым, лежала газета с моей статьей, исчерканной красным карандашом, и что секретари меня откровенно и по — партийному критиковали за формализм и ревизионизм, а секретарь Ленцман, в прошлом учитель истории, остроумно заметил, что не случайно у меня и фамилия такая. Он не мое еврейство имел в виду, а нечто еще худшее, если такое возможно. Был у меня однофамилец, Эдуард Бернштейн, ревизионист, вынувший, как известно, из марксизма его живую душу, то есть отрицавший необходимость пролетарской революции и стоявший на том, что движение — все, а цель — ничто. Ленцман намекал, что склонность к ревизии Учения передается не генетическим, но семиотическим путем — вместе с именем, которое, как известно, занимает в мире слов особое место. Как бы там ни было с теорией, но Кума была обеспокоена и считала своим дружеским долгом приготовить меня к дальнейшим неприятностям. И ей, и мне было ясно, что это партийный художник — реалист своевременно обратил внимание партийного руководства на вредную активность одного критика. Наутро я пришел в институт читать очередную лекцию. В коридоре меня встретил Оскар Раунам, проректор; мне даже показалось, что он меня подстерегал. Раунам предложил пройти в его кабинет и присесть. Затем он осведомился, знаю ли я, что вчера вечером говорилось на мой счет в ЦК. Я отвечал, что знаю. «Вот и хорошо, — сказал Раунам. — А то я хотел вам рассказать». Я поблагодарил. Уже выходя из кабинета, я вспомнил ход дел на предыдущем съезде, развеселился и добавил: «Знаете, Раунам, я бы не советовал Ленцману ругать меня на съезде — меня могут еще куда‑нибудь выбрать…» Шуточное предположение оправдалось: через день волею съезда я вознесся из административного ничтожества в правление Союза и еще выше — в президиум правления. Таково было побочное следствие первой молодежной выставки для меня лично. Спустя несколько лет я был вознесен еще выше — и стал членом правления всесоюзного Союза художников… К добру ли? Если не считать неудачников и счастливчиков, все люди живут одинаково плохо, но живут они плохо на разных этажах. Это этажное самолюбие представляет собой сегодня для человека, которому, в общем, не очень‑то виден смысл его жизни, чрезвычайно заманчивый заменитель. Такой вот простой и мудрый афоризм принадлежит, к сожалению, не мне, а Роберту Музилю. В некотором смысле он и про меня.* * *
Это был разгар оттепели — начало 60–х годов, время расцветающих иллюзий, колыбельные годы шестидесятничества. В Таллинн приехал журналист, заведующий отделом искусства в журнале, который сам по себе был символом обольщений хрущевской поры. Юрий Максимилианович Овсянников был из «Юности». Высокий, с ранней, верней — молодой сединой, безупречно элегантный, чуть картавящий — или грассирующий? — он ходил по мастерским молодых художников, где готовили закваску другого, не соцреалистического искусства, смотрел, завязывал дружбы, быстро и хорошо запоминал. Спустя два десятка лет безошибочно спрашивал — ну, а что Олав? А Энн? Не помню, кто нас познакомил. Мы легко поняли друг друга, и он заказал мне статью о молодых художниках Эстонии. Статью я написал, собрал репродукции, отправил в журнал, материал — как это называется на специальном языке — приняли, а там начался сокрытый от глаз провинциального автора издательский процесс. Автор занялся другими делами. Столичная жизнь, между тем, не стояла на месте. Искусствоведческий эпизод руководящей деятельности Н. С. Хрущева ближе к нашим дням уже был описан достаточно подробно[19]. Однако в народной памяти все еще плавают обломки мифов, сотворенных казенной пропагандой и массовым воображением. Для связности повествования (и для первоначальной мифографической дезинфекции) напомню о том, что знаю со слов, в достаточной мере надежных, и из воспоминаний очевидцев. Хрущев одно время пытался симулировать глубоко противную его партийной натуре нейтральность по отношению к художественным процессам. Наскоро скроенный миф о ленинском художественном либерализме был подкреплен извлечениями из соответствующих мемуарных подвалов — не любил, мол, Ильич, левое искусство, но разрешал, признавался, что не понимает, и переадресовывал к Анатоль Васильичу… Чего только не найдешь в мемуарах![20] Хрущевское притворство мало чего стоило, достаточно вспомнить судьбу Пастернака. Но там, где нутро терпело, Главный понуждал себя поступать по пасторальной выкройке «ленинских принципов руководства искусством». Дементий Алексеевич Шмаринов, лицо, приближенное к вершинам, рассказывал мне о визите Хрущева на очередную Всесоюзную выставку — в Манеже, разумеется. Передаю его рассказ своими словами. Пока Хрущев со свитой, в окружении допущенных художников — ну там, самые народные, академики, руководители Союза художников, президиум Академии художеств — переходил из одного отсека в другой, выслушивая авторитетные пояснения, один знаменитый живописец упорно топтался в кубикуле, где висела его картина, и ждал, когда кортеж доберется до его творения. («Его не интересовало, — критически заметил в этом месте повествователь, — что Никита Сергеевич думает о произведениях его коллег!») Живописец этот был Александр Лактионов, слава советского искусства, знамя подлинного реализма. Нынче его «Письмо с фронта» или «Вселение в новую квартиру» ушло бы на аукционе Сотбис за большие миллионы. Да и та картина, о которой речь, собрала бы недурную сумму[21] — только шиш, не дождутся они нового Сталина, который будет распродавать национальные сокровища. Картина называлась по — газетному, без лишних затей: «Обеспеченная старость». С беспощадной лактионовской правдивостью был написан ковер, мягкий диван, кресла, детали царственного интерьера, где разместились старые актеры, обеспеченно коротающие закатные дни в специальном приюте. Актеры блаженно улыбаются. За их спиной цветущая девушка, подобие тициановой Лавинии — неужели всего лишь подавальщица? нет, скорее уж аллегория изобилия, прямо Церера, — высоко поднимает роскошную вазу с фруктами, которые театральные эмериты едят, когда им этого хочется. В данный момент, как видно из картинной ситуации, никому не хочется. Но изобилие присутствует здесь как перманентно открытая возможность. Перед этой картиной, по жанру — групповым портретом — натюрмортом, и стоял ее создатель, ожидая прибытия Никиты Сергеевича. Наконец, сбылось. Лактионов — видный мужчина, с очень белой кожей, которую эффектно оттеняла очень черная борода и черные волосы, — быстро протолкался к руководителю партии и не чинясь спросил прямо, каково его мнение о выставленной здесь картине. Хрущев (видимо, вспомнив о Ленине) отвечал, что он — не специалист, в искусстве не разбирается, пусть решают знающие люди. Лактионов, однако, настаивал: — Ну вам, Никита Сергеевич, нравится моя картина? — Еще раз повторяю, товарищ Лактионов, — упрямился Хрущев, — я в вопросах искусства не разбираюсь; и вообще, скажу вам, у нас в политбюро существует согласие по всем вопросам, кроме вопросов искусства, тут разные мнения… — Но вам лично, вам лично моя картина нравится? — Ну, если вы хотите знать мое личное мнение, то мне ваша картина нравится. Но имейте в виду — это не установка! Как показали дальнейшие события, последнюю фразу Лактионов пропустил мимо ушей. Но мы не о Лактионове, а о его собеседнике. Художественно — критическое воздержание давалось ему не без труда, а между тем сама логика событий потребовала более партийного подхода. Настоящие враги социалистического реализма, классики формализма были уже по существу не так опасны, да и немного их уцелело. Но молодые художники, зачарованные миражами оттепели, позволяли себе все более смелые творческие жесты, мало того — отбирали места в руководящих структурах Союза художников. Это было уже и вовсе нестерпимо. Дело шло к подрыву основ — и тогда в контратаку пошла Масловка. Пытаясь удержать аромат времени, я употребляю метонимию, которая была понятна каждому тогда, а ныне превратилась в нечитаемый иероглиф. Поясню. Сначала о метонимии. Как говорится в справочном издании, метонимией называется троп, в котором одно понятие заменяется другим на основании тесной связи между понятиями. Тесная связь существует, напр., между причиной и следствием, орудием и действием, автором и его произведением, владельцем и собственностью, материалом и сделанной из него вещью, содержащим и содержимым и т. д. Понятия, состоящие в подобной связи, и употребляются в речи одно вместо другого. Напр.: 1. Причина вместо следствия: огонь истребил деревню. 2. Орудие вместо действия: какое бойкое перо! 3. Автор — произведение: читаю Пушкина. 4. Владелец — собственность: сосед горит! 5. Материал — вещь: весь шкаф занят серебром; „не то на серебре, на золоте едал". 6. Содержащее — содержимое: обед из трех блюд; я две тарелки съел». Последний случай нам подходит. Скажем, Монмартр в Париже в прямом своем значении — это «Гора мучеников», название городского района, связанное со старинной легендой о казни христианских святых. Но с тех пор как там стали селиться молодые художники — авангардисты, содержащее стало возможным употреблять для обозначения содержимого — парижской художественной богемы. Примерно то же для Москвы была Масловка — там получали ателье и квартиры лучшие мастера советского искусства. Я хотел бы поставить акцент на слове «получали»: Пикассо времен Бато Лавуар, да и более поздний, ателье на Масловке не получил бы ни за что. Другое дело Шурпин. Так вот, содержимое Масловки, говорят, стало писать в ЦК партии горячие письма, где указывалось, что принципы социалистического реализма находятся под угрозой[22]. Подписи были нешуточные — академики, народные художники, многократные лауреаты главных премий. Многие десятки подписей, за сотню переваливало. Таково было авторитетное давление снизу — и с ним невозможно было не считаться. Как всегда, однако, чтобы преломить инерционное движение, требовалось некое критическое событие. Для возбуждения встречного движения надо было сконструировать пусковой механизм. Это и было сделано. Работал в Москве такой талантливый человек, художник, исследователь, педагог, Белютин по фамилии. У него были свои педагогические идеи, которые опробовать в академических учебных заведениях возможности не было. Он учредил самодеятельную студию, где любителям и энтузиастам не только позволено было, но и предписывалось использовать различные способы выражения. Главным из них была экспрессивная деформация. Какой художник не хочет показать свои творения? Время от времени студийцы Белютина выставляли свои работы. Одна такая выставка открылась в Доме учителя Таганского района, где проходили занятия студии. Дом учителя располагался на улице с хорошим названием — Коммунистическая. Даже, кажется, — Большая Коммунистическая. Это существенно. Не знаю уж, как эту выставку рекламировали ее устроители, но реальность превзошла самые смелые гипотезы: в урочный час к Дому учителя стеклись нешуточные толпы, где заметно доминировала московская интеллигенция. А наутро прибыли иностранные журналисты. Кто их пригласил — остается неразгаданной тайной. Кто бы это мог быть? Я отношусь к презумпции невиновности с неколебимым уважением. Но мои московские друзья намекали, что это могли быть скорее всего ведущие люди академического соцреализма, может быть даже главные блюстители доктрины в самом ЦК. Хотелось бы найти следы парадоксальности в их поступках, но нет, не получается. Все логично, и тем и другим нужен был идеологический скандал — и, как увидим сейчас, они его получили. Уже на следующий день в реакционной империалистической прессе появились злорадные сообщения под броскими названиями, например — «Абстракционизм на коммунистической улице»..[23] Нетрудно догадаться, что этого типа провокационные статьи оказались на столе у самого Хрущева. Антон Павлович Чехов когда‑то утверждал, что кормит тещу сырым мясом, перед тем как отправить ее в редакции за гонораром. На этот раз роль сырого мяса, говорят, сыграла подготовленная в идеологическом отделе ЦК специальная справка, которая должна была разъярить вождя. Никиту Сергеевича натравили (а может, и сам собирался) посетить в Манеже выставку, посвященную 30–летию Московского Союза художников. Выставка сама по себе была манифестацией смелых идей нового руководства московского Союза — там были экспонированы художники, которые не видели выставочного света в течение десятилетий. А тут еще эта Коммунистическая улица… Цековские охранители велели наново собрать уже снятую выставку белютинцев и переправить ее в Манеж. Дальнейшее хорошо известно. Вождь отложил в сторону хрупкие либеральности, кричал, непристойно ругался, называл формалистов пидарасами, возмещая неполноту профессиональной лексики… Раунд остался за Масловкой, началась очередная полоса перевоспитания художественной интеллигенции.* * *
* * *
Мне недавно подарили компакт — диск с документальной записью — очень полезной, она освежила память. На диске зафиксирован фрагмент встречи Никиты Сергеевича Хрущева с представителями творческой интеллигенции (прошу прощения, так это тогда называлось). Визуальная сторона отсутствует, но и одной акустической достаточно, чтобы стереть патину времени. Я припоминаю кадры кинохроники с изображением встреч, казенные сообщения в газетах. Но там не было того, что записано с живого собеседования. Хрущев, после посещения манежной выставки, изобрел «мягкий» механизм идеологического перевоспитания интеллигенции, без расстрелов и даже напротив — с угощением. Это были большие обеды с назидательными беседами. (Я оставляю в стороне бестактный вопрос о том, кто платил; надо полагать, что у Хрущева было.) Основную массу составляли писатели, художники, кинематографисты, верные принципам, при их поддержке и с их помощью шел процесс перевоспитания заблудших. Вот один из них, поэт Андрей Вознесенский. Ему предоставляют слово. Как сейчас станет видно, слово ему предоставляют, но произнести его не дают. Поэт, очевидно, знал, о чем будет разговор, и приготовился. Он начинает высоким голосом, громко, торжественно и размеренно, словно это поэтический концерт на стадионе в Лужниках: — Как и мой учитель Владимир Маяковский, я не член партии… — Это не заслуга! — перебивая, орет Хрущев. Он орет очень громко, поскольку у его кошелькового рта самый чувствительный микрофон. — Это не заслуга! Подумаешь, он не член партии! Ишь ты какой нашелся! Вознесенский, желая сохранить целостность заранее выстроенного выступления, начинает снова: — Как и мой учитель Владимир Маяковский, я не член партии… — Ишь ты какой нашелся! Это что же такое получается? (Очень громко.) Что у нас тут образуется какое‑то общество беспартийных! (Еще громче.) Не будет этого! Это Эренбург выдумал какую‑то оттепель! (Еще громче.) Нету оттепели! Мороз! Мороз! Прекращу цитирование. Вознесенскому в течение десяти минут так и не удалось пойти дальше беспартийности Маяковского, все остальное время заняли окрики все более распалявшего себя партийного хозяина, сопровождаемые холуйскими репликами и одобрительным гулом преданной аудитории — Кочетовых, Грибачевых, Софроновых, Василевских, Серовых, Шурпиных… несть им числа. Иногда вождь позволял себе шутить — его метафорика не поднималась выше пояса, — и тогда цвет государственной литературы и искусства охотно и угодливо гоготал. Эта публика была омерзительней человека, который ею командовал. Следующим за Вознесенским был художник А. Голицын. Чем провинился Голицын, мне ухватить не удалось. Но, видимо, что- то у него было не так. Он начал совсем не так парадно, как Вознесенский, — запинаясь, он благодарил Хрущева за то, что выпустили из лагеря его родителей. Благодарил за то, что невинных людей, которых терзали неведомо сколько лет, признали невинными! Это, естественно, ему не помогло, его, благодарного, подвергли такой же хамской процедуре публичной порки… Номер журнала «Юность» с моей статьей вышел ровно накануне манежного погрома. Советский категорический императив не был распылен по отдельным особям, но сосредоточен в одном месте. От этого его императивность только возрастала. Культурное событие державного масштаба требовало немедленного, повсеместного и деятельного отклика. Бернштейн и молодые художники Эстонии пришлись тут как нельзя кстати. Газету «Советская культура», не только рептильную (других, собственно, и не было), но еще и безнадежно серую, самый шрифт наводил тоску, — мы эту «Культуру» не выписывали. Но изредка на жену что‑то находило, и она, возвращаясь домой, в газетной будке на углу, у трамвайной остановки, набирала целый ворох периодики. Так и в тот день. Поздно вечером, когда наступил час свободного чтения, она развернула газету и с заметным оживлением воскликнула — о, а тут и про нас написано! Действительно, в центральной газете была помещена грозная статейка без подписи — это означало, что выражается высшее, внеперсональное мнение. Там в боевитом хрущевском духе, разве только без непечатной ругани, доставалось журналу «Юность», молодым художникам Эстонии, вступившим на ложный путь, а пуще всего — автору статьи, который дезориентирует и молодых художников, и всю общественность[24]. Так пышно началось наше знакомство с Овсянниковым. Не знаю, был ли он наказан за эту публикацию. Наше сотрудничество позднее прервалось, но совсем по другим причинам, а вернее сказать — без причин. Общих дел не было. Мы снова встретились в начале семидесятых, и об этом позже.* * *
Моя внучка однажды выдала свою озадаченность. Она видела, что все — мама, папа, дедушка, бабушка исчезают из домашнего мира и перемещаются в неопределенное внешнее пространство, которое называется работой. Они «уходят на работу». Когда давление познавательного импульса стало невыносимым, внучка не выдержала и спросила у меня — дедушка, а что делают на работе? Ныне выросшие внуки могли бы с неменьшим правом задать похожий вопрос — а что ты, собственно, делал в Правлении Союза художников СССР? А я мог бы ответить просто — ничего не делал, ибо, по правилам социалистической демократии, Правление ничем не правило. А попал я туда также в соответствии с правилами социалистической демократии, которые были вовсе не так монотонны, как это кажется ее сегодняшним критикам и описателям. Если кто‑либо заявит, что в Советском Союзе демократические процедуры никогда не соблюдались, он будет неправ. Соблюдались, хотя не все. Можно вывести определенную формулу: чем меньше реального значения имела процедура, чем менее социально содержательной она была, тем более скрупулезно она исполнялась. Если обозначить реальное значение процедуры через R, а идиотическую тщательность ее исполнения через I, то формула будет выглядеть следующим образом: I = 1/R Поясню это примером из области, имеющей прямое отношение к моему повествованию. Как известно, в 1932 году ЦК ВКП(б) принял историческое постановление «О перестройке литературно — художественных организаций», благодаря которому советские писатели, художники, композиторы, архитекторы сливались в единые творческие союзы: одна шея позволяла прямое управление из головы, упрощала кормление и была удобна для других надобностей. Были созданы оргкомитеты для подготовки учредительных съездов — ив августе 1934 года произошел I Съезд советских писателей, где идея социалистического реализма получила законченную, внятную форму. «Такой съезд, как этот, не собрать никому, кроме нас — большевиков», — правильно сказал в своей вступительной речи тов. А. А. Жданов[25]. Но где же I Съезд советских художников? Перебираем хронику культурных событий, год за годом: 1934 — нету, 1935 — нету, 1936 — нету, 1937 — еще нет, 1938 — все еще нету, 1939, 1940, 1941… Вот и война кончилась, вот уже создана Всесоюзная Академия художеств, вот развернулась во всю богатырскую ширь битва с формализмом, безыдейностью, злопыхательством, космополитизмом, национализмом, эстетизмом, морганизмом — менделизмом, идеализмом, упадком, разложением, низкопоклонством перед Западом, кибернетикой и кабацкой меланхолией — а съезда нет как нет… Неужто большевики не справились с задачей учреждения Союза художников СССР? Не следует подходить к сложным вещам упрощенно. Разве непонятно: Оргкомитет уже организовал Союз художников, а собирать учредительный съезд не было никакого резона. Само понятие «учредительного» вызывало нежелательные воспоминания. Но не это главное. Главное то, что принадлежность к Оргкомитету во главе с Александром Герасимовым давала теплую близость к высшей власти[26], а затем и собственную власть, а еще затем — не ограниченные ни числом, ни ценой государственные заказы и закупки, равно как и другие житейские блага, не говоря уже об орденах и премиях. Кому нужно было менять исторически сложившийся порядок — и ради чего? Как выяснилось впоследствии, это было одно из нарушений ленинских принципов социалистической демократии периода культа личности, хотя не самое вопиющее. Когда партия восстановила ископаемые принципы, съезд был созван. В 1957 году. Оргкомитет продержался около четверти века. Но с этого момента демократическая система действовала неумолимо. Всесоюзные съезды созывались каждые четыре — пять лет, как было предусмотрено уставом, иногда — с незначительным и вполне допустимым техническим опозданием. Республиканские съезды эстонского союза происходили с такой же маятниковой регулярностью, но только каждые два года. Пресса заинтригованно спрашивала, каково будет значение предстоящего/проходящего съезда, и ответственные лица, глубокомысленно возводя взор в угол потолка, указывали, что съезд будет иметь большое значение: он подведет итоги, преодолеет недостатки и укажет перспективы. Демократия прямо‑таки свирепствовала: каждый раз выбирали новое Правление, новый Президиум Правления, новый Секретариат. Увенчанием съезда бывал неизбежный банкет — более скромный, но вполне достойный в республиканском формате и, случалось, замечательно какой пышный — в общегосударственном. Я не могу комкать этот сюжет; коммунистическое питание художников было необходимой частью их коммунистического воспитания — и об этом следует говорить отдельно. Нам же пора вернуться к общей формуле поистине эйнштейновской простоты. Итак, I=l/R, где, напоминаю, I — это Идиотически скрупулезное исполнение закона или правила, a R — это его Реальное значение. Иначе говоря, пунктуальность исполнения некоего закона или правила обратно пропорциональна его практическому значению. Строгое математическое выражение этого принципа особенно полезно, поскольку позволяет получить нетривиальный вывод. Представим себе, что некое мероприятие X идеально бессмысленно, иначе говоря — значение R равно 0. Тогда значение I возрастет безгранично, или, как выразится математик, 1 = °°. Однако такой вывод абсурден: бесконечный педантизм может быть атрибутом абсолюта, который сам обладает свойством бесконечности. Но для тварной и даже атеистической советской системы такое состояние недостижимо. Как показывает опыт, она сама конечна и потому ее педантизм всегда представлял собой конечную величину. Следовательно, в нашу формулу приходится ввести дальнейшие ограничения: R, или практическая эффективность, в принципе бессмысленного мероприятия должна быть отлична от нуля. Она может быть незначительной, но не может быть нулевой! Такова логика математических моделей, описывающих фундаментальные процессы в природе и обществе. В переводе на человеческий язык наш вывод звучит так, что власть всегда стремилась превратить, скажем, съезд художников (как и Съезд Партии) в безупречное, идеально бесполезное и бессмысленное советское мероприятие. С партийными съездами, там, где партия организовывала сама себя, эксперимент зашел так далеко, что цель была почти достигнута, помешала только высокая смертность среди генсеков, которую я рассматриваю как акт самозащиты высшего разума. Но в других случаях в непроницаемой, казалось бы, стене бессмыслицы непременно обнаруживались узкие и кривые щели. Иначе было бы не выжить. Я уже приводил примеры.* * *
Самым мерзким — на моей памяти — съездом ССХ был тот, который скликали после визита Н. Хрущева в Манеж, в дни последовавшего затем пароксизма идеологической борьбы. Кажется, он был вторым по номеру и разыгрался где‑то зимой 1964 года. Вот где партийно — реалистическое ядро советского искусства собралось взять реванш за небольшие, но оскорбительные унижения времен оттепели. Скрупулезность подготовки съезда (значение его «I») достигла высоких значений. В организационном отношении ключевыми были, как всегда, кадровые проблемы. Надо было, во — первых, удалить из состава делегатов съезда тех художников и критиков, которые так или иначе подрывали основы реалистического искусства, но были ошибочно избраны на съезд до хождения Хрущева в Манеж. Ретроспективно следовало считать, что они пробрались на съезд, и положение требовало юридической коррекции. Во — вторых, и самое главное, надо было обеспечить избрание правильных людей в руководители творческой организации; на этот счет ходили самые мрачные слухи — будто в председатели прочат Владимира Серова, который уже президент Академии художеств и председатель Союза художников России, или Евгения Вучетича, наиболее партийно — патриотического скульптора всех времен… За съездом, конечно, следил сам тов. Ильичев, секретарь ЦК, но из своего кабинета, а на месте, в поле, пастухом съезда был его какой‑то там заместитель, представительный мужчина с руководящим, как у коровы зебу, мешочком под подбородком, Поликарпов по фамилии. Диагональ, которая в силуэте шла от подбородка прямо к углублению между ключиц, придавала ему мужественно матёрый вид, подобающий руководителю. Изгнание пробравшихся в делегаты было назначено на вечер. Сор из избы выносить было нельзя, дело семейное, поэтому Поликарпов распорядился всех иностранных гостей (а какой съезд без друзей из разных стран?) увести пить кофе и показывать Москву, чтоб их духа тут не было. Гостей учтиво вытолкали. Остальных вернули в зал. Вести ответственное заседание поставили знаменитого украинского художника, естественно — народного, к тому же еще и доктора искусствоведения, чью фамилию мне никак сейчас не вспомнить. Зато помню, что он был в вышитой украинской рубашке, которую почему‑то называли «рубашка — антисемитка» — неправильно, ибо вышивка по вороту с древности имела другую функцию. Еще помню, что на Украине остроумцы его прозвали фельдшером искусствоведения… Ну, что за память, нужное забыто, а всякий вздор тут как тут, под рукой. Нет, надо вспомнить, неприлично. Такая простая фамилия, на К., график он был. Да, вот она: Касиян! Конечно же, Касиян, Василий Ильич, он. Под руководством коллеги в вышитой рубашке кто‑то убедительно зачитал проект постановления мандатной комиссии съезда (не всем понятно, что это такое, — ну, и не надо). В постановлении было сказано, что на съезде присутствует столько‑то человек, из них народных и заслуженных столько‑то, мужчин столько‑то и женщин столько‑то, коммунистов столько‑то и беспартийных столько‑то, лауреатов столько‑то, лиц с высшим образованием столько‑то, с незаконченным высшим столько‑то, русских столько‑то, украинцев столько‑то, казахов столько‑то, других национальностей столько‑то, в возрасте до тридцати пяти лет столько‑то, после шестидесяти пяти — столько‑то, а тт. Андронова, Каменского, Никонова и им подобных лишить депутатских мандатов. Доклад комиссии утверждали «в целом», открытым голосованием, так что если ты голосуешь против обезмандачивания Андронова или Каменского, значит, ты против того, что тут мужчин столько‑то, а женщин столько. И тебя хорошо видно… Итак, доклад ставится на голосование, провозглашает председательствующий. — Кто за утверждение доклада? Как говорилось в те поры, «лес рук». — Кто против? Люди поднимают руки! Не скажу, что большинство, нет, но человек сто — сто двадцать показывают, что они против. Они поднимают руки высоко вверх, чтобы было видно, что они против! Председательствующий мужественно, не отводя глаз, глядя прямо в зал, говорит в микрофон: — Против нет. Принято единогласно. Тогда из зала раздаются выкрики: «Есть! Есть против!..» Но фельдшер быстро орет в микрофон: — Заседание закрыто. И удирает из президиума за кулисы. Закрыто заседание, понятно? Всё. Принято единогласно. Расходитесь, товарищи, расходитесь. Расходитесь. Тут у каждой двери стоят ребята в форме и даже в фуражках с необходимым околышем. Они уже обратили внимание на то, что заседание окончено, и распахнули двери. И товарищи разошлись. По — разному. Некоторые — с чувством исполненного долга, другие — с чувством глубокого удовлетворения. А некоторые — с чувством, что либеральные обольщения пора забыть и что их только что изваляли в дерьме. Впрочем, съезд не кончен, и голосование было не последним. Впереди выборы Правления — и кое‑что будет зависеть от того, кто окажется на вершине власти. Напоминаю, в массах ходили слухи, что в главные прочат то ли Владимира Серова, то ли Евгения Вучетича; мрачней перспективы нельзя было себе вообразить. Ну, а что же на самом деле? Между властью и народом должен быть промежуточный слой, бесконечность божества не может непосредственно соприкасаться с конечным бытованием, об этом с полной ясностью говорилось еще в ареопагитиках, относимых к V веку; там безымянный, но святой автор описал девять небесных чинов, через которые божественное постепенно опускается до человеческого. В нашей скромной системе место Херувимов, Серафимов, Престолов, Господств, Властей, Сил, Начал, Архангелов и Ангелов занимали референты Правления; не вспомнить о них — значит допустить грубую историческую несправедливость. Ангелом, курировавшим республики Прибалтики, была Анна Зуйкова, Ася. Украину курировала Ольга, Среднюю Азию — Маргарита, всех графиков опекала Элла, критиков — Валя… Так вот, в кулуарах съезда меня разыскивает ангел — референт Ася и дает необходимые указания. «Боря, — говорит она строго, — передай эстонской делегации, что голосовать надо разумно, а не под влиянием страстей. Вычеркивать из списка только три имени. Никак не больше, только три. Надо, чтобы разрыв между этими тремя и остальной массой — по количеству голосов — был разительным, чтобы даже в ЦК видели, что этих ставить во главе нельзя. Ты понимаешь — чтобы между последним по числу „за“ и ними была дыра голосов в триста!» И, подобно привидению старой графини из оперы, она тихо называет три имени: Серов, Вучетич и еще кто‑то… Кривоногое? Кривошеев? Криворукое? Как и в опере, с третьим беда: путаю, кто был этот чёртов третий. Я отправляюсь к своей эстонской делегации и на языке финно — угорской группы передаю важную установку. Тем временем приводится в действие другой механизм: цековский пастух Поликарпов, покачивая коровьим мешком, собирает партийную группу съезда, то есть всех членов правящей партии, и дает указание, которое должно исполнять в порядке партийной дисциплины. Указание простое, понятное любому идиоту — никого не вычеркивать из списка, никого, ясно? Опускать в ящик со щелью бумагу нетронутой, как тебе дали, так и опускай. Всё. Исполняйте, товарищи. Наконец, наступает главный момент. Как сейчас вижу нелепо длинный зал кремлевского дворца, у самой сцены, чуть справа, если от публики, стоят рядышком Поликарпов и Серов, словно бы надзирая. Само по себе это парное стояние и тихий разговор должны показать народу, кто избранник: уже президент Академии художеств, уже председатель Союза художников России, но еще не председатель всего Владимир Серов; вот человек, которому можно доверить штурвал советского искусства после опасного дрейфа времен так называемой «оттепели». Между тем, делегаты съезда повели себя неправильно: рассевшись по вестибюлям, променадам и разным концам зала, они сладострастно впиваются шариковыми ручками, карандашами и вообще чем попало в листы бюллетеней — и что‑то там чиркают, чиркают. Раздраженный Серов громко, чтоб слышно было, говорит Поликарпову: — Безобразие! Коммунисты вычеркивают! Коммунисты, действительно, вычеркивают. Очень возможно, что они вычеркивают именно Серова В. А., даже скорей всего. И Поликарпов это видит… Между тем — о чем следует помнить — сам тов. Поликарпов отвечает за съезд головой, и его голова об этом хорошо знает. И вот, на глазах у всех Поликарпов, поначалу неспешно, отделяется от Серова. Это не означает, что Партия разлюбила Серова. Просто надо было действовать немедленно, решительно и правильно. Иначе восторжествует стихийность. Поэтому Поликарпов отодвигается от Серова. Интервал между их телами становится все заметней, он увеличивается с нарастающей скоростью! Куда же направляется Центральный Комитет Партии в лице своего полномочного представителя? Он направляется к живому классику Борису Иогансону, который — неожиданно для всех — выступил на съезде со свободолюбивой речью и позволил себе говорить что‑то в защиту молодых художников. Он‑то наверняка получит более пятидесяти процентов голосов… Так вот, от имени Партии Поликарпов быстро просит Иогансона возглавить Союз Советских Художников. И Борис Владимирович категорически отказывается. Наотрез. Дальнейшее мне известно «со слов», но слова подтверждены наступившими событиями. Получив отказ от Иогансона, Поликарпов решает, нет — принимает решение обратиться к правившему с предыдущего съезда Сергею Герасимову. Сергей Васильевич в дни съезда недомогал, он приехал на открытие, сказал приветственное слово и уехал домой — болеть. Поликарпов мчится к Герасимову домой — домой! — чтобы уговорить его остаться снова на посту, с которого его хотели убрать. И снова от имени Партии просит, но уже Герасимова… А Сергей Герасимов, человек — скала, отвечает ему дерзко: пусть об этом мне скажет Ильичев! Так, напоминаю. Ильичев, впоследствии или уже к тому времени академик, не столько за ученые труды, сколько по причине врожденной партийной мудрости, был секретарем ЦК, выше его был, наверное, только Суслов или Сам… Мы сейчас увидим, зачем Герасимову нужна была более сильная просьба, чем просьба какого‑то заведующего отделом или что‑то там в этом роде. И Поликарпов, вот уж и вправду распроклятая служба, поджав хвост, мчится в дом на очень старой площади. Вскоре Герасимову позвонил лично тов. Ильичев. Сергей Васильевич, сказал он, Партия Вас… Хорошо, отвечал Герасимов, но при условии, что при мне секретарями будут Белашова, Осенев, Серебряный, Суслов (это был совсем другой Суслов)… Схватываете? Не совсем? Объясняю: Герасимов хорошо знал повадки власти, он понимал, что его наверняка собираются окружить людьми из клики Серова, это первое; он также понимал, что Поликарпов спокойно мог пообещать, а потом сказать, что Ильичев отменил… Забегая вперед, скажу, что Союз художников при Герасимове, а после его ухода — при наследовавшей ему Екатерине Белашовой, был относительно либеральной институцией, противостоявшей агрессивной реакционности Академии художеств и российского Союза. Позднее, после Белашовой, все растворилось в бесструктурной плазме… Закончилось голосование, объявили результаты, неплохие, надо сказать, народ стал расходиться. Я вышел пораньше и стоял, не помню уж с кем, на Соборной площади, когда съезд вываливался из охраняемых дверей дворца. Мимо прошел скульптор Олав Мянни и показал мне три пальца. Вышел ректор нашего Института Яан Варес, подмигнул и бросил на ходу: «Бог троицу любит». Вот идет Коля Кормашов, когда‑то мой студент, прекрасный живописец; мы дружим до сего дня, по старой памяти я его все еще называю Колей, хотя Николаю Ивановичу уже за семьдесят, — так вот, идет Кормашов, я спрашиваю, как он проголосовал… — Я человек восемьдесят вычеркнул, Борис Моисеевич. — Коля, — говорю я назидательно — мы же договорились, чтобы троих. — Да всех их надо было вычеркнуть… Конечно, конечно, свободная мысль свободной постсоветской эпохи может задать строгий вопрос — какое это имеет значение? Какая разница — тот Герасимов или этот, торквемада соцреализма Серов или рафаэль соцреализма Иогансон; всё одна система, все были одним миром мазаны. Кому это теперь интересно, каков был председатель Союза советских художников после N — ского съезда? Великие страсти без предмета; существо от этого не менялось… Конечно, конечно, большое видится на расстоянии, как утверждал поэт, но то же расстояние съедает детали, нюансы и переходы[27]. А Бог в деталях — есть такая точка зрения, и не вовсе пустая. Жизнь человеческая конечна (прошу простить мне эту маленькую банальность), и миллионам людей пришлось прожить ее там целиком. Я оставляю в стороне вопрос о потустороннем: мы обсуждаем здешние дела. А тут, в числе миллионов, чей земной путь с начала и до конца прошел в обстановке реального социализма, были сотни художников и критиков, — ну никак не меньше, право же! — которые расположены были выразить свое понимание мира и искусства иначе, нежели того требовали принципы партийности, народности и реализма. Попросту говоря, им хотелось хоть некоторой толики свободы, — той свободы, к которой, по мнению Жан — Поля Сартра, экзистенциалиста, человек приговорен. При начальниках — душителях им сулились другие приговоры. Вот им‑то было небезразлично, Владимир Серов, Вучетич или Сергей Герасимов, — и прошу суровых историков — моралистов сменить позу микельанджеловского Христа, посылающего в ад всех подряд, на более милосердную. Требуется понимание: для поколения, нет — для поколений, реальный социализм был всегда, в персональном измерении он был равен вечности. Это была жизнь, а другая не была дана. Пожалуйста, подберите подходящий аршин. Суть не в формате, каким он видится издалека, а в подлинности. Страсти были подлинными, подлинными были чувства унижения, бессилия — и маленького торжества. Вот вам. Ага? Выкусите! Бог троицу любит…* * *
Так вот, насчет членства в Правлении. Тут был некий интерес эстонского Союза художников. Я готов нести ответственность за все свои дела, не отговариваясь природными дефектами — дескать, «глуп был, недоумок — съ, ваши превосходительства!». Но объясниться надо. Есть вещи, которые либо трудно понимаются из России, либо не понимаются вовсе. Эстонцы в своем подавляющем большинстве так и не почувствовали себя интегрированными в социалистическую общность людей. Я сейчас говорю не о вековых обидах и унижениях, не о кошмарных репрессиях сталинщины, не о навязанном двуязычии с доминантой русского, не о политических настроениях даже, а о глубинных пластах психологии (Фрейд тут не при чем, есть еще другие глубины). Не требовалось быть антисоветчиком или русофобом, чтобы ощущать культурную несовместимость. Московско — советская ситуация переживалась как не своя, эстонская ментальность не растворялась в советском «мы». Любое действие там, в России, производилось как бы на мало или не вполне разведанной территории, положение осложнялось несовпадением бытовых и культурных норм и — не в последнюю очередь — языковыми затруднениями; эстонский и русский языки очень далеки друг от друга. Между тем, реальная жизнь требовала дипломатических и других усилий в «центре». Вот тут‑то мое двойное культурное гражданство оказывалось кстати. Однажды, дело было в середине шестидесятых годов, меня пригласил к себе председатель эстонского Союза художников; имя этого человека было Яан Ензен, это имя сейчас редко поминают в Эстонии, и зря: в свое время он многое сделал, чтобы защитить ростки свободы, которыми были замечательны те годы. Ибо с середины шестидесятых на выставки в Эстонии стали «пропускать» произведения практически всех направлений, критерием становилось художественное качество, а понятие «социалистический реализм» и его производные незаметно исчезли из обихода, как оказалось — навсегда. Недаром уже давно говорится о легендарных шестидесятых. Так вот, Ензен позвал меня на доверительный разговор. Оказалось, что ситуация неожиданно осложнилась — три видных художника, обремененные почетными званиями и другими отличиями, озаботились бурнымнаступлением антиреалистических тенденций в эстонском советском искусстве. Они были приняты первым секретарем эстонского ЦК, которому и рассказали об угрожающем положении в творческом коллективе. Более того, они положили на стол секретарю соответствующий текст, где содержалось описание неправильного хода событий, тревожный прогноз и проект мер, которые следовало принять. Секретарь ЦК велел оставить бумагу — для руководящего обдумывания. Проницательному наблюдателю нетрудно было угадать, чем объясняется такое отложенное, как ныне говорят, решение. Предстояла большая ритуальная выставка республик Прибалтики в Москве, в Манеже. Прежде чем что‑либо предпринимать, надо было посмотреть, как посмотрят на наши выходки там, в столице. Следовательно, московская реакция приобретала роковое значение. Такие дела, сказал Ензен. Значит — вот тебе командировка, поезжай в Москву, у тебя там знакомые критики, знакомые в редакциях, ты знаешь людей — отправляйся и интригуй, делай все, чтобы была хорошая пресса. Приехав в Москву, я сходу позвонил самому Михаилу Владимировичу Алпатову и изложил просьбу. М. В. вежливо уклонился, сказав, что к искусству Прибалтики, Эстонии в частности, относится с большим интересом и уважением, но сейчас совершенно перегружен. Затем я направился в главное место — в редакцию журнала «Искусство», единственного тогда толстого журнала по нашему делу. Там я узнал много интересного. Заведующий отделом современного, то есть советского, искусства, Эрик Дарений, вытащил из ящика стола рецензию на мою статью, еще не опубликованную, за подписью члена редколлегии, директора Института истории и теории искусства Академии художеств СССР, академика и проч. Андрея Константиновича Лебедева. Отзыв знатного коллеги заканчивался словами: «И вообще этого автора не следует привлекать к сотрудничеству в журнале». Я с пионерских лет приучен был ставить общественные интересы впереди личных, и потому не о своей статье говорил, а стал допытываться у Дарского насчет перспектив освещения нашей выставки в журнале; так это корректно называлось на языке эпохи. Оказалось, что перспектива уже есть: главный редактор, В. В. 3., вчера только ездил в ЦК за указаниями, как освещать. …Если кто‑либо в этом месте ждет от меня обличительных восклицаний и выкриков о свободе творчества, независимости критики и вообще о том, какое там в ЦК их собачье дело, — он будет разочарован. Никаких эмоций. Только говорящие факты. 3., который еще появится в моем повествовании, поехал в ЦК, чтобы узнать, как он в своем журнале будет освещать выставку трех прибалтийских республик. Нет, не так: не в своем журнале, а во вверенном ему журнале, теперь правильно. Ну, словом, что же он услышал? Освещать объективно, сказали ему, но с учетом национального своеобразия. В одной из давних передач Би — Би — Си я услышал жалобу незабвенного обозревателя Анатолия Максимовича Гольдберга по поводу передовой статьи газеты «Правда» — он сетовал на то, как нелегко дешифровывать кремлевскую клинопись. Это им там было нелегко, мы—το бегло разбирали кремлевские письмена… «Освещать объективно». Эта фраза была чисто церемониальной и никакого другого смысла не имела. Зато «но» — почему «но», ради Бога? — о, это «но» имело глубокий смысл. Оно означало, что бить не велено. Такой это был клин. Я мог позвонить в Таллинн, утешить Ензена, а затем уж обсуждать со знакомыми критиками, кто куда объективно напишет. Не следует удивляться, что пресса была вполне положительная. Эстонский ЦК был доволен исходом, жалобу — донос — проект художников — реалистов передали в парторганизацию Союза художников, присовокупив, что мы, мол, тут в ЦК не специалисты, а у вас там своя организация, разбирайтесь, товарищи. Товарищи не без элегантности похоронили жалобу, но это отдельный сюжет, я и так уже едва не потерял нить. Просто я хотел сказать, что — хоть моя заслуга была невелика — но подобные дела могли возникнуть в дальнейшем, и, видимо, на этот случай меня выдвинули от республики в Большое Правление. На съезде меня мало кто вычеркивал из списка: какой‑то там из Эстонии, их дела, тут своих проблем хватает, некий Бернштейн, подумаешь, не Вучетич же… Словом, меня избрали в Правление, где я фигурировал добрый десяток лет. Был ли от меня прок? Ох, не знаю… Наконец, эстонская художественная общественность решила заменить меня в руководящем органе на другого представителя. На очередном съезде, в перерыве — или не в перерыве: кто же мог выдержать тягомотину отчетов и речей, зал часто бывал наполовину пуст, и кремлевские солдатики с изумлением и подозрением смотрели на съезд, напоминавший цыганский табор лучших времен, — сидя в буфете, я поделился новостью с моим другом, замечательным молдавским живописцем и мудрым человеком, Михаилом Греку. Он принялся меня поздравлять и объяснять, как это прекрасно. А то ведь, сказал Миша, хоть ты там ничего и не делаешь, а все равно руки в крови… Он тоже, наверное, был прав.* * *
* * *
Новый ректор Яан Варес был самым молодым ректором в республике — и ему предстояло править дольше всех. Он не был революционером ни в искусстве, ни в администрации, а если бы был, то вряд ли так долго сохранял бы эту должность. Мудрость Вареса была в том, что он не мешал. Этого было более чем достаточно. Естественные жизненные соки, не встречая серьезных препятствий, все более энергично струились внутри крепких стен нашего старого дома. Свободней стали требования на творческих кафедрах, тупой ригоризм времен Лехта вскоре был забыт. Студенческая инициатива получила выход в форме, которая практически не контролировалась, — эту форму предоставило традиционно легальное студенческое научно — творческое общество. Там экспериментировали. Мудрый и эрудированный Тынис Винт докладывал о современных авангардных течениях. Однажды в зале ближайшей школы студенты показали нам удивительный спектакль — некое бессловесное пластическое действо, чья абсурдность словно бы скрывала некую тайну. Возможно, это был первый в Эстонии (и в Советском Союзе) протоперформанс. Весной 1965 года студенческое общество устроило неслыханную выставку. Там были вывешены абстрактные картины, там можно было видеть объекты, имитировавшие вошедший в силу поп — арт, реалистические изображения тоже бывали интересного содержания: на одной картине была представлена пустая комната, мать с ребенком на руках стояла у окна, за которым четко просматривалась конструкция радиобашни — глушилки, своим воем освобождавшей советских людей от необходимости подслушивать зарубежные радиостанции; картина называлась «Колыбельная»… Уместно вспомнить, что методика глушения была опробована еще на заре советской власти, в 1919–1920 годах. Когда в задних дворах чрезвычайки по ночам расстреливали ни в чем не повинных людей, то на всю мощность заводили моторы архаических грузовиков. Моторы хорошо завывали, звуки выстрелов не беспокоили округу. Под такую колыбельную расстреляли в те далекие времена моего дядю, маминого брата, блестяще одаренного молодого человека, на которого написала нелепый донос оставленная им любовница. Семья мамы жила неподалеку, но стрельба не была слышна. Но вернемся к выставке. Весь этот идеологический кошмар осторожное руководство института завуалировало статусом закрытой, внутренней, экспериментальной экспозиции, предназначенной ознакомить своих же специалистов с опытами научно — творческого общества ради их обсуждения и анализа. Профанам вход не был разрешен. Насколько строго соблюдался запрет — я сказать не могу, но формально разлагающее действие выставки на незащищенную публику было исключено. Внутренний голос тогда подсказал мне, что тут, вот сейчас, история делает некий скачок, произошел разрыв монотонной постепенности. В знак этого понимания я купил у студентки Айли Сарв, впоследствии Айли Винт, небольшую абстрактную композицию — за 15 рублей «новыми». Это не лучшая картина Айли, но она обладает ценностью, не зависящей от капризов вкуса, а именно — документальной. Она хранится в моей скромной коллекции до сих пор. Моя интуиция оказалась еще более пророческой, нежели я думал. Институтская выставка была весной, а осенью предстояла большая, торжественная республиканская молодежная выставка, которая, в свою очередь, служила подготовительной к всесоюзной молодежной выставке, посвященной какому‑то юбилею комсомола. Выставки принято было посвящать значительным событиям — очередному съезду, юбилею — сорокалетию, пятидесятилетию, столетию. Посвящение свидетельствовало о преданности и имело сакральный привкус — не случайно определяющая часть слова говорила о священстве. Жюри республиканской выставки оказалось в затруднении: помимо молодых художников, уже признанных таковыми, принесли свои работы студенты — те самые, с закрытой экспериментальной выставки в Институте. Члены жюри были смущены. В этот критический момент легальные молодые художники заявили, что если работы студентов не будут выставлены, они тоже заберут свои работы — и молодежная выставка, посвященная юбилею комсомола, не состоится вовсе. Уникальность ситуации состояла в том, что получить руководящие указания было невозможно: указующих лиц не было на месте. Спросить было не у кого. Все, кто был уполномочен решать, — секретари ЦК, заведующий отделом культуры, премьер — министр, министр культуры, даже председатель Верховного совета, который и так ничего не решал, — весь слой принимающих решения решительно отсутствовал. Потому что в эти дни в далеком Иркутске проходила Декада литературы и искусства Эстонской ССР. Сама история, с присущей ей неуместной иронией, подстроила ситуацию свободы. И оставшиеся на месте вышли из затруднения с достоинством — они позволили выставить всех. Или почти всех. Так был создан прецедент, который игнорировать стало невозможно. Я не скажу, что на последующих выставках показывали все без разбору. Но чем дальше, тем больше критерием становилось художественное качество предлагаемых работ. При этом словосочетание «социалистический реализм» полностью исчезло из текущего критического обихода. Из рассказанного следует, что положение с высшим художественным образованием в Эстонии, да и не только в Эстонии, могло внушить тревогу блюстителям догматических святынь.* * *
Наш небольшой художественный мир все же принадлежал к чудовищному в своей абсурдной тупости целому, и центры этого целого не были безразличны к тем робким прорывам свободы, которые случались где‑либо на периферии. Там, в центре, смотрели в корень. Проблемы художественного образования снова должны были стать предметом специальной заботы. Давайте по этому случаю восстановим в памяти систему. Дипломированным художником можно было стать, окончив один из многочисленных институтов, расположенных в обеих российских столицах, бывшей и настоящей, в столицах некоторых республик и даже в отдельных нестоличных городах (Львов, Харьков). Из них два имели высший ранг — Институт имени Репина в Ленинграде и Институт имени Сурикова в Москве: они подчинялись непосредственно Академии художеств СССР; официальное, длиною в две строки, название каждого начиналось сакраментальным словом «Государственный…» и заканчивалось столь же притяжательным «…Академии Художеств СССР». Это означало, что оба заведения принадлежали АХ как ее неотъемлемая часть, как жизненно важный орган репродуцирования себя, подчиненный, вместе со всеми прочими органами, обоим ее мозгам — воинствующему головному и рефлекторному спинному. Академия была нерушимым оплотом социалистического реализма в изобразительном искусстве, стражем его доктринальной чистоты. Слегка перефразируя Герцена, можно сказать, что там, «подобно средневековым рыцарям, охранявшим Богородицу, спали вооруженными». В институтах, подчиненных Академии, царила художественно — полицейская асептика и антисептика. Другие художественные институты не были оставлены без академического присмотра, но административно ей не подчинялись; там, как я упоминал, Академия осуществляла «методическое руководство»: разрабатывала и утверждала программы, следила за их исполнением, однако вершить все дела не могла. Тем самым создавалась лазейка для сомнительных педагогических экспериментов. И к нам в поисках элементарной свободы и человечности тянулись ребята из Москвы и Ленинграда, из российской глубинки, с Украины, из Молдавии, Средней Азии… Я только что вспомнил об идеологических расправах Хрущева. А между тем, его соратники свергли его, в частности, за излишний либерализм! В конце шестидесятых годов, напуганная пражской весной, партия занялась замораживанием последних капель, оставшихся от хрущевской оттепели. Академия художеств, откликнувшись на требования времени, изобрела ход, который должен был раз и навсегда решить проблемы правильного обучения советских художников. Для утверждения новой концепции была созвана сессия Академии художеств. И я там был! Поскольку на сессии должны были обсуждать и утверждать новые учебные программы по истории искусства, ректор Варес взял меня с собой. Специальная секция, составленная из искусствоведов и академиков, занялась программами. Программа всеобщей истории искусства не представляла особого интереса, требования к ней предъявлялись бесхитростные: следовало показать, что вся история искусства была историей становления реализма в его борьбе с антиреалистическими течениями, а само развитие реализма — через его высшие проявления в русском искусстве — достигало климакса в искусстве советском. Поэтому программа истории советского искусства вызывала наиболее острый интерес. В конце концов, некоторые из присутствовавших на заседании секции почтенных академиков фигурировали в программе в качестве т. наз. советской классики… Выступает академик К., безусловно классик, одна его картина двадцатых годов репродуцирована во всех альбомах и историях. — Товарищи, — восклицает он, — вот тут написано: «Мартирос Сарьян, выдающийся портретист и пейзажист. Мастер натюрморта». Ну, пейзажист, это еще куда ни шло, но портретист! Нет, товарищи. Если мы хотим учить студентов настоящему реалистическому портрету, то Сарьян тут не при чем, это не реализм, товарищи! Да, вот еще. В программе не назван скульптор Икс. А он создал памятник Коста Хетагурову! Это первое в мировой истории искусства изображение человека в бурке! Я оказался на этом заседании в странном окружении. Слева от меня сидел А. Замошкин, директор Третьяковской галереи. Справа — В. Шлеев, научный сотрудник исследовательского института Академии художеств, последовательный борец за реализм. Они тут же, за моей спиной, стали обсуждать жгучий вопрос — действительно ли памятник Хетагурову работы Икса был первым изображением человека в бурке или все‑таки не первым… Не менее важным было установление правильных пропорций. На первом курсе студентам надо было прочесть курс введения в искусство социалистического реализма. Затем следовало внедрить в них курс марксистско — ленинской эстетики, которая имела быть не чем иным, как эстетической теорией социалистического реализма. Само собой разумеется, центральное место в плане занимал подробный курс истории советского искусства. Наконец, на пятом курсе, под занавес, когда студенты уже работали над дипломными произведениями, предусмотрено было прочесть им курс основ советского искусства. Еще один гвоздь в темя. 30 часов, полный семестр. Я не сомневаюсь, что в заведениях, прямо подчиненных Академии художеств, этот план соблюдали свято. Мы у себя на кафедре тоже были признательны Академии за такой подарок. Нам всегда не хватало часов для курса всеобщей истории искусства, для курса эстонского искусства. Теперь мы нужные часы получили. Вместо Основ Советского Искусства можно было рассказать студентам о том, что их, конечно, занимало куда больше: о том, как складывались главные направления авангарда XX века, о том, что делается сейчас в искусстве Запада. Тот факт, что эти запретные сведения мы сообщали именно за счет Основ, доставлял нам особое, так сказать — коннотативное, удовольствие. Нет — нет, мы соблюдали правила игры — в журнале, куда следовало заносить темы прочтенных лекций, оставались липовые записи. Еще раз повторю — у нас сложилась хорошая кафедра. Ее искусствоведческая часть была далеко уже не та, что в середине пятидесятых, когда нас было едва трое — четверо: Лео Соонпяя, Хелене Кума, Лео Гене, с небольшой нагрузкой — Элла Венде, да я. К нам пришли новые прекрасные специалисты — Эви Пихлак, Эне Ламп, из малоинтересного отдела Академии наук удалось переманить Кайю Лехари, начала читать курсы Хелли Сизаск, с нами стала сотрудничать Юта Кееваллик; когда пришел Яак Кангиласки, кафедра, наконец, отпочковалась от марксизма — ленинизма и зажила самостоятельной жизнью. Яак вскоре стал проректором, а затем, после ухода Яана Вареса, сменил его на посту ректора; заведовать кафедрой стала Хелли Сизаск — хороший организатор, она с самого начала сумела сохранить и поддержать дух дружеской коллегиальности, а когда кафедра начала готовить историков искусства, дельно и спокойно провела трудную реорганизацию. Но и в те времена, когда конь и трепетная лань были впряжены в одну телегу, в этом небольшом сообществе не было ни интриг, ни предательств. Замечательный Арнольд Таккин преподавал студентам историю коммунистической партии. Спокойный, немногословный, остроумный человек, инвалид войны, он незаметно и бесстрашно говорил студентам правду. Он рассказывал им, как было на самом деле. Студенты, я знаю, им восхищались. Есть вещи, которые я не умею объяснить — ни себе, ни другим. Не могло быть такого, чтобы в институте, в том числе и в студенческих группах, не было доносчиков. Но, насколько мне известно, на нас не доносили. Или, если доносили, то доносы оставались без последствий. Словом, программные усилия Академии художеств по оболваниванию будущих художников имели успех не везде. Именно поэтому проект новой истории искусства был всего лишь периферийным ответвлением главного замысла. Главной была простая и элегантная идея, которая, будучи поддержана в верхах, получила форму обязательного к исполнению постановления. Предлагалось сосредоточить подготовку мастеров изобразительного искусства, т. е. живописцев, скульпторов и графиков, в двух полностью подчиненных Академии институтах. Наиболее обещающие таланты всех народов СССР, интегрированных в новую историческую общность — советский народ, извлекаются из мест своего рождения и воспитания с тем, чтобы получить стерильное художественное образование в институтах двух столиц — московском и ленинградском. Я в кулуарах осведомился у академика К. — не у того, который помнил о первой бурке, а у другого, тоже К, но более интеллигентного — как будет с профессорами: лучших тоже соберут из всех республик? К. отвечал, чуть усмехнувшись, что предполагается, будто лучшие из лучших профессоров в московском и ленинградском институтах уже есть. Словом, механизм полного обезличивания, культурной и персональной стандартизации был хорошо продуман почти во всех деталях. Что касается остальных высших художественных учебных заведений, то им разрешено было сохранить только прикладные специальности. Ну там — керамику, стекло, ювелирные изделия, текстиль, интерьер, мебель, всякие ремесла и рукоделия, не имеющие отношения к высокому. Предполагалось, и справедливо, что эти искусства представляют второстепенную идейно — художественную ценность. Еще в середине пятидесятых на какой‑то сессии АХ видная художница обратилась к президенту с дерзким вопросом: когда, наконец, Академия повернется лицом к прикладному искусству? Президентом тогда был Александр Герасимов, он был щедр на любимую народом соленую шутку: «Если мы повернемся лицом к прикладному искусству, — парировал Президент Академии, — то чем мы повернемся к изобразительному искусству?» В президиуме искательно и с достоинством смеялись. В конце шестидесятых президентом Академии был Владимир Серов, но академическая топология искусств не изменилась. Новое постановление, казалось, создает узкую и полностью контролируемую воронку, через которую будут поступать кадры безупречно советских, безупречно однородных художников. И тут была упрятана ошибка. Исполняя постановление, в нашем институте преподавание «трех знатнейших художеств» как бы упразднили: кафедру живописи переименовали в кафедру монументально — декоративной живописи, то же — с кафедрой скульптуры, кафедра графики превратилась в кафедру прикладной и книжной графики. Но продолжали учить тому же, только с нарастающей свободой. Периферийность «художественно — промышленных» учебных заведений обеспечила им большую независимость или, если выразиться осторожней, меньшую несвободу. Замечу, что и в столицах поляризация стала более внятной. «Высокому» и рабски подконтрольному Академии художеств Институту им. Репина противостояло Художественно — промышленное училище имени В. Мухиной (на профессиональном жаргоне — «Репе» противостояла «Муха»). Вряд ли случайно, что питерские диссиденты чаще выходили из «Мухи». А уж периферийные институты… Пытаясь натянуть вожжи, Академия выпускала их из рук.* * *
* * *
В шестьдесят пятом году удалось подстроить еще одно нестандартное событие: мы созвали в Таллинне конференцию искусствоведов трех прибалтийских республик. Надо честно признаться — наш замысел изначально не содержал подрывных идей, затея была чисто позитивной: в культурной и художественной ситуации трех республик было достаточно общего, почему было не поговорить о них совместно. Так дело выглядело с точки зрения здравого смысла. Но здравый смысл, как всегда, был неправ. Принимающей стороной был Союз художников Эстонии — и я, волею случая представлявший искусствознание и критику в президиуме его правления, оказался в центре событий. Хлопоты всякого рода, списки приглашенных, гостиницы, расписание интеллектуальных действий и их обеспечение… Когда все съехались, обнаружилось, что среди гостей двое лишних. Заместителя директора по научной части Института истории и теории искусства Академии художеств СССР тов. В. В. и научную сотрудницу Института тов. Св. Ч. никто не звал. Но Академия своей волей направила их в Таллинн с ответственными поручениями. Первое поручение было рутинным — следовало следить за ходом дискуссии и немедленно доносить в центр о происходящем. Срочность была такова, что длинные отчеты передавали по телефону ежевечерне. Рассказать, как выяснилось, было о чем. Естественно, тексты докладов никто заранее не контролировал — каждая республика сообщала, сколько будет докладов, кто докладчики и как доклад будет называться. Из этих данных и составлена была программа. По поручению принимающей стороны я открывал конференцию скромным вступительным словом. Затем с первым докладом выступил литовский коллега Стасис Будрис. Его замечательную речь я бы докладом не назвал — это была страстная филиппика. Будрис громил политику партии в области художественного творчества, поведение Хрущева на знаменитой «манежной» выставке Московского союза художников назвал хулиганским, последовавшие события трагическими… Так был задан тон. Не скажу, что все выступления были выдержаны в том же ключе, в программе были и вполне академические доклады. Тем не менее призрак бунта присутствовал в уютной светлой зале библиотеки нашего Союза художников. В Академию художеств по ночам шли тревожные донесения. И оттуда, видимо, было получено новое указание — немедленно, ничего не откладывая, прямо на месте, дать боевой отпор неверным, ошибочным и даже враждебным вылазкам прибалтийских коллег. Академических было двое; как и положено, вперед выслали сержанта. Св. Ч. на последнем утреннем заседании конференции выступила с пламенной обличительно — защитительной речью. Она отстаивала принципы и разоблачала ревизионистов. Подлинность ее страсти затмевала ничтожество аргументов. Но правила игры, равно как и азарт игры, требовали оставить последнее слово за нами. В перерыве договорились, что это сделает другой коллега из Литвы. Однако, взяв слово, он заговорил совсем не о том — по причинам, о которых я могу только догадываться, но не собираюсь сейчас обсуждать. Оставалось последнее: я открывал конференцию, я имею право ее закрывать. И я воспользовался своим правом в полной мере… Никакая дельная конференция не может быть без заключительного банкета. Народ собрался в подвал Дома художника своевременно. Наряд Св. Ч. был ослепителен — она явилась в светло — розовом, до белизны, пышно взбитом газовом платье с воланами в разных местах. Академические принципы реализма, партийности и народности искусства никак не регламентировали способы целомудренного украшения тела. Начались тосты, а с ними очередные неожиданности. Внезапно газообразная Св. Ч. подошла к столику, за которым я сидел, и поднесла мне бутылку коньяку и какие‑то там цветочки, произнеся приличествующие слова. Забегая вперед, скажу, что этот коньяк никогда и никем не был выпит: когда, позднее, часть конференции в поисках простора перебралась наверх, в выставочные залы, Будрис схватил непочатую бутылку и с криком «от врагов — ничего!» выбросил ее из окна на асфальт площади — когда‑то Свободы, тогда Победы, а ныне снова Свободы. Но танцы начались еще ранее, внизу, в тесном клубе, как только искусствоведы и критики Прибалтики наелись. В те времена западные веяния достигли наших краев, и парные танцы, такие как чувственное танго или энергичный фокстрот, уступили место массовым, быстрым и бесструктурным, вертикальным колебаниям. В тесноватой толкучке клуба я вдруг увидел перед собой трясущееся бело — розовое облако. — Борис, — сказала мне дама прочувствованно, — вы меня волнуете! Только этого не хватало. Несносная пошлость вида была дополнена пошлостью приема. — Я думаю, вам это показалось, — возразил я. — Нет, действительно, — продолжая трястись, настаивала искусительница. — Меня волнуют люди, которые превосходят меня в нравственном отношении! На такое можно было и обидеться, поскольку превзойти Св. Ч. в нравственном отношении ничего не стоило, к множеству превосходящих относилась большая часть человечества. Всему профессиональному сообществу было известно, что клейма ставить негде. Словом, я устоял. Моя гордыня мне дорого обошлась. Не стану перечислять посвященные мне идеологические доносы, которые дама отправляла в важные инстанции, издательства и редакции журналов. Они были подписаны разными именами — от директора института Академии художеств и до неведомого инструктора московского горкома партии, — а то и просто оставлены анонимными, но рука была одна, и набор разоблачаемых преступлений коллеги, превосходящего доносчицу в нравственном отношении, монотонно повторялся: я был формалист, ревизионист и эстонский буржуазный националист. Кое‑что из ее сочинений хранится у меня в архиве, да вряд ли кому теперь интересно это читать. Доносы более общего характера, выполненные обоими академическими соглядатаями, имели свои последствия. В руководящих кругах появился пейоративный термин «таллиннский дух». Он расшифровывался в нескольких плоскостях. Это был, прежде всего, дух бунта, дух западного загнивающего формализма. Мало того, тут была зарыта большая идейно — политическая собака: самопроизвольная региональная конференция, да еще прибалтийская, очевидно пахла обособлением, противопоставлением отдельного региона целому, а точнее — назовем уж вещи своими именами! — сепаратизмом, даже сепаратизмом в кубе, поскольку здесь синтезировались три буржуазных национализма. Пришлось запретить такого рода встречи. Следующую конференцию искусствоведов Прибалтики стало возможным созвать только через десять лет, да и то — минуя и Союз художников, и Академию художеств, по ведомству Академии наук… Это уже в середине семидесятых годов. (обратно)Конец истории искусства: до и после
Газеты из Эстонии доставляют в Калифорнию морем и, кажется, для такого дела международная почта использует каравеллы времен Фердинанда и Изабеллы. Сегодня в почтовом ящике появился номер с рекламой предстоящего Новогоднего бала для видных или состоятельных персон. Нам современны звезды, какими они были сотни тысяч лет назад, иные давно погасли. Про космические расстояния и скорость света знает каждый прилежный школьник, но ничто не может заставить меня видеть вместо звезды ее луч. В газете все еще декабрь — и я на время чтения оказываюсь там и тогда, живу декабрьскими событиями, страстями, декабрьской суетой. Свежая старая газета. Старая свежая газета. Это недурно звучит, отличная деконструкция! Прочитав известие или рассуждение, вдруг чувствуешь искушение вмешаться, предложить что‑нибудь другое или, не дай Бог, поправить, опровергнуть и уличить. Однако с декабрьским светом делать нечего, поздно, там, в Таллинне, уже прочли номер «Kultuurileht» («Культурной Газеты») от последней пятницы. Впрочем, если перегнуть бесконечный лист места — времени несколько раз и сложить по линиям сгиба, то некоторые точки окажутся в непосредственной близости. На страницах устаревшей газеты мерцают отблески недавней выставки эстонского искусства в Санкт — Петербурге. Спор о том, существовал ли в Эстонской ССР, этой бедной витрине Советов для Запада, этой бледной тени Запада для Востока, — существовал ли там подпольный художественный авангард. …Малый зал Центра Помпиду в Париже был заполнен тиканьем будильника, прикрепленного к микрофону. Живописец Эрве Фишер шагал перед собравшимися от левой стены к правой вдоль протянутого через зал белого шнура. Медленно двигаясь, он говорил в микрофон, который держал в руке: «История искусства имеет мифическое происхождение». Далее следовали отчасти понятные слова; не каждое из них можно найти в словарях: «Magique. leux. Age. Ance. Isme. Isme. Isme. Isme. Isme. Neoisme. Ique. Han. Ion. Hic. Pop. Hop. Kitsch. Asthme. Isme. Art. Hic. Tic. Tac. Tic». За шаг до середины ленты он остановился и сказал: «Я, простой художник, рожденный последним в этой астматической хронологии, утверждаю и декларирую в этот день 1979 года, что ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ОКОНЧЕНА». Он сделал еще шаг, разрезал шнур и добавил: «Момент, когда я разрезал этот шнур, был последним событием истории искусства»… День окончания истории искусства в Париже был 15 февраля 1979 года. Примерно за месяц до того или чуть менее, во второй половине января и, следовательно, еще в исторические для искусства времена, в Ленинграде, в Манеже открывали большую, на весь манеж выставку эстонского искусства. Ленинградское телевидение собиралось посвятить выставке специальную передачу, и я беспечно согласился составить сценарий и ориентировать съемки. Поэтому я приехал в Питер и оказался в Манеже дня на два раньше «официальной делегации». В то утро мы беседовали с оператором телевидения, когда в комнату вошел кто‑то административно встревоженный и сказал, что мне как компетентному лицу из Эстонии надлежит принять товарищей от Обкома и Горкома КПСС, желающих ознакомиться с выставкой перед открытием, — дать необходимые пояснения, ответить на вопросы, если они возникнут, и все такое. Группу товарищей из Смольного возглавляла плотная женщина невысокого роста в пиджачном, строго — партийном темносинем костюме, призванном гасить избыточную женственность! Крашеные волосы башенкой должны были возместить вертикальную ущербность фигуры, не прибавляя, однако, привлекательности. Мы представились друг другу без ненужных улыбок. После короткого обсуждения выяснилось, что руководители культурной жизни исторического города желают знакомиться с искусством братского народа не в форме экскурсии, где художественное переживание имеет стадный характер само по себе и еще более нивелируется внушениями ведущего, но в одиночку, личностно. — Мы, — сказала главная культурная секретарь, — сначала походим — посмотрим, а затем соберемся здесь и поговорим. Торжественные, ударные в идеологическом отношении экспозиции строились тогда по схемам сакрального пространства. Выставка в Манеже была трехнефной, иначе даже как‑то не получалось; на хорах располагались «малые», то есть прикладные, искусства. Но общая пространственная ориентация была зеркальной по отношению к христианской традиции. Вместо нарастания сакральности от входа к подкупольному месту и алтарю здесь наивысшее напряжение святости, сакральное фортиссимо должно было встречать посвященных сразу у входа, в так называемом аванзале, и затем постепенно ослабевать к другому концу храма. И это правильно. Многие либерально настроенные наблюдатели в последние годы бывали возмущены лицемерием политиков, которые — не успев сносить цековские или обкомовские башмаки — стали верующими христианами (мусульманами, солнцепоклонниками, буддистами, иудеями). Ничто не может быть естественней подобной метаморфозы. Советская система вовсе не была а религиозной, ее антирелигиозность и антицерковность следует понимать в том смысле, в каком физики употребляют понятие антиматерии. Известно, что антиматерия материальна, но положительные частицы там заряжены отрицательно, а отрицательные, напротив, положительно. Научный коммунизм основан на вере точно так же, как и закон Божий: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно», — говорил основатель первого в мире социалистического государства. Советский извод марксизма — это вероучение и церковь, но только с противоположным знаком. Поэтому и сакральное пространство выстраивалось задом наперед. Аванзал эстонской выставки в ленинградском Манеже был составлен из скульптурных произведений и максимально идейно заряжен — в пределах, которые допускал наличный материал. В центре, по оси главного нефа, стоял изваянный из благородного теплого дерева и хорошо отполированный портрет только что цитированного Вождя и Основателя. Другая идейная композиция, справа от него, тоже из дерева, называлась «Беженцы» и с допустимой мерой условности, в виде слитной массы, представляла беженцев, в основном — женщин, детей и стариков. Хотя обстоятельства места и времени автор не уточнял, каждому должно было быть ясно, что тут представлен собирательный образ жертв империализма. Политическую конкретизацию этот символ получал в многофигурной композиции «Сонгми». Время летит быстро, новые поколения не помнят страстей отцов, напоминаю: Сонгми — это название деревни, сожженной американским напалмом во время вьетнамской войны. Скульптор в экспрессивной форме изобразил уцелевших жителей, вздымающих руки к небу в протестующем порыве. Группа стояла напротив Главного Бюста и несколько наискосок. Далее политическая энергия скульптурных образов постепенно слабела, но наши люди сделали все, что могли, зритель получал в аванзале ритуально предписанное художественное причастие. Когда мы снова встретились — там, в аванзале, — на безликом лице под башенкой крашеных волос рисовалось туманное недовольство. Этого следовало ожидать. Но извилины руководящей мысли мне не дано было предвидеть. — Товарищ Бернштейн, — сказала партийная смолянка. — Мы открываем выставку Лениным! — в ее интонации слышалось придыхание, которое в старину называли ложноклассическим, — это обязывает, не так ли? Я согласился, что да, это — обязывает. — Теперь посмотрите, — продолжала она развивать свою мысль, — что рядом с Ним. Беженцы! От кого они бегут?., (действительно, интересное наблюдение, от кого же?) Теперь обернитесь, пожалуйста, — вот эти тут протестуют. Против кого, против… — тут она запнулась, будучи не в силах закончить кощунственную фразу. Подумать только, я‑то рассматривал эти образы изолированно, как бы сами по себе, один на один со своим идейным содержанием, и совершенно не обратил внимания на межскульптурные смыслопорождающие пространственные отношения! Между тем, далее дело оборачивалось все хуже. После беженцев, но все еще в опасной близости к Ильичу, была экспонирована пластически эффектная баранья голова размером заметно, ну — по меньшей мере раза в три, больше натуры. Много ума не требовалось, чтобы уловить здесь еще один мерзкий намек. В том смысле, что чья это голова имеется в виду. После бараньей головы следовало еще какое‑то безобразие, а потом уж, замыкая ряд, лежала гранитная обнаженная женщина работы Антона Старкопфа. Конечно, здесь политические двусмысленности, граничащие с осквернением святыни, прямо не просматривались, но близость Ленина делала возможные эротические ассоциации по меньшей мере неуместными. Хорошо еще, что Старкопф, по своему обыкновению, сильно обобщил формы голого женского тела. Его младшие коллеги были не столь артистичны. Главная культурная женщина, все более накаляясь, переключила наше внимание на другое крыло экспозиции, слева от головы Основоположника. Рядом с Ним были размещены произведения сравнительно нейтральные — я их не запомнил. Но замыкала дугу скульптура под названием «Сигнал». Некий мужчина, сидя на корточках и подняв совершенно вертикально правую руку с пистолетом, производил огнестрельный выстрел вверх, как бы в небо. Автор оставлял зрителю догадываться, из спортивного ли пистолета стреляет герой или же из боевого, зачем он стреляет и кому подает сигнал. Конечно, эта условная или, по — современному, виртуальная стрельба в аванзале производила впечатление бестактности. Не упрятана ли здесь, скажем, пародия на исторический Залп «Авроры»? Но главное было в другом. Подойдя к произведению, дама покраснела и не смогла ничего сказать, — трудно поверить, но так это было: на какое‑то мгновение — некий бесконечно малый обломок эпохи — голос Партии просто умолк. Как известно, очень сильные раздражители подавляют и делают незаметными более слабые импульсы: гипсовый стрелок (или сигналящий) был изваян совершенно обнаженным. Т. е. голым, ну совершенно как мать родила: кроме пистолета там не было ничего рукотворного, только природное. Представьте себе, пожалуйста, сидящего на корточках обнаженного мужчину и учтите, что — в отличие от А. Старкопфа — автор позорной скульптуры трактовал принципы реализма буквально и упрощенно, т. е. не стилизовал и не обобщал частности. Наконец, дама пришла в себя, напрягла волю и произнесла то, что позволял моральный кодекс строителя коммунизма: — Нет, — сказала она — это невозможно. Невозможность чего она имела в виду, осталось нераскрытым. (В это время Эрве Фишер уже предусмотрел в деталях весь ход акции, символизировавшей конец истории искусства.) Обдумывая сейчас, когда это стало частью отмененной истории, муки и страсти дамы, я, кажется, могу предложить правдоподобную гипотезу. Положение, действительно, было ужасным. Социалистическая демократия образца 1979 года зашла настолько далеко, что Союзная Республика могла сама решать, что ей показывать на своих выставках. Таков, во всяком случае, был уговор, и дама, видимо, это знала. Я тоже. Закрыть выставку каких‑нибудь там ленинградских подпольщиков — диссидентов она могла бы мановением своего толстого мизинчика. Но тут… С другой стороны, она — лицо, ответственное за идеологическую стерильность всего, что происходит в культурной жизни Города Трех Революций, и особенно — Последней. И любое еще более высокое лицо может с нее строго спросить за то, что она допустила. Но просто накричать и приказать убрать эту порнографию тоже рискованно, можно совершить политическую ошибку другого рода. И так далее. И отсюда невозможность ситуации. Я думаю, что озабоченность и гнев дамы объяснялись не столько преданностью принципам, сколько страхом. Мы часто недооцениваем роль этого аффекта в жизни так называемых властных структур того времени. Я не испытываю ни жалости, ни сочувствия — я пробую нащупать психологические пружины… Спустя несколько дней я принес сценарий телепередачи о выставке на ленинградское телевидение. (Конец искусства в Центре Помпиду стал еще ближе.) Редактор, приятная во всех отношениях женщина, тут же при мне стала его читать и корректировать. Я не открывал сценарий Лениным и потому не чувствовал себя обязанным. В качестве эмблематической заставки я выбрал картину, экспонированную во второстепенных пространствах отмененного навсегда средокрестия, — «Разговор автопортретов» Юри Аррака: четыре Юри беседовали друг с другом, увлеченно жестикулируя, доказывая, сомневаясь… Описав в нескольких словах парадокс четырех Арраков как прозрачную символизацию диалогической жизни единой личности, я позволил себе нехитрый перенос, написав далее, что именно так, в свободной беседе, в свободном состязании разных позиций и творческих идей живет сейчас искусство Эстонии и таким мы его показываем — ну, и так далее. Редактор телевидения принялась читать рукопись. Какое слово оказалось первой жертвой ее красного редакторского карандаша? Да, вы правы, именно это. — Вам не стыдно? — спросил я. — К тому же текст теряет смысл. — Его все равно вычеркнут — старший редактор, главный редактор, заведующий редакцией, цензор, — возразила она. — Слово «свободный» не может появиться в ленинградском эфире… Лучше уж я вычеркну его сама[28]. Выставка современного искусства Эстонии, Латвии и Литвы в Санкт — Петербурге, о которой я узнал из старой газеты и по поводу которой принялся вспоминать, называлась «Персональное время». Обсуждение прошлых времен еще далеко не закончено. Я хотел только напомнить, что кроме персонального времени существовало время «поясное». В астрономическом январе — феврале 1979 года время рефлектирующего парижского художника Э. Фишера мало в чем совпадало со временем Ю. А., а их время, в свою очередь, уже отсчитывалось и текло иначе, чем время ленинградской партийной чиновницы или телевизионной журналистки. Был ли это скандал с эстонским авангардом? Трудно отвечать на прямо поставленные вопросы. История вообще не раскладывается на черное и белое. К тому же в самой генетической программе режима был заложен ген абсурда. Вот еще один сюжет. Это был тот же 1979 год. Впрочем, интрига началась раньше, но главные события относятся, как будет видно, к 79–му, тут сомнений нет. Началось с того, что главный редактор издательства «Кунст» пригласил меня очень срочно, сегодня, зайти к нему, естьдело. Знаешь, начал он издалека, я думал, что уйду на пенсию из этого кресла, но, как видно, придется искать работу… И он дал мне прочесть грозный документ, присланный из Государственного комитета по печати. Из него следовало, что издательство выпустило очередной альбом «Эстонская графика 1976—77» (эти альбомы выходили каждые два года), который пропагандирует худшие проявления антинародного формализма в графике республики, и потому его издание следует прекратить. Без сомнения, документ был сочинен московской дамой, широко известной своей холуйской беспринципностью, наглостью и карьеризмом, а на нашу беду мнившей себя специалисткой по искусству республик Прибалтики. В Госкомитете по печати ее высоко ценили, она помогала клеркам этого заведения различать, опознавать и душить в колыбели идеологические ошибки, просчеты и формалистические диверсии в изданиях по искусству. Ее тайные доносы, анонимные рецензии и проекты приказов было легко атрибутировать — она не владела приемами стилистической маскировки и писала как говорила. Поэтому назвать имя подлинного сочинителя и инициатора не составляло труда. Это работа Св. Ч., сказал я, дело не так скверно, донос сделан неряшливо, тут много фактических ошибок, можно протестовать. Моя идея не получила поддержки у собеседника; он считал, что приказы прямого начальства опротестовать невозможно. Мы сочинили уклончивый ответ, так полагалось, издание альбомов прервалось, но мысль о протесте меня не оставляла. Я поделился ею с Ильмаром Торном, тогда — председателем Союза художников Эстонии. Издательство, толковал я, не может не выполнять приказ, но мы—το, Союз художников, общественная творческая организация, мы Госкомитету не подчиняемся и можем защищать наше правое дело. Он обещал подумать. Вот тут‑то, ранним летом 1979 года (что там, о, Господи, творится в Париже, после конца истории искусства уже добрых четыре месяца миновало?), прошел слух, что из Москвы, из самого ЦК КПСС, прибыла полномочная комиссия для фронтальной проверки идеологических дел в республике. Творческие союзы тоже проверяют. Слух вскоре подтвердился. Теплым июньским вечером в театре «Эстония» давали оперу. В антракте я выбрался на улицу — вдохнуть свежего воздуха и покурить. Там, по асфальту бульвара Эстония, просто так себе, вместе с секретарем ЦК КПЭ, прогуливался сам О. И. — заведующий всеми пластическими искусствами в Отделе культуры ЦК КПСС. Они тоже слушали оперу. Как называлась должность О. И., я точно сказать не могу. Зав. отделом? Зав сектором? Зам. зав.? Во всяком случае, он руководил изобразительными искусствами и отвечал за них перед Партией (там, где исторически сложилась однопартийная система, слово Партия пишется с большой буквы) и Народом. — Здравствуйте, Б. М., как поживаете? — сказал О. И., мой знакомый (пора раскрыть карты!) с давних пор. Да, вот именно, с давних пор. Ибо некогда, в незапамятные и незабвенные пятидесятые годы, О. И. жил в Риге и, будучи корреспондентом столичной газеты «Советская культура» по Прибалтике, часто наведывался в Таллинн. Как мы с ним познакомились — никак не упомню, тем более что в «Советской культуре» я ничего не публиковал. Но как‑то нас познакомили. Позднее О. И. оказался в Москве, заведовал искусством в «Комсомольской правде», там был, видимо, замечен и по прошествии времени произведен в ответственные партийные работники. Ростом и, если надо, тяжеловесно серьезным, с примесью вдумчивой угрозы выражением руководящей маски он вполне подходил для такой должности. Теперь он проверял, как обстоят дела с эстонским изобразительным искусством, а потому — даже в отдохновенные минуты наслаждения музыкой — находился в сопровождении идеологического секретаря ЦК Эстонской Компартии. Простым советским людям не дано было знать строгие правила внутрипартийного общения. Лишь иногда, случайно, ненароком, завеса на мгновение открывалась, и профан мог заметить обнажившуюся часть, мгновенную сцену, синхронный срез хорошо продуманного, детально структурированного процесса. И тогда, если подсмотревший или удостоенный откровения обладал даром и дерзостью великого Кювье, он мог по незначительному фрагменту реконструировать целое. — Здравствуйте, — отвечал я, пожимая протянутую мне партийную руку, — спасибо, а как вы поживаете? Мой вопрос, несмотря на энглизированную окраску, отдавал балаганом, поскольку зам. зав. сектором отдела ЦК КПСС, ясное дело, не может просто поживать, как я, скажем, — ибо он существовал в принципиально ином пространстве. Тем не менее секретарь ЦК КП Эстонии сразу понял, что мы начинаем беседу как знакомые люди. То есть, такова моя предполагаемая реконструкция ритуально — психологической сути случившегося; сказать с уверенностью, что именно понял республиканский секретарь, невозможно. На феноменальном уровне ситуация развивалась как бы сверхнатурально: секретарь исчез. Он не отошел в сторону, не отвернулся, не взлетел, не провалился сквозь асфальт. Он мгновенно дематериализовался, аннигилировался, обратился в невидимку, стал прозрачен — я не нахожу в своем словаре выражений, которые могли бы верно описать это элегантное сверхъестественное событие. И вот мы с О. И. прогуливаемся в оперном антракте, вдвоем, просто себе как знакомые люди, которых столкнул случай после некоторой разлуки. — Над чем работаете, Б. М.? — спрашивает О. И. — Да вот, над тем и над этим… — А вот о том‑то и том‑то больше не пишете? — спрашивает О. И. «Какая память, однако», — не без тревоги думаю я. Словом, тут мне приходит на ум, что беседа с высоким начальством может быть использована для дела. Надо с ним поговорить насчет реабилитации альбомов эстонской графики, скомпрометировать рецензента и госкомитетский приказ и попробовать нащупать оптимальный способ действий. — Я хотел бы с вами обсудить одну тонкую проблему, — говорю я. — Да, конечно, но не здесь же… Давайте встретимся, я вам позвоню, и мы договоримся о времени. Не позвонил. Но беседа состоялась. В конце сентября, в Москве, в Центральном выставочном зале СССР (или как там он назывался, а по — простому — в Манеже) было проведено обсуждение Всесоюзной молодежной художественной выставки, возможно — о, моя невнимательная память! — что она была посвящена юбилею комсомола или какой‑нибудь другой ювенильной дате. Обсуждения, куда сзывали множество художников и критиков, были действом обрядовым, на них ложился отблеск сакральности и потому — как нетрудно догадаться — они проводились в алтарной части Манежа, или в аванзале, где посвященных, как мы уже знаем, окружали произведения наивысшей социалистической плотности. Количество коммунистической идейности, партийности и народности, приходившееся на каждую единицу размещенного там советского искусства, было исключительно высоким и — в согласии с законом единства содержания и формы — требовало раблезианской физической массы для своего воплощения. И далее: высокоразвитое эстетическое чувство пропорций и знание законов экспозиции диктовало соответствующие пространственные интервалы между монструозными холстами. Так формировало себя торжественное место для ритуальных критических ристаний, то есть Обсуждения Всесоюзной Выставки. Я не хочу сказать, что там ничего не происходило кроме литургических словесных действий. Но сейчас не об этом. Духовное и физическое присутствие Центрального Комитета Партии было необходимым условием протекания столь масштабного художественного события. О. И. был тут. Когда он исчез из президиума, я — кружными путями, через боковой и центральный нефы, — настиг его где‑то за спиною главных молодежных картин, у стендов второго эшелона (Манеж был полностью радиофицирован, укрыться от обсуждения было невозможно, ораторов было слышно в любом углу, включая буфет, курительные и другие неэкспозиционные помещения, поэтому уход из аванзала не мог считаться жестом искейпизма ни с моей стороны, ни, тем более, со стороны ответственного лица). Я изложил О. И. суть дела, обратил его внимание на неуместность и безграмотность критики покойных альбомов и описал свой план протеста со стороны эстонского Союза художников, который мог бы стать основанием для возобновления издания. — Ни в коем случае не делайте этого сейчас! — воскликнул О. И. — Подождите, сейчас очень неподходящий момент, и вы можете только навредить вашему делу. Некоторое время спустя… Ну, месяц — полтора… С любопытством человека, которому почудилось шевеление потусторонних теней на непроницаемом экране властной тайны, я спросил, не предполагаются ли перемены. — Возможно… — А в каком направлении? — я попробовал прояснить видение. — К лучшему, только к лучшему, — обнадежил меня О. И. и удалился на свое место за столом президиума. А в декабре, в начале декабря, если я правильно помню, зачем‑то там был созван пленум правления Союза художников, где снова встретились оба действующих лица этой истории. На торжественной, разбегавшейся двумя маршами, лестнице старинного барского особняка, где народ безответственно и антисанитарно курил в перерывах между заседаниями, я напомнил О. И. о нашем разговоре. — Два месяца миновало, — сказал я, — даже больше, ну как, теперь можно протестовать? — Ни в коем случае! — отвечал О. И. с небывалой энергией. И тут же нечаянно, я полагаю, мой собеседник на мгновение открылся, как зазевавшийся боксер. — Ох, — вздохнул он с неподдельной мукой, — дожить бы до Сильвестра, дожить бы до Сильвестра… Темные намеки и неуместное в душе работника ЦК мечтание дожить до дня христианского святого, римского первосвященника, крестившего, по преданию, самого императора Константина, — казались беспорядочными фрагментами клинописной таблички или пещерной росписи. Складывая обломки безо всякой надежды получить картинку — наподобие «пазла», какими развлекаются американские дети и впавшие в детство взрослые, — можно было, однако, вообразить осмысленные очертания. Видимо, под Главным Ковром Державы шла судьбоносная возня: сенильному вождю Л. И. Б. в последние дни декабря исполнялось 70 лет — и с этой датой связывали неясные надежды или, вернее сказать, тревожные ожидания. К Сильвестру все должно было проясниться. Теперь—το мы знаем, что Л. И. Брежнев сохранил верность партийному принципу — «из кресла — да в могилу» (интересно, что молва приписывает эту формулу Н. С. Хрущеву — единственному генсеку, чья судьба, помимо его воли, поместила между его креслом и могилой изрядный промежуток приватной жизни, — если не считать, конечно, последнего генсека, выпавшего из канона вместе с развалом системы). Но некоторые колебания в проведении традиционного принципа, опасные и вредоносные для дела партии, на время как бы блокировали хорошо отлаженную деятельность аппарата. Все замерло в предчувствии Сильвестра… Между тем, О. И. взял себя в руки. В ответ на мои настояния по поводу примитивной критики и грубых запретов, О. И., приняв нужный тон, сказал: — Ну, знаете, вы там в Эстонии много себе позволяете! — Однако, — говорю — после вашей проверки… — Да, — говорит он (прошу присмотреться к стилистике, а еще более — к новому направлению беседы! Внимание!), — но меч еще не пал, он еще висит на паутинке. Это означало, что отчет о партийной проверке положения дел в эстонской художественной жизни еще не готов и не подан вышестоящему начальству. Полгода прошло, а меч не пал! Сейчас или никогда. — Да, — говорю я, — мы себе много позволяем. Но посмотрите, каковы результаты. У вас есть подпольные художники, а в Эстонии их нет. У вас есть нелегальные выставки, а у нас нет. Ваши диссиденты, благодаря вашим же преследованиям, становятся мучениками, впервые в истории техники бульдозеры используются для устройства сияния вокруг головы, но (глядя правде в глаза) — вы не знаете, что со всем этим делать! Теперь, говорю, посмотрите, что получается у нас. Когда молодые авангардисты входят в Союз и выставляются на общих выставках, они эволюционируют в направлении реализма! Посмотрите! Олав Маран был абстракционистом, а теперь — вы видели его живопись, его натюрморты?! Айли Винт была абстракционисткой — а сейчас? Взгляните на ее марины! А Малле Лейс? Херальд Ээльма? (Уж не упомню, кого еще я назвал в своем вдохновенном перечне.) Вот что значит творческая жизнь не в подполье, а в коллективе! Лицо О. И. просияло каким‑то адским черным светом. Он вскричал: — Почему мне в Таллинне об этом никто не сказал? — Почему, — говорю, — не знаю, а вот я вам сейчас говорю. — Напишите мне все это кратко, на двух страничках. — Хорошо, — говорю, — вернусь домой в Таллинн, сяду и напишу. — Нет, — настаивает О. И., — знаю, не напишете, напишите сейчас. Вы же тут сидите на пленуме и все равно не слушаете этот вздор! (Некоторая доля цинизма позволена партийному работнику, если ему что‑нибудь от вас нужно; таким способом в стороне от иерархического обрыва устраивается общее духовное место, где пребывают оба, некоторое мы: мы—το с вами знаем, что это все пустое, риторика, болтовня.) Нет, тут не напишу, а вечером, в гостинице попробую изложить на бумаге… Как быстро летит время! Мы совсем забыли о парижском художнике Эрве Фишере, который закрыл историю искусства почти год назад. Я уже не говорю об ужасном убийстве искусства, совершенном немецкими дадаистами еще за полстолетия до него: «Die Kunst ist tot» — было объявлено в Берлине в 1919 году. Теперь хорошо видно, что это там все кончено, между тем как тут жизнь кипит! Или, если поменять местами наречия, а заодно и точку зрения: тут, на авангардистском кладбище искусства, торжествует новая жизнь, а там, в стране победившего социализма, покойник бродит по улицам… К «там» надо прибавить «тогда». Наивный читатель теперь, забывший или не знавший, может подумать, что я воспроизвел разговор двух идиотов. Нет, нет, все дело в том, что время быстро стирает коды. О. И. вовсе не был человеком глупым, фанатичным или необразованным. Он прекрасно понимал, что мои мнимые персонажи — «плохие или заблудшие формалисты, исцеленные горным воздухом Союза Советских Художников Эстонии» — фантом, демагогическая выдумка, в которую я не верю ни одной минуты. И он ни на минуту не поверил в такого рода лубочные чудеса. Мы оба играли по принятым правилам — каждый для достижения своей цели. Моя практическая цель была — удержать меч, который еще не пал, от падения, а утопическая — по возможности способствовать смене меча на орало. Ну, а О. И.? …В главной гостинице державы — «Россия» — не нашлось пишущей машинки с русским шрифтом, пришлось писать от руки. Утром машинистка Союза художников сделала мне замечание по стилистике: в Центральный Комитет, учила она, пишут официально, строго и торжественно, а вы тут как роман написали. О. И. просил оставить текст в Союзе, ему доставят, а завтра позвонить ему — «обсудим», пообещал он. Я долго ждал обещанного обсуждения: эти сутки уходили в вечность на редкость неторопливо. Наконец — утро. Можно звонить. — Спасибо, Б. М., — сказал О. И. — Большое спасибо. Спасибо вам большое, Б. М., большое вам спасибо… Вам спасибо большое. Я запомнил текст телефонного обсуждения со стенографической точностью и воспроизвожу его дословно, целиком, без купюр — ввиду его исторической ценности. Гипотеза относительно О. И. О. И. боялся неопределенного будущего. О. И. знал, что в Эстонии дальше, чем где‑либо еще во вверенной ему стране, отошли от святых принципов партийности, народности и реализма. О. И. понимал, что в его отчете о проверке этот отход должен быть отмечен и осужден. О. И. понимал, что осуждение может обернуться против него же, так как за здоровое развитие изобразительного искусства в конечном счете отвечает он. Долгое — едва ли не полгода — балансирование между одинаково опасными решениями означает, что и в самом Центральном Комитете, подумать только, можно было трудиться нерадиво, затягивать дело, уклоняться и вилять. Но не бесконечно же! И вот тут, в канун Сильвестра, судьба посылает невероятную версию, которая позволяет изобразить эстонский вариант в идиотском, но доктринально правильном, а потому относительно благоприятном, тактически интересном свете! Постольку, поскольку правда, собственно, никому не нужна. Это предположительная реконструкция. Реальная история такова, что меч не пал. Либо, если и пал, то плашмя, без последствий. Причины амортизации темны, ответы надо искать в архивах, да и там не все найдешь… Нет, правда, жизнь никак не делится на два (три, четыре, пять…) без остатка. Если хотите без остатка, то для искомого результата есть только два абсурдных делителя — единица и ноль. 1997 Моисей Бернштейн, 1910–е гг. Фотография к удостоверению на право быть учителем
Моисей Бернштейн, 1910–е гг. Фотография к удостоверению на право быть учителем
 Одесса. Бебеля, 12. Арх. С. Прохаска
Одесса. Бебеля, 12. Арх. С. Прохаска
 Еврабмол. Во втором ряду в центре М. Б. Бернштейн, слева от него Е. С. Гликсберг, справа А. Гильгур; в третьем ряду между М. Б. и Е. Г. — М. Я. Басок; в предпоследнем ряду четвертый справа — Абрам Борисович Бернштейн
Еврабмол. Во втором ряду в центре М. Б. Бернштейн, слева от него Е. С. Гликсберг, справа А. Гильгур; в третьем ряду между М. Б. и Е. Г. — М. Я. Басок; в предпоследнем ряду четвертый справа — Абрам Борисович Бернштейн
 Зародыш школы Столярского — Студия для одаренных детей при Одесской Консерватории, 1933 г. В центре П. С. Столярский, слева от него Александр Лазаревич Коган, преподаватель теории музыки, справа проф. Мария Митрофановна Старкова. В первом ряду пятая справа Песя Папиашвили. В четвертом ряду первая справа Миля Брейтман, концертмейстер в классе П. Столярского, рядом с ней Марк Зингер. В последнем ряду шестая справа Фрида Приблуда, слева от нее через одного Дима Тасин, за ним Кадик (Оскар) Фельцман, на фоне окна Алик Рубинштейн, сын Б. М. Рейнгбальд
Зародыш школы Столярского — Студия для одаренных детей при Одесской Консерватории, 1933 г. В центре П. С. Столярский, слева от него Александр Лазаревич Коган, преподаватель теории музыки, справа проф. Мария Митрофановна Старкова. В первом ряду пятая справа Песя Папиашвили. В четвертом ряду первая справа Миля Брейтман, концертмейстер в классе П. Столярского, рядом с ней Марк Зингер. В последнем ряду шестая справа Фрида Приблуда, слева от нее через одного Дима Тасин, за ним Кадик (Оскар) Фельцман, на фоне окна Алик Рубинштейн, сын Б. М. Рейнгбальд
 Одесса. Школа им. проф. П. Столярского. Арх. Ф. Троупянский с группой. 1939 г. (восстановлена после войны)
Одесса. Школа им. проф. П. Столярского. Арх. Ф. Троупянский с группой. 1939 г. (восстановлена после войны)
 Школа Столярского. 1940 г. Дети слушают музыку. Слева в глубине Шурик Абрамович, в первом ряду слева направо: Лиля Фишман, Рита Фишман, Фрида Приблуда, Ира Сигал, Муся Щервинская…
Школа Столярского. 1940 г. Дети слушают музыку. Слева в глубине Шурик Абрамович, в первом ряду слева направо: Лиля Фишман, Рита Фишман, Фрида Приблуда, Ира Сигал, Муся Щервинская…
 Фрида Приблуда. Одесса, 1941
Фрида Приблуда. Одесса, 1941
 Б. Бернштейн с родителями — Эсфирью Григорьевной и Моисеем Борисовичем. Рубцовск, ноябрь 1945
Б. Бернштейн с родителями — Эсфирью Григорьевной и Моисеем Борисовичем. Рубцовск, ноябрь 1945
 Б. Бернштейн. Одесса, 1941
Б. Бернштейн. Одесса, 1941
 Моисей Бернштейн. Ок. 1970
Моисей Бернштейн. Ок. 1970
 Начальник ансамбля песни и пляски 43–й армии капитан Чемезов Иван Иванович. Щецинек, 1946
Начальник ансамбля песни и пляски 43–й армии капитан Чемезов Иван Иванович. Щецинек, 1946
 Фрида Бернштейн. Ленинград, 1950
Фрида Бернштейн. Ленинград, 1950
 Б. Бернштейн. Щецннек, 1946
Б. Бернштейн. Щецннек, 1946
 Жозефина Бельфанд. Ок. 1950
Жозефина Бельфанд. Ок. 1950
 Портрет H. Н. Пунина. Худ. Н. Лапшин. (Местонахождение неизвестно)
Портрет H. Н. Пунина. Худ. Н. Лапшин. (Местонахождение неизвестно)
 И. И. Иоффе и Н. Д. Флиттнер со студентами — искусствоведами I курса. Май 1947. Первый ряд: Вагнер, В. Сушанская (в замуж. Флеккель), И. И. Иоффе, Н. Д. Флиттнер, С. Медведева,? Б. Соковых (в замуж. Боровская). Второй ряд:?? Шейна, В. Суслов, Д. Колесникова,? А. Бекарюкова, Ф. Малаховская, Б. Бернштейн. Третий ряд:?. Н. Кузнецова, Шубин, И. Грудинина,? Морозов
И. И. Иоффе и Н. Д. Флиттнер со студентами — искусствоведами I курса. Май 1947. Первый ряд: Вагнер, В. Сушанская (в замуж. Флеккель), И. И. Иоффе, Н. Д. Флиттнер, С. Медведева,? Б. Соковых (в замуж. Боровская). Второй ряд:?? Шейна, В. Суслов, Д. Колесникова,? А. Бекарюкова, Ф. Малаховская, Б. Бернштейн. Третий ряд:?. Н. Кузнецова, Шубин, И. Грудинина,? Морозов
 Б. Бернштейн и девушки из университетской самодеятельной танцевальной группы
Б. Бернштейн и девушки из университетской самодеятельной танцевальной группы
 Университетская самодеятельность. Б. Бернштейн за роялем
Университетская самодеятельность. Б. Бернштейн за роялем
 Владимир Ворошилов
Владимир Ворошилов
 Александр Бениаминов в «Русском вопросе»
Александр Бениаминов в «Русском вопросе»
 Александр Бениаминов
Александр Бениаминов
 Лео Гене
Лео Гене
 Лео Соонпяя
Лео Соонпяя
 Фридрих Лехт
Фридрих Лехт
 Виллем Раам
Виллем Раам
 Тбилисская конференция. Март 1956. Пир под открытым небом, у стен древнего храма Самтависи. Слева направо: Григорий Островский, Моисей Каган, Нонна Степанян, Б. Бернштейн,? Владимир Толстой, Анна Зуйкова, Матус Лифшиц
Тбилисская конференция. Март 1956. Пир под открытым небом, у стен древнего храма Самтависи. Слева направо: Григорий Островский, Моисей Каган, Нонна Степанян, Б. Бернштейн,? Владимир Толстой, Анна Зуйкова, Матус Лифшиц
 Кафедра. Кофе после лекции. А. Таккин, Б. Бернштейн, Малле Каю, Хелли Сизаск, Аполлоний Чернов. 1975
Кафедра. Кофе после лекции. А. Таккин, Б. Бернштейн, Малле Каю, Хелли Сизаск, Аполлоний Чернов. 1975
 Б. Бернштейн. Семидесятые. Летняя практика в Ленинграде
Б. Бернштейн. Семидесятые. Летняя практика в Ленинграде
 Б. Бернштейн. Середина семидесятых. Таллинн
Б. Бернштейн. Середина семидесятых. Таллинн
 Б. Бернштейн. Середина восьмидесятых. Таллинн
Б. Бернштейн. Середина восьмидесятых. Таллинн
 Дискуссия на собрании студенческого научно — творческого общества. Обсуждение фотовыставки
Дискуссия на собрании студенческого научно — творческого общества. Обсуждение фотовыставки
 Леонид Столович
Леонид Столович
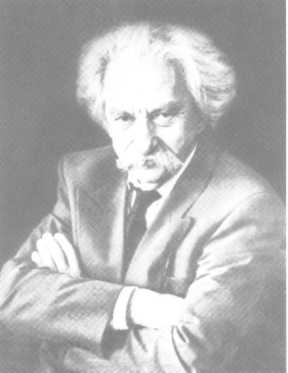 Юрий Лотман
Юрий Лотман
 Моисей Каган
Моисей Каган
 Фрида Бернштейн. Аплодисменты после концерта
Фрида Бернштейн. Аплодисменты после концерта
 Б. Бернштейн. США, 2003
(обратно)
Б. Бернштейн. США, 2003
(обратно)
Сотворение Адама
Я любил и до сих пор люблю преподавать. Лекция забирает меня целиком, любые горести и неприятности в эти минуты уходят в небытие — пусть временно. Лекция, которая мне кажется удавшейся, доставляет самому скромное удовольствие. Но за все надо расплачиваться. Я знаю, что есть преподаватели — любопытствующие, преподаватели — садисты, преподаватели педанты, для них часы приема экзаменов — звездные. Я не из их числа. На экзаменах я тоскую. Надо решать, какую отметку поставить, это ужасно. Даже интеллигентные студенты на экзамене выглядят не лучшим образом, потому что это — экзамен. Надо слушать нечто невнятное. Приходят в голову мысли о краткости земного пути и тщете человеческих усилий. Поэтому начинаешь ценить блестки, украшающие серую ткань студенческих ответов. «Остров Крит находился на полуострове Пелопоннес». «Он был очень трудолюбимый художник». «Эта церковь была полосатого цвета». «В Голландии было три великих художника — Франс, Хальс и Рембрандт». Экзамен по истории искусства — двухчастный. В первой половине студент отвечает на вопросы, обнаруженные в билете. Во второй он должен опознать произведения, которые я ему показываю в репродукциях. Удачи во второй части могут искупить провалы, случившиеся в первой: в конце концов, я учу художников, а для них образное мышление важнее словесного. Вот я показываю студентке собор, баптистерий и падающую башню в Пизе. Испытание не из трудных. — Это пизанская башня, — правильно говорит испытуемая. — А какой это стиль? — Готический. — А точнее? Вопрос свидетельствует о моем человеколюбии: мы за семестр всего два стиля прошли. — Романский. — Верно! А в какой стране? — Во Франции. — Постойте, вы только что сказали, что это пизанская башня… — Ну, значит, в Пизани. Я практически никогда не выгонял студентов с экзамена. Зачем длить? За всю мою карьеру длиною в 44 года я выставлял студентов с экзамена раза два или три. Если поделить эти три на 88 семестров, то мы получим округленно 0,0682 выгона на один экзамен. На самом деле величина существенно меньше, поскольку я читал параллельно несколько курсов. Ну, не меньше четырех. Поэтому вероятность измерялась цифрой 0,017. Риск провалиться на экзамене у Бернштейна был невелик. Но два случая я помню. Один раз студент — живописец ну совершенно ничего не знал. Я велел ему прийти еще раз. Вторая попытка была не намного лучше первой, но мне надоело — и он получил свою незаслуженную тройку. После чего студент сказал, что хотел бы со мной посоветоваться. Я был готов. — Знаете, Борис Моисеевич, что‑то с живописью у меня не очень хорошо получается. И вот я думаю, не пойти ли мне в искусствоведы? …Другой раз я выставил студента за такое же стерильное незнание, к которому добавлялась нагловатая развязность. Он пришел второй раз, уже присмиревший, поскольку не догадывался, что третьего раза все равно не будет. Послушав из учтивости какой‑то невнятный текст, перехожу к репродукциям. Чтобы не затруднять студента, показываю роспись потолка Сикстинской капеллы. — Это Микельанджело! (Так, думаю, дело уже пахнет тройкой.) — Это там, в Риме. (Крепкая тройка, так сказать — с плюсом.) — Вот это сотворение Адама, — тычет он пальцем куда надо. (Четверка!) — Вот Адам. Если бы он не тыкал пальцем, все бы обошлось. Но в знаменитой композиции две фигуры, не считая гениев, и потому я рискую спросить, кто второй. — А, этот? Это Зевс! Как‑то я рассказал эту историю за кружкой пива болгарскому коллеге. Когда мы добрались до Зевса, он воскликнул: неоплатоник! Коллега имел в виду флорентинских гуманистов пятнадцатого века, христиан, влюбленных в языческую античность, — это они, сближая полюсы, полагали, что греки поклонялись Зевсу, провидя в нем единого иудео — христианского бога. Болгарский коллега, как видим, был еще гуманней меня… Я, может, и забыл бы Зевса с Адамом, если бы не закон парных случаев, напоминающий о себе в неожиданных местах. Спустя эдак лет пятнадцать к нам, на кафедру живописи, поступил обрусевший эстонец из Одессы, Валя Эвертсон. Он был постарше других — сначала он окончил Одесское художественное училище, а после училища отслужил еще срок в советской армии. К нам он явился уже после демобилизации. Яркий, рыжебородый парень, способный и полный энергии. Как‑то в приватной беседе обнаружилось, что его военная служба пришлась на не лучшее время — танкистом он участвовал в усмирении Чехословакии в 1968 году. — Не спрашивайте меня, Борис Моисеевич. Я не то что рассказывать, я вспоминать не могу этот кошмар. А то с ума сойду… У фрейдистов такое называют вытеснением. Но Валя, кажется, вытеснил свой опыт невольного душителя не слишком глубоко. Вспоминать не мог — значит, помнил.* * *
В ту ночь августа, по — видимому — несколько часов спустя после того, как танковая бригада, где служил Валя, получила команду выступить, ближе к утру, часов в шесть, мне позвонила лаборантка нашей кафедры. — Борис Моисеевич, — сказала она, — они это сделали. Текст не был конспиративным. Просто кто они и что они сделали — пояснять не требовалось, мы уже неделями жили в напряжении. Утром я поехал в институт. Как обычно, в августе мы со студентами собирались на ознакомительную практику по истории искусства. Нет, не в Италию или там в Грецию, это еще зачем. Тут поблизости, в Ленинград: архитектура города, пригороды, Эрмитаж, Русский музей… У нас все есть. Я должен был оформить в канцелярии какие‑то документы, через день выезд. Первый, кого я встретил в коридоре, был Март Порт, председатель Союза архитекторов. Он отозвал меня в сторонку и спросил, знаю ли я, какая разница между капитализмом и социализмом. Не ожидая ответа, Порт пояснил: — Капитализм совершает социальные ошибки, а социализм — капитальные… Вооруженный новым знанием, я отправился в канцелярию за бумагами. Там был зачем‑то ректор Яан Варес. Он быстро вызвал меня в коридор, к той самой нише под лестницей, где мы только что сравнивали капитализм с социализмом. Возможно, в промежуток времени между этими двумя беседами у лестницы танк Валентина Эвертсона, будущего художника, — или кого‑нибудь из его бригады — успел раздавить протестующего человека на площади Братиславы, Брно или самой Праги; советские танки, говорят, были самые быстроходные в мире. — Ты видел сегодняшнюю «Комсомольскую правду»? — спросил Варес с некоторым смущением. Странный вопрос. Ни сегодняшнюю не видел, ни вчерашнюю. Я вообще эту газету не читал. И сейчас ее, сохранившую задорное имя, не читаю. — Нет, не видел. — Ты там найдешь какие‑то строки, где сказано, что я одобряю эту акцию. И мою подпись. Мне позвонили сегодня утром из Москвы и познакомили с уже напечатанным текстом. Так советские люди единодушно одобрили вторжение стран Варшавского договора в Чехословакию. Спустя год с небольшим, в порядке укрепления советско — чехословацкой дружбы, в Праге были устроены дни советской культуры — или как там оно называлось. Чтобы не обострять дружбу, советскую культуру представляли эстонские художественные силы. Моя жена Фрида была в их числе. Артистов тщательно проинструктировали: ни под каким видом не велено было говорить между собой по — русски, пожалуйста, ни одного русского звука. А гиды, которые показывали им Прагу, объяснялись по — немецки. Что ни говорите, а советская политика по отношению к восточноевропейским братьям не лишена была изящества.* * *
Отслужив свое, как сказано, Валя Эвертсон поступил в наш институт — и пошла академическая рутина: рисунок по утрам, потом лекции, ну там, история партии или научный коммунизм, пластическая анатомия, история искусства и прочая, днем, пока в северном Таллинне светит скупое солнце, — живопись, как стемнеет — еще лекции, кроки… День за днем, семестр за семестром. Вот и очередная сессия, просмотр и оценка работ, то да се… Пришло время сдавать экзамен по искусству Возрождения. У меня на экзаменах могла сидеть вся группа. Я не заставлял, но и не препятствовал. Все прозрачно. Да и студенту полезно послушать коллег. Вале достался вопрос о творчестве Микельанджело. Пока он отвечал, я обсуждал сам с собою некоторые методологические проблемы преподавания. Когда‑то мой старший и опытный коллега и приятель, заведующий кафедрой русского искусства в институте им. Репина, давал мне педагогические советы. Он утверждал, что лекции необходимо инкрустировать историческими анекдотами, чем больше, тем лучше. Совет противоречил высоким идеалам молодого тогда преподавателя. Со временем, однако, я убедился, что именно анекдоты, как некие уплотнения исторической плазмы, помогают студенту запомнить еще что‑нибудь. Вот и сейчас Валя перескакивал с одной кочки — анекдота на другую, захватывая по дороге и кое‑что более важное. «Там один плохой человек, — говорил он, — плел интриги против Микельанджело, потому что видел в нем конкурента…» Это он хотел намекнуть на Рафаэля. Но все‑таки рассказ — о потолке Сикстинской капеллы. Вербальная часть закончена, я показываю Вале картинки. У него отличная зрительная память, от зубов отскакивает, все в порядке. На столе репродукция все того же Сикстинского потолка, он называет все толком. И вот тут неведомая сила направляет его палец на одно из полей: — Это, — говорит он, — «Сотворение Адама». Вот это Адам. Смолчать невозможно, неоплатонический ответ пятнадцатилетней давности тут же приходит на ум. — А это кто? — спрашиваю я. Валя глубоко задумывается. Он и так рыжий, а тут его белая кожа краснеет от интеллектуального напряжения. — Моисей? — неуверенно пробует он почву, вопросительно глядя на меня. И сам опровергает: — Нет, не Моисей… Народ в аудитории уже навострил уши в ожидании события — то ли счастливого, то ли трагического. — Ну, Валя, — пытаюсь я помочь. — Ну кто сотворил небо, Землю, все живое, человека, наконец? Валя напрягается еще больше. Он краснеет до ушей. Он больше не решается наобум перебирать имена, всплывающие в памяти. Он должен попасть в десятку, у него нет выбора. Человек просто каменеет от умственного усилия. Но в памяти уже ничего больше нет. В конце концов Валя сдается. — Нет, Борис Моисеевич, — говорит он, обмякнув. — Нет. Не помню. Это был лучший ответ из всех, какие я слышал! Я бы поставил ему не пятерку, а шестерку, семерку, десятку. Валентин Эвертсон не помнил, кто сотворил мир! Правильно. Сделано давно, в наше отсутствие, можно и не знать. И заодно уж — не спрашивать, кто несет исходную ответственность за это все. (обратно)Московская практика
Летняя «ознакомительная» практика по истории искусства была украшением нашего учебного курса. Рутинные лекции, читаемые по ходу учебного года, мы были вынуждены сопровождать показом репродукций, по большей части тоновых, из монографий и альбомов, которые хранились в нашей скудной библиотеке. В 1961 году в Праге, в Академии художеств, чешские коллеги завели меня в аудиторию — амфитеатр и показали, как специальный аппаратик проектирует на белую стену цветные слайды. Зрелище было невиданное и заставляло задуматься, почему у них имеются такие чудеса — тоже ведь социалистическая страна… Спустя годы проекционное чудо достигло и наших краев. Министерство высшего образования, беспокоясь о наших нуждах, весною обычно присылало адресованное нашей кафедре письмо с запросом — сколько цветных слайдов потребуется нам в будущем учебном году для обеспечения высокого качества учебного процесса. Мы, глядя в потолок, отвечали, что требуется для начала пять тысяч слайдов, поскольку кафедра пока не имеет ни одного. Весною следующего года вместо слайдов приходил следующий запрос министерства. Наши ознакомительные разъезды, персональные и групповые, причиняли кураторам из министерства не меньшую головную боль. С той же весенней почтой неизменно приходил запрос относительно потребностей кафедры в зарубежных поездках. Кто‑то из министерских был либо законченным идиотом, либо доставлял самому себе невинное развлечение. Мы подхватывали шутку и весело импровизировали, называя в качестве необходимых точек командирования и поездок со студентами Италию, Францию, Испанию, Грецию, Англию, Голландию, Бельгию, Германию — Восточную и Западную, Египет, Иорданию, Индию, Мексику и другие историко — художественные места. Все это с нашей стороны было недостойным шутовством — в Советском Союзе было достаточно насыщенных искусством пространств: хочешь, езжай в Москву, а хочешь — в Ленинград, а хочешь — в Вильнюс или Львов, а то — через Петрозаводск на самые Соловки! По этим местам мы вольно разъезжали с нашими студентами. Словом, летняя практика была окном в мир живой истории искусства. На две недели мы выбирались из привычного Таллинна, чтобы перед глазами студентов предстали реальные произведения разных эпох и народов. В тот год мы поехали в Москву. Судьба мне ворожила. Мы провели день в Коломенском, осмотрели все, что было возможно, даже до церкви Иоанна Предтечи в Дьякове дошли, перебравшись через неудобный овраг. Я, совсем, видимо, обезумев, написал заявление директору Третьяковской галереи с просьбой разрешить нам осмотреть искусство русского авангарда, сокрытое в запасниках. И директор разрешил! Право же, честно, году в 1965–м мы со студентами осматривали это. В доказательство правдивости моих слов я приведу детали, которые не может знать человек, не посетивший запасник. Первое — искусство духовной нищеты, упадка и разложения хранилось… Да — а-а, люди новых поколений вряд ли догадаются, где могли быть надежно упрятаны все эти Ларионовы, Малевичи, Кандинские, Бурлюки, Шагалы и проч. Среди нынешних много талантливых людей с ярким воображением, но у тогдашних фантазии было больше. Картины хранили в бывшей церкви Николы в Толмачах, конца XVII в., присоединенной к новопостроенным залам галереи в 1932 году. Пространство храма святителя Николая разделили на несколько ярусов, ярусы заполнили стеллажами, на стеллажи густо упаковали картины. Все добро не влезало — скажем, огромные холсты с росписями Еврейского театра, исполненные Марком Шагалом, лежали на полу, намотанные на валы. С яруса на ярус вели крутые деревянные лесенки… Так были наказаны сразу обе стороны — и храм, и искусство русского авангарда. Запасник оберегали научные сотрудницы пожилого возраста. Они обрадовались нам, как родным. Видно было, что на доски этих функциональных перекрытий редко ступала нога человека. Обрадовались — нет, это сказано не вполне точно, они были счастливы! Счастливы, что могут показать кому‑то доверенные им опасные сокровища. Пожилая хранительница поднялась с нами по крутой лесенке и стала вытаскивать из гнезд спецхрана классику. — А Гончарову хотите? — Пиросмани показать? Мы хотели всего, но нашей алчности был положен предел — в тесный запасник впускали понемногу, другая половина группы терпеливо ждала внизу, в залах дозволенного народу искусства. Я как руководитель группы повторил тур. Другой раз старушка — хранительница не стала с нами подниматься: дыхания не хватило. Вместо нее нас сопровождала сотрудница низшего ранга, по — тогдашнему «техничка». Оказалось, что она разбирается в русском авангарде ненамного хуже своих ученых коллег и относится к нему с неподдельным воодушевлением. Техничка успешно продолжила акцию эстетического развращения моих студентов. Студенты были в восторге, я тоже. Возбужденный успехом, я решился на новую импровизацию. — Вот что, — сказал я вечером, расставаясь с народом. — Завтра рано утром мы поедем автобусом во Владимир. У меня там нет связей, не знаю, сможем ли где‑нибудь переночевать. Если не найдем ничего, к ночи вернемся. Участие добровольное, кто не склонен к авантюризму — остается в Москве и знакомится с искусством по своему усмотрению. Лучшие люди прибыли на автобусную станцию вовремя. Владимир нас встретил залитыми солнцем Золотыми воротами. На главной улице — как ее звали, не помню, но готов поспорить, что это была улица Ленина, — оказалась гостиница. Известно, что в советских гостиницах свободных номеров не бывало по определению. Гостиницы существовали для того, чтобы там не было свободных номеров, кто же этого не знал. Но мы уже побывали в запасниках Третьяковской галереи, куда тоже нельзя. Я пробиваюсь в кабинет администратора. Понизив голос до конфиденциального уровня, я произношу: — У меня тут группа художников из Эстонии. Я знал, что в советской школе преподавание истории и географии поставлено скверно. Тем не менее реакция администратора была для меня сюрпризом. Администратор еще не выучил, что Эстония — это просто советская республика. Поэтому каждый, повторяю — каждый из нас, получил по отдельному номеру с персональным туалетом и душем. Смыв дорожную пыль, мы устремились во Владимирский кремль. Дмитриевский собор с его белокаменной резьбой, Успенский собор — главный, некогда отдававший княжество под покровительство Богородицы. Скудные остатки фресок Рублева. Успеваем осмотреть музей, который почему‑то рано закрывался… Длинный летний день в разгаре, мы можем еще посетить Боголюбово. На автобусной станции картина привычно удручающая. В согласии с принципом социалистической экономии, автобусы не должны ждать людей, — это люди должны ждать автобусов. Сотни людей, разморенных жарой, с корзинами и мешками, ждут, когда подадут нужный номер. Не исключено, что они везут яйца, булки, крупу или колбасу из самой Москвы. Ибо, как известно, схема распределения сельскохозяйственной продукции такова, что плоды со всей страны доставляют в Москву, а оттуда народ распространяет еду самовывозом. Но так мы с нашими духовными потребностями и до ночи не попадем куда надо. Ну что же, я отправляюсь к начальнику, пробиваюсь… — У меня группа художников из Эстонии, — говорю я вполголоса, где‑то в малой октаве, глядя автобусному боссу прямо в глаза. — Пройдемте, товарищ. Мы пробираемся в кассу через потайную дверь, мне отматывают необходимое количество билетов, выходим через заднее крыльцо, начальник, скрываясь от народного гнева, ведет нас тылами к пустому автобусу, относительно которого только ему одному известно, что через пятнадцать минут он отправится в сторону Боголюбова. Минут через сорок мы на месте. По легенде, великий князь Андрей Юрьевич вез однажды из Киева в Суздаль драгоценную икону Богородицы, греческой работы. Верстах в одиннадцати от Владимира телега с иконой стала. Кони ни под каким видом не желали идти дальше. Это был знак. На месте остановки князь поставил монастырь, замок и церковь. Замок, укрепленный на западный манер, стал любимым домом князя. Нынче от времен Андрея Боголюбского осталось немногое — стертые валы укреплений, часть башни и ворота двенадцатого века, украшенные неведомо как забредшей сюда с Запада романской аркатурой. В этой башне, когда понадобилось, и прикончили князя родичи — заговорщики. Место, указанное лошадьми по велению свыше, было выбрано удачно. Замок с одной стороны красиво вознесен над обширным, уходящим вдаль низким, плоским лугом, на котором там, вдали, вырисовывается другая церковь, посвященная Богородице, — одинокий белокаменный кристалл Покрова на Нерли. Туда мы и отправились. Освещенная закатным солнцем целомудренно белая, благородных пропорций церковь хорошо завершала этот не зря прожитый день. Далее мы позволили себе не спешить. Уютная речушка Нерль искусительно журчала в наступивших сумерках, и — парни налево за кусты, девушки направо, за церковь! — все омылись в прохладных исторических струях. Поздний обратный автобус, впрочем, вернул нас в плотные и потные слои бытия. Приближаясь к гостинице, мы вспомнили, что ничего не ели с утра, разве что на автобусной станции кое‑кто успел пожевать купленный в будке жесткий тещин язык, запивая теплой газировкой. Мы бросились к гостиничному ресторану, но не тут‑то было. — Всё, товарищи, мы закрываемся, закрываемся… — Девушки, — говорю я, — это художники из Эстонии! Мы с самого утра голодаем! Я знаю, чего вы ждете. Вы ждете, что волшебное слово на этот раз не сработает. Потому что у них рабочий день кончился. Натоптались, хватит. Вовремя надо приходить. Ездят тут всякие, порядка не знают. Официантки и поварихи тоже люди. Завтра приходите — получите. Так вот, ничего этого не было. В заколдованном Владимире летом шестьдесят пятого года еще жива была российская всемирная отзывчивость. Утомленные официантки, поварихи и буфетчицы впустили нас в опустевший и уже прибранный ресторан, заперли двери изнутри — и минут эдак через двадцать на длинном столе стояли закуски, бутылки с грузинским вином, дымилось фирменное мясо в горшочках, — Боже, какое это было мясо! Сами труженицы, уж совсем патриархально, не побрезговали нашим обществом. После пиршества мы долго гуляли под среднерусским звезднымнебом. Наутро мы перебрались в Суздаль и уплатили заслуженную дань суздальской старине. Среди дня, ближе к вечеру, понадобилось отобедать. — У меня тут группа художников из Эстонии, — начал было я… Увы, в Суздале цивилизация уже распустила свои железные цветы. В порядке общей очереди, граждане. И мы прождали на солнцепеке добрых полтора часа, чтобы вкусить от изделий тамошнего кошмарного общепита. Ночной поезд повез нас назад в Москву. Наш вагон был почему‑то почти пуст. Спать никто не хотел, все сбились в одно купе ради беседы. А меня повело на рассказы о тех недавних временах, которые для меня были прожитой и пережитой реальностью, а для этих молодых ребят — уже историей. И то — группа состояла, если я верно помню, из одних эстонских студентов. Ну, может, еще был кто‑то из литовцев или латышей. Это важно, поскольку ментальность другая. Конечно, нетрудно подсчитать, что двадцати — двадцатипятилетние эстонские ребята учились уже в советской — или перекроенной на советский манер — школе и вообще вступали в сознательную жизнь при советских порядках. И тем не менее я рассказывал об истории, которая, хотя и обрушилась на них, не была их историей. Невидимая преграда делала для них этот опыт чужим. Тем интересней было слушать свидетеля. Говорили о Сталине и сталинских временах. И я, к месту, вспомнил рассказ, который тогда передавался лишь в устной форме. Позднее, в постперестроечные времена, его, помнится, где‑то опубликовали — с вариациями, которые неизбежны при трансляции фольклорных текстов. Я приведу его здесь, как слышал и излагал тогда. Мы уже уговаривались однажды, что степень истинности значения не имеет. Быль эта была о Поскребышеве, многолетнем секретаре Сталина. После смерти хозяина, который, кажется, прогнал его еще при жизни, Поскребышев пользовался надлежащими и необходимыми для коммуниста его уровня благами — ну, там, пристойное жилье, дача, машина, кремлевские пайки и обслуга, кремлевская медицина, барские санатории… И вот, заслуженный человек отдыхает в Барвихе. Но времена хрущевские, и другие высокопоставленные коммунисты, во избежание ненужных разговоров, несколько сторонятся верного сталинского пса. А он, оказывается, живой человек, он травмирован таким отношением, граничащим с изоляцией. И однажды, не стерпев обиды, говорит соседям по обеденному столу, что вы, мол, не хотите со мной дела иметь. А хотите знать, как мы при Сталине жили? Я вам расскажу. И рассказывает. Я, говорит, приходил на работу рано, раньше Сталина. Когда Сталин появлялся в своем кабинете, он обычно вызывал меня к себе, вручал мне список и говорил: оформыть! Это был его личный список тех, кого надлежало немедленно посадить. Я брал список и оформлял как надо. Однажды он так вызывает меня к себе и дает мне лист бумаги, почти чистый, там только одна фамилия. Я еще подумал, что вот какой он добрый сегодня. Выхожу, сажусь за стол, читаю. А там написано: Поскребышева, Бронислава Соломоновна[29]. Что делать, думаю. Пойду, буду его умолять. Захожу в кабинет, падаю на колени, ползу к нему. Товарищ Сталин, говорю, со слезами говорю, пощадите, жена моя… А Сталин говорит — оформыть! И я оформил. Ночью пришел в пустой дом. На другое утро Сталин вызывает меня к себе, смотрит на меня так сочувственно и, прежде чем вручить список, спрашивает: — Что это ты, Поскребышев, сегодня такой грустный, а? Нездоровится, что ли? — Так, товарищ Сталин, — говорю, — ведь моя жена… — А, жена? Большое дело — жена! Ничего, не огорчайся, мы тебе другую жену найдем. Еще лучшую. Работай спокойно… Когда я вернулся с работы, на кухне у меня хозяйничала незнакомая женщина. Тут Поскребышев умолк. — Ну, а что дальше? — спросили соседи по столу. — Что дальше? Да ничего… Я с ней живу до сих пор. Такую историю, среди прочих, я рассказал в ту ночь студентам. Утром, приехавши в Москву, я объявил свободный день: отсыпайтесь, бродите сами как угодно. Назавтра встречаемся там‑то — в утренней программе у нас будет Новодевичий монастырь, Новодевичье кладбище…* * *
Перед смертью все равны, но кладбища врозь. Новодевичье — для высших и лучших. Они, высшие и лучшие, тоже смертны, и элитарное кладбище постепенно переполняется. К тому времени, когда мы его посетили, оно уже выплеснулось за прежнюю ограду. Сейчас, возможно, возведены новые ограды — так и Москва постепенно выходила из себя: Кремль, Китай — город, Белый город, Скородом, окружная дорога… Мы, естественно, начали с внешнего кладбища, относительно нового. Бродим от одной более или менее знаменитой могилы к другой. Снова пересечение двух историй: для меня это история, причастная моей биографии, для них — чужая. Объясняю, кто есть кто, если знаю. Рассказывая об одном, с упреждением оглядываю ближайшие окрестности, чтобы заметить следующую могилу известного мне лица. И так, блуждая взглядом, натыкаюсь на сравнительно недавнее захоронение, как бы еще не вполне завершенное. Увядшие цветы не убраны, но поверх уложены свежие. Немолодая женщина, не без труда склонившись, пробует навести порядок. Скромное, но достойное надгробие. Подойдя чуть поближе, я различаю надпись: Поскребышев Александр Николаевич 1891–1965 К счастью, я могу разговаривать со своими студентами на языке, который понимает примерно пятнадцать стотысячных населения Земли, риск быть подслушанным невелик. Lapsed, говорю я, tulge siia ruttu, то есть — ребята, быстро сюда! Вот эта женщина, которую секретарь Сталина нашел у себя дома на другой день после ареста его жены! Вот его сталинская жена! Вот она убирает цветы на могиле назначенного ей некогда мужа! Всего лишь такая себе старушка. Но — оттуда. Для группы художников из Эстонии времена на мгновенье смыкаются. Чужая, далекая история предстает как мертвоживая повседневность. И впрямь мне везло в то лето. (обратно)Ранняя разминка
О смерти Владимира Ворошилова я узнал 10 марта 2001 года из сообщения радио «Свобода». Автор и создатель популярной телеигры «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов, сказал диктор, скоропостижно скончался сегодня на даче в Переделкино. Причина смерти 70–летнего телеведущего — сердечный приступ. Володя Ворошилов был моим студентом. В те времена, в пятидесятые годы, многие ребята из России и других республик приезжали в Таллинн за высшим художественным образованием. Причин было несколько. Первая была та, что в наш институт поступить было легче, чем в московский Суриковский или ленинградский Репинский. Секрет был простой: в Эстонии не было в то время художественного училища, а из России приезжали со средним специальным образованием; при этом главное на вступительных экзаменах тогда было одно — уметь хорошо рисовать, и жесткая муштра российских училищ тут была как нельзя кстати. Эстонцам трудно было конкурировать с приезжими. Другая причина — по российским училищам бродили темные слухи, что в прибалтийских институтах больше свободы. Словом, в институте были большие группы студентов из России, позднее потянулась молодежь из других республик; одно время была крупная украинская колония, позднее — молдавская. Володя Ворошилов был в одной из первых русских групп, которым я преподавал длинные курсы истории искусства и эстетики; всего учебы было шесть лет — шестой год был дипломный, а пять лет подряд студенты вынуждены были слушать меня по разу, а то и по два в неделю. Так что мы с Володей встречались часто. Этим я вовсе не хочу сказать, что своей образованностью он обязан мне. Напротив, я в этом сомневаюсь. Я даже помню, что на экзамене по искусству XIX века Володя кое — чего не знал, не из искусства, а из самой истории, да еще такое, о чем в великой игре спрашивать стыдно, засмеют… Нет, нет, своей образованностью он был обязан себе. За долгие годы преподавания мне попадались студенты самого разного характера и качества. Иных я не смогу вспомнить даже под пыткой. Были одаренные художественно, и это хорошо, но мне, не только критику, но историку и теоретику, интересны были еще и умники. Таких за все годы было немного, их—το я помню, а с некоторыми переписываюсь до сих пор. Володя был один из умных и способных, все вместе. И специальность он выбрал самую интеллектуальную: театральную декорацию — сценографию, если по — нынешнему, — где одной живописью не обойтись. Вид занятий был по мерке личности. Трудно вспомнить его курсовые работы — прошло скоро полвека, не требуйте от меня невозможного. Хорошо хоть, что я помню его дипломную работу и скандал, сопровождавший ее защиту. Он представил на защиту эскизы декораций и костюмов к спектаклю по пьесе Оливера Голдсмита «Ночь ошибок». В те времена уже это было вызовом — хрущевская оттепель растопила только кромку ледника. Западная пьеса, восемнадцатый век, — все это выглядело сомнительно и пахло намеренным уходом от актуальных проблем советской современности, не говоря уж об интеллигентском снобизме. Почему было не взять полноценную пьесу Вирты или там Корнейчука? Председателем Государственной комиссии в тот год… Кстати, почему Государственной? Почему наш институт назывался Государственный художественный и т. д., почему я кончал Государственный университет, посещал Государственную филармонию и Государственные академические театры? Разве с ними конкурировали частные, или хотя бы кооперативные, или межколхозные университеты? Католические художественные институты или православные консерватории? Я думаю, дело тут было не в смысле, указание на государственность в этом случае было очевидной бессмыслицей. Решающей была акустическая и тем самым эстетическая сторона дела: слово звучало величественно, державно, левитановски (я не художника имею в виду); вслушайтесь только в центральную группу «СУДАРСТВ» или, еще лучше, «УДАРСТВ», чего стоит хотя бы только Р после величественного А, вот это АРР! А взрыв четырех согласных подряд! Для наибольшей объективности оценок, исключения жульничества и приписок (в чем подозревался каждый советской гражданин и каждая институция, и не зря) Государственную комиссию по приему Государственных экзаменов и защите дипломных работ в Государственных институтах должен был возглавлять посторонний авторитетный художник или ученый. В тот год когда Володя Ворошилов защищал диплом небо послало нам из Москвы скульптора С. Алешина, фигуру нешуточную: он участвовал еще в исполнении ленинского плана монументальной пропаганды в восемнадцатом — девятнадцатом годах, был упомянут во всех историях советского искусства и мог считаться сакральным объектом. Итак, защита. Расставив для обозрения стенды с эскизами и макеты декораций, Володя, как и полагалось, рассказал о своем понимании пьесы, о видении будущего спектакля и о процессе работы над дипломом. Я должен напомнить, что в те времена истолковывать старинные пьесы на современный манер было не принято, декорации и предметная среда должны были отвечать духу и стилю эпохи, а актерам полагалось выходить на сцену одетыми, это во — первых, и даже одетыми по моде того времени, к которому действие было отнесено автором. Сценограф должен был разбираться в этих вещах — ив своей вводной речи Володя показал, что разбирается превосходно. Но, говоря о костюмах, он допустил неосторожность. Что касается костюмов, сказал он, то я пересмотрел много материала, но когда я открыл альбомы с репродукциями Хогарта, я нашел там все, что нужно. Для верности, однако, он напомнил, что Хогарт был современником Голдсмита. Я же, тоже для верности, напомню, что Уильям Хогарт — один из величайших английских мастеров XVIII века и что в его картинах и гравюрах, нередко сатирических, развернута единственная в своей достоверности картина нравов тогдашней Англии. После дипломника, как полагается, выступили руководитель и рецензент; оба высоко оценили работу. И тогда поднялся для выступления сам Председатель Государственной комиссии, знаменитый скульптор, чей проект памятника Карлу Марксу был удостоен критических замечаний самого Ильича. В этом месте своих слов у меня не хватает; я буду заимствовать: вид Алешина был ужасен, он был как божия гроза. — Что же это такое! — загремел он. — Дипломник выполнил эскизы маслом! А кто ввел эту моду — писать театральные эскизы не темперой, а маслом? (В этом месте была выдержана трагическая пауза.) Художник — импрессионист Коровин, сурово осужденный советской общественностью! (Еще одна театральная пауза.) Как теперь по таким эскизам будут исполнять декорации?! (Риторическая пауза…) Зал скептически замер. Художник — импрессионист Коровин, заодно с остальными импрессионистами, уже переставал быть идеологическим пугалом, а в Эстонии — и подавно. Кроме того, эскизы декораций делаются не для технических исполнителей, а для фиксации общей пластической концепции спектакля; исполнители же в эскизы не смотрят, а получают специальные подробно проработанные образцы. Да и вообще, в импрессионизме ли дело? Первое, что пришло мне в голову, не имело касательства ни к какому направлению в истории искусства. Чтобы объяснить эту догадку сегодня, требуется еще одно отступление: я должен буду опубликовать некое известие, несмотря на сомнения, которые меня при этом одолевают. Дело в том, что… Ну, как бы это сказать поделикатней? Эээ… Ну, словом, вот так — в студенческие годы фамилия Володи была не Ворошилов, а Калманович, вот. Студент Владимир Калманович. В Эстонии в те годы — а поступал он к нам году в 1953–м или 1954–м — носителей такой фамилии принимали в Государственные учебные заведения, было, было такое. А героическую фамилию на «-ов» он взял к концу учения; кто‑то объяснял, что это была фамилия жены. И вообще, фамилия эта не от полководца произошла, а от глагола «ворошить». Да и выбора, вероятно, не было. Если кто‑либо собирается задним числом осудить Калмановича за то, что он стал Ворошиловым, то на мою поддержку он рассчитывать не должен. Способы борьбы с абсурдным и беспощадным режимом были столь же разнообразны, как были разнообразны цели. Великая цель взорвать режим мало кому приходила в голову в пятидесятые годы, а если приходила, то в идеальной форме, поскольку планы реализации идеи были абсурдны сами по себе. Я полагаю, если еврейский юноша ставил себе цель выжить и реализовать себя, то это само по себе уже было вызовом власти, которая ставила себе относительно юноши противоположную цель. Каждый использовал подручные средства, то есть те, которые были под рукой. Вот и все[30]. Но бьют, как известно, не по паспорту. В бумагах написано Ворошилов, а лицом чистый Калманович, да и поведением тоже: хочет показаться умнее других, и вообще — выделывается; все не как у истинно советских людей… Таковы примерно были мои предположения о причинах гнева исторического скульптора. Между тем, председатель Госкомиссии продолжал громить. — Вот, дипломник поленился, не захотел изучить эпоху, костюмы, как полагается… Доверился какому‑то художнику! Тут в зале произошло движение, а сидевший рядом с Алешиным наш молодой тогда ректор тронул его за рукав и стал что‑то шептать. Но председателя было уже не сбить. — Тут мне говорят, что это знаменитый художник. Много нынче знаменитых развелось… Это было, конечно, смешно: Алешин публично сел в лужу. Но и не смешно тоже. На бумаге не воспроизвести интонационную кривую последней фразы, вельможно — пренебрежительно — брюзгливо — брезгливую, с повышением голоса и растянутым ударением на первый слог — мнооога нынче… — настоящих‑то знаменитых мы знаем, небось, сами оттуда. Нелепость и безграмотность обвинений, мерзкое барство, а пуще всего — очевидная жидоедская подоплека алешинской выходки придали мне духу. Я оказался не один, за Володю заступился его руководитель, еще кто‑то стал возражать… Володя в ритуальном заключительном слове тоже огрызался. Словом, как говорили в те времена, «был дан отпор», и госкомиссия «не пошла на поводу» у председателя. Володя успешно защитился, получил диплом и уехал в Москву. Мы потеряли его из виду. Спустя годы на экранах появилась игра — и как‑то выяснилось, что ее затеял и ведет Владимир Ворошилов. Я говорю «как‑то выяснилось», потому что у нижеподписавшегося очень долго не было телевизора; народный аппарат появился у нас в доме поздно, где‑то в конце восьмидесятых, когда стало возможно смотреть передачи из Финляндии. Известие о Ворошилове принес мой коллега, у которого телевизор был. Несколько игр, в разные времена, я видел. Этого мало, и то, что я решусь сказать, — не более чем замечания случайного прохожего, хотя и заинтересованного. Взрослый и знаменитый Ворошилов — это игра, сейчас ее даже стали писать с большой буквы: Игра. Как только слышишь это слово, сразу на память приходят два классика XX века — Герман Гессе и Иохан Хёйзинга. Последний в своей непревзойденной книге, одной из самых гуманных, какие я знаю, представил образ беспорочно играющего человечества. Это он говорил, что игра есть добровольное действие или занятие по добровольно принятым, но совершенно обязательным правилам, с целью, заключенной в нем самом, сопровождаемое сознанием «иного бытия», нежели «обыденная» жизнь. Нигде более сознание иного бытия не бывает столь острым, как на театре; неудивительно, что игру «Что? Где? Когда?» придумал человек насквозь театральный, а особый поворот ей придал человек насквозь интеллектуальный. Гессе рассказал, сколько жизни требуется, чтобы стать Магистром игры. Владимир Ворошилов явил себя народу уже готовым Магистром; как он себя готовил — я не знаю. Более того, он явил себя даже и не магистром, а кем‑то бесконечно большим: богом Игры. Он был ее создателем — и присвоил себе атрибуты Творца. Первым из них было божественное всезнание. Он знал все, совершенно все, не могло быть ничего такого, чего бы он не знал; он не был носителем знания, он был самим Знанием. Абсолютное знание ставило его вне мира играющих, вопрошающих, отвечающих, угадывающих, вспоминающих — что и было подчеркнуто его невидимостью. Это словно бы про него говорил Моисей: «Глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глас». Глас приходил извне пространства игры и был непререкаем — как гром. Тут все было продумано и доведено до последней шлифовки. В отличие от других историй творения, Владимир Ворошилов сотворил совершенный мир. Это было столь же блистательно, как и опасно, поскольку его невозможно было улучшить. Мир игры мог либо деградировать, либо расти количественно. Вырожденные формы мы увидели в многочисленных подражаниях и вариантах, где состязание в сообразительности уступило место более или менее успешным раскопкам в овощехранилищах памяти. Вообще‑то, иметь хорошую память полезно, но все помнить вовсе не требуется — надо знать, где искать. К тому же, подражания никак не могут состязаться с Игрой в отношении зрелищности. Количественно обогащалась сама Игра — именно за счет пышного, тропического разрастания зрелищного начала. Театральный темперамент постановщика и декоратора переливался через край, и его собственная игра подтопляла берега главной Игры. Так мне показалось, когда я смотрел поздние передачи. Так или иначе, а творение Владимира Ворошилова остается уникальным и нераздельно слитым с его личностью. Уход создателя означает конец Игры; они вместе только что стали историей. (обратно)Желтое издание с человеческим лицом
Среди немногих раритетов в моей библиотеке хранится небольшая брошюра, вот ее данные: И. Голомшток, А. Синявский. Пикассо. Москва: Издательство «Знание» Всесоюзного Общества по Распространению Политических и Научных Знаний, 1960. Цена 1 р. 85 к. С 1/1 1961 — 19 коп. Игорь Голомшток — мой коллега, искусствовед, мы с ним познакомились в начале 50–х гг., когда он — в незавидной роли служащего Дирекции выставок и панорам — привозил в Таллинн всесоюзную выставку дипломных работ; я даже написал тогда рецензию, полагаю — чудовищную, это была первая или вторая проба моего критического пера. Несмотря на законченное высшее образование, я в живом искусстве не понимал ничего, ну — почти ничего. Позднее, к моменту выхода книжки о Пикассо, Игорь уже работал в Музее им. Пушкина. Кто такой Андрей Донатович Синявский — объяснять не надо. То, что такая девятнадцатикопеечная книжка увидела свет, было само по себе чудом. Никакое солидное издательство — ни «Искусство», ни «Изобразительное искусство», ни, тем более, процветшее к тому времени издательство Академии художеств — такую книжку бы не взялось печатать. Она вышла в маргинальном, незаметном для стражей доктрины издательстве — в легко уязвимой бумажной обложке, с серыми репродукциями, да и то, надо полагать, по инициативе и под покровительством Ильи Эренбурга, который снабдил книгу отрывком из своих воспоминаний о Пикассо. Упоминаний о прогрессивных взглядах художника, его членстве в коммунистической партии, о его участии в т. наз. борьбе за мир там предостаточно, без этого никакой разговор о Пикассо не был возможен. Но вообще‑то книжка была для своего времени серьезная и хорошо, умно и с тактом, вводила неискушенного и одураченного соцреалистической риторикой отечественного читателя в мир великого мастера. Миновало несколько лет брежневского отката (назовем это так), и после пражской весны власти потребовались добротные политически — идеологические процессы. Когда готовился процесс Синявского и Даниэля, Игоря Голомштока пригласили куда требуется и предложили ему свидетельствовать на суде против своего соавтора и друга. Игорь отказался. Ничего худого ему не сделали — просто судили отдельно и приговорили к полугоду принудительных работ на месте тогдашней службы — в Институте технической эстетики. Когда в институте сокращали штаты, Игоря не трогали — он был приговорен. Выгнали потом, после отбытия шести месяцев, рассыпали набор книги, уже готовой к публикации в издательстве «Советский художник», лишили возможности где‑либо служить или печататься. Уморить человека можно разными способами, не обязательно жесткими. Помните, Гейне рассказывал о квартирной хозяйке, которая покушалась на жизнь Людвига Бёрне, отказываясь кормить его в долг? Игорь написал еще одну книгу — о Иерониме Босхе. И тут на сцену снова является Юрий Овсянников — в качестве главного действующего лица. Овсянников к тому времени покинул журнал «Юность» и работал в издательстве «Искусство». Там он опубликовал книгу Голомштока, но под чужим именем. На титуле было обозначено вымышленное лицо[31]. А Голомшток получил гонорар, который отодвинул перспективу голодной смерти. Вскоре Игорь эмигрировал в Англию. Написанная там книга о тоталитарном искусстве сделала его знаменитым[32]. А у Овсянникова начались неприятности: история с Босхом стала известна — и теперь лишился работы сам благодетель. Не знаю, состоял ли он в партии; если состоял, то выгнали и оттуда. Так или иначе, а два года он был без работы — по его слову, ел свою библиотеку. Библиотека была изрядная, хватило. Спустя десяток с лишним лет я попытался всучить ему в качестве дорогого подарка свою книжку о художнике Кормашове, только что вышедшую в Москве; он меня поблагодарил и отказался — второй раз не собираю, сказал он жестковато. Наконец, его взяли на работу в «Советский художник». Овсянников был выдающимся издательским деятелем. На это у него был особый талант, один из многих его талантов. В издательстве «Искусство» он задумал и осуществил несколько серий, которые пользовались необычайной популярностью: «Города и музеи мира», «Малая история искусств», «Дороги к прекрасному», «Жизнь в искусстве». В «Совхудожнике» он создал придуманную им особую редакцию, где стали выходить специальные ежегодники, первым из них стало «Советское искусствознание», а вслед за ним — аналогичные ежегодники, посвященные живописи, скульптуре, графике, прикладному искусству, позднее появился элитарно дорогой «Музей» и ставшая знаменитой «Панорама искусств»… Если «Музей» отмечен был благородной изысканностью, то первый ежегодник, «Искусствознание», невзрачный на вид, в бумажной обложке, был отмечен иного рода элитарностью — интеллектуальной. Собирая материал для начала, он заехал в Таллинн и стал соблазнять меня написать что‑нибудь для первого выпуска. Увы, Юры уже нет — и я не могу сказать ему в глаза, что его голосом в тот момент со мной говорила судьба. Первый выпуск «Советского искусствознания» вышел в конце 1973 года — небольшая книжка в белой бумажной обложке. Следующий том был крупнее форматом — и этот формат стал стандартом. С 76–го года он выходил в желтой обложке и получил новую нумерацию. Желтых «Искусствознаний» вышло 27, плюс три белых, всего Овсянников издал 30 томов, они занимают у меня целую полку, в два ряда. Это памятник Юрию Максимилиановичу, Юре, «Овсу» — так сокращенно его именовали на цеховом жаргоне. Ничего подобного в отечественной издательской практике тех лет не было. Когда должен был выйти юбилейный — десятый — выпуск, Юра попросил меня что‑нибудь написать по этому поводу. Он, вероятно, думал о серьезном, а я, по легкомыслию, его не понял и послал ему персонально шуточный стишок. Всего, конечно, не припомню, а заключительные строки были такие:Это желтое издание,
Что питается Овсом, —
Вертоград искусствознания
С человеческим лицом.
* * *
Приезд Овсянникова в Таллинн в начале семидесятых был судьбоносным. Я имею в виду самого себя. В конце концов, мемуарист имеет право и о себе напомнить. Юра явился со своей идеей ежегодника в то время, когда я чувствовал себя на перепутье — я имею в виду профессиональные занятия. По этому поводу можно вспомнить, чем я, собственно, занимался до того. Смена профессиональных интересов началась в университетские времена. На первом курсе я понял, что буду египтологом. Вся ответственность за это решение лежит на Наталии Давыдовне Флиттнер, которая читала нам историю и искусство Древнего Востока. Маленькая, круглая, с седыми волосами, обернутыми валиком вокруг черной бархотки, обаятельно пришепетывая, она рассказывала нам удивительные вещи. Сейчас, задним числом — почти шестьдесят лет миновало, — мне кажется, что она не просто рассказывала, она как бы переносила нас туда, побуждая к необходимому для историка пониманию и, более того, инициируя чувство идеального проживания внутри древней культуры. Это чувство углублялось внимательным чтением Тураева, Брэстеда… Когда я в нашей крохотной десятиметровой комнатушке на Лиговке дочитывал последние страницы знаменитого «Египта» Гастона Масперо, Фрида разучивала фортепианную партию сонаты Франка; пряные декадентские звучания одного француза, накладываясь на слова другого, странно дополняли картину угасания некогда великой цивилизации — и я искренне печалился. Словом, мы гурьбой кинулись в кружок, которым Наталия Давыдовна руководила. Тетрадь по иероглифике, память этих занятий, хранилась у меня до самого отъезда в Америку, но, честно признаться, позднее углубляться в нее не было случая. Я смотрю на фотографию нашего кружка и с поздним раскаянием замечаю, что мы все изменили Наталии Давыдовне и Древнему Египту. Не знаю, как другие, а я сохранил интерес к этой культуре, и до сих пор, хоть нерегулярно, листаю новую египтологическую литературу. Так оно и должно быть: первая любовь. На втором курсе появились новые искушения. Внезапно умер основатель и первый руководитель нашего искусствоведческого отделения Иеремия Исаевич Иоффе. На наших глазах разыгрывалась драма наследования. Я говорю о наследовании научном: заведование кафедрой перешло к профессору М. Каргеру, специалисту по искусству Древней Руси. Интрига состояла в том, кто станет преемником идей Иоффе именно в наших студенческих глазах. Конкурентами были два ученика Иоффе — Моисей Каган, который уже читал студентам курс эстетики, и аспирантка Геня Гуткина[33]. Наиболее значительным и признанным творением Иоффе была его книга «Синтетическая история искусства» — грандиозный опыт построения целостной истории всех искусств на основе марксистской доктрины. Поэтому Геня сразу же предложила создать студенческий кружок «синтетиков» — под ее руководством, разумеется. Каган же учредил кружок эстетики и соблазнял нас тем, что эстетика в конечном счете и есть дисциплина синтетическая, поскольку изучает общие для всех искусств закономерности. Силы были неравны, и охотники до синтетического теоретизирования собрались вокруг Кагана. В кружок эстетики приходили студенты с других факультетов — там мы познакомились с Леонидом Столовичем, философом, с которым нас по си поры связывает тесная дружба. Но для меня существовала другая дилемма. Не знаю, откуда это повелось, но в те времена, да и позднее, в искусствоведческом быту существовало неприязненное отношение к эстетическому теоретизированию. Не думаю, что это было идиосинкратическое отторжение марксистских схем. Хотя такой элемент мог присутствовать подспудно, неприятие строилось на широком противопоставлении конкретного знания, дела, контакта с живым искусством — и пустого спекулирования, в лучшем случае — траты сил на вольные интеллектуальные пасьянсы с их совершенной необязательностью. Эта критическая позиция привлекала меня своей специфически цеховой чистотой, профессиональным аристократизмом (чтобы не сказать — снобизмом) и сдерживала природную склонность к безудержному конципированию. В кагановском кружке я был непременным участником, но уравновешивал эстетические влечения робкими опытами собственно исторических штудий. Тут очередным искушением стали Средние века. Западноевропейское средневековье меня манило по многим причинам. Правда, первая приватная встреча с Михаилом Васильевичем Доброклонским, который читал нам курс средневекового искусства, завершилась постыдным фиаско. Я явился к нему с пустыми руками — ничего, кроме декларации о намерениях. Михаил Васильевич стал перечислять труды, которые следует прочесть для начала. Труды были на разных языках, а коварство состояло в том, что профессор диктовал, а я записывал. Когда М. В. увидел, как я написал по — немецки «Byzantinische» через «i» — «Bizantinische», все было кончено. Спустя два года я набрался смелости и стал излагать ему свои идеи. На этот раз они имелись, да и сложились не на пустом месте, а в результате знакомства с подлинным материалом — французской книжной миниатюрой готической поры из собрания Публичной библиотеки. Они не были оригинальными, но, право же, кое‑как отвечали действительному положению дел. М. В. вежливо уклонился от обсуждения, сказав, что мы, т. е. они, искусствоведы старой школы, больше как‑то насчет формы, а тут… Не знаю, был ли этому причиной проклятый византийский игрек или что другое, но руководителя в моих студенческих средневековых занятиях у меня не было. К тому моменту, когда надо было выбирать тему дипломного сочинения, я уже довольно далеко продвинулся в изучении французских иллюминованных рукописей, но в те беспросветные времена защита диплома на западную, да еще средневековую тему была невозможна. Пришлось подбирать другую тему. Формально я числился в семинаре Валентина Яковлевича Бродского, а он был специалистом по искусству Нового времени. В. Я. в ненавязчивой форме предложил заняться советской сатирической графикой, то бишь политической карикатурой. Ну, нет, спасибо, предмет был не для меня. Более конструктивен был М. Каган: он посоветовал заняться Александром Ивановым и наметил аспект — Иванов и русская общественная мысль его времени. Это было серьезно, и я решился. Так Иванов и его эпоха попали в поле моих интересов. По окончании университета я отправился в Таллинн на ловлю счастья и чинов[34]. Ибо после получения диплома меня немедленно прогнали в Ленинграде даже с той не самой завидной работы, которую я исполнял, будучи студентом. Работа в Таллинне, не без отчаянной борьбы, но нашлась. А тема Иванова не была оставлена. Началось с того, что университетская кафедра предложила мне переработать главу из диплома для кафедрального сборника статей. Я так и сделал, и статья была послана в Ленинград[35]. Далее, все тот же М. Каган написал мне, что надо переработать и дополнить другие главы — и защищать их в качестве кандидатской диссертации. Мысль была недурна, и я начал проводить ее в жизнь с той основательной неторопливостью, которая отличала меня с самого детства. Отец называл меня кунктатором — и справедливо. Я за брался в архивы и сокрытые от праздных глаз музейные хранилища, дел оказалось выше головы, а между тем жил—тο я в Таллинне и в обеих столицах, где находились все материалы, мог бывать только наездами. Словом, диссертация не появилась. Но нескольких статей, которые были опубликованы тогда, в пятидесятые годы, я не стыжусь, там почти все в порядке, на них ссылаются до сих пор. Последней моей «ивановской» работой была подготовка документов для многотомного издания «Мастера искусства об искусстве»; там буквально каждая строка была проверена по архивам и устранено много ошибок, которые по традиции странствовали из одной публикации в другую. Когда я сдавал весь материал научному редактору тома профессору Федорову — Давыдову, я не отказал себе в удовольствии показать ему наиболее занятные ляпсусы. В одном месте он, дернув себя за бороду, воскликнул: «Черт побери, я двадцать пять лет толкую студентам это место, говорю им о ранних царистских иллюзиях Иванова…» Действительно, в старой публикации было написано «Николай Первый», а в рукописи — «Николай Пуссен». Федоров — Давыдов стал уговаривать меня совершить научный подвиг — издать полностью архив Иванова. Искушение было велико — по — настоящему подготовить все письменное наследие великого мастера, прокомментировать, привести ответы на его письма и другие документы значило поставить памятник не только ему, но и себе, после такого можно было всю остальную жизнь с чистой совестью ничего не делать. — Я вас искушаю, как сатана искушал Христа, — упорно настаивал Алексей Александрович. — Христос ведь, подобно вам, был иудей… На сей раз дело кончилось точно так, как это было в типологической ситуации: соблазнитель остался ни с чем. Для преподавателя, живущего в Таллинне и задавленного тяжкой лекционной барщиной, задача была непосильной[36]. Я оставил ивановскую тему, но сохранил к ней самый живой интерес; однажды, уже в девяностые годы, я даже к ней вернулся. Но тогда, в пятидесятые, я все больше внимания уделял искусству Эстонии, главным образом — современному. О моих первых опытах в области художественной критики я предпочел бы не вспоминать. Они были ужасны, вот и все. Впрочем, эстонский контекст помогал мне быстрее освобождаться от соцреалистических наваждений, которые я привез с собой из университета; я уверен, что в Ленинграде мое отрезвление шло бы заметно медленней. Я имел случаи в этом убедиться на примере некоторых моих коллег. Трансформация Савла в Павла бывает мгновенной только благодаря вмешательству высших сил. Не имея такой поддержки, я довольствовался постепенным превращением. К концу десятилетия мои писания стали выглядеть получше. Это не только мое, неизбежно субъективное, мнение, можно привести оценки независимых экспертов: в руководящих инстанциях меня уже, случалось, квалифицировали как ревизиониста, позднее признанные аналитики из Академии художеств СССР четко определяли меня как формалиста и, конечно же, эстонского буржуазного националиста. (Националисты в те времена были только буржуазные, других быть не могло, социалистическими были патриоты. Сейчас все как‑то смешалось.) Словом, к концу шестидесятых я довольно много написал об эстонском искусстве, вышла в свет книга об эстонской графике. То была дань моему интересу к живому искусству. И лишь изредка бросал я косые взгляды в сторону манящего теоретизирования. Впрочем, нет, я постоянно читал курсы эстетики и потому старался быть в форме, следил за событиями, посещал эстетические конференции и неформальные встречи, почитывал литературу — случалось, не только отечественную. Но вот, на рубеже десятилетий, мне показалось, что завершился какой‑то этап, пора оглянуться кругом и выбрать другое направление занятий. Может, что‑нибудь из теории? В одной беседе с приятелем и коллегой прозвучали слова «методология искусствознания». Мне послышалось тут нечто заманчивое. Время изменилось, изменился и мой способ думать; вместо изношенных клише о единственно правильном учении, которое и есть всеобщая методология всего, можно было начать наново задавать вопросы — и в некотором роде даже философские. Пока я размышлял над тем, какие они должны быть и как должны бытьпоставлены, в Таллинн приехал Юрий Овсянников с идеей ежегодника. От него исходили энергетические разряды, кунктатор получил сильный возбуждающий импульс. В первом же выпуске «Советского искусствознания» появилась статья, которая стала началом моих новых занятий.* * *
В дальнейшем русло окончательно раздвоилось. Я никогда не отрекался от критики, особенно в том ее повороте, где главное — понять и истолковать художника, сделаться его рефлектирующим двойником. Ну, если не сделаться, то хоть на шаг- другой приблизиться к такой идеальной позиции. Конечно, при условии, что мир этого художника каким‑то образом способен резонировать с твоим собственным. В живом, сейчас возникающем искусстве есть обаяние, против которого трудно устоять. Самый вид мастерской, ее запахи, возможность осторожно взять в руки свежий отпечаток, обнюхивать, сантиметр за сантиметром, только что законченную живопись — все это провоцирует особого рода профессиональное возбуждение, предчувствие духовного события, неопределенный поначалу гул, возвещающий о приближении понимания. Не всякий раз понимание дается в руки сразу, мешают, застилают поле зрения прежние модели и прежние перевоплощения, надо сочетать верность себе с протеической способностью к переменам интеллектуальной и эмоциональной настройки. Этого рода критика может обойтись одной только профессиональной техникой, высоким — я ничего не хочу сказать плохого, да, высоким — ремеслом. Но если всерьез, то для нее требуется искусство раздвоения: оставаясь в зрительном зале, ты в то же время актерствуешь, играешь за художника — и это, если следовать известному разделению, актерство не столько представления, сколько переживания. Затем, уже за столом, надо собрать слова и выстроить текст. Примерно так были сделаны книжки — альбомы о художниках, о которых можно сказать, что они стали в большей или меньшей степени моими, — о Виве Толли, Николае Кормашове, Пеетере Уласе, Гюнтере Рейндорфе, статьи — жаль, что не книжки — о Юри Арраке, Малле Лейс… Там есть достойные места. Но реалии времени были жесткие, говорить только о лучшем было бы нечестно. Много жизни было потрачено зря, безо всякой пользы для себя и для кого бы то ни было. Почетное место среди дел этого рода заняло участие в издании многотомной «Истории искусства народов СССР». Каким образом я стал представлять Эстонию в редакционной коллегии этого издания, как я туда попал — не могу вспомнить. Помню, как наш институт известили об этой идее, зародившейся в недрах Академии художеств СССР, как прислали для обсуждения проспект будущего издания, помню, как в Москве было созвано совещание для обсуждения проспекта — я там был и о чем‑то выступал. Скорей всего, наша кафедра, с которой сносилась Академия, поручила дело мне, поскольку я лучше всех других владел языком «межнационального общения». А далее — я уже там, со всеми обязанностями, проблемами и приключениями, которые из этого следовали. Лучше бы эта чаша меня миновала. Но — что было, то было, а кое‑что, может, и следует сохранить, если не для поучения, то хотя бы для памяти и для пресечения возможного исторического вранья. Перефразируя коллегу Джорджо Вазари, любившего говорить красно, — чтобы вырвать хоть что‑нибудь из прожорливой пасти времени. Замысел монументальной истории был абсурдным изначально. Будущие «народы СССР» принадлежали к различным культурным ареалам, некоторые сложились в этнокультурные общности раньше, другие позже, между ними в прошлом было иногда мало сходного, а то и вовсе ничего. Если бы культуры могли себя прогнозировать на века и тысячелетия вперед и предвидели в дальнем будущем свое вхождение в единое культурное целое «советский народ», как выяснилось — эфемерное, стрела их развития была бы ориентирована иначе. Но футурологическая прозорливость никогда не была сильной стороной культурного самосознания. В одном и том же XV в. в Самарканде возводили медресе Улугбека, в Москве Аристотель Фиораванти, проектируя Успенский собор, приспосабливал ренессансное пространственно — объемное мышление к требованиям владимирской архитектурной традиции, а в Вильнюсе поднималась позднеготическая церковь св. Анны. Ни подданные хана, ни подданные Ивана III, ни подданные Ягеллонов никак не могли предвидеть, что их дальние потомки станут народами СССР. «Искусство народов СССР» как некое историческое целое было очередным продуктом идеологического мифотворчества, у изобретенной истории на самом деле не было единого предмета. Она была обречена стать механической суммой рядоположных историй, каковой и стала. Иначе говоря, тень советского единства была отброшена в прошлое — вплоть до каменного века. Но туда же были отброшены тени советских разграничений. Не было, кажется, ни одного заседания редколлегии, где не разгорался бы спор между представителями Литвы и Белоруссии — ведь надо было по справедливости разделить наследие тех времен, когда политическая и этническая карта этих мест выглядела иначе. Каждая республика перетягивала памятники в свою историю. Хорошо еще, что не были советскими республиками в те времена, скажем, Польша, или ГДР, или даже Австрия — в противном случае дележ был бы еще более драматическим. Бывали сражения и другого рода. Когда дело только начиналось — и даль свободного многотомника была неясно различима, — в Таллинн приехала молодая и подающая надежды коллега, сотрудница того самого сектора искусства народов СССР, под руководством которого проектировалось монументальное сооружение. Дама эта в дни свободолюбивых иллюзий раннехрущевской поры занялась искусством Прибалтики, где ее привлекла созвучная времени доктринальная раскованность. Тем временем произошел скандальный визит Хрущева в Манеж, а за ним последовала кампания по перевоспитанию заблудших мастеров искусств. Время потребовало иного созвучия — и даме пришлось перенастроить духовный аппарат. Теперь она ходила по мастерским художников, которыми не так давно восхищалась, и со страстью указывала им, что они на ложном пути. «Я верю Партии!» — добавляла она с нужным придыханием. Но главная цель ее приезда была иная. Поскольку я представлял в редколлегии Эстонию и отвечал за тексты об эстонском искусстве, ей необходимо было договориться со мной о некоторых деликатных замыслах. Деликатность замыслов сочеталась с простотой: даме хотелось писать самой многие разделы истории эстонского искусства, чем больше, тем лучше. Свои мотивы она не скрывала. «Вы понимаете, — втолковывала она мне, — возможны премии!» Некоторые люди умеют смотреть далеко вперед. Вот выйдет в свет десятитомный труд, полный советского патриотизма и правильно, т. е. телеологически, истолковывающий историю искусства нескольких культурных регионов, — так почему будет не дать ему Государственную премию, даже Первой степени, почему же нет! Ну — Второй. Но тогда ведь не всем дадут, авторов не счесть, дадут тем, у кого больше других написано. Значит, надо написать как можно больше… Требовалось мое согласие. Разумные вычисления коллеги, однако, на меня не произвели впечатления. Я сказал ей со всей твердостью, на какую был способен, что так дело не пойдет, что эстонские разделы будут писать те авторы, которые исследовательски занимаются соответствующими темами, их в Эстонии достаточно. Моя твердость мне впоследствии дорого обошлась. А поскольку дама сидела в Москве, в самом секторе, то ей время от времени удавалось урвать куски… На очередном собрании редколлегии в Москве выясняется, что всезнающая коллега уже написала большой раздел — по археологии всей Прибалтики, он в первом варианте готов, пора его обсудить. Я признаю, что обсуждать такую тему я не в состоянии из‑за собственной некомпетентности; в отличие от московской дамы, я об этих вещах не осведомлен. Но могу предложить решение — в Эстонии работает крупнейший специалист по археологии Прибалтики, академик Моора, давайте попросим его дать отзыв. Со мной полностью соглашаются коллеги из Литвы и Латвии. Вернувшись в Таллинн, я передал машинописный экземпляр археологического сочинения академику. Когда я позвонил ему некоторое время спустя, он сказал, что только начал читать, там есть ошибки, он их исправляет по ходу чтения, и попросил дать ему время. Я дал ему время, но передержал — позвонив в другой раз, я услышал, что начался полевой сезон, академик на раскопках. Впрочем, он оставил мне пакет. В пакете была рукопись и отзыв. Первые страниц десять рукописи были испещрены поправками педантичного ученого, далее пометок не было. Зато в отзыве было написано, что править всю рукопись невозможно по причине обилия ошибок и нелепостей. Очевидно, на десятой странице терпеливый академик осатанел. Я отправил рукопись и отзыв в Москву — без комментариев. Все было ясно. Следующий съезд редколлегии был посвящен уже другому тому — другие дела, другие страсти, другие события. Некоторые были настолько занимательны, что отодвигали в тень насущные проблемы истории искусства народов СССР. Украину в редколлегии представлял видный человек — то ли зав. сектором, то ли директор соответствующего академического института, сейчас уже точно и не помню, — Турченко по фамилии. Крупный, чернявый, с крепкой шеей, он выделялся даже на фоне Академии художеств своей идеологической прочностью. Говорил он всегда весомо, неторопливо, авторитетно, партийная точка зрения была очерчена ясно и неколебимо, — казалось, мы слышим голос самого Центрального Комитета. В деликатных случаях он выражался с неменьшей определенностью, указывая, что тут партийный взгляд еще окончательно не установлен, надо обождать. Между тем, отстаивая везде и всегда партийную позицию, он гармонически сочетал общественное и личное. Сотрудничество с Научно — исследовательским институтом Академии не прошло даром — вскоре он защитил там докторскую диссертацию. Затем, спустя недолгое время, на него пала полугодовая или годовая, тоже не вспомнить, стипендия ЮНЕСКО, он провел ее в Соединенных Штатах, разыскивая там следы американо — украинских художественных связей. Сотрудничество с ЮНЕСКО тоже не прошло даром: вскоре он был назначен на должность руководителя отдела музеев этой организации — с местом пребывания в Париже. Не знаю, каков был его музейный опыт, но положенный срок ссылки вдали от родины, добрых пять лет, он там отбыл. Понятно, что, ведая музеями мира, он уже не мог участвовать в работе нашей скромной редколлегии — его заменил другой коллега. И вот однажды, когда очередной раз в бывшем щукинском дворце собралась редколлегия, москвичи тихонько, шепотом, стали пересказывать приезжим удивительный слух: говорят, что по окончании каденции Турченко не пожелал вернуться, но, как тогда это называлось, выбрал свободу. Украинский коллега полностью подтвердил все сведения: да, Юрий Яковлевич в последний день вежливо попрощался со своими сотрудниками в ЮНЕСКО, а на другой день исчез — и вынырнул в облике человека, не согласного с культурной политикой советской власти, а если по — нашему, то в качестве невозвращенца, клеветника и предателя. Более я о Турченке не слыхал, боюсь, что в свободном мире его ученая карьера не задалась. Естественно, что новость о метаморфозе Турченки оттесняла на второй план будничные заботы историков искусства народов СССР. Но как‑то случилось, что я вспомнил о первобытном искусстве народов Прибалтики и спросил у главы редколлегии — он же заведующий соответствующим сектором, — как обстоит дело с текстом, который был беспощадно отрецензирован эстонским академиком. Знаете, сказал мне с прощающей улыбкой Борис Владимирович, замечания академика Моора были столь точны, что мы их учли, и теперь все в порядке. Так и напечатано. Академика Моора давно нет в живых, а том этот, по моему глубокому убеждению, никто из специалистов не читает. Полагаю, что из неспециалистов тоже. Государственная премия не была получена. Последний том вышел году в 1984–м, генеральные секретари ЦК умирали один за другим, замешательство было велико, издание получило медаль Академии художеств, и ладно. Досталось ли что‑либо наиболее продуктивным авторам — не знаю, да кому теперь это интересно? Между тем, у первобытной интриги был второй план. На одном из заседаний редколлегии, в перерыве, меня как‑то незаметно пригласила в свой кабинет заместительница директора Института, она тоже была членом редколлегии. Закрыв плотно дверь, она рассказала мне интересную историю. Оказывается, бойкая коллега и провидица премий еще перед обсуждением ее продукта решила обезвредить возможного оппонента, который когда‑то пресек ее домогательства. Она отправилась к самому президенту Академии художеств, куда, очевидно, была вхожа, поскольку, начиная с тех самых пор, беззаветно верила Партии. Там она живо изобразила, какую вредную позицию занимает представитель Эстонии, известный распространитель трех основных ересей — формализма, ревизионизма и буржуазного национализма, и предложила походатайствовать перед властями республики об удалении его из состава редколлегии. Я к памяти того президента отношусь плохо, но не могу отказать ему во многих умениях. Он понимал, что давление на власти прибалтийской республики, в своем роде витрины декоративного либерализма, — вещь деликатная, и потому ввязываться не стал. Он поручил тонкую операцию директору научно — исследовательского института, известному борцу за чистоту принципов соцреализма. Директор в свое время деятельно участвовал в пакостях, направленных против меня персонально, но, уловив в поведении президента некую ноту, велел заняться Бернштейном своей заместительнице — той самой, которая мне рассказывает сейчас, как было дело. Заместительница не могла не исполнить распоряжение, но по возможности испортила первоначальный замысел. Она позвонила в центральный комитет эстонской компартии и с кем‑то там переговорила. Но как влияет на ход дел формулировка вопроса и интонация исполнителя! Она сообщила партийному начальнику, что от Эстонии в редколлегии такого‑то издания республику представляет такой‑то. На таллиннском конце провода приняли к сведению это сообщение. Тогда Москва спросила, есть ли у Комитета возражения против такого положения вещей. Тогда Таллинн ответил, что возражений нет. Тогда директору Института было доложено, что сделать ничего нельзя, ЦК эстонской компартии поддерживает кандидатуру Бернштейна… Атмосфера в Академии художеств была удушающая, в Институте, который издавал заранее обреченную «Историю», — тоже. Но, как видим, везде бывают порядочные люди. Впрочем, порядочность давалась трудно. Об этом — последний эпизод. Порядок работы редколлегии был такой. Когда были готовы или почти готовы тексты очередного тома, их рассылали членам редколлегии для изучения, а затем уж все съезжались в Москву на обсуждение. Порядок издания отдельных томов не был обусловлен хронологией и, соответственно, нумерацией. На то были высшие соображения. Скажем, седьмой том увидел свет в 1972 году, а шестой — в 1981–м. Да и то сказать, седьмой опоздал, по замыслу ему следовало выйти в 1970–м. Я готов предоставить читателю возможность угадать, почему был необходим именно такой порядок. Ну, подумайте. Ну, еще одна попытка. Не получается? Даю наводку — седьмой том содержал описание искусства народов СССР от Великой Октябрьской Социалистической Революции до 1941 года. А шестой рассказывал о второй половине XIX и начале XX веков. Теперь понятно? Не совсем? Мне тоже была не вполне понятна эта инверсия в далеком 1966 году, на начальном собрании редколлегии, — пока председательствующий, расцветая в счастливой улыбке, не напомнил нам, что приближается Пятидесятилетие и Столетие. Так и сказал: Пятидесятилетие и Столетие. Он не сказал — чего, само собою разумелось — чего. Но мне, в моем эстонском далеке, похоже, выпавшему из реальности, не сразу стало ясно, о чем это он. Потребовалось специальное усилие, чтобы в конце концов сообразить, что близятся нешуточные даты — пятидесятилетие Великой Октябрьской, а затем — столетие со дня рождения ее Вождя. К пятидесятилетию было никак не поспеть, но выложить на стол революционный том к столетию — такова была историческая необходимость. В нужный момент, правда, положить на стол самый главный том все равно не удалось, но телегу впереди лошади поставили. С шестым томом предстояли трудности — именно там следовало осветить начало XX века с его нестерпимым для академического сознания русским авангардом. Поэтому введение к тому взялся писать сам заместитель директора Института по научной работе, ученый, стоявший тогда на прочных соцреалистических позициях. Статья была набором самых что ни на есть затасканных штампов с добавлением бьющей в глаза лжи. Автору было важно защитить реалистическую репутацию русского искусства. Увлекшись, он вовсе забыл, что это история искусства народов — народы вообще не были упомянуты. Словом, на соборе редколлегии мне было что сказать. Помимо расхождений по общим вопросам, у меня были еще и частные основания: автора введения я недолюбливал лично, поскольку он однажды поступил не вполне элегантно по отношению к одному моему другу, а позднее воздвигал гонения на другого. Я не хотел отказать себе в удовольствии, хотя понимал, что моя критика мало что изменит. Правда, я был не одинок, у меня была замечательная союзница, Лутфия Айни, прекрасный искусствовед и яркий человек, другой enfant terrible в более или менее гармоническом редакционном хороводе. Заседание почтил своим присутствием сам замдиректора, он же автор обсуждаемого введения. Пока я отводил душу, терзая его текст, автор — сидя отдельно в почетном углу — что‑то чиркал на бумажке. Я полагал, что завтра он будет растирать меня в порошок. Такова была мера моей наивности и институционального невежества. Я не знал, что механизмы борьбы идей работали на основании других принципов. Назавтра он вовсе не пришел. Меня растирали в порошок другие лица, его подчиненные, — начиная с главного редактора и кончая неизвестным мне научным сотрудником сектора, весьма, надо сказать, интеллигентного вида[37]. Поскольку не все подлежащие обсуждению материалы успевали рассылать на места, приходилось кое‑что дочитывать в Москве. Вечером, в гостинице, я развернул очередную пачку. Среди разных текстов там была и глава о русском декоративно — прикладном искусстве второй половины XIX века. Превосходная, надо сказать, глава — компактная, логично организованная, мускулистая! Вот так надо писать для общих трудов, подобных нашему. Имя автора мне ничего не говорило. Утром, на очередном заседании, я высказал все хорошее, что думал об этом разделе. Когда был объявлен перерыв и все разбрелись по коридорам, ко мне подошел тот самый интеллигентного вида сотрудник, который вчера деятельно участвовал в процедуре стирания меня в порошок. Он сказал буквально следующее: — Большое спасибо за добрые слова о моей работе. Простите за то, что я вчера говорил. Я так не думаю. Мне приказали, я не мог уклониться… Не знаю, требуются ли здесь какие‑либо пояснения. Надо ли напоминать, что он, возможно, был членом партии и это было партийное задание? Или просто административное распределение ролей? А не сделаешь — выгоним, куда пойдешь? Словом, у меня нет ни малейшего намерения осуждать этого человека, скорей напротив. Нехорошее чувство я испытал тогда, отголосок его, вспоминая, слышу сейчас, но и тогда, и сейчас — не по отношению к нему. Вот что система и ее ретивые агенты могут сделать с человеком. А это ведь далеко не худший случай — так, скорее рутинный. Я понимаю, что эти два эпизода — о заместительнице директора и интеллигентном сотруднике, — поставленные рядом, взывают к философствованию на тему свободы отдельного человека в тоталитарной системе. Известно, где нет свободы выбора, там нет и ответственности. Если ситуация отсутствия свободы затягивается, наступает необратимая трансформация — духовный орган ответственности вырождается и отмирает от неупражнения. Если мне память не изменяет, это, кажется, ламаркизм. В биологии идея, может, и устарела, но если посмотреть на новейшую историю освободившейся России…[38] Однако и при тоталитарном режиме, ввиду его несовершенства, у каждого был свой сектор свободы, где кое‑что зависело от нас. Даже сама угловая величина этого сектора. И, вероятно, у каждого из нас есть за что с себя спросить. У меня — несомненно. …Еще одна маленькая хитрость. Все дела, связанные с «Историей искусства народов СССР», никак не оплачивались. Никаких гонораров. И это было хорошо. Это было хорошо, поскольку удобно вписывалось в плановые рамки преподавательской работы. Не знаю, как сейчас, а в советском высшем учебном заведении царил продуманный плановый порядок. Если, скажем, ты старший преподаватель, то ты должен выработать, к примеру, 1400 часов в год. Если доцент — 1200. Из них половину составляет академическая нагрузка — лекции, консультации, экзамены, руководство чужой научной работой — курсовые сочинения студентов, диссертации аспирантов и докторантов. Другая половина — твоя собственная научная работа, за которую (внимание!) в случае публикации ты гонорар получать не должен, так как она оплачена твоей зарплатой. Такая работа называется плановой: ты ее заранее вписываешь в официальный план и затем, в конце года, отчитываешься за ее выполнение. Измерение научной продукции требовало количественного выражения и потому не могло учитывать качество. Наука, измеренная в часах, выглядела так: один авторский лист ученого текста стоит, скажем, 200 часов. Конечно, находились умники, которые упоминали гениальные научные открытия, изложенные в коротких текстах. Но эти рассуждения только запутывали дело. Естественно, если ты нормальный человек, ты не станешь вставлять в план работу, за которую можно получить гонорар. Следовательно, плановая работа — это работа гонорарно безнадежная, никто тебе за нее платить не будет. Если выразиться более резко — ломаного гроша не даст. Известны были и другие способы заполнения научной нагрузки, но их мы сейчас обсуждать не будем. Мое разностороннее участие в издании «Истории искусства народов СССР» было постоянной плановой работой. Хватило на добрый десяток лет.* * *
* * *
Тайное влечение к теоретизированию никогда меня не покидало. К тому же я с самого начала стал читать курс эстетики — марксистско — ленинской, понятное дело, другой в пятидесятые годы и быть не могло. Следовательно, я должен был следить за событиями в этой области — и эта обязанность не была мне в тягость. Напротив, меня манили владения королевы Квинтэссенции с их темными ущельями и сверкающими ледяными пиками. Во второй половине пятидесятых годов стало возможным некоторое движение эстетической мысли. Еще совсем недавно она демонстрировала признаки клинической смерти. Я почему‑то до сих пор помню, как после выхода в свет трудов т. Сталина об экономических проблемах социализма в СССР в ведущем философском журнале появилась статья — помню имя автора: В. С. Кеменов, — где была показана незыблемая объективность законов эстетики. Напоминаю, что т. Сталин настаивал на объективности экономических законов, при социализме — особенно. Даже мне, в те времена нафаршированному марксизмом, но пребывавшему внутри экономики социализма, последний тезис показался забавным. В. Кеменов с присущей времени поворотливостью перенес идею вождя из плоскости экономики в эстетическую, и это был верный ход — ибо любое частное замечание вождя обладало мощью последней универсалии. Но я, как ни старался, мысль толкователя усвоить не мог, хуже того — просто не понимал, о чем это он толкует, какие это такие законы эстетики имеет в виду и в чем неумолимая объективность их действия. Правда, сам Маркс в одном рассуждении обронил замечание о творчестве по закону красоты. Рассуждение было как раз темноватое — и жрецы оракула могли толковать его многообразно. Я и сам было пытался. Но не будем об этом. Если меня уже тогда смущала законообразность красоты, то объективность законов искусства вызывала еще большие сомнения. Между тем, у этой объективности впереди было славное будущее. В середине пятидесятых годов стали ощутимы новые веяния. Надо помнить, что мировая эстетическая и искусствоведческая мысль была для нас закрыта[39]. Там свирепствовал идеализм, разносимый «дипломированными лакеями буржуазии», как любил выражаться Ильич. Марксисты, в которых на Западе не было недостатка, и те, как правило, ошибались, нередко — грубо, и указом для нас быть никак не могли. Потому первые попытки элементарного движения мысли можно было предпринимать только изнутри сморщенной и отвердевшей в этом виде доктрины, самоходом. Так, одним из незыблемых законов искусства было определение его сущности как способа познания мира. Из так называемой «ленинской теории отражения» следовало, что искусство — в числе прочих умственных отправлений — отражает и познает окружающий мир, а отличие его от науки в том, что искусство плоды познания демонстрирует в образах, тогда как наука — в понятиях. И вот в середине пятидесятых увидела свет книжка, в которой автор, никак не подвергая сомнению основы, позволил себе задаться вопросом, в чем отличие самого предмета художественного познания от предмета научного, — и назвал этим предметом человека[40]. Тот факт, что эта книжка стала событием, сам по себе достаточен для характеристики интеллектуальной атмосферы тех лет. Чуть позднее, к концу десятилетия, разгорелась эстетическая дискуссия — я хотел было написать «настоящая», но вовремя одумался. Она могла бы быть настоящей, если бы в качестве генерального фона не выступала незыблемость доктрины. Важнейшими аргументами в спорах были обвинения в отходе от марксизма или, напротив, доказательства верности марксизму. Тем не менее сам факт спора, сопоставления различных позиций, в ходе которого никого не уничтожили, хотя кое — какие доводы выглядели скорее политическим доносом, был симптомом наступления других времен. Вскоре эта дискуссия была окрещена «спором природников и общественников»: природники, представляя себя в качестве истинных марксистов, защищали наиболее дремучие позиции — по их мнению, эстетические свойства так же присущи природным предметам, как их физические или химические характеристики. Тут всепокоряющая объективность праздновала свои наиболее впечатляющие победы. Общественники не отвергали самое объективность — этого еще не хватало! — но утверждали ее социальную, а не естественную природу. За что и получали тяжкие обвинения в субъективизме, т. е. в разработке и пропаганде еретического учения. Безусловным лидером общественников был мой друг с университетских времен Л. Н. Столович, который в своей первой книге — «Эстетическое в действительности и в искусстве» (М., 1959) — в пределах возможного внутри советского сознания второй половины пятидесятых нашел много остроумных соображений в обоснование своей позиции. Никакая серьезная история эстетики в Советском Союзе не будет полной без описания того эпизода и главной роли Леонида Столовича в тогдашних спорах. «Внутри советского сознания» — выражение, которое кажется двусмысленным, и справедливо. Его можно понять так, что конфигурации сознания были навязаны силой и их ревизия была невозможна под страхом наказания. В результате являлся хорошо известный феномен двуязычия: думаю одно, говорю/пишу/поддерживаю другое. Но его можно понять и так, что этот тип сознания был органически усвоен и переживался как организующая группа персонального опыта. И это тоже будет верно по отношению ко мне и многим моим современникам и друзьям пятидесятых годов. Человек находился столько же внутри советского сознания, сколько советское сознание находилось внутри него. Теперь, задним числом, я замечаю, что в таком состоянии умов было своего рода удобство и даже определенный интеллектуальный уют. Голландские жанристы XVII века любили писать интерьеры чисто прибранных зажиточных домов, где происходили вещи повседневные, незначительные, чья рутинность как раз и была залогом их великой жизненной ценности — залогом спокойствия, порядка и благополучия. Хорошо одетые по моде своего времени женщины читали письма, писали письма, беседовали с кавалерами, пригубливали бокал вина, вязали, хозяйничали, давали указания служанкам, музицировали в одиночку или в небольших компаниях… По обычаю тех времен, комнаты непременно были украшены картинами; современники сообщали, что картины висели даже в крестьянских домах. Однако картина в квартире и картина в картине — вещи разные: живописец отбирал для своей картины такие картины, которые были соотнесены с ее сюжетом. Нередко на картинной стенке можно увидеть марину — парусный корабль в бурном море. На холсте Вермеера «Любовное письмо» (из Амстердамского Рийксмузеума) картина за спиной служанки изображает парусник, который носится по волнам; на картине Габриэля Метсю «Дама, читающая письмо» (из собрания Бейт в Ирландии) служанка разглядывает похожую марину, пока хозяйка читает только что доставленное любовное письмо… По мнению знающих интерпретаторов, картины блуждающего по морям корабля должны были служить аллегорией тревог и превратностей любви. Но помимо аллегорических обозначений есть еще и другие, зрительно переживаемые смыслы. Вид неспокойной морской стихии и утлого парусника, носимого по волнам, мы невольно соотносим со спокойным, упорядоченным и законченным в себе мирком чистого, теплого, светлого, прочного бюргерского дома и улавливаем заложенный в этом сопоставлении контраст. Тут, внутри, в доме, все четко отграничено, осмысленно, разумно упорядочено, все на своих привычных местах — и все противостоит ненадежному движению корабля в разомкнутой и хаотической безмерности моря. Примерно так чувствовали себя мы в выметенных интерьерах марксистской доктрины. Не могу сказать, что мы были вовсе идиотами или фанатиками идеи. Мы прекрасно понимали, насколько мерзки сталинские идеологические уловки, насколько убоги его марксистские философствования, — а между тем «развитие марксизма» прямо входило в функциональный комплекс вождя мирового пролетариата; мы представляли себе истинную цену и цели идеологического и культурного террора тех первых послевоенных лет, когда происходило наше духовное формирование, нам более или менее ясен был смысл неизбежной метаморфозы пришедших к власти революционеров в консерваторов, ретроградов и охранителей. Все это так. И тем не менее марксистская доктрина была нашим домом. Тут все было упорядочено. История обретала смысл и цель. Наша принадлежность к универсальному движению была установлена, и чувство причастности нас не оставляло. В нашем распоряжении был надежный ключ к раскрытию загадок истории, и больше того — мы чувствовали себя обладателями метода, который все раскладывал по местам и всему находил верное место. Мир мысли был организован просто и с максимально возможным удобством: тут все истинно и все целесообразно расположено, тогда как вне стен доктрины — открытое море, где без руля и без ветрил носятся суденышки немарксистских идей. Напрасно хранители наших душ не допускали нас читать немарксистскую литературу и даже просто зарубежных марксистов, которые иной раз забредали невесть куда, — напрасно: мы умели их читать правильно. Игорь Семенович Кон, известный ученый — философ, социолог, сексолог — рассказывал мне однажды, как он писал свою докторскую диссертацию, будущую толстую книгу, посвященную критике «буржуазной» философии истории. Человек серьезный, он читал все, что было необходимо для его темы, но читал особым способом — можно сказать, врожденным, или, если угодно, привитым так, как прививают дерево, чтобы получить нужных свойств плод. Я, говорил он, автоматически был настроен на то, чтобы видеть их ошибки, заблуждения, отсутствие у них объективно верного взгляда на вещи, а то и злобное отрицание материалистического марксистского подхода. Все прочее, о чем говорили подвергнутые разбору авторы, было просто незамечаемо — так уж была изогнута линза хрусталика. Поэтому и читать их было не обязательно, мы и без них, и куда лучше их, знали, как подойти к делу. Дальнейшее развитие эстетической мысли, если таковое было необходимо, могло и должно было происходить внутри стен доктрины — в уже обставленном и прибранном доме[41]. Я подозреваю, что в интеллектуальной жизни современной России все еще сказывается глубоко укорененное стремление к привычно упорядоченному интеллектуальному жилью. У одних оно получает вид другого, внемарксистского исторического финализма — это еще не самый трудный случай. Другие противопоставляют опасной текучести аксиологических контуров незыблемые основания всеобщих познавательных, нравственных и эстетических ценностей — и их можно понять. Третьи — им нет счета — несколько меняют дизайн интерьера, сохраняя общую планировку: советско — марксистская обстановка выбрасывается и на ее месте располагается мебель православная или, еще того лучше, — православно — патриотически — самодержавная. Так удается сберечь матрицы исторической целесообразности, исторического мессианизма, закрепить двоичное деление мира на наше и чужое, удается замкнуться в обжитых комнатах дома, на глухой стене которого — в поучение, назидание и предостережение — повешена картинка ужасного плавания в свободном и безбрежном море независимой мысли, сопряженного с интеллектуальным риском, скепсисом, сомнением, зыбкой множественностью выбора, относительностью ориентиров, неизбежностью крушений[42]. В начале шестидесятых несколько событий в гуманистике — во всяком случае, в моем поле зрения, — имели наибольший резонанс. На редкость несхожие по весу и по способу вхождения в интеллектуальный обиход, они, тем не менее, каждое по — своему, сыграли освобождающую роль для отечественной мысли и оставили в ней глубокий след. Я вижу их такими еще и потому, что они, так или иначе, касались моих интересов. С одной стороны, в философские и эстетические рассуждения было введено понятие ценности, к тому времени повсеместно принятое в зарубежной гуманистике. Там оно давно стало элементарно необходимым рабочим инструментом, здесь — оказалось философической новинкой. Понятие ценности и вся область сопряженной с ним проблематики осваивались привычным способом: просто выяснилось, что поле аксиологической теории совсем не чуждо марксизму, напротив, входит в него как неотъемлемая составная часть. В конечном счете, не так важна была сервировка, куда интересней были новые пространства для эстетических рассуждений. На самом‑то деле теория ценностей была эффективным лекарством против тотальной объективности всего и вся — объективности, которая была сделана всесезонным марксистско — материалистическим заклинанием. Тем временем, в 1964 году, вышел первый том «Ученых записок Тартуского университета» в серии «Семиотика» — это была книга Юрия Михайловича Лотмана «Лекции по структуральной поэтике». В отличие от теории ценностей, тут не было никакой идеологической мимикрии. Напротив, помимо прямого введения в гуманистику нового направления, у книги, как и у последующих изданий, было побочное, скрытое значение, можно сказать — небывалое: она была декларацией принципиальной независимости от казенной доктрины. К сожалению, в моей библиотеке нет этого тома «Трудов», но я сейчас перелистал следующий выпуск, изданный год спустя, с единственной целью — найти там ссылки на Маркса, Энгельса или Ленина, ну, на худой конец, — Плеханова или Грамши. Я наперед знал, что ничего не найду, и без риска мог бы пообещать, что если кто‑либо из участников сборника сослался, я должен буду съесть собственную шляпу. На 350 страницах издания не нашлось ни одной[43]. Для сравнения я снял с полки более позднюю книгу Ю. М. Лотмана[44], с аналогичной целью. Там слова «марксистско — ленинская эстетика» встретились мне однажды — в предпосланном тексту книги профилактическом введении от редакции. У автора упоминаний о т. наз. классиках марксизма — ленинизма нет нигде[45]. Вместе с собственно семиотическими штудиями быстро входила в обиход очищенная от подозрений теория информации, рядом с нею — общая теория систем. Каждая из них снабжала гуманистику новыми стратегиями и новыми надеждами. Одной из самых ослепительных была надежда на сближение с точными науками и естественнонаучными подходами или, хотя бы, на худой конец, с гуманитарной наукой, обладавшей наиболее строгим аппаратом, — лингвистикой. Не случайно лозунгом дня стали «точные» или «строгие методы», которые вызывали воодушевление у сторонников прогресса и раздражение у ретроградов. Я был среди тех, у кого они вызывали воодушевление. Но некая ретроградность при этом мне не была чужда — и я не примыкал ни к какой определенной школе. Попробую объяснить — прежде всего себе самому — почему так получалось. Ближайшие соблазны предлагала так называемая тартуская (или московско — тартуская) школа, ставшая ныне легендой. Вот она, тут рядом, и ее душа — Юрий Михайлович Лотман. Мы были знакомы семьями, а об открытости этого дома людям и говорить не приходится. Точно так же были открыты знаменитые встречи на базе университета в Кяярику и в самом Тарту. Я присутствовал, кажется, на двух таких — и очень жалею, что не был на других. Но вряд ли мне удалось бы влиться в это блистательное сообщество — я не был готов примкнуть, и это сразу в нескольких смыслах. Прежде всего — мои занятия за письменным столом, если не считать чтения, в те годы были далеки от семиотической проблематики. Читать‑то я читал, как можно было не читать эти труды, где, помимо света независимой мысли самого по себе, увлекала новизна идей, высказанных, как правило, блестящими учеными. Но сколько писал — писал о другом. Затем, правду сказать, мне хотелось сохранить независимую позицию по отношению к семиотическому направлению. Мне чудилось там нечто сектантское. Теперь часто говорят о том, что особый язык авторов «московско — тартуской школы» был намеренно затруднен и специализирован — чтобы охранники вянущего казенного учения и профаны не совали туда свой нос, чтобы сразу было видно, что, по польской поговорке, «не для пса колбаса». Это верно лишь отчасти. Сам Ю. Лотман был увлеченным пропагандистом направления, и упомянутая только что его книга «Структура художественного текста» была адресована любому интеллигентному читателю. Но основной корпус работ был написан на специальном научном диалекте, я полагаю, далеко не только в целях конспирации. Сама идея «строгой» гуманитарной науки требовала терминологически четкого, однозначного и приведенного в единую систему языка, а он столько же манил, сколько и отпугивал человека со стороны. Наконец, кооперация со школой предусматривала приложение ее методов к собственному профессиональному полю. И тут возникали две трудности: первая касалась методов, вторая — особенностей поля. К какому бы культурному материалу ни прикладывались структурно — семиотические методы, они требовали солидной филологической подготовки, которой у меня не было. Что же касается самого предмета — изобразительных искусств, то я видел, что понятные мне приемы описания и анализа, выросшие в конечном счете из лингвистической почвы, бывают эффективны только в ограниченной области, а именно — там, где произведения изобразительного искусства строятся по строгим правилам, которые можно приравнять — пусть с допусками — к правилам языка, там, где вольности гения и постоянное изобретение новых правил не допускаются или, вернее, не практикуются. Сам Юрий Михайлович говорил в этой связи об «эстетике тождества». Иными словами, структурно — семиотический анализ наиболее эффективен там, где речь идет о традиционных и канонических культурах, ориентированных на повторение, т. е. на соблюдение принятых правил, — что хорошо известно. Я, разумеется, сильно упрощаю положение дел, но здесь не место входить в тонкости. Сказанного достаточно, чтобы представить, почему я оставался сочувствующим и заинтересованным, но сторонним наблюдателем. Впрочем, повторю, обаяние было велико. Отблески контактов и прилежного чтения семиотических трудов можно заметить в некоторых моих работах. И это нетрудно объяснить[46]. Однажды в Хельсинки — это было в самом конце восьмидесятых годов — на встрече с финскими коллегами, художниками и теоретиками, уже во время финального пиршества, финский коллега, эстетик, задал мне трудный вопрос. Он хотел узнать, к какой методологической школе я себя отношу. К марксистской? К социологической? К психологической — может быть, фрейдистской или юнгианской? К иконологической? К формальной? К структуралистской? Или постструктуралистской? Может быть, меня привлекают каким‑то образом постпозитивистские идеи?.. В нашем хозяйстве много еще всяких подходов накопилось. Некоторые направления я отверг с порога — скажем, к марксизму я давно стал остывать, а к фрейдизму всегда относился холодно. Но оставалось еще много всего — и я затруднялся с выбором. Я уже готов был начать стыдиться своей профессиональной неприкаянности. Оказалось, однако, что я зря смущался. — Значит, ты эклектик! — вскричал финн с воодушевлением. — Я тоже эклектик! Ну, вот и хорошо. Оглянувшись через плечо после этого разговора, я увидел, что он прав. Только я бы назвал многообразие подходов не эклектикой, а как‑то иначе. Хотя можно и так, пожалуйста, не в названии суть. Важно понять, почему так получилось. Вот одна причина. Я впервые публично заговорил о ней много лет назад — и в самом неподходящем месте. В Таллинне, как в любом уважающем себя академическом центре, существовал Дом ученых. Там бывали и ученые дискуссии, и светские затеи — я обычно не принимал участия ни в том, ни в другом. Но однажды соблазнился темой и явился на очередное собрание дискуссионного клуба. Если я верно помню, обсуждалась вечная проблема соотношения наук о природе и наук о культуре — «N aturwissenschaften» и «Kulturwissenschaften». По этому поводу была произнесена очередная доза банальностей — тем более что ученые — естественники были в большинстве, и призрак известного разделения наук на естественные и противоестественные невидимо виталпод лепным потолком особняка на Вышгороде. Вот там‑то я заявил публично, что фундаментальное отличие гуманистики от естественных наук происходит не от разницы подходов, методов, процедур — у одних эксперимент, проверка, математический аппарат, а у других вместо этого описания да рассуждения, — это разница производная. Исходное отличие — в особенности предмета познания. С него надо начинать. Гуманистика, как общее знание о социокультурной реальности, отличается прежде всего тем, что имеет дело с более сложными системами, нежели каждая из естественных наук. Моя мысль не была оценена по достоинству. Люди «сайенса» меня разве что не затоптали. Но я до сих пор уверен в своей правоте. Я слыхал кое‑что о свободе воли электрона («жнаем жачем жемля круглая», как говорила чеховская кухарка), но даже физику понятно, что это не более чем метафора. Другое дело — непрогнозируемые игры человеческих воль и обстоятельств. В бесконечности разных углов зрения, разных подходов и разных приемов, даже в смене интеллектуальных мод, которые нередко (и заслуженно) кажутся суетными, в их взаимной дополнительности или взаимных опровержениях нам время от времени открываются те или иные грани странного целого, которое мы называем человеческой культурой. Тут не место входить в обсуждение этой увлекательной проблемы, не хотелось бы перемежать воспоминания метанаучными экскурсами. Но перебирая в памяти собственные писания семидесятых — девяностых годов, я улавливаю в них отзвуки системного подхода, теории информации, семиотических идей, современных течений эстетической и культурологической мысли, включенные в логику рассуждения постольку, поскольку этого хотела тема. Принцип вольной навигации мне кажется столь же допустимым, сколь и необходимым. Если кто‑либо на этом основании назовет меня постмодернистом, я буду польщен и, покраснев, признаюсь, что впал в эклектику, не заметив, что живу, оказывается, в эпоху постмодерна. Другая причина и вовсе лежит на поверхности, но ее простота не должна ее компрометировать: я уже разделял однажды принципы единственно верной методологии, сыт был по горло и никак не хотел повторять этот опыт. Свобода думать как думается раз и навсегда стала для меня дороже доктринальной солидарности, сколь бы соблазнительной новая доктрина ни казалась. Такой вот принцип неприсоединения. В этой связи я должен совершить еще одно саморазоблачение, которого здесь не избежать. Мало того, что я эклектик. Я… это, разумеется, другая плоскость, но что с того? Словом, я — атеист в самом широком смысле слова. Это мое место не было и не могло быть заметным во времена мнимо безбожной власти, когда почти все были отъявленными или притворными атеистами. Сейчас оно маркировано, ибо даже здесь, в свободных и веротерпимых Штатах, я принадлежу к сомнительному меньшинству, а уж если бы я оказался где‑нибудь в России… Да, я не осторожный и разумный агностик, а убежденный атеист. Это не делает меня воинствующим безбожником на советский манер. Просто я безразличен к вере, еще более — лишен веры, и потому не могу идентифицировать себя ни с какой церковью. В одной вере, марксистской, я побывал — поэтому, вероятно, мой универсальный атеизм сохраняет тепло непосредственного опыта. Так вот, оглядываясь на те работы, которые все еще заслуживают обсуждения, я вижу, что по своему подходу к предмету они, действительно, не принадлежат ни к какой определенной методологической конфессии. Конечно — прошу простить мне маленькую банальность, — на них лежит отпечаток времени. Без отпечатка времени ничего не бывает, время отпечаталось на диалогах Платона, на «Сумме богословия», на «Феноменологии духа»… Так где уж нам, малым, бежать от времени, хорошо бы в него попасть! Я задавался такими вопросами, которые не требовали императивных ответов. Трезво оценивая собственные интеллектуальные и волевые возможности, а также по свойственной мне гуманности я не хотел отвечать на роковой вопрос — что делать? И на следующий за ним — как делать? Я пытался лучше понять то, что уже есть. Поскольку речь шла о моей специальности — об искусствознании, то самой общей темой моих писаний был простой вопрос: что мы, искусствоведы, делаем, когда мы это делаем? Когда критикуем? Когда раскладываем по видам, стилям, направлениям, эпохам, классам, этносам? Когда вписываем в культурные контексты? Когда описываем словами бессловесные картины? Ну, и так далее. Мне это было интересно, а для общества — безвредно… По теме был и подход — в пределах той информированности, которая была нам доступна. Если бы тогда я мог получить любую книгу, как могу сейчас, все написанное выглядело бы иначе, где существенно, а где поверхностно. Но полностью отрекаться от сказанного я бы не стал. И на том спасибо. Тут, в Америке, я воспользовался человеческими возможностями для других штудий. Но начало там, в начале семидесятых, в уютном углу нашей кафедральной комнаты, где за чашкой кофе с сигаретой Юрий Овсянников рассказывал об идее нового ежегодника. (обратно)Юрий Лотман и ученый мемуарист, весь в белом
Я никак не собираюсь претендовать на значимые исторические свидетельства о Юрии Михайловиче Лотмане и о его жене Заре Григорьевне Минц, у меня для этого нет оснований. Были, и живы по сей день, люди, знавшие их куда лучше моего; написано и еще будет написано множество воспоминаний, есть превосходная книга Бориса Федоровича Егорова, друга и коллеги Юрия Михайловича[47]. Я, возможно, и не решился бы на эту скромную интарсию, если бы не одно обстоятельство. В литературе, которую я листал, ясно просматриваются две точки зрения на Лотмана. Одни, его друзья, единомышленники и коллеги, рисуют идеальный образ человека, ученого, мыслителя, лидера революционного направления в отечественной — и не только отечественной — гуманистике. Другие не без удовольствия раскрашивают тени: авторитарность, нетерпимость к другому мнению, ревность по отношению к успехам коллег. Что делать, в потоке мемуарной литературы, которая затопляет книжное и журнальное пространство, определился и процветает особый сектор, жанр в жанре или поджанр — скатологический, где только самому автору удается сохранить крахмальную белизну одежд. Один мемуарист не поскупился на гипотезу: рассказывая о том, как Б. Гаспаров, выдающийся ученый, покинул Тарту и эмигрировал, он предположил, что Лотман в этот момент «вздохнул с облегчением». Другой… Пожалуй, здесь я позволю себе развернутый пример, видимая утонченность которого делает его интересным. В своих воспоминаниях о редакторах всякого рода — это отдельное такое эссе — А. Жолковский, известный лингвист и литературовед, участник тартуских школ, ныне профессор в Лос — Анджелесе, приводит следующий эпизод. «…Крупный ученый (ныне покойный), вождь научной школы, Главный Редактор целой престижной серии. Маринует статью года три, потом через Младшего мне удается узнать, что том двинулся, и даже добыть верстку. В ней я обнаруживаю критическую врезку от редакции и отсутствие дорогих мне эпиграфов, причем мой информант сообщает мне, что менять что‑либо уже поздно. „Да ты позвони Ему, Он в Москве, у такого‑то", — добавляет мой друг — блондин, явно предвкушая назревающее столкновение. Звоню, застаю с первого раза, требую восстановить эпиграфы. — Да они Вам не нужны. — Зачем они Вам? — Во — первых, они кратко выражают суть, во — вторых, я считаю, что их автор незаслуженно забыт или замалчивается. (В частности, Вами, — не говорю я.) — К тому же у нас нет места. — Позвольте, но моя статья не так уж длинна, лежит у Вас давно, и Вы ни разу не заикнулись о размере… Места вполне хватит, если Вы снимете свою врезку, которая мне действительно не нужна. — Я бы не выставлял этих эпиграфов. — Но Вы их и не выставляете. Это моя статья, а не Ваша. — Знаете что, я спешу на лекцию и вынужден прервать разговор. До свидания. — До свидания. Свиданию, однако, не суждено было состояться, ибо, утомленный истеблишментом и антиистеблишментом почти в равной мере, я эмигрировал. Статья же через некоторое время вышла — с эпиграфами и без врезки. Вопреки официозу напечатать диссидента — отъезжанта было для этого Главного делом чести, доблести и геройства — тут уж не до тонких семиотических разногласий…»[48] Читатель, хоть сколько‑нибудь знакомый с описываемым миром, мог без труда догадаться, о ком идет речь, и, следовательно, по чьему адресу шпильки. Но мемуарист, не надеясь, видимо, на сообразительность читателей или желая расширить круг сообразивших, в другой статье, процитировав приведенный отрывок, декодировал его: «Для истории, — как говорил Фома Берлага, не в интересах истины, а в интересах правды, — оглашу опущенные в массовом издании имена собственные. В порядке появления: Ю. М. Лотман, И. А. Чернов, Б. А. Успенский, М. О.Гершензон /…J»[49]. Так вот, в интересах правды имеет смысл прочесть пристальней этот мемуарный фрагмент. Итак, Главный, т. е. Лотман, года три маринует статью, после чего автор узнает, что «том двинулся». Значит, это целый том находился в состоянии неподвижности, не так ли? Не мешает вспомнить обстоятельства, о которых мемуарист умалчивает. К тому времени счастливые годы «Трудов по знаковым системам» были позади, на Лотмана давили всячески, в частности, очень просто, на «Труды» не давали бумаги! Выпуск 1971 года (пятый) насчитывал чуть более 550 страниц, выпуск 1973–го — более 570, а вот десятый (1978) — 145, одиннадцатый (1979), где названная статья А. Жолковского, — 143. Ждать приходилось не ему одному. Далее, о Младшем. Это Игорь Аполлониевич Чернов, ближайший ученик и коллега Ю. М. Повествователь называет его другом — блондином. Я знал всю семью Черновых, его отец много лет заведовал нашей гибридизированной кафедрой, и если мне не изменяет зрительная память, Игорь Аполлониевич скорее светлый шатен. Впрочем, я могу ошибиться, давно не встречались, да не в том дело: «друг — блондин» — это не для памяти зрительной, а для памяти литературной. Ищите в записных книжках Ильи Ильфа: «Есть у тебя друг — блондин, но он тебе не друг — блондин, а сволочь». Так с помощью изящной интертекстуальности, словно бы между делом, можно швырнуть ком грязи в Игоря Чернова, хотя из текста никак нельзя заключить, чем он этот ком заслужил. Да и ком‑то не один, мы тут же узнаем, что И. Чернов еще и интриган, который подстраивал и предвкушал назревающую склоку. К спору об эпиграфах. Одиннадцатый выпуск со статьей Жолковского передо мной, эпиграфов два — из М. Гершензона и из Р. Якобсона (не из Б. Успенского). Упрек Лотману — насчет Гершензона. Ну, не знаю, перечитывать всего Лотмана, чтобы проверить, заслужен ли упрек, мне недосуг. Но снявши с полки подвернувшиеся под руку лотмановские «Беседы о русской культуре», я тут же наткнулся на две ссылки[50]. Видимо, если Лотман и замалчивал Гершензона, то как‑то бессистемно. Теперь давайте прислушаемся к интонационно — смысловому рисунку телефонного обсуждения. «Вы ни разу не заикнулись о размере…» Каждый, кто помнит, что Юрий Михайлович слегка заикался, сумеет оценить элегантную остроту профессора Жолковского. Далее, Лотман, с присущей ему академической учтивостью, излагает свое мнение в сослагательном наклонении — «я бы не выставлял…». На что следует далеко не академическое — «а вы и не выставляете. Это моя статья, а не ваша». В переводе на язык обыденной жизни это значит — «а ты чего суешься, морда, твое какое дело?!» Когда разговор переведен в такую плоскость, редактору надлежит раздвинуть указательный и средний пальцы правой руки, образуя знак виктории, и ткнуть ими в глаза обидчику, приговаривая — «а ты кто такой!» Вместо этого воспитанный Лотман твердо, но вежливо прерывает беседу — и правильно делает. Можно было и раньше, после намека на заикание. Тем не менее, из уважения к желанию коллеги, как видим, врезку убирает, а эпиграфы сохраняет!’[51] Это все — виньетки, если использовать выражение самого мемуариста[52]. Фокус композиции — в последней строчке, повторю ее для внятности: «Вопреки официозу напечатать диссидента — отъезжанта было для этого Главного делом чести, доблести и геройства — тут уж не до тонких семиотических разногласий…» Так вот, оказывается, где главное коварство профессора Лотмана! За счет обиженного Жолковского пытался нажить недурной морально — политический капиталец! Теперь такие действия называют красивым русским словом «пиар»; публикация статьи, которая, к тому же, открывала сборник, была шикарной «пиар — акцией»! По честному признанию мемуариста, человек, о котором речь, — уже покойный и, следовательно, ответить не может. Пишущий обеспечил себе последнее слово, так сказать — над гробом. В «Беседах о русской культуре» есть глава, посвященная дуэли. «Дуэль — предрассудок, — пишет Ю. Лотман, — но честь, которая вынуждена обращаться к ее помощи, — не предрассудок». Он говорил это от имени исторических персонажей, о которых речь, — современников Пушкина. Но и от себя тоже. Однажды мы встретились с Лотманами в безнадежной очереди за билетами на Ленинградском вокзале. Мы возвращались с одесской дачи, Лотманы — тоже откуда‑то с юга. Об очереди как атрибуте реального социализма говорено многократно, Лотман будущего века, если такой объявится, в беседах о советской культуре посвятит очереди яркую главу. Он должен будет отметить, что в конце августа у билетных касс реальный социализм прямо‑таки буйствовал. Очередь была внешняя, она тянулась от окошка где‑то у перронов мимо всего длинного здания вокзала и завивалась на площадь, которую звали Комсомольской. Вот там, неподалеку от нас, мы увидели Юрия Михайловича, Зару и двух мальчишек, Мишку и совсем маленького Гришку, Алешки еще и на свете не было. Нам достался купейный вагон, Лотманам тоже, и тот же, но не полностью, один билет пришлось взять в плацкартный. Естественно, Зара с мальчиками разместилась в купе, а Ю. М. удалился куда‑то вглубь — искать свою полку. В нашем купе оказалась знакомая супружеская пара из Таллинна, и мы, уютно расположившись, предались вольной беседе за стаканом чая. Вдруг — время было уже довольно позднее — кто‑то постучался в дверь. В коридоре стояла Зара, бледная и крайне напуганная. Боря, сказала она, найдите и позовите Юрия Михайловича. — Да что случилось? Выяснилось, что пьяный сосед по купе сделал Заре так называемое гнусное предложение. Я стал было настаивать, что мы сейчас сами с ним справимся, да я могу просто поменяться с нею местами, но Зара молила и требовала привести Юру. Я бросился искать и где‑то в четвертом или пятом от нас вагоне нашел — Юрий Михайлович спал на нижней полке прямо в том, в чем был в очереди, не сняв белых парусиновых туфель и накрывшись серым жестяным плащом; видимо, у проводника не хватило постельных принадлежностей. Я разбудил его и сказал, что Зара хочет его видеть; уже на бегу я стал излагать причину. — Я его сейчас убью, — сказал Лотман. И убил бы. Ей — богу, убил бы! Честь, своя, жены, чужая — не предрассудок! Но это там, где есть общепринятое понятие о чести. Я представляю себе, как — в том мире, который он так хорошо описывал, — Юрий Лотман отвешивает оскорбителю публичную пощечину и на другой день либо убивает его на дуэли, либо погибает, защищая честь женщины, жены. Но что делать, когда высокие понятия вязнут в безнадежной банальности? Оскорбитель, пьяный в стельку, спал мертвецким сном, его невозможно было растолкать. Спящему и беззащитному хаму человек, наделенный чувством собственного достоинства, ничего сделать не может, даже убить не может. И развязка получается убогая, советски — серая, бумажная, чиновничья: проводник, начальник поезда, составление акта — и это при том, что актанта невозможно привести в сознание. Насколько я помню, когда Лотманы высаживались в Тарту, поездной сатир все еще спал, храпя спиртными парами. С мемуарами такое ведь дело, что оскорбленный, случается, не может заступиться за свою честь. Нет его. Ну что же, я попробую сыграть роль второго плана — свидетеля, который подписывает акт. Обратим внимание на следующую тонкость. А. Жолковский покинул отечество в августе 1979 г. Одиннадцатый выпуск «Трудов» вышел в свет уже после этого. Но сдан в набор он был в январе 1978–го, так на нем и написано (взгляните на выходные данные, факсимильно воспроизведенные на следующей странице). То есть, сборник был составлен, отредактирован и отдан в типографию не только до отъезда Жолковского, но даже до его вступления в серую зону «подачи», так оно называлось на языке эпохи. Судя по тексту, и верстка была готова до подачи, и телефонная дискуссия тоже! Итак, что же остается после всех вычитаний? Вот что: титульный редактор Лотман и редактор тома, друг — блондин Чернов, узнав, что Жолковский собрался уезжать, не струсили и не убрали его статью из сверстанного и готового к печати тома. Ученые записки Тартуского государственного университета. Выпуск 467. Семиотика текста. Труды по знаковым системам XI. На русском языке. Тартуский государственный университет. ЭССР, г. Тарту, ул. Юликооли, 18. Ответственный редактор И. Чернов. Корректор Н. Чикалова. Сдано в набор 12. I. 1978. Подписано к печати 15. X. 1979. Бумага писчая 60 X90 1/2 β· Печ. листов 9,0 + 1 вклейка. Учетно — издат. листов 10,33 Тираж 1000. ΜΒ-07376. Типография им. X. Хейдеманна, ЭССР, г. Тарту, ул. Юликооли 17/19. III. Зак. № 146. Цена 1 руб. 50 коп. Вот этот акт безусловной порядочности и мужества сделан предметом высокомерной насмешки профессора из Лос — Андже.леса. Стыдно, молодой человек! Но хуже другое. Ибо в жизни дело обстояло совсем не так. Продолжительное пребывание за рубежами родины, видимо, ослабило память мемуариста — и он уже неясно различает реалии советской идеологической ситуации семидесятых годов. Ему чудится, что Лотман в Тарту занимал позицию, внеположную системе, что не было на него ни Главлита, ни университетской, городской и выше партийной организации, ни добро.желателей — стукачей, ни самих органов, — и он мог демонстративно вынуть фигу из кармана и показать ее властям, а главное — оппозиционно настроенной интеллигенции. Но все было, было — и находилось в цветущей форме. Поверьте, без всякого Лотмана Главлит снял бы статью Жолковского в момент подписания к печати, когда бы знал о его эмиграции, которая в те времена оценивалась как «злодействие, противное казенному интересу». Если бы власти опознали в авторе опубликованной в советском издании статьи человека, отрекшегося от социалистической родины, смертный приговор тартуским «Трудам», и без того висевшим на волоске, был бы немедленно подписан и, как это было принято, тут же приведен в исполнение. Достаточно сказать, что, когда эмигрировал Б. Гаспаров, разразился невероятный скандал: власти обнаружили его имя — только имя! — в списке членов редколлегии очередного выпуска! Спасти положение удалось с помощью уловки — пришлось заверить власти, что вышла опечатка и вместо М. Гаспарова по досадной оплошности был помещен Б. Гаспаров[53]. К счастью для статьи Жолковского, Лотман не был осведомлен о его отъезде. К счастью для Лотмана и судьбы тартуских «Трудов», власти не заметили беззаконной публикации. Чуть больше добросовестности — и мемуарист мог бы узнать, что семейство Лотманов находилось под неусыпным наблюдением органов безопасности, что в их квартире устраивали обыск. Времена гороховых пальто давно миновали, прогресс неумолим — и перед домом на улице (тогда) Бурденко, где жили Лотманы, под окнами их квартиры органы демонстративно ставили спецавтомобили с подслушивающими устройствами; однажды, когда я был у них, Зара Григорьевна показала мне это громоздкое чудо органотехники. Я уже не говорю о том, какие палки в колеса ставили Ю. М. на пути издания «Трудов». Между тем, и Юрий Михайлович, и его жена не были железными рыцарями, они были нормальными живыми людьми, и обыкновенное чувство страха было им хорошо известно. Их жизненная позиция диктовалась отнюдь не желанием прославиться, заняв место в списке мучеников, или еще чем‑нибудь в этом роде. Позвольте мне утверждать с достаточным основанием, что все дело было в нравственном императиве, да, том самом, категорическом, совершенно категорическом — который просто не разрешал жить и поступать иначе. А вот высоколобое ерничанье А. Жолковского по поводу «дела чести, доблести и геройства» — безнравственно. Можно было бы привести и другие мемуарные вылазки, да не хочется. Юрий Михайлович любил поминать слова Пушкина из письма к Вяземскому: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего». Толпе, добавлю, уже и дела нет до того, реальные слабости или вымышленные, anything goes. Скажу прямо — я принадлежу к первой из названных в начале статьи двух групп. Не записываясь в друзья и единомышленники, я всегда буду твердить, что в моем понятии Юрий Михайлович остается эталоном человеческого достоинства и моральной цельности. А о его необычайной одаренности, выдающемся уме, смелости многообъемлющей мысли, о его вкладе в мировую и отечественную гуманистику и без меня сказано достаточно. Вышло так, что мы встречались с Лотманами нечасто. Зара быстро перешла с нами на «ты», но Юрий Михайлович… Когда Зара говорила о нем «Юра», я на секунду задумывался — о ком это она? Встречи бывали при разных обстоятельствах и в разном окружении, самые насыщенные — когда удавалось побеседовать без третьих лиц. Я помню его блистательные лекции и выступления, но в разговоре на двоих можно было узнать о вещах, которые меня сию минуту непосредственно занимали. Как‑то в Таллинне такой разговор начался у нас за столом, а продолжался в машине — Ю. М. надо было срочно подъехать на вокзал. Я так увлекся, что, слушая Лотмана, проехал перекресток на красный свет перед самым носом автоинспектора — не заметил ни того, ни другого. Тут теперь это стоит около трехсот долларов. А тогда было так, что в наш отнюдь не бахтинский диалог с инспектором вмешалась жена, чтобы уж совершенно все провалить, и стала говорить вздор, не имевший отношения к делу, — что я вообще‑то аккуратный водитель, но тут у нас в машине знаменитый ученый, с которым очень важное обсуждение происходит… Я знаю, что мне никто не поверит, но что было, то было: автоинспектор меня отпустил! Меня тогда заинтриговала и озадачила статья Ю. М. о парадоксах канонического искусства, мне пришло в голову альтернативное решение проблемы — вот это мы и обсуждали, так что не до светофоров было[54]. Трудно представить себе более благожелательного собеседника — включая те случаи, когда Лотман не был согласен с твоим мнением или не находил в твоих суждениях какого‑либо мнения вообще. Однажды я попросил у него разрешения прислать для ученого разговора мою коллегу, назовем ее Ольгой. Когда‑то она была моей ученицей, окончила искусствоведческое отделение в Ленинграде, по моей рекомендации поступила в аспирантуру по эстетике в Ленинградский университет, к М. Кагану, начала работать над диссертацией, тему которой, весьма философскую, выбрала сама, но — увы — из‑за тяжелой болезни диссертацию в аспирантские годы так и не написала. Она продолжала трудиться над своей темой и излагала мне свои идеи. Идеи выглядели чрезвычайно сложными, и, стыдно сказать, я никак не мог ухватить суть. Показывала она свои разработки и прямому руководителю — Кагану, который тоже признался мне, что не сумел до конца вникнуть в ее построения. Однажды она попросилась на аудиенцию к Лотману, с моей помощью разрешение было получено. Ольга вернулась из Тарту окрыленная — Юрий Михайлович ее выслушал, сказал, что это очень интересно, что в его планах начать разрабатывать близкую проблематику и что тогда он и его коллеги (он говорил — мы) ее непременно привлекут к сотрудничеству. Я обрадовался ее удаче, но был уязвлен. Как это так получается, что Лотман сразу понял, а я в который раз пробую! Я попросил Ольгу снова изложить мне ход мысли. Мы долго сидели за кафедральным столом, она разъясняла, рисовала схемы для наглядности… Это был еще один провал, последний, я признал поражение и больше не пытался. В какой‑то приезд в Ленинград, сидя в Публичной библиотеке, я вдруг разглядел, что впереди меня, за большим столом, склонившись над огромным фолиантом, сидит ЮрМих. Мы вышли в вестибюль поговорить о том и сем, в середине разговора я вспомнил о моей коллеге и признался, что я ее концепцию не мог понять. — Ддда, знаете, — сказал ЮрМих, — такое случается, молодые ученые иногда любят выражаться сложно и непонятно. Я, собственно, не ппонял того, что она мне излагала, но она, кажется, человек мыслящий, возможно, в ее идеях есть зерно, а псевдоученость постепенно пройдет…[55] Я не помню точно, при каких обстоятельствах мы познакомились. Но хорошо помню один вечер, проведенный вместе; ложет быть, он и был первым. День тот, надо сказать, был не из простых — даже для судьбоносных дней весны 1953 года. Я тогда читал лекции помимо Таллинна еще и в Тарту, где доживал свои дни филиал нашего Художественного института. Раз в две недели я ранним утренним поездом отправлялся в Тарту, за два дня расплачивался там с лекционными долгами и поздним вечером возвращался к месту проживания и регулярной службы. И вот ранним весенним утром, по — таллински прохладным, но солнечным, я прибегаю на вокзал, бросаю портфель на скамейку и выхожу на перрон покурить. В те годы страна была хорошо радиофицирована — на улицах, площадях, вокзалах и в других общественных пространствах мощные репродукторы непрерывно доводили до граждан государственно необходимую информацию. Есть такое понятие, о котором, вслед за русскими филологами — формалистами, и Ю. М. писал, бывало: автоматизация восприятия. Если какой‑либо раздражитель повторяет сигнал монотонно, вы постепенно перестаете его замечать. Вы повесили в гостиной картину и наслаждаетесь новизной интерьера; через месяц наслаждение ослабевает, через два вы больше не обращаете на нее внимания. Чтобы снова сделать ее заметной, надо ее хотя бы перевесить. На этом была построена теория остранения, которую с таким блеском развивал Виктор Шкловский. Рутинный грохот казенных репродукторов давно превратился в фоновый шум — и я, естественно, не прислушивался к хорошо артикулированной дикторской речи. Вдруг какое‑то сочетание звуков заставило меня насторожиться. Радио торжественно вещало: «…привлеченные по этому делу профессор Вовси М. С., профессор Виноградов В. H., профессор Коган М. Б., профессор Коган Б. Б., профессор Егоров П. И., профессор Фельдман А. И., профессор Этингер Я Г., профессор Василенко В. X., профессор Гринштейн А. М., профессор Зеленин В. Ф., профессор Преображенский Б. С., профессор Попова Н. А., профессор Закусов В. В., профессор Шершевский И. А….» Кто помнит, что значат эти имена, тот помнит. Для всех прочих: это список «врачей — убийц», чей арест был кульминацией чудовищной антисемитской истерии, развязанной Сталиным с конца сороковых годов. И вот, я слышу этот перечень, произносимый державным левитановским голосом, — и холод спускается по хребту. В тот момент, когда диктор добирается до сказуемого, раздается протяжный паровозный свисток — и я не слышу главного. Я не слышу глагола — то ли в неопределенном наклонении (расстрелять, повесить, как того требовали разгневанные трудящиеся, приговорить к…), то ли в прошедшем времени совершенного вида. Поэтому я кидаюсь в вагон, где тоже есть радио, а свисток паровоза звучит глуше. Но поздно, сообщение завершено. Оказалось, однако, что столь важное известие следует повторить несколько раз. И тут уж я дослушал до конца. Утром четвертого апреля 1953 года в Тарту на вокзале меня встречал Леня Столович. После первого приветствия он задал мне тревожный вопрос: слушай, тут в музее мне сказали, что тебе запрещено печататься, это правда? В чем там дело? Это была странная правда. За месяц — полтора до того я нечаянно узнал, что мне вроде бы запрещено печататься. Дело было так, что по какому‑то там плану я вместе с заведующим кафедрой графики профессором Паулем Лухтейном должен был написать небольшой текст для какого‑то сборника. Однажды, встретив профессора, я спросил, когда начнем. Он отвечал, что хоть на следующей неделе, но вот кстати — он прослышал в Комитете по делам искусств, что мне запрещено печататься. Я спросил о запрете у директора Института — тот ничего не слыхал. Я позвонил соответствующей чиновнице в Комитет, она сказала, что точно не знает, постарается узнать и мне по секрету сказать, а профессор Лухтейн пусть помолчит, — он что, не понимает, что это государственная тайна! Юное эстонско — советское чиновничество иногда пленяло своей непосредственностью. Дама в конце концов конспиративно осведомила меня, что в Комитете об этом не знают, знают в ЦК партии. Я попросил тогдашнего председателя Союза художников узнать о деле в ЦК· И он, наивный, отправился в ЦК! Там ему сказали, что ЦК тут не при чем, это все Комитет по делам искусств. Председатель отправлялся в Комитет… Дознаться было невозможно, вязкая угроза выглядела началом чего‑то более мерзкого, а тем временем известие добралось до Тарту! Но четвертое апреля уже наступило. И я сказал другу, что такие слухи мне известны, но после сегодняшнего сообщения я могу на них не обращать внимания. Будучи в состоянии нервного возбуждения я, кажется, выразился более энергично. — Какого сообщения? — спросил Леня. Вечером, после лекций, он подхватил меня и привел в дом, где собрались главным образом люди ленинградской квазиэмиграции — Лотманы, экономист Михаил Бронштейн, кажется, с женой, философ Рем Блюм, филолог Борис Егоров — других не помню, больше полувека прошло. Был наспех состряпан незатейливый стол, налили. Первый тост сказал Борис Федорович: — Выпьем за то, что этот кошмар кончился… Повторяю, я не уверен, что это была моя первая встреча с Лотманами. Но очень хочется, чтобы была первая. Так история получает хоть какой‑нибудь, пусть побочный, смысл. (обратно)Мика. Дружба, жизнь, урок из истории философии
Я всегда сожалел о своем философском невежестве, вернее — о вопиющих пробелах в философском образовании. Иногда мне казалось, что если бы я начинал сначала, то непременно пошел бы учиться на философский факультет. Хотя я вовсе не уверен, что это был бы хороший выбор. Да, случалось, что я остро переживал домашнее происхождение и скверное состояние своей философской оснастки. В иных случаях, правда, я замечал, что профессиональные философы с академическим подбоем мыслят не намного лучше меня. Это наблюдение позволяло мне задумываться, на свой кустарный манер, о природе философского знания. Знаю, что я не первый и что плоды моих размышлений никого не поразят оригинальностью. Я просто примыкаю к определенной партии. Но добровольно, по убеждению. Если человек — это стиль, то философ — это стиль философского мышления. Конечно, существует преемственность, наследование, развертывание, варьирование, опровержение наличных идей и все такое. Но в последнем счете философская мысль кумулятивна и не кумулятивна вместе. Каждый мыслитель, если он мыслитель, может начать с чистого листа. Сильное философствование, даже когда оно вписывается в традицию школы, есть эманация личности, ее собственного непреодоленного и непреодолимого склада, ее способа переживать мир и понимать себя. Так и с Каганом. В океане современных мемуаров стало принято называть великих уменьшительными именами — Митя, Маня, Катя, Никеша, Владя… Нередко меня от этого коробит, и я вспоминаю, что когда‑то этот прием называли заимствованным из французского словом «амикошонство»; «ами», как известно, — друг, а «кошон» — свинья. В словаре иностранных слов 1980 года оно еще есть, но в обиходе я его не встречаю. А раз слова нет, то все позволено. Но вот затруднение. Оказывается, я сам не смогу называть человека, с которым близко дружил гораздо более полувека, Моисеем Самойловичем. Или профессором М. Каганом. Близкие и друзья называли его Микой. И я уже иначе не могу, простите меня. Мика. Мы знакомились дважды. Первая встреча имела для меня критическое значение. Сентябрь сорок шестого года. Я только что зачислен на исторический факультет Ленинградского университета, но при этом хочу учиться на историка искусства. А порядок таков: чтобы быть допущенным к искусствоведению, надо пройти особое собеседование, по — академически — коллоквиум, проверку на интеллигентность. Искусствоведы — белая кость, не выдержишь — затеряешься в серых шеренгах историков. В первых числах сентября я уже ходил на лекции с искусствоведами, но искусствоведом еще не был. Наступил день, когда все еще «неотсобеседованные» будут подвергнуты проверке. Сначала лекции, а после лекций — коллоквиум. Последняя перед испытанием лекция — заведующего отделением профессора Иоффе. Иеремия Исаевич читает вводный курс, и в тот день он рассказывает нам о различных классификациях видов искусства. По — видимому, вирус теоретизирования попал в мой организм еще с материнским молоком, которое, разумеется, на губах не обсохло, когда я поднял руку, чтобы сообщить профессору о еще одном способе группировки — нечто в эту минуту посетило мою невежественную голову. Но Иеремия Исаевич либерально согласился, что и такой подход возможен, почему нет. Лекция кончилась, законные искусствоведы ушли, остался десяток или полтора соискателей. В аудиторию снова входит Иоффе, а с ним — молодой человек, в костюме с иголочки, с чисто подстриженными усиками, галстух, крахмальная сорочка, обручальное кольцо на пальце, закуривает «Казбек». Мы не лыком шиты, слыхали, что это — талантливый ученик Иоффе, кронпринц, можно сказать; он аспирант, но уже читает курс лекций… Выглядит, на наш комсомольский взгляд, ужасно — мещански, или, верней, по Марксу — филистерски. Ко всему еще это кошмарное обручальное кольцо, какой вредный пережиток! Иоффе и его талантливый ученик садятся за преподавательский стол и начинают выкликать по алфавиту. С моей фамилией долго не отсидишься. Я встаю, Иоффе поднимает на меня свои прекрасные библейские глаза и говорит — этого не надо, я с ним уже поговорил. Моя морфологическая теория сработала! Однако усатый делает мне знак ухоженным пальцем, чтобы я подошел к нему. — Когда вы в последний раз были в Эрмитаже? — спрашивает он с очевидным подвохом. Ну, это напрасно, в Эрмитаж меня водили еще накануне моего импровизированного бракосочетания в Питере, в прошлогоднем ноябре. Да и сейчас успели. — На прошлой неделе, — отвечаю я чистую правду. — Что вы там смотрели? — Импрессионистов. На третьем этаже. (Тоже правда, в августе сорок шестого эти залы еще были открыты.) — И кто вам там понравился? — Ренуар, — говорю. — Писсарро. Дега. Мане… — Мане или Моне? — спрашивает он с ударением. Хм. Их, оказывается, двое похожих, кто бы мог подумать. Но ты тоже хорош: ты же спросил, кто мне понравился, да? — Моне! — говорю я твердо, показывая, что релятивистская интерпретация проблемы вкуса, которой я придерживаюсь до сих пор, практически неопровержима. Действительно, крыть нечем, мне понравился Моне — и все тут. Вот Моне мне понравился, а не Мане. Вот я такой. Моне — да! А Мане — нет! И усатый отпустил меня с миром. Теперь мне можно в искусствоведы. Но кто же мог предсказать в ту минуту, что этот усатый, этот замечательный Моисей Каган вскоре станет моим ближайшим другом, очень дорогим для меня человеком на долгие, долгие десятилетия? Скорей всего, так случилось благодаря второму, параллельному знакомству, к которому привела цепь случайных обстоятельств, возможных только в условиях простого советского быта. Мой тесть, юрист, вскоре после окончания войны перевелся из Ташкента в Москву, на должность главного арбитра одного из министерств. Ему удалось откупить у дальних родственников фрагмент частной квартиры, чужеродного осколка НЭПа в тканях социалистического хабитата второй половины сороковых годов. Фрагмент составляла бывшая ванная комната, площадью около пяти квадратных метров, из которой была удалена ванна. Туда и вселился главный арбитр с женой и младшей дочерью; для дочери арендовали диван у соседей. Однажды к соседке по приватной коммуналке приехал из Ленинграда сын с женой — и моя теща воспользовалась оказией: молодые люди любезно согласились отвезти старшей дочери с мужем, то бишь со мной, гостинец — килограмм яблок в кулечке. Яблоки гонцы съели в поезде по дороге домой. А позднее сообщили нам открыткой о посылке, приехали на наш угол — знаменитый тогда угол Лиговки и Обводного канала, купили в угловой будке кило яблок и доставили его по адресу. Нетёщины фрукты оказались поводом для знакомства, а затем и дружбы. Вот тут‑то выяснилось, что яблочные знакомые — школьные друзья Моисея Кагана и его жены. В их доме мы и встретились частным порядком. Поначалу было жутко, но постепенно стали обвыкать, а там позволили себе садиться уж бочком, выпили на брудершафт… Выражаясь языком будущего Кагана — так сложилась исходная многоканальность наших отношений. Весь Ленинград, несколько поколений ленинградских интеллигентов знали, каким он был блистательным лектором. Я помню, как он уходил из аудитории после рутинной лекции под аплодисменты. А мы не были щедры на этого рода восторги. Разве что Лунину, да и то не каждый раз. Я выношу за скобки великолепную и свободную речь, вольное владение материалом, импровизационную свободу изложения и неожиданные ходы мысли, которые рождались как будто бы тут же на месте. А то и впрямь на месте. При этом он держал удивительную дисциплину облика: никакого хождения взад и вперед, да что там хождения, ни одного лишнего жеста, поворота, движения, аскетическая скупость мимики — зримая пластика логики. Такое видишь и слышишь не часто. Но главное — метод, который можно найти в его книгах и который особенно неотразим бывал в лекциях. Вообразите себе дальнее подобие сократической беседы, но без беседы как таковой — монолог, который вынуждает к соучастию, вовлекая в самый процесс обдумывания. Он выдвигал проблему и всячески демонстрировал ее проблематичность, но отнюдь не сразу. Он реферировал различные решения и позволял сначала их пережить. Только затем, сбивая, показывал наглядно, что это были псевдорешения, логические тупики, ложные дороги. Хочешь — не хочешь, приходилось думать, деваться было некуда. Мы брели за ним, заблуждаясь, по этим дорогам, проблема запутывалась, усложнялась, становилась все труднее, напряжение нарастало — и когда на горизонте начинала вырисовываться ее неразрешимость, он эффектным логическим ударом разрубал узел. Решение оказывалось бесспорным, мы переживали интеллектуальный катарсис. Если вы читаете теоретический курс, этот способ — из лучших. Таковы были уроки сверх уроков, метауроки: как делается лекция. Они мне в жизни очень пригодились, очень. Бывали и другие. Начались занятия кружка эстетики. Активисты разбирали темы будущих докладов. После заседания мы вдвоем бредем к набережной. — Слушай, — спрашивает Мика, — что ты думаешь о К. Л.? — Идиот, — говорю я с несвойственной мне живостью реакции. Руководитель кружка смотрит на меня не столько с недоверием, сколько с осуждением. — Посмотрим, — возражает он, и я чувствую, что он надеется открыть в этом парне некие возможности, а заодно учит меня — учит, как следует относиться к людям. В тот раз я оказался прав. Пришло время — и Мика в этом убедился: перспективный студент оказался не только дураком, но и негодяем, автором доносов на руководителя, и не куда‑нибудь, а в Смольный. В доносе, среди прочего, говорилось, что Каган крадет его идеи; это было наименее опасное обвинение. И все‑таки кагановский критический взгляд я запомнил хорошо. А позднее не раз видел, как воодушевляла и подхлестывала его учеников доопытная вера учителя в их интеллектуальные потенции. В наши студенческие времена он умел держать дистанцию — сама молодость ему велела — и в то же время быть непосредственным и демократичным. Как‑то он отозвал меня в сторонку перед своей лекцией и сказал: — Ну, вот что. Мои лекции вы еще услышите. А сейчас в «Титане» показывают фильм, который выпустили на экраны по ошибке, его к вечеру снимут и запретят. Бери всех достойных людей и давайте, сейчас же бегите смотреть. Я взял множество достойных людей. Так мы посмотрели в первый раз некогда знаменитый «Скандал в Клошмерле». Вечером того же дня я, захватив жену, смотрел его вторично. Новый 1951 год мы встречали у наших яблочных друзей, Магды и Гриши. Празднованию предшествовали драмы. Выяснилось, что смыкаются две компании, вторая была компания младшей сестры Магды и, главное, сестриного мужа, которого мы не любили. Жена, узнав о смычке, сказала, что никуда она не пойдет. Симметричная драма разыгрывалась, как оказалось, у Каганов на Чайковского, и там жена рыдала и не желала участвовать. Кое‑как собрались, мрачные, некоторые явились с покрасневшими глазами. Начало торжества было ужасным, ледяным и молчаливым. Однако после рюмки — другой дело пошло на лад, наша партия оживилась и в конце концов успешно выдавила конкурирующую компанию из дома. Куда они девались, не упомню, но упоение победой нас развеселило. Это был чудесный праздник, лучший из многих! В разгаре ликования Мика и моя жена оказались под столом, ненадолго. Однако, вернувшись из ближнего подполья, Мика сказал — ну, тебе пятерка! Мне и вправду предстояло сдавать ему последний экзамен — по истории эстетики. Если вы заглянете в мой дипломный документ, то увидите, что Каган был человеком слова. Не думали мы в ту ночь, что год будет невеселый, что этнобезработица заставит меня искать работу в Таллинне и что отныне нам жить в разных городах.* * *
Поговорим о высоком. Однажды он сказал нам: «А у Виктора Шкловского есть работа о том, как сделан „Дон Кихот“». И добавил со значением, подняв палец: «как сделан» К тому времени мы получили уже полную дозу квазимарксистских инъекций и твердо знали, что правильное содержание решает все. Еретическое замечание было сделано не ex cathedra, адля небольшой компании, в кружковой беседе, — чтобы нас озадачить, намекнуть, что не все так уж просто, спровоцировать размышление. Позднее я прочел эту статью Шкловского, больше того — я прочел ее в той книге, где ее читал сам Каган, из его библиотеки родом. Она и сейчас передо мной, вот тут, на столе: Виктор Шкловский. О теории прозы. «Круг». Москва — Ленинград, 1925. На тыльной стороне обложки две печати: АКАДЕМКНИГА и Лавка писателей Цена 10 р. Не знаю, в какой из этих лавок она была куплена за десятку, без сомнения — довоенную или, скорее, военную. Нет, вообще‑то я не книжный вор, книжку я захватил в Таллинн и отдал ее, потрепанную и рассыпающуюся, на институтскую кафедру кожи в переплет. Переплетенная, она осталась у меня, где‑то в недрах библиотеки, забытая нами обоими, а когда шел последний жесткий и быстрый отбор книг для отправки в Калифорнию, она, каюсь, была брошена в очередную винную коробку и перебралась вместе со мной на другой, более новый конец света. Сейчас она стала сувениром. Я уверен, что Мика купил ее, будучи студентом — филологом, и, читая, беспощадно подчеркивал нужное и делал пометки на полях карандашом. Пометки для себя, слова не дописаны, знаков препинания нет. Почерк чуть мягче так хорошо мне известного зрелого. Это неопубликованный ранний Каган! Воспроизведу часть — так, как написано, без реконструкций. На обороте титульного листа — нечто, не имеющее отношения к Шкловскому и к теории прозы: Игра — риск жажда сильных ощущений На обороте предисловия: Рассудок упорядочивающий обсуждающ вот это то‑то разум убийца искусства На первой странице, перед началом статьи Шкловского: не узнавать вещь разумом но ощущать тайно истинную соль предметности Далее на полях — отклики на бегущий рядом текст Шкловского: Искусство цель имеет не эконом но служит для живого свежего восприятия вещи не разумом, а чувством лаконизм еще не есть выразительность Самочувств потенциальный гений для котор не создалось среды /…/ благоприятной для проявления Видение выражение его в воплощении худож уже давно стали говорить о науке видеть. Обществ цель и смысл искусства. Искусство трезвого рассудформ натур челове и челов искусств строит коробка ромб цилиндр шар. Нетрудно разгадать недописанные слова. Повторяю, мне чудится здесь студент — филолог. В его заметках — не только отблески мысли самого Шкловского, но и настроения читателя, вкус к афоризму, коэффициент преломления, свойственный атмосфере филологического факультета тех лет. Позднее он подписался бы не под каждой из этих заметок. Он наверняка бы не согласился с тем, что упорядочивающий рассудок — убийца искусства. Это значило бы сдать собственный рассудок — рассудок теоретика искусства с его необычайной упорядочивающей мощью. Но интересно другое. Есть нечто совершенно кагановское в том, как расположились его маргиналии в книге. Пристальное чтение — с густыми подчеркиваниями и записями на полях — было отдано работе, открывающей сборник: знаменитой статье «Искусство как прием». Следующие статьи, более конкретные, включающие и ту самую, про конструирование Дон Кихота, были всего лишь прочитаны, эти страницы чисты. Только в самом конце, уже после оглавления, за последней чертой, снова написано: Как сделана вещь Для него важно было найти, схватить, извлечь главное, теоретическую завязь, идею. Приложения можно опустить, важны начала — principia, порождающие основания. Выражаясь словами великого философа, идея сама по себе была ему куда интересней ее феноменологии. Это очень кагановское. А о Гегеле еще придется вспомнить.* * *
К рубежу 40–х и 50–х годов Кагана знал едва ли не весь художественный Ленинград. Он читал лекции и вел семинары по эстетике, кажется, в самых значительных творческих организациях города, им восхищались, его везде любили и приглашали. Профессиональная известность — на всю страну — пришла к нему, я думаю, после монструозной конференции в Тбилиси в конце февраля 1956 года. Демократия неистовствовала: близился первый съезд Союза художников СССР, который неспешно готовили вот уже более двадцати лет, с начала тридцатых годов. На съезде, среди прочего, будет зачитан доклад о положении дел в искусствознании и критике. Такой доклад — вещь столь идеологически ответственная, что доверить его подготовку одному лицу или даже группе авторитетных лиц было невозможно. К составлению доклада следовало привлечь всю искусствоведческую общественность. Точнее, на обсуждение был предложен не текст доклада, до текста оставалось еще несколько промежуточных процедур. В начальной фазе процесса надо было обсудить и утвердить тезисы, из которых должен был распуститься доклад. Для этого и созваны были в Тбилиси искусствоведы и критики великой страны. О тезисах ничего не помню, полагаю, что это была стандартная жвачка; иного, собственно, и быть не могло. К тому же куда интересней рутинного говорения было неформальное завязывание человеческих и профессиональных знакомств, прогулки по Тбилиси, визит к уже не запрещенному, но еще не разрешенному Ладо Гудиашвили, поездки по стране, грандиозное пиршество под открытым небом у стен древнего храма Самтависи, посещение серных бань и гомерический прощальный банкет. О речах в зале можно было бы и вовсе забыть, если бы не выступление ленинградского эстетика М. Кагана, взбудоражившее аудиторию до предела, притом двояко: оно вызвало замешательство в президиуме и восторг в зале. Каган осквернил святыню. Я должен все время держать в уме, что события, о которых идет речь, происходили по меньшей мере два поколения тому назад. Голые факты без контекста, без напоминания о реалиях не дешифруются, коды забыты. Поэтому напоминаю: советское искусство было провозглашено единым и многонациональным и немедленно стало таковым. Антиномическое сочетание единичности и множественности, которое не в первый раз в истории человечества озадачивало наивное сознание, решалось посредством чеканной формулы, восходившей к последнему живому классику марксизма и вождю народов: советское искусство является социалистическим по содержанию и национальным по форме. Вот эту простую истину, ставшую неопровержимой после того, как она была раскрыта тов. Сталиным, Каган постарался ревизовать. Метод его критики тоже представлял собой двуединство, но совсем других начал — талмудического и логического. Талмудическое шло от времени, без него тогда обойтись было немыслимо, логическое было от Кагана. Сначала выступавший указал, что у тов. Сталина нигде не сказано об искусстве, социалистическом по содержанию и национальном по форме. Сказано это о культуре; искусство, конечно, составляет часть культуры, но ей не тождественно. Наука, скажем, принадлежит культуре, но нет национального по форме бинома Ньютона. И вообще, сказано было у классика в другом месте: «социалистическая по форме, т. е. по языку». И т. д. Затем, в логической части, формула, уже целиком, была превращена в руины. Исходя из других незыблемых марксистских тезисов — о единстве формы и содержания и о безусловном примате содержания — выступавший показал, что в форме не может быть ничего такого, что не было бы задано содержанием, иначе окажется, что у формы, помимо содержания, есть еще некое параллельное содержание, чего быть не может! Следовательно, диалектика национального и интернационального присуща самому содержанию и получает выражение в форме. Те, кому эти рассуждения покажутся схоластическими, смешными, не имеющими отношения к делу и проч., могут их забыть. В советской аудитории февраля 1956 года каждый нюанс такого рода был полон значения, и я мог бы рассказать почему. Но не знаю, буду ли понят. Скажу одно — реабилитация национального начала в художественном содержании влекла за собою санкцию национального сознания, нестерпимого для имперской системы. Отчасти поэтому, а отчасти от наслаждения самим актом развенчания догмы зал возликовал. Каган мгновенно стал безусловным авторитетом, художники наперебой звали его в мастерские в надежде, что он сию минуту научит их, как писать, кто‑то задавал ему философические вопросы самого разного свойства, желая получить немедленные и последние разъяснения… Мика на всю жизнь сохранил теплую привязанность к Грузии. Он дружил с грузинскими художниками и философами. Он любил посещать Грузию и летал туда при любой возможности. Он издал альбом, посвященный творчеству Ладо Гудиашвили. Он быстро овладел грузинским искусством ведения стола и стал блистательным тамадой — чужаком, любителем, превзошедшим почвенных профессионалов. Я подозреваю, что, помимо всех прочих причин, Мика любил в Грузии место своего первого триумфа, поле выигранной битвы. Пока мы на свой манер решали проблемы советского искусствознания и критики, в Москве созвали очередной съезд партии. Следить за газетами было не с руки, жизнь в Тбилиси была куда интересней. Чего стоил один визит к Ладо, живому художнику вне соцреализма, прошедшему некогда парижскую школу и оставшемуся грузином, писавшему обворожительных — полнотелых и обнаженных! — грузинских красавиц и всякие фантастические сцены, и это на пороге весны тысяча девятьсот пятьдесят шестого года! После осмотра картин гости были приглашены к столу. — Дорогой Моисей! — восклицает признанный чемпион тамадизма, скульптор Морис Талаквадзе, — ты сегодня герой и победитель, алаверды к тебе! Разрешаю тебе выступать бэз утвержденных тезисов! Мика медленно поднимается, обдумывая тост. — Что молчишь? — молниеносно реагирует Морис. — Не привык бэз утвержденных тезисов, да? Тостирование по кругу, доходит очередь до меня. — Дорогой Борис! Грузинский народ, эстонский народ далеко — но мы братья! Прожив в Эстонии к тому времени четыре с небольшим года и не будучи, что очевидно, эстонцем, я начинаю по — честному мямлить, что я, мол, не принимаю тост на свой счет, а отношу его на счет республики… — Нэт, — перебивает Морис, — ты неправ! Я за культ личности! Я не согласен с товарищем Марксом по двум вопросам — по вопросу о культе личности и по вопросу о расценках на художественные произведения… — Морис, у Маркса про расценки не написано! — Я не знаю. Мне говорят, что это марксистские расценки… Вопрос о расценках на художественные произведения остается запутанным по сей день. Вопрос о культе личности как раз в то время получил неожиданный оборот. Вернувшись в Москву, мы услыхали про тайный доклад Хрущева.* * *
Наступило время выбора. Я говорю не о свободе выбора, но только о возможности выбора. Да и с нею еще предстояло освоиться. Некоторые из будущих диссидентов разных направлений во второй половине пятидесятых были секретарями комсомольских организаций и партийными активистами. Взращивание внутренней свободы — занятие деликатное и трудоемкое, индивидуальное и не свободное от внешних условий. В середине шестидесятых годов вышло отдельными выпусками первое издание кагановских «Лекций по марксистско — ленинской эстетике», затем, в 1971–м, — второе, отдельной толстой книгой. В списке рекомендованного чтения по курсу эстетики я долго ставил эту книгу на обязательное первое место — отнюдь не потому, что был дружен с автором. «Лекции» радикально отличались от прочей учебной литературы по эстетике, доступной отечественному студенту — гуманитарию. Издания, претендовавшие на роль учебников эстетики, стали появляться уже в начале шестидесятых годов. Самой фундаментальной и самой официальной была толстая книга, коллективный труд, с классическим для тех времен названием «Основы марксистско — ленинской эстетики» (правильно, везде преподавались «Основы марксизма — ленинизма», главное — заложить добротный фундамент). Официальный статус основополагающего учебника обязывал к отсутствию какой бы то ни было проблемности. Авторы его были озабочены более всего тем, как бы не сказать что‑либо определенное: доктринальные банальности, механическое суммирование тем, ничего не говорящие перечисления… Если принять во внимание внушительный объем учебника, легко заключить, что авторы справились с основной задачей успешно. Заставлять студентов читать этот том было стыдно. Да я и не заставлял. Когда вышел в свет немецкий перевод кагановских «Лекций», западногерманская — тогда еще западногерманская — печать отозвалась на них словами о марксистской эстетике с человеческим лицом. Верно. При этом ударение следует сделать на каждом из двух последних слов. Прежде всего — у книги было лицо. Все, что автор имел сказать — а имел он сказать многое, курс был выношен, формировался и трансформировался в течение долгих лет — все это было внятно артикулировано, логически упорядочено и систематически изложено. Это была система эстетики, как ее понимал и выстраивал этот автор, Моисей Каган. И лицо было действительно человеческое. Не каменное лицо, не знающее иного выражения, кроме стиснутых челюстей, могучих желваков и грозно сощуренных глаз, а человеческое, светящееся мыслью. Но вот была ли эта мысль вполне марксистско — ленинской? Право же, как говорят в стране, где я сейчас живу, — a good question, хороший вопрос. С марксизмом все непросто. Известно, сколько марксистских церквей и деноминаций расплодилось уже к рубежу шестидесятых и семидесятых годов. Вынесенная в заголовок связка «марксистско — ленинская» указывала на определенный вариант учения. Однако тут была некая хитрость. Учебник «не — марксистско — ленинской» эстетики в это время и в этом месте не мог быть издан. Но то, что было под обложкой, Ленин вряд ли одобрил бы — он на этот счет был строг. Подозреваю, что ему не пришлась бы по душе философская теория ценностей, введенная в советский теоретический обиход в начале шестидесятых годов. Вряд ли он принял бы на марксистское вооружение и общую теорию систем, которая в те же шестидесятые стала новым и увлекательным методом философствования. Между тем, оба подхода составили реальную основу кагановских «Лекций». Понятие ценности позволило ему выйти за пределы предшествующих споров о природе эстетического и выстроить логически стройный порядок главных эстетических категорий. Еще интересней оказалось обращение к системному мышлению. Он признал одновременную правоту различных пониманий искусства, которые десятилетиями, если не столетиями, разделяли главные школы эстетической мысли. Но объединение нескольких наиболее распространенных определений искусства не стало эмпирическим — или эклектическим? — рядоположением, но системой взаимосвязанных и взаимозависимых элементов. Система оказалась чрезвычайно перспективной, не случайно ее графическое изображение, «кагановская пятичленка», было помещено на обложках двух его итоговых книг — юбилейного сборника статей 1991 года и обобщающей работы, изданной спустя три года в Германии[56]. В этом месте повествователя подстерегает искушение углубиться в суть дела и пересказать то, что в идеях Кагана представляется ему главным. Но я все‑таки не поддамся. Книги его всем доступны, и лучше уж обратиться к оригинальному изложению, нежели довольствоваться бедным пересказом. И вообще здесь не место для научно — популярных переложений, мне хочется говорить о личности. В те годы, когда выстроенная (он бы сказал — «открытая» или «вскрытая») им структура показала свою порождающую способность, у него, я думаю, возникало чувство творческой окрыленности. В каждом направлении можно было прокладывать свою тропу. Система элементов и исполняемых ими функций, которая составляла феномен искусства, позволяла строить систему видов искусства так, что взамен традиционных перечислений возникали стройные функциональные спектры, — и в 1972 году появилась фундаментальная «Морфология искусства»[57]. Выделенная в отдельный блок коммуникативная сторона художественной деятельности заставила задуматься о различиях между коммуникацией и общением — и, по — кагановски упорно вгрызаясь в тему, он пишет книгу о межчеловеческом общении. Наконец, вся пятиместная схема наводит на мысль о структуре человеческой деятельности. Оказывается, что ее исходный четырехместный каркас удачно изображает главные и системно взаимосвязанные аспекты человеческой активности — и вот уже созревает соответствующая книга нешуточного размаха: «Человеческая деятельность». Тезис, найденный и зафиксированный в одном сочинении, оказывается опорой для развернутого исследования в следующем, архитектоника системы проявляется и усложняется одновременно, чертеж свода, нарисованный однажды мимоходом, в следующем цикле становится сводом, ярус возводится над ярусом, с каждым шагом расширяется поле философского зрения. …Как‑то мы вместе были в Москве — то ли конференция, то ли симпозиум, много их было, никак не припомню, что за ученое событие привлекло нас в тот раз. Мы вышли после окончания заседания с мыслью где‑нибудь перекусить. С нами выходят два московских профессора, известные в те времена специалисты по культуре. Они беседуют более между собой, мы пассивно участвуем в разговоре, и тут Мика вдруг им говорит: — А знаете, друзья, я ведь выхожу на культуру. В этом «выхожу на культуру» чуткое ухо могло услышать нечто помимо прямого значения — то, что за текстом. Я думаю, что он в ту минуту спонтанно выражал переживание интеллектуального полета, видение ландшафтов подлежащей новому, персональному освоению ойкумены, ощущение играющей интеллектуальной силы, способной это сделать. «Выхожу на культуру» — подобно тому как боевой летчик говорит в микрофон: «выхожу на цель». Столичные культурологи, в полном сознании своих прав на домен, не обратили внимания на слова ленинградского эстетика. И зря. То, что он напишет, будет куда интересней их собственных сочинений. Я знаю, о ком говорю. В 1996 году увидит свет фундаментальная «Философия культуры», а затем — двухтомное «Введение в историю мировой культуры», которое, на мой взгляд, занимает особое место среди его поздних работ.* * *
Так вот, о выборе на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов. Лешек Колаковский в своем монументальном трехтомнике «Основные течения в марксизме» уделил марксизму постсталинского периода в Восточной Европе ничтожную долю труда, едва превосходящую по объему параграфы о сотериологии Плотина и христианском неоплатонизме как дальних истоках марксова учения. Более пристальное историческое разглядывание сюжета не сможет миновать эволюцию кагановского философствования — это одно из течений, характеризующих эпоху постсталинизма на родине сталинизма. Не знаю, составлена ли диаграмма метаморфоз интеллигентского сознания в период от XX съезда и до путинских времен (название условное, трудно определить это состояние отвердения и сверхтекучести одновременно). Вероятно, составлена, за всем не уследишь. Если составлена, то там, в пестром плетении линий, можно найти на редкость причудливые кривые. На их фоне график изменений кагановской философской позиции выглядит относительно простым и последовательным. Будучи мишенью монопольных носителей марксизма, он сам, тем не менее, долгое время считал себя марксистом и вправду старался им быть. Я мог бы, модной красоты ради, промолчать об этом. Но иконопись мне плохо дается, куда интересней реальная личность. Да и вообще — нужды нет. Я знаю многих, кто не прощал ему его позднего марксизма, я и сам не раз отчаянно спорил с ним. Теперь спор больше не актуален, пришла пора понимать и, если удастся, объяснять. Вообще‑то, я понимал, в чем дело, и раньше, но злоба дня возбуждает и понуждает к прозелитизму. Хотелось обратить его в свою веру. Или в свое неверие. В чем я не преуспел нисколько. Итак, о понимании. Две вещи, мне кажется, определяли линию его интеллектуального поведения в те долгие годы — от послесталинской оттепели и до постперестроечной свободы. Первая принадлежала к основополагающим чертам личности. Мика хотел быть цельным. Ему претило хамелеонство, даже вынужденное, даже в ослабленном виде. Он внутренне нуждался в принципиальной преемственности позавчерашнего, вчерашнего и сегодняшнего Кагана. Его эволюция должна была быть плавной и не угрожать постоянству однажды принятых начал. Более того, он — я полагаю, не без напряжения, с нелегкими усилиями — стремился избежать циничного фарисейского двуязычия. Не хотел говорить с кафедры одно, а на кухне другое, противоположное. Он, если угодно, тоже хотел жить не по лжи, но только не на солженицынский, а на свой, утопический манер. Для этого надо было не просто строить утопии, но быть утопистом — по натуре, от рождения. Историческая реальность предлагала скудную пищу для поддержания его надежд. Как сверхчувствительный сейсмический прибор, он улавливал едва заметные колебания политической и идеологической почвы и искренне радовался, когда ему казалось, что это сдвиги в сторону свободы, туда, где, по слову классика, свобода каждого будет служить залогом свободы всех. Вот пришел новый человек, вот на высоком совещании было сказано, вот где‑то появилась статья, где есть такой абзац… Ничего не значащие вибрации огромной, угрожающе инертной, вялой и вязкой системы он каждый раз готов был принять за сигналы обновления — наивность мудреца, чья мудрость спорила с ходом жизни. Он был не первый: вспомните для начала греческих отцов философии. В начале восьмидесятых годов, когда — видимо, в качестве упреждающего синдрома — смертность секретарей ЦК достигла неслыханной отметки, у Мики возникла идея коллективного труда, который был бы кратким очерком истории мировой художественной культуры. Понятно, что тень И. И. Иоффе и его «Синтетической истории искусства» незримо поощряла эту идею. Структуру труда, он, естественно, выстроил сам, и выглядела она вот так: в синхронном сечении были выделены духовно — содержательное, институциональное и морфологическое измерения художественной культуры. В историко — типологическом членении была сохранена классическая схема — докапиталистические формации, капиталистическое общество, социалистическое общество. Меня Мика привлек к делу и, помимо одного из разделов вступления, моим было институциональное измерение — тема, близкая моим тогдашним занятиям. Пока шла работа над докапиталистическим и капиталистическим томами, все шло достаточно гладко — если не считать, разумеется, издательских и цензурных придирок[58]. Но близилось время социалистического тома, и тут между нами произошел серьезный разговор. Я почему‑то помню ненужные детали: мы беседовали перипатетически, гуляя по городу Ленинграду, и в решающем месте разговора остановились у поломанной водосточной трубы. К теме беседы этот урбанистический фон отношения не имел, прошу не искать здесь скрытую символику. Я отказывался писать параграф об институциональном аспекте социалистической художественной культуры. Эта фаза истории художественной культуры не нравилась мне во всех ее аспектах, и институциональный, с которым я был неплохо знаком, не составлял исключения. Я сказал, что правду, такой, какой я ее знаю — и он ее знает! — написать невозможно, а неправду я писать не буду. Тогда Мика привел главный аргумент: — А ты не пиши о том, что есть, напиши о том, что должно быть! — Это мы с тобой будем знать, что я изображаю желанную модель, а все прочие увидят, что Бернштейн — лгун и бесстыжий прислужник советской власти… Я видел, что он огорчен моим отказом, а огорчать его мне никак не хотелось. Но написал этот раздел другой автор. Тем временем реальный социализм стремительно переставал быть реальностью. Кажется, третья часть нашего — уже не нашего, а их — труда света не увидела. Зато мне дано было увидеть, что кагановское мировидение и кагановское истолкование истории вовсе не сводится к марксистской доктрине, основания лежат глубже. Марксизм был скорее средством, одной из возможных интерпретаций. Но что же должно быть?***
О системном подходе он заговорил в шестидесятые годы. На деле речь шла о различных направлениях мысли, так или иначе связанных с исходным греческим корнем. Одно из направлений, может быть — начальное, основополагающее для хода его размышлений, было направление, обозначаемое словом систематика. В начале его системных построений была систематика, первичное упорядочивание всего, что попадало в поле его дискурса. Перелистайте его книги, не читая, обратите внимание на вид страниц — и вы увидите множество схем, таблиц, спектральных рядов, посредством которых изображены порядки видов искусств, форм деятельности, культурных феноменов, абстрактных категорий. Это нечто большее, нежели дань «начертательной эстетике», как назвал некогда наше общее увлечение Леонид Столович. Та дань была временной, а здесь, у Кагана, это необходимая и потому отвердевшая форма проявления метода. «…Методология системного исследования, — писал он однажды, — предполагает решение двух взаимосвязанных задач: вопервых, изучения системных объектов как формы существования и движения реального мира, как проявления его упорядоченности; во — вторых, конструирования системы категорий, отражающей системные связи изучаемых объектов и делающей упорядоченным само познание»[59]. В те годы его не покидала уверенность в том, что мир, человек, культура организованы в сложные порядки, надо только их открыть. Как‑то, прилетев в Минск, я столкнулся на аэродроме с одним из ближайших и старейших друзей Мики, известным филологом Георгием Степановым, будущим академиком; он улетал домой с какой‑то конференции, я прилетел на другую. Мы успели перекинуться несколькими словами о последней книге Мики, я к тому времени ее уже получил и прочел… — Ну, как структурирует! — на ходу вскричал Степанов. Действительно, структурировал как бог. Систематизирующая сила его ума была такова, что если бы он застал мир в состоянии добытийного хаоса, он бы справился с божественной задачей наведения порядка — хотя бы идеально. Но систематика как упорядочение художественного и культурного миров, необходимая и интересная сама по себе, — это всего лишь таксономический уровень, своды цокольного этажа. Над нею надстраивается собственно системный подход — как описание и исследование сложных целостностей. Там порядки становятся структурами, там выявляются связи и взаимодействия между элементами, там целое становится чем‑то иным и большим, нежели сумма составляющих его частей. Но и эта стадия суммарного дискурса — не последняя. Здание венчает сверхсистема, система систем, охватывающий универсальный замысел или всеобщий принцип. Для наглядности я украду прием:

 Работы последний лет прояснили, по крайней мере для меня, природу этого принципа и его зависимость от философской личности Мики. «Философская личность» — можно так выразиться? Я имею в виду то устойчивое ядро философствования, которое сохраняется при всех метаморфозах интеллектуальной эволюции и связано с глубинными константами личности самыми крепкими и интимными узами.
Катастрофа реального социализма и завершенный ею кризис марксизма сделали этот принцип хорошо различимым.
Когда‑то, наверное в самом конце пятидесятых годов, наша коллега и общая знакомая сказала мне о Мике с некоторым разочарованием — да оказывается, он марксист!
— А ты что думала? — спросил у нее я, в те времена тоже марксист.
— Я думала, что он Маркс!
Вот тут, после бала, когда марксизм Кагана обесцветился под влиянием обстоятельств и в результате собственного внутреннего развития, оказалось, что он — нет, не Маркс, нет. Но и не марксист. Оказалось, что он — Каган.
В основе всего был персональный исторический оптимизм и историческое нетерпение. В конце концов, все или почти все, о чем он писал и говорил, было так или иначе вписано в историю.
Хотя структуры, которые он выстраивал и изучал, иногда казались вневременными, это были либо иллюзии, либо издержки изложения. Под ними, как движущее, порождающее, проявляющее и изменяющее начало, струилась история. История должна была иметь смысл и цель, и эта цель должна быть различима, дана мудрому зрению. Речь шла не о прогностических интуициях, но об объективной и интеллектуально постижимой логике исторического процесса.
Еще в годы моего студенчества он говорил мне, что для него идеалом письма с самого начала был Гегель — его логика, его неумолимое, последовательное, шаг за шагом, возведение всеохватывающей философской конструкции, исходящей из заложенных в основание начал. Но, кажется, следует подумать не только и не столько об идеале философского дискурса, сколько о его сокровенной содержательной сути. Конечно, нашему поколению, вскормленному марксизмом, Марксов финализм представлялся верным, а гегелевский — ошибочным. Но в конечном счете, оказывается, дело было не в Марксе. Дело было в понимании и переживании истории как направленного движения к высшему состоянию гармонии, человечности, всеобщего блага. Такова, вопреки всем отклонениям и возвратам, конечная цель исторического восхождения человечества. Поэтому ветшающего Маркса с его историософской схемой мог сменить естественник Илья Пригожин, формулировавший в своей синергетике всеобщий закон развития систем. Там, у Пригожина, присутствует аттрактор — некий сокрытый, упрятанный в самом процессе притягивающий полюс, который позволяет системе, находящейся в хаотическом состоянии, стихийно выбрать оптимальный путь самоорганизации. Если закон всеобщий, то он распространяется на социальные и культурные системы. Принцип аттрактора, куда более тонкий, нежели принцип конечной причины, causa final is, позволял по — новому истолковать и обосновать век- торность истории культуры.
Повторю, я не собираюсь пересказывать, да еще в упрощенном виде, идеи Кагана — читайте его книги, там все написано. Я не об идеях, я о человеке, который не мог примириться с нелогичностью истории и абсурдностью человеческого существования. Не мог, не дано было. Я никак не решаюсь привязывать это его мирочувствование ни к наследственному иудейскому мессианизму, ни к еще более чуждой ему христианской эсхатологии. Ему не требовалось признавать наличие надмирного разума. Истоки были вполне секулярно — философскими.
Ему хотелось научной строгости, и любые исторические наблюдения он стремился оформить в виде законов: закон неравномерности развития видов искусства…
Разумное целеполагание для него, я думаю, было изначально присуще самой субстанции мироздания и в ее высшем состоянии — культуре — артикулировано наиболее внятно. Примечательно в этом смысле, что Каган — эстетик, которого в свое время преследовали натасканные на запах левизны академические гончие, на самом деле не любил авангард, говорил и писал об авангардном искусстве с осуждением и известным раздражением. Не думаю, что это происходило от художественной нечувствительности. Его неприятие было не столько эстетическим, сколько логическим — тут была допущена историческая неправильность, процесс восхождения давал сбой, сокровенная часть культуры уходила в сторону: то ли в тупиковую улицу, то ли в дурную бесконечность кругового движения.
Его гуманизм и исторический оптимизм сливались в единое целое ожидания или, лучше, предчувствия эпохи социальной гармонии, окончательной победы истины, добра и красоты. Его историческое нетерпение вынуждало искать признаки приближения этой эпохи здесь и сейчас, в ходе событий и в движении теоретической мысли. Поэтому его так обрадовала идея Фукуямы относительно конца истории. Сам Фукуяма, правда, от нее позднее отрекся, но Каган продолжал ждать. Нет — нет, я не пересказываю, но одну цитату приведу. Она — из заключительной главы «Введения в историю мировой культуры»:
«Вот почему в теоретическом осмыслении сложившейся в наше время уникальной ситуации и состоит главная задача современной философии […] Как бы ни были поэтому привлекательны различные маргинальные размышления нынешних философов, деконструкции текстов, рассуждения о теле, о смерти, о „симулякрах“ и „складках“, они не могут заменить доступный лишь философской рефлексии анализ начавшейся на рубеже веков и тысячелетий грандиозной культурной революции — процесса, который можно сравнить лишь с рождением человечества. Овладение системно — синэргетическим мышлением дает реальную возможность осмыслить происходящее как движение от хаоса, господствовавшего в мире в XX веке, в направлении, отвечающем зову аттрактора из третьего тысячелетия»[60].
Интонация повествователя наверняка выдает его несогласия с героем повествования. Но я хочу быть понятым правильно. Я много спорил с ним, когда мне казалось, что он неправ. Я спорил не потому, что мне так дорога была моя правота. Кстати сказать, в своей правоте я сомневаюсь чаще, чем следовало бы. Нет, мне нужна была его правота. Просто я хотел, по праву долгой и близкой дружбы и нередкого единомыслия, чтобы Мика был всегда прав. Поэтому я огорчался, когда оказывался с ним не согласен.
Вероятно, Мике повезло, он был счастливее меня в своих надеждах и ожиданиях. Каждому дается по вере его. Я не вижу аттрактора третьего тысячелетия и не слышу его зова. Но какой аттрактор был в нем самом, в Мике!
Работы последний лет прояснили, по крайней мере для меня, природу этого принципа и его зависимость от философской личности Мики. «Философская личность» — можно так выразиться? Я имею в виду то устойчивое ядро философствования, которое сохраняется при всех метаморфозах интеллектуальной эволюции и связано с глубинными константами личности самыми крепкими и интимными узами.
Катастрофа реального социализма и завершенный ею кризис марксизма сделали этот принцип хорошо различимым.
Когда‑то, наверное в самом конце пятидесятых годов, наша коллега и общая знакомая сказала мне о Мике с некоторым разочарованием — да оказывается, он марксист!
— А ты что думала? — спросил у нее я, в те времена тоже марксист.
— Я думала, что он Маркс!
Вот тут, после бала, когда марксизм Кагана обесцветился под влиянием обстоятельств и в результате собственного внутреннего развития, оказалось, что он — нет, не Маркс, нет. Но и не марксист. Оказалось, что он — Каган.
В основе всего был персональный исторический оптимизм и историческое нетерпение. В конце концов, все или почти все, о чем он писал и говорил, было так или иначе вписано в историю.
Хотя структуры, которые он выстраивал и изучал, иногда казались вневременными, это были либо иллюзии, либо издержки изложения. Под ними, как движущее, порождающее, проявляющее и изменяющее начало, струилась история. История должна была иметь смысл и цель, и эта цель должна быть различима, дана мудрому зрению. Речь шла не о прогностических интуициях, но об объективной и интеллектуально постижимой логике исторического процесса.
Еще в годы моего студенчества он говорил мне, что для него идеалом письма с самого начала был Гегель — его логика, его неумолимое, последовательное, шаг за шагом, возведение всеохватывающей философской конструкции, исходящей из заложенных в основание начал. Но, кажется, следует подумать не только и не столько об идеале философского дискурса, сколько о его сокровенной содержательной сути. Конечно, нашему поколению, вскормленному марксизмом, Марксов финализм представлялся верным, а гегелевский — ошибочным. Но в конечном счете, оказывается, дело было не в Марксе. Дело было в понимании и переживании истории как направленного движения к высшему состоянию гармонии, человечности, всеобщего блага. Такова, вопреки всем отклонениям и возвратам, конечная цель исторического восхождения человечества. Поэтому ветшающего Маркса с его историософской схемой мог сменить естественник Илья Пригожин, формулировавший в своей синергетике всеобщий закон развития систем. Там, у Пригожина, присутствует аттрактор — некий сокрытый, упрятанный в самом процессе притягивающий полюс, который позволяет системе, находящейся в хаотическом состоянии, стихийно выбрать оптимальный путь самоорганизации. Если закон всеобщий, то он распространяется на социальные и культурные системы. Принцип аттрактора, куда более тонкий, нежели принцип конечной причины, causa final is, позволял по — новому истолковать и обосновать век- торность истории культуры.
Повторю, я не собираюсь пересказывать, да еще в упрощенном виде, идеи Кагана — читайте его книги, там все написано. Я не об идеях, я о человеке, который не мог примириться с нелогичностью истории и абсурдностью человеческого существования. Не мог, не дано было. Я никак не решаюсь привязывать это его мирочувствование ни к наследственному иудейскому мессианизму, ни к еще более чуждой ему христианской эсхатологии. Ему не требовалось признавать наличие надмирного разума. Истоки были вполне секулярно — философскими.
Ему хотелось научной строгости, и любые исторические наблюдения он стремился оформить в виде законов: закон неравномерности развития видов искусства…
Разумное целеполагание для него, я думаю, было изначально присуще самой субстанции мироздания и в ее высшем состоянии — культуре — артикулировано наиболее внятно. Примечательно в этом смысле, что Каган — эстетик, которого в свое время преследовали натасканные на запах левизны академические гончие, на самом деле не любил авангард, говорил и писал об авангардном искусстве с осуждением и известным раздражением. Не думаю, что это происходило от художественной нечувствительности. Его неприятие было не столько эстетическим, сколько логическим — тут была допущена историческая неправильность, процесс восхождения давал сбой, сокровенная часть культуры уходила в сторону: то ли в тупиковую улицу, то ли в дурную бесконечность кругового движения.
Его гуманизм и исторический оптимизм сливались в единое целое ожидания или, лучше, предчувствия эпохи социальной гармонии, окончательной победы истины, добра и красоты. Его историческое нетерпение вынуждало искать признаки приближения этой эпохи здесь и сейчас, в ходе событий и в движении теоретической мысли. Поэтому его так обрадовала идея Фукуямы относительно конца истории. Сам Фукуяма, правда, от нее позднее отрекся, но Каган продолжал ждать. Нет — нет, я не пересказываю, но одну цитату приведу. Она — из заключительной главы «Введения в историю мировой культуры»:
«Вот почему в теоретическом осмыслении сложившейся в наше время уникальной ситуации и состоит главная задача современной философии […] Как бы ни были поэтому привлекательны различные маргинальные размышления нынешних философов, деконструкции текстов, рассуждения о теле, о смерти, о „симулякрах“ и „складках“, они не могут заменить доступный лишь философской рефлексии анализ начавшейся на рубеже веков и тысячелетий грандиозной культурной революции — процесса, который можно сравнить лишь с рождением человечества. Овладение системно — синэргетическим мышлением дает реальную возможность осмыслить происходящее как движение от хаоса, господствовавшего в мире в XX веке, в направлении, отвечающем зову аттрактора из третьего тысячелетия»[60].
Интонация повествователя наверняка выдает его несогласия с героем повествования. Но я хочу быть понятым правильно. Я много спорил с ним, когда мне казалось, что он неправ. Я спорил не потому, что мне так дорога была моя правота. Кстати сказать, в своей правоте я сомневаюсь чаще, чем следовало бы. Нет, мне нужна была его правота. Просто я хотел, по праву долгой и близкой дружбы и нередкого единомыслия, чтобы Мика был всегда прав. Поэтому я огорчался, когда оказывался с ним не согласен.
Вероятно, Мике повезло, он был счастливее меня в своих надеждах и ожиданиях. Каждому дается по вере его. Я не вижу аттрактора третьего тысячелетия и не слышу его зова. Но какой аттрактор был в нем самом, в Мике!
Последние комментарии
1 час 24 минут назад
1 час 27 минут назад
1 час 38 минут назад
1 час 44 минут назад
1 час 46 минут назад
1 час 49 минут назад