СТАРИНЫ И СКАЗКИ В ЗАПИСЯХ О. Э. ОЗАРОВСКОЙ
От научного редактора
Перед Вами — переиздание двух ставших классическими собраний фольклорных текстов, записанных О. Э. Озаровской на Русском Севере, в основном на Печоре, Пинеге и Мезени. Издание «Бабушкины старины», представляющее собой записи с голоса известной сказительницы М. Д. Кривополеновой, вышло в 1916 году в Петрограде, а сборник сказок «Пятиречие» — собранное и структурированное под «Русский Декамерон» — в 1931 году. Диалектная запись О. Э. Озаровской оставлена без изменений; тексты 1916 года приведены в новой орфографии; замечания помещены в сноски. Былина «Вавило и скоморохи», приведенная в обоих сборниках, во второй раз не напечатана.Т. Г. Иванова Три дороги Ольги Эрастовны Озаровской
Математик (помощница Д. И. Менделеева), артистка одного из модных петербургских театров-кабаре и педагог сценического мастерства (руководитель Студии живого слова), фольклористка, собиратель устной народной поэзии (издатель знаменитых «Бабушкиных старин») — таковы три разные грани научно-культурной деятельности незаурядной русской женщины О. Э. Озаровской. Ольга Эрастовна Озаровская родилась в дворянской семье 13 (25) июня 1874 г. Мужчины рода Озаровских из поколения в поколение выбирали военную карьеру. В справочнике «Весь Петербург» на 1900 год называется штабс-капитан Александр Эрастович Озаровский, офицер Константиновского артиллерийского училища. Это один из братьев Ольги Эрастовны. Кстати, именно у него она жила в начале своего петербургского периода — в доме 17 на Забалканском (ныне: Московском) проспекте. Военным был и отец Ольги Эрастовны. «Отец, по положению офицер, по способностям математик, а по призванию — сказочник», — писала она в очерке, предпосланном первому изданию «Бабушкиных старин» [Озаровская 1916: 11]. Семья, в которой ценились образование и духовные запросы, и определила те пути, которыми прошла О. Э. Озаровская по жизни. В конце 1880-х — начале 1890-х гг. Озаровские проживали в Тифлисе, где, вероятно, в то время служил глава семейства. Именно в Тифлисе Ольга Эрастовна от своего брата, гимназиста Юрия, увлеченного химией, впервые услышала имя Д. И. Менделеева — брат дал ей почитать «Основы химии». Эта книга сыграла огромную роль в ее жизни. В первой половине 1890-х гг. О. Э. Озаровская, чтобы получить высшее образование, встать на равную ногу с представителями мужской половины человечества, приехала из Тифлиса в Петербург. Она стала слушательницей Высших женских курсов — так называемых Бестужевских (по фамилии их руководителя — профессора русской истории К. Н. Бестужева-Рюмина), созданных в 1878 г. На долгие годы здание курсов, располагавшихся на 10-й линии Васильевского острова (д. 33–35), стало для нее самым важным местом в столице. Училась О. Э. Озаровская на физико-математическом факультете. Кстати, в начале существования ВЖК Д. И. Менделеев был одним из профессоров курсов. Одной из дружественных Озаровским семей в Петербурге была семья ученика Д. И. Менделеева, изобретателя русского бездымного пороха И. М. Чельцова, в его доме О. Э. Озаровская увидела Д. И. Менделеева. Так началась ее дружба с Анной Ивановной Менделеевой, второй женой ученого, которая, будучи художницей, предложила О. Э. Озаровской позировать ей для одной из картин. Так будущая фольклористка стала бывать в доме Менделеевых — на Васильевском острове на Кадетской линии (д. 9). Рассеянный ученый не раз встречал ее у своей жены, но, кажется, долгое время не мог запомнить имя молоденькой курсистки. Различать же ее в ряду других гостей своей супруги Д. И. Менделеев начал при следующих обстоятельствах: «Вечером я была у Анны Ивановны и села на своего любимого конька: стала импровизировать. Была у нас с Анной Ивановной мифическая “баронесса Гильзен-Пильзен”, от лица которой я судила обо всем на свете; Анна Ивановна чудесно подавала реплики: так что каждый раз у нас выходило по-новому, и мы часами увлекались таким “театром для себя”. В тот вечер я особенно была в ударе, Анна Ивановна не выдержала и позвала Дмитрия Ивановича. Я была уже не курсистка, а “баронесса”. Как на крыльях подлетела к нему и в одну минуту наговорила столько разных банальностей о его гении, высказала такую беспросветную глупость в суждениях о его работах, что Дмитрий Иванович замахал рукой, захрапел по-особенному (так он смеялся) и убежал в кабинет, откуда вернулся с книгой в руках: — Вот вам за это. Отлично! Есть ведь такие! Беда! Ух, какая! Книга эта была его “Основы промышленности”. С тех пор Дмитрий Иванович меня узнавал и ласково приветствовал», — такую живую картинку рисует О. Э. Озаровская в своих воспоминаниях о Д. И. Менделееве [Воспоминания 1929: 17]. Очень скоро юная курсистка стала своим человеком в семье ученого. Летом она гостила в д. Боблово Клинского уезда, где располагалась усадьба великого химика. Здесь она познакомилась с мальчиком-подростком Сашей Блоком, приезжавшим к представителям молодого поколения Менделеевых — Ване, Любе, Мусе, Васе (детям Д. И. Менделеева от брака с Анной Ивановной). В 1897 г. О. Э. Озаровская окончила Высшие женские курсы. Она мечтала приложить свои знания на ниве образования в одной из школ для рабочих. Еще будучи курсисткой, она организовала занятия с рабочими Обуховского завода. Но школу ей власти не доверили. Не исключаем, что сказались определенные сомнения в политической благонадежности девушки. Судьба распорядилась иначе, подарив О. Э. Озаровской несколько лет работы вместе с Д. И. Менделеевым. Он пригласил выпускницу физико-математического факультета на работу в Главную палату мер и весов, которую он возглавлял с 1893 г. О. Э. Озаровская стала первой женщиной, допущенной на службу в научное учреждение. Палата занималась проблемой обеспечения единства измерений. «Официально служба начиналась в 11 часов. Приходя к 10, я уже находила Дмитрия Ивановича, брала у него работу и уходила в 6 часов, а Дмитрий Иванович оставался еще в кабинете. Он писал тогда замечательный труд “Опытное исследование колебания весов”», — вспоминала спустя много лет О. Э. Озаровская [Воспоминания 1929: 33]. Д. И. Менделеев поручил ей математическую обработку огромного числа наблюдений, которые он вел лично сам. О. Э. Озаровская освоила сложный метод П. Л. Чебышева по исчислению формулы для больших множеств, чем сразу же завоевала авторитет в глазах руководителя Главной палаты мер и весов. Постепенно ученый допустил свою молодую сотрудницу непосредственно к проведению опытов — а именно, к наблюдениям над колебаниями весов. «Во время наблюдений над колебаниями весов, — писала О. Э. Озаровская, — мне поручено было следить за хронографом, на котором перо писало секунды и отмечало сигналы, подаваемые из центральной весовой комнаты» [Воспоминания 1929: 43]. Главная палата мер и весов, располагавшаяся на Забалканском проспекте (д.19),[1] и дом Менделеевых (в то время Менделеевы жили здесь же) на целое десятилетие стал важным местом в жизни О. Э. Озаровской. Великий химик очень скоро оценил деловые способности бывшей курсистки. Она вела переписку ученого с иностранными корреспондентами, восхищая его своим французским стилем. Когда ученому сделали операцию на глазах и он некоторое время не мог читать, О. Э. Озаровская развлекала его чтением — романами Александра Дюма. Как-то летом она опять побывала в Боблово. Молодежь в Боблово развлекалась любительскими театральными постановками, в которых участвовала и О. Э. Озаровская. Рождение одного из спектаклей, авторами которого стали Иван и Любовь Менделеевы, их младшие брат и сестра близнецы Вася и Муся и Александр Блок, О. Э. Озаровская описывает следующим образом: «Дело происходит на планете “Венера”, есть колдунья, есть загадочная героиня, есть два влюбленных, но дело остановилось — дальше фабула ни с места. Я подала мысль разгадать героиню: она не может никого любить, потому что тоскует по той звезде, которую называют “Землею”. Колдунья исполняет ее мечту и отправляет ее на “Землю”. Стали писать коллективно: Александр Блок создавал лирические стихи всерьез (“Тоска по Земле”), Ваня и я гнули сатиру; Вася и Муся не отставали в юморе. Любовь Дмитриевна восхищенно приветствовала выдумку каждого» [Воспоминания 1929: 155]. В 1907 г. скончался Д. И. Менделеев. Главная палата мер и весов осталась без своего авторитетного руководителя. Тогда-то, с уходом великого учителя, по-видимому, потеряла интерес к работе и О. Э. Озаровская. Первая страница в ее жизни была закрыта, начался следующий этап — артистический. Необходимо сказать, что театральная атмосфера давно привлекала О. Э. Озаровскую. Это следует и из того образа «баронессы Гильзен-Пильзен», который она разыгрывала в «театре для себя», и из ее участия в театральных забавах бобловской молодежи. Петербургский театральный и литературно-художественный мир был хорошо знаком О. Э. Озаровской. Дело в том, что упомянутый выше ее брат Юрий (Георгий) Эрастович Озаровский (1869–1924) был известным актером и режиссером. С 1892 по 1915 г. он служил в Александринском театре. Любитель старины, Ю. Э. Озаровский собрал маленький музей — упомянутый выше «Старый домик». Музей помещался в небольшом домике, принадлежавшем церкви св. Пантелеймона, в нескольких комнатах здесь были представлены гравированные портреты, книги, предметы быта, мебели Петровской, Елизаветинской, Екатерининской и Александровской эпох (см. каталог музея [Старый домик 1911]). Переехав в Москву, в 1915–1916 гг. Ю. Э. Озаровский работал в театре Суходольских (впоследствии Московский драматический театр). Во время Гражданской войны в Одессе, куда бежала от большевиков русская творческая интеллигенция, в феврале-марте 1919 г. Ю. Э. Озаровский организовал «Весенний театр», где А. Н. Толстой заведовал литературной частью. По окончании российской смуты брат О. Э. Озаровской оказался во Франции. Его имя неоднократно встречается в хронике научной, культурной и общественной жизни русского зарубежья. Так, 1 февраля 1921 г. он открыл в Париже Русскую драматическую школу [Русское зарубежье 1995]. Ю. Э. Озаровский, как следует из сказанного, совмещал в себе артистическое и режиссерское дарования с педагогическими способностями. Он был автором нескольких книг, посвященных технике актерского мастерства: «Вопросы выразительного чтения» (СПб., 1896), «Музыка живого слова» (СПб., 1914). Таким образом, поворот О. Э. Озаровской от математики к театру, сколь бы неожиданным он не казался, помимо явных актерских задатков, которые были у этой незаурядной женщины, диктовался еще той театральной средой, что была ей хорошо знакома по окружению брата. Пример брата стал определяющим и в успешном сочетании ею актерского и педагогического мастерства. Итак, о второй дороге, которую предложила О. Э. Озаровской жизнь. В 1908 г. известный критик А. Р. Кугель и артистка 3. В. Холмская при Петербургском театральном клубе открыли ночной театр-кабаре «Кривое зеркало» («кабаре» — исполнение эстрадной программы в обстановке ресторана). Пародия, эксцентрика, буффонада, сатира составляли суть нового петербургского театра. Театр малых форм включал в свой репертуар инсценировки, пантомимы, эстрадные номера, смело пародировал оперетты, мелодрамы, классический балет и даже чеховские пьесы в постановках Московского Художественного театра. Пародия на популярную в то время пьесу Леонида Андреева «Дни нашей жизни», миниатюра Н. А. Тэффи «Любовь в веках», «Вампука, невеста африканская, образцовая во всех отношениях опера» В. Г. Эренберга — таковым было «лицо» «Кривого зеркала». Театр позволял себе предметом пародий делать творения М. И. Глинки и А. П. Бородина, карикатурно представляя оперные сказочные и эпические полотна «Руслан и Людмила» и «Князь Игорь». Осмеяние всяческих ремесленных штампов и затертых театральных клише — вот что было основой его художественного мира. Надо полагать, что О. Э. Озаровской, некогда перевоплощавшейся в образ «баронессы Гильзен-Пильзен», вся эта подчеркнуто игровая стихия была близка и привлекательна. В 1908 г. она рискнула появиться на сцене «Кривого зеркала», примерив для себя статус профессиональной артистки. Ее имя стало время от времени мелькать на страницах петербургской прессы. В 1910 г. Е. Д. Кахрилло в своем обзоре великопостных концертов говорит, что наибольший успех выпал на долю таких блестящих эстрадных певиц, как Варя Панина, Анастасия Вяльцева, Надежда Плевицкая, а в конце своей хроники посвящает одну строчку и О. Э. Озаровской: «О. Э. Озаровскую, выступавшую в концертах и театре “Кабаре” театрального клуба, публика встречает очень тепло» [Кахрилло 1910: 5]. О концертах О. Э. Озаровской в Москве, организованных Литературно-художественным кружком, писалось следующее: «Вторая гастроль <…> прошла с таким же успехом, как и первая, при переполненном зрительном зале» [Гастроль 1910: 5]. В журнале «Артист и сцена» появляется портрет артистки со следующей рекламной подписью: «Исполнительница произведений народной поэзии, а также создательница особого жанра пародий и рассказчица. Артистка на характерные роли <…> Принимает ангажементы на гастроли» [Артист и сцена 1910: 13]. Репертуар О. Э. Озаровской отразился в ее книге, которая так и была названа — «Мой репертуар» (СПб., 1911). Сборник свидетельствует, что исполнительницу интересовали разные жанры: юмористические рассказы А. П. Чехова и А. Т. Аверченко, сказки О. Киплинга и Г. X. Андерсена, произведения А. Н. Толстого (явный отголосок доброго знакомства ее брата с начинающим писателем) и А. М. Ремизова. О. Э. Озаровская пробовала писать сама. Рассказик «Интервью», например, явно навеян подсмотренными ею сценками из общения Д. И. Менделеева с некомпетентными газетными репортерами. Помимо произведений юмористического и сатирического жанра, артистка читала с эстрады стихи К. Д. Бальмонта и Ф. И. Тютчева, отрывки из романа Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные», фрагменты пьес Леонида Андреева, Кнута Гамсуна и т. д. С самого начала в репертуаре артистки появились и народные сказки и песни. Можно предположить, что они стали «изюминкой» ее репертуара и имели успех. Не зря названный выше журнал «Артист и сцена» рекламировал О. Э. Озаровскую прежде всего как «исполнительницу произведений народной поэзии» и лишь во вторую очередь как «артистку на характерные роли». Сборник О. Э. Озаровской «Мой репертуар» свидетельствует, что уже с 1911 г. она исполняла перед зрителями балладу из Олонецкой губернии на сюжет «Князь Роман жену терял», лирические и юмористические песни «Уж ты маменька родная, для чего ж меня такую родила», «Кого мне младешеньке лучше любить», «Дуня тонкопряха», «Замесила Марьюшка квашонку», сказки «Кочет и курица», «Лиса-повитуха», «Курочка Рябушечка». В 1911 г. О. Э. Озаровская переехала в Москву. Поселилась она на Сивцевом Вражке в только что отстроенном по проекту архитектора Г. К. Олтаржевского доме № 43. Именно здесь она основала Студию живого слова. К артистической деятельности в этот период прибавляется еще и педагогическая. Артистка О. Э. Озаровская решила передавать свой опыт драматического чтеца слушателям, желающим овладеть этим искусством. Студия имела определенный успех. Много лет спустя, 18 февраля 1929 г., поздравляя О. Э. Озаровскую с тридцатилетним юбилеем научно-художественной и педагогической деятельности, Андрей Белый писал ей: «Высоко ценя культуру живого слова и с ним неразрывно связанного интонационного жеста, я не могу не отозваться на Вашу плодотворную и живую деятельность с чувством радости и глубокой благодарности. Так мало уделяют должного внимания проблеме произнесения; а между тем: без произносящего человеческого голоса нет стихов; нет и художественной прозы; и стихи, и проза без передачи их голосом — музыка без инструментов; они и слагаются голосом, и пишутся для передачи голосом, а не для абстрактного следования глазами; кто не произносит при чтении, тот не слышит ничего; а кто не слышит, тот и не видит художества в напечатанных черным по белому строках. У нас так мало культуры чтения, невозможной без истинной культуры произнесения. Вы, Ольга Эрастовна, являетесь редким культурным явлением в этой сфере; и всякий писатель, всякий поэт должен Вам быть глубоко обязан, как настоящему педагогу в трудном и мало распространенном искусстве передачи <…> В лице Вашем мы имеем талантливую, живую, умную исполнительницу-объяснительницу, насаждающую свою редкую в наши дни науку» [Письма Андрея Белого 1988: 492–493]. Отражением работы Студии живого слова стал сборник О. Э. Озаровской «Школа чтеца» (М., 1914). Эта хрестоматия свидетельствует, что и в педагогической деятельности О. Э. Озаровской фольклор также находил заметное место. При обучении своих слушателей она использует былины как материал для «логического тонирования речи», песни же включаются ею в раздел «Материал для выработки чувства стиля». Естественно, фольклорные произведения, становясь предметом артистической педагогики, претерпевают под пером О. Э. Озаровской трансформации. Публикуя в своей хрестоматии былину, она не считает нужным назвать источник текста. Тексты ею сокращаются, поправляются, словом, подвергаются литературной обработке. Так, например, в старине «Вольга и Микула» [Рыбников 1909: № 3] О. Э. Озаровская опускает эпизод с состязанием коней Вольги и Микулы, в «Волхве Всеславьевиче» [Кирша Данилов 1901] убирается начало былины — о встрече в зеленом саду Марфы Всеславьевны со Змеем. Ни о каком научном, фольклористическом, подходе к произведениям народной поэзии в первых книгах О. Э. Озаровской, таким образом, говорить не приходится. Природная любознательность и неутомимая жизненная энергия заставили сорокалетнюю О. Э. Озаровскую летом 1914 г. отправиться на Русский Север. Вряд ли можно назвать эту поездку фольклорно-этнографической экспедицией. Это была частная экскурсия московской артистки, ехавшей в деревню за свежими впечатлениями, за песнями и сказками, которые могли бы пополнить ее репертуар. Главная задача, которую ставила перед собой экскурсантка — овладение северно-русскими интонациями народной речи. Судьба привела О. Э. Озаровскую в заповедные уголки Русской земли — на реку Пинегу, правый приток Северной Двины. Пинежский Волок в русской истории известен с 1137 г. — по Уставной грамоте князя Святослава Ольговича. Здесь новгородцы из реки Пинега через шестиверстный волок попадали в реку Кулой, текшую строго на север в Ледовитый океан. С XVI в. в Пинежском Волоке проводилась зимняя (декабрьская) Никольская ярмарка, на которую съезжались окрестные крестьяне, а также гости из других уездов и губерний. На ярмарке торговали шкурками и мехами белок, лисиц, куниц и соболей. Особой гордостью пинежан были знаменитые пинежские рябчики. В 1780 г. при Екатерине II Пинежский Волок получил статус уездного города и был переименован в город Пинегу. На окраине его располагалась деревня Великий Двор, в которой и поселилась О. Э. Озаровская. Хозяйкой избы, где остановилась «московка», была Прасковья Андреевна Олькина. Мы можем предположить, что в ее дом О. Э. Озаровская попала неслучайно. Дело в том, что имя пинежской крестьянки П. А. Олькиной к 1914 г. было известно в определенных кругах российской интеллигенции. Именно у П. А. Олькиной в 1911 г. поселилась Паулина Наполеоновна Шавердо — член партии эсеров, сосланная в Архангельскую губернию. У нас пока нет сведений о знакомстве О. Э. Озаровской с П. Н. Шавердо. Однако вряд ли можно считать простой случайностью то, что московская артистка, впервые приехавшая на Пинегу, сразу же оказалась в доме П. А. Олькиной, уже имевшей опыт и вкус общения с образованными женщинами из дальних российских городов. П. А. Олькина, по-видимому, была человеком с большими духовными запросами. П. Н. Шавердо в своих воспоминаниях писала: «Моя хозяйка П. А. Олькина оказалась прекрасным и интересным человеком. Простая, безграмотная крестьянка, дальше Пинеги не ездила и ничего не видела, но это был самородок с большим умом и чуткой душой. Ее не удовлетворяла окружающая обстановка, она льнула к ссыльным. И когда я поселилась у нее, мы стали большими друзьями. Я выучила ее грамоте, и по окончании ссылки мы переписывались с нею до тех пор, пока во время революции Архангельск не заняли англичане» [Шавердо 2002: 88]. Однако П. А. Олькина могла не только что-то получить от своих квартиранток, она могла им и многое дать. О. Э. Озаровская в своей хозяйке обнаружила знатока народных песен и верную помощницу, помогавшую «московке» завоевать доверие пинежан. Родственницей П. А. Олькиной оказалась Елена Тимофеевна Олькина, дочь былинщика Тимофея Шибанова из д. Першково, от которого в 1900 г. записывал еще А. Д. Григорьев [Григорьев 1904: № 3(39), 4(40), 5(41)]. О. Э. Озаровская в 1915 г., во второй свой приезд на Пинегу, записала от Е. Т. Олькиной скоморошину «Гость Терентище» и сатирическую песню о хозяйке, неудачно затворившей квашню. Эти произведения были опубликованы много лет спустя в 1931 г. в ее сборнике «Пятиречие». От Надежды Олькиной из пригородной пинежской деревни Цимола, еще одной родственницы своей хозяйки, собирательница записала сказки «Черти в бочке», «Дороня» и «Жерновца», напечатанные в том же сборнике. В 1914 г. О. Э. Озаровская прожила в Великом Дворе всего неделю. Поднялась она и вверх по течению в деревню Веркола, ныне известную как родина выдающегося русского писателя Федора Абрамова. О. Э. Озаровскую же в те годы, без сомнения, в первую очередь интересовал древний Артемиев Веркольский монастырь. В Верколе «московка» купила у местных крестьянок старинные сарафаны, кокошники и шали. Впоследствии эти покупки, по-видимому, стали ее сценическим костюмом. Север запомнился московской артистке. На следующий год летом она опять отправилась на Пинегу. Эта поездка стала решающей в превращении ее в фольклориста. Спутниками О. Э. Озаровской были ее сын-подросток Василько, приятельница Шура и собака лайка Шарик. Как заправские фольклористы, они везли с собой фонограф — «предок» будущих магнитофонов. Сухона, Северная Двина, Пинега и, наконец, ставшая дорогой сердцу деревня Великий Двор. «Откуда эта крепкая связь, которая на севере устанавливается так легко и радостно, — писала артистка (еще не фольклорист!) в ноябре 1915 г. в очерке “Северные старины”. — Нет там черной и белой кости, ни для кого я не барыня там, а просто женка, очень интересная женка — “московка”, и мне кажется, что эту деревню я знала и любила с детства, хотя вместе с тем все для меня там ново и поразительно» [Озаровская 1915а]. В Великом Дворе О. Э. Озаровская пробыла с 25 мая по 3 июня. От своей хозяйки П. А. Олькиной, встретившей ее у парохода, она узнала новости о жизни ссыльных в г. Пинега: «Ссыльный Д. отравился, жена его больна, девочку Галю Григорий и Прасковья берут себе в дочки. У ссыльной Гени родился мальчик; она на весь дом кричала от радости: “Сын у меня! Сын!” Ссыльная Ф. принимала, и ее, Прасковью, научила повивать» [Озаровская 1915b]. Очевидно, что новости о ссыльных волновали О. Э. Озаровскую. Этот круг русского общества был ей понятен и интересен. В поездку 1915 г. в доме П. А. Олькиной и произошла знаменитая встреча московской артистки с пинежской Махоней — сказительницей былин Марией Дмитриевной Кривополеновой. При отъезде на Пинегу «добрый гений всех блуждающих, этнографов» академик А. А. Шахматов говорил О. Э. Озаровской, что в Пинежском уезде поют былины, но О. Э. Озаровская не верила в удачу встречи с певцом былин ([Озаровская 1915d], см. также [Озаровская 1915с]). Но судьба в очередной раз ей улыбнулась. «Утренний сон, когда в открытую дверь жаркой горницы тянет с повети холодок, так сладок, — начинает О. Э. Озаровская рассказ о своем знакомстве с “бабушкой”. — Послышалось, будто старческий голос поет что-то, и приснился прекрасный сон о сказительнице былин. Да нет, — не сон! У Прасковьюшки кто-то сидит и поет. Срываюсь с постели и слушаю под дверью. Былина! Былина! Поглядываю: на лавочке крошечная сказочная старушонка поет с увлечением о “Кострюке, сыне Демрюкове”, поет и прерывает горячими пояснениями и заливается счастливым смехом артиста, влюбленного в свое творчество» [Озаровская 1915b: № 146]. Это было не просто знакомство фольклориста-собирателя с талантливым сказителем, это была встреча двух артисток. Именно артистку, а не носителя фольклорной традиции[2] разглядела и оценила О. Э. Озаровская в М. Д. Кривополеновой. И тут же она решила привезти «пинежскую бабушку», нищенку, собиравшую в деревнях «кусочки», в Москву, чтобы показать ее избалованной публике первопрестольной столицы. Но до возвращения в Москву у О. Э. Озаровской были еще планы на большое путешествие по Русскому Северу. Сначала она вновь поехала в верховья Пинеги. Остановилась в Карпогорье, то есть в Карповой Горе — местном богатом селе. «У крестьян здесь дома в пять, шесть комнат, — пишет фольклористка, — в чистых горницах висячие лампы, цветы, граммофоны и наследие ссылки — бюсты Тургенева, Гоголя, портреты Льва Толстого, Леонида Андреева. У карпогорцев своя потребиловка — “Никитинское общество”. Совершает операции с лесом, имеет лавку, свой пароход» [Озаровская 1915b: № 202]. На другой стороне реки против Карпогорья «вечная красота, от созерцания которой становишься умнее, богаче, чище, лучше», — церковь древнего города Кевролы. Такое впечатление на О. Э. Озаровскую произвела деревянная Воскресенская церковь, рубленная в 1710 г. И материальный достаток карпогорцев, и чудная церковь через несколько лет будут разрушены неумной советской властью. Сейчас мы можем этот шедевр деревянного зодчества видеть только на дореволюционных фотографиях [Мильчик 1971: 56–59]. В Кевроле О. Э. Озаровская у старика старовера Матвея познакомилась с его библиотекой старинных книг. Затем она отправилась выше в Суру («Сура — три версты от ада»), встретившую О. Э. Озаровскую недоверчиво. В условиях Первой мировой войны русская деревня была заражена шпиономанией, с подозрительностью к столичной гостье отнесся стражник, служивший при Иоанно-Богословском женском монастыре, основанном в 1899 г. Иоанном Кронштадтским. Не проявили доверия к ней и местные женки. «Ишь ведь германьги с пушкой сидять!» — сказала одна из них, когда О. Э. Озаровская и ее спутники попытались развернуть работу с фонографом [Озаровская 1915b: № 203]. Переночевав в монастыре, экспедиционеры на следующий день отправились уже вниз по течению в Верколу, в которой фольклористка бывала уже в прошлом году. Здешние женки, помнившие о том, как в прошлое лето О. Э. Озаровская купила у них множество предметов старинной одежды, щедро заплатив за них, встретили ее приветливо. С Пинеги в 1915 г. О. Э. Озаровская поехала в Поморье. В посаде Нёнокса на Летнем берегу Белого моря она переписала из дневника местного жителя Афанасия Тячкина «Гибельное описание» — историю о карбасе, на котором потонуло около двух десятков мореплавателей, и о чудесном спасении четырех поморов. Здесь же на местной солеварне была записана песня «Панья». От солевара-поденщика Екима фольклористка услышала сказку «Поп и дьякон». Позднее в 1924 г. в сборнике «На Северной Двине» она опубликовала отрывок «Из дневника фольклориста» с описанием данной поездки. Здесь О. Э. Озаровская сравнивает поморскую и пинежскую песенные традиции: «Поморы не боятся сложить песни о любви замужней к молодцу и женатого к девице. На Пинеге строже. Зато там царит эпос» [Озаровская 1924: 11]. В очерке «За жемчугом» (так называлась серия ее зарисовок, публиковавшихся в разных газетах) в 1915 г. фольклористка описала биологическую станцию в Ковде, столицу Поморья Кемь, поморку Марью Васильевну («Ловка, мила и остроумна»), знавшую множество «качельных» и «утушных» песен, неграмотного сапожника Александра Ивановича Останина (местного «Александра Дюма») [Озаровская 1915b: № 227]. Последний поразил воображение собирательницы: «Взглядом, усмешкой, посадкой головы Александр Иванович напоминает великого человека Дмитрия Ивановича Менделеева» [Озаровская 1915b: № 228]. От А. И. Останина, бывалого человека, промышлявшего на Новой Земле и Мурмане, О. Э. Озаровская записала мурманские были «Сороцкая быль», «Спасенная девица», «Соломбальская быль», «Сын к матери», «Неожиданность», а также сказки «Гордая царевна», «Красавица под флером», «Кожа». Все названные поморские материалы много позднее, в 1931 г., вошли в книгу «Пятиречие». Затем наступила самая яркая страница в жизни О. Э. Озаровской — ее совместные концерты с М. Д. Кривополеновой. Судя по газетным отчетам, выступления двух артисток начались в Москве в самом конце сентября 1915 г. Особо подчеркнем: это были не лекции, сопровождаемые пением народного рапсода, каковыми были выступления Т. Г. и И. Т. Рябининых. Это были настоящие концерты двух артисток, каждая из которых имела свой репертуар. Конечно, интерес зрителей был прикован прежде всего к пинежской Махоне. Газета «Русское слово», например, о выступлении артисток в Политехническом музее, состоявшемся 26 сентября, писала следующее: «Перед успехом маленькой, сухонькой старушки в расписных валенках и пестром платочке померк даже успех О. Э. Озаровской, удачно с подлинным юмором передавшей несколько былей и сказок, записанных со слов северных сказочников» [Сказительница 1915]. О. Э. Озаровская попыталась стать партнершей М. Д. Кривополеновой при исполнении «Кострюка», который в пинежской традиции несет на себе скоморошьи черты, и, кажется, этот опыт совместного пения был удачен: публика его приняла доброжелательно [За жемчугом 1915]. Борис Леонидович Пастернак, подростком побывавший на концерте в Политехническом музее, позднее в 1929 г. в письме к О. Э. Озаровской вспоминал: «Вы тогда с бережностью, свойственной дару в отношении дара, впервые выводили за руку, как ребенка, старуху Кривополенову. Это было в Политехническом музее, та же бережность подсказала вам, что лучше бы, чем эстрада, этому голосу, помнящему Грозного, прикатиться из края, который его сложил, и не долго думая, вы всего этого моментально достигли. Вы разбросали по аудитории, точно все это было у вас в горсти, вороха нетерпеливой олонецкой скороговорки…» [Пастернак 1983: 735–737]. На этом концерте присутствовал и Леонид Пастернак, оставивший зарисовки итальянским карандашом с портретами О. Э. Озаровской и М. Д. Кривополеновой [Пастернак 1983: 736]. Столь же успешно прошел концерт, организованный в Москве б октября Литературно-художественным кружком.[3] В середине октября артистки выехали в Тверь, где выступили несколько раз перед местными учащимися.[4] Затем был Петроград.[5] В декабре 1915 г. М. Д. Кривополенову уже одну, без О. Э. Озаровской, наслышавшись о ее славе в столицах, встречал Архангельск.[6] После Архангельска сказительница вернулась к себе на Пинегу. Однако в конце зимы 1916 г. «пинежская бабушка» неожиданно, без всяких провожатых, самостоятельно приехала с Пинеги к О. Э. Озаровской. Приезд М. Д. Кривополеновой в Москву побудил О. Э. Озаровскую организовать большую поездку по городам России. Первым пунктом был Саратов. Город встретил гостей доброжелательно и заинтересованно. Местные газеты на своих страницах поместили накануне их выступления объявления о предстоящем 2 марта концерте.[7] Концерт прошел с впечатляющим успехом. «По окончании, — писал корреспондент “Саратовского листка”, — публика устроила горячие овации обеим участницам вечера. Молодежь окружила их плотным кольцом, благодарила, курсистки целовали старушку».[8] Столь же восторженные отзывы мы нашли и в других местных газетах — «Почте», «Саратовской жизни» и «Саратовском вестнике».[9] Ценную информацию дает газета «Волга». Здесь подробно перечислен репертуар обеих артисток. О. Э. Озаровская продемонстрировала песни из поморского свадебного обряда и сказки, слышанные ею в Поморье в Кеми. М. Д. Кривополенова исполнила исторические песни «Иван Грозный и его сын» и «Кастрюк», былины «Вавила и скоморохи» и «Добрыня и Змей», а также знаменитую «Небылицу в лицах», которую подхватил весь зал.[10] Саратовский концерт задал тон всем последующим гастролям артисток. Столь же успешными были выступления в Харькове.[11] Весьма неожиданный резонанс получили вечера О. Э. Озаровской и М. Д. Кривополеновой в культурной жизни Ростова-на-Дону, куда артистки прибыли в 20-х числах марта. Здесь все шло по отработанной схеме: объявления и статьи, предваряющие концерты (в Ростове состоялись три концерта),[12] а затем благожелательные отзывы о выступлениях обеих артисток.[13] Однако в общем хоре восторженных похвал диссонансом прозвучал скептический голос некоего Тамбурина, бойкого и едкого фельетониста, сотрудничавшего с «Ростовской речью». Тамбурин назвал пинежскую сказительницу старушкой, «дрессированной и стилизованной госпожой Озаровской», а ее произведения — «эпическими стилизациями сказов и былин». Сама же О. Э. Озаровская была им представлена «ловкой антрепренершей», «импресарио», эксплуатирующей М. Д. Кривополенову.[14] К чести ростовчан, бесцеремонный выпад Тамбурина в адрес обеих артисток не остался без ответа. Они заступились за М. Д. Кривополенову и незаслуженно оскорбленную О. Э. Озаровскую. Некая госпожа С. Цейтлин в письме в редакцию ростовской газеты «Приазовский край», указав на ответственность журналиста перед публикой, отметила, что Тамбурин исказил «правду отношений» между московской артисткой и пинежской бабушкой, и подчеркнула, что «журналисты, подобные г. Тамбурину, не являются выразителями общественного мнения» жителей Ростова.[15] Между С. Цейтлин и Тамбурином завязалась полемика.[16] С. Цейтлин пришлось еще раз взяться за перо. В ее втором письме в редакцию «Приазовского края» говорится: «Что же касается суждений г. Тамбурина о дрессированности и стилизованности сказительницы М. Д. Кривополеновой, — мы не можем придавать им серьезного значения. Всем известна высокая оценка Марии Дмитриевны как художницы такими авторитетами, как проф. П. Н. Сакулин[17] и М. Ф. Гнесин, восторженный отзыв которого мы прочли на страницах того же издания, в котором работает г. Тамбурин».[18] Интересен тот факт, что М. Ф. Гнесин (в будущем — выдающийся музыкальный педагог) предвидел возможность появления откликов на концерт М. Д. Кривополеновой, подобных заметке Тамбурина. В первой из своих статей, накануне концерта, он писал: «Мы ждем этого дня (то есть выступления “пинежской бабушки”. — Т. И.) как большой художественной радости, хотя, может быть, он окажется днем художественного испытания для нас. Мы проверим, способны ли мы, привыкшие к “культурному” пению, услышать красоту в “сказывании”».[19] М. Ф. Гнесин счел для себя честью «быть слушателем у народного певца».[20] Тамбурин же оказался среди тех, кто не выдержал «художественного испытания».[21] В Ростове-на-Дону в гастролях О. Э. Озаровской и М. Д. Кривополеновой наступил четырехнедельный перерыв. Во второй половине апреля артистки выступили в Таганроге,[22] а в начале мая — в Новочеркасске.[23] Последним пунктом южных гастролей М. Д. Кривополеновой и О. Э. Озаровской стал Екатеринодар,[24] откуда артистки вернулись в Москву. Затем через Вологду и Архангельск[25] О. Э. Озаровская отвезла «пинежскую бабушку» на ее родину.[26] Осенне-зимние концерты 1915 г. и весенне-летние гастроли 1916 г. сыграли важную роль в жизни обеих артисток. Они прославили пинежскую Махоню по всей России, дали ей — правда, на короткое время — материальную обеспеченность. Имя О. Э. Озаровской, руководительницы скромной Студии живого слова, после южных гастролей стало известно во многих городах России. Чародей северного русского слова Б. В. Шергин, студентом Строгановского училища бывавший на концертах в Москве, в своем очерке «Марья Дмитриевна Кривополенова» совершенно справедливо заметил: «Если Кривополенова была жемчужиной редкой красоты, то Озаровская явилась для нее оправой червонного золота — она открыла людям талант сказительницы».[27] Совместные концерты с Махоней подвигли О. Э. Озаровскую на издание книжки былин М. Д. Кривополеновой «Бабушкины старины» [Озаровская 1916]. Первое издание «Бабушкиных старин» вышло в свет в 1916 г. в петроградском издательстве «Огни», основанном в 1909 г. известным критиком и публицистом Е. А. Ляцким — лицом для фольклористики не посторонним, в 1894 г. он записал старины И. Т. Рябинина — сына знаменитого кижанина Т. Г. Рябинина, причем впервые при записи народного певца тогда был применен фонограф [Ляцкий, Аренский 1895]. Помещалось издательство на набережной реки Фонтанки в доме № 80. Без сомнения, работая над книгой, О. Э. Озаровская здесь бывала. В издании, открывающемся очерком составительницы о пинежской Махоне, представлены былины («Соловей Будемерович и Запава Путевисьня», «Илья Мурович и Калин-царь», «Илья Мурович и чудище», «Молодость Добрыни и бой его с Ильей Муровичем». «Купанье Добрыни и бой его со Змеем Горынищем»), знаменитая «уника» «Вавило и скоморохи», исторические песни («Иван Грозный», «Кастрюк», «Смерть князя Долгорукого», «Усишша»), баллады («Князь Дмитрий и Домна», «Молодец Добрыня губит невинную жену», «Князь Михайло»), духовные стихи («Вознесение», «Микола», «Михайло-архангел», «Егорей»), скоморошина «Небылица в лицах» и «Виноградье». Слуховые нотные записи кривополеновских старин и духовных стихов, данные в конце книги, принадлежат Вячеславу Гавриловичу Каратыгину (1875–1925), известному музыкальному критику, композитору и педагогу. Книжка вышла не только интересной по содержанию, но и весьма стильной по оформлению. Обложка — внешне очень скромная, но отсылающая читателя стилизованными буквицами к русской старине — была оформлена талантливой художницей Екатериной Васильевной Гольдингер (1881–1972). Два фотопортрета М. Д. Кривополеновой, представленные в книжке, были сделаны А. Черепановой и А. Антоновой в петроградском фотоателье «Atelier Genre Gravure». На одной фотографии М. Д. Кривополенова лукаво улыбается, на другой серьезно и печально смотрит куда-то в землю. «Бабушкины старины» были замечены критикой: А. Шилов в «Русском библиофиле» посвятил им доброжелательную рецензию, в которой, кстати, заметил, что желательно было бы издать одной книжкой полностью очерки О. Э. Озаровской «За жемчугом», печатавшиеся на страницах разных газет. Очерки, полагал рецензент, могли бы занять в русской литературе такое же заметное место, как книга М. М. Пришвина «В краю непуганых птиц».[28] Летом 1916 г. О. Э. Озаровская опять оказалась на Пинеге. Собирательница встретилась с М. Д. Кривополеновой, записала от нее сказку «Верная жена», песню «Козаченько», которые впоследствии вошли в «Пятиречие». На этот раз собирательница решила проехать по новому маршруту — проникнуть на реку Кулой. В районе г. Пинега, напомним, волок между двумя реками — Пинегой и Кулоем — составлял всего несколько километров. На малонаселенном Кулое было лишь три деревни: Кулойское (в тридцати верстах от г. Пинеги), Карьеполье и Долгощелье (в устье реки). На притоках Кулоя — на реках Сояна и Немьюга — также находились одноименные деревни. Экспедиция 1916 г. оказалась не совсем удачной. На Кулое О. Э. Озаровскую и ее спутников в очередной раз приняли за немецких шпионов. «Едет ерманьска императрица смотреть, как мины в мори спушшены», — решили соянские мужики, узнав о странной городской путешественнице [Озаровская 1928:406].[29] Жители деревни встретили лодку О. Э. Озаровской с камнями за пазухой. Положение спас местный священник, который из архангельской газеты, где сообщалось об О. Э. Озаровской, догадался, кого его паства приняла за «ерманьску императрицу». Камни были отложены в сторону, но доверие, столь нужное для записи произведений устной народной поэзии, собирательница смогла завоевать с большим трудом и лишь у некоторых из кулоян. Былинщик Никита Прокопьевич Кырчигин (у А. Д. Григорьева и в «Пятиречии» — Крычаков) из Карьеполья был с нею очень неприветлив и петь отказался. Позднее собирательница вспоминала:В 16 году он явился в ту избу, где я была <…>, расспросил меня, откуда я, и в ответ на просьбу спеть старину, ответил: — 15 лет назад у нас был московец хромой, я ему пел… — Ну и мне спой. — Он с трубой был (фонограф), на трубу списал. — И у меня труба есть. И я на трубу. — Он деньги платил. — И я заплачу… — Два раза один товар не продают. И ушел, даже не оглянулся [Озаровская 1928: 408].Тяжелейшие годы Первой мировой войны переросли в революцию, а затем в войну гражданскую. Нам практически ничего неизвестно, как О. Э. Озаровская пережила годы российской смуты. Как бы то ни было, в отличие от своего брата, эмигрантскому «рассеянию» она предпочла родину. В послеоктябрьский период в Москве был создан Институт слова, находившийся в ведении Главпрофобра Наркомпроса. Цели его были — подготовка мастеров художественного слова. О. Э. Озаровская стала профессором Института слова (помимо нее здесь преподавали П. Н. Сакулин, И. Н. Розанов, Е. Н. Елеонская, Ю. М. Соколов и др.). Институт, сколь можно судить, в начале 1920-х гг. являлся заметным явлением в культурной жизни Москвы. Так, в декабре 1922 г. с большим успехом в Центральном доме работников просвещения прошел вечер народного слова. О. Э. Озаровская и ее студенты демонстрировали зрителям родниковую поэзию Русского Севера. «Красная нива» писала об О. Э. Озаровской: «…на московских выступлениях к ней подходили северяне с выражением изумления, заявляя, что не знают, где сидят: в Москве или у себя в Архангельске, — так хорошо овладела она народной речью».[30] Судя по всему, в 1920-е гг. О. Э. Озаровская по-прежнему активно участвовала в культурной жизни Москвы: в годовщину смерти А. А. Блока 7 августа 1922 г. она, например, выступала с воспоминаниями опоэте на вечере, устроенном Всероссийским союзом писателей.[31] В 1923 г. О. Э. Озаровская издала две книги, связанные с ее педагогической деятельностью: «Моей студии» (М.-Пг., 1923) и вторым изданием «Школа чтеца» (М., 1923. Вып.1). В первой книге, посвященной ученикам, которых несколько сотен прошло через руки О. Э. Озаровской, собраны ее лекции-уроки по декламации: «Заучивание наизусть», «“Море” Жуковского», «“Зимнее утро” Пушкина», «“На смерть Пушкина” М. Лермонтова» и др. Не оставила своими заботами в начале 1920-х гг. О. Э. Озаровская и «бабушку». Как только позволили обстоятельства, она обратила внимание большевистских властей на пинежскую нищенку — великую народную артистку М. Д. Кривополенову. Побуждаемый О. Э. Озаровской, первый нарком просвещения А. В. Луначарский принял личное участие в судьбе Махони. 16 декабря 1920 г. он послал на родину М. Д. Кривополеновой следующую телеграмму: «Архангельск. Пинега. Исполком. Немедленно телеграфируйте, жива ли бабушка Кривополенова <…> Примите меры поддержать ее, если жива. Центр примет особые меры покровительства. Наркомпрос А. Луначарский».[32] Очень скоро пришел ответ от председателя Пинежского исполкома Ширяева: «Вашу телеграмму от 16 декабря сообщается, что бабушка Кривополенова жива, нуждается обувью, одеждой, бельем. Отнаркомпросом приняты следующие меры: назначено ежемесячное пособие размере 3360. Предложено снабдить обувью, одеждой, бельем и сделать особое определение снабжении продовольствием. Ждем дальнейших указаний покровительства».[33] 24 января 1921 г. Совет народных комиссаров вынес специальное решение о назначении М. Д. Кривополеновой академического пайка и пенсии. Жест, сделанный большевистской властью по отношению к пинежской сказительнице, весьма выразителен. За ним стоит установка на декларируемую новым политическим режимом заботу о человеке из народа. 1 июня 1921 г., опять-таки по инициативе О. Э. Озаровской, студентка Института слова Анна Дмитриевна Ипполитова была отправлена на Пинегу для того, чтобы привезти М. Д. Кривополенову для участия в концерте в день открытия третьего конгресса III Интернационала. 19 июня пинежская Махоня уже находилась в Архангельске, где прошло ее выступление, сопровождаемое пояснениями начинающего писателя Б. В. Шергина.[34] 21 июня М. Д. Кривополенова поспела в Москву на закрытие конгресса. Затем состоялись ее выступления в Московской консерватории, в Институте детского чтения Наркомпроса. В 1922 г. О. Э. Озаровская переиздала «Бабушкины старины», дополнив их заговорами, песнями и сказками.[35] М. Д. Кривополенова скончалась 2 февраля 1924 г. у себя на родине на Пинеге. Кто-то из местных учителей прислал О. Э. Озаровской письмо с описанием последних часов жизни Махони: «Я и еще несколько человек сидели в одном доме, как бабушка попросилась ночевать. Бездомная, почти совсем слепая и глухая, она занемогла и лежала на печи в сильном жару. В бреду она затянула былину и, пробудившись от собственного пения, очнулась. Увидев, что тут сидят все любители ее старин, она уже сознательно стала петь и пела, пела… вплоть до агонии, когда за нею приехали сродники».[36] В 1920-е гг. О. Э. Озаровская совершила несколько фольклорно-этнографических экспедиций на Русский Север. В 1921 г. по поручению Наркомпроса она поехала на Кулой, когда-то настороженно ее встретивший во время Первой мировой войны. В экспедиции участвовали ученицы О. Э. Озаровской А. А. Рязанова, А. П. Соколова, А. Д. Ипполитова и художник А. И. Зуев. Время было трудное, голодное. Деньги на Кулое не ценились. Поэтому для установления добрых отношений с местными жителями экспедиционеры везли с собой муку и лекарства, столь нужные северной деревне. Российская смута тяжелым катком прошлась и по жителям первопрестольной, за несколько лет неузнаваемо изменив их облик. Сказитель былин из Карьеполья Н. П. Кырчигин (Крычаков) долго вглядывался в О. Э. Озаровскую, пока не признал в ней «московку» 1916 года: «Та сама, и впрямь та сама, сказывали уж. Да где ж твоя басота, да где ж твоя лепота? Весь тук сронила… Тьпфу!» [Озаровская 1928: 408]. «Тук» — полноту, ей свойственную, — она, действительно, «сронила» в голодные годы Гражданской войны. В 1921 г. на Кулое О. Э. Озаровская ставила себе целью запись всего репертуара кулоян. «Предвидя все трудности работы в условиях 21-го года, — писала она позднее, — экспедиция, разумеется, решила записывать решительно все, что представляется возможным записывать, не ограничивая себя каким-либо одним видом народного творчества» [Озаровская 1928: 408]. Не знаем, насколько успешно была выполнена эта задача (сохранились лишь отдельные фрагменты фольклорного архива собирательницы), но ряд наблюдений, сделанных О. Э. Озаровской на Кулое, стали бесценным вкладом в фольклористику. Собирательница — и это надо особо подчеркнуть — стала вторым после А. Д. Григорьева [Григорьев 1939] (и последним) фольклористом, кому удалось на Кулое зафиксировать образцы песенной эпики. Две записи — «Чурило Пленкович и Василий Пермята» соянского крестьянина Степана Крапивина и «Вор-кабаньище» («Данило Ловчанин») Анны Мелиховой из той же деревни Сояна — О. Э. Озаровская поместила в своем «Пятиречии». Уже в наши дни по материалам архива собирательницы, поступившего в Институт русской литературы (Пушкинский Дом),[37] Т. А. Новичковой были опубликованы былины Якова Федоровича Попова (Порхаля) из Долгощелья («Владимир-жених», то есть «Дунай-сват»; «Бой Добрыни с Дунаем»; «Срок калик»), Марии Красиковой из Карьеполья («Дунай»; «Сорок калик») и Н. П. Крычакова из Карьеполья («Иван Гордеевич», то есть «Иван Годинович»), Алексея Степановича Мелихова (Мелехова) из Сояны («Василий-пьяница и Курган-царь»). Ею же напечатан вариант скоморошины «Лединушка», записанный, вероятно, от Агрипины Мелеховой из Сояны.[38] В Фонограммархиве Пушкинского Дома оказалась и коллекция фоноваликов с записями 1921 г. Нотировки былинных отрывков были опубликованы в 1998 г. А. Д. Троицкой.[39] В 2006 г. А. Ю. Кастров ввел в науку нотные расшифровки духовных стихов, записанных О. Э. Озаровской на Кулое.[40] Следующая экспедиция О. Э. Озаровской — опять на Пинегу! — состоялась в 1925 г. Финансировало ее Архангельское общество краеведения. М. Д. Кривополеновой уже не было в живых. Однако и без Махони пинежская фольклорная традиция в 1920-е гг. еще не иссякла. В Карповой Горе О. Э. Озаровская и ее спутники могли наблюдать свадьбу, играемую с соблюдением всей старинной обрядности. В той же Карповой Горе летом 1925 г., свидетельствует О. Э. Озаровская, крестьяне поставили пушкинскую «Русалку», сделав основной акцент на сценическом отображении свадебного обряда. В д. Язвора в верхнем течении реки фольклористка нашла двух крестьян-«пушкинистов». Один из них знал наизусть всего «Евгения Онегина», а другой — «Медного всадника».[41] В д. Юбра (около Труфановой Горы) О. Э. Озаровской посчастливилось встретиться с Татьяной Осиповной Кобелевой — семидесятилетней слепой песельницей и сказочницей, знавшей исторические песни «Казань-город», «Пленение Кутузовым французского офицера», «Пожар Ярославля», а также многочисленные сказки и легенды [Озаровская 1927а: 98–99], опубликованные в «Пятиречии»: «Моряжка», «Никола Дупленьский», «Принятой», «Ерш», «Царевнина Талань», «Ай-брат», «Мать и львица» и «Предел». Весьма любопытна статья О. Э. Озаровской «Северная свадьба». В основу этой публикации положены материалы, записанные исследовательницей в 1925 г. в Карповой Горе, а также сведения, собранные ранее на р. Кулой. Пинежская свадьба, пишет исследовательница, в отличие от кулойской, характеризуется «дерзными» песнями эротического содержания. В случае если играется пинежско-кулойская свадьба — жених и невеста родом из разных регионов, — «когда пинежане осмелятся затянуть свои “дерзные” песни (например, знаменитое “оханье” при удалении молодых в подклеть, оханье, где с французским шиком усмехается сатир в символике песни), кулояне садятся в лодки или запрягают коней и разъезжаются со свадьбы» [Озаровская 1927b: 100]. Ритуал с «крюком», с его «крепким и неудобным для печати» монологом, как свидетельствует О. Э. Озаровская, характерен только для Пинеги и неизвестен на соседнем Кулое. «Пинежская свадьба, — продолжает исследовательница, — богата не только “дерзными” монологами и песнями, она во второй своей части (у молодых) изобилует шутливыми выдумками, имеющими смысл для освоения молодки в новой семье (шутливое подметанье полов, шутливая байна, совместное с мужем умывание при свидетелях) или имеющими определенную символику утраты невинности: ломанье короба, битье горшка и т. д. Все это совершенно отсутствует в кулойской свадьбе, дышащей исконным примитивом и опускающей или, вернее, никогда не видевшей пышных украшений» [Озаровская 1927b: 100]. Очерк «Самоходка», родившийся также по следам экспедиции 1925 г., рисует яркую живую картинку свадьбы «самоходкой», то есть без благословения родителей, которую О. Э. Озаровская наблюдала, а точнее узнавала о событиях по слухам, будоражившим в течение двух дней деревню Юбра в связи с некой Липкой: девушка вопреки воле отца не пошла за посватовавшегося к ней Мишку, а бежала с Серегой.[42] В планах исследовательницы была большая работа по севернорусской свадьбе, к сожалению, так и не завершенная ею. Последняя поездка О. Э. Озаровской на Пинегу, по нашим сведениям, состоялась в 1927 г. В это же время в здешних краях оказалась также комплексная экспедиция Государственного института истории искусств (ГИИИ; Ленинград), в ходе которой формировалось новое поколение фольклористов — А. М. Астахова, Н. П. Колпакова, И. В. Карнаухова, А. И. Никифоров, 3. В. Эвальд, Е. В. Гиппиус. 25 июня экспедиция ГИИИ и О. Э. Озаровская встретились в Марьиной Горе (в 12 км от Карповой Горы) на местном двухдневном празднике. 9 июля, уже будучи в г. Пинега на исходе поездки, Н. П. Колпакова, на которую были возложены обязанности секретаря экспедиции ГИИИ, записывала в официальном дневнике: «Вечером А. М. Астахова и И. В. Карнаухова направились к находящейся в Пинеге О. Э. Озаровской» (Рукописный отдел Института русской литературы РАН. Ф. 5. Кол. 3. 0.1. № 20). Эта встреча на Пинеге была по-своему символична: она знаменовала собой преемственность работы двух разных поколений отечественных фольклористов. В 1929 г. Москва отметила 30-летний юбилей научно-художественной деятельности О. Э. Озаровской. Ее чествование состоялось 25 февраля в театре им. Е. Вахтангова. Председателем юбилейного оргкомитета был академик П. Н. Сакулин, приветствия направлялись в адрес главы московских фольклористов Ю. М. Соколова. В концерте, данном в честь юбиляра, участвовали М. М. Блюменталь-Тамарина, В. В. Качалов, А. П. Петровский и другие видные артисты Москвы.[43] «Лебединой песнью» О. Э. Озаровской в фольклористике стала неоднократно упомянутая выше книга «Пятиречие». Эта изящная книга (художник — известный книжный график Л. С. Хижинский) вышла в Ленинграде в 1931 г. Издание — и это надо четко понимать — было задумано не как научный сборник фольклорных текстов, а как книга для чтения. О. Э. Озаровская воспользовалась формой, популярной в западноевропейской литературе эпохи Возрождения (форма «Декамерона»): пять странников, уроженцев пяти северных рек, — пинежанка Махонька, старик помор с реки Кемь, дед кулоянин, молодой мужик с реки Мезень и молчаливый, сдержанный печорец — в ожидании парохода рассказывают различные истории (о верной любви, о любовных изменах и утехах, волшебные сказки, сказки о матери и сказки о труде). Пять вечеров по десять историй (сказки, былины, баллады, песни) — всего пятьдесят произведений фольклора, записанных в 1915–1927 гг., вкладывает О. Э. Озаровская в уста наполовину реальных, наполовину вымышленных ею героев. Последние годы в жизни О. Э. Озаровской были очень тяжелыми. Подступающая слепота заставила фольклористку покинуть Москву и перебраться во Фрунзе, где работал ее сын Василько, некогда спутник по ее севернорусским странствованиям. Здесь она и скончалась 12 июля 1933 г. В наследство потомкам от этой незаурядной женщины остались ее книги, востребованные нашим временем.[44]
Т. Г. Иванова
Литература и источники
Озаровская 1916 — Озаровская О. Э. Бабушкины старины. Пг., 1916. Воспоминания 1929 — Д. И. Менделеев по воспоминаниям О. Э. Озаровской. М., 1929. Старый домик 1911 — Старый домик. Музей старины Ю. Э. Озаров-ского. СПб., [после 1911]. Русское зарубежье 1995 — Русское зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1920–1940. Франция / Под общ. ред. Л. А. Мнухина. М., 1995. Т. 1. Кахрилло 1910 — Кахрилло Е. Д. Концертная хроника // Артист и сцена. СПб., 1910. № 7/8. Гастроль 1910 — Гастроль О. Э. Озаровской // Граммофонная жизнь. 1911. № 5. Артист и сцена 1910 — Артист и сцена. СПб., 1910. № 7/8. Письма Андрея Белого 1988 — Из писем Андрея Белого 1927–1933 гг. / Предисловие и публикация Т. В. Анчуговой // Перспектива-87: Советская литература сегодня. Сборник статей. М., 1988. Рыбников 1909 — Песни, собранные П. Н. Рыбниковым / Под ред. А. Е. Грузинского. М., 1909. Т. 1. Кирша Данилов 1901 — Сборник Кирши Данилова / Под ред. П. Н. Шеффера. СПб., 1901. Шавердо 2002 — «Боролись за землю, за волю, за свободу народа». Из воспоминаний «бабушки» курских революционеров Паулины Шавердо // Отечественные архивы. 2002. № 6. Григорьев 1904 — Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. М., 1904. Т. 1. Озаровская 1915а — Озаровская О. Э. Северные старины // Северное утро. Архангельск, 1915. 28 нояб., № 264; 29 нояб., № 265. Озаровская 1915Ь — Озаровская О. Э. За жемчугом // Северное утро. Архангельск, 1915. 4 июля, № 146. Озаровская 1915с — Озаровская О. Э. Сказительница былин //Архангельск, 1915. 18 сент., № 208. Озаровская 1915d — Озаровская О. Э. Марья Кривополенова — сказительница былин // Русские ведомости. 1915. 13 сент., № 210. Мильчик 1971 — Мильчик М. И. По берегам Пинеги и Мезени. Л., 1971. С. 56–59. Озаровская 1924 — Озаровская О. Э. Из дневника фольклориста // На Северной Двине: Сб. Архангельского общества краеведения. Архангельск, 1924. Сказительница 1915 — Сказительница былин // Русское слово. М., 1915. 27 сент., № 221. За жемчугом 1915 — «За жемчугом» (лекция О. Э. Озаровской) // Раннее утро. М., 1915. 27 сент., № 222. Пастернак 1983 — Пастернак Б. Из переписки с писателями / Пре-дисл. и публ. Е. Б. и Е. В. Пастернаков // Из истории советской литературы 1920-1930-х годов: Новые материалы и исследования. М., 1983. (Литературное наследство; Т. 93). Озаровская 1916 — Озаровская О. Э. Бабушкины старины. Пг., 1916. Ляцкий, Аренский 1895 — Ляцкий Е. А., Аренский А. С. Сказитель И. Т. Рябинин и его былины. М., 1895. Озаровская 1928 — Озаровская О. Э. Северная экспедиция 1921 г. в Архангельской губ. // Slavia. 1928. К.ос.7. № 2. Григорьев 1939 — Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг. Прага, 1939. Т. 2: Кулой. Новичкова 2001 — Новичкова Т. А. Песенно-эпический фольклор из коллекции О. Э. Озаровской: Неопубликованные записи // Русский фольклор: Материалы и исследования. СПб., 2001. Т. 31. Озаровская 1927а — Озаровская О. Э. Песня о городе Казани // Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при Казан. Гос. ун-те. 1927. Т. 33, вып.4. Озаровская 1927b — Озаровская О. Э. Северная свадьба // Художественный фольклор. М., 1927. Вып.2–3.Бабушкины старины
От собирателя
Есть сказочный край на Руси… Все поражает человека, попавшего на русский север впервые: и неожиданная красота высоких алебастровых берегов с черными таинственными пещерами над чистой широкой рекой, и переливы красок двухмесячного дня, пересекаемого только краткой сонной тишиной, и крестьянский быт, так непохожий на уклад мужицкой жизни в средней России, и эта удивительная любовь к слову, к песне, к сказке ко всему чудесному. Там в реке еще живет «чертушко» с тремя телячьими головами; в лесу — «он»; в дому — «хозяин»; в теплой баенке (бане) — ласковый, шутливый «байницек». Там, на реке Пинеге, когда жонки идут за малиной, они всегда должны быть готовы к встрече с медведем, встрече мирной и кроткой (медведь всегда уходит), но от этой встречи и у мужиков волосы встают «дымом», и шапки на голове приподнимаются… Там не ходят по грибы, а ездят «на конях в телёгах» целыми семьями, всей деревней в темные сузёмы (тайга) «ломать грибы»… и за несколько часов с непрерывным ауканьем, чтобы не закружиться в глубоких, одинаковых с виду «мургах» (огромные воронкообразные ямы — следы исчезнувших лесных озер), семья наломает столько грибов, что их засолу хватит на целую зиму. Это большое важное дело, о котором говорят с такой же заботой и волнением, как и о страдных работах, добыть грибов, которые подкормят зимою. Там, по берегам Пинеги, где корабельные леса пересекаются наволоками (лугами), окруженные высокими черными пряслами (на них сушат снопы золотого ячменя) стоят задумчивые села с дивными церквами, в высоких домах просторно живется крестьянину с большой семьей. Избы в пять-шесть покоев не редкость; всегда есть «гостиная горница» с городской обстановкой, со множеством цветов на окошках. И хозяин такой избы — не кулак, не мироед, а только здоровый работник. Было бы здоровье, а северянин лесом, зверем, да рыбой всегда наживет денег и от излишка нарядит жонку и дочку в узорчатые сарафаны, в бархатный повойник или парчевую повязку. Любят и берегут там старинные наряды, как и старинные песни, как и вековечные обряды. Ну, рядом с богатством встречаешь, конечно, и убогость — лютые морозы да ветры убивают и хлеб на корню и здоровье человека — и тогда удивляешься терпенью, выносливости и той силе благочестия, которое всегда, словно радостный золотой венчик, украшает северную «сиротину» (нищего). В этом сказочном краю, где крестьянин, никогда не знавший крепостного ига, жил свободно, хранил и любил слово и украшал им свою жизнь, как скатным жемчугом, должна была случиться сказка, и она случилась. Давным-давно, в деревне Усть-Ежуга, при впадении реки Ежуги в Пинегу, стояла маленькая черная избушка, в ней семь голодных ртов и одна только пара рабочих рук, да и то женских. Это — мать, работница неустанная, а с нею четверо ребятишек, да старая бабка, да огромный столетний дед. Дед с детьми водился, растил их вместо таты. Мама оставит ребятишек в избе, уйдет на работу, а дед, старый, таинственный, притягательный, много видевший, много слышавший дед — с ними. Им и любо. Дед в молодости ходил по Зимним Кедам, бил морское зверье; оттуда вынес свои старины. И ребятишки пристают. — Дедушко! спой старину… Дедушко! спой былину! Дедушко заповорачиватся, запокашливат, — то скоро дедушко запоет… Споет былину про Илью про Муровича, длинную, длинную. — Дедушко, спой коротеньку! Споет дедушко коротеньку, дети просят длинну. Ребятишек отколе ни возьмись штук пятнадцать в избу уж набилось; все слушают: распелся дедушка. И «внялась» в эти старины одна крошечная Машутка, все упомнила и пронесла сквозь скудную, тяжкую жизнь драгоценный светильник поэзии и донесла, уже старческими руками, до большого города, до молодой толпы, ей на улыбку и на радость. А жизнь была скудная. С десяти лет пришлось побираться, ходить по кусочкам. Пришли годы: выдали Машу замуж в деревню Шотогорку. Для сиротины разве найдешь хорошего жениха? Хоть и работница была Маша, а хозяйство все кривилось: муж пил, и на руку нечист был, и бродяжить любил. А тут «зеленые года[45] пришли; семь подряд. Пришлось Марье на телег ездить по деревням, собирать. Дети умирали, мужа убили бродяги на дороге, осталась одна дочь. Дочь вышла замуж в деревню Веегоры тоже бедно; хоть старалась оприютить мать, да откуда возьмешь, когда у самой ребятишки живут впроголодь. И на старости лет, с корзиной в руках, крошечная сморщенная Марьюшка бегает по деревням, собирает кусочки. Белые, теплые внучатам снесет, черные высушит и сухарьки в лавочку продаст (там их для скота покупают). Ночует, где Бог приведет; добрым хозяевам и духовный стих споет и старину, где рады. А кто не попросит, так для них, что и «горло драть понапрасну». Своя гордость есть. Было одно событие в жизни: наезжал «Москвец»[46], записал все старины, на машину с трубой голос снял. Пела ему с радостью. А потом еще пятнадцать лет мыкалась, нигде не имея угла; даже у дочки заживаться не смела: не быть бы в тягость. И так до 72 лет, до чуда, до счастливой встречи. Дочь не раз говорила: — Мама, да съезди ты в город Пинегу: там хорошо подают. Набрала бы, — нам помогла. — Я Пинега не знаю, не бывала. Лучше в Архангельско поеду. Там знакомци есть. Хоть и дальше ехать, да уж знаю куда. И собралась бабушка в дальний путь из деревни Веегоры в Архангельск. Забрала хлебца, сколько могла. Капитан знакомый даром посадил на пароход. Поехали вниз по Пинеге. А бабушку подстерегали горе и радость: над ее дочерью замахнулась уже смерть, а под городом Пинегой в деревне сидела с карандашом и толстой тетрадью «Московка». Задул ветер и загнал пароход на мель. Два дня сидели на мели, — бабушка и приела весь свой хлеб. Надо в город Пинегу выходить: не с чем дальше ехать. Вышла бабушка на берег. И впрямь хорошо подают в городе. «Пойду-ка в соседнюю деревню — в Великий Двор». День серый, ветер дует бабушке в спину, так и гонит ее к новому домику, где сейчас произойдет неслыханная встреча с «Московкой». Ну, теперь два слова о Московке. И она была когда-то маленькой девочкой, жила в большом городе, и у нее был сказочник: отец, по положению офицер, по способностям математик, а по призванию — сказочник. Он своей младшей девочке рассказывал чудесные сказки, а больше всего любил мечтать вслух, как они поедут на лошадях по всей Руси, куда глаза глядят. И так умел он описать сладость краткого знакомства с Анюткой, дочкой толстопузого хозяина постоялого двора, ночевку в избе с задумчивыми тараканами, так научил любить эту вечную безпутную дорогу, что и маленькая девочка из всех сказочных чудес больше всего полюбила тот сыренький клубочек, который катится неведомо куда и тянет своей тонкой ниточкой вперед да вперед. И когда девочка выросла, судьба послала ей прилежный клубочек. Он неустанно катался, сжигаемый волшебным любопытством, выбирал неожиданные тропинки, благополучно докатывался до боярских хором, отдыхал, свертывался серенький и снова развертывался, катился, сверкая блестящими нитями, к крестьянскому порогу. И подкатился к ногам нищенки. Обе женщины зорко смотрели друг на друга. Голодная нищенка подумала, не подаст ли «Московка» больше чем кусок хлеба, а Московка подумала, не лежит ли у нищенки под корками хлеба скатный жемчуг. И оказалось полно лукошко. Есть примета на Севере: если съешь у нищего от трех кусков, будет тебе счастье. М. Д. Кривополенова.
М. Д. Кривополенова.
* * *
Старая нищенка, Марья Дмитриевна Кривополенова так сердечно угощала меня теплыми, только что поданными в городе шанежками (шаньга — лепешка), что я незаметно для себя съела заветные три куска. И вышло счастье. Для нас обеих. Нельзя было не полюбить бабушки с первой встречи. А когда рассыпала она перед нами свой старинный словесный жемчуг, ясно увидели мы, что перед нами настоящая артистка. — Бабушка, поедем в Москву? — Поедем! Храбрая, как артист. Односельчане руками всплескивали: — Куда ты, бабка? Ведь помрешь! — А невелико у бабушки и костьё, найдется-ле где место его закопать! И поехала бабушка со мной в Москву. А в Москве не одной мне, а многим тысячам показала, какая она артистка. Маленькая, сухенькая, — а дыханье, как у заправского певца! Три зуба во рту, — а произношенье четкое на диво! 72 года, а огня, жизни — на зависть молодым! И не поразили ее чудеса большого города. Трамваи, автомобили, магазины с невиданными товарами — все это скользнуло, не задев души лесной бабушки. Но ее артистическая душа жадно впитала в себя тот дух старины, которым веет от Москвы для всякого художника. Бабушка здесь в Москве получила оправдание своим песням, и по той огромной радости, с которой она говорила об этом, можно заключить, как дороги были ей ее песни. Подумайте: всю жизнь пела о Каменной Москве, об Иване Грозном, о Марье Демрюковне и все здесь нашлось: — Уж правда, каменна Москва: дома каменны, земля камен-на… Ивана Грозного своими глазами видела (т. е. портрет), знаю уж, что не врака, а быль-же, бывало! Ехать в Замоскворечье — значить ехать к Скарлютке (к дому Малюты Скуратова); Каменный мост — стал «калиновым» мостом… Но и сама Москва ответила любовью на бабушкину радость. Все, кто бывал на ее выступлениях, помнят то умиленное восхищение, с каким толпа смотрела на бабушку. В Петрограде, где бабушка провела две недели, был такой же прием. В газетах о ней писались восторженные, огромные статьи. Обе столицы обеспечили бабушке старость, и бабушка уехала на родину, после трехмесячного пребывания здесь, осыпанная подарками, богатая и напоенная славой и радостью.* * *
То, что бабушка называет одним словом «старины», мы разделяем на три вида эпических песен: былины, исторические песни и скоморошьи. Из былин она больше всего любит самую длинную про «Илью Муровича и Калина царя». Так как многие слышали бабушку, восхищались ею и даже успели полюбить ее, то им, думается, приятно будет прочитать или спеть былину так, чтобы исполнение напомнило бабушку возможно живее; поэтому текст напечатан с сохранением бабушкиного произношения. Местоимения и прилагательные в родительном падеже она произносит так, как мы пишем: молодого, его, а не молодова, ево, как произносим мы; когда слог начинается звуком и, она его произносит, как йи: у йих, Йилья. Но это в тексте не обозначено. В неударных слогах у всех северян о звучит, как о, но у бабушки произношение в этом случае ближе к московскому: она часто неударное о произносит как а. в этих случаях и напечатано а. Звук ч у нее звучит очень мягко, похоже на ц, большей частью ближе к ч, а иногда ближе к ц, в духовных стихах, которые она выучила от матери, чаще звучит явное ц вместо ч, в старинах — реже. Возможно, что у деда было московское или близкое к нему произношение, потому что произношение Марьи Дмитриевны Кривополеновой заметно уклоняется от произношения ее земляков в сторону московского. Такие случаи в Архангельской губернии не редки. У нее, как и у всех северян, и в песнях, и в речи встречается одна любопытная особенность, сохранившаяся от очень древнего времени, — приставки в конце имен существительных (или заменяющих последние имен прилагательных, местоимений, числительных, причастий). Приставки эти как бы ближе определяют предмет, привлекая к нему большее внимание. Сообразно роду и числу существительного, они изменяются: для мужского рода от, для женского — та, для среднего то, для множественного числа — те: царь-от, матушка-та, лапоньки-те беленьки. Изобилие подобных приставок особенно заметно в «Кастрюке». Исполнители былин называются сказителями, и это верное название: нельзя бедный по музыке мотив называть песней, и в то же самое время в исполнении былин чрезвычайно важно уменье выразительно «сказывать». Бабушка Кривополенова и пленила всех своим драматическим талантом: своей мимикой, своим искусством менять тембр голоса в зависимости от развития действия содержания. Часто пение она прерывает своими собственными замечаниями или пояснениями, потому что вся она во власти своих образов, и от полноты переживания ей мало былинного текста. Эти ее собственные замечания напечатаны курсивом в скобках.Бабушка выступила со своими старинами в Москве, Твери и Петрограде: 8 раз публично, в научных и литературных кружках 4 раза; в 5 высших учебных заведениях, в 40 средних и б низших. Как не растерялась старая нищенка перед лицом тысячной толпы? Это тайна артистической власти. Пусть она неграмотная нищенка, а в первых рядах сидят знатные, богатые, ученые, — но бабушка властвует над ними, потому что в эту минуту чувствует себя и богаче и ученее всех слушателей. Она поет «Небылицу», эту пустую, забавную чепуху и так властно приказывает всем подтягивать, что тысячная толпа, забыв свой возраст и положение, в это мгновение полна одним желаньем: угодить лесной старушенке. Обаяние ея личности, твердой, светлой, и радостной, выкованной дивным севером, отражается в ея исполнении, и так понятен возглас толпы, одинаковый во всех городах: «Спасибо, бабушка!» Так понятно желание тысячи человек пожать старую, сморщенную руку, всю жизнь горестно протягивавшуюся за подаянием, пожать с чувством любви и уважения к бабушке, как к образу нашего народа.
Соловей Будемерович и Запава Путевисьня
Из-под ветерья[47] как кудрявого,
Из того орешва зеленого
Тут бежит, выбегает тридцать насадов
А и три, и два, и един карапь;
Тут и нос-корма по змеинному.
У прибегишша как ладейного,
У того присталишша карабельнего
Опускали парусы полотненны,
Ишша те жа якори булатные;
Оне ходенки мечют коньци на берег.
А пришол кок тут младый Соловей,
Ишша младый Соловей Будемерович.
А пришол как он з-за-Синя моря
Он Владимеру князю подарки берë:
Он ведь сорок сороков и черных соболей.
Он кнегины Опраксеи подарки берë:
Педесят аршин хрущатой камки;
Ишша в золоти камоцька не помнитсе,[48]
И не помнитсе, и не согнитьсе.
А пошел как тут младый Соловей,
Он пашол ка городу ко Непрському.
Он ведь будя в городи во Непрськом;
Он в гридню идё не с упадками, —
Отпираë он двери на пету.
Он идё в гридню, — да Богу молитсе,
Он Владимеру князю поклоняитьсе;
Он Владимеру князю подарки дарит:
Он ведь сорок сороков и черных соболей;
Он кнегины Опраксеи подарки дарит,
Педесят аршин хрущатой камки,
А и в золоти комоцька не помнетсе,
И не помнитьсе, и не согнитьсе.
Ишша князь комоцьку розвертывал,
Ишша князь узоры высматривал:
А хитры-мудры узоры заморские.
Говорил как тут Володимёр князь:
«Уж ты ой еси младый Соловей!
А и што тибе тако надобно?
Ишша надобно ле дворы мои,
А дворы мои все стоялые,
А стоялы дворы мои, боярьские?»
Говорил как тут младый Соловей,
Ишша младый Соловей Будимирович,
Гаварил как он таково слово:
«А и не надобно мне дворы твои,
А и дворы твои все стоялые,
А-й стоялы дворы твои, боярьские;
Уж ты дай мине загон земли
Ишша супратив Запавьина вишенья».
(Што ли у ей што есть: сад какой!)
Ишша тот жа как Владимёр князь
Отдает как Соловью загон земли,
Што ва той ва улици Жироевлиньской,
Ишша супротив Запавьина вишенья.
Как у Соловья были плотницьки,
Они шшолканы и прошшолканы:
(Таки были бойкие).
Они к утру, к свету построились,
Они пастроили тут как три терема,
А три терема златоверховаты.
Ишша та Запава Путевисьня
А ставала по утру ранешенько,
Умывал асе водой ключевою,
Утиралась полотеньцем тоненьким.
А-й взглянула Запава в свое вишеньё,
(Што нибудь сажено было, кто знает!)
Ишша тут Запава здивоваласе:
«Ишша што така за диковинка?
Ишша кто вново построилса?
И построил тут как три терема.
А три терема златоверьховаты?
Я пайду ко князю-ту спрашивать».
Ишша та Запава Путевисьня
А-й пошла ко князю ведь спрашивать:
Айв гридню идё не с упадками. —
Отпираёт двери тут на пету;
Айв гридню идё, — да Богу молитьце,
А Владимеру князю поклоняитсе:
«Ты Владимёр, князь стольнекиевской!
Ишша што така за диковина?
Ишша хто такой вново настроилса»?
Гаварил как тут Владимёр князь:
«Уж ты ой еси, Запава Путевисьня!
А построился младый Соловей Будимерович;
А пришол как он з-за синя моря,
Ишша он тут вново настроилса».
Ишша та Запава Путевисьня
Говорит она таково слово:
«Уж ты ой еси, ты Владимёр князь!
Я пайду к нему насватыватьсе;
Не возьмет ле он в-за собя взамуж»?
Как та Запава Путевисьня
А пошла ко Соловью навязыватьсе.
По первой терем припала, послушала:
Тут шолчят-молчят, ничего не говорят;
Ишша тут Запава догадаласе:
«Ишша тут у Соловья казна стоит».
По второй терем припала, послушала:
Тут шолчят-молчят, ничего не говорят;
Ишша тут Запава догадаласе:
«Тут живет Соловьева тут матушка,
Ишша молитця за Соловья здоровьице».
По третей терем припала, послушала:
Тут песни поют и гудки гуд нут;
Ишша тут Запава догадаласе:
«А-й седит как тут младый Соловей
А и младый Соловей Будимерович.
А сидит на стуле ременьчатом,
А играт во гусли во звоньчяты».
А в гридню идет не с упадками,—
Отпираёт двери тут на пету;
А в гридню идет, — Богу не молитьсе».
Гаварил как тут младый Соловей:
«Уж ты ой еси, Запава Путевисьня!
Ишша што тя, Запава, нынь кретня взяла,
А кретня взяла неизумелая»?
(Безумничала, вииіъ ты, говорит…)
Гаварит Запава Путевисьня:
«А меня Запаву не кретня взяла,
Не кретня взяла неизумелая, —
Я пришла к тебе ведь насватыватьсе;
Не возьмешь ле ты за собя взамуж»?
Гаварит как тут младый Соловей:
«Уж ты дай ты строку на малой чяс
Мне сходить к государыни ка матушки,
Попросить у ей благословеньиця».
Он пошел ведь тут младый Соловей,
А пошел ведь он к своей матинки,
Он ведь падат матушки в резвы ноги:
«Уж ты гой, государыня матушка!
Бласлови ты миня нынь жонитисе
А на той Запавы Путевисьны:
Ишша нынь Запава сама пришла».
Гаварит ведь тут Соловьёва матушка:
«Тибя Бог бласловит чядо милоë,
А тобе на Запаве жонитисе».
А пошел как тут млады Соловей,
А пошел к Запавы Путевисьни.
Они сватались, тут сосватались,
По рукам они тут ударились,
Слово на слово ведь положили;
Они клали заповедь крепкую,
Они клали заповедь на три года ведь,
А сходить ведь Соловью за синё море.
Наставляли парусы полотняны,
Направляли якори булатные;
Отправлялса тут младый Соловей,
Отправлялса он за синё море.
Ему дал Бог поветерь попутную.
Как ва ту пару, во то времечько
Из-вод ветерья как кудрявого,
Из того орешва зеленого
А бежит прибегищо лодейноë,
А лодейноë карабельнёё:
А се три, се два, се един карапь.
У прибегища как лодейного,
У того присталища карабельнего
Опускали парусы полотнены
Опускали якори булатные,
Они ходенки мечют коньци на берег.
А пришол как тут ишша шшап молодой,
Ишша шшап маладой и Давыд Попов.
Он Владимеру князю подарки берë:
Он ведь сорок сороков и черных соболей;
Он кнегины Опраксеи подарки берë:
Педдесят аршын хрущатой камки
Ишша в золоти камоцька не помнетьсе,
И не помнетьсе, и не согнитьсе.
А-й пошёл как тут ишша шшап молодой,
Ишша шшап малодой и Давыд Попов;
И пошел ко городу ко Непрському,
А и будя во городи во Непрськом;
Он в гридню идё не с упадками, —
Отпираёт он двери на пету.
Он в гридню идет, — Богу молитьсе,
Он Владимеру князю поклоняитьсе;
Он Владимеру князю подарки дарит,
Он ведь сорок сороков и черных соболей;
Он кнегины Опраксеи подарки дарит,
Педдесят аршын хрущатой камки.
Ишша кнезь камоцьку развертывал;
Ишша князь узоры высматривал:
А хитры-мудры узоры заморские,
Ишша в золоти камоцька не помнетсе,
И не помнетсе и не согнетсе.
Гаварил как тут Владимёр князь:
«Уж ты ой еси, ишша шшап молодой,
Ишша шшап молодой и Давыд Попов!
А и што тибе да тако надобно?
Ишша надобно ле дворы мои
А-й дворы мои ле боярьсюе?»
Гаварил как тут ишша шшап маладой:
«Ишша надо мне и дворы твои,
А и дворы твои все стоялые,
А-й стоялы дворы твои все боярьские».
Гаварил ведь тут ишша шшап моладой:
«Я пайду топер к Соловьевой матушки,
Я скажу ведь ей как про Соловья.
Ишша нынь ведь Соловья живаго нет:
Розметало по морю по синему,
(Ишь какой враль!)
По тому жа по полю по чистому;
Мы ведь друг друга не спознали».
Как пашёл ведь тут шшап маладой,
Он пашел ведь тут к Соловьёвой матушки
(Врать пошел!)
Ишша сказывать ей про Соловья:
«Уж ты зрасвуёшь, Соловьева матушка!
Я пришол сказать тобе про Соловья.
Ишша нынь ведь Соловья живаго нет:
Розметало по морю по синему,
По тому жа по полю по чистому;
Мы ведь друг друга не спознали».
Ишша та тут Соловьева тут матушка
А-й пошла ведь к Запавы отказыватьсе:
«Уж ты гой еси, Запава Путевисьня!
Ишшо нынь, Запава, те своя воля,
Те своя воля: куды хошь поди;
Ишша нынь ведь Соловья живаго нет:
Розметало по морю по синему,
По таму жа по полю по чистому».
А пришел ведь ныньче и шшап молодой,
Ишша шшап маладой и Давыд Попов;
Он ведь стал на Запавы тут свататьси.
Они сватались, тут сосватались,
По рукам они тут ударились.
А Владимёр князь у их тысяцким,
А кнегина Опраксея матушкой.
Повелась у их тут ведь свадёбка.
Из-под ветерья как кудрявого,
Из того орешва зеленого
А бежит, выбегает тридцать насадов:
А и три, и два, и един карапь.
У того присталища карабельнего
Опускали парусы полотнены,
Опускали якори булатные.
Они ходенки мечют коньци на берег,
А пришол как тут младый Соловей
А и младый Соловей Будимирович.
Он пашол ко городу ко Непрському.
Он ведь будя в городи во Непрськом:
Он идет в гридню не с упадками, —
Отпираёт двери он на пету;
Он в гридню идет, — да Богу молитьсе,
А корминици матенки поклоняитьсе:
«Уж ты зрасвуёшь, родна матушка!» —
«Уж ты зрасвуёшь, млады Соловей
А и младый Соловей Будимирович!
А пришол как нынь з-за синя моря,
А пришол как нынь ишша шшап маладой;
А сказал про Соловья: „живаго нет: —
Розметало по морю по синему,
По тому жа по полю по чистому".
Я хадила к Запавы отказыватьсе:
„Нынь тебе, Запава, своя воля
А-й своя воля: куды хошь, поди”.
А и шшап молодой и Давыд Попов
Он ведь стал на ей тут ведь свататьсе;
Они сватались, тут ведь сосватались,
По рукам они тут ударились;
А Владимёр князь у их тысяцким,
А кнегина Опраксея матушкой;
А ведетьсе у их нынь ведь свадёбка».
Гаварит как тут младый Соловей:
«Уж ты ой, государыня матушка!
Я пойду к им ведь на свадебку».
А пашел как тут младый Соловей,
А-й пашел ведь к ним на свадёбку.
Он в гридню идет не с упадками, —
Отпираë двери он на пету;
А в гридню идё, — Богу молитьсе,
А Владимеру князю поклоняитьсе,
Поклоняитьсе со кнегиною;
А ишша сам говорил таково слово:
«Уж ты ой еси, ишша шшап маладой!
Ты зачем омманывашь мою матушку,
Ты зачем берешь мою обрушьницю?»
Его за руку хватил, дак выхватил;
На долонь посадил, другой росхлопнул.
(Этакой боготыригишо! Сохрани его Бог! Его
и судить нихто не может.)
Он ведь брал Запаву за белы руки,
А поехали они ко Божьей церкви.
А Владимёр князь у их тысяцким,
А кнегина Опраксея матушкой.
Повелась у них тут свадёбка.
Илья Мурович и Калин царь
Што из далечя да из чиста поля,
Из того роздолья широкого,
Тут не грузна тучя подымаласе,
Тут не обол око накаталосе,
Тут не оболоко обкаталосе, —
Подымался собака злодей Калин царь,
За им сорок царей, сорок царевичей,
За им сорок королей, королевичей,
За им силы мелкой числу-смету нет.
Как по-руському на сороки верстах
Тут и Киев град знаменуетсе,
А и церькви соборны оказаютсе.
Становил собака тут бел шатер.
У его шатра золоченой верхь,
Он садился на стул на рименьчятой,
А писал ерлык, скоро написывал,
Он скорей того запечятывал,
Отдает паслу немилосливу
А-й тому Борису королевичю:
«Уж ты ой еси, Борис, королевич сын!
Уж ты будешь в городи в Киеви
У великого княза у Владимера, —
Недавай ты строку на малой чяс».
Ишшо тут Борис, королевич сын,
Он берет ерлык, во корман кладет,
Он ведь скоро скачёт на добра коня,
Он ведь едёт к городу Киеву,
Ко великому князю, ко Владимеру.
Становил коня к дубову столбу,
Он везал коня к золоту кольцю.
Он в гридню идет не с упадками, —
Отпираёт двери он на пету;
Он в гридню идет, — Богу не молитьсе;
Через стол скочил, сам во место сел.
Он вымат ерлык, на стол кладет,
Ишша сам говорит таково слово;
«Ты Владимёр, князь стольникиевьской!
Ты бери ерлык, роспичятывай,
Ты скоре того прочитывай;
Ты миня посла не задерживай».
Как Владимёр, князь стольнекиевьской,
Он берет ерлык во свои руки,
Отдает Добрынюшки Микитичю.
Говорил Добрынюшка Микитичь сын:
«Я не знаю грамоты латыньскоë,
Ты отдай Олеши Поповичю».
Отдают Олеши Поповичю.
(У того было мозгу в головы, дак…)
Как Алешичька и Поповиць сын,
Он ведь скоро ерлык роспичятывал,
Он скоре того прочитывал.
Он скорее того же прочитывал.
Говорил как он таково слово:
«Ты Владимёр, князь стольникиевьской!
Харошо в ерлычьки написано
А написано со угрозою,
А су той угрозой великою:
Как стоит собака царь середи поля;
За им сорок царей, сорок царевичей,
За им сорок королей, королевичей,
За им силы мелкой числу-смету нет.
Как по руському на сороки верстах
Он ведь просит города Киеева
Без бою, без драки, без сеченья,
(Как нынешний ерманец.)
Без того кроволитья великого».
Запечалилса наш Влодимер князь,
Запечалилса-закручинилса;
Он повесил буйную голову
А на ту на правую сторону,
Потупил он очи в мать сыру землю.
Как во ту пору, во то времечько
Выходил как стар казак Илья Муровичь;
Говорил как он таково слово:
«Ты Влодимёр стольнокиевьской!
Ты бери свои золоты ключи,
Отмыкай-ко погребы глубоки-жа;
Ты насыпь ралечь нисту золота,[49]
Ты второй насыпь чиста серебра,
Ты третей ларец скатна земчюга;
Ты дари-ко Бориса королевичя,
Ты проси-ко строку на три месяця,
Штобы всем во городи покаятьсе,
Нам покаятьсе да исповедатьсе».
Ишша тут жа как Владимёр князь
Он берет свои золоты ключи,
Отмыкаë погребы глубоки жа;
Он насыпал ралечь нисту золота,
Он второй насыпал чиста серебра,
Он третей насыпал скатна земьчюга,
А дарит Бориса королевичя,
А просил ведь строку на три месяця,
Штобы всем во городи покаятьсе,
Нам покаятьсе да исповедатьсе.
Ишша тут Борис, королевичь сын,
Не дает ведь строку на три месеця;
Он дает ведь строку только на три дня.
(Все-жь таки дал!)
Спроважали Бориса королевичя,
Спроважали кнезья и бояра;
А во ту пору, во то времечько
Запечялилса наш Владимёр князь,
Запечялилса-закручинилса:
Он повесил буйную голову
Што на ту на праву сторону,
Потупил он очи в мать сыру землю.
Как во ту пору, во то времечько
Выходил как стар казак Илья Муровичь,
Выходил на середу кирпичнею;
Он ведь молитьсе Спасу Пречистому,
Он ведь Божьей Матери, Богородици.
Он пошел Илья на конюшон двор;
Он берет своёго добра коня;
Он накладыват уздицю тасмянную;
Он вуздат во уздилиця булатные;
Он накладывал тут ведь войлучёк,
Он на войлучёк седелышко;
Подпрягал двенадцеть подпруженёк,
А ишша две подпружки подпрягаюци
А не ради басы,[50] ради крепости,
А не шшиб бы богатыря доброй конь,
А не шшиб бы богатыря в чистом поли.
Он ведь скоро скачёт на добра коня;
У ворот приворотников не спрашивал, —
А махал через стену городовую,
А и ехал он день до вечера,
А и темну ночь до бела свету.
Приезжает он ко меньшой реки,
Ко меньшой реки, ко синю морю;
Он нашел тут тридцать три богатыря.
Он с добра коня слезываючи,
Он низкой поклон им воздаваючи:
«Уж вы здрастуйте, доньски казаки!»
«Уж ты зрасвуëш, наш ведь батюшко,
Уж ты стар казак да Илья Муровичь!
Ты давно ли из города Киева?
Але все ли у нас там по старому,
А и все ли у нас там по прежному?»
Говорит как тут да Илья Муровичь:
«Уж вы ой еси, доньски казаки!
И во городи у нас, во Киеви
Не по старому, не по прежному;
Как стоит царь собака середи поля;
За им сорок царей, сорок царевичей,
За им сорок королей, королевичей,
За им силы мелкой числу-смету нет.
Как по-руському на сороки верстах
Он ведь просит города Киева
Без бою, без драки, без сеченья,
Без того кровопролитья великого».
Говорил как тут да Илья Муровичь:
«Уж вы ой еси, доньски казаки!
Уж вы будите стоять ле за Киёв град,
Вы за те за церкви соборные,
Вы за те манастыри церьковные,
За того за князя, за Владимера?»
Говорят как тут доньски казаки:
«Уж ты батюшко наш, стар казак!
Ишша как не стоять нам за Киёв град,
Нам за те за церькви соборные,
Нам за те манастыри церьковные,
За того за князя за Владимера?»
Они скоро скачют на добрых коней
И поехали к городу к Киеву,
Ко великому князю ко Владимеру,
И поехало тридцеть три богатыря, —
Затресласе матушка сыра земля.
Они будут в городи в Киеви,
У великого князя у Владимера.
Зрадовался тут Владимер-от
Он на радошшах им и пир средил,
Он и пир средил, пировати стал.
Ишше все на пиру напивалисе,
Они все на чесном наедалисе.
Как один на пиру не упиваитсе
А и стар казак да Илья Муровичь;
Ишша сам говорил таково слово:
«Уж вы ой еси, доньски казаки!
Нынь приходит времечко строчьнеё.
А кому у нас ныньче ехати
На ту ли силу неверную?»
Говорят как доньски казаки:
«Уж ты батюшко наш, стар казак!
Ты останьсе в Киеви в городи
Стерекчи-сберекчи кнезя Владимера».
Гаварил как тут да Илья Муровичь:
«Тут не честь-хвала молодечькая,
Ой не выслуга богатырская —
Как Илейки в Киеви остатисе,
Будут малы робята все смеятисе».
Ишша тут Илья поежжаёт жа
А на ту на силу неверную.
Он берет с собою только товарышша,
Он берёт Добрынюшку Микитичя;
И берет ведь второго товаришша,
Он Тороп-слугу да мала паруха;
Он троима тут поежжаёт ведь
Он на ту на силу неверную.
А выходят на середу кирпичнею
Они молиться Спасу Пречистому,
Они Божьей Матери, Богородици;
Они скоро скачют на добрых коней,
У ворот приворотников не спрашивали, —
Они машут через стену городовую.
Они едут как по чисту полю, —
Во чистом поли курева стоят,
В куревы богатырей не видети.
Выежжают на поле чистое
А на ту на силу неверную.
Ишша тут два братьця испужалисе,
Испужалисе-устрашилисе
Они той ведь силы неверною;
Говорят они таково слово:
«Уж ты батюшко наш, стар казак!
Ты поставь этта нам бел шатёр,
Дай ты нам опочин дёржать».
Как поставил Илья тут им бел шатёр,
Ишша дал ведь им опочин дёржать;
Сам он тут им ведь наказывал
А наказывал наговаривал:
«Ой еси, вы два братця родимые!
Уж вы ой еси, доньски казаки!
Как Елейки худо будë можитьсе, —
Натену я стрелоцьку каленую
Я спушшу этта вам во бел шатер;
Уж вы гоните тогды во всю голову,
Вы рубите старого и малого».
Ишша сам Илья думу думаёт:
Он не знает, котору да ехати;
Он поехал силой середкою;
Поворотитсе, — дак переулками.
Он ведь день рубился до вечера,
Он и темну ночь до бела свиту,
Не пиваючи, не едаючи,
А добру коню отдоху не даваючи.
Как Илейки стало худо можитьсе;
Натенул он стрелочку каленую,
Он спустил богатырям во бел шатёр.
Ишша тут богатыри ото сну скочили,
Они скоро скачют на добрых коней,
Они гонят тут во всю голову,
Они рубят стараго и малого.
Они день рубились до вечера,
Они темну ночь до бела свету,
Не пиваючи, не едаючи,
А добрым коням отдоху не даваючи;
А прибили всех до единаго.
Ишша тут два братця не натешились,
Не натешились приросхвастались.
А один говорил таково слово:
«А было-б в матушки, в сырой земли,
А было бы в ей золото кольцë, —
Поворотил бы матушку сыру землю».
А другой говорил таково слово:
«А была бы на небо листвиця,[51]
Я прибил бы там до единого».
По грехам по их так ведь сделалось:
А который сечен был на двое,
А возстало тут два тотарина;
А которой сечен был на трое,
И возстало тут три тотарина.
Гаворит как тут да Илья Муровичь:
«Уж вы гой еси, два братёлка!
По грехам по нашим так сделалось».
Они поехали силой, середкой;
Поворотятсе, — дак переулками.
Они бились день да до вечера,
Они темну ночь до бела свету,
Не пиваючи, не едаючи,
А добрым коням отдоху не даваючи;
И прибили всех до единого.
Ишшо тут два братця где девалисе,
Я не знай, куда подевалисе.
(За похвасны слова скрозь землю прошли).
А один Илья оставаитьсе.
Он поехал к городу к Киёву
Ко великому князю ко Владимеру.
(Дальше не поетця, а говоритця. Дедушко так).
Становил коня к дубову столбу,
Он везал коня к золоту кольцю.
Он в гридню идет не с упадками, —
Отпираë двери он на пету;
Он ведь молитьсе Спасу Пречистому,
Он ведь Божьей Матери, Богородици;
Он Владимеру князю поклоняитьсе:
«Ты Владимёр князь стольникиевьской!
Ишша то ведь дело у нас сделано,
Ишша та роботушка сроблена.
Только не знать, где два братця девалисе
И не знать, куда потерялисе.
Как перва они да испужалисе;
А потом они не натешились,
Не натешились, приросхвастались.
А один говорил таково слово:
„А было бы в матушки в сырой земли,
А было бы в ей золото кольцë, —
Поворотил бы матушку сыру землю,
Я прибил бы там до единого".
А другой говорил таково слово:
„А было бы на небо листвеця, —
Я прибил бы там до единого".
По грехам по нашим так сделалось:
А которой сечен был на двое,
А востало тут два тотарина;
А которой сечен был на трое,
А востало тут три татарина».
Говорит как тут Владимёр князь:
«Ишша нет как их, — дак не искать же стать».
Он на радошшах тут и пир средил,
Он и пир средил, пировати стал.
Илья Мурович и Чудище
Было у нас во Царе-гради
Наехало проклятоë чюдишшо.
Да сам ведь как он семи аршын,
Галова у его да как пивной котел,
А ножишша как-быть лыжишша,
Да ручишша да как-быть граблишша,
Да глазишша да как-быть чашишша.
У царя Костянтина Атаульевичя
Сковали у его да ноги резвые
Тема жа залезами немецькима,
А свезали его да руки белые
Тема же опутьеми шолковыма,
Кнегину Опраксею в палон взели.
Во ту-то пору да во то времечько
Перепахнула веска за реку Москву,
Во тот же как ведь Киев град
К тому же ведь да к Ильи Муровичю:
«Да ой еси ты, Илья Муровичь!
Уж ты знаёшь ле, про то ведаёшь?
Помёркло у нас да соньцо красное
Потухла звезда да поднебесная:
И ныньче у нас во Царе-граде
Наехало проклятое чудишшо;
А сам как он из семи аршын,
Голова его да как пивной котел,
А ножишша как-быть лыжишша,
А ручишша как-быть граблишша;
А глазишша как-быть чашишша.
У царя Костянтина Атаульевичя
Сковали у его да ноги резвы же
Тема же залезами немецькима,
Свезали его руки белые
Тема же опутьями шолковыма,
Кнегину Опраксею в полон взели».
Да тут же ведь да Илья Муровичь
Надеваёт он тут платье цветное
Выходит на середу кирпицнею
Молитьсе Спасу Пречистому.
Да Божьей Матери, Богородици.
Пошел Илья на конюшон двор
И берет как своего добра коня,
Добра коня со семи цепей;
Накладыват уздицю тасмянною,
Уздат во уздилиця булатные,
Накладыват тут ведь войлучек,
На войлучек он седелышко;
Подпрегал он двенадцать подпруженёк,
Ишша две подпружки подпрягаютси
Не ради басы, да ради крепости,
Не шшиб бы богатыря доброй конь,
Не оставил бы богатыря в чистом поли.
Да скоро он скачёт на добра коня;
У ворот приворотников не спрашивал, —
(Они думали, поедет воротами.)
Да он машот через стену городову жа.
Едёт он по чисту полю, —
Во чистом-то поли да курева стоят,
В куревы-то богатыря не видети.
Да ехал он день до вечера,
А темну-то ночь до бела свету,
Не пиваючи он, да не едаючи,
Добру коню отдоху не даваючи.
Конь-от под им как потпинатьсе стал.
Бьет он коня и по тучьним ребрам:
«А волчья сыть,[52] травяной мешок!
А што тако подпинаисьсе,
Надо мной над богатырём надсмехаисьсе?»
А конь скочил, — за реку перескочил.
А прошло три дороги широких — е
А не знат Илья, да куда ехати.
А во ту пору, во то времечько
Идет как калика да перехожая,
Перехожа калика безымянная.
Говорит как тут да Илья Муровичь:
«Уж ты здравсвуёшь, калика перехожая,
Перехожа калика безымянная!
А где ты был да ты куда пошёл?»
Отвечает калика да перехожая,
Перехожа калика да безымянная:
«Я иду ведь тут из Царя-града,
Я пошёл ведь тут во Киёв град».
Говорил как тут да Илья Муровичь:
«Уж ты ой еси, калика перехожая,
Перехожа калика безымянная!
А што у вас да во Царе-гради?
Ишша всё ле у вас там по старому,
Ишша все ле у вас там по прежному?»
Говорит как калика перехожая,
Перехожа калика безымянная:
«Уж ты ой еси, да Илья Муровичь!
А у нас ведь нынь во Царе-гради
Не по старому, не по прежному.
А потухло у нас соньцë красноë,
А помёркла звезда поднебесная:
Как наехало проклятоë чюдишшо;
Ишша сам как он семи аршин,
Голова его как пивной котёл,
А и ножишша, как-быть лыжишша,
А и ручишша, как-быть граблишша,
А и глазишша как-быть чяшишша.
У царя Костянтина Атаульевичя
Ишша скованы ноги резвые
А тема жа залезами немецькима,
Ишша связаны руки белые
А-й тема опутьями шолковыма».
Говорит как тут Илья Муровичь:
«Уж ты ой еси, калика перехожая,
Перехожа калика безымянная!
Ишша платьем с тобой мы поминямьсе:
Ты возьми у мня платье богатырскоë,
А отдай мине платье калицькоë».
Говорит как калика перехожая:
«Я бы не взял платья богатырьскаго,
Я бы не отдал платья калицького,
А едно у нас солнышко на неби,
А един у нас могут богатырь
А старо казак да Илья Муровичь;
А с тобой с Ильей дак и слова нет».
Они платьём тут да поминялисе.
Ишше тут же ведь Илья Муровичь
Он ведь скинул платьё богатырскоë,
А одел собе платьё калицькоë
И оставил калики добра коня.
Он ведь сам пошел тут каликою;
Ишша клюцькой[53] идё потпираитьсе, —
Ишша клюцька под им изгибаитьсе:
Говорит тут Илья Муровичь:
«Не по мне ета клюцька и кована,
Ишша мало залеза ей складено;
Ишша сорок пуд во единой фунт».
(Не худой видно сам был.)
А идет как калика да по Царю-граду;
А скрыцял как он да по калицькому,
Засвистел как он по богатырьскаму, —
А проклятоë тут чюдишшо
Оно чуть сидит на лавици.
А та же калика перехожая,
А идет ведь к чюдишшу в светлу гридню.
Он ведь молитьсе Спасу Пречистому,
Он ведь Божьей Матери, Богородици.
А сидит проклятоë чюдишшо,
А сидит оно ведь на лавици;
Ишша сам как он семи аршын,
Голова его как пивной котел,
Ишша ножишша, как-быть лыжишша,
Ишша ручишша, как-быть граблишша,
Ишша глазишша, как-быть чашишша.
Говорит как проклятое чудишшо:
«Уж ты ой еси, калика перехожая!
Уж ты где ты был, куды ходил?» —
«Уж я был во городи во Киеви
У стара казака да Ильи Муровичя».
Говорит как тут ведь ишше чюдишшо:
«А каков у вас и могут богатырь,
Ишша стар казак да Илья Муровичь?»
Говорит калика перехожая,
Перехожа калика безымянная:
«А таков у нас могут богатырь,
Ишша стар казак да Илья Муровичь:
А в один мы день с им родилисе,
А в одной мы школы грамоты училисе,
А и ростом он такой, как я».
Говорит проклятоë чюдишшо:
«Ишша много ле он хлеба к выти[54] съес?»
Говорит калика перехожая:
«От ковриги краюшецку отрушаёт,
А и той краюшкой трое сутки живет».
Говорит проклятое чюдишщо:
«По сторублевому быку да я ведь к выти ем!»
Говорит как калика перехожая,
Перехожа калика да безымянная;
«У нас, у попа была коровушка обжориста
Да много жорила, ей и розорвало!»
Говорит проклятое чюдишшо:
«Я и буду в городи въ Киеви, —
Ишше буду я как баран тусён,
Как баран тусён, как сокол есён;
Стару казака да Илью Муровичя
На долонь посажу, другой росхлопну, —
У его только и мокро пойдë».
Стоит как калика перехожая,
Он смыаë шляпоцьку воскрыньцату,
Он и взгрел чюдишша по буйной главы.
Покатилась голова, как пивной котел.
Тут ведь павелы и юлавелы.
Ишше та его сила неверна жа
И схватали тут да Илью Муровичя,
А сковали его ноги резвы жа
А-й тема залезами немецькима,
А свезали его руки белы жа
Тема же опутьями шолковыма.
Говорит как тут да Илья Муровичь:
«Уж ты Спас, уж ты Спас Многомилослив,
Уж ты, Божья Мать, Богородиця!
Уж вы што на миня да ек прогневались?»
Приломал все залеза немецкие,
Он прирвал опутьни шолковые;
Он ведь стал по силы тут похажывать,
Он ведь стал ту силу поколачивать,
Он прибил их всех до единого.
Ишша ихны те ведь тулова
Он выкидыват окошечьком на улоцьку,
Ишша сам он им приговариват:
«А пушшай ваши те ведь тулова
А-й серым волкам на розрываньё,
А черным воронам на росклеванье,
Ишша малым робятам на изрыганьё».
У царя Констянтина Атаульевичя
Росковал у его да ноги резвые,
Розвезал у его руки белые;
А кнегину Опраксею назад ведь взял;
Посадил он их тут на царство жа.
А пошел как тут да Илья Муровичь,
А приходит он ко меньшой реки
Ко тому калики перехожое.
Ишша тут калика перехожая,
Перехожа калика безымянная
И не можот он его конем владать,
А его коня в поводу водит.
Они платьём тут розминялисе:
Ишша тот ведь да Илья Муровичь.
Он ведь скинул платье калицькоë,
Он одел ведь платье богатырское.
Ишша тут они розъезжжалисе,
Ишша они тут роспрошшалисе;
А Илья поехал домой ведь тут,
А калика пошел, куды надомно.
Молодость Добрыни и бой его с Ильей Муровичем
Во славном во городи во Киеви
Был тут Никита Родомановичь.
Девеносто он лет жил, пристарилса,
Он пристарилса, да тут припокоилса.
Оставаласе семья любимая
Да чесна вдова Омыльфа Тимофеёвна;
Оставалса Добрынюшка Микитичь млад
Он не в полном уми, не в полном разуми,
Не в великом Добрынюшка возрости:
Он не можот Добрыня на кони сидеть,
Он не можот Добрынюшка канем владать.
Ишша стал как Добрыня лет двенадцети,
Он падал своей матушки в резвы ноги:
«Уж ты ой, государыня матушка!
Чесна вдова, Омыльфа Тимофеёвна!
Блаослови-тко миня выйти на улоньку
Ишша с малыма робятами поиграти».
Да которы робята двадцети петй,
Ишша он ведь Добрыня да лет двенадцети.
«Тибя Бог бласловит, чядо милоë,
А молоду Добрынюшку Микитичя млад,
А тибе жа как выйти на улоньку
Ишша с малыма робятами поиграти».
Да которы робята двадцети пети,
Ишша он ведь Добрыня да лет двенадцети.
А пошел как Добрынюшка на улоньку,
Ишшо стал он шутоцьки зашучивать:
Куго за руку возьмет, — руку выдернёт,
Куго за ногу подопнет, — ногу вышыбë,
По белой шеи ударит, — голова ведь с плеч.
Доходили ети жалобы великие жа,
Доходили до его ведь до матинки,
До чесной вдовы Омельфы Тимофеёвны.
А молодый Добрынюшка Микитичь млад
Он падал своей матинки в резвы ноги.
«Уж ты ой, государыня матушка!
Блаослови-тко миня итти-ехати
Да во далечë во чисто полë
Да учитьсе натуры богатырской жа».
Добрынина та матушка росплакалась:
«Уж ты молоды Добрынюшка Микитичь млад!
Ты не в полном уми, не в полном разуми,
Не в великом, Добрынюшка, возрости:
Да напрасно головушка погибнет ведь».
Он ведь падает своей матушки во второй након[55]
«Уж ты ой, государыня матушка!
Блаословишь ты миня, я поеду жа.
Не благословишь ты миня, я поеду жа».
«Тибя Бог бласловит чядо милоë,
Да молоду Добрынюшку Микитичя,
Тибе ехать во далечë в чисто полë
А учитьсе натуры богатырской жа».
А молоды Добрынюшка Микитичь млад
Он выходит на середу кирписьнею,
Он молитьсе Спасу Пречистому,
Он Божьей-то Матери, Богородици.
Да пошел как Добрыня на конюшон двор.
Он берёт ведь тут добра коня,
Он добра-та коня со семи цепей;
Он накладыват уздицю тасмяную,
Уз дат во уздилиця булатные;
Он накидывал Добрынюшка войлучек,
Он на войлучек Добрынюшка седелышко;
Подпрягал он двенадцать подпруженек,
А ишша две подпружки подпрягаютци
Да не ради басы, ради крепости:
Да не шшиб бы богатыря доброй конь,
Не оставил бы богатыря в чистом поли.
Надеваёт он латы булатные,
Да берет он с собой палку воинную,
Да берет он с собой саблю вострою,
Он берет ведь с собой востро копье,
Берет он с собой и булатный нож,
Скоро он скачёт на добра коня;
У ворот приворотников не спрашипал, —
Он махал через стену городовую.
Ишша ехалъ Добрыня по чисту полю, —
В чистом-то поли курева стоят,
В куревы как богатыря не видети.
Как во ту-то пору, в то-то времечько
Ко той вдовы Омыльфи Тимофеёвны
Приежжала полениця удалая,
Ишша стар-от казак Илья Муровичь.
Становил он коня к дубову столбу.
Да вязал он коня к золоту кольцю.
Да в гридню он идет не с упадками, —
Отпирает он двери тут на пету.
А молитьсе Спасу Пречистому,
А Божьей-то Матери, Богородици,
А чесной вдовы Омыльфы поклоняитьсе.
А чесна вдова Омыльфа Тимофеёвна
А поит поленицю, она кормит тут;
А сама поленици наказыват,
Да наказыват поленици, наговариват:
«Уж ты, ах, полениця удалая,
Уж ты стар казак, Илья Муровичь!
Ты поедёшь, Илья, во чисто поле;
Ты увидишь мое чядо милоë,
Ишша молоды Добрынюшку Микитичя;
Не придай ты ему смерти скорое».
Ишша тут полениця поежжаёт ведь,
А чесна вдова Омыльфа спровожаёт тут.
Скоро полениця скачёт на добра коня,
Ишша едет Илья по чисту полю, —
А молоды Добрынюшка Микитичь млад
Ишша ездит Добрыня по чисту полю,
А учитьсе натуры богатырской жа:
А правой рукой копьем шурматит,
А левой рукой он подхватыват.
А крыцит, как зыцит полениця удалая
Да стар казак Илья Муровичь:
«А пора, полениця, с тобой съехатьсе,
А пора, полениця, нам побрататьсе».
А Добрынюшка тут испужаитьсе,
А конь-от под им и подпинаитьсе.
А бьет он коня по тучьним ребрам:
«Уж ты, волчья ты сыть, травеной мешок!
И што тако ты подпинаисьсе,
Надо мной над богатырем надсмехаисьсе?»
Крицит как полениця, да во второй након:
«На уезд уж тобе не уехати!»
Как две горы вместях столконулисе, —
Два богатыря вместях съежжалисе.
Они бились палками воинныма;
По насадкам палки розгорялисе;
Они друг ведь друга не ранили,
А кидали палки на сыру землю.
Они секлись саблеми вострыма;
Ишше сабельки пошшорбалисе;
Они ведь друг друга не ранили,
Они кидали сабли на сыру землю.
А кололись копьеми вострыма,
Друг ведь друга не ранили;
По насадкам у них копья обломалисе;
А кидали они копья на сыру землю.
Слезовали богатыри со добрых коней,
А схватались богатыри во плотной тут бой.
Ильина нога да окатиласе,
Окатиласе да нога левая;
Ишша сплыл Добрыня на белы груди,
Ишша хочёт пороть груди белые,
Он хочë смотреть ретиво серьцë,
Ишша сам говорил таково слово:
«Не чесь-то-хвала молодецькая,
А-й не выслуга-та богатырска жа —
А убить полениця во чистом поли
А без спросу ей и без ведома;
Уж ты, ох, полениця удалая!
Ты коей земли, коёго города?»
Говорит полениця удалая:
«Ишша был бы у тя я на белых грудях, —
Не просил бы ни дядины, не вотьчины,
А порол бы у тя я груди белы жа,
А смотрел бы у тя я ретиво серьцë.
Я из славнаго городя из Киева;
Ишше старо казак да Илья Муровичь,
Илья Муровичь сын Ивановичь».
А и молоды Добрынюшка Микитичь млад
Ишше скачёт он со белых грудей,
Ишше падать ему во резвы ноги:
«Уж ты, батюшко наш, старый казак!
Ты старо казак да Илья Муровичь!
Ты прости миня в таковой вины».
Они скоро скачют на добрых коней.
А Илья поехал по чисту полю.
А Добрыня поехал к своей матёнки,
А к чесной вдовы Омыльфы Тимофеёвны;
Становил коня к дубову столбу,
Он везал коня к золоту кольцю.
А в гридню идет, — Богу молитьсе,
Своей матёнки до поклоняетьсе:
«Уж ты здрастуёшь, моя матушка,
Чесна вдова да Омыльфа Тимофеёвна!»
«Уж ты здрасвуёшь, мое дитятко,
Да молоды Добрынюшка Микичь млад!»
Говорил Добрынюшка Микитичь-от,
Говорил он ведь своей матёнки:
«Ишша был я Добрыня во чистом поли;
Я побил поленицю удалую,
Я стару казака Илью Муровича»,
Говорит тут да родна матушка,
Ишша та вдова Омыльфа Тимофеёвна.
«Уж ты ой еси, мое дитетко,
Ишша молоды Добрынюшка Микитичь млад!
Ишша то ведь тибе родной батюшко».
Ишша тут ему за беду стало,
За ту кручинушку великую.
(Ишь, мать сказала, што он не замужем был
прижит, он ведь не знал, што сколотной[56] был.)
Он ведь скоро скачёт на добра коня,
Он поехал тут по чисту полю.
(Хотел найти Илью Муровичя да убить его, да где
его сыскать. Илью-то? Поездил, да так и приехал.)
Купанье Добрыни и бой его со Змеем Горынищем
А молоды Добрынюшка Микитичь млад
Не в полном уми, не в полном разуми.
Не в великом Добрынюшка возрости.
Надевает Добрынюшка платьё цветноë;
Он пошол как Добрыня на конюшон двор;
Берет как своего добра коня,
Он добра-та коня со семи цепей;
Он накладыват уздицю тосмянную;
Он вуздат во уздилиця булатные;
Он накидывал Добрынюшка войлучек,
Он на войлучек Добрынюшка седелышко;
Подпрегал он двенадцеть подпруженек,
Ишша две подпружки потпрегаютси
Да не ради басы, ради крепости;
Да не шшиб бы богатыря добрый конь,
Не оставил бы богатыря в чистом поли.
Скоро он скачёт на добра коня;
А берет он с собой только тугой лук,
Ишша тугой-от лук, калену стрелу.
Ишша едёт Добрыня по чисту полю, —
Во чистом-то поли курева стоит,
В куревы как богатыря не видети.
Ишша ехал Добрыня день до вечера,
Он темну-то ночь до бела свету,
Не пиваючи он, не едаючи
Да добру коню отдоху не даваючи.
Да приехал Добрыня ко меньший реки,
Ко меньшой-то реки, ко синю морю.
Скиновал тут Добрыня платьё цветное,
Ишша наг ведь Добрынюшка до ниточьки,
Оставлят только Добрыня един пухов колпак.
Ишша поплыл Добрыня по синю морю,
Ишша выплыл Добрыня на перву струю;
Богатырьско-то серьцë зарывьчиво:
Да зарывьчиво-то серьцë заплывьчиво:
Ишша поплыл Добрыня на втору струю, —
Да втора-та струя добре относиста;
Отнесла как Добрыню за синё море.
И там плават змеишшо Горынишшо:
(Змеишшо летал на Святую Русь, со Святой Руси
людей живком уносил и унес у Владимера-князя
Племянницю, и Добрынюшка зажалел ей, так
здумал воротить…)
«Сказали, от Добрыни мне-ка смерть будë;
А нынь ведь Добрыня у меня в руках;
А хочю я, Добрыню хоть целком сглону,
Да хочю я, Добрыню хоть с конем стопчю».
А молоды Добрынюшка Микитичь млад
Ишша тут жа змеишшу возмолилосе:
«Уж, ты ох, змеишшу Горынишшо!
Уж ты дай мне строку на малой чяс
Ишша выплыть Добрынюшки на крут берег
А и на тот же Добрыни россыпной песок».
Тут же змеишшо Горынишшо
Да дает ему строку на малой чяс
А молоды Добрынюшки Микитичю.
А выплыл Добрынюшка на крут берег
Да на тот Добрыня россыпной песок.
Ишша наг ведь Добрынюшка до ниточьки,
Только у Добрыни един пухов колпак.
Он сымат как пухов колпак со буйной главы,
Засыпат он песку, хрещу серого,
Он шшыб как змеишшу во черны глаза:
Он шшыб как у змеишша три хобота,
А три хобота шшыб он три головы.
Ишша тут же змеишшо возмолилосе:
«Уж ты молодый Добрынюшка Микитичь млад!
Не придай ты мине смерти скорое;
Уж я дам тобе заповедь крепкою:
Не летать бы мне змеишшу на светую Русь,
Не носить бы со святой Руси живком людей;
Ишша дам те Добрыни платьё цветноë,
Ишша дам те Добрынюшки добра коня,
Я Владимера князя дам племянницю».
А пошли они на гору Окатову
Да писали они заповедь крепкую:
Не летать больше змеишшу на светую Русь,
Не носить бы со светой Руси живком людей;
Да дает ведь Добрыни платье цветное,
Да дал он Добрынюшки добра коня,
Да Владимера князя дал племянницю.
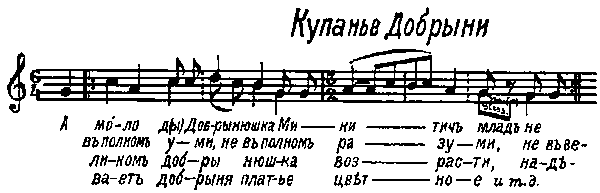
Иван Грозный (историческая)
Было у нас да во Царе-граде,
Да не было ни дядины, не вотчины,
Да жил как был прозвитель царь,
Прозвитель-от царь Иван Васильевичь
Была семья его любимая,
А был у его только большой сын,
А и большое сын Федор Ивановичь.
Говорил как он таково слово:
«А по этому мосту по калинову
А много и было хожоно,
А много было и ежжоно,
А горячей крови много пролито».
А тут как царю за беду стало
А за ту кручинушку великую.
(Царь своим судом судил, много народу бил.)
Он крыцит-зыцит громким голосом:
«Уж вы, эх, палачи вы да немилосливы!
Вы берите царевичя за белы руки,
Вы ведите царевичя во чисто полë
Вы ко той ко плахи ко липовой,
Вы рубите его да буйну голову
Вы на той на плахи на липовой».
Ишша все палачи испужалисе,
Ишша все палачи устрашилисе.
Как адин палачь не устрашилса,
Тут Скарлютка вор, Скурлатов сын.
Он берет царевичя за белы руки,
Он ведет царевичя во чисто полë
Он ко той ко плахи ко липовой,
Да хочë рубить да буйну голову.
А во ту пору, да во то времечько
Перепахнула веска за реку Москву,
А во тот жа во Киев град,
А к тому же ведь ко дядюшки,
А к тому же Микиты Родомановичю:
«Уж ты ой еси, наш дядюшка,
Уж ты же Микита Родомановичь!
Уж ты знаёшъ ле, про то ведаёшь:
Как померкло у нас соньцë красноë,
А потухла звезда поднибесная, —
Как погиб цяревич за Москвой рекой
А и большоë Фëодор Ивановичь?»
Ишша тут же ведь как и дядюшка,
Ишша тот жа Микита Родомановичь,
Он ведь скачë с постелюшки со мяхкою;
Он обул как сапожки на босу ногу,
Он схватил талуп за един рукав;
Он крыцит-зыцит своим конюхам:
«Уж вы ой еси, мои конюхи!
Подводите мне и добра коня».
Он ведь скоро скачёт на добра коня,
Он ведь гонит тут во всю голову;
Крычит он зычит громким голосом:
«Розодвиньтесь-ко да вы, народ Божей».
Он застал Скарлютку на замахи;
А сам говорил таково слово:
«Ты Скарлютка вор, ты Скарлатов сын!
Ты не за свой гуж ты примаисьсе.
А кабы те тем гужом подавитисе.
Ты поди, Скарлютка, во чисто полë,
А сруби у тотарина буйну голову;
Ты приди к царю, — саблю на стол клади,
Ишша сам говори таково слово:
„Ишша то дело у нас сделано,
Ишша та работушка сроблена“».
Он берет цяревичя за белы руки,
Он садил цяревичя на добра коня;
Он сам коня в поводу повел.
Скарлютка вор да как Скарлатов сын,
Пошел как он да во чисто поле.
Он срубил у тотарина буйну голову.
Он пришел к царю, — саблю на стол кладёт:
А сам говорит таково слово:
«Ты прозвитель царь, Иван Васильевичь!
У нас то ведь дело нынь сделано,
У нас та роботушка сроблена».
Зажалел как тут прозвитель царь,
Зажалел как он своего сына,
Ишша большого Фёдора Ивановичи;
Ишша сам говорил таково слово:
«А как по вори да по Гогарини
Ишша много есь как жалобных тут,
А по моем по сыни по Федори
Некуго-то нету жалобного».
Приходила панафида шесьнедельняя,
А прозвитель царь Иван Васильевичь
А паходит он поминать сына
А и большего Федора Ивановичя.
А итти то нать мимо Киев град,
Да мимо дядьево-то подворьиця.
А у дядюшки и за пир такой,
А што тако да за весельицë.
А скрыцял как тут прозвитель царь,
Он скрыцял ведь тут громким голосом:
(Нихто не велел тебе разгоречитьсе то!)
«Уж ты ой еси, мой дядюшка!
А што у тя и за пир такой,
А што у тя и за весельицë?
Ты не знаёшь-ле, не выдаёшь:
А помёркло у нас соньцë красноë,
(Экой был герой! Бойсе его, перебоисе, все народ
своим судом судил.)
А потухла звезда подьнебесная, —
Как погиб царевич за Москвой рекой,
Ишша большоë Федор Ивановичь?»
Как выходит тут его дядюшка,
Ишша тот жа Микита Родомановичь;
Он выходит тут на красно крыльце.
Говорил как тут прозвитель царь:
(Эка громогласна старина!)
«Уж ты ой еси, ты мой дядюшка!»
Ишша ткнул копьем во праву ногу:
(Эк разгорячился как!)
Ишша што у тя и за пир такой,
Ишша што у тя за висельицë?
Ты не знаёшь-ле, не ведаёшь:
А померкло у нас соньцë красноë,
А потухла звезда поднебесная,—
А погиб царевичь за Москвой рекой,
Ишша большое Фëодор Ивановичь?»
Говорит как тут его дядюшка,
Ишша тот же Микита Радамановичь:
«Уж ты ой еси, мой племянничёк,
А прозвитель царь Иван Васильевичь!
Уж ты хош, — чем тобя обрадую,
Тибя большим-то сыном Федором,
Ишша Федором тибя Ивановичем».
Он выводит цяревичя на красно крыльце
Да большого-то Федора Ивановичя.
Зрадовался тут прозвитель-царь,
Прозвитель царь Иван Васильевичь:
Он берет тут ведь своего сына,
Он берет его за белы руки;
Он целует в уста во сахарны жа;
Ишша сам говорил таково слово:
«Уж ты гой еси, ты мой дядюшка!
Ишша чем тобя буду жаловать?
У тебя злата-серебра не мене моего».
(Пир средили, пировать стали. Не осудите бабушку.)

Смерть Князя Долгорукого (историческая)
Нам не дорого не злато да чистое серебро
И дорога-то наша любовь да молодецькая.
Ишша злато, чисто серебро скоро минуитьсе,
А и дорога-то наша любовь не позабудитьсе.
Середи то было Китаю да славного города:
А и тут стояли палаты да белокаменны.
Што во тех-жа да во палатах было да белокаменных,
Тут не мурава трава в поли да шаталасе,
Не лазурьевы цветоцьки к земли преклонялисе,
Тут и бьют челом царю солдаты, да ниско кланяютьсе;
«Уж ты гой еси, надежда да православной царь,
Уж ты дай нам суд на князя да Долгорукого».
Говорил как тут надежда православной царь:
«У меня на Долгорукого суда нету,
Вы судите-ко Долгорукого своим судом,
Вы своим судом судите да рукопашкою,
Вы берите-ко слегу[57] да долгомерною,
Долгомерною слегу да семи аршин,
Семи она аршин да семи она верьхов.
Вы ломайте у Долгорукого хрустальни ворота».
Тут берут ведь как солдаты да все долгу слегу,
Долгу слегу да все семи аршин,
Семи-то аршин она была семи верьхов.[58]
Они ломают у Долгорукого хрустальни ворота.
Как выходит Долгорукой он на красно крыльцë.
Уж вы гой еси, солдаты да новобраны,
Ишшо што да вам, робята, да тако надомно?
Ишшо надо вам робятам да разе чисто серебро?»
Тут спроговорят солдаты да новобраные:
Нам не надомно солдатам чисто-серебро,
Ты отдай нам наше жалованье
Хлебно и мундерно и денежно».
Князь Дмитрий и Домна
Ишша сватался Митрей князь
Ишшо сватался Михайловичь
На Домны Фалилеёвны
Он по три года, по три зимы,
От дверей не отходучи.
Да от ворот не отъедучи,
Да как пошел, пошел Митрей князь
Да он ко ранной заутрени
Да к чесной ранной воскрисеньское.
Увидала его Домнушка
Да Домна Фалилеёвна:
«Да ево Митриё кутыра йидë,
Да как кутыра-та боярьская,
Да как сова заозерьская:
Голова-та у Митрея
Да как котёл пивоваренной,
Глаза-ти у Митрея
Да как две кошки ордастые,title="">[59]
Да как брови у Митрея
Да как собаки горластые».
Да как услышел Митриё князь,
Да как услышил ведь Михайловичь-от,
Воротилса к своей сестрици,
Да ко Ульяны Михайловны:
«Уж ты гой еси, сестриця,
Да ты Ульяна Михайловна!
Да собирай-ка беседушку;
Да созови красных девушок
Да молодых-то молодушок,
Да созови-сходи Домнушку
Да как Домну ту Фалилеёвну;
Созови на беседушку
Да скажи: „Митрея-та дома нет“,
А скажи: „Михайловича дома нет:
Да он ушёл за охвотами,
Он за утками, за гусями,
Да он за белыма лебедеми“».
Да пошла, пошла сестриця
Да Ульяна Михайловна,
Да собирала беседушку,
Да созвала красных девушок
Да молодых то молодушок;
Да позвала она ведь Домнушку
Да как Домну-то Фалилеёвну:
«Да ты пойдём, пойдём, Домна, к нам,
Да ты пойдем на беседушку
Да посидеть с красныма девушками
Да с молодыма молодушками».
Посылаёт ей матёнка:
«Да ты поди, поди, Домнушка,
Да ты Домна Фалелеёвна;
Да ты поди на беседушку
Да посидеть с красныма девушками».
Говорила тут Домнушка
Да как Домна Фалилеёвна:
«Ты кормилица матёнка!
Не посол идёт, — омман за мной».
Да говорила тут сестриця
Да как Ульяна Михайловна:
«Да ты пойдём, пойдём,
Домна, к нам,
Да ты пойдём, Фалилеёвна;
Да у нас Митрея-то дома нет,
У нас Михайловича дома нет:
Он ушел за охвотами,
Да он за утками, за гусями,
Да он за белыма лебедеми».
Да как пошла, пошла Домнушка
Да посидеть на беседушку,
Да посидеть с красныма девушками
Да с молодыма молодушками.
Да идёт, идёт Домнушка,
Да идё Фалилеёвна.
У ворот стоят приворотничьки,
У дверей стоят притворьничьки.
Да сохватали тут Домнушку,
Да сохватали Фалелеёвну
Да ей за белые руцюшьки
За злачены персни серебреные;
Подводили ей к Митрею,
Да подводили к Михайловичю.
Ишша Митрей князь за столом стоит
Да со всема кнезьями, боярами.
Да наливаёт он чару вина,
Наливаёт зеленого;
Да подаваёт он Домнушки,
Да подаваёт Фалелеёвны:
«Да выпей, выпей, выпей, Домнушка,
Да выпей, выпей, Фалелеёвна,
Да от кутыры боярьское,
Да от совы ты заозерьское,
От котла-та пивоваренного,
Да ты от кошки ордастое.
Да от собаки горластое».
Не примаёт как Домнушка
Да не примаёт Фалелеёвна,
Говорила тут Домнушка,
Да говорила Фалелеёвна:
«Да ты спусти, спусти, Митрей князь,
Да ты спусти, спусти, Михайловичь
Да ко кормилици матёнки
Да как сходить к ей за платьицëм:
Да перво платьё рукобитноë,
Да второ платьё обрученное,
Да третьё платьё подвинесьнеё».
Да не спускаёт ей Митрей княсь
Да как сходить ей ко матёнки.
Да как сходить ей за платьицëм:
Да перво платьё рукобитноë,
Да второ платьё обруценноë,
Да третьё платьё подвинесьнеё.
Да говорила как Домнушка,
Да говорила Фалелеёвна:
«Уж ты ой еси, Митрей князь!
Да ты спусти на могилочьку
Да ко родителю батюшку
Да попросить блаословленьиця;
Да уж мы с тем бласловленьицëм
Да будём жыть-красоватисе,
Будём гулять-проклаждатисе».
А спустил, спустил Митрей князь,
Да как спустил, спустил Михайловичь
Да ко родителю батюшку
Да сходить на могилочьку
Да попросить бласловленьиця:
«Да уж мы с тем бласловленьицëм
Да будём жить-красоватисе,
Будём гулять-проклаждатисе».
Пошла, пошла Домнушка,
Да как пошла Фалелеёвна,
Да пошла на могилочьку;
Да брала с собой два ножичка
Да как два друга быдто милых-е.
Да как пришла на могилочьку,
Да ко родителю-батюшку.
Да первой ножечёк наставила
Да против серьця ретивого,
Да второй ножичёк наставила
Да противу горла ревливого;
Да сама она сибе тут смерть придала.
Молодец Добрыня губит невинную жену
Охвочь молодець по пирам ходить,
Охвочь молодець чюжых жон смиять;
Да нынь мы молодцю самому отсмеем:
«Да нынь у молодця и молода жона
Пиво варила да вино курила,
А звала как гостей не свою ровню:
Попов, дьяков да людей грамотных,
Людей грамотных да коих надомно».
Да тут как молодцю и за беду стало
Да за ту жа за кручинушку великою.
Собирался молодець со беседушки,
А идёт молодець ко своёму двору.
Отпират жона его воротечька
Да в едной рубашечьки, без поеса,
В единых чюлочиков, без чоботов,
А он ведь тут он ей смерть придал.
А порол он у ей груди белы же,
А смотрел он у ей ретиво серьцë.
А пошёл как Добрыня во светлу гридню;
Во светлой-то гридни да тут книга лежит,
Как книга-та лежит, да всё свеща горит:
За его-то она Богу молила,
Молила Добрынюшки здоровьиця.
Зашёл как Добрыня в нову горенку, —
А во горёнки-то колубель весит,
Колубель-та весит, и младень плачет.
Он и байкат, он и люлькат чядо милое свое:
«Уж ты спи-тко, усни чядо милоë:
Уж ты спи-тко, усни, дитя безматерно».
Да не сделать колубелюшки без мастера,
Не утешишь младеня без матери.
Да сам он сибе тут и смерть придал.
Князь Михайло
Ишша жил как кнезь Михайло была Катерина пожила
А была ведь дочь Настасья, да чядо милоë у их.
Говорит как кнезь Михайло да он кнегины пожилой:
«Скиновай-ко цветно платьё да надевай-ко черно платьё;
Ты садись в корету в темну, да ты поедём-ко со мной».
Она байкат, она люлькат да дочь Настасьюшку свою:
«Уж ты спи, усни, Настасья да чядо милое мое;
Уж ты спи, усни, Настасьюшка, вплоть до миня».
Как повез тут кнезь Михайло свою кнегину да пожилу.
Он во далече в чисто поле, во роздольицë;
А убил ведь кнезь Михайло да там кнегину да пожилу;
Схоронил ведь кнезь Михайло да он под белую берёзу,
Он под белу под березу да он под саму под вершину.
Приежжаёт кнезь Михайло да ко своёму да ко двору.
Пробужаитсе дочь Настасья да чядо милоë его.
Он и байкат, он и люлькат дочь Настасьюшку свою:
«Уж ты спи, усни, Настасья да чядо милое мое;
Уж ты выростешь больша, я сошью тебе шубу кунью».
Говорила дочь Настасья да чядо милое его:
«Мне не надо, мне не надо да шуба куньея твоя;
Только надо, только надо да мне-ка матушка родна».
Он и байкат, он люлькат да чядо милое свое:
«Уж ты спи, усни, Настасья да чядо милоë моё;
Я срублю тобе, Настасья, да златоверховат терем».
«Мне не надо, мне не надо да златоверховат терем
Только надо, только надо да мне как матушка родна».
«Уж ты спи, усни Настасья да чядо милое мое;
Я возьму тобе, Настасья, да тибе матерь молоду».
Говорила дочь Настасья да чядо милое его:
«Мне не надо, мне не надо да твоя мати молода, —
Только надо, только надо да мине матушка родна;
Ты возьмешь-ка мне не матерь, — злую мачеху лиху:
Уж вы седите как с ей за дубовые столы,
Посадите же вы миня да край дубового стола,
Уж вы станите кусочек да рукодано мне давать».
(Сама не засмеет взять, — из рук давать будут.)
Как пошла ведь дочь Настасья да в нову горенку
Ишша села дочь Настасья да под окошечько.
А бежат ведь волки серы да всё розрывчетые.
Тут спроговорит Настасья да чядо милоë его:
«Уж вы где жа, волки, были, да уж вы што, волки, чюли?» —
«Ишша были мы волки да во чистом поли,
Ишша ели мы волки да мясо свежее:
А убил ведь кнезь Михайло да он кнегину да пожилу.
Схоронил ведь он кнегину да он под белу да под березу,
Он под белу под березу да он под саму под вершину».
Ишша та же дочь Настасья да чядо милоë его
А кидаласе, бросаласе да выше лавици брусятой,
А сибе ведь тут Настасья да и смерть придала.[60]

Вавило и скоморохи
У чесной вдовы да у Ненилы
А у ей было чядо Вавило.
А поехал Вавилушко на ниву
Он ведь нивушку свою орати,
Ишша белую пшоницю засевати:
Родну матушку свою хочë кормити.
А ко той вдовы да ко Ненилы
Пришли люди к ней веселые,
Веселые люди не простые,
Не простые люди, скоморохи.
«Уж ты здрасвуёшъ, чесна вдова Ненила!
У тя где чядо да нынь Вавило?»
«А уехал Вавилушко на ниву
Он ведь нивушку свою орати,
Ишша белую пшоницю засевати:
Родну матушку хочë кормити».
Говорят как те ведь скоморохи:
«Мы пойдем к Вавилушку на ниву;
Он не йдет ле с нами скоморошить?»
А пошли скоморохи к Вавилушку на ниву:
«Уж ты здрасвуёшъ, чядо Вавило,
Тибе дай Бог нивушка орати,
Ишша белую пшоницю засевати,
Родну матушку тибе кормити».
«Вам спасибо, люди веселые,
Весёлые люди, скоморохи;
Вы куды пошли да по дороги?»
«Мы пошли на инишшоë[61] царьсво
Переигрывать царя Собаку,
Ишша сына его да Перегуду,
Ишша зятя его да Пересвета,
Ишша дочь его да Перекрасу.
Ты пойдем, Вавило, с нами скоморошить».
Говорило то чядо Вавило:
«Я ведь песён петь да не умею,
Я в гудок играть да не горазён».
Говорил Кузьма да со Демьяном:
«Заиграй, Вавило, во гудочик
А во звоньчятой во переладец;
А Кузьма с Демьяном припособит».
Заиграл Вавило во гудочик
А во звоньчятой во пореладец,
А Кузьма с Демьяном припособил.
У того ведь чяда у Вавила
А было в руках-то понюгальцë, —
А и стало тут ведь погудальцë;
Ишша были в руках у его да тут ведь вожжи, —
Ишша стали толковые струнки.
Ишшо то чядо да тут Вавило
Видит, люди тут да не простые,
Не простые люди-те, светые;
Он походит с има да скоморошить.
Он повел их да ведь домой жа.
Ишша тут чесна вдова да тут
Ненила Ишша стала тут да их кормити.
Понесла она хлебы-те ржаные, —
А и стали хлебы-те пшоные;
Понесла она куру-ту варёну, —
Ишша кура тут да ведь взлетела
На пецьней столб села да запела.
Ишша та вдова да тут Ненила
Ишша видит, люди тут да не простые.
Не простые люди-те, светые,
И спускат Вавила скоморошить.
А идут скоморохи по дороги.
На гумни мужык горох молотит.
«Тобе Бох помож, да те кресьянин,
На бело горох да молотити!»
«Вам спасибо, люди весёлые,
Веселые люди, скоморохи;
Вы куда пошли да по дороги?»
«Мы пошли на Инишьшоë царьсво
Переигрывать царя Собаку,
Ишша сына его да Перегуду,
Ишша зятя его да Пересвета,
Ишша дочь его да Перекрасу».
Говорил да тут да ведь кресьянин:
«У того царя да у Собаки
А окол двора да тын залезнои,
А на кажной тут да на тычиньки
По человечей-то сидит головки,
А на трех ведь на тычинках
Ишша нету человечьих тут головок;
Тут и вашим-то да быть головкам».
«Уж ты ой еси да ты крестьянин!
Ты не мог добра нам тут ведь сдумать,
Ишша лиха ты бы нам не сказывал.
Заиграй, Вавило, во гудочик
А во звоньчятой во переладец;
А Кузьма с Демьяном припособят».
Заиграл Вавило во гудочик,
А Кузьма с Демьяном припособил:
Полетели голубята-ти стадами,
А стадами тут да табунами;
Они стали у мужика горох клевати.
Он ведь стал их кичигами сшибати;
Зашибал, он думат голубяток,
Зашибал да всех своих ребяток.
Говорил да тут да ведь кресьянин:
«Я ведь тяжко тут да согрешил:
Это люди шли да не простые,
Не простые люди-те, светые, —
Ишша я ведь им да не молилса».
А идут скоморохи по дороги.
А на стречю им идё мужык горшками торговати.
«Тобе Бог помож да те кресьянин,
А-й тибе горшками торговати!» —
«Вам спасибо, люди веселые,
Весёлые люди, скоморохи;
Вы куды пошли да по дороги?»
«Мы пошли на инишьоë царьсво
Переигрывать царя Собаку.
Ишша сына его да Перегуду,
Ишша зятя его да Пересвета,
Ишша дочь его да Перекрасу».
Говорил да тот да ведь кресьянин:
«У того царя да у Собаки
А окол двора да тын залезной,
А на каждой тут да на тычинки
По человечей-то седит головки,
А на трех-то ведь да на тычинках
Нет человечих то да тут головок;
Тут и вашим-то быть головкам».
«Уж ты ой еси, да ты кресьянин!
Ты не мог добра да нам ведь сдумать,
Ишша лиха ты бы нам не сказывал.
Заиграй, Вавило, во гудочик
А во звоньчятой во переладец;
А Кузьма с Демьяном припособит».
Заиграл Вавило во гудочик
А во звоньчатой во переладец,
А Кузьма с Демьяном припособил:
Полетели куропци с ребами,
Полетели пеструхи с чюхарями,
Полетели марьюхи с косачями;
Они стали по оглоблям-то садитьсе.
Он ведь стал их тут да бити
И во свой ведь воз да класти,
А наклал он их да ведь возочек.
А поехал мужик да во городочик,
Становилса он да во редочик,
Розвезал да он да свой возочикъ, —
Полетели куропци с ребами,
Полетели пеструхи с чюхарями,
Полетели марьюхи с косачями.
Посмотрел ведь во своем-то он возочьку, —
Ишше тут у его одны да черепочьки.
«Ой! я тяжко тут да согрешил ведь:
Это люди шли да не простые,
Не простые люди-ти, светые, —
Ишша я ведь им да не молилса».
А идут скоморохи по дороги.
Ишша красная да тут девиця
А оны холсты да полоскала.
«Уж ты зрасвуёшь красна девиця,
На бело холсты да полоскати!»
«Вам спасибо, люди веселые,
Весёлые люди, скоморохи;
Вы куды пошли да по дороги?»
«Мы пошли на инишьшое царьсво
Переигрывать царя Собаку,
Ишше сына его да Перегуду,
Ешше зятя его да Пересвета,
Ешше дочь его да Перекрасу».
Говорила красная девиця:
«Пособи вам Бох переиграти
И того царя да вам Собаку,
Ишша сына его да Перегуду,
Ишша зятя его да Пересвета
А и дочь его да Перекрасу».
«Заиграй, Вавило, во гудочик;
А во звоньчятой во переладец;
А Кузьма с Демьяном припособит».
Заиграл Вавило во гудочик
А во звоньчятой во переладец
А Кузьма с Демьяном припособил.
А у той у красной у девици
А были у ей холсты-ти ведь холшовы, —
Ишша стали атласны да толковы.
(Как нам с тобой эти старины дороги,
так им слово доброе.)
Говорит как красная девиця:
«Тут ведь люди шли да не простые,
Не простые люди-те, светые, —
Ишша я ведь им да не молилась».
А идут скоморохи по дороги,
А идут на инишьшое царьсво.
Заиграл да тут да царь Собака,
Заиграл Собака во гудочик
А во звоньчятой во переладец, —
Ишша стала вода да прибывати:
Он хочë водой их потопити.
«Заиграй, Вавило, во гудочик
А во звоньчятой во переладец;
А Кузьма с Демьяном припособит».
Заиграл Вавило во гудочик
А во звоньчятой во переладец,
А Кузьма с Демьяном припособил:
И пошли быки-те тут стадами
А стадами тут да табунами,
Ишша стали воду да упивати:
Ишша стала вода да убывати.
«Заиграй, Вавило, во гудочик
А во звоньчятой во переладец;
А Кузьма с Демьяном припособит».
Заиграл Вавило во гудочик
А во звоньчятой во переладец,
А Кузьма с Демьяном припособил:
Загорелось инишьшоë царьсво
И сгорело с краю и до краю.
Посадили тут Вавилушка на царьсво
Он привез ведь тут да свою матерь.
Усишша
Ишша за рекой, рекой было чётыре двора,
А четыре двора да из ворот и в ворота.
Ишша жил такой кресьянин:
Он и солоду не ростил, завсегда пиво варил;
Он ведь денёг не кует, да деньги в займи дает.
Ишша шли таки Усишша да атаманишша:
Стуки-стуки, стуки-стуки, стуки-стуки на крыльцë:
Бряки-бряки, бряки-бряки, бряки-бряки за кольцë:
«Ты ставай-ко, хозяин, отпирай ворота;
Ты ставай-ко, хозяйка, добывай огня».
Как хозяин-от встават да ворота им отпират,
Как хозяйка-та встават да огонь им достават.
«Ишша што бы нам, хозяин, как попить бы, нам поись,
А попить бы нам, поись да нам позавтракати?»
А хозяин-от идет да ишше куль толокна несёт,
А хозяйка-та идет да им ушат молока несет
Они по кусу хватили, — призаправилисе;
По другому-ту хватили, — Богу кланялисе.
«Да спасибо те, хозяин, на овсяном толокни;
Да спасибо-те, хозяюшка, на кислом молоки.
Ишша ты бы нас, хозяин, напоил бы, накормил,
Напоил бы, накормил да животом нас наделил».
Да хозяин-от божитьсе: «правда, денёк нет;»
Да хозяйка-та ратитце: «нам негде взеть».
«Ты поди, Самсон, да колупай заслон;
Вы кладите-ко хозяину пылу под дыру:
Ишша скажо хозяин особину[62] свою» —
Да хозяин-от идё да свою собину несет,
Да хозяйка-та бежит да достальни деньги ташшыт.
Они делили, розделили по петидесятъ рублёв,
Да большому-ту Усишшу девяносто рублёв.
«Да спасибо те, хозяин: напоил нас, накормил,
Напоил нас, накормил да животом нас наделил.
Мы и дворы твои знаем, опять зайдем».

Кастрюк
Во тау-ль и во городи
Во тау-ли в хорошом е
Поизволил наш царь государь,
Да царь Иван Васильевичь,
А поизволил жонитисе
Да не у нас, не у нас на Руси,
Да не у нас в каменной Москвы,
Да у царя в Бальшой орды
Кастрюка, сына Демрюковичя
Да у его на родной сестры
Да на Марьи Демрюковны.
Собиралса наш царь государь.
Да собиралса с чесным поездом;
Да во ту-ли поход учинил,
Да во ту-ли с каменной Москвы.
Ишше здраво стал государь
Да через реки быстрые,
Да через морë синеё,
Да через полë чистоë
К Кострюку в Бальшу орду,
К Кострюку сыну Демрюковичю.
Говорил его дядюшка
Да Микита Родомановичь:
«Уж ты ой еси, Кастрюк-Демрюк!
Ишша мы к табе пришли
Да не с боём, не с дракою;
Да мы пришли к тобе посвататьсе
Да у тобя на родной сестры
Да на Марьи Демрюковны».
Они сватались, сосваталисе
По рукам они ударилисе
Да слово на слово положилисе.
Собирался наш царь государь
За столы-те за дубовые,
Да за ясва сахарные;
Да за напиточки стоялые.
Пировал-жировал государь,
Да царь Иван Васильевичь,
Говорил его дядюшка
Да Микита Родомановичь:
«Уж ты ой еси, Кастрюк-Демрюк!
Об чем слово было молвленоë,
По рукам было удареноë»;
Кастрюк поскакиваë,
Кастрюк поплясываë;
Он тому то не ослышитсе;
Он выводит родну сестру
Да ино Марью Демрюковну
Да за нашого прозвителя царя
Да за Ивана-та Васильевичя,
Да за столы-ти за дубовые,
Да за ясва сахарные,
Да за напитоцьки стоялые.
А пировал-жировал государь;
А оттули поход учинил,
Да оттули из Бальшой орды.
Ишше здраво стал государь
Через поле чистоë,
Через море синее,
А через реки быстрые.
Ишше здраво стал государь
Во свою-ту в каменну Москву
Да он ко церкви соборное
Да ко манастырям церковное
Да они веньцями повеньцялисе
Да перснями поменялисе.
Ишше здраво стал государь
Да во своей то в каменной Москвы
За столы-те за дубовые,
Да за ясва сахарные,
За напитоцьки стоялые.
Да пировал-жировал государь,
Говорил его шурин тут
Кастрюк Демрюков сын:
«Уж ты ой еси, царь государь!
У вас есь-ли в каменной Москвы,
У вас есь-ли таковы борьци
А со мной поборотисе,
А с Кастрюком поводитисе?
Да из дани, да из пошлины,
Из накладу-ту великого?»
А говорил тут царь государь
Да царь Иван Васильевичь;
«А любимой дядюшка!
Да Микита Родомановичь,
Уж ты выйди-ко на улоньку;
Затруби ко в золотую трубу,
Штобы чюли за рекой за Москвой,
Штобы чюли три брателка
Да три братьця родимые;
Первой брат и Мишенька!
Второй брат и Гришенька!
Втретьей брат и Васенька!»
Как выходит тут дядюшка,
Да Микита Родомановичь
Затрубил он в золотую трубу.
Да учили за рекой за Москвой,
А учюли три брателка:
А первой брат Мишенька,
А второй брат Гришенька
Да третей брат Васенька.
Говорил как тут царь государь
Да царь Иван Васильевичь.
«Любимой шурин мой!
Кастрюк Демрюков сын!
У миня пития на столи,
У миня борьци на двори,
Ковда есь вера боротисе
Те из дани, из пошлины
Да из накладу ту великого».
Кастрюк поскакивае,
Кастрюк поплясывае;
(Вишь коль боек!)
Кастрюк через стол скочил,
Кастрюк пития сплескал.
Говорила как родна сестра,
Да цариця-благоверниця,
Да ино Марья-та Демрюковна:
«Уж ты ой еси, Кастрюк-Демрюк!
Не ходи ты боротисе
Ты из дани, да из пошлины
Да из накладу-то великого».
Кастрюк паскакиваë,
Кастрюк поплясываë,
(Какой-то скакливый был.)
Он тому то не ослышитьсе;
Он выходит на улоньку,
(При публике.)
На крылечюшко красноё.
О перила облегаитьсе.
Говорил как Мишенька:
«Уж ты гой еси, царь государь!
Царь Иван Васильевичь!
Мне-ка не с ким боротисе».
Говорил как Гришенька:
«Уж ты гой еси, царь государь!
Мне-ка не с ким руки патрать»[63]
Да говорил как Васенька:
«Уж ты ой еси, царь государь!
Уж бы рад я боротисе,
С Кастрюком бы поводитисе,
Я из дани, из пошлины,
Из накладу-ту великого, —
Да я топеря со царева кабака,
У мня болит буйна голова,
Шипит ретиво серьцë».
А наливают как чяру вина,
Да не велику, четьвертиною;
А подавают Васеньки,
Да выпиваёт Васенька:
«Да спасибо тибе, царь государь!
Опохмелил буйну голову, —
Не окатил ретива серьця,
Не звеселил добра молодця».
А наливают вторую чяру,
Да не велику, четьвертиною;
А подавают Васеньки,
А выпиваёт Васенька:
«Да спасибо тебе, царь государь
Да царь Иван Васильевичь!
Опохмелил буйну голову
Окатил ретиво серьцë, —
Не взвеселил добра молодця».
Наливают третюю чяру,
Да не велику четвертинною;
Подавают Васеньки,
Выпиваёт Васенька:
«Да спасибо тебе, царь-государь,
Царь Иван Васильевичь!
Опохмелил буйну голову,
Окатил ретиво серьцë,
Взвеселил добра молодця;
Уж я рад нынь боротисе,
Да с Кастрюком и поводитисе,
Я из дани, из пошлины
Из накладу-ту великого!»
Они стали боротисе.
Первый Кастрюк бросил,
Вторый Кастрюк бросил.
Как и Васенька хроменькой
Он на ножку-ту справилса,
За лопотья[64] ти сграбилса,
Он и прирвал лапотьё все.
На руках то ей потрехиваёт,
До земли то не допускивает.
Ишшо думали Кастрюк-Демрюк,
А и Марфа Демрюковна.
Да она проклиналасе
Да она заклиналасе:
«Да не дай, Бог, бывати здесь
У царя в Каменной Москвы
(Ни за што не заманишь ей преником.)
Да не детям, не внучатам,
Да не внучетам, не павнучетам!»[65]

Вознесение
Проходит Христово да Воскрисение,
Доходит Христово да Вознисение,
Вознесса Христос на небесй,
Со лангилами да с херуимы,
Со опостолами да сарафимы,
Оставил нас нишшую братью,
Оставил убогую сироту.
Заплакала нишшая братья,
Зарыдала убогая сирота:
«На куго ты нас, Христос, да оставляёшь?
На куго нас да спокидаёшь?
Будём мы и холодны и голодны,
Да будем не обуты да не одены,
От темной-то ночи не укрыты!»
Спроговорит Христос, да царь небесной:
«Не плачьте-тко, нишшая братья
Не рыдайте убогая сирота:
Оставлю вам гору да золотую,
Оставлю вам реку да медовую,
Оставлю вам сад с виноградом,
Даг будете вы сыты и пьяны,
Да будете обуты и одены,
А от темной-то ночи и укрыты».
Спроговорил как Иван-от да Златоусто:
«Уж ты истиной Христос, да царь небесной!
Не оставляй нишшим горы да золотою,
Не оставляй нишшим реки да медовою,
Того жа сада да с виноградом,
Нишшим горою да не бладати,
Медовой им реки да не видати,
Того жа сада да с виноградом:
Узнают купци — власти торговы,
Отнимут у их гору да золотую,
Отнимут у их реку да медовую,
Отнимут у их сад да с виноградом,
Да будут они холодны и голодны,
Да будут не обуты да не одены,
От темной-то ночи да неукрыты.
Оставь им своё имё Христово —
Ходить по селам, по деревнем,
Да чясто Христа будут поминати,
Да истиною будут звеличати,
Дак будут они сыты и пьяны,
Дак будут одены и обуты,
От темной то ночи прикрыты».
Слава Христу ту да Сыну Богу,
Да слава Христу и на небесах!
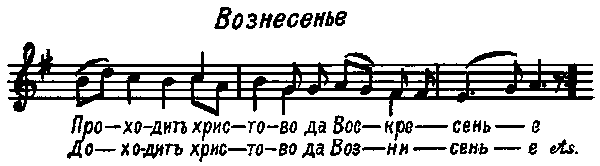
Михайло Архангел
Да зайдут человече да на Хивон на гору
Да згленут человечя да ино верьх по земли.
Ишша чем мати земля изукрашеная?
Изукрашёна земля черьквями божьима,
Да зайдут человече да на Хивон на гору,
Да згленут человечя да ино вниз по земли,
Ишша чем мати земля принаполненая?
Принаполнена земля душами грешныма.
Протекла река да река огненая
От востоку-ту протекала да вплоть до западу;
Ширина глубина да не намереная.
Через огнену реку да перевоз ведь есь.
Перевошшиком Михайло Архангил со Гавриилом.
Ишша праведных как душ дак перевозит за реку,
Перевозит да переносит их на ту сторону,
Их на ту сторону да ко присветлому раю,
Ко присветлому раю, да к самому Христу.
А и грешны те души да ходят по берегу
А крычят-зычят да громким голосом своим:
«Ты, Михайло Архангил со Гаврилом,
Перевези нас, перенеси да через огнену реку,
Через огнену реку да нас на ту сторону,
Нас на ту сторону да к присветлому раю,
Ко присветлому раю, да ко самому Христу!»
Отвичяë Михайло со Гавриилом:
«Ишшо, души, вы души, да души грешные таки,
Ишша нам ведь вас да нам не велено везти,
Нам не велено везти, да не приказано нам;
Ишша жили, вы душечьки, на вольнем на свету,
Вы не знали, вы ни середы, ни пятници,
Да не светлого Христова да воскресеньиця.
Уж вы божьей то церкви не хаживали,
Уж вы звону колокольнему не варывали[66]
Как четья-петья[67] церковнаго не слушивали,
Вы подите, бредите, вы души, да душа в огнену реку,
Души в огнену реку, да муку вечную!»
Тут заплак'ли, зарыдали да души грешный:
«Ты прости-тко, прости да нам ведь белой свет,
Ты ишшо-ко, прошшай да сам Исус Христос,
Ты прошшай-ко, прошшай ты, Михайло Архангил со Гавриилом!
Вы прошшайте, прошшайте да отцы — матери,
Вы прошшайте, прошшайте, да братии, сестрици,
Вы прошшайте, прошшайте, да мужьи мудрые,
Вы прошшайте, прошшайте, да жены мужнии!» Зарыдали, заревели да души грешные.
Присвета мать Богородиця не могла да на пристоли усидеть…[68]
Не могла же как она ихно горë притерпеть,
Столконула как она да две горы;
Тут гора же с горой да столконулиси.
Засыпало реку песками хрешшами сыпучима.
Егорей
Как у Федора купця,
У черниловця,
Уродил осе и два отрока,
И два отрока и две дочери,
У родил се еси да тут Егорей свет.
Понесли Егорья да по суду по Божьему.
В людях то да таки трех годов,
Егорей свет да такой трех недель;
В людях-то да таки ш'сти годов,
Егорей свет да такой ш'сти недель.
Роспозналосе царишшо Демьянишшо,
Он ведь Федора купца да все под низ кланёт
А он Егорья света к собе берë,
Он к себе берë, да во свою землю,
Во свою землю, да в проклету орду.
Сам жа Егорью да возглаголуёт:
«Уж ты чью Егорей да веру варуёшь?
(Вер ведь много, двенадцать, может.)
Уж ты варуёшь-ле веру жидовьскою,
Уж ты молисьсе-ле ты богам нашим, долы-долам?»
Тут же Егорей да возглаголует;
Он стихи поет да каруимские,
Он глазы возносит да все по ангельски,[69]
Тут жа царишшо да осержалосе,
Тут же Демьянишше да воспылуитсе:
«Хошь-ли, Егорей, на огни сожгу?»
Взял как Егорья на огни жокчи,
Не добре Егорей на огни горит,
Под светым Егореём вода тецет,
И вода тецет и трава ростет,
И трава ростет и цветы цветут.
Тут жа Егорей да возглаголуë,
Он стехи поё да харуимьские,
Он влазы возносит да как по ангельски.
Тут жа царишшо да осержалосе,
Тут жа оно да воспылуитьсе:
«Хошь-ле Егорей, на воды стоплю?»
Не добры Егорей на воды тонë,
Свет Егорей да по верьх плаваë.
Он стихи поет да харуимьские
Он глазы возносит да все по ангельски.
Тут жа царишшо да осержалосе
Тут жа оно да воспылуитси:
«Хошь-ле, Егорей, да на пилы спилю?»
Взял как Егорья да на пилах пилить,
Не добры Егорея пилы берут,
От света Егорья да пилы сыплютсе.
Тут же Егорей да возглаголуë,
Он стихи поет да харуимьские.
Тут жа царишшо осержалосе,
Тут жа оно да воспылуетси.
Взял как Егорья за белы руки,
Он повел как Егорья да во чисто полë,
Закопал Егорея да во глубок погреб;
Он не мелок, не глубок да сорока сажон.
Засыпал он песком хрешшом сыпучим-е,
Закатал он каменьём серым-е.
Забросал он плитьём залезным-е.
Сам же Егорью да возглаголуë:
«Не бывать те, Егорей, на белом свету,
На белом свету да на светой Руси,
Не видать те, Егорей, да свету белого!»
Тут жа Егорей да возглаголуë
Он стихи поет да харуимьские
Он блазы возносит да все по ангельски.
«Спас уж, ты Спас, да многомилослив,
Присветая ты мати, да Богородиця!
Уж вы дуньте-тко, ветры, да ветры буйные,
Соносите пески-хрешши сыпучие
Сокатайте каменьё сероë,
Собросайте плитьё залезноë!»
Как по божьей да было милости,
По Егорьевськой было таланисти, —
Дунули ветры, да ветры буйные,
Соносили пески-хрешши сыпучие,
Сокатали каменьё сероë,
Собросали плитьё залезноë,
Стал и как Егорей на белом свету,
На белом свету и на светой Руси.
Он пошол как Егорей да по чисту полю,
Он зашел как Егорей да во Божью церькву,
Во Божьей церкви да все пустым пусто,
Все пустым пусто да некуго нету.
Тут стояла Елена премудрая,
Все премудрая да богомольнея,
Тут жа Егорью да возглаголуë:
«Уж ты чью, Егорей, да веру варуёшь,
Уж ты варуёшь веру жидовськую;
Уж ты молисьсе ли богамъ ихным долы-долам?»
Тут жа Егорей да возглаголуёт:
Он стихи поет да харуимськие,
Он влазы возносит да все по ангельски.
Тут жа Елена да возглаголуёт:
«Уж ты ой жа еси, да ты Егорей Свет,
Ты поди-тко, Егорей, на конюшен двор,
Ты бери-тко, Егорей, коня доброго,
Коня доброго да со семи цепей,
Поежжай-ко в заставы жидовськие:
Есь там три заставы жидовських-е,
Добрым молодцям да все проезду нет,
Ясным соколам да тут пролету нет».
Тут жа Егорей как послушлив был,
И послушлив был да послухмянён был,
Он пошол и как Егорей да на конюшон двор
Он берет ведь Егорей коня доброго,
Коня доброго да со семи цепей.
Скоро он скачёт на добра коня,
Он поехал к заставы жидовськие.
Приежжая к первой заставы жидовськие;
Пришли горы высокие,
Пришли леса дремучие,
Добрым молодцям да все проезду нет,
Ясным соколам да тут пролету нет.
Тут жа Егорей да возглаголуë;
Он стихи поет да харуимськие,
Он власы возносит да все по ангельски:
«Спас, уж ты Спас, да многомилослив,
Присвета ты мати, да Богородиця,
Розодвиньтесь-ко горы высокие,
Розодвиньтесь-ко леса дремучие
На все стороны да на четыре же:
Добрым молодцям да все проезд бы был,
Ясным соколам да все пролет бы был!»
Как по Божьей да было милости,
По Егорьевской было таланисти —
Розодвинулись горы высокие,
Розодвинулись леса дремучие,
На вей стороны, да на четыре же —
Пролегла туды да путь дорожечка
Добрым молодцям да все проезд тут стал
Ясным соколам да все пролет тут стал.
Приежжаёт Егорей ко второй заставы жидовськое,
Тут сидит как ведь да Вострогор птиця.
А хватат, имат да все живком людей.
Тут-жа Егорей да возглаголуë:
Он стихи поёт да харуимськие,
Он блазы поёт да все по ангельски;
«Он жа еси да, Вострогор птиця!
Полетай-ко жа ты да на синё морë
А хватать имать да серых утицей,
А ишша имать да белых лебедей!»
Как по Божьей да было милости,
По Егорьевськой было таланисти
Полетела как тут да Вострогор-птиця,
Полетела она да на синё морë
А хватать-имать да серых утицей,
Ишша имать да белых лебедей.
Пролегла туды да путь дорожечка,
Добрым молодцям да все проезд тут стал
Ясным соколам да все пролет тут стал.
Приежжаë к третьей заставы жидовською.
Он стехи поет да харуимськие,
Он влазы возносит да все по ангельски,
Слезовал как Егорей с добра коня,
Розувал как сапог да со правой ноги,
Засыпал он песку да хрешшу серого,
Он и шшиб Змеишшу да во черны глаза…
Тут Змеишше в землю по поесу!
Розувал сапог да со левой ноги,
Засыпал песку-хрешшу серого,
Шшиб как Змеишшу во черны глаза
Тутъ и Змеишшо скрозь землю прошло.
Приежжат Егорей свет к отцю, к матери
Отец-матушка не признали Егорея.

Виноградье
Виноградне красно-зеленоë[70]
Да ишшо хто такой стучит
Да во светых-то вечерах?
Да во светых-то вечерах
Да виноградчицы стучят.
Да ишшо спрашивают робята
Господина да во дворах.
Да ешшо около двора
Да все трава да мурава.
Да все трава ли мурава
Цветы лазуревые,
Да ворота те тут как были
Да как хрустальнего стекла;
Да ободверенки те были
Как чистого серебра;
Да приворотенки те были
Да все решетчетые;
Да блаослови, сударь хозяин,
Да ко двору притти.
Да ко двору притти,
Да на красно крыльце взойти.
Со красного со крыльця
Да на новы сени ступить,
Со новых-то со сеней
В нову горенку зайти,
Въ нову горенку зайти
Да середи на полу стать.
Да блаослови, сударь хозяин,
Да виноградиë испеть
Да как у хозяина (имярек)
Как во горенке у их
Стоит тесовая кровать,
Да на тесовой на кровати
Да пуховая перина.
Да на пуховой на перине
Тут белая простыня.
Да как подушечки те были
У их шолковые,
Одеялышко лежало
Тут чёрного соболя,
Да тут и спит опочивает
Тут ведь сам-от господин
Да со своею госпожею,
Да со умною жоной.
Меж има-то ведь каталса
Да злачен перстень,
Да не злачён перстень катался —
Крепка дума меж има.
Они думали гадали
Да ясна сокола сряжали.
Да ясён сокол летит,
Да им куниць-то догонит
На житье им на бытье,
Да на богатесьво.
Да выходил ведь господин
Да на прекрасноë крыльцë.
Да выносил он господин
Да он серебряной рупь,
Да подарил он господин
Да виноградчицей.
Да выходила госпожа
Да на прекрасноë крыльцë,
Да выносила госпожа
Да золоту гривну,
Подарила госпожа
Да виноградчицей.
Да выходили малы дети
На прекрасноë крыльцë
Да выносили малы дети
Да бел крупичатой калачь.

Микола
Светитель Микола, Меркольской Чюдотворец!
А где жа твои мошшы? Неверной страды немьцях,
Ах, во земли во турьской, в славном Балеградьи.
Питом лик твой на свету икону,
Ставим мы икону в новую чесовню,
В кивоварену божницю,
Украшаём мы Светителя, мы жа чистым серебром,
Мы жа красным золотам, жемчугом окатистым,
Прибегаём к Светителю с верою, с любовью,
А просим у Светителя великой мы помошшы,
В бедах и в напастях он свет сохраняë,
В болезнях лёжашших он свет истеляет,
В темницях сидяшших он свет избавляë,
А по морю плаушших он свет направляë,
Волны да усмиряë, врагов прогоняëт.
Слава Христу Богу со своим угодником,
Со светителем Миколой, с Мерькольским чюдотворьцем.
Небылица
Небылиця в лицях небывальшына,
Да небывальшына, да неслыхальшына.
Старину спою да стародавною,
Да небылиця в лицях, небывальшина,
Да небывальшына да неслыхальшына.
Ишша сын на матери снопы возил,[71]
Все снопы возил, да все коноплены.
Как стара матерь да в кореню была,
Молода жона да впристяжи была.
Как стару матерь да попонюгивал,
Молоду жону да присодерживал.
На гори корова белку лаела,
Ноги росширя, да глаза выпуча.
Ишша курица под осеком[72] траву секет,
Как овця в гнезди да яицë садит.
По поднебесью да сер медведь летит.
Он ушками, лапками помахивал,
Он черным хвостом да принаправливал.
По синю морю да жорнова пловут,
Жорнова пловут да тут певун поет.
Как гулял гулейко[73] сорок лет за печью,
Ишша выгулял гулейко ко печьню столбу.
Как увидел гулейко в лоханки воду:
«А не то-ле, братьци, все синё морë?»
Как увидел гулейко, из чяшки ложкой шти хлебают:
«А не то-ле братци, корабли бежать,
Корабли бежать, да все гребци гребут?!»

Пятиречие
Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтобы видеть свойство русского языка.А. Пушкин
Посвящается книга всем пинежанам и светлой памяти Марии Дмитриевны Кривополеновой, род. в 1844 г. 8 апреля в дер. Усть-Ежуга, ум. в 1924 г. 8 марта в дер. Веегора на р. Пинеге и Александра Останина, жившего в городе Кеми и на море
От составителя
Этой книгой бросается горсть скатного жемчуга из неистощимых запасов словесной сокровищницы, хранимой в течение веков и всегда полнящейся народом на Русском Севере. В этой горсти названием сказки объединены почти все виды устного поэтического творчества: собственно сказки (волшебные), сказки-новеллы, сказки-анекдоты, легенды, рассказы из собственной жизни, былины и даже песни, но с явным действенным движением. Образ каждого сказочника, в уста которого вложена сказка, бытующая на данной реке (хотя бы текст в более полной редакции был записан в другом месте), — образ собирательный, слитый из многих встреченных мною обитателей данной реки. Исключение представляет образ «Скомороха», в котором, кроме подлинных мезенцев, слились встреченные мною на Севере вообще талантливые, блещущие острословием и юмором сказочники-творцы, часто импровизаторы. Вся ценность современных записей произведений заключается в их языке — богатом, образном, сохранившем и очень древние формы и рождающем новые словообразования, органические и всегда верные. Заглядывать в колыбель народного языка всегда полезно и поучительно, особенно теперь, когда в городах создаются новые слова и формы, большей частью беспочвенно, случайно и уродливо. Образованным людям есть чему поучиться у неграмотных крестьян, условиями быта сохранивших и сохраняющих красоту языка. Северный крестьянин творит как ребенок, всегда гениально, потому что мыслит так же как ребенок: образами. Он тонко чувствует все отклонения и изменения смысла от употребленных форм. В этом читатель убедится. Наряду с ощущением северного языка, несущего множество местных слов и выражений (приложен словарь), автор стремится передать и дыхание языка, т. е. его звучание. Это неприятно для глаза; но, преодолев неприятность, читатель приучится воспринимать текст не только глазами, но и ушами и почерпнет новое наслаждение. Ведь произношение человека — признак, который дороже описания цвета волос или одежды. Оно говорит о месте жительства, среде и профессии. Явно и ярко. Рассказчик (мощное теперь орудие культуры) получит в книге не только желанное народное произведение, но и сможет добиться точного звучания, даст подлинную живую речь, даст рассказу нужный северный колорит. Надо только помнить, что северный говор — окающий, т. е. начертанное «о» всегда произносится как таковое, даже когда оно и не под ударением, в противоположность говору акающему (московскому, например). Москвич скажет «сабака» (первый гласный звучит как средний между «о» и «а», ближе к «а»). Северянин произнесет точно: «собака». Такое же замечание надо сделать относительно буквы «г». На севере она звучит как принято в печати, без замены ее в произношении звуком «в» в прилагательных и местоимениях род. пад., т. е. не Краснова, молодова, ево, моево, а красного, молодого, его и моего. Для точной передачи звучания введены и два новые знака h и Ї. Знаком h обозначен звук «г», но не обычный взрывной, а так наз. «фрикативный», который звучит лишь в некоторых словах и их производных (когда, тогда, всегда, где, боги, богиня, убогий, господь, богатый, т. е. так: коhда, тоhда, hде, боhи, боhиня, убоhий, боhатство, боhатырь) у коренных москвичей, на образцовых сценах Малого и Художественного театров и у деревенского люда. Но городское московское население его теряет, а у крестьян оно держится крепко. Звук, обозначенный буквой Ї, — это йотированный и=йи, который обильно встречается в украинском языке и обозначается в украинской печати именно так, и у наших северян. Не Илья, а Їлья=Йилья. Не имя, а їмя=йимя, не их, моих, твоих, а їх, мо їх, тво їх (также у коренных москвичей). Звук, обозначающийся буквой «щ», распадается у северян на составные «ш» и «ч» средней твердости довольно редко. Чаще он заменяется долгим и очень твердым «щ», что изображается двумя «ш»: большашша, свишшет вместо большущая, свищет, или же комбинацией двух звуков: очень мягкого «ш» и очень твердого «ч», который обычно в литературном произношении звучит мягко. Это особенно сказывается на произношении слова «еще». На севере его произносят различно: щë, їшша, ишшо и наконец ешьчо. Эта последняя манера очень характерна для ходивших на морских судах, своего рода «шик» мореходов и лиц, подражающих им. Окончания глаголов тся не устойчиво: то произносится тса, тсе, цца, то тца, тце, иногда одним и тем же лицом. Итак эта книга предлагает познание городом северной деревни в узкой, но драгоценной для человека области — области слова. Образованному горожанину, который несет культуру в деревню, предлагается познать культуру языка у неграмотного или малограмотного северянина. В течение многих лет работы всегда стоял передо мною образ учителя, может быть, и неожиданно для последнего, так как фактически я никогда у него не училась; все же я прошу проф. Дмитрия Николаевича Ушакова принять мою горячую ученическую благодарность.О. Озаровская
Начинается книга, называемая
ПЯТИРЕЧИЕ,
в которой заключается
пятьдесят сказок, рассказанных
пятью человеками, жившими на берегу одной
из пяти северных рек, в течение
пяти дней ожидания парохода,
где-то замелившегося
День первый. Сказки о верной любви
Вечером донесся отдаленный гудок парохода. Пароход должен был причалить к песчаной площадке у крутого и высокого берега живописнейшей реки Пинеги, притока Северной Двины. Закат обливал полнеба тяжелыми красками, багрил стволы и золотил вершины соснового бора на высоком берегу, расцвечивал тихие заводи, рябь и волны, отражался в водяных лужах на низком берегу и в стеклах оконниц, то превращая их в нестерпимо блистающие пластины, то зажигая пламя пожара там внутри. И было непонятно, как стекла сдерживали его, не лопаясь. Солнце село прямо в воду. Вместо блесков над рекой разлилась полупрозрачная сумеречная мгла, птицы в бору умолкли, и наступила тишина, называемая ночью, но грамотеи у потухших окошек еще и сейчас могли бы читать. Теперь в ночной тишине отчетливо выступило хлопанье идущего снизу парохода. Безлюдный причал начал оживать. Первой на свист парохода с противоположного берега приплыла лодка; из нее вышли крохотная старушка в сарафане и круглолицая, не молодая и не старая женщина в странной поношенной одежде немудрого, однако городского, покроя… Все спускавшиеся на площадку с высокого берега в старушке узнавали бабку Махоньку, круглоликой же никто не знал. С двумя подводами и двумя молодцами приехал к мельнице и лихо сбежал по тропинке приказчик кооператива, собираясь принимать пароходный груз. Добежав до площадки, он громко и радостно сказал: — Хлопает жа! С чем все согласились, да и пароход уже был виден. На берегу теперь собралось человек пятьдесят. Совсем непохоже было, чтобы кто-нибудь из них торопился на пароход, наоборот — всякий старался поудобнее устроиться на песке: — Поживем жа! — А может придет да и повернет назать, дак… — Ну! Как повернет? Он с баржой. Куда-ле наверх обязательно попадать должон! Поживем! — Лони я семь ден жил! — Этта, как мы на острову десять ден жили, хлеб приїли. — В мори? — В Мори-Окияни… С поштой в Мезень ходили… — Ты с Кулоя, дедушко? — А уж как не с Кулоя, с Кулоя, с Долгошшелья… Долгошшелье — Москвы уд елок и Архангельска уголок… С Кулоя! Дак мы, этта… Но пароход уже подходил и бросал якорь. На мостике стоял капитан. Спокойно-сосредоточенный, он мягко оглядывал толпу. Толпа оживилась. — Олександр Ондреїич! Домой? Капитан снял кепку, слабо улыбнулся и махнул рукой: — Домой не попасть! — Дак далеко-ле? — Велено, как могу выша попадать: баржа! К страде нать ведь всего закинуть! Больше капитан не отвечал. Быстро скинули мешки с мукой, несколько сельдянок, больших бочек с соленой треской, да несколько ящиков для кооператива. Пароход принял двух пассажиров и отошел наверх. Провожающие простились и ушли на гору. А на берегу осталось человек двадцать, обреченных здесь «жить»; они знакомились ближе, прилаживались друг к дружке и приготовились трапезничать. На песчаном холмике у входа в неглубокую пещерку, над которой свисали длинные ветви прилепившейся к камням березы, расположилась небольшая група: пинежанка Махонька, высокий, сутулый старик помор с реки Кемь, дед кулоянин, веселый и еще молодой мезенец и молчаливый громоздкий печорец. К ним присоединилась и никому неизвестная, круглоликая, с виду простодушная женщина, но на самом деле существо жадное и хитрое. Впрочем, жадность ее никому не приносила материального ущерба, так как она касалась лишь слушанья сказок, а хитрость заключалась в подзадоривании сказочников к рассказу. Во всяком случае, благодаря ее усердию и терпеливости, появилась настоящая книга. Уютно сидящие на холмике уже разложили костер, вскипятили чайник и скромно завтракали, достав подорожники из своих мешков, хлебней, пехтерей, а мезенец — свой хлеб, сахар и спички держал всегда при себе на груди в своем лузане. Закусив и сложив пожитки в пещерку, вход в которую заслоняли собой, они договорились рассказывать сказки, чтобы сокращать время тоскливого безделья… На этом настаивала круглоликая женщина. Вмешалась женщина, сидевшая поодаль, но уже успевшая горячо поговорить с неизвестной насчет сарафанов, повойников и прочих бабьих увлечений: — Да вы сами откуда? — Из Москвы. — Што нибудь уж не так… Все поддержали: — Московцы говорят с высока, а ты, бабка, по нашему… Круглоликую задело: — Да разве я бабка? — Уж как не бабка, — седата! Круглоликая только вздохнула, вспомнив, как целовали и миловали ее волосы седоватые уж в двадцать лет, и молча стала записывать в своей толстой тетради. — Уж все знаете, — не унималась женщина, — может и живете в Москвы, а только видать, што вы деревеньски и на Тюлевских находитесь. Да, быват, у Тюлевых гостили? — Нет, нет… Чтоб не тратить времени на споры, сидящие на холмике решили промеж собой называть неизвестную Московкой. Краски на небе совсем побледнели, потом снова стали ярче, но теперь они были иными. Солнце, еще недавно севшее в воду, готовилось встать недалеко от того места, где село. Небо алело, золотилось, переходило в нежную сирень и, наконец, бледно голубело. Махонька давно уже стояла на коленках, клала поклоны и крестилась на портрет Ленина, который кто-то, показывая, вытащил из своего пехтеря и примостил к ящикам, поставленным друг на друга и еще не взятым в кооператив. Никто не обращал на нее внимания: молится и молится, а кому дело, куда глядит. Бабушка положила последний крест, и взошло молодое, свежее, умытое солнце и засияло. Его радостно и бодро приветствовали птицы, каждая своей особой песней. С восходом солнца и начался день первый северного «Пятиречия», посвященный, как это окажется дальше, верной любви. Когда на холмике все успокоилось, Московка толкнула в плечо сидящую рядом с ней Махоньку и сказала: — Сказывай! — Каку? — Каку хошь! Махонька, крохотная, с горящими глазками, темнолицая и беззубая, несмотря на это четко выговаривавшая, с увлечением начала рассказывать о «Верной Жене». Сама она иногда не владела собой, смеялась так, что еле выдавливала слова. Смеялись и все слушавшие.1. Верная жена
Бывало, живало — купець да купчиха. Бывало у їх один сын. Они торговали исправно. Был купець боhатеющий. Купець помер, купчиха тоже померла. У їх остался один сын. Ну живет, поживает один. «Нать, верно, жониться. Кака мне невеста взять, у купца-ле какого, у генерала, у кресьенина боhатого, где искать?» Потом идет возле речки по угору, гуляет, девиця белье полошшет, весьма хороша, ему пригленулась. Удумал: возьму я эту девицю взамуж. Штож што она небоhата, — вовсе она приглядна. И говорит: — Ты, девиця, какова рода, какова отця? — Я бедного сословья, у меня отець сапожник, живет бедно. — Идешь-ле за меня взамуж? — Кака я невеста? Я человек бедной! Потом девиця пошла, он за ей вслед пошел, узнать, какова она места. Приходит девиця, — избушка маленька. Он зашел в фатеру. Отец у їх сидит, сапоги работает. — Ну, купець именитой, што вам тако нать? Сапоги работать, али стары починять? — Не сапоги работать, не стары починять, пришел я на вашей девици свататься. — Што ты, купець, смиешься! возьмешь-ле ты мою дочерь? Вы боhаты, а мы бедны. — Славиться не будем, бери из магазина, што надобно: люди будут убиваться, што именитой у бедного берет, а ковды справимся да обвенчаемся, товды и свадьбу поведем. Обвенчались, пирком да свадебкой. И живут вовсе хорошо: и советно и боhато, и так на эту хозейку идет торговля хорошо, дак… Жили, пожили. В Пруссии-городе сгорела лавочка. В той лавочки товару было всех боле. «Как жа мы будем эту лавочку строить? Хозейку взять невозможно; здесь оставить — порато хороша, к ей люди подобьютця». Вот и печалуетця день и два ходит, печалуетця. Она и спрашивает: — Што вы, hосподин, ходите эдакой туманной? — А как будем лавочку строить? Тебя оставить дома не смею: с умом жить не сумеешь. А людей послать, дак много утраты будет. Она говорит: — Срежайся ехать! Буду одна жить, сама себе сохранна. Одела ему сорочку беленьку: — Если сорочка бела замараетця, то я с ума сбилась, а если рубашка бела, дак живу крепко, неправильно. Вот он и уехал в Пруссию-город ставить лавочку. И живет поживает, может, и с год време, а рубашка на ем бела, как снег. Он стал торговать. У его товар вовсе хорошо идет, а у иных купцей — плохо. Другие купци, его не любя, королю доносят, што он волшебник, волшует: у его товар идет, а у нас нет. Этот король собрал пир и на пир созвал торговых людей, там каких-нибудь генералов, хрестьян и всякого звания людей и этого купця созвал на пир. У его рубашка все бела, бела как снег. Стали пировать и жировать, потом пошла гулянья. Потом они стали бороться и все прибились и все припотели и все припатрались, — у его рубашка все бела. Король сочтил его волшебником знатливым: знат много, — нать его в тюрьму. — Зачем же вам меня запирать? Никак я не волшебник. Мне рубашку жена надела. Если как с умом живет, все рубашка бела, а если забалует, дак и рубашка замаратца. Король того не внимает. Его в тюремной замок. Потом и удумал: к хозейки послать слугу верного. Дал сто рублей денег. — Поежжаи, подбейся к ней. К хозеики еговои. Слуга и поехал в город. — Из Пруссии! Из Пруссии приехал! Куда ему фатера? Нать штоб чисто, бело! К этой купцевой хозейки его на фатеру! Купцева хозейка: — пожалуйста, милости просим. Чужестранного человека поїт, кормит, чаем, кофием, всем угошшает. Он и стал ей говорить: — Эки вы хороши, эки вы ненаглядны, как вы жить можете без мужа? Вот я дам сотню денег, не можете-ле со мной позабавитьця? Она говорит: — Грех. Большой грех! Он говорит: — Да што ты, што ты? Да твой муж не так живет, мы про его знаем, он близко. Она и согласилась, взела сотню денег у его. Пошли во спальню. Он и говорит: — Вались, говорит, ко стенки. Она отвечает: — Я никовды со своим мужем ко стенки не сплю, ложись сам, а я на краю. Он и повалился, бажоной, ко стенки. Она раздевалась да помешкала немножко, валиться стала, — у ей там были пружины; пружинки толконула, — он сейчас полетел у ей вниз в погреб. Вот она ему дала за дурные слова, как свинину режут, так таку пишшу дала. Дала веретено, куделю и прялку. Приказала напресть нитку тонку, как шолчину, дак пойдет тебе пишша хороша тоhда. Он престь не умеет. Бился, бился, потом напрел нитку, как шолчина. Потом пошла ему пишша хороша. Король там его ждет. Нету посыльника: вот он там гуляет, вот забавляетця! Ишша ждет: — Вот такой, сякой уехал, гуляет верно там с ей; другого пошлю, ишша верней и лучша! Триста денег дам! У купця все рубашка бела. Другого послал посыльника. Другой таким же случаем приехал в город: к ей подбиваться стал: — Эка ты красива, эка хороша! Не можно-ле с тобой позабавиться? Вот тебе триста денег. Она с їм таким же побытом в спаленку пошла, да бух его в погреб! Одному пишша уж хороша идет, а другому ишша худа пишша. Король весь прихлопотался. Хлопочет, хлопочет: куда девались, нету, нету! — Гуляют там видно с ей! Сам поеду! Посмотрел, у купця рубашка все бела. — Накладу яшшик денег, неужели нельзя подбиться к этой хозейки? Вот и поехал сам в тот город, в тую деревню. Народ: — Из Пруссии король! Из Пруссии король! Куда ему фатера? — Фатера ему у купцевой хозейки: у ей чисто, у ей бело. Ну, вот и у хозейки. Хозейка принимает хорошо, поїт и кормит. Она его чаем, кофием, всякима напитками угошшает. Он стал ей говорить: — Эки вы хороши, да эки вы красивы. Возьмите эдакой яшшик денег, согласитесь со мной, — говорит король. Она говорит: — Не соглашусь. Поежжай на полсутки в город, а я схожу к бачьку-духовнику, спрошу, простимой-ле грех. Как простимой, дак соглашусь, а непростимой, дак и на деньги не обзарюсь. Он и уехал. Вот она и пошла к бачьку. Бачько выходит из байны: запарел, заруменил. Она и говорит: — Простимой-ле грех из-за мужа грех согрешить? А он говорит: — Непростимой, большой. А согрешим со мной, дак грех не будет, за нас мир замолит. Она говорит: — Приежжай часу в девятом вечера. И вышла. — Пойду схожу в блаhочинному. Пришла к блаhочинному. — Простимой-ле грех из-за мужа согрешить? Блаhочинному эта красавица нать: — Нет, непростимой, большой грех, а со мной дак не будет грех: епархия замолит. — Приежжай в часу десятом. Пошла к архирею: — Простимой-ле грех из-за мужа согрешить? Архирей тоже на эту красавицу обзавидовал: — А согрешим со мной, дак вся империя замолит. — Приежжай в часу одиннадцатом. Она ушла домой. Там она яшшик опорожнила и склала деньги куда-ле. Вот живет, поживает. И звонок у ворот. — Хто, хто приехал? Бачько заехал в гости. Она потихоньку да помаленьку самовар наставляет. Чай попивают. С час немного и време. Опеть звонок у ворот. — Хто, хто приехал? — Блаhочинной! А чин чину повинуется ведь. Чин чина боїтсе. Бачько дрогнул. — Я-то куды, я-то куды? Она говорит: — У меня яшшик есь большой, ты в яшшик. Стала опеть блаhочинного угошшать, с час време прошло, а тут звонок у ворот. — Хто, хто у ворот? — Архирей. Блаhочинной архирея боїтсе: — Ох, ох, я-то куды деваюс? Што архирей скажот: зачем к женщины пришел. Я-то куды? — В яшшик! И два там собрала. Стала архирея угошшать. Король-ат и садит! Едет. Звонок. — Хто, хто у ворот? — Из Пруссии король! Испугался архирей. — Я-то куды? Расстригет меня! — В яшшик! Король приехал: — Ходила к попу духовнику? Спрашивала-ле? — Ходила. Грех большой, непростимой. Не буду грешить! — Скорей, — король-от разгорячился, — несите мой яшшик в сани! Слуги вынесли. Король поехал домой с яшшы… (Хохот пресек рассказ.) Я яшшыком! Вот и поехали. Едет, гонит! А у купця все не мараетця рубашка. Приехал король, кликал пир и выпустил ейного мужа. Пировал-жировал. — Есь-ле в Пруссии эка хозейка, штоб не согрешила, на эки деньги, на эдаки деньги не обзарилась? Отворяет яшшик: тут поп, блаhочинной, архирей… Три штуки запёрано. А у хозеина все рубашка бела. — Поежжай домой да выпусти, там сидят двое ишша. Бабушка закончила сказку при общем смехе не только договорившихся, но и всех бывших на берегу, которые все в большем числе подсаживались к холмику. Московка ничуть не удивилась, что Махонька рассказала такую сказку сразу после усердной молитвы. Она понимала, что северный народ, где много беспоповцев, не смешивает отношения к слабым смертным из духовенства с религиозным чувством, подобно многим из горожан. Но едва остыло веселое впечатление, как старая пинежанка без всяких упрашиваний или уговоров начала.2. Моряжка (как быдто быль бывала)
В одной деревни был один боhатеюшших родителей молодец (а бывает в городу. Нет, в деревни). Этого молодця здумали родители женить его. Ну, как, где невеста будем приїскивать? Этот жених говорит: — Вот, папенька и маменька! Вот рядом невеста, Моряжка, ей и возьму. Они говорят: — Таку нам хрестьянского сословия, нам не приходится брать, нам нать дворяньского. — Нет, мне Моряжка нать. А їм нать из другого города достать, дворяньского сословия. Он родителей не огорчил и достали невесту. Невеста сидит на лошади, на верховной и говорит: — Пусть мое сужоно выйдёт и меня соймёт с лошади. Не соймёт, я еду обратно. Ну, он вышел, снял и повенцялись. Ну, пир отошел и молодых свели на спокой. Этот молодой сел писать. Написал и отдал жоны. — Как у меня написано, так мои родители пусть и делают. Повалилса на колени жоны и умер. То время подошло, што молодых будить пошли. Здучатца у дверей, она плачот. Родители говорят: — Он, што, тебя обижат разве? — Он меня не обижат, а умер. Вот вам письмо. Родители прочитали:«Как у меня написано, пусть так они и делают. Редите меня в чисто платьё: понесут хоронить холостым, нежонатым, против Моряжкина двора остановятца, пусть Моряжка наредитця в чистом платы и выйдет на улицю проститься в губы. На веку мы с ей не челаївались».Так родители и сделали. Против Моряжкина двора остановились. Ну, Моряжка наредилась в чистом платы, вышла не улицю, и простилась в губы, и тут сконцялась. Моряжки стали гроб делать. А егов не можут с места двигнуть. Моряжкин гроб сготовили и понесли обех к церкви и отпели, похоронили в одну могилу. Там сколько-ле, мало-ле времë, через лето выросло у їх древо на этой могилы. На веку такоhо, нихто, ниhде не видал: очень прекрасное. Отец, мати стали там правительство просить разрыть эту могилу. Разрыли. Доски боковы отвалились у гробов, рука за руку захватились, в руках у їх корень, и от этого корня пошло древо. Отец, мати горько плакали, прошшались в таких грехах, што напрасно сделали.
После этой сказки наступило сразу молчание. Лишь через некоторое время Печорец негромко начал.
3. О Новой Земле
— Да. Это все сказки, а я взаболь расскажу. Лонись я на Новой Земли был, не долышко: от рейсу до рейсу. Там только два рейса и быват за год. Туда везут провианту на год для служашших и для промышленников, а как обратно, — то все, што упромыслили, везут в Арханьгельско. Ну, промышленники, которы не жалают зимовать, возврашшаются. Я скольки раз зимовал, промышлял. Она ведь Нова Земля, как… хто раз побывал, дак она тенет. Хошь на смерть, хошь на болесь, а тенет! Это понеть надо. Край земли, да бох, да зверь. Нет, это не понеть! Дак сказывали, што один человек, с этих жа как раз мест, с Пинеги, в 12-м году прибыл, с русскима не захотел селиться, а к самоедину ушол. Там все боле вдруг живут: русские с русскима — вдруг, и самоеда все — вдруг. А быват с русскима самоедин или два вдруг живут. А тот приехал, и сразу с самоедином отошли и живут на единасьве и промышляют петь лет. А как я лонись был, сказывали, што самоедин его приучал и все показывал, а он и уйди, и уж шесть лет на одинке живет. Мне любопытно. Обсказали, как найти, а тут случай такой вышел, што встретились, и пришлось у его петь ден полежать: обезножил. Лежу да и говорю: — Как это ты один живешь? — Я не один. — Хто жа ешшо? — Собака. И боле ни слова. Молтяжливой! А потом развезался езык: обрадел живому человеку. Как на долонь положил. Ну, был он тут на волости молодцом и нашел тоже себе таку жа, должно моряжку, тожа родителям в ноги пал. Извесно, што уже это созначает, как молодец в ноги повалилса. Родители говорят: «Мы сами думали, што пора, говори, хто люб?» Он сказал. «Нет, уж ю некак! Бери инну». А он на отрез: «И вовсе не женюс»! И та тоже своїм: «Нейду». И год, и другой и третей и пятой. Он не женится, она нейдет. Наконец того, девку обломали: дала согласье. Ей выходить, а он на Нову Землю. Здесь, конечно, никакого древа не выросло. Она здесь детьми усыпана, а он на Новой Земли одиннадцать уж лет живет, один с собакой. Древа то нет, а как будто оказывает. Печорец вздохнул, закурил и, не дав никому произнести ни слова, вновь заговорил: — Ешшо одну подходяшшу сказку знаю. Быват и быль; будто в Сибири это все случилось. Как малым был, приежжал к отцу купец из Сибири. Он сказывал: очень умыльна эта побывальшина. Московка предложила было передохнуть, но все очень заинтересовались умыльной побывальшиной, и Печорец начал.4. Нареченна невеста
В некотором царсве, в некотором государсве живало бывало два купца; один был боhата боhатина, а другой не столь важноватенькой. Однако жа они имели меж собой душевну связь; один к другому были вхожи со своима семейсвами, вместе панкетовали и была у боhатины дочи Машенька, и у того, што победнее, — сынок Ванюшка. И эти малютки погодки так хорошо вдруг резвились и занимались, што кусочка один без другого не глонут. Уж кажной день они гостят, играют, один другого из уст не выметывают. И припало боhатине раз на панкете сказать: — Друг милой, у тебя сын, а уменя дочи — твоему обручьня жона. Давай їх обручим! Взели у малюток колечки и поменели. Пошутили, да и позабыли. А дети не забыли. Подросли они годков по двенадцати и однеж остались на одинки и овешшались друг дружке, што быть їм мужем и жоной. Ну, времë идет. Боhатина боhата — у его дочь боhата невеста — женихов хороших прибират, сватов дожидат. А с другом — беда. Ну, знаешь, в торговом деле: деньги перестали, товары перестали, вера перестала, и совсем он обнишшал и помер, а сына егова мать давно в боhатой дом не спускат; он по службишкам бьетца. Тут присватался к Машеньки хорошой жоних, боhатой, хорошего житья. Отцы по рукам, но все же отец для виду с жоной — советуетца. — Так и так: нашу Машеньку берет такой-то жоних, лучша не надо! Жона роздумалась. — А помнишь, мы малюток обручили? — Ну, какой-жа он жоних? Сам бедной, дела никакого вести не можот. Я даже в доверенны его взеть не могу. А тут дело чистое. Да што глупости поминать по пьяному делу! Собирай дочи. Ну, мать стала собирать. Хошь придано давно заготовлено, но знаш, бабье дело, все мало: и то нать, и друго нать, все мало. Невеста време длит, а сама слезьми изошла, все матери печалуетца, отцу конаетца, што должна идти за обручьнего, кому овещалась. Отец велел эти глупости позабыть. Она была послухмяна, но забыть не могла. Свадьбу справили на веселе, уж по бокатому. Тут и вино рекой, и закуски девушкам жоних прямо яшшиками кинает (как поездом едут, так откупается, знаш, жоних). А молода кручинна. Ну, привезли в дом к молодому, оставили на одинку, как полагается; молода пала мужу в ноги сапоги сымать, а молодой ей: — Брось, бесценная, стары глупости. Нет того в сесветной жизни, чего б я для тебя не сделал. Што ты так печальна и кручинна? А она ему: — Друг мой, но сделаш-ли, чего попрошу для тотсветной? — Все сделаю! — Я овешшалась другому и прошу тебя: не бери моей красоты перву ночь, а отпусти меня к боhосужону снести к ему мою красоту. А тебе всю жись буду починна и повинна. Он задумался. Понимаете, красоту снести, то есть просила, штоб он девицу не рушил, а порушит уж тот, кому овешшалась. Задумался, а после говорит: — Иди, моя сужона несужона. Только как пойдешь? Време темно? — Это близко. Взела свою красоту (она в черкву ей не носила), и вся она у ей драгоченныма каменьями испосажона, такжа все драгоченны свадебны уборы, кои отец дал, кои муж подарил, собрала это все в кису, одёжилась и пошла. Сказала «близко», а все ж ейной нареченной жил по за городом в большой бедности. Верстах в десяти было, и пол дороги — дремучий лес. Ночь темна, только сполохи путь к лесу сосветили, да и потухли. И тут о пол дороги схватили ей разбойнички, лесные подорожнички, нашшупали кису с драгоченностями, и к отаману. Отаман здрит красавицу, драгоченны уборы и обрадел, но для изгиленья спрашиват (думат, изнасильничать, бат, поспею): — Пошто, девица-краса, в сузем пошла и уборы понесла? Видно, сосмекала нас жонихов стренуть. Нас довольно, и мы тобой очень довольны. Жона нерушимая пала в ноги и все чистосердечно рассказала и отдавала все уборы, только просила ее не рушить. Отаман оченно удивился и спустил ей: — Но завтра обязательно возврашшайся в стан и нам все расскажи, как обошелся твой нареченной. Она побежала к своему возлюбленному жониху. Рассказала ему все: и как муж спустил, и как отаман жизни не решил… — А теперь я вся твоя! — Я не задёжу тебя. Муж спустил тебя и ты к ему воротисе. Как ты сможешь егов хлеб и воду їсь-пить, естьли себя нарушишь? Довольно того, што разбойник тронулся еговым поступком, возлюбленна; неси ему и красоту и все драгоченны уборы, да поблагодари своего мужа, што уважил младенческу связь. Я его за брата почитаю. Дожидайса свету белого у меня и иди нерушима. На другой день молодка, как была девица, так есь, отправилась с кисой и завернула в разбойничий стан. Росказала и подает кису отаману, но тот созвал всех товаришшей и скричал: — Слушайте, товаришшы, што я слышу: ужели не равны мы по сотворению с протчима людьми? Вот муж не порушил данной ему эдакой красавицы и отправляет с дарами и невинностью к ейному нареченному во младенчесве жониху. Тот не хочет примать дареной ему невинности и отправляет ю нерушимой к мужу. Ужели мы хужа? Бери обратно свої уборы, иди к мужу, а штоб тебя не обидели мої станисьники, бери две слуги верныя в провожатые! Ну, вот и явилась она к своему законному мужу в свой боhатой дом с провожатыма: с разбойниками, которые чесно с драгоченностями передали мужу в руки. Коhда она все подробно рассказала мужу, он прослезился и сказал: жалаю покрестоваться с твоїм нареченным и пригласить на службу в доверенны моего торгового дома и с прочентами, как пайшика. Он мне вернул и не тронул капитал — тебя, моя радость. Жону доверил, ужели состояния не доверю? Это он сказал, а жона сомлела после всей этой трелоги и повалилась на кровать. И сделалась она трудно больня. Ейной нареченной уж служит у ейного мужа и живут они, как братовья. Очень согласно и берегут больную нерушимую женшину. Она все в бесчусвии. Однеж открывает она глаза и находит мужа своего бездыханна. Случилса ему паралик серьца. Ну, штож? Погоревали, поплакали, очень уж хороший человек был. Все состояние жоны отписано, ешшо в день свадьбы. Она-то вдова-девица нерушимая после вдосва за доверенного, за своего во младенчесве боhосужоно взамуж вышла. Это вы поймите…Печорец умолк. Не скрыть бы ему непрошенную слезу, но сейчас же неожиданно чистый и крепкий для старика голос Кулоянина запел древнюю былину.
5. Князь Роман и Марья Юрьевна
Снарядилсе кнезь Роман за сине море,
А за сине море походит да битьсе ратитьсе А
посадил он кнегиной да молоду жену.
А тут восплачитсе кнегина да Марья Юрьевна:
— А ты не езди-ко, Роман, да за сине море,
А за сине море широкое раздольїце,
Уж и мне-ка ноне мало спалось,
Да мне-ко много да во снях виделось:
А и будто у меня да и со правой руки
А сокатилосе кольцо да обручальное. —
А не послушалсе Роман да молодой жены.
А он снастит корабли да белопарусны,
А отъезжает кнезь Роман да на сине море,
За сине море, широкое раздольїце.
А тут и год-то пройдет да будто день минет.
А по утру было да все по ранному,
А тут ставает кнегина да Марья Юрьевна,
А ключевой-то водою да умываласе,
А тонким белым полотном да утираласе,
А ишше кланялась спасу да богородице,
А и садилась у окна да у косятого
А глядеть-то она да на сине море,
На сине море, широкое раздольїце.
А из-за моря-то моря да моря синего,
А из-за синего моря да все широкого,
А выплывали сокола да черны корабли.
А хорошо то корабли да приукрашены,
А они красным то золотом изунизаны.
А они чистым серебром да приокованы,
А они скатным жемчугом да изусажены.
А становились корабли да в тихой гавани,
Они метали якоря да все у города,
А оны флаки подымали да все шелковые,
А мосточки-ти мостили да все дубовые,
А настилали камочки да одинцовые,
А и тема же мосточками дубовыма,
А хрущатыма камками да одинцовыма.
А проходил тут Бориско да сын Заморенин,
А он и шел во палаты да во кнегинины,
А не умеет Бориско да речи русские,
А не толкует кнегина да речь немецкую,
А говорит же Бориско да переводшиком:
Ише есть у двора да у Романова
Молодой-то Михайло да переводшиком,
Переводит Бориска да все на русску речь.
«А уж ты здравствуешь кнегина да Марья Юрьевна,
А с молодым-то Романом да со Васильевичем».
А отвечает кнегина да Марья Юрьевна:
— Уж ты здравствуй-ко купец да добрый молодец.
А счесливо бежал да по синю морю
А у нас кнезя то Романа да нету в городе,
А за сине море уехал да он поляковать. —
Говорил же Бориско да сын Заморенин:
«Уж ты ой еси кнегина да Марья Юрьевна,
А мы пришли из-за моря да из-за синего,
А привезли мы товары да разноличные,
А разноличные товары да все заморские.
А и тонки-то шолки да хрущаты камки,
А и штофы-ти у нас да все орленые,
А и сукна-ти у нас да одинцовые,
Дорогие-ти товары да каки надобно».
А не умеет ведь Бориско да речи русские,
А не толкует кнегина да речь немецкую.
А говорит ведь Бориско он переводшиком.
А и тут же кнегина да Марья Юрьевна,
А отпирала ларцы да медны кованы,
А она меряла меру да золотой казны,
А серебряной казны да брала без счету.
А тут сплакались слуги да слуги верные:
«А уж ты душечка кнегина да Марья Юрьевна,
А не ходи-ко ты кнегина да на черной корабль,
А на черной-то корабль да в тихой гавани,
Как товар от тебе да тут прилюбитсе,
А и ум-от от тебя да тут отступитсе»,
А говорит им кнегина да Марья Юрьевна:
— А не ревите-ко вы слуги да слуги верные
А мне-ка нечего с Бориском да разговаривать,
А не умеет Бориско да речи русские,
А не толкую я, кнегина, да речь немецкую.
А я скоро откуплю товары заморские,
А и скоре того, кнегина, да я домой приду. —
А походит кнегина да на черной корабль,
Только взела с собой Михайла да переводшика.
А и ведет ей Бориско да сын Заморенин
А ей по сукнам-то ведет да одинцовыім,
А по мосточкам-то ведет да по дубовыім,
А он заводит ей на палубы тесовые,
А он во те-ли во каюточки судовые.
А и тут же Бориско да сын Заморенин,
А он подносит кнегины да меду пьяного,
А он вторую-ту чару да зелена вина,
Тут и ум-от от кнегины да отступаїтсе.
А и Заморенин кнегины да прилюбаїтсе.
А он не знает, Бориско, да речи русские,
А не толкует кнегина да речь немецкую.
А он целует кнегину да в сахарны уста.
Ай во ту пору было да во то времечко,
А матросы у Бориска да наученые,
Они сымали мосты да все дубовые,
А скатали камочки да одинцовые,
А отворяли они парусы полотнены,
Подымали они якори булатние,
Выходили они да все из гавани,
Ай бежали они да во сине море,
А во сине море — широкое раздольїце.
А во синем-то мори да во раздольїце
А ише стало корабличек покачивать,
С кормы на нос чермленой да поворачивать,
А и тут-то кнегина да сдивовалосе:
— А не бывало на веку да в тихой гавани
Да ише эка погода да разгуляласе. —
Говорит ей Бориско да сын Заморенин:
«А ты не бойсе-ко, кнегина да Марья Юрьевна,
А верно на мори волна да расходилася,
Нанесло зводенёк да до тихой гавани».
Ише не знает Бориско да речи русские,
А не толкует кнегина да речь немецкую.
А перепалось у кнегины да ретиво сердце,
А бежит она по лесенки на палубу…
У кнегины резвы ножки да подкосилисе:
А и сине-то море да на волнах стоїт,
По синю-ту морю да тут карапь бежит,
А тут карапь-то бежит, да как стрела летит,
Как стрела-та летит, да кверху злетывает.
А и тут-жа кнегина да горько сплакалась:
— А и трої проклят да сын Заморенин,
Я сронила с головы да золотой венец! —
А и день-то пройдет да все другой минет,
А и треты-ти сутки да миновалисе,
А тут Больша-та Земля да показаласе.
Ише стали корабли да в тихой гавани,
А и метали якоря да все у города.
Опускали оны парусы толковые,
А мостили мосты да все дубовые,
Настилали камочки да одинцовые,
А ише вышиты камочки да в красном золоти,
Прирозубраны камочки да в чистом серебри.
Приусыпаны камочки да в скатном бисери.
А и тут-же Бориско да сын Заморенин
А и берет он кнегину да за белы руки,
Он за перьсни-ти берет да золоченые,
А и ведет он кнегину да на красно крыльцо,
А во свои ти палаты да белокаменны:
А он поставил Бориско да сын Заморенин,
А он поставил дружину вокруг двора
А молодую-ту кнегину да караулити.
А у ворот-то поставил да приворотничков
А во сенях-то поставил да караульшичков
Да молоду ту кнегину да караулити.
А и во тех-то во палатах да белокаменных
А розоставили столы да вси дубовые,
А разостлали белые браны скатерти,
А наположили есвица сахарные,
А наносили вина да пива пьяного.
А пива пьяного, меду да все стоялого.
Ай говорил как тут Бориско да сын Заморенин:
«А ты послушай-ко, кнегина да Марья Юрьевна,
Да я возьму тебя, кнегина, да за себя замуж».
— Трої проклят Бориско да сын Заморенин
А я сронила с головы да золотой венец! —
А и тут же Бориско да сын Заморенин
А он позорил кнегину да Марью Юрьевну.
А он дерет со кнегины да платье цветное,
А говорит кнегины да Марьи Юрьевны:
«А ты потешь-ко, кнегина, да добрых молодцов,
А ты спляши нага да по удалому».
А и тут же кнегина да не ослышалась,
А и сколько кнегина да тут выплясыват,
А она боле слезами да уливается;
— А ты прости меня, спас да многомилостив,
А я сронила с головы да золотой венец! —
А во двори-то дружина да упиваласе,
А напивались у ворот да приворотнички,
А и напивались во сенях да караульшички,
А приупился Бориско да сын Заморенин.
А ише стали они да опочив держать.
А ише тут то кнегина да догаладасе:
— Благослови-тко мене спас со пречистою,
А ты выведи меня да на светлую Русь! —
А и бежит нынь кнегина да поскорешеньку,
А поскорешеньку бежит да потихошеньку.
Из полат выбегает да все на улицу.
А ише спят во палатах да трої суточки,
Как со сна-то дружина да прохватиласе,
Прохватилася дружина да перепаласе,
«А у нас hде-ка кнегина да Марья Юрьевна?»
Побежала дружина да ко синю морю,
Ко синю морю, широкому раздольшцу.
Как широко-то море да на волнах стоїт,
Во синем мори погода да поднималасе,
Говорила дружина да все Борисова:
«Уж мы скажем Борису да все Заморину:
Убежала кнегина да ко синю морю,
Во синем мори кнегина да утопиласе».
А и бежала кнегина да она три-то дни,
А она три-то ведь дни да она три ночи.
А забежала кнегина да во темны леса,
Во темны-ти леса да во дремучие,
А во те ли во болота да во зыбучие.
Да во лесах-то она три года скиталасе,
Да она горьким-то кореныцем питаласе,
Она долгима-то косами закрываласе.
А тут повытают снежочки да у чиста поля,
А выбредала кнегина да ко синю морю,
Ко синю морю да на жолты пески.
А и тут-токнегина да горько сплакалась:
— А уж ты море ли море, да море синее,
А ты возьми-ко мое да тело белое,
А упокой ты мою да душу грешную! —
А и заходила кнегина да в море по пояс.
А как из-за моря, моря да моря синего,
Из того же раздольїца широкого
Ай выбегает суденышко малешенько.
На суденки-то удалой добрый молодец
Ише кнегинин переводшык да свет Михайло.
Ай говорит он кнегины да таковы слова:
«А уж ты гой еси, кнегина да Марья Юрьевна,
А выбредай ко мне, кнегина, да на черно судно
Я свезу тебя, кнегина, да на светую русь».
А тут высказыват кнегина да Марья Юрьевна:
— А уж ты хто таков, удалой добрый молодец?
Не слыхала я этта да речи русские,
А я русские той речи да ровно три года! —
Отвечает Михайло да доброй молодец:
«А уж ты миленька кнегина да Марья Юрьевна,
Не узнала своего да слуги верного,
Как и есь я Михайло да передвошичек!
А походила ты к Бориску да на черной карапь,
А ты не знала с їма да разговаривать.
А ты взела меня с собой да во помошники».
Тут слезами кнегина да умываласе,
А Михайла та кнегина да устыжаласе.
Забродила кнегина да в море по шею.
— Уж ой еси молодой да доброй молодец,
А ты брось мне-ка с судна да хоть портенышко,
Я закрою свое да тело нагое. —
А и тут же Михайло да не ослышалсе,
А скидоват свое да платье верхнее,
А подает он кнегины да Марьи Юрьевны.
Заходила она да на суденышко,
Ише скоро кнегина да одеваїтсе:
— А спасибо тебе, да свет Михайлушко,
Надо мной ты, Михайло, да не куражиссе. —
Ай побежали они да по синю морю,
По тому-ту широкому раздольїцу.
А тут пришли они с Михайлом да на светую Русь,
На светую Русь да в стольнем городи
Тут пива ти варят да все вино курят.
А доходила кнегина да Марья Юрьевна
А до своих-то полат до белокаменных,
А она спрашивать стала да своїх верных слуг:
«Нынь пошто вино курят да все пива варят?»
А не признали кнегину да слуги верные:
По-муски то кнегина да нынь обряжена.
А говорят-то кнегины да таковы слова:
«А воротилсе князь Роман да из Большой земли.
А он искал своей княгины да Марья Юрьевной,
Увезли его кнегину да во Большую землю
А искал он кнегину да ровно три года,
А он Большу ту землю да все на дым спустил.
А перебил он старого и малого
Да за свою ту желанну да Марью Юрьевну.
А теперь у нас кнезь да прироздумалсе,
А он сосватал за себя на нынь боярскую дочь.
А о вчерашной день Романушко сосватолсе,
А сегодня у Романа да обрученыце,
А и завтра у Васильевича венчальной день».
Ай говорила тут кнегина да Марья Юрьевна
Своему-то Михайлы да другу верному:
— А ты бежи-ко, Михайло, да во торговой ряд,
А ты купи-ко, Михайло, да гусли звончаты.
А подем мы к Роману да на широкой двор
А мы скажемся у кнезя да скоморохами. —
А и тут же Михайлушко не ослышалсе.
А походит же Михайло да во торговый ряд,
А купил он ей гусли звончеты.
А пришли ко кнезю да на широкой двор,
Ише в те-ли во палаты да белокаменны.
Оны сказалисе у кнезя да скоморохами.
Запогудывали в гусли да в гусли звончаты.
А и тот же Роман да свет Васильевич
Не узнал своей кнегины да Марьи Юрьевны.
По-муски то кнегина да все обряжена.
А он дает ей братыню да зелена вина,
Зелена-то вина да из своих ведь рук.
А выпивала кнегина да за единой дух,
А со правой руки сымала да золото кольцо,
Золотое-то кольцо да обручальное,
Она которым со Романом да обручаласе,
А положила во братыню да во серебрену
Воротила Роману Васильевичу.
А и тут же Роман да свет Васильевич
А он хватат у ей перстень да золото кольцо,
Прижимает кольцо да к ретиву сердцу,
А обливает слезами да все горючима:
«А уж ты, ой еси, молодой да скоморошина!
Говори-ко ты мне да правду истину;
А у меня где-ка кнегина да Марья Юрьевна?
А искал я кнегину да ровно три года,
Я Большу ту землю да все на дым спустил,
Перебил я и старого и малого».
А и тут же кнегина да Марья Юрьевна
Она падат Роману да во резвы ноги,
А умывает слезами да все горючима.
Зрадовался у нас кнезь Роман Васильевич.
А он хватает кнегину да за белы руки,
Прижимает кнегину да к ретиву сердцу,
Он целует кнегину да в сахарны уста,
А он ей садит на место да на кнегинино:
«А мне не надобна невеста да все обручная,
Да только надобна кнегина да Марья Юрьевна!»
Ай того же молодого да он Михайлушка
А поставил себе да в друга милого,
А в друга милого, во брата да во названного.
6. Вор-Кабаньище
Да во славном городе, во Киеви,
У боhатого кнезя да у Бладимёра
Заповадилось пированыцë, поцестён стол,
Про многих князей, про многих боеров,
Про тех полениць да про удалых-е.
Тут-ле Бладимер по горенке похаживат,
Он сапог о сапог да поколачиват,
Он скопоцьку о скопоцьку пошшолкиват,
Золотыма перснями да принаигрыват,
Он русыма кудрями да принатряхиват,
Он из уст тако слово да выговариват:
«Уж вы все люди да ой,
Да все крестьяна вы соборныя,
Уж вы все кнезья да боера,
Уж не знаете ле мне-ка да боhосужоной,
Боhосужоной да боhоряжоной.
Походоцька уж была бы у ей павлиная,
Тихая рець да лебединая,
Да ведь ясны-те глаза, да как у сокола,
А цёрны-те брови, да как у соболя!..»
Нехто на это слово да ответить не мог.
Да отвечал Вечя да сын Лазурьевичь:
— Я ведь знаю у князя, да у Данилушка
Есь у его да молода жона, да Опраксея. —
«А как-жа можно у жива мужа жону отнеть?»
— Созовем мы его да на поцестён пир
Да пошлём его да на Буян Остров
За тем жа за зверем, да за Вор-Кабанышшом.
Да много там молодцов да уехало,
Не один назать да не приехал.
Привезти бы ведь зверя и Вор-Кабанышшо,
Без тоей без раны, без кровавой. —
И пошел как тут Вечя да сын Лазурьевичь
Звать князя Данилушка
Ко князю Бладимеру да на поцестен пир,
Не можот у Данилушка ворот найти.
Увидал тут Данилушко с высокой горницы:
«Кто-то ездит у нас вкруг оградочьки,
Не можот ворот найти».
Он скочил, побежал да веселехонек,
Отпирал он ворота да крутехонько,
Тут Вечя да сын Лазурьевич,
И кланелся он ему да ведь низехонько
И звал он его да на почестей пир
К тому жа ко кнезю да ко Бладимеру.
И хлеба и соли їсь да пива с мёдом пить.
Тут князь Данилушко закручинилса
И закручинилса Данилушко да запечелилса.
Увидала его жона да Опраксея:
«Уж ты што жа, Данилушко, да закручинилса,
Што жа, Данилушко, да запечелилса?
Пойдем-ка со мной в тёплу спаленку
И роскажу я тебе, да все разведаю:
Уж и поедешь ты, Данилушко, да на поцестён пир,
Уж и будут тебя садить да во передней стол,
И во передней стол да во большо место,
И не садись ты, Данилушко, да во передней стол,
Не садись ты, Данилушко, да во большо место,
А садись ты, Данилушко, во задней стол.
И во задней стол да во меньшо место.
Принесут тебе чару да зелена вина,
Принесут тебе бел пирог круписцятой,
И ты не пей ведь чарочьки зелена вина,
Ты не ешь пирога да всего дочиста,
Накинут на тебя служебку великою
И велику на тебя служебку да темнозлу.
Уже ты много с їма, Данилушко, не разговаривай.
Поезжай ты, Данилушко, да к молодой — жоны,
Молодой жоны да ко Опраксеї».
Поехал тут Данилушко да на поцестён пир.
Подхватили тут Данилушка да за белы руки,
Садили его да во передней стол,
Во передней стол да во большо место.
Не садился тут Данилушко во передней стол.
Во передней стол да во большо место.
А садился Данилушко во задней стол,
Во задней стол да во меньшо место.
Принесли ведь Данилушку цяру да зелена вина
Не выпивал он цяроцьки да всей до дна.
Принесли ему пирог да бел круписцатой,
Он не їл пирога да всего до циста.
Тут князь Бладимер по горенки да похаживает,
Он сапог о сапог да поколачивает,
Он скопоцьку о скопоцьку пошшолкивает,
Золотыма он перснями да принаигрывает
И русыма он кудрями да принатряхивает.
— Я накину на тебя, говорит князь,
Данилушко, Службу да великую:
Сходи ты, съезди да на Буян Остров.
И привези ты зверя да Вор-Кабанышша;
И без всякой раны, да без кровавою. —
Мало с їма Данилушко разговаривал
И поехал Данилушко да к молодой жоны,
К молодой жоны да к Опраксиї.
Идет тут Данилушко да не веселой
И повесил он голову да со могутных плец.
Стрецат его жона да Опраксея:
«Пойдем ко, Данилушко, со мной да в теплу спаленку
И повалимса мы с тобой на кроватоцку да на кисовую
И роскажу-ка я тебе и все разведаю.
И ты поедешь, Данилушко, да на Буян Остров
И купи-тко ся ты суцьку да нашлежницку
И купи-тко ся ты зверя да скакуна
И купи-тко ся ты зверя да ревуна
И купи-тко ся аркашек да волосяной,
И купи-тко ся сабельку да вострую,
И возьми-тко ты нож да вострой,
И встретятся тебе на дороге люди неверныя,
И будут у тебя просить да саблю вострую,
И не давай ты їм да сабли вострой,
И коли ты їх да в ретиво серьцо,
И срезай у їх да буйны головы,
И спусти-тко ты суцьку нашлежницку,
И спусти-тко ты зверя да скакуна
И спусти-тко ты зверя да рёвуна
Да ведь суцька наследит и зверь обскацëт,
Обревёт тут ведь рёвун да зверя,
Тут седит Вор-Кабаньїшшо под сырой дуб,
И наденет Данилушко волосяной аркашек,
И свежет коню да за стремена,
А удержит во белых руках».
А удержал он его во белых руках
И свезал коню за стремено,
И повел тоhда зверя да Вор-Кабанышша,
И привел он ко кнезю да ко Бладимеру,
И без всякой без раны да без кровавую.
Было у кнезя да у Бладимера,
Ишшо было у его да ведь собраныце,
Ишшо этому зверю да удивлялисе,
Да нехто этого зверя не видывал.
Приказал тут Бладимер взеть от кнезя да от Данилушка
Да тому ведь сыну Лазурьевичу
Не успел он взети да сын Лазурьевич,
Да прыгнул у его зверь да во чисто полë,
Да увидели у зверя да только курева стоїт.
7. Сороцкая быль
Это быль про сороцково промышленника. У нево были лодьи трехмачтовы и промышлял он на Новой Земли. Напромышляли целой груз зверя и гольца (голец вроде семги, только без клёску). Им бы уже уходить да поветери нет — ветер сретной. Вся команда уж на лодьях, а хозяин с двумя товаришшами ешьчо на охоту пошол. Матросы говорят: — Вот запоходит, мы ево в то время уходим! Хозеин охотилса не долго. Нова Земля — остров. Зимой на один час рассветаетса. Зато летом солнце не закатаетса. А тут уж осень, дни коротки. Вот он на берегу стоїт с товаришшами и видит паруса одданы, якорь закатан. Случилась поветерь. Он и ждет: ботик сейчас выедет, возьмет їх; ему и видно, што на лодьях делается и разговор слышен. У него там был кресник. Он ему кричит: — Давай ботик! Кресник сходил в свой камбуз, взял ружье большово формата, на планцырь положил на борт и выстрелил. Хозеин и не крикнул упал, а товаришши отбежали на такое расстояние, вне ружейново выстрела. Лодьи ушли. Эти двое остались. Хлеба — што в брюхе, платья — што на себе. — Ну, штож, ведь мы остались? Из последнего заряда убили морсково зайца. Поедят — рвать, рвота. Изба была тут построена, называется становишше Кармакул; а есть нечево, приходится умирать. Один жил двенадцать ден, другой — шестнадцать. У второво был нож, и он этим ножом на нарах и на стенах на досках вырезал всю историю. Как хозеина убили, как їх двух бросили и как они умирали. И в предсмертных конвульсиях скончалса. Ну, пусть тела разлагаютса, на счот этово помолчим. Поговорим о лодьях. Они пошли на Варде. Товар продали, накупили рому, русскому консулу заявили, што хозеин помер, зверя раньше продал, деньги жоны выслал, ну а голец здесь не идет, так мы сами в Архангельско свезем вдовы. Пошли в Архангельско, напились рому, стали плесать. А там был один старик — он в союзе не был, штобы хозеина убивать. И теперь не пил, толкует промеж себя: «Плешите, плешите, скоро заревите». Кресник услыхал и старика в море сбросил. Пришли в Архангельско. Знают правило: в полмачты флаг — значит не блаhополучно, хозеин умер. Хозейки сказали, што муж ей деньги выслал с Варде, а сам там помер, там и похоронили. Ну, штож хозейка? поплакала, погоревала, поверила. На другое лето русские в то станьвишьчо не ходили, а пришла только Норвецька или Английска шхуна — из тех наций. Зашли в избу, у їх ужас изел: два тела разлагаются медленно (климат холодной, так целой год разлагались). Один заметил, што на досках вырезаны буквы. Прочесть они не могут, а эти доски движимы, они и взели с собой їх. Там и прочитали всю историю. Этих матросов засудили, скрозь строй гнали на смерть, при Николае Палыче было дело. Так у того што написал, жонка оставалась, ну, она по весны бегала на «глядень» — такой камень-варака, с которого в море выглядывают — глядеть, не видать ли какого суденышка. Как получила весь, што хозеин помер и два ево товаришша на Новой Земли скончались (другой был других мест), она каждый день туда вопить ходила на кажну зорю. Моя матка сороцка была, видала ей. Стоїт на глядне, руки заломит в небо, и падает, и вопит, причитат. А ветер одежу крутит. Эдак то у нас все поморки: у которой муж в мори осталса, у коей сын или брат. Уж такое дело, кажна знат. Ну, и эта год цельной кажну зарю стоїт, убиваетса. Ну, отплачетса, да днем и ничево, работат. А как узнала, што муж описал, как они мучились, брошены… Она стояла на глядне, не сходя два дня (никак ей было не увести, вроде одичала, дика стала), а на третий кинулась в море. Там прегрубо место. Так и сгибла.Едва помог закончил, Московка спросила его: — Вы, Олександр Ондреевич, грамотны? — Читать умею. Товарышш четыре раза ко мне приходил, я в четыре раза смолоду выучился читать. Сулилса ешьчо писать научить, да боле и не приходил. Так писать и не выучилса. А читать читаю. Романы очень люблю читать, а потом и рассказывал все. Очень меня за это любили на судах. Но уж петнадцать лет ничево не сказываю. — Ну, а сказку вы же хотели нам рассказать. — Длинна только, убьетесь… Ну да ладно, нам на работу не бежать. Ишь вон дедушко уж работу нашол (Кулоянин плел кому-то заказанную рюжу). Ну, ладно. И он начал.
8. Красавица под флером
В одном городе приморском было два купца, два родных брата. Один торговал магазинами, лавками, горной торговлей занималса (на суше), а другой имел корабли, ходил заграницу. Который ходил заграницу, тот не имел ничево детей; тот, который торговал на суше, тот имел детей. Потом он заболел и в молодых годах умер. Сына оставил своево лет петнадцати. Супруга осталась в молодых годах. Она безумно торговать не стала: сын молод, а сама она не привычна была, — и прикрыла эту торговлю поэтому. Ну, што ж? Сын Ванюша без занятий: ему скушно. Кое-как один год проходит, на второй год весна приходит. — Што, маменька, без занятий мне очень скушно! — Да чем же, Ванюша, заниматьса? Ну што же? Торговлю снова откроем? — Маменька, это ешьчо поспеем поторговать. Мне бы вот охота заграницу. — Да што же? У дяди корабли готовые. Сходи к нему, может, он тебя возьмет, и съездишь ты с ним. Вот он этому случаю был очень рад. Сейчас же, в тот же день к дяди отправилса. Приходит к дяди. Дядя его очень любил. Принел ево великолепно. — Ну, дяденька, я к вам с просьбой. — А с какою, Ваня? — Да вот мне здумалось посмотреть заграницей, как люди живут. Дак вот возьмите меня с собой на эту навигацию. — А я только думал звать тебя, а ты сам пришол. Ну, поедем! Приготовьса. Одежды много не бери с собой, так, немного возьми. — Хорошо. Вот он приходит домой. — Маменька, дяденька меня пригласил, взял. — Ну, тогда поежжай. Вот ему приготовили все, и он собралса, багаж ему свезли на карапь, с маменькой распростилса и со веема служашшима. И отправилса. Погода стояла блаhоприятная. Шли не очень долго и прошли заграницу, там в какой-то столичной город. Ну, обыкновенно первым делом — таможня. Приехал, заявил с каким товаром на пошлины. Ну, потом таможня ему разрешила торговать разныма товарами. Он стал торговать. А Ваня што? Он свободной, как пассажир. Он для развлечения стал каждой день, как только хорошая погода, на гору выйдет гулять. 1 ак это и продолжалось много времени. Он побывал в театрах везде, повеселилса, посмотрел, как заграницей люди живут. В один прекрасный праздничной день выехал на гору (на берег) прогулятьса. Шел по проспекту и вдруг видит, едут жандармы конные и загоняют во дворы всех гуляюшших, в том числе и нашево Ваню прогнали во двор, калитку закрыли. Он удивилса: што это значит? Среди бела дня и не дают по улице иттить. Ево это сомненье взяло. Он подошел к одному пожилому человеку, так как тут народу было довольно много во дворе, и обратилса с вопросом: — Послушайте! Почему же это у вас не позволяют гулять? — А вы должно быть иностранец? — Да, я иностранец. — Так вас скоро отпустят. — Дак все таки, по какой причине нас загнали всех? — Эта причина очень простая. Скажите, пожалуйста. — Вот видите, у нашево императора есть прекрасная дочь, дак штоб не влюблялса молодой народ, для этово всех с проспектов загоняют. — Вот для чево! — Так точно. Вот он, знаете, задумалса, как бы это посмотреть. Нашел щелку[74] в заборе и стал глядеть. Ну, и действительно, видел: в трех коретах проехали фрейлины и императорская дочь. Но она была под флером. Лица невозможно видеть. Ну, вот он задумалса. Спустя полчаса всех уволили, калитка открылась: кто куда шел, тот туда и пошел по своей дороге. Он сейчас на морскую пристань и на карапь. Ево и перевезли. Дядя смотрит, он печальной. — Ваня, што с тобой, здоров-ли ты? — Здоров, дяденька! Назавтра опять приехал на гору прогулятьса. Все мечта ему: где ему увидеть, што за красавица. И так ему, знаете, невесело. Недолго погулял, вернулса обратно. Ну, он получал газету каждый день (ему доставляли, за это платил). Вот сказано, таково-та числа будет театр, будет царская фамилия и будет императорская дочь. Только сказано, будут ложи очень дороги, входу дорого. Он подумал: «Да есь у меня денех, не пожалею». За сутки раньше сходил, купил билет. Там первое место не продают, где царская фамилия, а вторую линию. Ну, в назначенной день в театр явилса, публики много. Наконец приехала и царская фамилия и ее высочество. Ну, штож, видит: фигура человеческа, высока девушка, стройна, а лица не видно, под флером. Вот ему еще тошнее стало. Што поделаешь? Приехал на карапь. И за это время стал он худее на лицо. Дядя видит, што племянник изменилса. Ничево не может кушать, похудел. — Ты болен? — Нет, дядя, я здоров. Дяди пригласил дохтора. Дохтор осмотрел больново, да и признал, што он от задумчивости заболел. Дохтор понел: — Молодой человек влюблен в ково-нибудь? — Да. — Вы эту мысль выкиньте из головы. Потом дохтор сказал купцу: — Ваш племянник влюблен в ково-то. Вот ево дядя и начал допрашивать: — Ваня, скажи мне, я помогу твоему горю. Ну, он говорит: — Да, я влюблен, дядя, но сказать не смею. — Скажи. Мне здесь все знакомы, я все могу сделать. — Я влюблен в императорскую дочь. — Ах, Ваня, Ваня, каку ты глупость сделал! Если бы она была купеческа, я бы дело обделал, послал бы сватать и она бы пошла: ты миллионер. Но она императорска дочь. Этово нельзя. Ну, все-таки не горюй. Где же ты ей видел? — В театре, но я лица не видел, мне бы хоть увидеть ей. — Ох, чудак, лица не видел, а так влюбилса! Надейса, Ваня. Это я могу сделать, штобы посмотреть. За деньги все можно. И в тот же день этот старой купец поехал в город. Ваня осталса на корабле. У нево был знакомой, один высокопоставленной человек, который служил при дворце. — Вот што, друг мой, берите денег сколько угодно, только сделайте такую службу: у меня есть племянник, молодой человек… — Хорошо, я знаю. — И вот он в театре видел императорскую дочь; хотя не видел лица, но видел ее стан и очень влюбилса. Дак вот, не можете ли устроить, штоб он мог ей лично увидеть. Только увидеть, больше ничево. — Ох, голубчик, это очень трудно. На ейну половину мушшинам строго воспрешшается ходить. Все таки дайте мне строку трое суток; я подумаю, может я как-нибудь это устрою. Так этот купец уехал на карапь и сказал: — Надейса, Ваня: через трої суток будет известно, как ты повидаїшса с императорской дочкой. Действительно, через трої суток этот человек приехал на іхное судно. — Ну, я придумал средство: позовите мастера, который отливает хрустальну посуду, и закажите стеклянной сосуд, штобы вместил тело человеческое и мог бы плавать по воды, не утонул. Коhда будет готово, дайте мне знать. Мое дело будет препроводить Ваню во дворец. Ну, хорошо. Вот мастера сыскали и сказали: — Можете ли сделать такой сосуд? Мастер подумал и говорит: — Могу. — Ну так вы сделайте, и чем скорее, тем лучше. Мастер ушол и в скором времени приготовил сосуд вроде сигары с крышкой. Значит, человека можно спустить, и поедет куда угодно. Нужно было делать пробу при мастере. Взяли огромный обрез, налили воды, положили тяжести семь пудов и спустили. Он не потонул. Значит, тело человека вполне понесет. И мастер говорит: — Сосуд сей можно отпирать, есть пружина; только открывать можно изнутри, кто будет там человек, а так не откроешь, только поломаешь. Мастера за это наградили щедро. Дядя говорит: — Теперь поедем в магазин. Купили дамской кустюм, приблизительно на Ванин рост. Привезли на карапь. Ну, Ваня переоделся. У нево не было ни бороды, ни усов, только пробивались, так и те парикмахер подчистил. Ваня в этот сосуд повалилса. А чиновник говорит: — Провизии не бери, скоро будешь на свободе. В бот спустили, привезли. У этово чиновника все было подкуплено, штоб пропустили сосуд. Ну вот, пронесли этот сосуд в сад. В этом саду был фонтан и пруд, и стоял часовой. С этово пруда никогда не брали воды, кроме как ее высочеству умыватьса. В этот пруд этот сосуд спустили. Это сделано было ночью. Когда утро настало, утром две фрелины явились с кувшином за водой. Увидали этот сосуд. Солнышко отражает ево на той стороны. — Што это, Маша? — Ох, сосудик! Побежали на ту сторону. — Ох, там барышня! Не знаю, жива-ли, нет-ли! Бегут обратно. И без воды прибежали. А она ждет умыватьса. — Што же вы без воды? — Ох, ваше высочество, там сосудик плават и в нем барышня. — Вам представилось. — Нет, есь сосуд. Вот она пошла сама смотреть. Действительно, сосудик плават. — Иди, скажи дежурному генералу, штоб созвал людей. Ну, дежурной явилса с людьми. Вот он приказыват. Ну, живо достали — в пруде, не в море. И все видят: барышня лежит живая, гледит, мигает, улыбаетса. Ну и внесли сосудик в ее комнату. Она приказывает: — Откройте. Но как ни старались, не могут. А Ваня смотрит: этот чиновник тут же, мигнул ему, што «открой». Ваня нажал пружинку, и крышка сама приподнялась. Крышка приподнялась и барышня села. — Здраствуйте! — Здраствуйте! — Как вы сюда попали? — Я повалилась спать в своей спальне, а сама не помню, как очудилас здесь. Смотрит императорска дочь: барышня очень красива, только вышее ростом. Она к отцу побежала. — Ох, папаша, кака у меня подружка красива! Позвольте ей у меня остатьса. Он посмотрел. Барышня красива, образована и сказывает, откуда урожденка. (Он уж придумал, врет.) Ну, император разрешил остатьса быть дочери подружкой, спать ночью в одной спальной, только на разных койках. Императорска дочь разделас и повалилас, а гостья нижний кустюм не раздевает, стала боhу молитьса. Молилась до тех пор, пока императорска дочь не заснула. Тогда Ваня свой кустюм снял, в одной юбочке повалилса на свою койку и уснул. А утром постаралса встать раньше. Опять боhу молитса. — Кака у меня подруга боhомольна. Так может быть неделю прожили, как сестры живут. Вечером подружка молитса и утром молитса. Императорска дочь задумалась: неужели подружка всю ночь молитса, надо погледеть. Вечером повалилас, притворилас, што спит, а Ваня помолилса, потом стал нижний кустюм снимать — у нево груди накладные. Императорска дочь ведь не глупа, видит, што не девушка: Ох, што тут делать? Императорска дочь была горячая. Созвать тревогу, — пропадет как червяк. И дала волю повалитьса ему. Только поспел повалитьса, императорска дочь встает и подходит к ево койки. — Сестрица, вставай! — А што? — Да встань, встань! — Сейчас, только нижний кустюм надену. — Не надо. — Как это, неловко! — Не надо. Горячитса, просто вся тресетса. — Сознавайтесь, вы не девушка? Он пал на колени. — Я мушшина. — Вы знаете, што с вами за это будет? — Знаю, я на все решилса. — Што же вас заставило? — Я хотел ваше лицо повидать. — Только? — Только. Я в вас влюбилса. — Где же вы меня видели? — В театре. — Вы не видели, я была под флёром. — Не видел, но я влюбилса; решился хотя бы и на смерть, только бы увидеть вас. Што ей делать? Она любила ево, пока была сестрой, а теперь еще более полюбила. — Ну будем жить, как жили. Не стесняйса, Ваня, но спать ложись на своей койки. Ну, еще прожили так две недели. Император ее за купеческого сына не отдаст, значит приходитса бежать. — Приготовь корабли к отъезду. Отправилис гулять, попрощалис и условилис: — Жди меня таково-то числа на карапь в громадном сундуке. Покупай, не торгуйса. Она вернулась во дворец одна. — Где сестра? — Вот в толпе потеряла. Ну, во дворце много беспокоитьса не стали: появилас барышня, потом потеряласа. Эту барышню привезли на корапь. Матросы подняли параходный трап, она в другом кустюме, так и не узнали. Дядя сам не узнал; думал, што покупательница. — Чем могу служить? — Да што ты, дядя, не узнал што ли? — Ох, это ты, Ваня! Ну што, как? Ваня все рассказал. Они корапь испорожнили, приготовили для сундука. Ваня ездит на гору, поджидает сундук. На пятой день видит: на четверке лошадей громадной сундук везут. — С чем он? — Да и сами не знаем, велено продать за пять тысяч. Он не торгуясь купил. Все это было сделано скоро. Но вот беда: дядя опасно заболел. Ваня ево любил, как отца. Везти дядю нельзя, надо с ним остатьса. — Капитан, вези сундук. А тут поиски: императорска дочь пропала. Капитан и повез сундук. Видит обстановка не та, дом казенной. — Кто здесь живет? — Здесь живет полицмейстер. — Што же этот дом под постой отдан? — Нет, это дом полицмейстера. — А где есь прежняя хозейка этого дома? — Она живет там-то. Обсказали улицу, номер дома. Капитан видит дом маленькой, деревянной. Расспросил купеческую вдову, как это вышло. Она рассказала. Полицмейстер заявил: «Ну вот што, хозейка: твой сын заграницей пропадает, ты в престарелых годах, не имеешь права владеть таким домом». И выселил меня. Я подавала просьбу к губернатору, не обратили внимания, а к императору не смела. Внесли сундук с трудом, так што пришлось стену ломать. Сундук проночевал, день стоит. У ней только и прислуги одна кухарка. Ушли они обе к обедни, императорска дочь и вышла из сундука. Огляделась. — Как он обманул меня жестоко! Говорил дом каменной, большой, а у нево малой, деревянной. Купеческа вдова вернулась, видит девица под окном. — Дитятко, кто ты такая? — Я, голубушка, из заграницы. А вы мать такому-то? — Да, я мать. — А я ему невеста. И все рассказала. Только, говорит, омманул он меня жестоко: говорил, што дом каменной, а он маленькой, деревянной. — Дитятко, он вас не омманул. И рассказала, как полицмейстер дом у ней отобрал. — В таком случае пошлите за извошшиком. А там извошшиков масса, сейчас же нашли. Она надела нарядное платье и поехала. Полицмейстеру докладывают. Он вышел, раскланялса. — Што вам угодно? — А мне то угодно: очистить дом к трем часам. Полицмейстер озяб. Видит дама нарядная, говорит категорически, с ней не много поспоришь. На каком, говорит, основании… — На том основании, што я ему жена и этот дом мой. Полицмейстер дом очистил к трем часам. Вот она переехала со своей маменькой. Ваня пишет: «Дрожайшая моя невеста, дяде стало лучше, но ехать еще опасно…» Она отвечает. И вот она с каждой почтой переписку имеет с Ваней. Вот однажды встала рано и села у окошка. А было жарко. Она вместо веера платком носовым махнула на себя раза два, а в это время офицер вел караул на гаубвахту. Он видит, прекрасная дама в окошко платком махнула: он и подумал, што ему махнула. Привел караул на гаубвахту, просит товаришша еще остатьса: «Меня, говорит, пригласила прекрасная дама: платочном махнула». Офицер товаришш согласилса. Он пришел к дому, дал звонок, выходит камердинер. — Вам кого угодно? — Хозейку. — Молодую или старую? — Разумеется, молодую. Она вышла в прихожую. Офицер раскланелса. — Што вам угодно? — Изволили махнуть. Зачем вы меня звали? — Как вы жестоко ошиблис. Я махнула на себя воздух, а не вас. И крикнула лакею: — Позовите кучера Петрушку, да повара Андрюшку, проводите ево нечестно; как он незванной пришел. Те пришли, да и поворотили ево, этово офицера, выпроводили нечестно: по шее просто. Он пошел, сам сердитой, переменной. — Надо итти на гаубвахту; служба-матка. Коhда сменялса, товаришш расспрашивал, у какой дамы был, весело ли время провел. Ему еще досадней. И стал думать, как бы отомстить этой даме, и хто она такая. Вот думал он, што одна бедна старушка ходит в этот дом, она все знает. Он к этой старушки обратилса. — Вот, бабушка, дам тебе десять рублей, только все расскажи про нее. Та рассказала: «Она невеста, жених за границей, она живет у ево матери, пишет письма ему и ответы получает». — Укради ейно письмо и пошли мне. Знать я тебе еще десять рублей дам. Можешь это сделать? — Могу. Старуха и стала следить. Она к ним каждой день ходила, они ей очень любили. Тут случилось, невеста написала и положила на комод письмо не запечатано. — Што мама (она ей мамой уж называла), запечатать письмо, или еще писать будем? Мать тоже грамотна была. — Не запечатывай, говорит, завтра што-нибудь еще, может быть, придумаем. Старушка это письмо свиснула, да к офицеру. Он был голова грамотная. Ему потчерк, шрифт надо было знать. Он и написал под шрифт старухи: «Сын мой любезной! Твоя невеста сперва вела себя хорошо, а теперь каждую ночь у ей гости. Убери ее, не могу жить с такой развратной. Любящая тебя мать». Офицер это письмо вложил и велел старухи на место положить. Те и не заметили. Они ничево не придумали написать, письмо не просмотрели, запечатали и послали. Ваня письмо получил, прочитал, побледнел. Дядя спрашивает: «Што, мама умерла?» — Нет, мама жива, невеста изменила. Дядя не верит, а он верит. Сейчас нанел лехковова, не жалел денег, сухим путем поехал. Уж он катил, катил… Приехал ночью. Говорит извошшику: — Подожди меня, я схожу в этот дом. Не стучал, пошол (ему уж все запоры известны) и внутрь дома зашел. В спальну. Она спит, как ангел одна. — А! сегодня нет гостей! Вчера, видно, были. Ево чорт подживляет: убей! Выхватил саблю и по животу! Пополам рассек. — Я теперь убийца! Надо преступление скрывать. Взял одной рукой за шею, другой за поджилки, вынес на извошшика. — Гони! Извошшик ахнул. — Што ты, барин-седок, поделал? Сам гонит за город. Тут ряд помойных ям. Ваня взял ее, вынел и тут бросил. Сам до первой станции доехал, извошшика отпустил, взял другово. Извошшик прямо к реки, да вымыл коляску. Так извошшик в свою дорогу, он в свою. Но пусть они едут. Посмотрим, што случилось с трупом. Один знаменитой дохтор возвращался с мызы домой мимо помойных ям и услыхал стон. Говорит кучеру (он ехал на кабриолете): — Слышишь? — Слыхал, будто человек простонал на помойной яме. Стали искать. Ничево не видно. В одну загленули, в другую, в третью взглянет, а как светать стало, видать на мусоре лежит раненая. Дохтор пошшупал пульс: жива. Он взял ее вот так (рассказчик показал, как именно), значит рана сжиматса, а то так все кишки выпали бы. На берегу слушатели откликнулись: «да, да! Уж он — дохтор: знат, знат, как взеть». Домой привез, перевезал, она уснула, сам сиделкой тут. Часа через два она открыла глаза. Он сейчас влил лекарства. — Ничево, барышня, вы у себя дома. Чево она спросит, уж он не дает: не жалко, а нельзя. На деветой день ей стало лучше. Лечил полтора месяца. Кровь вышедшая опять стала наполнятьса. Надо помнить, што она была в одной сорочки: дохтор все на свой щет ей купил. Только было на ней одно ожерелье драгоценное, в котором спала. Вот она и говорит дохтору: — Я вам очень блаhодарна, вы меня спасли. Теперь я должна с вами рашшитатьса. — Я вознаграждения не беру — ни денех, ни подарков. Што я беру, то при вас. Она думала, што про ожерелье говорит, и снять хотела. А он ей: — Нет, я вам сказал, што подарков не беру. Я вдовец, боhат, я полюбил вас и хотел бы женитьса. — Ах, вы заслужили это. Но дело в том, што я невеста и люблю другово. — Нет, я таково ответа слышать не хочу, иначе я вас не уволю. Дал трое суток ей обдумать ответ. Она отвечат то же самое. — Ну еще сутки. Опять она не согласна. Он говорит: — Я вам даю еще два часа, а уж там результат другой. И вынимает два заряженных пистолета. Убежать ей некак. Она просит: — Позвольте сходить изупражнитьса. Он подумал: «из сортира никуда не убежать», и отпустил ей. Она пошла в сортир, оторвала доску, да бросилась туда: «Лучше там сдохну!» (Присутствующие вскрикнули.) Была весна. А в том городи такая чистота, што везде были канавы, канализация. Ей вынесло в реку. Доска мала, ей не несет, она тонуть стала. Тут увидали ее рыбаки. (У них тоня была.) Взяли ее. Она мокрая, обсушить ее надо. Дали ей платье деревенское. Смотрят на нее, чья такая девушка красива. Младшему брату говорят: — Эх, Ванька, мы женаты, а ты холостой. Бери ее. Не пойдешь ли за нашево брата? — Пойду. — Веди ее, Ванька, домой. Пошли в деревню. Ну знашь, мужик дурак, да уж терпеть не может: надо пошшупать, за грудь пошшупал. — Што ты, грязной! Видишь, я чиста какая. Иди покупайса, тоhда можно. Он побежал. — Да скорей! Раздевайса, бросай платье! Он бежит, все с себя снял, побросал. Роздела ево. Он убежал, она в ево кустюм оделас. Мужиком явилас в город. Што ей делать? Пару колец снесла к еврею. Тот видит, мужик дорогие кольца продает: «верно уж хапано». И задешево купил. На эти деньги купила она булок, стала торговать. У ней такой расход, видят парень молодой, красивой. Ей в пекарнях с товару скидывают. Хорошо торгует булошник. А за это время Ваня вернулса с дядей. Ему обсказали, как невесту убили; кровь видали, только трупа нигде не нашли. Вот это Ваню удивляло, што трупа нигде не могли найти. За это время умер государь в этой державы, и министры выдумали так выбрать государя: поставить три свечи у городских ворот и пустить всех проходить. Если свеча загоритса по проходу человека, тово выбрать государем. Проходили все: и генералы, и дамы, барышни; нет, не горят без спички свечи ни от ково. Идет булошник. Как прошел, так все свечи вспыхнули. Булошник поступил царем. Повел дело умно; мушшина и мушшина. Вот она тайно пригласила фотографа и снялась в женском кустюме. Потом велел государь поставить в три сажени мраморной столб, кругом ограду и поставить часовово. На этом столбе прибить карточку. И хто будет эту карточку узнавать, тово брать под арест. Народ ходит, видит: памятник государем поставлен, там карточка красавицы, ну штож, ее никто незнает, проходят мимо. Эта карточка недолго висела. И вдруг этот офицер… — А, говорит, красавица, вот куда забралась! Часовой спрашивает: — Ваше благородие, изволили знать? — Да, говорит, знавал! Он и позвонил. Вышел унтер-офицер. — Ваше благородие, пожалуйте в караульной дом. Распоряжение от государя — посадить в тюрьму. Не долго было, попала и эта старушка (смех). Стала плакать: — Ох, дитятко, hде-то ты теперь? — Знала ее, бабушка? — Как не знать, каждой день хаживала. Часовой подал звонок. — Ступай, бабушка. В тюрьму. Попал и Иван, купеческой сын. Он и так скушной был, все забыть невесты не мог, а тут увидал карточку, вынел платок, слезы утират. Ну, часовой, видит, знакома. Подал звонок (смех). Приказ от государя: держать строго, а кушанье будет получать из дворца. Не долго было время, попал и дохтор, увидал карточку. — Сколько я израсходовал, сколько труда положил… — Изволили знать? — Да, лечил… — Пожалуйте в караульной дом. Приказ от государя: содержать в тюрьме, а кушанье будет не тюремно. Недолго было, попал и тот мужик. Увидал карточку и закричал: — Вот эта та сама меня и обокрала! Ну, и ево в тюрьму. А завтра сам государь судить будет. Собрались все судьи и государь. Первова офицера спрашивают. Ну, как он перед государем, офицер все рассказал. Государь спрашивает: — Како ваше мнение? За то, што шрифт подменил, девушку загубил, што ему за это? — Расстрел! Старуха стала рассказывать. — Этой што? За то, што письмо украла? — Старуха не стоит пули — пеньково ожерелье. Купца не судят. — Дохтору? — Дохтора наградить. Диплом: знаменитой дохтор, из мертвых сделаїт живых. Ваня-мужик рассказыват: — Я на ней женитьса хотел, домой вел, пошшупал за титички, а она мне: «поди, выкупайса, грязной», я побежал, а она кричит: «кидай одежу», я скинул, а она, воровка проклятая, все забрала, убежала… — Ну, мужика наградить за потерю: ловить рыбу беспошлинно, из іхнево семейства в солдаты не брать. А купца привести через два часа к государю, лично судить будет. Она надела женской кустюм. Ваня приходит; вместо государя — ево невеста. — Теперь ты видишь, чьих рук это дело? Ваня пал на колени. — Ваня, скажи, почему ты меня убил? — По письму. — Я так и думала. Ну, тут она заявила, што править государством больше не желает: она не мушшина. На этом сказка наша кончаласа.Все как по уговору, рассказывали об одном: о верной любви. Такой уж тон задала Махонька своей сказкой. Боялась только Московка за мезенца. Вдруг разрушит все настроение смехотворным рассказом. Попросила она его наедине выбрать из своего запаса что-нибудь подходящее. Перед тем как начать мезенец встал, посмотрел на Московку искоса и снял шапку. На голову у него из густых волос, как гриб, торчала огромная шишка. Все изумились, а мезенец помолчал и начал: — Я вам не сказку расскажу, а раньша про себя. Я жил в Питере у купца в кучерах. Меня конь копытом ударил в голову. Вот и осталась шишка. Это уж навеки. Пошшупай, как хошь. Ну, раз возврашшался домой, в Угзеньге тоже долго парохода дожидались. Я снял шапку. Одна женшина и спрашиват: «Это пошто у тя така шишка?». Што жа, нать, думаю, соврать. Ну, вот и наврал. Вот послушайте мое вранье. Московка уж будет довольна.
9. Шишка
Я жил в кучерах у управляюшшево именьем. У нево дочка была. Родители стали замечать, што у нас с дочкой разговоры. Она мне подарила часы и себе такие-жа купила. И шли эти часы — минуточка в минуточку и секундочка в секундочку. Как скажет мне: «В такой-то час, в такую-то минуту приходи», я уж у ей в комнаты. Родители стали замечать и мне отказали. И поступил я в графпанельшики в Кронштат. Тоесь попросту пошол шляться по Кронштату. Она мне все же записочки посылала и денег посылала на пропитанье. Она сделалась больна и прислала мне записочку:«В такой-то час мама поедет за свешшеником для вероисповеданья. Ты смотри и той же минуточкой ко мне».Я стал смотрять, действительно: в такой-то час мамаша из калитки — брык на извошшика, а я — брык на лесницу (жил в кучерах, дак мне лесницы были все хорошо извесны) и к ней в комнату. Она лежит уже под светыма. Поговорили с ей немного и слышу, мать вернулась. «Милочка, говорю, мамаша со свешенником идут. Я-то куды?» А у ей тут сундук стоял. «А сюды», говорит. Насилу с места сползла, сундук отворила, я в сундук, она меня заперла и ключ вынела. Мать приходит со свешенником, а она, слышу, говорит: — Позовите околодошного и дворника. Послали. Вот, думаю, беда, чево она делать хочет? Околодошной и дворник пришли. Она говорит: — Мама! Это бабушкин сундук? — Бабушкин, милочка, бабушкин. — Бабушка мне его отказала? — Тебе, милочка, тебе. — Так вот я помру… Штоб этот сундук со мной в могилу шол… Вот, думаю, шутит! Шутя, шутя, а она таки померла. Ейной гроб на великолепну балдахину, а меня на ломового извошшика. Везут меня, слышу, люди разговаривают: — Как великолепна балдахина! — А пошто сундук-от везут? — Тако уж жаланье покойницы! Видно, здесь любимы вешши. «Да, думаю, любимы!» — Штоб уж никому не доставалисе! «Да, думаю, кому достанессе?» — Штоб уж с ей в могилу шли! Я-то лежу и думаю: «Ужели в могилу? Кричать, или не кричать?» Молчу: любовь не картошка, не проглотишь; как часы наши шли минуточка в минуточку и секундочка в секундочку, так и жисти наши заодно кончаюцца, — и не кричал! Вот гроб в могилу спустили и меня на гроб поставили, и землей засыпали. Потом слышу потоп, бегут… Ведь по земли все слышно. Могилу разрывают и голоса: — Ну, как? Сверху ломать? — Нет, погоди! Тут может, дороги вешши, сломашь. Нельзя-ле как по шалнерам? — А, давай сверху! Да топором, да прямо мне в голову!.. Я выстал и заревел… Они бежать, я — за їма! Вот и осталось на головы — шишка!
Дав немного утихнуть веселому смеху, Скоморох снова, начал.
10. Укрощение строптивой
Живало бывало старик со старухой. У їх был одинакой сын и его отдали в ученьё. Кончил это ученьё, и отец его поместил на завод в город. На заводе он работал лет до двадцати, и вдруг мать пишот, што приежжай, отец помер, нать хозейсвовать. Он приезжжат и мать объевлят, што она стара, нать ему жона и работница в хозейсво… — Я тебе, Ванюшко, невесту приберу-то… — Нет, маминька, это уж оставьте. Мне жить, мне и выбирать. Сам выберу! Она было: — Да как?! Стары люди всеhда уж так делывали. Можешь-ле выбирать? Понимает-ле мушшина обиходну роботу? Нать, штоб была и пряха, и ткея, и жнея, и в дому обиходна и к людям уцлива, и тебе повинна и мне починна. Я людей знаю, кто какого житья. Я выберу! — Нет, маминька, я сам. Не люблю я из чужих рук смотрять! Он был нравной. Мать и перечить боле не стала. А он себе думат: «Как никак, а все нать в переделку брать!» Вот услыхал, што в одной волосте есть боhата невеста и така гордёна горделива, што нихто ю из боhатых не брал, а за бедного сама не шла… Вот и задумал наш Иван ей усватать. Сел да поехал в ту волось. А там жил знакомой старик. Он к ему: — Ну, пошто, Иванушко, приехал? — Невесту сватать. — Это, действительно, хорошо. Нать тебе хозейка. Только надумал-ле? Бедну сам не возьмешь, а боhата — та сама не пойдет, ты ведь бедной. А ежели кака пойдет, дак не радось! Как думашь? Иванушко и росказал, на каку метит. — Да што ты уж! Она робить ницë не хочет: ни пресь, ни ткать, ни жать, ни косить, ни корова обредить, ни трава носить. Только знат на своем поставить. Ты с ей напозоришься! А он ему на ответ: — И боhата будет работать, нать только к рукам прибрать. — Как хошь! Воля твоя, только не думаю… А его боле разжигат. Пошол прямо к невестину отцу. Те родители довольны, куда-ле доци спехнуть, а она уперлась. Старики всячески уговаривают: и парень хорошего житья, хошь и беднея нас, но чисто ходит, ты у его за барыню будешь жить. Да цего, дура, дожидаессе? Из боhатых тебя нихто не возьмет, а за бедного сама не пойдешь. Это парень красивой, ловкой, ты будешь довольна и будешь над їм голова. Она роздумалась: «Пошто в старых девках оставаться? Лучша пойду за этого да к рукам приберу. Роботать не заставит. Я роботницу возьму». И согласилась. Иван говорит: — Нареченной батюшко и нареченна матушка, и нареченна возлюбленна невеста! Сватьбу нельзя откладывать! Через семь ден венцаньё! Домой приехал, росказал, каку невесту берет, так все разахались, а мать прямо плачот: — Да я слыхала: гордёна, набалована, любит, штоб шапки перед ей ломали, ницего не умет, и робить не станет, и тебя жалеть не будет, и што ты бажоной здумал! — Нет, говорит, мама, не всякому слуху верь. И роботать будет, и меня любить будет, и тебя уважать будет, — только ты мне ни в чем не перечь и собирай все как надо по хозейсву: через сем ден свадьба. И все по деревне ахают, смеются: — Она от его убежит! Она с їм жить не станет! Городской дурак деревеньску боhату дуру берет! И пошли… Боле всего девки, да жонки. А он к товаришшу и к сестры двоюродной: — Ты, Петька, дружком будешь! — Ты, Маша, свахой. Это двоюродной сестры. Те радехоньки поез собирать. И он стал сродников всех собирать, а за день до венца отправился в город на базар и купил трех коней по три рубля. Привел домой этих коней: эдва переступают, эдва дышут. Мать увидела, заплакала: — Да ты одичял? Эдаких коней купил? — Не велики деньги: три трешницы. Съедят не столь много, а два дня протянут. Столько мне и нать. А тут Петька бежит: — Все ле закуплено? у меня все готово, самолучши кони стоят… А это ты куда эких животин купил? — После узнашь, а завтра поедем по невесту, приготовляйси. На утро поезд собрал, вся деревня здрит, отличной поезд, только под жонихом тройка страшна, кони страшны. — Ну, уж до черквы не доедут… Приехали в невестин дом, после того невеста села с дружком и со свахой на жониховых кляч, а жоних по отдельности. Ну о полдороги Ваня остановился, велел дружку и свахи уйти, а сам с невестой сел. Она гомулькой покрыта и не сметила, как пересаживались. Только глаза росширила: ни дружка, ни свахи, они с жонихом в поле стоят. Одна пристяжна из сил вышла, дале уж не можот итти, а жоних кричит, страшно ругаетси. Та стоїт. Он крикнул: — Смотри, третьего накона не дожидайси, прирежу! Та стоїт. Он взял, коня прирезал. Едут дале, втора пристяжна пала. Жоних страшно ругается, кричит, — конь лежит, он опеть: — Ставай! Третьего разу не дожидайси! Прирежу! Конь лежит, не ставает. Иванко слез, сругалси, коня прирезал, также и коренника, а сбрую от кажного в санки побросал, а потом к невесты: — Катя, говорит, ставай! Она сидит, молчит. Он сгремел: — Вылазь! Третьего разу не дожидайся! А то как коня прирежу! Она вылезла из санок. Опеть к ей: — Вези санки! Она было смолчала, он как крикнет: — Вези! Она и повезла санки со всей кладью. — Сыми гомульку! Она уж сразу снела. Потом видит, она пошла. — Сымай шубу! Она уж снела, да сама уж в санки ложит. Ишла с полверсты и пристала. — Я, говорит, Ваня, оцень пристала, больша не могу. — Одежь шубу! Пойдем пешком. Идут, он говорит: — Смотри, свешшенник спросит, своей-ле волей идешь, отвечай, што своей, а не то, как коня прирежу! Пришли в черкву, там все готово. Свешшенник начал править свое дело, обрашшает к ей вопрос: своей-ле волей идешь, она отвечает, што своей (сама тресется); к ему — разумеется, своей. И так до трех раз. Ну и все готово. Петька уж брошены санки привез, запрежены хорошима коньми (у его дома были жа хороши). Ну дома гостьба, народу много и все удивляются на молоду: тиха да смирна. Она была уж рада, коhда с ей по хорошему говорят, не грозят, не ругают. Дале окажись Катерина послухмяна да и роботать горазда. Дошел слух до ейных родителей. Мать здумала проведать свою дочь: како житье. Иван ей в окошко приметил и говорит жоны: — Катя, к тебе мать идет. Грей самовар, угошшай, а мне недосуг, итти нать. Ну, мать приходит, здороватся. — Как, Катя поживашь? — Очень хорошо, Ваня меня любит, жалеет, свекровка — тоже, заместо тебя, все закрашиват. А мать свое: — А я слыхала, што ты извелась на работы, вишь как похудела, да побледнела. Ты їх не слушай. Иван твой мельница пустопорожня, езык невесть цего навернет, свекровки все лихо, ницë не робит, а все ты. Ты не роботай, а как бить станет, ты к нам бежи. В это время заходит Иван. — Катя, неси уздечку! Катя подала. — Цего с ей делать? — Обратывай матери. Катя стала говорить, што с ей хорошо обрашшаются. — Катя! Веди ее во двор, запрегай в соху, да привежи, штоб не ушла, будем картошку на ей пахать, как попьем чайку. Ну почайпили, Иван и говорит: — Ну добежи, погледи, не убежала-ле мать. Та посмотрела: мать развезалась и убежала. Она приходит и печалуется: — Вот Ваня, дьявол-то; развезалась, убежала и все побросала. — А церт с ей! Убежала дак убежала! Опеть живут хорошо, советно. А старуха та прибежала домой растрепана, на голос воет, што дочь загубили, выдали за лешего. И все воркует, и все неладно… Ну, старик делать нецего, сам поехал смотрять затево житье, как дочи: позорится-ле за роботой. Иван сметил, што тесть идет, опеть к жоны: — Этта, ты угошшай отца, а я пойду, мне как недосуг, нать сходить… А сам на пятра слушать, што тесть будет говорить. Тот, как поздоровались, сразу спрашиват: — Ну, как, доцка, живешь с мужом, со свекровкой? Не много-ле заставляют роботать? — Да очень хорошо, Муж меня жалет, к делу приучат, свекровка замест матери, все показыват, да так ле ладно живем. — Я и то вижу, што Иван парень разумной, ты его поцитай, слушайсе. Свекровка тоже женшина поштенна, поболе твоего смекат, ты ей завсегда уважь, ты ей покоіть должна. Такжа мужу никовды на поперек. Ну, Иван видит, што тесть на его сторону протегат, заходит в избу, здороватся с тестем, стали чай пить, да потом: — Катя, возьми-ка клюци да слазь в подполье, hде этта у нас боченок со стоялом вином. Ташши татиньки своему. Ну, как стали угошшаться, дак тольки… С неделю старик про свой дом-от не поминал. Наконец того стал домой срежаться. Ему с собой вина. Ну он этта путем-дорогой сильно захмелел, в дом идё-шатается, а старуха увидала, на крыльцо кинулась да вопит: — Запахали, запахали божоного! А старик языка повернуть не можот.Да, вот кака переделка! И кажну жонку нать так оброботать! А то они хитры, я бы рассказал, про їх штуки, да наш завженотдел не велит, просили штоб сегодни только про їх крепку любов сказывать… Ну, до завтра доживем! Завтра уж разрешоно! Было от чего смутиться Московке. Три раза сегодня задели: и «бабка», и «командир», и «завженотдел»… В самые тайники попал… Пересиливая себя, она спросила: — А как звать-величать вас? — Поп кстил, їмё позабыл… — По имени по отечесву? — Мать сколотила, їмё мила позабыла! «Решительно отвращается», — подумалось Московке. И сейчас же утешилась: «Стерпится, слюбится!» Пожелав всем приятного сна, они обе с Махонькой стали готовиться к ночлегу.
День второй. Сказки о любовных изменах и утехах
Солнце встало безоблачным. День предвиделся ясный и жаркий. Река еще больше обмелела; мокрый край берега высунулся из воды вершка на два, появились новые отмели. Это вызывало горькие сетования и сомнения: придет-ли вообще пароход. — Коhда-ле придет. — До дожжа будем жить. — Сидит где-ле. Омелился! — Поживем ишшо денек, а так кому уж крайне нать, дак в лодоцьки по воды попловет. — В сутки до Пинега, а как Московки нать в Архангельско, дак с Пинега на лошади… — Ну, уж и дорого станет! Нашелся охотник сбегать за четыре версты на телеграф узнать, что с пароходом. — Как до Карповой дойдет, дак там клади четыре часа на разгрузку, а назать часа два ему ходу… Есть-ли в ночь пришел, ну штож… к обеду будет суда. По воды прибежит, как не омелится… Опять вчерашнее рассуждение… Так переходили от страха к надежде, от бодрой уверенности к отчаянию и попутно поглядывали на Московку: охота была узнать, что она делает в своей толстой тетради. Она тихонько переспрашивала сказочников, что-то поправляла в тетради, а, когда увлекшись, прочла Скомороху весь его рассказ, он даже вскочил от удовольствия. — Все верно! Все слово в слово: как врал, так и есь! А отбежав на другой край площадки, где уже чаевничали и радушно угощали его горяченьким (сахар, хлеб при себе), он положительно твердо заявил: — Сильно грамоты знает! Ух! Стали интересоваться: — Покажь мое! И, посмотрев, удовлетворенная Махонька сказала: — Ишь кольки нацвела! И неизвестно к чему и к кому относилось цветенье: к сказу или письму, к ней самой или к Московке. Тогда и Кулоянин захотел посмотреть, оторвав глаза от своего плетенья, и Печорец не выдержал: — А дозвольте спросить, вы и мое записали? Как оно вышло, любопытно. И печорское дело вышло. Опять сгрудились у холмика и вторично прослушали умыльну побывальшину, но теперь все удивлялись силе письма. — Как на патрете! — Лита, — канута — побывальшина! — На Москву повезешь? — Да куда хош! Один Александр Останин не сомневался, что все записано как следует. Кулоянин степенно и внушительно пояснял кому-то: — Я говорю, она к нам командером експедиции приежжала. Женшина, а командером состояла. Взели за грамоту. Всех грамоты учила: те, которые с ей были, пишут, а она правит. Те — там, значит ешьчо не все буквы произошли, дак она уж все твердо знат и скажот и надпоминат. Фонды Московки поднялись, а она любовалась дедом и сияла, еле сдерживая смех, и все решили, что от похвал. А когда она вдруг нахмурилась и уткнулась в тетрадь, женщины решили: — Застыдилась! Все уже трапезничали, когда прибежал с телеграфа охотник и заявил, что пароход, как ушол, так никуда и не приходил. И почти радостно: — Сидит! — Омелилса! — До дожжа не сползет! И только одна старуха, у которой сын ходил матросом, запричитала: — Роют, бажонные, песок, позорятся, да все в воды, все в воды… — Вода нонь тёпла, не осённо мелководье. — Да все-жа, белеюшко, ревматизма не спрашиват тепла-ле, холода-ле… Как утин недуг хватит… Ни сидеть, ни лежать, ни стойком стоять… — Ну, хватит твоего сына, дак небось слово знать, заговоришь! — Да како жа слово, белеюшко? Стара я стала зубов нет, слово-от уж не столь крепко. Московка оживилась: — А разве зубы-те помогают, бабушка? — Да как же, белеюшко? Как у бабки зубы крепки, дак слово… оно по крови бежит шибко… А как уж нет, дак плети, плети езыком… уж не то. Слово неправильно скажешь, оно неправильно сушшествует… И старуха встала, отошла в сторону; сейчас же встала и молодка, они вместе уединились и тихо горячо о чем-то говорили. — Вишь, говорил подсевший к Московке крепкий крестьянин из ближней деревни. Вишь, — колдует! Она и слово знат, и травы собират и ездит по всей Пинеги, гладит очень хорошо, к ей дохтор всеhда посылат и кличет для совету; очень хорошо гладит жонок, так по женьскому значит положенью; и баби хорошо, у младеней грыжу заговариват уж лучша нету. Коих младенчиков она примала, дак как репки наливны. Дохтор очень ей хвалит. Московка спросила: — Да она грыжу заговариват да и гладит… Может глаженье помогат, а не слово? Тут все хором затвердили: — Што ты, жоночка! Слово, оно ведь по крови бежит! — Какой дохтор? — осведомилась Московка. — Ну, наш. Вот и запамятовал… фамильё ему было вроде как польско; он нас пользовал, все к ему ездили. Его в царску ссылку привезли. Он стал пользовать, а потом, как вышло ему ослобоженье — пожалуйте, обратно в Питер, он не захотел. Больницу выстроил… Видели? Ну, уж понимаете, кака! В Архангельском завидуют: в бору стоїт, а уж нашшот порядков — ну, строг. И никуда не поехал, жонилса… Тут одна жонка не вытерпела и бойко заговорила: — А знаш, как жонилса? Вечереньку у себя собрал, и наехали со всех местов учительши, которы знакомы, а которых и не видал… И сверху и снизу. Уж все его знают, порато хорошой и холостой, всяка уж понимат, што — невест смотрять… И наехало — дак дивно! С Мезени, говорят — это дело зимой было, — дак на олешках прикатила одна. И выбрал сразу незнакому, высоку, статну, столь приятну учительшу. И в одночасье поженились. И до того мила дохтурша; с людями обходительна, така скупяшша, економна — хорошенькя хозяйкя! Его уж боле нет. Переведен куда-ле… Московку уже грызла тоска по сказкам, и она громко заявила: — Ну, товаришши, за дело! Ныньче уж неверная любовь! Ныньче про всяки измены и любовны утехи! — Довольно постовали! — энергично заметил Скоморох. — Вот увидаем, хто боле грешен: жонки иль мужики. — Да уж чего гадать. Жонки! — Мужики! Мужики! Загорался спор, и Московка, чтоб прекратить его, сказала: — Ну, вот увидаем, как в сказках сказывается. Ну, Махонька, опеть зачинай! И Махонька, как истинный художник, увлеченная, незаметно для себя стала предавать свою сестру: запела. Она меняла голос: тонким изображала жену, гнусавым — мужа, толстым — скоморохов.11. Гость Терентьище
У стара мужа Терентьїшша
Жона молода, Прасофья Ивановна
С утра больня и трудна,
Под вецер недугная,
Недуг посередки розживаїтце
Выше груди поднимаїтце.
«Старой муж, Терентьїшшо,
Поди по всему городу,
Крыци во всю голову».
Старый муж, Терентьїшшо,
Пошол по всему городу,
Крыцит во всю голову:
«У стара мужа Терентьїшша
Жона молода, Прасофья Ивановна
С утра больня и трудна,
Под вецер недугная».
Пострицялись скоморохи — люди добрые,
Скоморохи оцесливые.
«У стара мужа Терентьїшша
Жона молода, Прасофья Ивановна,
С утра больня и трудна,
Под вецер недугная».
«Скоморохи, люди добрые
Скоморохи оцесливые
Не видали ли стара мужа, Терентьїшша?»
— Уж мы видеть-то не видели,
Ох, уж слышеть-то мы слышали
Стар-от муж Терентьїшшо
Середь рынку убит лежит,
Голова его отрубленная. —
Она и заплесала.
«Скоморохи — люди добрые,
Скоморохи оцесливые,
Уж вы спойте-ка песенку
Про стара мужа, Терентьїшша!»
«Глух ли ты, мешок?
Глуп ли ты, мешок?
Не про тебя ли мешок говорят?
Не про твою ли буйну голову?»
Холошшовый мех розвяжитце,
А Терентьїшшо потянитце,
Сбил он с дружка Шапку пуховую.
12. Черти в бочке
К попадьї дьяцок ходил. Поп собиралса неводить и говорит попадьї: — Еду я на двое сутки, уж в самой крайности, што завтра вернусь, ноцевать не жди. Поп уехал. Дьяцок созвал дьякона: — Пойдем к попадьї. — Пойдем! Они пришли к попадьї. Она їм из пецки доставает — всего настрепано, напецено. Бутылок наставила. А был один целовек, он за попадьей присматривал, и тут в окно загленул: у ей танци. Он к попу побежал, догонил и сказал ему: — Вот не веришь, што у таковой попадьї гости, пойди посмотри своїма глазами. Показал попу: потом завертел попа в солому, на спину звалил и стал к попадьї колотиться: — Пусти прохожая ноцевать. Она было: — Дак как пустить, у меня мужа дома нет? Нет, уж не ловко! Как пустить?.. — Пусти, пожалуйста, я околел на холоду! А дьякон да дьяцок говоря: — Ну, как не пустить? Пусти! Што? Мы тут сидим, — он в другой избы повалится. Не помешат нам! (Знашь, духовны — они добродушны.) Попадья говорит: — Ну, заходи, прохожай! — У меня поклажа есь. — И поклажу неси, тут положишь. Вот он попа в соломы занес. Там танци у папады, весельё, — он и запел:Ты послушай-ко, солома,
Дойди, Гришенька, до дому:
Дьяку раз, дьяцку — два…
Ты, послушай-ко, солома,
Дойди, Гришенька, до дому:
Дьяку раз, дьяцку два.
Трахи-рахи-тарарахи!
Берег кричал: — Жонка! — Мужики! Про мужиков! Они омманшшики! Дьякон да дьяцек! Скоморох положительно заявил: — Они можот вдовы были. С горя ходили. А попадья — изменница. Она попа омманула. И все жонки таки! Сама настояшша правда! Женская честь гибла. Ах, Махонька! Вся надежда теперь на Печорца. Рассказал же он прежде умильную побывальщину. Неужели не вспомнит он сказки, которая подымет женский образ? Думая так, Московка обратилась именно к нему: — Федосей Павлиныч! Вас просим! Ошкуй, Федосей Павлинович, хитро прищурился и начал предательство.
13. Жонкина верность
Два мужика выпивали. Расхвастались. Один говорит: — Я как помру, у меня жонка не пойде взамуж. — Только, Кирюха, помри, дак живо пойдет. Только ты помри, — посыкнется. Ударили о полведра. Он пришел домой и заболел, да и на завтра помер. Утром жонка встала, пла-акала порато и затопила печьку: хоче блины пекчи на поминки мужу. Вдрук товарышш под окошко: — Ай, товарышш, пойдем выпивать! Жонка и говорит: — Он ведь умер. — Ще-то с їм блаословесь слуцилось? — Вот вчерась пришел да заболел и умер. И сидит, плачот. Товарышш и говорит: — Та эка ишшо молода. Не идешь-ле взамуж? — Не-ет! Я уж не пойду. — Я знаю жениха, только небольша есь причина. — Кака? — Пьяной на место сс… — Это ницего. Хватила мутовку на шешки, в голову тропнула мужа: — Этот ишшо меня об…рывал. Мужик опеть скоцит и почел жонку драть: — Я чял, што ты не пойдешь взамуж. Надея на вас плоха. Нать мне товарышшу за залог купить полведра водки.Берег залился веселым смехом: — Само правильно! Вот каковы жонки! Надейся! — А каковы сами? Эдва закопаете, да и жонитесь! — Жонимся, да не вопим. — Ну-ка, ишша! — Про виноватих жонок! — Про мужиков! Они уж виноватей! Федосей Павлинович, так же хитро улыбаясь, принялся за новую сказку.
14. Никола Дупленьский
Жил мужик с жоною. Жона улюбилась в дьякона. Мужик ходит на бор, а жона тут дьякона и созовет. Мужик этот проведал. Вот он раз приходит из лесу и говорит: — Я Миколу дупленьского нашел, сходи да помолись, дак што хочешь сделает тебе. И дорогу показал, как дуплë найти. Вот она колобов напекла и пошла. А муж забежал другой дорогой и сел в дуплё. Жона пришла, увидала дуплё и давай кланетце. — Микола дупленьской! Подай, штоб муж ослеп, оглох! — Подай колобы, дак ослепнет, оглохнет! Она и подала. Домой пришла радехонька, а тот вперед забежал, да уж на печи лежит. — Ох, што-то ничего не вижу… — Ах, на-ка! Да што-ты, што ты, блаословесь? — Да не чую ничего, што говоришь-то! Тут дьякон пришол, она с їм угощается, всего напекла. Што уж муж не видит, не слышит. — Ох, горе, дайте уружьем полюбоваться! Последний раз полюбоваться. — На? Што уж тебе? Дьякон говорит: — Надо уж подать ему. — Молчи, дьякон, куда ему? Лежи уж, куда тебе? — Нет, уж нать! И подал ему уружье и опять к ней. Вот они утешаютьця. Она блинов подала, едят. А мужик уружье на дьякона навел да стрелил. Убил дьякона, полон рот блинов ему напихал, потом посадил в лодку, в руки как-то весло привязал, да в кусья спрятался, смотрит, што будет. Мужики неводили, — дьякон пловет. Они вопят: — Дьякон, не езди в тоню! Дьякон, не езди в тоню! Один лодку пехнул, дьякон увалился в воду. А тот выскочил из кусья: — Ты што дьякона утопил!? Мужики грохотали: — Ну и жонка! Вот как молитце! Подай, штоб оглох, ослеп! Женки верещали, и понять было невозможно ни одного слова, точно прорвалась плотина северной сдержанности. — И все они хитры! Это упрямо твердил Скоморох, не спуская глаз с молодки, которая тоже потеряла свой обычный покой. В это время Кулоянин своим приятным голосом запел.15. Чурило Пленкович и Василий Пермята
Выпадала порошка да снежку белого,
Да по той порошки, по белу снежку
Да не заюшко скакал, не бел горносталь,
Ишшо шол, hде прошол да удалой доброй молодец,
Да по имени Чурило Да ведь Пленкович.
Чурилко младый Пленкович,
Ходил гулял по чужим жонам.
Говорит-де как деушка ему служаночка,
Деушка Чернаушка: «Не ходитко,
«Чурило, да по чужим жонам,
По чужим жонам, да по чужим гузнам,
Потеряшь ты, Чурилко, да буйну голову».
Говорит де деушка служаночка,
Служаночка деушка-Чернаушка:
«Я пойду скажу Василью Пермятину!»
— Да не сказывай Василью Пермятину,
Я куплю тебе шубочку соболиную. —
«Уж ты, ой еси, Чурилошко Пленкович,
Не надо мне твоей шубочки соболиною,
Я пойду скажу Василью Пермятину».
— Деушка-Чернаушка, не сказывай Василью Пермятину.
Я куплю тебе чуден крес,
Не дешев, не дорог — тысечу рублей. —
«Не надо мне твой чуден крес,
Я пойду, скажу Василею Пермятину».
— Ты гой еси, деушка-Чернаушка,
Я куплю стрелочку каленую,
Каленую стрелочку разрывчату. —
«Не надо мне твоя стрелочка каленая.
Я пойду скажу Василею Пермятину».
Надевала она тонки белые чулочки с чоботам,
Пошла-де она да во божью церков,
Крес от кладет по писаному,
Поклон от ведет по ученому,
Да подходит она к Василью Пермятину
Близко по близко: «Да пойдем мы,
Васильюшко, да из божьей церквы:
В доме у нас нешшасье повстречялосе».
Тому-ле Василей да не ослышался,
Крее от клал по писаному,
Поклон вел по ученому.
Пошол Василей да из божьей церкви
Сапог о сапог покалачиват, —
Приступ о приступочек прогнибается,
Пошол де Василей из божьей церквы со служаночкой,
Со служаночкой-деушкой, со Чернаушкой.
Подходит Василей ко своей гридни,
Подходит к палатам белокаменным,
Да заходит Василей на красно крыльце,
Брякнул Василей в золото кольцë,
Не отворяет ему молода жона,
Молода жона да Настасья;
Брякнул он во второй након кольцë, —
Не отворят ему молода жона ворота.
В третей раз брякнул золото кольцë,
Отворят ему Настасья дочь Коломисьня,
Выходит в тонкой белой рубашецьки без чоботов.
Заходит Василей во свою гридню,
Отворяет-от двери хрустальнея,
Да заходит он в фатерочку белокаменну,
Лежит на кроватушки тесовыя,
Лежит да Издолишшо проклятое,
Проклятое Издолишшо Чурилушко млад Пленкович.
Сымат Василей да саблю вострую,
Хочет рубить да буйну голову,
Да раздумался Василей Пермятин сын:
Сонного рубить, аки мертвого.
Проснулся Чурило-от Пленкович
От великого сну боhатырьского.
Спросил Василей у Чурилка:
«Ты котороhо отца, которой матери?»
— Я отця Издолишша Проклятого. —
Не спросил болей Васильюшко,
Отрубил у его буйну голову.
Выводил он свою да молоду жону
На широкий двор, отрубал ей да праву ручюшку:
«Не надо мне права ручюшка:
С тотарином она да обумаласа».
Отрубил у ее да леву ноженьку:
«С тотарином она да оплеталася»!
Отрезал он белы груди:
«Тотарин лежал да на белых грудях!»
Тогда рубил у ей буйну голову,
Разметал все по чисту полю.
Тогда пошол Васильюшко со служаночкой
Во божью черкву.
16. Поп и дьякон
Влюбился дьякон в попадью и ходит к ей. Сидит у ей раз, она его спрашивает: — Куда завтра, отец-дьякон, поедешь? — Да я поеду попахать. — Я к тебе приду. Напику шанёг, колобков. Ты насыпь опилок, я по опилкам твое полë найду. — Ладно. Они говорят, а сын слышит, мальчишка небольшой. Вот попадья напекла шанёг, пирогов сподобленых, пошла к дьякону. А сын рано встал, насыпал опилок по дороги к попу. Попадья по опилкам и пришла. Поп думат: «Што тако, попадья смиловилась, всево напекла, да ешьчо сама принесла». Она видит, не туда попала, говорит: — Поп, поди созови хоть дьякона вместе їсь. А сын говорит: — У дьякона собака злюшша, без палки не ходи! Поп взел палку большашшу и пошел. Сын забежал вперед и кричит: — Дьякон! Пошто к мамки ходишь? Татка к тебе с палкой идет! Дьякон бежать: схватил полы долги, волосье трепешшется… Поп кричит: — Дьякон! Иди шанёг да пирогов їсь! А тот от него.Помор неожиданно запел.
17. Панья (песня)
Как пошла панья по своим новым сенем,
Как по чясту, как по чясту из окошецка смотрела:
Ежно из поля, из поля да из далека циста поля.
Ежно едут поедут да все кнезья-боера,
В тороках везут кнезя да все кровавоё платьё.
Выходила млада панья на прекрасноë крыльцë,
Не дошедши млада панья по низкому целом довела. «Уж вы здрастуйте, кнези-боера,
Вы видали ли кнезя моего-то бывшего пана?»
Как перьвой кнезь слово молвил:
«Мы его видом не видали».
Как второй-от слово молвил:
«Да мы слыхом не слыхали».
Как третей-то слово молвил:
«Уж мы столько видали:
Ево доброй конь рыштет по далеци цисты полям
Ево черкасько седелко по пуд-цереву волоцилось,
Ево шолковой повод копытом лошадь заступает,
Ево шолковая плетка лютою змею извивает,
Ево буйная глава под ракитовым кустышком,
Ево русые кудри вихорем-ветром разносило,
Ево ясные оци да ясны соколы разносили,
Ево церные брови церны вороны расклевали,
Ево бело тело серы волки расторгали».
Как пошла млада панья со своих новых сеней,
Как будила млада панья своих маленьких детей:
«Уж вы станьте, пробудитесь, мои маленьки детки!
Как у вас-то малых деток света-батюшка не стало.
А у меня-то младой панї бывша пана не стало!»
Как на другой день млада панья в зеленом лесу гуляла,
Во пригоры рвала траву васильевску,
Во прикру ты шшипала цветы лазоревы
И прикладывала ко свомїм белым шшекам:
«Будьте столько же аленьки, мої паныны шшецьки!»
Как на третий день млада панья во замуж выходила:
«Господа-ле, вы, господа, ко мне завтра на свадьбу,
Хлеба-соли кушать, вина-пива пити!»
Паньюшка по сеницкам похаживала,
Хлопцика за ручьку поваживала:
«Пойдем ты, хлопцик, на кружельский двор,
Возьмем мы, хлопцик, чярочку винца и братыньку пивца,
И выпьем мы, хлопцик, по чярочки с тобой:
Ты за мое здоровьїце, а я за твое.
Ты-то будешь пьяный, а я весела.
Ты будешь плесать, а я буду скакать.
Мой-то пан уехал во большо гулять,
Меня пан оставил горе горевать, тоски-тосковать.
Я ведь не умею горе-горевать, тоски-тосковать
Тольки умею скакать да плясать!»
Мало по малу сам-от пан на двор.
Выскоцил хлопцик — из полу-окна,
Выставил хлопцик правую руку, а левую ногу.
Отсек пан у паньюшки по плець голову:
«Вот тебе, паньюшка, чяроцька винця, да братынька пивця,
Вот тебе, паньюшка, скакать да плясать».
18. Кожа
Два брата жило. Один наживной был — другой нет. Невески не советно жили и пристали, штобы делиться. Стали делиться. Ну, как? Все больше старший брат наживал, — ему все и идет. Разделились: старший брат живет боhато, младший — бедно. Жона ему говорит: — Хоть бы какие делишки в лесу нашел, дрова бы возил. Поехал он за дровами в лес, лошадь с горки побежала да башку свернула. Приташшил домой мертву кобылу кожу драть. Жонка завыла: — Да как это… — Да вот с Лисьей Горки побежала, башку свернула. Кожу содрал, померзла кожа. Говорит жоны: — Давай кису под товар, продавать кожу повезу, товару накуплю. — Да што тебе за кожу-то дадут? Много два рубля. Каково товару купишь на два рубля-те? — Да уж давай. Пошол с кожей. Далеко город-от был, он к попу заколотилса, а поп в город уехал, попадья ево и не пустила в избу: иди на сеновал. Он загленул в окошко, а у матушки меликают, меликают танци. И угошшенье на столе, бутылки наставлены. Повалилса он на сено. Поп вернулса, заколотилса, попадья сейчас бутылки в комод, все прибрала. А гость: — Куда мне теперь? — А вот в сундук полезай, — и заперла ево. Поп лошадь заставать пошол, а прохожий «кх, кх». — Хто тут? Да как можно здесь прохожему человеку ночевать, пойдем в избу. И привел ево, посадил за стол, а тот кожу под стол. — Матушка, нет-ли чево выпить? — Нет, што ты? Я думала, ты из города чево привезешь. — Да ведь ты запаслива, может и осталось. — Нет, ничево нет, я тебе ничево не сказала, как поежжал, думала, сам знаешь. Нету, нету. Прохожий на кожу наступил, она замерзла и скрипит. — Што это у тебя? — спрашивает поп. — Гусли поют. — Што же они поют? — Они поют, што в комоди у матушки выпивка есть. — Ну, уж это пустота. Матушка сказывала, ничево нет. — Я уж їх сколькой год держу, они у меня не врут. А матушка: — Да што это он? Говорю, ничево нету, да неужели я то уж не знаю… — Ну, а все же, матушка, давай посмотрим. Посмотрели — в комоди бутылки. — Ах, я позабыла, што ведь оставалось малешенько; вот позабыла-то, верно, ведь верно, што оставалось. Сели, выпивают, а кожа опять заскрипела. — Што жа это теперь гусли поют? — А они поют, што у попадьї в сундуки живо тело. А матушка тут: — Ну, уж это пустота. Ангелы, да я твоего ночлежничка высажу! Што он!.. — Ну-ка, давай ключи. Матушка ключи со слезьми вместе принесла. Открыли сундук — там гость сидит. Поп ево узнал и говорит прохожему: — Ради бы боhа, возьми ты сто рублей и утопи этот сундук. — Можно. Поташшил сундук к реки, тот там взмолилса: — Выпусти меня, я сто рублей дам. — Можно. У ево уж двести. Накупил он в городе разново товару. Жоне всево принес. Невеска забежала, посмотрела и мужу насказала: — Гледи, деньги-ли какие у їх завелись. Всево накуплено. Тот брата меньшово спросил. — Я кожу продал. — Да много-ли за кожу дают? — Да ныне кожи дорогяшши, двести рублей дали. Тот пошол, коня на запольках поймал да убил, кожу содрал, вгород пошол. Сел с кожой на рынке. Хто кожу ногой подопнет, спросит: — Дорога-ли? — Двести рублей. — Да ты сдичял? Хто боле двух рублей даст? Рассердился этот брат, взял топор: «Убью своего обидчика». Тот там знает, што брат его убить захочет. А у него была мать старая старушка, совсем уж помирать собиралась, он ее край печьки повалил, а сам спряталса. Старший брат прибежал, мать зарубил да и прочь. Тот взял лошадь запрег, мать одел, на санки посадил, сам поддерживат. Приехали в город, в ристоран. Он мать за стол посадил, вина спросил и говорит лакею: — Угости маму мою. Лакей стал подносить, толкнул ее чуть, старуха и повалилась. — Убил маму! Лакей ему стол рублей дал: — Только не шумите, пожалуста, господин. Он вынес старуху, посадил в лодку, весла в руки дал. Рыбаки пришли, за весло хотели взяться, старуха и свалилась в воду. Мужик на берегу росшибаетса, реве. — Маму-ту утопили! Рыбаки ему двести рублей дали: не шуми только. Пришол домой, больша прежнего нанес. Брат прибежал. — Где деньги взял? — Маму продал. За старуху триста дают, а естли потельнее, то и пятьсот. У него жонка была здоровая, мясная. Брат пошол, жону убил, понес в город, сел на рынке да кричит: — Женьского товару не надо-ли? — Хто жонок убивает, да продает, в арестански ево. Коhда выпустили, брат меньшой тово боле разбоhател. Он ево зашил в куль, приташшил к реки. Стояла тут часовенька. Пошол помолитця, штобы бог помог таково разорителя погубить. Пока молилса тут был теленок подли мешка; меньшой брат вылиз, а теленка туда. Сам коней из поля каких-то к себе загнал. Старшой — мешок с теленком бросил в реку, пошел, думат, ко вдовы. Там брат с конями. — Ты где этта нажил столько? — В реки. Там еще много. Да ты споки-то. Там урыти поуры, да кони-ти буры, кореты золоты! Старшой брат велел себя завязать в мешок да кинуть к реку. И ушел. Не знаю, выйдет-ли хоть к осени. Не бывал еще назад.Спор разгорелся невероятный. Особенно горячо спорили, «хто лучша», один мужик и одна жонка. Оба средних лет. Спор завел их очень далеко. Мужик усмехался и словно поддразнивал. Но жонка побледнела, глаза горели, челюсть, губы и голос дрожали. Наставал черед Скомороха. Московка боялась, что этот женоненавистник зальет ядом женщину. Ей уже сказали по утру, что Скоморох внебрачный сын мезенки и не любит говорить об этом… На Мезени вырос, а теперь женился и поселился на притоке Пинеги — реке Юле. Едет в Архангельско свою шишку вырезать и на заработки. Московка обратилась к нему: — Как же звать все-таки? Хоть имячко! — А зачем? Прозвали Скоморохом и очень даже подходяшше. Мать мезенка, меня девкой принесла, а отец мой, сказывают, Пинесьский, вот с этих мест. Есь тут недалеко фамильё Скомороховы. Дак будто бы из їх рода. Не знай. Скоморох вскочил, расставил ноги, согнув их в коленях, поскакал, изображая зараз и всадника и коня, и запел; ему сейчас же откликнулась Махонька. Они пели вместе, а потом спрашивали и отвечали друг другу.
19. Козáченько (песня)
Ехал козаченько из Украю,
Ехал молоденькой из Украю;
Он побочил, с коня скочил,
Он побочил, с коня скочил,
Дле дивчины, дле дивчины:
«Как тя, девиця, по їмени зовут,
Как тя, красавица, по отечесьву зовут?»
Меня батюшко насеял,
Меня мати родила,
Меня поп к(ы)стил,
Окулиной їмё дал.
Девушка, Окулинушка!
Не пойдешь-ле, девушка,
Взамуж за меня?
Есь-ле козаченько, дом-от свой?
Есь-ле, молоденькой, дом-от свой?
У миня дом-от в чистом поли,
В чистом поли, под березой,
Ты со мною, я с тобою,
С Окулиной, с молодою!
Есь-ле, козаченько, конь-от свой?
Есь-ле, молоденькой, конь-от свой?
У миня конь-от в чистом поли,
Чистом поли, за Дунаем,
Мы пойдем с тобой поймаем,
Ты со мною, я с тобою
С Окулиной с молодою!
Есь-ле, козаченько, постель-от свой?
Есь-ле, молоденькой, постель-от свой?
Шиленишша под бочишша,
Епанчишша в зголовишша
Ты со мною, я с тобою
С Окулиной, с молодою!
Почали девицу комарики кусать,
Почала девица козаченька ругать.
Я козак не дурак,
Не охвочь работать,
Я охвочи подле бочи,
Ты со мною, я с тобою,
С Окулиной с молодою!
20. Золоченые лбы
На веках невкотором осударсьве царь да ише другой мужиченко исполу промышляли. И поначалу все было добрым порядком. Вместях по рыболовным становищам болтаются, где кака питва идет, тут уж они первым бесом. Царь за рюмку, мужик за стокан. Мужиченко на їмя звали Капитон. Он и на квартире стоял от царя рядом. Осенью домой с моря воротяцца, и сейчас царь по гостям с визитами заходит, по главным начальникам. Этот Капитонко и повадился с царем ходить. Его величию и не по нраву стало. Конешно, это не принято. Оногды амператора созвали ко главному сенатору на панкет. Большой стол идет: питье, еда, фрелины песни играют. Осударь в большом углу красуется. В одной ручки у его четвертна, другой рукой фрелину зачалил. Корона съехала на ухо, мундер снят, сидит в одном жилету. Рад и тому, бажоной, што приятеля нету. Вот пир к концу заприходил. Царицы Аграфены пуще всех в голову вином ударило. И как только ейной адьютан в гармонь заиграл, она вылезла середка залы и заходила с платочком, запритаптывала:Эх, я стояла / у поленницы, у дров.
По угору / едет Ваня Королев.
Отчего / далеко видела.
От часов / цепочка свитела.
Цепочка светила /в четыре кольчика
У милого / нету колокольчика.
У милого / коробок, коробок,
Я гуляю / скоро год, скоро год.
Равзе нищие не пляшут?
Равзе песен не поют?
Равзе по миру не ходят?
Равзе им не подают?
Эх, што то свая наша стала!
Эх, да закапершика не стало!
Эх, дубинушка ухнем!
Эх, зеленая сама пойдет!
Эта сказка прерывалась безудержным смехом. Простодушный, он лишь способствовал крепкому и сладкому сну на вольном воздухе. Так закончился день сказок о любовных утехах и изменах.
День третий. Волшебные сказки
Московка открыла глаза, разбуженная громким и решительным оповещением Скомороха: — Ситуха! И вытерла мокрое лицо. Сеялся мелкий и вялый, нерешительный дождик, а все небо было затянуто серой, нежной пеленой. Московка по привычке, усвоенной с детства, огорчилась — дурная погода, но все просыпающиеся радовались: пароход снимется с мели. — В Верховьї давно, верно, дожжи-ти, — пришла вода! И Скоморох указал на вчерашние обнаженные полоски песку, — сегодня их затянуло водой. Стали заботиться, как провести день под дождем, а может и ночь. — Нать вешши из пешчорки рыть да там огонем разживить. А Московка надеялась там тетрадь беречь и записывать… — Нать на мельницу проситься — там каморка есь, для того и слажена: проезжих приючать до парохода… — В деревню куда-ле проситься, там и телеграф — узнаем нашшот парохода… А дед Кулоянин решительно: — Я на Анлигу иду. С Андиги рюжа-та заказана, там и кончу. У Московки сердце упало: все в разные стороны разбредутся, кто куда. Рушилось дело, а еще на сегодня затеяли волшебные сказки. Скоморох воскликнул: — А ну, всема на Андигу! Не рой вешши из пешчорки! Клади суды от дожжа кому нать, да храните нашу кладь! Идем, бабки, на Андигу сказки сказывать! Там тепло, там чисто! Московка недоумевала: Какая Андига? Куда? Так бы хорошо в коморке на мельнице (можно-б сказки сказывать и записывать), а тут еще нерешительные голоса увеличили сомнение. — Далеко! Бабкам на гору не вызняться! Но Скоморох не унимался: — А мы на што? На руках унесем! Идем, штоль, бабушка, до дожжа настояшшаго. Московка колебалась. — А здесь естьли? На мельнице? — Да в коморку всем не взойти. Тесно. И сидеть-то лавок не хватит, не то што повалиться. Идем на Андигу! — Да што это тако? — Тако красивенько местечко. Идем! Другие пояснили: — Там ране часовня была, а ныньце колхоз. — Любопытно. Но как же кладь? — А тут в пешчорке останется, хто унесет? Дорожного человека обидеть… Это у вас там на Москвы — все полиция-милиция, а из-под носу ташшат. У нас жа: хто дорожного человека обидит, — тому голова не сносить! Ну, идем… И Скоморох подхватил Московку под локоть, крикнув в полуоборот Помору: — А ты другу бабку! Вот мы и с нареченныма! Не отставай, Ошкуй! Хто ишша с нами? Чего стала? — Да все думаю нашшот парохода… вдруг придет… — лепетала Московка. — Давай вицю! Бабок погонять! Ведь услыхаем свисток-от. На Андиги ишша лучша! И услыхаем и увидаем! С горы-то видко! Да с горы-то прям и скатимся к реки, а оттуль тропка по бережку сюда к причалу. А сейчас в волось идем. Небось хлеб-от приїли? Нать в коператив зайти? И мне нать — табачку захватить. На телеграф нать? Про пароход справитьсе? Ну, ну, вызнимайтесь, бабушки! Вот и ладно. На волости все дела справим да и лесом ишша на горку вызнемся… Поможом, подхватим! Тут и Андига. Там нас оприютят. Горницы большашши. Печку затопят, чайку согреют, чего-ле поїсть дадут. Хозейка обрадеет людям за место лешаков. Так болтая, сказочная компания, за которой увязалось еще три-четыре человека, дружно поднялась на высокий и крутой берег. Оттуда среди полей открылась большая деревня, охваченная сосновым бором. Через сетку дождя она казалась серьезной и важной: не видно было ярких пятен повойников и платков; в полях двигались одиночные фигуры; не заметно досужих, толкущихся ребят и, верно, их отсутствие да черные прясла в полях придавали всему такой степенный вид. Только овцы кучками бестолково двигались по дорогам между огороженными полями и толкались, стараясь проникнуть в поля с соблазнительной высокой травой на межах. Изредка доносился резкий крик: «Петронька! Кычки-те у Савватевны!» И тогда из-за куста выныривал Петронька в отцовской кабате ниже колен и запускал камешком в бестолковых овец. А из деревни шел неумолимыи страж в длиннейшей хворостиной. Она была так велика сравнительно с малым ростом стражника, что перетягивала его, и он на ходу качался из стороны в сторону. Он был бос и в малице, в самоедской шапке с косами. Белобрысые брови сдвинуты, а круглые голубые глаза глядели строго. Подойдя к огороде, он сиповато крикнул: «Петронька! Отложь заворы-те!» И Петронька, подбежав, разложил заворы, а стражник стал у столба. Овцы поскакали к проходу, а насупленный стражник огревал хворостиной каждую. — Петронька, заложь ворота-ти! — и, так же насупившись, стражник стал ждать подходящих с реки. — Раз! И каждый получал по удару хворостиной, пока дед — Кулоянин не схватил ее: — Вишь, большевик! Впрямь и есь большевик! Дед приостановился и поймал привратника за меховые косы. Шапка осталась у деда в руках, а белобрысый герой лет трех увернулся и так же хмуро глядел. Дед протянул ему кусочек сахару, он схватил его и сейчас же свистнул хворостиной по компании. — Ах, ты!.. А сам сиял. Отойдя, дед повернулся и залюбовался «большевиком». — Еруслан Лазаревич! Сам себе винуетсе, сам себе палицей пометывает! «Еруслан Лазаревич», действительно, хворостину перекладывал из рук в руки, но вдруг… лицо его исказилось, он бросил хворостину и с громким ревом кинулся к деду, уткнулся в его колена и залился, топоча босыми ножонками. — Ну, ну… Пойдем в лавку, конфетика укупим с тобой, сам, сам… И дед, взяв молодца за руку, решительно пошел впереди. Но и всем было надо в лавку, а более всего Московке. Ей понадобилось и сушек, и «дессерту», т. е. монпансье, и жамок, и кедровых орешков; мало этого, — пошепталась со Скоморохом, дала ему денег, и тот исчез. Выходя из лавки, Кулоянин торопливо сказал: — Я догоню, только малого к матери сведу. А когда Московка насыпала в шапку малого гостинцев, дед деловито сказал: — Падай в ноги! И парнишка так быстро опрокинулся, что даже лбом о пол щелкнулся. Но поднялся парнишка с тем же суровым достоинством и важно пошел из лавки, держа за руку дедушку Устина. По дороге в лес завернули на телеграф. Там те же сведения: ни одной волости, связанной телефоном с этим местом, пароход не проходил. Сидит где-нибудь на мели, а где — неизвестно. С этим путники вступили в лес. Тропа вилась с пригорка на пригорок — легкая и широкая, постепенно поднимаясь. Теперь Московка узнавала от Помора интересные вещи про Скомороха: — В третьем году поехал он на заработки в Архангельско, ничего не находил подходящево, бродил по городу без работы и заметил трех слепых. Ім бросали много денег. Іх вожди приходили, обирали деньги и целой день сидели в трактире, пили. Скоморох подсел к слепым и запел, всякие прибакулки стал сказывать, дак денех просто не обрать, столь много стали кинать. Он слепым дал много, и ему осталось. Он все лето у них вождем был, а л они попробовал еще по заводам сказывать… Ну так рабочие кишки перервали, столь смешно. Дак денех много… Сей год, говорит, прямо по заводам лесопильным… Там его уж знают. Этот «шишковатой» и на руки и на язык — мастер! Легок на помине догнал их в лесу и Скоморох. Тропа исчезла, подъем стал значительным, путь пересекали ручьи, мокрые ложбинки, валежник. Скоморох взял Московку под опеку, а Ошкуй в трудных местах прямо нес Махоньку, как перышко. Московка сияла так, как сияет женщина, когда самый интересный мужчина в обществе оказывает ей знаки внимания. У нее было нелепо гордое выражение лица, сменяющееся озабоченным, когда путь становился труднее. Таких внимательных кавалеров поискать! — Перепыхни, бабка! Тут догнал их Кулоянин и деликатно объяснил свое запоздание: малого пришлось с уголька спрыскивать. — Прабдедко я ему… Московка чуть не села от удивления! — Дедушко, ты-ж с Кулоя… — Внук у меня здесь назначен по почтовой службы, да шибко больной был. Мы с молодкой еговой да с парничком приехали ешьчо по зимним путям прошшаться… А он выстал… Опять на ту-ж службу взели… Обешшали по осени в Мезень перевести. Вот молодка с парнишком и осталась, а мне на страду нать домой попадать. — Ужели ты ишша страдаешь? — А как? На мне ешьчо большина по сей день. Как хозяйсьво оставишь? — А как жа молодка? — Там девок довольно, а мужиков-то всего — сын, да я… Я, конешно, косить не кошу, ну, а зароды ешьчо оправляю… И дед пошел впереди, шагая твердо и без «перепышек». Всеведущий Помор пояснял Московке: — Он не столь хоронить приежжал, а лечить да в доме, где еговый внут стоїт, конь-неїм всю зиму терялса, да у соседей ныне корова потерялась. Ну, вот для этого: слово знат, он ведь колдун. У его там што птицы попадает в силья. А сена… у всех пропали, а у его… — Ну, значит, внука вылечил, а корова и конь? — Внука вылечил, корову не столь давно нашел, а конь… видали в Исполкоме объявление, што в Холмогорах уловлен конь-неїм. По приметам уж їхной, да нашшот платы за содержанье дорого просют, вот разговоры идут. А дед сразу сказал: «Ваш конь по сени Двину переплыл». И внука поднял: ведь уж совсем, совсем… Конешно, не верю я во все это, но факт. У меня, у приятеля ружье заговорено… Не верю, — но факт: бьет без промаху. Так в разговорах, с помощью предупредительных кавалеров достигла Московка вершины Андиги и ахнула: до последней минуты большие кусты среди стволов не позволяли видеть, что ждет впереди. А тут открылась широкая поляна, со всех сторон обрамленная лесом, покрытая пожнями, полями картошки и зелеными еще нивами. Было просторно и, несмотря на дождевую сетку, весело. На одном краю поляны стояла большая и низкая часовня на замке, а на другом — белое каменное здание и несколько крепких деревянных строений — колхоз. Пока пришедшие помогали любопытной Московке заглянуть в окна часовни, Скоморох отправился в дом предупредить о нашествии. Московка представляла себе многих хозяев с кучей ребят (для них-то «дессерт» и жамки) и тревожилась, хватит-ли места укрыться всем от дождя. Скоморох вернулся с приглашением от хозяйки пожаловать. К удивлению Московки, в большой горнице со столом, кроватью и печкой их встретила только одна улыбающаяся молодка с блестящими глазами. Московка знала этот северный, радостно-пытливый взгляд, словно ожидающий небывалого счастья, которое должны принести диковинные люди из иного мира. Должно быть, так смотрел и улыбался Михайло Ломоносов, когда вышагивал свой долгий путь из Холмогор в Москву. — А где ж ишшо хозяева? — Муж по рыбу ушел, тут озерышко недалеко есь. — А остальные? Ведь тут колхоз? Молодка засмеялась: — Это нас только так в просмешку называют. Куда-ле с мужем пойдем — «эвона колхоз идет!» Што у нас было горячее желанье колхоз здесь собрать. Пять семейств было сбивалось сюда. Этот дом — гостиница была для боhомольцев. Местечко красиво, стройка хороша, ну и здумали… Однако усмотрели, што неподходяче место для хозяйсьва… Это верно: трудно место. Эка гора, коров держать некак. Сами увидали. — А вы здесь? — Одны! Разрешенье дали, дак живем. — Трудно вам? — Дородно! Многосемейным уж не прокормитьсе. А как мы без детей, штож? Нам не трудно: пронимаемся. — А не скушно вам одной? — В лесу скушно-ле? Ягоды беру, грибы ломаю, травы собираю. В лесу… Дак не вышел бы! А скушно станет, на глядень пойду; тут у нас звоница есь. Вы слазьте, посмотрите, сколь красиво! Все видко! Пока гости обсушивались и чистились, хозяйка уставила стол молоком, шанешками… Пришел хозяин — веселый, крепкий, с такими же блестящими глазами. Он отдал жене пехтерь, набитый ершами. — Вот и будет на уху гостям! Ишшо останется, ты в погреб снеси, на дорогу їм отдашь. С берегу? Здорово, дедко! Рюжу кончил? Ну уж рыбы попадать станет! Сей год ершов, дак полно озеро! А хозяйка угощала с поклонами. — Поелошьте, наши гости, поелошьте, дорогие! Молоцка пресного похлебайте! Свежего не угодно-ли? Шанежки полуцяйте пресны, наливны, пасок не желаїте-ли? У меня мой доброхот до них охотник. Полуцяйте, полуцяйте! Черносливу нашего деревеньского — репки пареной покушайте. Тесно здесь. Ужа стол соберу в большой горницы. Там просторно, да самоварчик согрею! Хозяйка была просто пьяна от радости. За столом умещалось немного, но под внимательным хозяйским глазом каждый подсаживался к столу, а другой, нахлебавшись молока, освобождал ему место. Хозяйка не уставала угощать, а ей буркали: — То и знам, надвигам! Дед ел из собственной посуды. Прибежавшая с волости девка (услыхала, что у Александры гости) да две жонки с берега взялись «схватить» пол в горнице и вообще помогать хозяйке. Предвиделось пиршество: дессерт и жамки пришлись кстати. Наконец гости встали со словами: — Наелошились пошли, наваландались пошли! И все двинулись в большую и нежилую огромную горницу с голландской печкой, с лавками по стенам и большим столом. За окном дождило, а здесь было сухо и тепло. Расселись по лавкам, и Московка обратилась по обычаю в Махоньке, но бедная старушка еще не отдышалась, даром что ее несли на руках. Так необычно поздно начался сулящий затянуться за ночь день третий, день волшебных сказок. Устин Иванович начал.21. Еруслан Лазаревич
Зародился у Лазаря Лазаревича и жены Епистены Еруслан Лазаревич. Родила, и прожил у нее трої суток после рожденья. В трої сутки его привели во кщение. В трої сутки он сделался как трех годов. После трої сутки прожили они семеро сутки. В семь суток как семи годов он будто встал. Стал Еруслан Лазаревич на улицу ходить, стал Еруслан Лазаревич с малыма ребятами играть, шуточки шутить. Он шуточки стал шутить не малые; какого ребяша схватит за волосы, — волосы прочь, за руки схватит, — руки прочь. И стали товда царю Картаусу жаловаться, што он с детьми малыма играет, шуточки шутит не малые, кого за волосы хватит, — волосы прочь, кого за руки хватит, — руки прочь — нать такого уництожить. Царь Картаус призывает Лазаря Лазаревича во свою палату: — Стой жа, Лазарь Лазаревич! Возрастил ты своего возлюбленного сына, не надо тебе его спускать с малыма ребятами играть. Он шуточки шутит не малые: кого за волосы хватит, — волосы прочь, кого за руки хватит — руки прочь. На то Лазарь Лазаревич восплакал горькима слезами: — Ах вы, царь Картаус! Служил я у вас тридцать лет. Единой сын у меня родился, а вы хотите его отнять, в темницю застать. Царь Картаус на то осмелился: — Подёржим мы его в темнице, и он в рост придет, не будет тоhда таки глупости иметь. Лазарь Лазаревич держал его до семи лет в доме, не выпускал на свет с малыма детьми гулять. Еруслану Лазаревичу стало очень скушно, досадно: — Пойду я к отцу батюшку, к матери Епестеньї. Батюшко ты мой! дай ты мне тако блаословенье ехать в чисто поле добрых людей посмотрять, самого себя показать. Лазарь Лазаревич отвечал: — Пойди к царю Картаусу. Если он даст блаословенье тебе показаковать, добрых людей посмотрять, самого себя показать, товда я блаословлю тебя. Царь Картаус встречает его в том, што он как мушшина уже взрослой. — Вот у меня в семь лет такой боhатырь возрос! Говорит ему: — Еру слан Лазаревич! Што тако тебе надомно? В глаза тебя видеть, сердце взрадовать! Товда Еру слан Лазаревич осмелился в младых годах своему царю тако слово молвить: — Царь Картаус, я прихожу к вам. Я не бывал на воле, спустите меня показаковать, добрых людей посмотрять, самого себя показать. Царь Картаус и сказал ему: — Выходи на конюшой двор, выбирай добра коня, накладывай вуздицю тосьмяную, седелышко зеркальчето. Дал блаословенье. Пошел Еруслан Лазаревич из палаты белокаменной на конюшон двор. Ходил по конюшену двору, не мог избрать коня по плечу; на какого взглянет, тот дрожмя дрожжит, какого заденет, тот на коленци падат. Приходит к царю Картаусу с великой победой: — Ах, царь Картаус! Што не мог я у тебя коня избрать по плечу: на какого взглену, тот дрожмя дрожжит, какого задену, на коленци падат, — а я ешьчо не дожил до возрасту! Царь Картаус ответ держал: — Што я соберу всех своїх сильных боhатырей, всех охрателей (значит охранителей)! Он собрал всех сильных боhатырей и всех охрателей, думали думу и выдумали думу, што есь Ивашко-Сорокинская Шапка: берегет-стерегет тридцать лет Конька-Горбунка. Никто їм владать не может. Удумали Еру слана Лазаревича отослать от осударева к синёму морю, устроить ему избушку. Товда Еруслан Лазаревич устроил себе потешку-дробовку, ходил ко синю морю и стрелял серых утицей. Идет он с етой забавой и видит, идет Ивашко-Сорокинская Шапка и гонит тридцать одну лошадь к Синю морю на пойво. Как прогонил Ивашко етих коней, и выходит Еруслан Лазаревич кланяется Ивашку-Сорокинской Шапке. — Ай, Ивашко-Сорокинская Шапка, выбрать бы у тебя такого коня, штобы был мне по плечу. Ивашко-Сорокинская Шапка поглядел: — Сказал бы я тебе добра коня! Што ты ешьчо в младых годах. — Ах, Ивашко-Сорокинская Шапка! И не знаешь ты моей моготы! — Ну, завтра приходи, посмотрим, сможешь ле ты оприметить етого коня. Он зайдет в море в полбока, и пойдет вода взводнем. Еруслан Лазаревич встал рано и средился с дробовкой к Синему морю. Стал на то место, hде ети кони пьют. И пригоняет коней Ивашко-Сорокинская Шапка. Все стали пить с берегу, а Конек-Горбунок пошел в пол бока, и пошли взводни. Напились ети добры лошади, хвосты зазняли. Конек-Горбунок выбежал. Успел Еруслан Лазаревич тяпнуть его правой рукой. Осел Конек-Горбунок по колени в землю. Успешен был Еруслан Лазаревич: — Стой, овеян мешок, полно сам себе форсить, не нам ле боhатырям на тебе ездить?! Конь проговороил человеческим есаком: — Спусти меня на три зари самого себя прокатать на камыш-траву, ноздри свої пробрызгать. Еруслан Лазаревич спустил коня. Товда конь трое суточек прокатался на камыш-травы, ноздри свои пробрызгал и явился, стал перед Ерусланом Лазаревичем: — Ну, поспел я, прокатался по три зори утренных на камыш-травы, ноздри пробрызгал! Куда ты желашь ехать? Еруслан Лазаревич: — Нет у меня вуздицы тосьмяное, седелка зеркальчата, — некак тебя обседлать-обуздать. Ты пойди погуляй, а я пойду к царю Картаусу. Собрал свое имушшесьво и пошол к царю Картаусу. Приходит с таким весельсвом, оцень ему хорошо. Царь Картаус: — Што весел, што хорош? Оцень полнокровной сделался. Што палосе в пустом месте? — Ах, царь Картаус, выбирал я у тебя добра коня, што лучша на свете нет, їмал я за белу гриву Конька-Горбунька. А я оцень хорошо владею конем. — Ковда ты сымал коня за белу гриву, то владай їм. (Он восьми годов быд. Год ето протенулось у его с конем-то.) — Дайте мне вуздицы тосьмяное, седелышко зеркальцато, поеду я во цисто поле. Царь Картаус приказал дворникам выдать вуздицю и седел-ко. Получил ето все Еруслан Лазаревич и пошел в цисто поле, на пустынно место, hде как был спушшен Конек Горбунок. Конец стоїт, выбил землю по колен. — Долго ты загулял, Еруслан Лазаревич! — Не загулялса, не я задержалса, а задержал меня царь Картаус! Товда надевал он на коня вуздицю тосьмяное, седлал седелышко зеркальцато и поехал к царю Картаусу к полаты белокаменные просить у его латы боhатырские, палицю буевую, востру саблю, копье долгомерное. Говорит царь: — Выйдите, слуги. Слуги вышли. Снарядился Еруслан Лазаревич, вышел на красное крыльцо, на коня садился, брал в праву руку толковой повод, в леву руку шолкову плетку, ударил коня по тухлым ребрам, — запышел Конец-Горбунок, не видали поезки боhатырское, только видели в цистом поли курева стоїт. Выехали в чисто поле, говорит Конек-Горбунок: — Ах, ты, Еруслан Лазаревич! Куда ты едешь, куда путь держишь? — Слыхал я, што есь в Индейском царьсве, стоїт дуб.Сидит там Соловей: добра птица там не летит, добры люди не проежживают. Товда Конек-Горбунок говорит: — Можешь-ле ты с Соловьем совладать? Сам себе голову положить или Соловью срубить? Еруслан Лазаревич отвечат: — Охота мне попытать Соловья и охота мне свои силы попроведать. Ехали они день до вечера, красна солнышка до заката, доехали до циста поля, до окраіны. Еруслан Лазаревич увидал етот дуб, у дуба стоїт Соловей, подперся копьем. Тоhда он поехал на дуб, отпрукнул своего коня: — Стой, Конек-Горбунок! Надо его разбудить ото сна, как от смерти (он заспал стоя). Еруслан Лазаревич взял шолкову плетку, одернул его по плец: — Полно стоя спать! Выспись лежа! — Ах, ты какой. Нихто меня не проежживал, птица не пролетывала, зверь не прорыскивал, а ты меня наехал, да їшьчо плеткой оддернул. Соловей зашипел-то по змеїному, заревел по звериному. Конек устоял на ногах, а Еруслан Лазаревич не побоялся его шипоты: — Не боюся я вашего реву, не страшуся вашей шипоты. Лучша седлай своего коня, выедем в цисто поле, лучша побратаемса. Товда Соловей стал седлать своего коня, норовился срубить буйну голову у Еруслана Лазаревича, такого малого юноши. Выехали на цисто поле, разъехались в три прыска лошадиных, и съежжались близко на близко друг с другом. Соловьё ударил палицей буевой. Тот несколько не подрогнул. Успешен был Еруслан Лазаревич, ударил его по буйной головы, голова пала, и побежал егов конь в цисто поле. (Вот тебе и Соловье-боhатырь!) Успел Соловье прокричать: — Русьской боhатырь однажды бьет, да метно живет! Взял буйну голову, положил в подол и повез а Индийское царьсво. Индийское царьсво удивилосе: нихто к ним не проежживал, птица не пролетывала, зверь не прорыскивал, а он сам себе палицей помахивает, сам себе винуетсе, сам себе радуетсе. И собралось войско смотрять такого удалого молодца, хто такой заехал в наше осударьсво? Посмотрим того молодця! Собрался народ, сперва не верили. Он выкинул їм голову. — Смотрите вашего караульщика! (Сам заехал к їм в царьсво высматривать боhатыря, а всего девятой год.) Тоhда народ усмотрели и повесили буйны головы. — Хто есь сильнее меня? Дак побратаемся! Товда все боhатыри скрыцяли в голос: — Нет у нас тебе поединшыка никого, как хочешь, так и поежжай, некак сделать тебе никакого погона. Погулял он, поскакал вон. Тут запечалился: — Нет, не выискался мне поединшык. Выехал на цисто поле широко раздолье. Говорит Конек-Горбунок: — Есь Данило Белой, што прибил орду проклятую до шелеху и прижог. Ехал он и заехал: вся земля прибита и трупы лежат, только ходит один, ишшет своего сына Михайла боhатыря. Подъехал Еруслан Лазаревич: — Што жа ты ходишь по трупу, цего жа делаешь? Дед старой отвечает: — Што тебе мое надомно? Я тебя клюкой клюкну, у тебе башка с плец слетит. Еруслан Лазаревич ласково ответил: — Ах, старой человек, не шути много, а говори, што надо. Товда старой человек взгленул. — Да вы сильны, боhатыри русьские! Я їшшу голову сына. — Ну, hде жа найти, куда она девана? Я пойду вашего победителя найду, состигу на дороге. Отпустилса от деда и живо состиг Данила Белого, объехал его в три накона кругом. И тоhда Данило Белой сходит со своего коня поздороваться. — Данило Белой, мы с тобой поздоровкались, дай-ко покрестоваемся. Вот они сошли с коней, назвались крестовыма братьями. Еруслан Лазаревич стал звать ево в свое осударсьво: — Сколько мы полюбуемся, поживи у меня. Вот и заехали. И пожил он трої сутки, и товда у їх разговор пошел. — Ах, у вас в осударсьви молодици коль не хороши, красны деушки не белы. Што за красота, што за баса? Вот и в Индийском царсьви Елена Прекрасная, это баса, это краса! Вот посмотри. Еруслан Лазаревич переночевал темну ночку, распрашивает и отправляется он в Подсолнешной Град. Ето у Елены Прекрасной в осударсьви был. Близко, далеко-ле поехал Еруслан Лазаревич в Подсолнешной Град, переехал всех стражей, по царьсву гуляет, сам себе пометывает палицей, белой рукой подхватывает. Елена Прекрасная пробудилась и удивилась. Товда послала верных слуг поклониться и спросить, што ему надомно, а воеваться мы не идем. Верные слуги приходили и кланялись Еруслану Лазаревичу. Еруслан Лазаревич выслушах їхний поклон, їхни речи:— Велела подъехать ко красну крыльцу.
Вязать добра коня ко серебряну кольцу.
Заходить в палаты белокаменные.
И тоhда сказать, што ему надомно. —
Сказка всем очень понравилась. Некоторые припомнили, что когда-то от кого-то слыхали, да не запомнили. Московка радовалась и очень благодарила деда: сказка, мол, редкая, а он так хорошо ее рассказал. — Отчетисто! — заявил Скоморох. Дедушко молча взялся за плетение, но все же самодовольно ухмыльнулся, а в глазах мелькнуло: «Вы, нынешние, нут-ка!» А у Махоньки давно уже светились глазки. Она отдохнула, и ее съедало нетерпение. Московка знала, что она уже мучается: если бы все сейчас чудесно исчезли, она бы стала рассказывать и петь стенам. Даже не осведомляясь, желают ли ее слушать, Махонька сразу начала.
22. Принéтой
Бывало живало в одной деревни вдова, у вдовы был сын. Они жили, сын экой стал порядочьной, годов петнадцати. Он говорит: — Што же, мамаша, мы живем одни. Я пойду наживать тебе мужа и себе отця. И пошел. Идет мимо город и стретил человека. Человек говорит: — Куда, молодець, пошел? — Пошел я себе отця наживать, матери мужа. — Возьми меня. — Ну, пойдем. Пошли мимо рынок, купил їйце. Пришли домой. — Ставь, матка їсь. Она поставила, вот и стали їсь. Он вынес їйце и говорит: — Коли ты мне отець, матери муж… режь їйце. Он разрезал пополам: одну половину себе, другу — матери отдал. — Ну, ты мне не отець, а матери не муж и уходи от нас. Сам пошел. Опеть человека стретил. — Куда, молодець, пошел? — Пошел я себе отця наживать, матери мужа. — Возьми меня. — Ну, пойдем. Пошли мимо рынок, молодець опеть купил їйце. Пришли домой и этому человеку їйце подал с таким словом: — Коли ты мне отець, матери муж, — режь їйце. Он разрезал на трое: одну часть себе, другу матери, третью сыну подал. — Ну, ты мне не отець, матери — не муж, уходи от нас. И пошел сам. Стретил человека опеть. — Куда, молодець, идешь? — Иду себе отця наживать, матери — мужа. — Возьми меня. — Давай, пойдем. Шли мимо рынок, молодець опеть їйце купил. Домой пришли и этому человеку їйце подал с таким же словом. Он взел разрезал четверо: одну половину взял себе, другу матери подал, третью — молодцу, а четверту в экономию на божницю положил. — Ну, оставайсе, будь мне отець, матери муж. Стали жить хорошо. Иметь стали торговлю, заторговали. Сын стал в возрасти, набрали товаров и пошли заграницю. Приходят в один город. Стали торговать очень хорошо. Сын отправился в город. В этом городе царь клик кличет, барабан бьет трелогу: «Хто може с моей царевной ночь переспать, тому полжитья, полбытья. После моего быванья царем на царсьво». Молодец и сказал: — Я просплю. Его захватила полиция. Он сказал: — Я ешше у отця спрошусь. Вот приходит к отцю. — Я, отець, взялса с царевной ноць переспать. — Ну, как ты будешь спать с ней? Она ведь мертва. Отрав — лёная. Она живет в церкви, в гробу. Кажну ноць їс по целовеку. Поди ты купи салтырь, купи свещу, да купи скрыпку и зайди в церковь. Салтырь процитай, скрыпку проиграй, да за праву руку, за їкону божьей матери стань. Как отець сказал, он так и сделал. Свещу затеплил, салтырь процитал, скрыпку проиграл, по праву руку їконьї божьей матери стал. Как полночь стало, она и вышла. Забегала по церкви:Спасибо тебе, батюшко,
Спасибо тебе, матушка!
То-то послали молодого,
То-то послали веселого,
Чельни сутоцки не едала,
Все бы я костоцки оглотала.
Ах, не могу найти!
Спасибо тебе, батюшко,
Спасибо тебе, матушка!
То-то послали молодого,
То-то послали веселого,
Двое сутоцки не едала,
Все бы костоцки оглотала.
Спасибо тебе, батюшко,
Спасибо тебе, матушка!
То-то послали молодого,
То-то послали веселого,
Трої сутоцки не едала,
Все бы костоцки сглотала.
Едва пинежская бабушка кончила, как Московка горестно воскликнула: — Ты бы, бабушка, эту сказку ночью да без огня нам бы рассказала. — Хош у нас ночь и без огня светла, и убаїла бы, — ввернул Скоморох. — Да не убаїла-б, а ишша страшней было бы… — Брось! И так брюхо перетянуло со страху. Ой, уж не в люби у меня таки сказки! Послушала тебя, Махонька, да и полно, нать ершов чистить! И хозяйка, приходившая послушать Махоньку, убежала, а Московка обратилась к Помору: — А на Новой Земли есть лешаки? Там ведь лесу-то нет. — Не видал. Медведя видал, заходил к нам в каютинку. Он ведь страсть любопытной. Я скричал — он убежал. А «его» не видал. Там «он» на горы, либо в избы живёт. Ведь рассказывали в Больших Кармакулах, што девицу одну спасли, но я однако не верю в эти глупости. Только што севодня решено сказки с нечистой силой, дак вот рассказывают на Новой Земле, и я вам расскажу… И Помор рассказал.
23. Спасенная девица
Одна лодья промышляла на Новой Земли. И промышленники на зиму остались. Ну, занимаютса. Филипповский пост настал, ночи долги. У них был мастер на гармоники играть. Вот он раз заиграл, вдруг пара пляшет. Слышно, а не видно. Один из них был человек пожилой, он посоветовал не тот марш заиграть. Не тот марш — и пляска другая. Старик сказал: — Ну, Андрей, довольно, севодня больше не играй! На другой день этот старик приготовил горшок с углем и бросил ладан, горшок прикрыл. Как Андрей заиграл, опять пара затопала, а старик и разбил горшок. Пошол чад, увидали в этом чаду упала женщина, и голос кричит: «Сгорела ты, пропала»! И выскочил «он». Сколько ни кричал, она без движенья. Старик велел все окна закрестить. Голос кричит: «Сожгу!» А сделать ничево не может. На женчину крест надели, она очнулась: — Не оставляйте ни на одну минуту меня! Если мне захочетса изопражнитса или помочитса, не спускайте одну. Хоть совесно, буду ходить с мушшиной. Она рассказала, што в худой час родители ее проклели и «он» унес ей. В этих горах в ево помещеньї она и жила с ним. Так девица жила с промышленниками до весны, просто пассажиром сидела. Вот они запоходили, и как раз шли наволок мимо этой горы, где она жила с лешим. Она и говорит: — Паруса уберите лишны, он пустит ветер, вас может опружить. Действительно, подул ветер, еслиб паруса не убрали, могло бы ренгоут сломать. И видят, как «он» по горам бегат, в руках ребенка держит. Вот прибежал на остальну гору, разорвал ребенка пополам и кинул в лодью. «На-же тебе половину!» Но помахнулса, одна только капля крови попала, и судно стало бочить. Она кричит: — Ножом стесните скорее, а то опружит! Как топором стеснили, так судно выправилось. Приехали в Архангельско.Теперь все выжидательно посмотрели на Печорца, и он медлительно начал.
24. Богатый купец и сколотный сын
У купца боhатого родилась дочи. И было ему в ту-жа ночь сновение, што в ту-жа ночь родитсе у девки сколотной сын и женитсе на его дочери. И, действительно, в ту-жа ночь девка одна принесла сколотного. «Ах, нечесно. Как ето сколотной женитсе на моей дочери? Етого уж нельзя допустить». Он все за етой девкой, да за ее ребенком присматривал. Слыхал, што он уж в грамоту отдан и хорошо ето дело понимает. Вот он жоны за чаем говорит: — Я думаю етого-то мальчика в прикашьчыки взять. — Што ты? Он мал ешьчо, совсем глупой! — Нет, он грамотной. И поехал он за етим мальчыком. Встретил его около ворот, разговариват с їм: — Не идешь-ле ко мне в прикашьчыки? — Я ведь мало наук произошел. — Довольно. — Я не знай, как мама. Они пошли в избу. Он матери говорит: — Отпусти его ко мне в прикашьчыки. — Што ты? Он ведь ешьчо глупёшенек! — Нет, он шьчытать может и хорошо грамотен. Я триста рублей положу жалованья. — Я уж не знай, как он хочет. — Как ты, мама, хочешь, а только пора учиться, как хлеба наживать. — Ну, што-ж, иди! Вот етот купец деньги на стол выложил, а мальчика взял с собой. Стал етот мальчик в лавки помогать, и народу навалилось в етой лавки: никовда такой торговли не было и покупатели все довольны и все етого мальчика дарят. Он думает: «Нечесно ето будет! Он женитсе на моей дочери. Нать удумать што-нибудь». И удумал етого мальчика извести. Скликал своїх дворников, дал їм двести рублей. — Возьмите его, поежжайте с їм загород и бросьте в речьку, под мост. Там речька. Они взели мальчика, поехали, на мосту остановились: — Што вы со мной делать хотите? — Да вот хозеїн велел тебя в речку бросить, утопить. — А много-ле вы корысти возьмете? — Да вот он нам двести рублей дал. — Возьмите всю мою казну, а меня отпустите. — Куда-жа ты денешьсе? — Я иду в странные города до возрасту. Они подумали, што из чужого дела душа губить, и отпустили его. К купцу воротились, он спрашивает: — Ну, што спустили? — Бухнул! Ну, прошло колько-то времени, приехал из странных городов етот детинка, порядоцьной стал, сам из себя хороший, пригожий, — красавець! Етот купец посмотрел его, домой пришел, повалилсе с женой и бает: — Ах какой молодець! Какой нарядной! Его бы в прикашьчыки взять! — Што-ж, возьми. Он стал его приглашать. — Што-ж, я за тем и приехал, места їшьчу. — Вот, все тебе книги, колокола, все тебе давосьни дела! Ах, прикашьчык хорош: товар берет, просто на него гледеть приятно, все… И стал с женой советоваться: нам-бы такого зятя: што вострой, што чего, што смирной, торгует, дак… — Што-жа, говорит жона, пусть идет в дворовики к нам. В утрях стали чай пить. Купец его зовет с ними чай пить, а тот што-то в лавке поправлял, отвечает: — А вот поправлюсь, приду. Ну, поправил там што надо, пришел; купец стал ему говорить: — У меня етакое житьё, купечесьво…Махонька перебила: — А мать свою узнал? — Уж погоди, где тут мать… до утра хватит…
Так себе побаїли, по рукам ударили, и повеласе и їх свадебка. — Ах, какой зять хороший! Неделя там прошла, купець и говорит: — Ты можот желашь к своїм съездить, дак поежжайте, я спускаю. — Только уж и вы, папенька, с нами. — Ладно. Средились. Купець велел запречь коней самолучших. Едут. И приворачивает зять к избушки, hде его мать. — Што ты ето, куда? — Да надо тут кое што взять. Она у ворот стречает: — Куда вы отправились поездом? Зашли все в избу, тут он ей в ноги пал. — Здрастуй, маменька! Тот и оплыл: вот тебе! Сбылось таки! Вот сон не врет! Отгостили у етой сватьюшки, отправились. Стал купец думать, как бы зятя извести: Пошлю его по всей солнечной округе узнать, есть-ли хто меня боhатей. Дам ему большую казну, его уж непременно убьют. И послал. Отправился тот на три года, ходил, ходил, шьчытал, шьчытал, написал етого архиву больше вашего, вернулся обратно. — Много-ле купцей боhатей меня? — А вот на, сам щитай, смотри. Шьчытал, шьчытал, разбирал целу неделю и бросил: нет купцей боhатей меня… Ах ты ну! Пошлю-ка я его к hосподу боhу спросить, есь-ли хто на земли боhатей меня. Пушьчай ходит, докуле не найдет hоспода боhа. Дак уж не вернетсе. Пропадет-ле hде. — Вот, ешьчо потрудись, зять: сходи-ка ты ко hосподу-боhу и спроси его, есь-ле хто на земли боhатей меня. Зять склалсе в котомоцьку, попростился со веема и отправился. Шел, шел, года два прошетался. Стретился ему старичек: — Куды идешь? — Носпода-боhа искать. — Нде-жа сыскать тебе? А быват hосподь-боh дас. Одна-кожа я тебя направлю. Иди к синему морю, тебя извошшики перевезут. Вот пошёл он, шел близко-ле, далеко-ле, низко-ле, высоко-ле, дошел до синя моря. Там никого нет, только лодка бегат. Никого в ей нет, нет весел, ничего, а лодочка бегат, только шустат. Он и скрыцял: — Лодочка-Самоходочка, перевези меня! Лодочка сейчас подбежала. — А ты, hосподи, дай мне поветерь и погоду. И дал ему hосподь поветерь и тиху погоду. Перевезла его лодочка, отвернулась, побежала обратно. Шел он подле синего моря и повстречалась ему избушка небольша. В етой избушки мужик да женшьчына мечут кален камень из грудей в груди. — Куда пошел? — Носпода-боhа искать. — Ах, доброй человек, спроси про нас, докуда мы будем мучатьсе? — Ладно. Боh судит, дак увижу, спрошу. (А ето кум да кума блуд сотворили, за тот грех.) Шел дальше, опять изба, в той избы из ушата в ушат воду переливают мужик да женшьчына. — Куда идешь? — К hосподу-боhу. — Спроси про нас, долго-ле нам мучитьсе? (Они молоком торговали, да воду лили, за што їх hосподь трудит.) Переночевал, пошел дальше, — лежит громадна шьчука на берегу, как дом лютой. Он ужахнулсе. Она ему молитсе: — Свороти меня в море. — Да hде-жа? Ты, как два дома лютых, я боюсь и подойти к тебе. Пошел дальше. Шел близко-ле, далеко-ле, низко-ле, высоко-ле, день до вечера, красна солнышка до закату. Стретилсе старичек (а это был сам hосподь). — Куда пошел? — Носпода-боhа искать. — Нде-ж тебе его найти? — Нде hосподь судит. — А што видел? — Видел, лежит шьчука огромадна, как дом лютой. Как она мне коконалась в воду ее свалить. Я устрашился к ей подойти. — Носподь к ей не может подойти, не то ты. Это шьчука проклята, обожрана: она трое кораблей проглотила. А ешьчо што видел? — Видел, мужик и женшьчына кален камень из грудей в груди мечут. — Ето грех непростимой: кум с кумой блуд совершили. А ешьчо што видел? — Видел, мужик и женшьчына воду из ушата в ушат переливали. — Ето грех непростимой: они спорину с молока снимали. Ну не найти тебе боhа больша, вороти назадь. На же моей троски. Иди к етой шьчуки и вели ей рогануть три корапя: ето проклята шьчука обожрана. Она вырогнет тебе первой корапь с чистым серебром, второй — с чистым золотом, третий с земчугом. И вдруг стар старичек потерелся, а быват ето hосподь был… Пошол он назадь к шьчуке етой и сказал ей за што страдает. Она просит: — О, человече, спехни мене в море. — Быват и спехну. Шьчука направила свою голову, он толконул ей, и роганула корапь с чистым серебром. Второй раз толконул — с чистым золотом, а в третий — с земчугом. Шьчука вернулась в море, только зводень пошел. Цепи были готовы, он нарочил ети корабли и отправилсе в поветерь тихую, приятную. Зашел в свою губу и в своё уречишьче. Приходит домой среди вецера темного. — Здраствуй, госпожа жена!
Жена хватила его в охабку, поцеловала, отца, матку разбудила, своїх было два детеныша, они проснулись. Ну, стали там себе беседничать. Купець спрашивает: — Был у hоспода, што видел? Куhо видел боhатей меня? — А не знай, никоhо не нашол, а быват-жа… Пожалуй я боhатей тебя. — Нде взял? — Носподь дал, сходи на пристань погдели. Он шубу надернул, пошел, да в потеми ничего не увидишь. Поутру побежал посмотрять свою посуду, смотрит, hосподь знает, скольки тут. — Нде взял только? — А не знаю, боh-ле дал, али хто. Етот зеть начал выгружать товары, а етот тесть поскоряй того снаредился в котомоцьку. По сказанному, как по чесаному: пришел к синему морю, там лодочка. Он сел в нее. Лодка с їм побежала, да и повернулась. Тут и жись кончилась. А зеть стал жить, меня вином поїть, а пиво по усам текло, в рот не попало.
Во время этой сказки Скоморох выбегал, суетился, хозяйка к концу сказки пришла собирать стол, а Скоморох, зная, что наступает его черед, громко заявил: — Сейчас, граждане, будем воскушать уху из ершов, дак дозвольте рассказать досельну сказку про плута Ерша. Веселей и в охотку поедим! И Скоморох начал.
25. Ерш
Живало бывало летно время жарко. Было озерко, в озерке было жарко. Озеро высохло. Был ерш. Садилося ершишко на липово дровишко, поехало ершишко ко озеру ко Ростовському. Просилось, колотилось единую ноць ноцевать. Собирались рыбы больши и мелки, думу думали, совет советовали, пустить-ле ерша єдину ноць ноцевать? — Воров-разбойников пускам, а ерша, доброго целовека, зацем не пустить? Ерш ноць ноцевал, другу ноцевал, третью ноцевал, от трех ноцей — три недели, от трех недель — три месеця, от трех месецей — тридцать лет. Сказка скоро сказывается, не скоро дело деїтся. Рсплодилось ершов полно озеро. Некуда большим рыбам. Собрались рыбы больши и мелки совет советовать, дума думать, как ерша выживать. Приходил рак — приставный дьяк, писал пристав, посылал с ельцом-стрельцом. Елец идет и ерша ведет. Ерш-рыба приходила близко, кланялась низко, говорила смело: есь дело. — Судьи праведны, боhом повелены, царем поставлены, для цего нас требуете? — Ерш-рыба, скажи правды, есь-ле у тебя пути и памяти, московски грамоты, деревенски крепости? — Ах, братцы, у меня у батюшка было клетишко, в клетишки было коробишко, в коробишки были пути и памяти, московски грамоты, деревенски крепости, в Петрово говенье, на первой недели был пожар, все сгорело. — Есь-ле у вас посредьсво? — У меня, во первых, окунь-рыба, во вторых сорога рыба, во третых налим! Призвали рака, приставного дьяка, писал пристав, посылал с ельцом-стрельцом. Елец идет и окуня ведет. Окунь-рыба приходила близко, кланелась низко, говорила смело, есь дело. — Судьи праведны, боhом повелены, царем поставлены, для цего нас требуете? — Окунь-рыба, скажи правду по крёсному целованью, по евангельской непорочной заповеди. В Петрово говенье был-ле пожар? — Был, был, братцы. На пожале я был, пёрье опалил. Во вторых надо спросить сорогу-рыбу. Позвали рака, приставного дьяка, писал пристав, посылал ельца-стрельца. Елец идет, сорогу ведет. Сорога-рыба приходила близко, кланелась низко, говорила смело, есь дело. — Судьи праведны, боhом повелены, царем посажены, для цего нас требуете? — Сорога-рыба! Говори по правды по кресному целованью, по евангельской заповеди. В Петрово говенье был-ле пожар? — Был, был! Я на пожаре была, глаза спалила. Во третых, надо позвать налима. Опеть призывают рака, приставного дьяка, писал пристав, посылал ельца-стрельца. Елец идет, налима ведет. Налим-рыба приходит близко, кланеетця низко. — Налим-рыба, говори смело, есь дело. Говори правды по крёсному целованию, по евангельской непорочной заповеди. Он: — Губы толсты, язык короток, говорить не умею. Собирались рыбы больши и мелки дума думать, совет советовать, как ерша выживать. Щука говорит: — Я ерша съїм. День ходит, два ходит, а ерш говорит: — Щука, ты востра, съїшь меня с хвоста, дак не столь мне смерть будет страшна. — Как я їсь тебя буду? — Отворь рот, так я сам тебе шварнусь хвостом. Щука отворила пасть, ерш ошшетинился, извернулся, так расколол в роте, и кровь пошла. Што делать? Осетёр говорит: — Я не стану їсь с хвоста, а буду с головы. А ерш ему: — Осетёр, ты востер! Пойдем-ко, этта мужики нёводят, пойдем в нёвод, дак только закачаїмся! Осетёр пошел, садит в невод, а ерш под тетиву. — Осетёр, ты востёр! Куда тебя чорт несет! — Околей, ерш! Меня древокольной палкой бьют!А ерш под тетиву убежал.
В то време пришел бес, забил ез.
Пришел Перша, огрузил вёршу.
Пришел Боhодан, — и ерша боh дал.
Пришел Лазарь, за ершом слазал.
Пришел старец, вынел икры ставец,
Пришел Андрюша, ерша разрушил,
Пришел Юда, расклал на четыре блюда,
Пришел Антипа, всего стипал,
Пришла сестра Ненила, только голосом повыла,
Мати Аликсава Реву не застала.
26. Вехорь Вехоревич
— Да кде-ка мне тут вам моїх сказок переслушать? Да кде-ка тут їх пересказать? У меня длинны. Ну, про царя Далмата. Дак ведь тут до полночи хватит вам слушать. Как у его два сына было, Федор да Василей, а третей Иван-болван. Да как іхняя мать тридцать лет свету белого не видала из-за красоты, из-за того, што ее товда сейчас Вехорь Вехоревич уташшит за красоту, за басоту. Вот ети три сына приступили к отцу своему царю Далмату. — Дозвольте, возлюбленной батюшко, погулять нам с возлюбленной маменькой по саду, што как она тридцать лет свету белого не видала. — Ах, возлюбленные дети мої! Ведь ее Вехорь Вехоревич уташьчыт. — Нет. Мы ее укараулим! Вот он дал блаословенье погулять їм по саду, а сам сел у окошка косявшета, смотрит и видит, прошлись они по саду раз и второй раз, а в третий раз пошли и не видят больша матери. — Што, куда она девалась? Или до ветру может hде осталась? Заахнукали. Ети старшие говоря: — Мы уедем їскать маменьку во цисто поле, не брошена-ле hде в ракитовом кусту; уедем не сказываясь. Иван говорит: — Нет, уж надо повиниться. Те братья прошли прямо на поратной двор, взяли себе коней серых на яблоках и уехали. Иван Царевичь пошел к отцю, повинился, как їх мать утерялась. — А hде жа два дурака? — Уехали во цисто поле, смотрять, не брошена-ле hде маменька в ракитовом кусту. Ну, живут они без матери, без братьев, и стоснулся Иван Царевичь: охота ему во цисто поле показаковать, себя показать и людей посмотрять, поїскать матери или братьев своїх наехать. Стал просить батюшка отпустить его. Тот не спускал по началу, а потом согласился. Пошол Иван Царевичь на конюшен двор выбирать себе коня и не мог найтипоединшика: которого коня тяпнет, тот по коленца в землю войдет. Идет назать кручинной, а на стрету ему бабушка-задворенка: — Што, Иванушко, кручинен, што, Иванушко, невесел, сниз головушку повесил, оци ясные в мать-сыру землю потопил? А он ей: — Поди сюдла. Дам тебе плюху, — будет жопы сухо! — Ах, Иван-Царевичь! Молоды то кони в седла бьют, а стары люди вычинивают. И разошлись они. И вот все Иван-Царевичь не может себе коня прибрать, идет кручинной, а на стрету ему бабушка-задворенка. — Што, Иванушко, не весел, сниз головушку повесил, оци ясные в мать-сыру землю утопил? Он ей опеть: — Поди сюда! Дам тебе плюху, будет жопы сухо. Она опеть ему: — Молоды кони в седла бьют, стары люди вычинивают. Все время минует, и нету Ивану-Царевицу коня, опеть стрецает бабушку-задворенку: — Што, Иванушко, кручинен, што не весел, сниз головушку повесил, потопил свои оци ясные в мать-сыру землю? Он ей опеть тем-же побытом: — Дам тебе плюху, — будет жопы сухо. И она ему: — Молоды кони в седла бьют, стары люди вычинивают. И подумал: што она мне каки загадки загадыват? И говорит ей: — Што ты мне все как сказывашь, я не пойму: молодые кони в седла бьют, стары люди вычинивают. — А то я тебе сказываю, што есь у твоеhо батюшка в погреби конь, што нехто им владеть не может, тридцать лет на цепях стоїт. Попроси у батюшка блаословленья. Как дас тебе блаословленье етого коня взять, дак поежжай, а не даст, дак дома сиди. Да найдешь-ле ешьчо такого мастера, штоб сделать цепь в 300 саженей, весом в 30 пудов и на конце хлап, штоб можно было закинуть на Вехоревы горы. Иван-Царевичь пошел к царю Далмату: — Возлюбленной батюшко, есь у вас в погреби конь, што нех-то їм владеть не может: не по мне-ле етот конь будет? Дай-ко-се мне блаословленыце ехать на етом коне во цисто поле. Отец дал ему блаословленье, и пошел Иван Царевичь к погребу. Спустил коня со семи цепей, Иван Царевичь тяпнул его правой рукой, конь на коленци пал: — Полно тебе, овеян мешок, самому форсить, не пора-ле тебе нас боhатырей носить? Конь и провешшался ему целовецым ясаком: — Спусти меня на три зори самого себя прокатать, ноздри пробрызгать. Только сам не опаздывай, приходи в срок, а то не увидишь меня боле. Иван-Царевичь спустил коня, на радостях стал гулять, пировал, едва не опоздал: на третей день только про коня вспомнил. Вуздал он добра-коня во уздилиця тосьмяное, накладывал седелышко зеркальцато, правой ногой во ремень ступал, левую ногу через хребетну кось кинал. Брал в праву руку шолков повод, в леву руку шолкову плетку, брал цепь 30 пудов. Не видели поездочки Ивановой, только видели в поле курева стоїт. Вот ездил Иван-Царевичь, козаковал и наехал на две ископыти. Поехал он по етому следу и наехал на своїх двух братьев. Раздернут у їх бел-полотнен шатер у самых у Вехоревых гор, а попасть туда не могут. Вот они поздоровкались. Поставил Иван-Царевичь своего добра коня к їх коням. Ночь проспали вместе, а на завтра стали цепь закидывать, на Вехоревы горы. Федор стал закидывать, не закинул: Василей стал — не закинул, а Иван-Царевичь захлеснул хлап прямо на Вехоревы горы. Вот он сказал своїм братьям: — Я вызнусь на ети горы и пойду маменьку возлюбленну їскать, а вы здесь дожидайтесь. Как, если сядет на ету цепь пташка да станет петь, значит, уж не считайте меня жива, не сможете-ле вы тоhда как-нибудь ету цепь забрать? Ну, вызнелся Иван-Царевичь на Вехореву гору, пошол и пришол к избушки на курьей ножки. Да кде же вам здесь все пересказать, как он тут трех девиц нашел. Как братья у его невесту отбили, саму красиву, младшу. Да ведь и мать нашел, да как ешьчо с Вехоревых гор сходил. Ето вы ешьчо подумайте, как тут сойти… А как Вехоря убил, — вот так по хребту тяпнул, а он ему: «Прибавь ешьчо». — Нет, русьской боhатырь единожды бьет, да метно живет. — А еслиб он ешьчо раз тяпнул… Ето уж его научила девица, штоб один раз бить. Да hде-жа тут? Не пересказать. Вот Иван-Царевичь с горы простился с брателками, шапоць-ку снял. Шел день до вечера, красна солнышка до заката и них-то ему не встречялся, нихто ему не попадался: ни зверь текушчый, ни птица летучая. Вот набрел он — стоїт избушка на курьей ножки об одной окошки. — Избушка, поворотись к лешему шарами, а ко мне воротами. Избушка поворотилась к лешему шарами, а к нему воротами. Он ее омолитвовал и заколотился. Сейчас вышла к нему девиця, што краша на свете нет, Елена Прекрасная. Взяла за белу руку, повела в светлую светлицу, скатертью протресла, явсву всякого нанесла. — Кушай, Иван-Царевичь. А как попил, поел, стала вестей спрашивать. — Я ишшу свою возлюбленную маменьку. Она у Вехоря Вехоревича, как туда пройти? — Ох, ето далеко. Пойдешь дальше, hде Марфа Прекрасная живет, можот она знает, а я здесь ницего не слыхала. Повела его в теплу спаленку ко кроватки ко кисовой — на ей перина пухова, подушецка шолкова, одеялышко черна соболя. — Лёжись, Иван-Царевичь. — Да неужели ты от меня уйдешь? — Да ведь нехорошо девице как с мушшиной оставаться… Как можно, ето неловко. — Да ведь ты одна жила, натоснулась, ты только повались со мной, я тебя не задежу… Поговорим, побайкам. Она согласилась, повалилась с їм на кровать. Однако жа он захватил ей за сарафан. И хотел ее разотлить. — Ах, Иван-Царевичь, идешь ты на верную смерть, а хочешь меня разотлить. Как я товда останусь? Иди к Вехорю Вехоревичю наперед. Как вернешься назать, я вся твоя. Он все свое, не унимается. Она захватила его в охабку, прижала к своему ожиренью, ко белой груди. Иван-Царевичь сейчас заспал, захрапел, как телёга заскрипел. По утру Елена Прекрасная подходила близко, говорила низко:Вставай, Иван-Царевичь,
В дороги долго не спать, —
Надо рано вставать.
Ах, дитя мое рожоное,
Не с неба-ле пало?
Какима ветрами тебя занесло?
После этой длинной сказки наступил роздых. За окном лил дождь, а здесь пылал огонь в печке, на снопах было уютно и мягко, лились завораживающие, дышащие древностью сказки. Они уносили в далекое детство этих больших, «могутных» людей. С каким детским вниманием слушали они Махоньку рассказывающую.
27. Царевнина Талань
Слыхала я у людей, старых девок, у б…ей. Не в каком царсви, в нашем осударсви, на ровном мести, как на скатерти, в самом том, в котором мы живем, был жил царь с женой, двоїма: не было детей. Родилась у їх дочь. Ей кстили. Кум и кума обдержали и сказали, што это детище выростет, и будет она по базару вожена и кнутом стегана. А царь сказал: — Может-ле быть так? Я ей никуда не выпушшу. Сказка скоро сказываетце, дело долго деїтце — стала эта дочка в возрасте и стала проситце гулять у отца. — Папенька, спустите меня погулять, грит, с мамушками, с нянюшками, с летныма красныма деушками в цисто поле на крут бережок, ко синему морю. Отец спустил. Отправилась эта царевна с мамушками, нянюшками, с летныма красныма деушками в цисто поле на крут бережок. И стоїт на бережоцки суденышко небольшое с парусками. И зашла эта царевна на судно и дунул попутной ветерок. Укинуло за сине море. Усе прошло, нету никуго. Царь хвать, похвать — нету доцери, утерялась. Вот эта царевна вышла на крутой бережок. А тут был на берегу колодец. У колодца было древо высоко превысоко. Эта девица влезла на древо и села. В этом осударсви была ега-баба (это, бывает, матюкливо?), у ей была доць. Она послала эту доцку к колодцу. — Поди ты, некрасишша, поди за водой! Она пришла, стала воду черпать и видит в колодце очень это красавица была царевна. Пришла ко своей матери и говорит: — Ты, маменька, зацем говоришь, што я некрасишша? Меня краше на свете нету. Она скоцила: — Што ты, што ты? — Пойдем посмотрим в колодце и увидишь, какая я есь красавица. Ну и пошли. Взгленули в колодец, и увидела ега-баба эту красавицу. — Ах, ты, подлая, што ж ты врешь?! Она подняла на древо глаза-ти и увидала царевну. — Девиця, слезь с куста! Ну, она слезла и пошла. — Ну, ты, девиця, живи у меня. Како ты мастерсво знаешь? Умеешь-ле ты вышивать ширинки? — Умею. Она мастериця… и не говори! Стала вышивать, бабка продавать стала. В то время царь стал клик кликать. — Хто может мне шапка высадить земчугом: стара старушка — будь бабушкой, стар старицек — дак будь дедушко, пожила жоноцька — тетушка, пожилой мужицек — дядюшка, в ровню мужчина — названой брат, красна девиця — обруценная жена. Вот это в то время услышала ега-баба. — У меня доцька высадит, грит. Ну, она пришла домой и говорит царевны: — Доци, сади шапку царю. Она стала садить, расклала эти ставки на окно. Садила, садила, уж под конец садит, одна только супротив носу на головы последняя ставка на окошки была. Прилетел ворон, да эту вставку склюнул да унес (светла была, дак…). Пришло время, што нать нести шапка царю на лице, и понесла эта ега-баба и говорит: — Это не моя доци садила, у меня есть пришлая девиця. — Веди ей суда, под суд ей. Обсудили ей по базару водить и кнутом стегать. Выїскалась бабушка-задворенка с дедушком и говорит: — Не нажите девьего тела, не страмите. Оддайте мне место доцки, у меня нету некуго. Вот она и взела ей. Вот и живет и хорошо. Доць хороша, слушаїтце. Пришло время этот старицек стал їменинник, ангельский день. — Мы пойдем, доцка, к обедни боhу молитьце, ты пеки и вари, готовь кушанье. Сготовишь, на стол собери, все кушанье сноси и выйди на крыльце, поклонисе на все стороны четыре: «Батюшкова Талань, поди ко мне на обед, хлеба-соли кушать, всякого питинья и кушанья». Она так и сделала. Вышла, поклонилась:Батюшкова Талань,
Поди ко мне на обед,
Хлеба-соли кушать,
Всякого питинья и кушанья!
Маменькина Талань!
Поди ко мне на обед,
Хлеба-соли кушать,
Всякого питинья и кушанья!
Талань моя, учась горькая!
Поди ко мне на обед,
Хлеба-соли кушать,
Всякого питинья и кушанья…
Печорец вспомнил и рассказал слышанную в далеком детстве сказку.
28. Ай-брат
Бывало-живало, не в каком царсви, не в нашем государсви, на ровном мести, как на скатерти. В одной было деревни, был новобранец молодой целовек. Он был їменинник, выпивши вина, стал веселой и вышел на крыльце: — Ах, есь-ле борец, как я молодец! И подскочил целовек: — Садись, говорит, їмай меня за шею. Я воюю в цистом поли с поляницей. Я скрычю, а ты помоги мне. И понес его. В цистом поли стал он драцця с поляницей. Дрались, дрались, схватились. Он бросил ей и скрыцял: — Помоги мне, товаришш! Этот подскоцил; в то время она легнула первого, и он улетел в поле без вести. В то время новобранец одолил ей и скрыцял: — Ай-брат, hде ты? — Эва я! — откликнулся. — Здесь я! Ну, грит, садись на меня, я снесу тебя, hде ты был. Полетели живо. (Он, может, какой боhатырь был). На то место посадил и сказал: — В сегоднешнем году тебя возьмут в солдаты, и будешь ты служить у царя при дворце младшим конюхом. Царь будет тебя любить, а старши конюхи не залюбят. Ты меня вспомнишь, как наложут каки службы. Скажи: «Ай-брат!» — я, грит, тут и есь. Скоро сказка сказываетце, а времë долго длитце. Пришло то времë, взели его в солдаты. Его назначили к царю младшим конюхом. Вот и служит, хорошо живет. Царь был їменинник, вышел на крыльце и щë то за морем сосветило. — Щë тако за морем сосветило? Мне бы узнать охота. Я бы тому человеку дал полжитья и полбытья и под їменья моего. После моего быванья царем на царсьво посадил бы (холостой был царь-от). Старши конюхи учюли, стали доносить царю, быдто хвастат младший конюх, а тебе не доносит и хоцет через троі сутки узнать, щë это за морем сосветило. Вот и призвал царь младшего конюха. — Ты щë же старшим конюхам хвасташь, а мне не доносишь, быдто через трої сутки узнашь, щë тако за морем сосветило? Тот грит: — Нде же через трої сутки? Через несколько годов может я бы узнал. — А не узнашь, голова с плеч. Он вышел на крыльце запичалился: — Ай-брат! Тот тут и есь: — Щë, брат? — Царь службу наложил. — Каку таку? — Весьма велику. — Церез трої сутки вот узнать, щë за морем сосветило? — А, грит, это не служба, а службишка. Служба вся впереди. Это королевна вышла на крыльце в золотом платьи, поворотилась и сосветила в глазах за синим морем. Он пришел к царю и сказал, щë за морем сосветило. Царь был холост. Стал про эту королевну думать. Стал печалитце, как бы достать. Конюх хвастат, быдто через трої сутки достанет королевну. Царь опеть позвал младшего конюха. — Ты опеть хвасташь, а мне не доносишь, быдто через трої сутки достанешь королевну. — Кабыть через несколько годов, так может я бы и достал. hде же через трої сутоцки? — Доставай, а не то голова с плеч! Он вышел на крыльце, запецелился, воздохнул: — Ай-брат! Тот тут и есь: — Щë, брат? — Царь службу наложил. — Каку таку? — Королевну достать. — Это не служба, а службишка. Служба вся впереди. Садись на меня. Вот и полетели. Прилетели там в государьсво. Он его овернул комаром и говорит: — Ты лети к ей в комнату, повались на кровать целовеком, она разбудицця, схватит саблю, захочет казнить тебя, а ты овернись кольцем на руку. Вот он полетел во дворец, залетел в королевнину спальню и повалилса целовеком с ей рядом на кровать. Она разбудилась, схватила саблю, а он овернулся кольцем, стал поговаривать брать ей замуж. Она и стала сбивацце, срежацце за него, видит: не простой целовек. Средилася, вышли на крыльце, он скрыцял: — Ай-брат! Тот тут и есь. — Щë, брат? — Неси нас к царю. — Садитесь. Царь весьма весел. Так уже и не говори! Поцитает этого конюха, а старши его не любят. Царь стал эту королевну взамуж звать, а она: — Я без венцяльнего платья не иду. У меня есь платье за три-деветью морями, за тридеветью городами, в тридесятом царьсви, в церкви за тремя замками, в яшшики. Опеть старши конюхи учюли, доносят царю, щë младший хвастат, быдто платье это достанет. Опеть царь младшего конюха требует: — Ты опеть хвасташь, а мне не доносишь. Доставай платьё в трої сутки, а нет — дак голова с плеч. Запецелился младший конюх, вышел на крыльце: — Ай-брат! — Щë, брат? — Службу велику царь наложил: достать венцяльне платьё королевное. — Ну, садись. Опеть полетели. Прилетели к церкви, тот и говорит: — Я овернусь лань-золоты рога, буду убегать кругом церквы, весь народ убежит за мной, на вот клюци, отомкни яшшик и возьми платьё. Он зашел, этот самый солдатик, отомкнул яшшик и взел это платье, свернул и вышел на крыльце: — Ай-брат! — Щë, брат? — Неси к царю. Прилетели к царю. Подали королевны венчяльне платьё, она говорит: — Все еще не иду, надо мне пара коней вороных в синем мори, под серым камнем, узды-золоты. Ну, стары конюхи учюли, доносят царю: — Младший конюх хвастат, быдто этих коней-золоты узды он достанет. Царь опеть его стребовал, осердилса, наложил службу: этих коней в трої сутки достать, а не достанешь, — голова с плеч. Вот солдатик и запецелился, вышел на крыльце и скрицял: — Ай-брат! Тот тут и есь: — Щë, брат? Рассказал ему младший конюх про службу, тот и отвечяет: — Вот это уж служба. Купи салтырь, да три свещи. Стань на бережку против сера камня, три свещи зажги и цитай салтырь. Первой вал придет до оборти. Ты стой читан, не дробей. Второй вал придет до колен, свещи потухнут, — ты все читай, не дробей. Третий вал придет до грудей — тут и кони выскоцят. Ты за узды хватай, они поташшут тебя в море, ты тогда крыци: «Ай-брат!» Я тут и есь, помогу тебе. Как сказано, так и сделалось. Он поставил эти свещи на три угла. Вал приходил и первой и второй, он не дробнул. Вот пришел третий — до грудей, — тут и кони выскоцили. Солдатик за узды, погнался, они уташшили его в морë, он скрыцал: — Ай-брат! — Щë, брат? Тут и есь, помог, выташшил из моря, и полетели, и к царю, и прилетели, и коней привели. Веселым пирком да и свадебкой.Я там был,
Пиво пил.
Пиво тепло,
По усу текло,
В рот не попало,
За рукав убежало.
Дали мне синей кафтан
Да красны рукавицы
Да красну шапку.
Я поехал домой.
Ехал, ехал.
Ципка крыцит:
«Дедко, синь кафтан!
Да хорош кафтан!»
Мне чюетця «скинь кафтан
Да положь кафтан!»
Я положил под кокору,
Да и теперь не знаю, под котору.
Опеть еду. Опеть ципка крыцит:
«Дедко, красны рукавицы
Да хороши рукавицы».
Мне чюетця:
«Дедко, крадены рукавицы,
Положь рукавицы».
Ципка опеть крыцит:
«Дедко, красна шапка».
Мне чюетця:
«Дедко, крадена шапка».
С интересом заслушались Помора и посмеялись, как дети, хитростям лисы, когда он рассказал сказку.
29. Григорей Высота
Жил-был Григорей Высота в боровой избушки, грезной, грезной, цёрной. И сам был грезняшший, в байны никовды не бывал, церной, как церт какой. А вымоітся, дак собой прекрасен будет. Да только никоhда не мылся. Пришла лиса. — Григорей Высота! Ты женисьсе-ле? — Да што ты, што ты, Лиса?! Да хто за меня пойдет? — Да уж стану сватать, дак высватаю. Дозволишь-ле сватать? — Дак кого сватать станешь? — Царску дочи! — Да што ты, што ты, Лиса? Я ведь цёрной, грязной. — Вымоіссе! Уж посватаю. Пошла. Рылась, рылась — земчужинку нашла и к царю побежала. — Царь, вольней целовек! Григорей Высота вам кланеїтсе… Дозвольте мероцьку, нам земчюг мерить. — Какой такой Григорей Высота? Слыхом не слыхать, видом не видать! Слуги, дайте мероцку, да смолки прилепите, посмотрим, какой такой земчюг? Лиса земчюжинку на дно прилепила, да рылась, рылась, — серебрушку в земли нашла. Прибежала к царю; мероцку обратно принесла. — Царь, вольней целовек! Григорей Высота оцень блаhодарит, не даїте-ли цетверика серебро мерить? — Хто такой Григорей Высота, што такой Григорей Высота? Слыхом не слыхать, видом не видать! Слуги, возьмите цетверик, намажьте смолой, дайте ей. Како тако серебро цетвериками мерит! Лиса серебрушку на дно улепила, побежала к царю, спасибо дала, в лес побежала, согнала зверей стадо: — Медведи, волки, куны, соболи, белки, зайци! У царя свадьба! Быка пеценого дают. Пойдем веема на свадьбу! Стадо стоїт у ворот. Лиса пришла к царю. — Царь, вольней целовек! — я от Григорея Высоты! Привела стадо. Отпирай ворота, запускай їх. — Што такой Григорей Высота? Ну, как не принеть? Отпирайте, слуги, ворота. Ну, и свататься лиса пошла. — Царь, вольней целовек! Григорей Высота послал меня за добрым делом, за сватасьвом! — Приежжай, вези жониха. Покажи, какой Григорей Высота! Лиса hде-то рубашку достала, прямо в ногах выползала, Григорея Высоту в рубашку одела, — красивой стал. — Да, как я, Лиса, в одной рубашки? Повела к реки: — Вымойсе, в кусьях сиди, мене дожидайсе! Оставила да наперед побежала к царю: — Царь, вольней целовек! Мы ехали мостом. Мос-от подломило. Мы упали, разбойники коней угнали, всю одежу обрали. Сидит наш жоних в кустышках в одной рубашецьки… — Довольно у нас золотых корет да коней, золотой бархатной одежи. Берите золоту корету, самолучших коней, везите жониха! Привезли. Ах, какой жоних! Красивой, нарядной! Царевны пригленулсе Григорей Высота. — Папа, дай слово молвить. Оддашь — пойду, и не оддашь — пойду! Григорея Высоту средили, наредили, как надо быть. Все срежаются из-за столов ехать к молодому, а он: — Как жа, Лиса? Ужели в борову избушку? Куда я с молодой? — Молци! Лиса наперед побежала. Бежала, бежала, пастыри овец пасут. — Пастыри, пастыри! Цьї вы пастыри? — Мы пастыри Змея Лютого! (А это был целовек, только звали Змеем, царь был такой.) — Не говорите так! Едет царь с громом, царица с молоньей, вас жгать будут! Говорите, што Григорея Высоты! Дале бежит, видит пастыри коней пасут. — Пастыри, пастыри! Цьї вы, пастыри? — Змея Лютого! — Не говорите так! Едет царь с громом, вас убьет, царица с молоньей — обожгет! Говорите, што Григорея Высоты! Дале пастыри коров пасут. — Пастыри, пастыри, цьї вы пастыри? — Змея Лютого! — Не говорите так! Едет царь с громом, — вас убьет, царица с молоньей, — обожгет. Говорите, што Григорея Высоты! Бежала, бежала, к Змею Лютому прибежала. Дом большой, пребольшой. В дому, што угодно есь (штож царь! Змей Лютой звали, а царь!) — Царь Змей! Ты што знаешь? — Што, Лиса? Ницего не знаю! — А вот, што я тебе скажу. Едет царь с громом, царица с молоньей, тебя сожгать хотят. — Што ты, Лиса! Я куда денусь-то? — А вот видишь, дуб-от под окошком у тебя. Возьми и сядь в дуб-от, в дуплё-то! Он и сел. Вот едут, едут с колоколами, гремят, шумят, звенят! Невесту везут! Привезли, за столы сели. И пир пошел. Сидят, пируют. — Што такое? Как я не люблю этот дуб! Григорей Высота! Сожгать его надо, сожгать! Да штоб не выскочил нихто! И сожгли. А Григорей Высота остался жить в осударсьви Змея Лютого. Царь из избушки боровой, грезной, што глядеть-то страшно!Дождавшись своей очереди, Скоморох, уверенный в успехе и подогретый действием рассказанной сказки, начал.
30. Волшебное кольцо
Жили Ванька двоїма с матерью. Житышко было само последно. Ни послать, ни окутацца и в рот положить нечего. Однако Ванька кажной месец ходил в город за пенсией. Всего получал одну копейку. Идет оногды с этима деньгами, видит, — мужик собаку давит: — Мужичек, вы пошто шшенка мучите? — А твое како дело? Убью вот, телячых коклетов наделаю. — Продай мне собачку. За копейку сторговались. Привел домой: — Мама я шшеночка купил. — Што ты, дураково поле?! Сами до короба дожили, а он собак покупат! Через месяц Ванька пенсии две копейки получил. Идет домой, а мужик кошку давит. — Мужичек, вы пошто опеть животину тираните? — А тебе како дело? Убью вот, в ресторант унесу. — Продай мне. Сторговались за две копейки. Домой явился: — Мама, я котейка купил. Мать ругалась, до вечера гудела. Опеть приходит время за получкой итти. Вышла копейка прибавки. Идет, а мужик змею давит. — Мужичек, што это вы все с животными балуїте? — Вот змея давим. Купи! Мужик отдал змея за три копейки. Даже в бумагу завернул. Змея и провещилась человеческим голосом: — Ваня, ты неспокаїссе, што меня выкупил. Я не проста змея, а змея Скарапея. Ванька с ей поздоровался. Домой заходит: — Мама я змея купил. Матка язык с перепугу заронила. На стол забежала. Только руками трясет. А змея затенулась под печку и говорит: — Ваня, я этта буду помешшатьсе, покамес хороша квартира не отделана. Вот и стали жить. Собака бела, да кошка сера, Ванька с мамкой, да змея Скарапея. Мать этой Скарапеї не залюбила. К обеду не зовет, по отчесву не величат, їмени не спрашиват, а выйдет змея на крылечке посидеть, дак матка Ванькина ей на хвост кажной раз наступит. Скарапея не хочет здеся жить: — Ваня, меня твоя мама очень обижат. Веди меня к моєму папы! Змея по дороги и Ванька за ей. Змея в лес — и Ванька в лес. Ночь сделалась. В темной дебри стала перед їма высока стена городова с воротами. Змея говорит: — Ваня, я змеіного царя дочерь. Возьмем извошшыка, поедем во дворец. Ко крыльцу подкатили, стража чесь отдает, а Скарапея наказыват: — Ваня, станет тебе мой папа деньги наваливать, ты ни копейки не бери. Проси кольцо однозолотно, волшебно. Змеїной папа не знат, как Ваньку принеть, куда посадить. — По настояшшему, говорит, вас, молодой человек, нать ба на моей дочери женить, только у нас есь кавалер сговореной. А мы вас деньгами отдарим. Наш Иванко ничего не берет. Одно поминат кольцо волшебно. Кольцо выдали, рассказали, как с їм быть. Ванька пришел домой. Ночью переменил кольцо с пальца на палец. Выскочило три молодца: — Што, новой хозеин, нать? — Анбар муки нать, сахару-да насыпьте, масла-да… Утром мати корки мочит водой да сосет, а сын говорит: — Мама, што печка не затоплена? Почему тесто не окатываш? До ночи я буду пирогов-то ждать? — Пирого-ов? Да у нас год муки не бывало. Очнись! — Мама, обуй-ко глаза-те, да поди в анбар! Матка в анбар двери розмахнула, да так головой в муку и ульнула. — Ваня, откуда? Пирогов напекли, наелись, в город муки продали, Ванька купил себе пинжак с корманами, а матери платьё модно со шлейфом, шляпу в цветах и в перьях, и зонтик. Ах, они наредны заходили: собачку белу, да кошку Машку коклетами кормят. Опять Ванька и говорит: — Ты што, мамка, думаш, я дома буду сидеть да углы подпирать?.. Поди, сватай за меня царску дочерь. — Брось пустеки говорить. Разве отдадут из царского дворца в эдаку избушку?! — Иди сватай, не толкуй дале. Ну, Ванькина матерь в модно платье средилась, шляпу широкоперу наложила и побрела за реку, ко дворцу. В полату зашла, на шляпы кажной цветок тресется. Царь с царицей чай пьют, сидят. Тут и дочь невеста придано себе трахмалит да гладит. Наша сватья стала середи избы под матицу: — Здрасте, ваше велико, господин амператор. У вас товар, у нас купец. Не отдаїте-ли вашу дочерь за нашего сына взамуж? — И кто такой ваш жоних? Каких он родов, каких городов и какого отца сын? Мать на ответ: — Роду кресьенского, города вашего, по отечесьву Егорович. Царица даже чай в колени пролила: — Што ты, сватья, одичала?! Мы в жонихах как в сору каком роемся-выбираем, дак подет-ли наша девка за мужика взамуж? — Пускай вот от нашего дворца да до вашего крыльца мост будет хрустальной. По такому мосту приедем жанихово житье смотрять. Матка домой вернулась невесела: собаку да кошку на улицу выкинула. Сына ругат: — Послушала дурака, сама дура стала. Эстолько страму схватила… — На! Неужели не согласны? — Обрадовались… Только задачку маленьку задали. Пусь, говрят, от царского дворца да до жанихова крыльца мост будет хрустальной, товда придут жанихово житье смотрять. — Мамка, это не служба, а службишка. Служба вся впереди. Ночью Иванко переменил кольцо с пальца на палец. Выскочило три молодца: — Што, новой хозеин, нать?! — Нать, штобы наша избушка овернулась как бы королевскима палатами. А от нашего крыльца до царского дворца мост хрустальной, и по мосту машина ходит самосильно. Того разу, со полуночи за рекой стук пошел, робота, строїтельсво. Царь да царица спросонья слышат, ругаются: — Хал ера бы їх взела с їхной непрерывкой… То суботник, то воскресник, то ночесь робота… А Ванькина семья с вечера спать валилась в избушке: мамка на печки, собака под печкой, Ванька на лавки, кошка на шешки. А утром прохватились… На! Што случилось!.. Лежат на золоченых кроватях, кошечка да собачка ново помешшенье нюхают. Ванька с мамкой тоже пошли своего дворца смотрять. Везде зерькала, занавесы, мебель магазинна, стены стеклянны. День, а ланпы горят… Толь боhато! На крыльцо выгуляли, даже глаза зашшурили. От їхного крыльца до царского дворца мост хрустальной, как колечко светит. По мосту машинка сама о себе ходит. — Ну, мама, Ванька говорит, оболокись помодне да поди зови анператора этого дива гледеть. А я, как жаних, на машинки подкачу. Мама сарафанишко сдернула, барыной наредилась, шлейф роспустила, зонтик отворила, ступила на мос, ей созади ветерок попутной дунул, — она так на четвереньках к царскому крыльцу и съехала. Царь да царица чай пьют. Мамка заходит резво, глядит весело: — Здрасте. Чай да сахар! Вчерась была у вас со сватаньем. Вы загадочку задали: мос состряпать. Дак пожалуйте роботу принимать. Царь к окошку, глазам не верит: — Мост?! Усохни моя душенька, мост!.. По комнаты забегал: — Карону суда! Пальтë суда! Пойду пошшупаю, может ише оптической омман здренья. Выкатил на улицу. Мост руками хлопат, перила шатат… А тут ново диво. По мосту машина бежит сухопутно, дым идет, и музыка играет. Из каюты Ванька выпал и к анператору с поклоном: — Ваше высоко, дозвольте вас и супругу вашу всепокорнейше просить прогуляться на данной машинке. Открыть движение, так сказать… Царь не знат, што делать: — Хы-хы! Я то бы ничего, да жона-та как? Царица руками, ногами машет: — Не поеду! Стрась эка! Сронят в реку, дак што хорошего?! Тут вся свита зауговаривала: — Ваше величие, нать проехаться, пример показать. А то перед Европами будет канфуз! Рада бы курица не шла, да за крыло волокут. Царь да царица вставились в каютку. Свита на запятках. Машина сосвистела, звонок созвонил, музыка заиграла, покатились, значит. Царя да царицу той же минутой укачало, — они блевать приправились. Которы пароходы под мостом шли с народом, все облеваны сделались. К шшасью середи моста остановка. Тут буфет, прохладительны напитки. Царя да царицу из каюты вынели, слуги поддавалами машут, їх в дейсво приводят. Ванька с подносом кланяїтся. Они, бажоны, никаких слов не примают: — Ох, тошнехонько… Ох, укачало… Ух, растресло, растрепало… Молодой человек, мы на все согласны! Бери девку. Только вези нас обратно. Домой поворачивай. Свадьбу средили хорошу. Пироги из печек летят, вино из бочек льется. Двадцать генералов на этой свадьбы с вина сгорело. Троїх сеноторов в драки убили. Все торжесво было в газетах описано. Молодых к Ваньки в дом свезли. А только этой царевны Ванька не надо был. У ей в заграницы хахаль был готовой. Теперь и заприпадала к Ваньки: — Супруг любезной, ну, откуда у тебя взелось эдако богасьво? Красавчик мой, скажи! Скажи да скажи и боле никаких данных. Ванька не устоял против этой ласкоты, взял да и росказал. Как только он заспал, захрапел, царевна сташшила у его с перста кольцо и себе с пальца на палец переменила. Выскочило три молодца: — Што, нова хозейка, нать!.. — Возьмите меня в этих хоромах да и с мостом, и поставьте середи городу Парижу, где мой миленькой живет. Одночасно эту подлу женшину с домом да и с хрустальным мостом в Париж унесло, а Ванька с мамкой, с собакой да с кошкой в прежной избушки оказались. Только Иванко и жонат бывал, только Егорович с жоной сыпал! Все четверо сидят да плачут. А царь собрался после обеда к молодым в гости итти, а моста-та и нету, и дому нету. Конешно, обиделся, и Ваньку посадили в казаматку, в темну. Мамка, да кошечка, да собачка христа-ради забегали. Под одным окошечком выпросят, под другим съедят. Так пожили, помаялись, эта кошка Машка и говорит собаки: — Вот што, Белой, сам себе на радось нихто не живет. Из-за чего мы бьемся? Давай, побежим до города Парижа к той б…и Ванькино кольцо добывать. Собачка бела, да кошка сера кусочков насушили и в дорогу переправились через реку быстру и побрели лесами темныма, пошли полями чистыма, полезли горами высокима. Сказывать скоро, а итти долго. Вот и город Париж. Ванькин дом искать не долго. Стоїт середи города и мост хрустальной, как колечко. Собака у ворот спреталась, а кошка зацарапалась в спальну. Ведь устройсво знакомо. Ванькина молодуха со своим прихохотьем на кровати лежит и волшебно кольцо в губах держит. Кошка поймала мыша и свиснула царевны в губы. Царевна заплевалась, кольцо выронила. Кошка кольцо схватила да в окно, да по крышам, по заборам вон из города! Бежат с собачкой домой, радехоньки. Не спят. Не едят, торопятся. Горы высоки перелезли, чисты поля перебежали, через часты дебри перебрались. Перед їма река быстра, за рекой свой город. Лодки не привелось, как попасть? Собака не долго думат: — Слушай, Маха, я вить плаваю хорошо, дак ты с кольцом-то седь ко мне на спину, живехонько тебя на ту сторону перепяхну. Кошка говорит. — Кабы ты не собака, дак министр бы была. Ум у тебя осударсьвенной. — Ладно, бери кольцо в зубы да молчи. Ну, поехали! Пловут. Собака руками, ногами хлопат, хвостом правит, кошка у ей на загривки сидит, кольцо в зубах крепит. Вот и середка реки. Собака отдувается: — Ты, Маха, молчи, не говори, не утопи кольца-то! Кошки ответить некак, рот занет… Берег недалеко. Собака опеть: — Вить, ежели хоть одно слово скажешь, дак все пропало. Не вырони кольца! Кошка и бякнула: — Да не уроню! Колечко в воду и булькнуло… Вот они на берег выбрались, ревут, ругаются. Собака шумит: — Зазуба ты наговориста! Кошка ты! Болтуха ты проклята! Кошка не отстават: — Последня тварь — собака! Собака и по писанью погана… Кабы не твої разговоры, у меня бы за сто рублей слова не купить! А в сторонки мужики рыбину только што сетью выловили. Стали черевить да солить и говорят: — Вон hде кошка да собака, верно с голоду ревут. Нать їм хоть рыбны черева дать. Кошка с собакой рыбьи нутренности стали їсь, да свое кольцо и нашли… Дак уж, андели! От радости мало не убились. Вижжат, катаются по берегу. Нарадовавшись, потрепали в город. Собака домой, а кошка к тюрьмы. По тюремной ограды на виду ходит, хвое кверху! Курняукнула бы, да кольцо в зубах. А Ванька ей из окна и увидел. Начал кыскать: — Кыс-кыс-кыс!! Машка по трубы до Ванькиной казаматки доцапалась, на плечо ему скочила, кольцо подает. Уж как бедной Ванька зарадовался. Как андела, кота того принял. Потом кольцо с пальца на палец переменил. Выскочили три молодца: — Што, новой хозёин, нать?! — Нать мой дом стеклянной и мост хрустальной на старо место поставить. И штобы я во своей горницы взелся. Так все и стало. Дом стеклянной и мост хрустальной поднело и на Русь поташшило. Та царевна со своим дружишком в каком-то месте неокуратно выпали и просели в болото. А Ванька с мамкой, собака бела, да кошка сера стали помешшаться во своем доме. И хрустальной мост отворотили от царского крыльца и перевели на деревню. Из деревни Ванька и взял себе жону, хорошу деушку.Скоморох кончил сказку, но, когда легли спать, он долго не унимался, плетя свои небылицы. Так при взрывах неугасающего смеха кончился день третий.
День четвертый. Сказки о матери
В большой горнице воздух стоял спертый и душный. Московка вскочила со своего растрепанного снопа первою и бросилась раскрывать окна: глянул день такой нежный, такой старательный, словно стыдился вчерашних слез и хмурости. Свежий воздух входил и пробуждал к жизни распростертые тела. Быстро умывшись, Московка побежала по сырой, но крепкой тропочке среди неогороженных полей туда, на глядень, как называла звоницу хозяюшка Александра. Из окна высунулся косматый Скоморох: — Бабка! Куда побежала? Я состигу сейчас. Одной не вызнетьсе! Московка стояла у входа на колокольню недоуменная и растерянная; на лесенке без перил, высоко посередке, зияла страшная дыра: не хватало ступени. Слишком страшно для городских нервов. Но подходил умытый и причесанный Скоморох: — И куда выгуляла? Бежит по сёжки, как уголейко по печи: станет и задумается. Только усов не хватат! Разгони загадку: маленька коровушка не много доїт, а всем уделит. И, видя, что Московка задумалась, добавил: — Разве сейчас не умывалась? — А, рукомойка! — Рокомойка, правильно! — А вот: на устьї, на устьїнском, на угли углинском смешалась вода с песком и розодрался Лука с Петром? Они уж подымались по лесенке. — Во кака отгодка: пець, угольё, горшок, суп вареной. — А эта: был я на копки, был я на топки, был на кружале, был на пожаре, выбросят на улицю, — собаки косья не едят. По-детски радостно закричала Московка: — Горшок, горшок! — Правильно! Они были около страшного места. Голова кружилась у Московки, и не было сил сделать громадный шаг наверх. Отвратительно! Скоморох, как ребенка, подхватил Московку, поставил на следующую ступеньку и вдруг сказал: — Эх, баушка, кабы ты была моей матинкой, так бы и носил тебя носком. Всю жись! Это было очень бурно для северянина, а потому Московка смутилась и, ощущая гордую радость, спросила: — А твоя мать жива? — Покойна. Задал еще загадку, но Московка не поняла, да и понимать было некогда. Они стояли уже на колокольне. Насколько хватал глаз, расстилалось и волновалось холмами хвойное море. Редкими, цветущими островами пятнели деревни с полями и церквами… А налево серебряной широкой дорогой петлила Пинега, то обрываясь, то снова появляясь. И над всем этим голубой купол с множеством легких пробегающих облачков и тучек. Немного ветрено, но так весело, бодро! Захватывающе интересно было угадывать деревни, церкви… — Вон Карпогорье, Параскева-Пятница, Пиремень, а сюда вон Юбра, Почезерье… и вон, вон вдали что-то мреет… Соколиные глаза Скомороха узрели даже пинежский собор, во всяком случае пятно с горящей точкой. Там был некогда знаменитый волок, — так и называлось селение Волок, — волок между реками: Пинегой и Кулоем. Плыли сверху из резиденции московского воеводы суда на Волок и переволакивались на Кулой, в Кулойский стан, куда по договору с Великим Новгородом уже давно, до существования воеводства, Москва посылала охотников за ловчими птицами. Надо повернуться направо. Отсюда по воздушной линии не так все далеко, как это считается по извилистой Пинеге. Вон Карпова Гора — громадное селение, в напротив, на плоском берегу, деревня Кеврола с дивной черной церковью, чудом деревянного зодчества, построенной 220 лет назад. Эта Кеврола и есть древнейший город Кевроль, который Новгородские ушкуйники обложили данью. Кулой долго был ареной политической борьбы Новгорода и Москвы. Победила Москва. Чудь напирала, и Москва в ограждение учредила в Кевроле Московское воеводство. Весело, привольно жили воеводы, часто сменяясь, ибо Север считался лакомым куском, и сесть на Кеврольское воеводство стремились многие. Жили воеводы жирно и весело. Со свадьбами по образцу царских, с белилами, со стольниками на свадебных пирах, с веселыми скоморохами, с кулачными боями на плоских искусственных горках, с потешными масленичными катаньями. Вместе с чистейшим надводным и надлесным воздухом вливалось в Московку дыхание истории. Не той истории, что подкрепляется документами, критически проверенными фактами, а простой обывательской, подкрепляемой живой памятью стариков, говорящих о древнем дне, как о вчерашнем. Московка же ведь сидела под «Мировыми Соснами», а старики рассказывали, как под этими соснами встретились мужики двух враждующих деревень. Они шли судиться к воеводе и здесь под соснами заключили мир, чтобы не ходить на «правый суд». Воеводы жили сладко, тешились горками, а в правёжной избе стонал народ. Все же, когда при Екатерине II было упразднено воеводство, учрежден на месте Волока новый город Пинег, в летний и жаркий день глупый народ плакал, провожая последнего воеводу, лодки с нажитыми богатствами и разобранные строения, что сплавлялись в новый город на Волоке. Плакал не потому, что воевода был хорош, а плакал над уходящей красивой пышностью, которая питалась народными же соками, плакал над превращением древнего города Кевроля в расползшуюся черную деревню Кевролу. Чудь? Что за люди? Жонки говорят, что Чудь вылезает по ночам из земли с треугольными головами и бродит по свету вместе с нечистью. Мужики трезво рассказывают, что Чудь, вроде зырян, воевала; ее оттеснили воеводы в леса, и остался от Чуди брошенный мальчик и Палец. Бросовых да Пальцов сейчас узнаешь по скулам. (Есть сейчас фамилии Бросовых и Палец.) Скоморохи? Московка знает, сколько песен, сказок, поговорок про скоморохов застряло на реке Пинеге, именно в этом ее звене, около древнего Кевроля. Время от времени оно родит подлинных скоморохов. Здесь именно найдена оставшаяся живой в памяти одной старушки былина-уника о «Вавиле и скоморохах». В сборнике XVII века лишь уцелела страница с названием «Вавило и скоморохи», но самого текста не было, а здесь вдруг, пожалуйте, поют, знают. Почему? Да ведь их же гнали, скоморохов; церковь гнала их, а они, гонимые грешники, ушли сюда, на север, прилюбились народу своим талантом, и, чтобы поднять свое звание и значение, сложили былину про то, что они не только не грешники, но святые и делают важное дело — переигрывают «Царя-Собаку». Если б Махонька согласилась сегодня спеть про Вавилу! Подойдет ли к теме о матери? Ну, конечно: они же так дружно жили, мать и сын. Он для нее сеял пшеницу. Наверное ее «носком носил». Вот и рядом подлинный скоморох! Ведь если б ему дать лоск, образование, был бы крупнейшим актером, современным скоморохом, был бы членом Всерабиса, печатался бы на афишах. А подлинный Скоморох давно уж понуждал Московку похлебать молока и «итти домой». Домой? Где дом? У Александры? В Пинеге? В Москве? Ах, да, там, где сказки: на причале, на берегу. На Пинеге не было видно ни парохода, ни дымка. Отряхнула Московка свои думы и стала спускаться. У страшной дыры она покорно «схватилась в охабоцьку» и не заметила, как очутилась внизу. Когда же она вошла в большую горницу, все сидели приободренные, веселые; хозяйка уставляла стол снедью и, завидев Московку, схватила ее за руку. Мерно и широко ее раскачивая, в такт певуче приговаривала:Спали, почевали,
Рано весело вставали,
Белы лиця умывали,
Полотенцем вытирали,
Во карман руки совали,
Чясты гребни доставали,
Буйны головы чесали,
Русы кудри завивали!
31. Соломбальская быль
В Соломбалы (портовая часть гор. Архангельска) женьчына жила. Я хорошо ей знал, Ографеной звали, она булками торговала у пристани. И был у ей сын, Ванюшка, лет десяти, все за границу просилса: — Мама, пусти за границу! — Не пушшу! — Ну, я сам убежу. И убежал. Пришол в Архангельско аглицкий корабь. Ванюшка с юнгой разговорилса, што за границу ему охота: мальчишка в Соломбалы живет, дак уж по аглички болтат. Юнга отвечат: — Вон коптеен идет, у нево просис. Ванюшка к нему по аглички: — Коптеен! (значит капитан). — Коптеен! Я за границу хочу. А тот ему: — Полезай в трюм! Ванюшка и полез. На утро корабь запоходил. Ографена день ждала, на второй стала соседей спрашивать: — Не видали-ли где Ванюшки! — Вчера видели, севодня не видали. — Ах, подлец, наверно, убежал! Естли бы в море потонул, то давно бы выкинуло, а то нигде нету. И так не бывал двадцать лет. Он уже старшим матросом ходил, женилса в Англии, трое детоцек уж было у них. И услыхал он, што корабь идет в Архангельско за пшоницей. Он и нанялса старшим матросом: маму охота повидать. Жоны сказал, она заплакала. — Узнат тебя мать, останешься там! — Нет, я не признаюс. Ну, пришли в Архангельско. Он думат: «Естли мама жива, дак она у пристани булочками торгует». И увидал ей, подошол и булочку купил за три копейки, потом в трактирчик зашел, у раскрытого окошка сел; чай пьет, на маму смотрит. И так каждой день: булочку возьмет, у раскрытого окошечка сядет, на маму смотрит. Только и всево. Две недели так прошло, завтра утром корабь запоходит обратно. Он в последний раз булочку купил и двадцать пять рублей под булки подсунул. Она ево не узнала, и он не призналса. Так и уехал. Вечером Ографена деньги нашла, соседкам говорила: — Двадцать пять рублей кто-то обронил. Завтра спрашивать станут, дак я отдам. Она незавидна на деньги была, эта женьчына, я ей хорошо знал. На следуюшший год, весной, уж ево сердце тоскует: в Архангельско проситце. Опять нанялса на такой корабь, што за пшоницей идет. Жона беспокоїтце, плачет: — Оставишь ты нас, мама тебя узнат! — Не узнат. Тот-там раз не призналса и опять не признаюс. Опять также булочку у матери покупат, в трактире у открытого окошечка сидит, на мать гледит. На отъезд сорок рублей приготовил и на прошиенье под булки подсунул. Ографена опять деньги шшытат, — сорок рублей лишны. Опять торговкам рассказыват, а они ей: — Да, што это, Ографена! у тебя: то двадцать пять рублей лишны, то сорок, у нас — дак не у ково. Смотири, не сын ли тебе помогат? — А, наверно, он, подлец! Ну, теперь стану всем покупателям на руки смотреть, не подсунут-ли? И всем Ографена стала на руки смотреть. Нет, нихто денег не подсовыват! Какой даст поболе, дак сдачи спрашиват. Ну, и опять год прошол. Ографена стала уж старой. Ты пошьчытай-ко, сколько годов вперед ушло. А тот уж с весны на корабь нанялса в Архангельско итти, пшоницей грузитьса. Жона просто ручьем разливатца, плачот: — Узнат тебя мама, ты признашься, останешься, забудешь нас! — Да не признаюс. Те-там разы не признавался и сей раз не признаюс. И опять: пароход стоїт, грузитца, а сын у матери булочки покупает. Она ево узнать не может: он бретый, как англичанин. Знашь, англичанин бретый, черной, как свинья палёна! Однако она всем на руки смотрит. Сын булочку за три копейки купит, в трактирчик пойдет, у открытого окошечка сядет, чай пьет, на маму смотрит. На отъезд он уж ей сто рублей приготовил. А она всем на руки смотрит. Вот он в последний раз булочку купил и сто рублей подсунул. А Ографена всем на руки смотрит, да как закричит: — Караул! Грабят! Ему бы не бежать, а он побежал. Ево поймали и к часному повели. Она часному тихонько говорит: — Это не грабитель, и он меня не ограбил. Это мой сын, и он мне сто рублей дал. Я хочу, штоб он созналса. Часной говорит: — Сознавайса! Ты ей сын? — Ни-ни-ни! По-англички. — Документы! Ну, документы у ево аглички, все в порядке. Она опять тихонько у часнова спрашиват: — Можно ли ево донага раздеть? У ево родимо петно на левом боку, дак уж я признаю. — Можно. Раздевайса! Тот опять головой мотат, по-аглички говорит: — Ни-ни-ни! — Ладно! Не в Англии, — в Расеи. Раздевайса! Ну, тот видит, раздевайса, не раздевайса, — сознаватса надо. И пал матери в ноги: — Мама! У меня за капитаном семьсот рублей денег, я все отдам, только отпусти меня! — Мне не деньги нужны, а сын нужен. — Мама, пожалей меня! У меня жона в Англии, трое детоцек… — А присегнешь на їкону, што на будушшу вёсну всех привезешь? У часнова їкона была, он присегнул. И, действительно, все семейство привез. Корабь две недели пшоницей грузитца. Ну што две недели? Как одна минуточка пролетели. Надо расставатца. Она и говорит: — Как я без сына жила, оставь мне теперь стартова внука. Весной опять все приежжайте. Он оставил. На следуюшшую весну она стала присматривать, кавово теперь бы ей внука оставить, а сын говорит: — Мама! Да поедем с нами! Посмотришь, как у нас в Англии живут… Она и поехала. Да там и осталась. Говорят, очень ей в Англии пондравилось.Этот рассказ мальчуганы, набравшиеся вокруг холмика, слушали, раскрыв рты, и каждый с молодцеватым и удалым выражением думал: вот, мол, я какой — мать не признал. Но потом они обмякли, притихли и насторожились. Помор дрогнувшим и рвущимся голосом продолжал.
32. Сын к матери
Три года тому уж. Был я на заработках в Архангельске и собралса осенью домой, да последний рейс пропустил. А как пропустил? Загулял и все деньги пропил. И билет был, дак и ево пропил. Осталса в Архангельске. И захотел маму видеть. Такая охота маму повидать, што были бы крылья, так на крыльях бы полетел! Заработал маленько, взял да и пошол пешой. Сколько это верст будет, пошшитай-ко! Летним берегом пошол. Каки оставалис деньги, все приел. Морозы ведь уж. Иду гододной, а все маму в мыслях держу. Близко уж Сорока, уж стал из силы выходить. Там знакомець жил. Я зашол в дом, на ево кровать повалилса. Хозейка пришла, видит, спит-храпит на хозейской кровати незнаемой человек, испугалас. Однако муж в скорости пришол: — Какой это проходяга? Это Олександр Останин! Не тронь! Пусть спит! Ну, проснулса я, напоїли-накормили. — Што же ты, говорит, горной дорогой идешь? Какая такая нужда? — Маму охота повидать. Он мне три рубля дал. Немного я тут на лошади подъехал, а там опять побежал. Уж недалеко. И пришол в самую минуточку: мама помирать стала и все меня звала. Все же застал ее.Все смолкли. Московка вопросительно взглянула на Кулоянина, но он продолжал угрюмо вязать петли. Махонька выручила.
33. Мать и львица
Был-жил царь; у этого царя была жена молода и была у его мачеха. Сколько он жил с женой, и жена стала беременна и родила, а он выбыл куда-то не надолго время. Родила два мальцика. Она намаялась и уснула, а мачеха была зла, подкупила солдата: — Вались к ей на кровать, брюки-ти верхни сдерни, вались в одних почтаниках. Он так и сделал. Она донесла царю: — Вишь у тебя жена, не успела родить, а спит с другом. Царь схватил саблю, солдата сказнил этого и собрал собранье: как жену, куда девать, — дети незаконны. Для людей она была милослива, добра; люди ей жалеют, сказали: — Если они незаконны, дак закопать ей с детьми на полгода. Если незаконны, дак погибнут. Ну и спустили їх в погреб. Жили они полгода и выкопали їх на верьх. Ну, эти дети хороши прехорошеньки, как налиты чем, полны. И ползают по полу, у царя, у башмаков пряжки шшиплют. Он не замог терпеть, ногами стоптал с глаз. Отвезли ей в цисто поле: поди там, куда знаешь. Посадила одного мальцика по праву руку, другого на леву и пошла. Шла, шла, приустала. День был солнешной, теплой, повалилась с детями и уснула: один на правой руки, другой на левой. С левой-то руки прибежала львиця и унесла мальцика. Она разбудилась: мальцика-то у ней нету. Вот тебе жалко, тут и зажал ела и походила, походила, увидала в пещоре лежит львиця и лапками тешит мальцика; наносила яблоков, всего и грабит, грабит лапками, тешит, веселит его. Мать вышла на угор, перекрестилась: — Слава богу, мое дитятко не погинет! И сама пошла с одним. Приходит в деревню. У старицка и старушки попросилась ноцевать. Ноцку ноцевала, и другу ноцевала и понравилась эта молодиця їм. — Живи, молодиця, у нас ты, рости сына; у нас детей нет, станет ростить, дак будет сын, хлебы будут. Скольки-ле время прошло — сын стал годов петнадцати, а старик был раньше боhатырь. У его в комнаты были складены латы булатные. Этот сынок ходит, оденет латы булатные и маширует там. Старушка эта подсмотрела его, сказала старику: — Это нам не хлебы, этот сынок. Он одел латы булатные и маширует. — Как тут не хлебы? Нам эти самые тут и хлебы. Време идет, этот сынок — подходит ему двадцать лет. У этого царя сделалась война. Он разослал везде бумаги, вот требовать на войны. Этот сын средилсе на войну. Стал просить у дедушка, у бабушки блаословенья. Они поплакали, блаословили и спустили его. Он на судно и отправилсе. Идет это судно морем, увидели на берегу человек нагой. Бросили ему поштаники. Он поворочял, поворочял и стал надевать. Бросили рубашку ему, — он тоже поворочял, поворочял, надевать стал рубашку. Потом они стали к берегу приставать. Пристали к берегу. Этого целовека стали їмать, он и зеревел. Львиця и подбежала, тут и есь. Стала людей забирать, горячице стала, а он стал ей унимать. Ну его на судно повели. Львицю бы и не взели, она за їм след, он ее приглашат, люди и не посмели ей оставить. Они сошлись на судне, и вот брат брату рассказал: «ты мне брат!» Научили его говорить по-русьски. И пришли в осударьсво. Стали срежаться воевать в чисто поле с противником, и поехали, отправились: один на кони, а другой на львици. Один брат едет по праву руку на кони — народ улицами валитце. По леву руку львиця кинетця — так улицей с переулком, втрое валит народ. И всех перебили и отправились на пир к царю. Тут царь принимает воїнов, ужинает. Они из застолья вышли, да и в ноги пали. — Батюшко — мы тебе сыновья. Ковда вы нас отвезли в цисто поле, одного из нас воспитывала львиця, а другой — жил у дедушка с бабушкой и мати также. А бабка злая слушает. Он їх зашеїл, в уста поцеловал: — Дети мои возлюбленные! Где наша бабушка? Мы на одну ногу наступим, другу разорвем. А бабушка уж в петлю полезла да задавилась.Московка пошепталась с Махонькой, так просияла и запела.
Махонька закончила эту древнюю былину, которую она одна знала во всей стране,[75] а Скоморох прерывал пенье заливистым смехом. Кулоянин заметил: — Ты бы замест смеха Вавиле молился: твой покровитель. — Даже їконы еговой не живет! — Нет, живё. — А ты видал? — Видал! У Московки, что называется, в зобу дыханье сперло. Хочется спросить, а страшно: вдруг опять носырей назовет. Не вытерпела: — А hде видал? А какая она? Дед строго посмотрел, помолчал и милостиво ответил: — Недалеко от нас Онуфриевы Кельї были. Етот скит Александр Третей розорил. У нас скитница оттуда жила и їкону ету оставила. Хороша. Писана по старому правилу. Вьюноша Вавило воссел, в руках гусли, и воспеват и возыгрыват. Он играет-то в Киеви, а на выигрыш берет в Цари-гради. Для скоморохов полезна їкона. — Дедушко, рассказал бы ты каку-ле сказку про мать! — Матери разны бывают. Бывают и хуже мачехи. Вот расскажу… Сменил гнев на милость и рассказал.
351. Талань
Не в каком царсви, не в каком осударсви, а именно в том, в котором мы живет, жили были два брата. Один жил боhато, у его была лавка, он торговал, а другой жил бедно, бился, бился. Дошли до того, што завтре детем їсь нечего дать. Жона говорит: сходи на заре к свешшенику: попроси у его хлеба. Он пошол, ешше тёмно, свешенник спит, и не посмел он заколотитьсе, пошел домой. Идет мимо гумнишша и слышит, как два роботника заспорили, он стал слушать. Стал слушать, а ето спорят Талань да Учась. Учась говорит: — Што ты, говорит, над своїм рабом сделала? Што он так бьетсе, и довела его до того, што детем и їсь нечего дать сегодня. — А ето за то, што он бедным не внимает, над старыма смиется. Вот пришел он домой, жона спрашивает: — Ну, што, достал хлеба? — Нет, не посмел заколотиться, поманя пойду. А сам задумался, как ето он бедным не внимал и над старыма надсмиялсе? «Теперь уж таков не буду!» Вышел он из дому, а под ноги ему Талань и порснула. Он взял ее, в кладовушку занес и на латку посадил. Сходил к свешшенику: опеть у того ешше темно — спят. Вернулся в кладовушку, смотрит: а Талань кругом златинками обложилась. Он взял одну златинку и говорит жоны: — Я пойду у брата куль муки куплю. — Да што ты? Откуль у тебя столько денег? Он пошел, подал брату златинку, — он ему и куль муки, и круп и всего надавал, што и не унести, а на лошади нать везти. Привез домой и говорит: — Мне ешшо и красной товар какого ле нать. Жона ему: — Да што ты? Да кольки у тебя денег? Пошел, взял у Талани с латки две златинки и пошел к брату, подал ему две златинки. Брат посмотрел и говорит: — Дак за эти златинки и товару тебе не нарезать. А, знать, бери половину всего, што в лавки есть и в кладовой, и торгуй так же, как я. И повезли ему всякого товару, половину, што в лавки было и што в кладовой. Стал торговать, и торговля пошла такая, што только поспевай лавки строить. Строил лавки в разных городах и заграницей уж стал. Вот он уехал заграницу на долго, а тут стал к его жоны солдат из казармы ходить, Васильем звали. И стал он удивлятся, откуда у їх такое боhасьво: «што нибуть у їх уж есь». Стал спрашивать ее: — Скажи, што ето, откуда у вас такое боhасьво? Што такое у вас торговля идет: никогда никакой утраты нету. Што-нибуть есь? — Есь, да сказать не смею — она отвецят. — Да хто жа нашу таїнку узнать? Знать только будем ты да я, да мы с тобой. Она ему и сказала: — У нас Талань есь… и росказала. Вот и задумал он напустить на себя лютую немочь, и што будто во снях ему привиделось, што надо ету Талань подколоть и изжарить: я съем серьце этой Талани, и она уж во мне будет. Вот он и напустил на себя лютую немочь: на коецьке лежит и в больницю не хочет. Она ждет, ждет Василья: не ходит к ней, вот уж сколько дней. Взяла там дессерту, конфетиков собрала, надернула платок и отправилась. Там дневального солдата спрашивает: — Где у вас тут Василей? Дневальной отвецят: — Есь такой у нас, очень болен, на коецьке лежит и в больницу не хочет. — Нельзя ли к ему? — Можно. Он ее провел. — Василей, да што с тобою? — Ах, мне как не можется… Упала она к ему на белы груди, слезами заливается. — Да не надо-ли тебе чего? Не хочешь-ли чего? — Да, во снях мне виделось, што подколоть бы мне Талань, да зажарить, да серьце съесть, дак я бы оправился. — Ах, как же я могу подколоть ей, муж вернется, узнает. — Да, знать, ребята пулях ловят, купи у їх пуляху, да подмени. Талань подколи, да зажарь, а на место ей пуляху посади. Вот она так и сделала. Купила у ребят пуляху, лапки свезала и на место Талани опутинками к латке привязала, а Талань подколола и кухаркам наказала скоро изжарить. Вот кухарки скоро справились, из пецьки ето жарко вынели, поставили, а двое детишек тут бегали, стали жаркое пробовать, да так подравилось, што пробовали, пробовали, да все съели. Кухарки хватились. — Вот, што теперь вам будет? Матка теперь вам уши нарвет, што как ей ето жаркое скоро куда-то нести было нать. Ребятишки придумали: — Вот поймайте цыпленка у куры, да поджарьте. Она не узнает. Они так и сделали и в пець опеть поставили. Хозяйка справилась итти: — Што жарко? Готово-ли? Кухарки отвечают: — Да вынели было из пецьки, да нам показалось, как сыровато, дак опять в пець поставили. Она тут ногами затопала: — Ах вы такие, сякие, ницего справить скоро не можете. Ну, потом дождалась наконец, как жарко скоро поспело, и снесла в казарму. Василей цыпленка съел. — Ну, што? Как тебе, Васильюшко? — Да будто как лединка от серьця отвалилась. Ну, и повеселела она. А ребятишки к матери бегут, што обрать себя не могут, сколько у їх денег. Она їх давай бить: — Это вы все воруете, бегаете все в лавки. И жалуется етому Василью на їх. Он догадался, што в їх Талань, а не в ем, и опять надумал лютую немочь на себя напустить и што надо ему етих детей подколоть, серьце зажарить и съесть. Вот он опять перестал к ей ходить. Колько то у ней не бывал, она в узелок конфетиков свернула, пошла в казарму, дневального спрашивает: — Где у вас тут Василей? Дневальной отвецает: — Очень больной: на коецьке лежит, а больницю не хоцет. Она пошла к ему: — Што ты? Што с тобой? — А ничего не могу, оцень я больной, ослаб совсем. Пала она ему на белы груди, слезами залилась: — Да может тебе чего нать? — Да… виделось во снях, да только сказать страшно… — Да ты скажи. Да хто нашу таїнку с тобой знать может, как только ты, да я, ды мы с тобой. — Видилось мне во снях, што еслиб твоих детей убить, да серьца іхны зажарить, да я бїх съїл, так и полехчало б. — Да как ето сделать? Убить їх не жалко: такие дрянные, все воруют, денег у їх нельзя обрать, и вот муж вернется да узнат… — А ты подговори дворника. Пусть повезет кататься, за городом, под мостом убьет да там бросит. Нихто не узнает. А серьця пусть вырежет. Она пришла домой и говорит дворнику: — Наймись мне-ка детей убить. — Да как можно… — Она такие дрянные, все кругом воруют, денег у їх обрать нельзя… Ну, и нанела его. Вот он повез детей кататься. Катает целой день, уж пора домой, он повез їх по край города. Дети говорят: — Што ты, говоря, везешь нас куда-то по край города, как нам домой нать… А тут уж и мост. У дворника рука не подымается їх убить, он сказал їм: — Велено мне вас убить, а серьця вырезать и принести. Мне за ето пятьсот рублей. Они говорят: — Ах, не убивай нас, мы тебе за ето колько денег дадим, как мы їх обрать не можом. Ты убей двух дворняжек, вырежь у їх серьця, а мы уйдем жить со своима деньгами за три девять земель, и нихто про нас знать не будет. Так и сделали. Он детей спустил, а сам назать поворотил. Выскоцили две дворняжки, бросились лаять. Он їх топором зарубил, серьця вырезал и хозяйки принес. Она їх сейчас же велела зажарить и в казарму снесла Василью. Василей съел. — Ну, што? Как тебе? — Будто как лединка от серьця отпала. Время пришло. Хозеин воротился. Она его со слезьми встрецяет: — У нас в доме не постарому, у нас не по прежнему: утерелись дети… Ну, отец загоревал, да штож сделаешь? А ети дети ездили, ездили по разным царьсвам, и попали в такое осударьсво, што там холера всех людей выморила, и не было царя. И было там положено, што, у кого в церквы перед їконой свешча загорит, тому жониться на царевны и сесть на царьсво. Ети браться зашли в церкву помолиться, и у одного на головы свешча загорела. Его жонили на царевны, посадили на царьсво, а другому брату быть наследником и великим князем. Вот они живут и приезжает к їм гостить королевишна. (Так вот одна жила и ездила, — как у нас прежде агличанка была.) Стала она с великим князем в картоцки-тахмоцьки играть и все ему проиграла: все свої корабли, вообще имушшесьво. Штож делать? Она догадалась, што в ем Талань есь. Стала его просить взеть ее в замужесьво. Но он не согласился. Тоhда она стала его угошшать… кормить, и до того наугошшала, што он стал блевать и выблевал Талань нетленную. Она ету Талань схватила, вымыла и съела. Стала с їм в картоцьки-тахмоцьки играть и отыгралась и развеселилась, стала угошшаться, наугошшалась и заблевала. Он ету Талань схватил, вымыл и съел. Вот опять в ем Талань, опять он ее обыграл, и опять стала она в замужесьво проситься. Он отвечяет: — Я так не могу, я должен со своим осударем посоветоваться. Стал с братом советоваться. Он и говорит ему: — Я тебе советую, поезжай и посмотри ее королевсьво, какое там житьё; как ты теперь не наследник, а только великой князь, у меня свой наследник родился, а ты сделаешься королем. Ну, он совету послушал, поехал с королевишной, посмотрел ее осударьсво и жонился. У нее был ковер-самолет. И придумалось етим братьям — царю да королю — полететь на свою родину: «Посмотреть нашего отца, да мать-поганку». Полетели в свой город. И к богатому купцю в гости. Он устроїл пир. — А не может-ле хто каку побывальшину рассказать? — Да, мы можом. И братья все рассказали, как они Талань съїли. Как дворнику велено было їх убить. — Не терелись-ли в вашем городе дети? Купец отвечает: — Да, терелись. У меня вот дети потерелись. — Мы, батюшко, и есь. Позвали дворника, он правду всю рассказал, и верного слугу наградили. Василью самосудом голову срубили. — А мать самосудом судить не можом, пусть ее судит суд поднебесной. Посадили ее с собой на ковер-самолет и понеслись. — Што, мать, видишь? — Вижу землю и людей… — Страшно тебе? — Страшно. — А не было страшно детей убивать? Признялись ешшо в вышность. — Што, мать, видишь? — Вижу землю и церкви божиї. — Страшно тебе? — Страшно. — А не страшно было детей убивать? И ешшо выше признелись. — Ну, што, мать, страшно тебе? — Страшно. — А не страшно было детей убивать? Тут мать мертва с ковра-самолета пала.Дед кончил, и Московка сказала: — Фу, какая тяжелая сказка! Та нам, дедушко, лучше спой про какую-ле боhатырскую мать! Вот мы слушаем! И Московка стала ждать, что Кулоянин запоет старинку про мать Дюка Степановича, богатейшую и чудеснейшую хозяйку на свете, или про Омельфу Тимофевну, но старик стал рассказывать сказку.
36. Иван Запечельник и богатырица
Слушайте-послуша те, своїх жон вы не спушшайте, вы будете спушшать — мы будем подчишшать, — это любо-ли вам будет? Жил да был царь Картауз, и у его было три сына — Василей, Федор да Иван-Запечельник. Как царь Картауз тридцать лет не вояевился, захотелось ему в цисто поле-широко раздолье самого себя показать и людей посмотрять. Вот пошел он на конюшон двор, выбирал сера коня на яблоках. Вуздал во уздилицю тосмяную, накладывал седелышко зеркальцято. Выехал на цисто поле. Ехал день до вецеру, красна солнышка до закату и наехал на ископыть, што по колен конь нозьми увяз. — Ишь, говорит, кака невежа гуляет! И поехал в сугон по етой ископыти. Едет день до вечеру — красна солнышка до закату — наежжат на бел-полотенен шатёр. И стоїт конь. Он и поставил своего сера коня к тому коню бело-ярову пшеницу зобать, — который которого перебьет. Если егов конь перебьет, так и он того боhатыря осилит. А тот конь егова коня не допустил. Заходит он в бел-полотенен шатёр, а там разметавши девица-боhатырица. «Сонного бить, што мертвого»: и повалился с ей рядом. Ета девица-боhатырица, проснуашись — очень ей ето обидно показалось. Очень обидно показавшисе и стала еhо бранить. — Што-жа ты без докладу зашел да повалилсе? — А што-жа тебе ето вредно так показалось? Если ето тебе вредно показалось, так разъедемсе на три прыска лошадиных. Сели они на коней, заскакивали на три прыска лошадиных. Брали они палицы буевые, копия долгомерныя, сабельки вострыя — съежжалися по три раза, палицы буевые поломали, копья-сабельки пошшербали, — не могли вышибитьсе. Нечем стало їм на добрых конях распрыскиваться. Соскоцили они со добрых коней и хваталисе в охабоцьку. И возилисе трої сутоцьки. Царь Картауз выходивши из силоцьки, стала она коленкой на белы груди, стала растегивать латы буевые, хотела пороть груди белые, хотела смотреть ретиво серьцë. Царь Картауз и взмолился: — Есь у меня трої детоцек — не растегнвай ты латы буевые, не скрывай белы груди, — сделай надо мной каку надметинку. Не стала она растегивать латы буевые и сделала надметинку: выкопала глаза и положила за праву шшоку. Посадила его на коня: — Ну, вези своеhо овсяного снопа! И ткнула коня под жопу. Приехал царь Картауз домой. Увидали из окна косявсято-го еhо дети Федор да Василей, побежали на стрету: — Здраствуй, родный папенька, чеhо ты делал, чеhо ты гулял, здорово ты ездил, здорово видал? И увидали ети дети, што у его глаза выкопаны. И царь Картауз рассказал їм про девицу-боhатырицу. И ети дети Федор да Василей сицяс выбирали сибе добрых коней, брали востры сабли, копья долгомерны и поехали всугон за девицей, за боhатырицей. И три hода им воротяты не было. Приходил тут к отцу младший сын Иван-дурацек, стал просить блаословления ехать по цисто поле: — Дай-ко мне блаословленьице с буйной головы до резвых ног ехать во цисто поле поискать етой девицы-боhатырицы, да не наеду-ли моїх брателков. — Ой, дитя, да ты ешьчо глупешенько, да ты малешенько. Братья твої уехали, да вот три года їм воротяты нет… А Иван не оступаїтце: — Блаословишь — поеду, и не блаословишь — поеду! — Ну, дай я тебя оммеряю руками. Оммерил его: Иванушка не тонок, не толст — два аршина толшины. — Ну, по своему корпусу можешь ехать! Блаословил его с буйной головы до резвых ног. Взял востру сабельку, копье долгомерное и выбрал коня по плецю. Конь заскакивал через стены городовые, запрыгивал через реки текуцие, выехал он, как-бы на почтовую дорогу. Едет он день до вечера, красна солнышка до заката, никто ему не стрецяїтся: ни птица летущая, ни зверь текущий, ни славные боhатыри. Приезжает он к двум поворотам — стоїт столб, и на столбу написано: «Вправу руку самово себя спасать, коня потерять; влеву руку коня спасать, самово себя потерять». Два поворота хорошия! Ну, надо же самово себя показать. И поехал вправу руку. И вот наехал он: стоїт дом под золотом. Он колонулса во кольцо. Вышла к ему красавица. — Што ты, бестия, на пустом месте? Занимается на станции! Она стала вестей спрашивать. — Ты у меня поспрашивай! Я — от тебя! Раньше покорми, напої, спать повали, потом вестей спрашивай! Она напоїла, накормила его, повела во спаленку. Там кроватка вся на пружинках. — Вались к стенки! Он был целовек смекалистой. — Нет, ты вались! Толконул ее, она с кроватки прогрязла. Там шум, гам: она улетела в глубокую яму, и там разорвали ее на мелки куски. Он над ямой наклонилсе, скрыцял: — Хто там? — Довольно нас: тридцать три молодця привезёны! — А нет-ли здесь моїх брателков, царя Картауза сыновей? — Есь, есь! — О, вояки! Добро воевали — в каку ловушку попали! Как я вас буду теперь выручать? — Вырежь у коровы ремень, на конце сделай мор (?). Он взял ето в ум: хлоп кулаком — корова повернулась (тут корова была на станции), снял кожу, скружил кожу в ординарный ремень, кроватку сметал проць, ремень спустил. — Хватил-ли? — Хватил, хватил! — Заберет-ли нет у вас силы по ремню лезть? — Да мы выветрены, не порато питаемся. Ну, он стал їх по одному таскать и таскать, всех выволочил. Корову сварили. — Порато не обжоривайтесь. Ну, ету корову съевши, дом сожгли, всяк себе скрыцял добра коня. Иван-царевич братьев отправил домой отдыхать, а сам поехал дальше. Ехал близко-ли, далеко-ли, низко-ли, высоко-ли, видит стоит избушка. — Избушка поворотне к лесу шарами, ко мне воротами. Избушка поворотилась. Он взошел на крыльцë, поколотился в кольцë, — вышла к ему распрестарая старая старуха. — Вот бестия на пустом месте: какие старухи на станциях служат! Старуха его напоїла, накормила, стала вестей спрашивать. — Куда путь держишь? Он сказал. — Ну, ложись спать, утро вечера мудренея. Поутру Иван-царевич говорит: — Бабушка, предоставиь свою буйну голову к моїм могутным плецям, направь меня на ум-разум. — Много молодцев проежживало, да не столь много вежливо говаривало! Возьми, дитятко, моего худа коня, оставь мне своего добра коня. На обратном пути пригодитсе, а теперь довезет тебя конь до моей сестры. Он сел на ее худа коня: перчатку обронил, говорит коню: — Стой! Перчатку обронил! А конь отвечает: — В кою пору ты говорил, я уж двести верст проскакал. Как сказал, так и делом: доскакали, — стоїт избушка. Он ее омолитвовал, в избушки аминь отдало. Выходивши распрестарая старуха. — О, какие развезены старухи на станциях! Бабушка его напоїла, накормила и распросила. — Предоставь свою буйну голову к моїм могутным плечам, наставь на путь истинной. — Много молодцев проежживало, да не столь много вежливо говаривало. Ложись-ко спать, поутру будем путь-дорожка смекать. Поутру она говорит ему: — Возьми моего худа коня, оставь своего добра коня, ето в обратном пути все тебе пригодитсе. Он севши на коня, шапку оборонивши: «стой!» А конь ему провешьчалсе: — В кою пору говорил, я — триста верст проскакал, да за каждой вещью будем ворочатьсе, дак тоhда дорога не скоро коротаетсе. Ехавши день до вечера, красна солнышка до закату, опять приехали: избушка стоїт и выходит на крыльце распрестарая старуха. — Все одны старухи на станциях! Старуха его напоїла, накормила, стала вестей спрашивать. — Куда путь держишь? Иван-царевич рассказавши, как девиця боhатырица отцу глаза выкопала, говоривши: — Я ето дело роспытать хочу. — О! глубоко загачиваш. Однако постараїмсе. Ложись-ка спать, поутру станем путь-дороженька смекать. Поутру она говоривши ему: — Одень мой прежней китайник с бантами и я тебя перекрашу, как себя. Дам котка-баюнка: приедешь к дому осударскому, к палатам белокаменным, теми-же воротами заежживай в крепосную ограду, што и я. Бродовою ступью штоб лошадь шла до того столба, hде я своего коня везала. У ворот привратники, у дверей придверники, ты кланетьсе кланейсе, а рецей не говори, штоб по реци тебя не признали. Вот Иван-царевич приезжат, идет в палаты белокаменны, его приворотники, придверники окликают. — А, бабушка наехала, давно не бывала. Он голову клонит, а реци не говорит. Отворивши, заходивши во светлую светлицю, там спит-храпит девица-боhатыриця боhатырьским сном, убившись из поездочьки своей боhатырьское. Он вытащил из-за шшоки глаза: «Отхожу ее своим пером меж ногами!» Она разметавши лежит и он подписавши на лбу: «Я твоїм колодцем коня напоїл да и колодця не закрыл». И тут же зацерпнул воды живой и мертвой. После ефтой бытности сел на добра коня и хотел скакать через ограду. Конь провешшался: — Ой, Иван-царевич, не заскакивай, мне не унести тебя, не понесут меня резвы ноги. Не поверевши етого, ударил Иван-царевич по тухлым ребрам. Конь одним копытом задел за стены городовые. Струны зазвенели, боhатыриця проснуласе. Чует как ей што-то неловко… — Ох, кака невежа паласе, каку-то подлог сделала. И увидавши в зеркало, написано у ей на лобу: «За твої насмешки отсмиялисе обратно». Вот она выбиравши коня, которого ярчей, бойчей не было и отправлявшись в сугон. Доехавши до старухи, спросивши: — Хто такой, не проежжавши-ли здесь? — Да какая-то упадь нимо ползла. Едва, едва коняшка ноги переставлял, да ты оддохни, догонишь, поспешь. — Што-то я как больня случилась с такого разгару. — Не желашь-ли баенку? — Да охота-бы. Старуха сейчас байну топить, дрова мозгляшши, худяшши, баенка тышкается. — Мне-ка потереться охота. Старуха трет, все время длит: ручушки стали слабы. Отпарилась в етой баенки, нать сугоном ехать. Приехала к другой старухи. — Не проежжал-ли хто? — Какой-то бродяга ехал, едва лошаденка брела. А ета втора старуха дала ему кремешок: «Брось и скажи: была года землена, сделайсе кременна!» Третья старуха дас огнивце: «Будет тебя нарыскивать, напыскивать, ты брось». Вот она едет: в том боку катышок, и в том боку катышок (Шура ухлопаласъ, угорела от сказки. Так пожалуй, возможно) ехать скоро не может. Доехала до третьей старухи, стала вестей спрашивать. — Да какая-то шантрапашка проежжала, лошаденка едва плелась. Ты не гони порато и так догонишь. Тут серьце раскипевши, полетевши в сугон, а Иван был успешен, бросил кремешок и стала кременна гора. Туточка она кричавши ему: — Сойдемся по согласию: я тебя не бить, не дуть не стану! Упросить, умолить не могла. — Коhда так, я вернусь за пильшиками, за долотниками. Съездила за пильшиками, за долотниками, они сделали проезд. Вот она состигат, а Иван-царевич, сменивши у третьей старухи своего добра коня, скрыцял ему: бежи, да не подпинай-се, и бросил огнивцë. Загорело, запылало, пылом, оhнем. Боhатыриця наехавши. — Укроти реку оhненну. Я за тебя иду взамужесьво, буду покорна, винна, и починна во всякой бытности. Ведь ты засе-ел два отрока. — Ха-а. Забыла? X… ночевал, пошшупай-ко! Ета шуточь-ка отшутиласе. Тут она раскипеласе, захлопала в дол они. — По весны красные будешь во белых моїх руках! — Рано рыцишь: не заваривано. Коhда попаду, тоhда рыци. Разъехались на Дунай реки. И стоїт Иван-царевич разъехавшись на Дунай реки. Приежжавши к отцю родителю и заходивши в спальню, в которой отець спавши при койки. Бравши за шею и сажавши на крутую жопу, давай глаза вставлять. Потом спрыснувши мертвой и живой водой. Загледели глаза по старому. Царь Картауз возрадовавшись любимому сыну. — Чеhо ты, дитятко, желаешь? Не желаешь-ли на царьсво сесть? — Желаю пить, шуметь по кабакам, по трактирам. Запьюсь, загуляюсь и штоб денег с меня не брать. Вот царь спустил его пить и гулять. А в то время три корабля военных без всякого докладу зашли и на пристань трое сукна разостлали: желто, голубо и сине. Царь поутру из косявшата окошечка смотрит: — Што за невежа случиласе, военного положения не открывает. Вот старший сын пошел. Ети отроки говорят: — Маменька, не ето-ли наш папенька? — Нет. Василей на корапь зашел, ему вичьем жопу так нахлопали. Федор пришел. — Маменька, не етот-ли наш папенька? — Нет, не тот, да и не та поступь. Етого тоже отречькали: — Ступай, овсяной сноп! Доброй ты боhатырь, не пошто тебе и ходить, не до тоhо дела касатьсе. Царь Картауз говорит: — Ну, надо найти Ивана-дурака. Пускай сделает розыск, он ето дело расположит. Розыскали Ивана в кабаке, поднесли ему чару в полведра: «так и так, кака-то невежа стоїт на пристани, военного положения не открывает, не знаем, што и делать?» Иван принимавши чару единой рукой, выпивавши единым духом легохонько. Поднесли ему втору чару и третью. У него резвы ножки да затопталисе, черны глазыньки помутилисе, серце раскипело, на пристань побежал, все сукна вырвал и разметал. — Желаете воєнно положенье открывать?! Она улешшивать, уговаривать: — Не слышим твоей речи, заходи на корабь побеседовать. Он зашол, там разненьких наливок, летёры и ромы направили на него. И поддали к тому-же сонных капель. Он заспал, а она удиравши по синю морю к своему месту. Поутру Иван-царевич расширил свої глазочьки: — Ой, пропала моя головушка! — Не пропала, а в те руки попала, што отхлопали… Чюхарь говорил «пропал, пропал», как в сило попал; ты два отрока засеял, їм бесчесно без отця. Приедем по тихой поветери, примем закон божий, я тебе буду повинна и починна. И покатилась ко венчанью. Пирком-челком да и за свадебкой. После ефтой бытности был у їх три года пир, я там был, три года в гнезде жил. Вино по усам лилось, мне-ка в рот не попало. Не осудите, господа!Сказка кончилась, и Скоморох привязался: — Тебя просили нашшот матери, а ты про Ивана-Запецельника. Где жа тут мать? — А боhатырша? Она могла Ивана, как червяка раздавить, а однако-жа смирена сделалась, из-за отроков. Отца їм доспела. Нет, не говори. Очень даже хороша мать. Сама правильна. — Конешно, конешно, — отозвалась Московка, — а што ты тако вяжешь? В ум не возьму. — А нёвод. — Какой-же нёвод? Живо так вяжешь и маленькое што-то. — Гледи. Вот крылья будут, вот рымпалы, а вот я уж начал матицу вывязывать. Ето внучкам. Пусть в полої тешатся. У нас как вода падёт, все полої остаютсе. Пусть їм на потеху. Мир был заключен. И Московка перевела глаза на Печорца. — Федосей Павлиныч, што же вы-то ничего не скажете? — Сей минутой готов! Да только сказка моя очень даже обыкновенна. Ведь уж слыхали не раз… — Все равно. И Печорец завел любимейшую на Севере сказку.
37. Безручка
Мать помирала, двоїх детоцек оставляла: мальцика и девушку; детям наказывала, штоб жили советно и штоб брат сестры всегда слушалсе. Дети выросли хороши, жили советно. Брат стал торговать. И торговля пошла на эту девушку… дак не говори! Брат женился, а его жонка завидела эту золовку: брат в лавку пойдет, спроситсе у сестры, из лавки придет здоровается. Это жены любо-ле? Вот она подколола быка, а мужу насказала: — Вот сестра твоя одичяла: быка подколола! Пошто ты ей дёржиш? А муж рассмехнулся: — Вместе наживали, вместе и проживаем. И все так же: в лавку куда-ле уйдет, — сестры спросится; придет — с ей здороватсе. Жонка опеть зарезала коня любимого и опеть мужу: — Твою сестру гнать надо. Совсем дика! Твоего любимого коня зарезала! Ему коня жалко и сестры жалко. Смолчял. Тут жена родила ему, и дитë не пожалела: взела в зыбке младеня подколола, а мужу говорит: — Доколе будем дику дёржать? Ведь совсем дика сестра твоя! Ей убить надо: младеня твоего подколола. Тут уж его живот. Не стерпел и говорит сестры: — Скинавай цветно платьё, надевай цёрно платьё! Взял топор, колодку и повез сестру в лес. Она змолилась: — Брателко! Не убивай меня! Отсеки у меня руки по локот! Брат убивать не стал, отсек ей руки и бросил в лесу. Не осподь знает сколько времë прошло; ходит она —Низко-ле, высоко-ле,
Близко-ле, далеко-ле,
Солнцем пекёт,
Дожжем секёт,
Сказка эта, как всегда, заставила притихнуть ребят; они были в полном восхищении: у многих навернулись на глаза слезы. Наконец Печорец произнес: — А теперь я для ребят расскажу про мачеху. И он начал.
38. Падчерица и дочи
У хресьянина была доци. Как у его жона померла, он жонился опеть, а жонка опеть девку принесла. Вот мати свою то девку любит, а падчерицу со свету сводит. — Напреди, курва, моток! Полощи, курва, моток! Она моток напрела и пошла полоскать. Моток-от в пролубь уронила и сама туда спустилась. Видит — стоят коровушки: — Красная девушка, подпаши под нами, подгреби под нами! Она подпахала-подгребла, поклонилась и пошла. Опеть видит — стоят кони: — Красная девушка, подпаши под нами, подгреби под нами! Она подпахала-подгребла, поклонилась и пошла. Опеть видит — стоят козла. — Красная девушка, подпаши под нами, подгреби под нами! Она подпахала-подгребла, поклонилась и пошла. Опеть видит — стоят олешки: — Красная девушка, подпаши под нами, подгреби под нами. Она подпахала-подгребла, поклонилась и пошла. Опеть видит — стоят овецьки: — Красная девушка, подпаши под нами, подгреби под нами. Она подпахала-подгребла, поклонилась и пошла. Шла-шла и вешальця нашла. Видит стоїт избушка на курьїх ножках, об одном окошки. Вот она в избушку вошла, видит бабушка живет. Она бабушке и говорит: — Бабушка, я мотоцик уронила. — Дитятко, говорит, на вешальцях возьми. Ишо говорит: — Истопи у меня баенку, да вымой у меня детоцек. Она побежала, баенку истопила. — Бабушка, говорит, дай чем вода носить. — На, говорит, решето! А чего решетом наносишь?!.. Летит птицька: — Девушка, тилкой, да гнилкой! Тилкой, да гнилкой! Она гнилкой то решето замазала и воды наносила. — Дай, бабушка, говорит, детоцек. Она поклала мышов, да кротов, да крысов. — На, говорит, иди вымой детоцек. Вот она скалала їх в решето и пошла мыть. Как из байны-то пришли, детоцьки и говорят: — Мамушка, мамушка, ты нас так навеку не мывала, — она у нас кажной перстышек вымыла. Вот она ей золота лукошецько наклала, да и мотоцик отдала ей. Девушка и домой пошла. Видит опять стоят овецьки: — Красная девушка, подпаши под нами, подгреби под нами. Она подпахала-подгребла, поклонилась и пошла. Они дали ей овецьку с егненком. Опеть стоят кони. — Красная девушка, подпаши под нами, подгреби под нами. Она подпахала-подгребла, поклонилась и пошла. Дали ей кобылу с жеребенком. Видит опеть стоят олешки. Те дали ей важенку с теленком. Опять стоят козла. Дали ей козу с козленком. Опеть стоят коровы. Еще дали ей корову с теленком. Вот она и погнала стадо домой и татушки отдала. А мачеха-та была завидна и говорит дочери: — Напреди, Маша, моток. Маша моток напрела и полоскать пошла. Моток в пролубь уронила и сама туда спустилась. Видит — стоят коровушки: — Красная девушка, подпаши под нами, подгреби под нами. Она: — Насеру — присеру вам! И дальше побежала. Опеть видит — стоят кони, опеть козлы, опеть олешки, опеть овецьки: — Красная девушка, подпаши под нами, подгреби под нами. — Насеру-присеру! Не взглянула, мимо пробежала. Прибежала к избушки, схватила мотоцик с вешальця и в избу забежала. Бабушка ей говорит: — Девушка, истопи баенку! Она баенку затопила и говорит: — Чем тебе вода носить? — На, говорит, решето. Вот идет она вода носить — летит птицька: — Девушка, тилкой, да гнилкой. Тилкой, да гнилкой. — Кол тебе в пасть, говорит. — Поди, говорит ей бабушка, вымой, девушка, детоцек. И наклала ей мышов, да кротов. Она и оборвала у нового ножку, у нового ручьку. Те давай жалитьсе мати: — Мамушка, мамушка, у нас, говорят, мыла — у нового ножку, у нового руцьку оборвала! Плацют. — У, знай так! Она в лукошецько наклала ей уголья живого. — Поди, говорит, с матерью дели в соломы, тут в лукошецьке, говорит, серебро накладено. Вот она и пошла домой. Видит стоят козла: — Красная девушка, подпаши под нами, подгреби под нами. Нимо пробежала, всех нимо. Вот она из пролубы и вышла. Ницего с собой не принесла, только лукошецько с угольем. — Мама, иди, говорит, делить на солому. Стали она делить, отворили лукошко, — пыло выскоцило, солома загорела, и сами они сгорели.Все знали, что настала очередь Скомороха, а потому заранее начали улыбаться. Глядя в упор на ребят и как будто рассказывая только для них, Скоморох заметил: — Бывают и глупы матери. И начал.
39. Дороня
Жили старуха и старик. У їх был сыночек — Доронюшка. У їх были гряды, — там лучина, поленья лежали, а сынок под грядами сидит, играет: увидала мать и заревела. Старик пришел, а старуха разливается-ревет. — Чего ты? — Ох, сидит Доронюшка играет, а я посмотрела: упадет, думаю, поленье, зашибет головку, и нет Доронюшки. Не видать нам внуцятоцек… И старик заревел. А Дороня уж на возрасти был, двенадцать годов было, не стерпел: — Пойду же по белу свету искать, есть ли хто умняе моїх стариков. Встал и пошел. Пошел искать умняе и видит, мужики корову на байну тянут: там трава выросла. — Што вы делаете? — Хотим траву коровы скормить. Он траву скосил да коровы кинул. Мужики рты разинули и в затылки почесали. Дале пошел, видит: жонка, мужик да парень троїма гоняют лошадь в хомут вицьём и кольем. Он взял хомут да на лошадь надел. Анделы, они ему награду: экой ты доумелся! Пошел вперед, видит: дом высокой, старинной. На звозе веснут штаны белы. Баба крыцит: — Скоци, попади в штаны! А мужик скацет, попасть не можот. — Што ты, дяденька, муциссе? — В штаны не могу попасть. Как не попадешь, носи грязны. Дороня подал ему штаны. Нет уж, видно, мої родители умняе. И пошол домой обратно. Вот жил-пожил Дороня да и помер. Родители все его жалели, все Доронюшку поминали. Вот старуха одна сидит дома, окошечко поло; видит идет нимо служимой домой на побывку, она и скрыцяла: — Откуда, милостивець? — С того света выходець! — Ой, заходи, не видал-ли нашего Доронюшку? — Видал. Ваш Дороня на небе боронит. Наг, худ, оборвался, лошаденка худа, шубы нет… — Ой, не возьмешь ли цего у нас для Дорони? — Отцего не взеть? Возму! Старуха шубу самолучшу подала, коня самолучшего вывела. — Не возьмешь-ле муки, крупы? — Давай! Она ему всего подала, портна трубу подала. — А сапоги? — Да худяшши! Она сапоги новы подала. Служимой сел на коня, все забрал да и… махнул! Старик возврашшатсе. Старуха ему: — Старик! Хто у нас был? С того света выходець. Нашего Доронюшку видал. Наш Дороня на небе боронит! Наг, худ, оборвалсе, шубы нет, лошаденка худяшша, сапоги розны… Я ему всего дала: коня самолучшего, шубу самолучшу, муки-крупы, портна трубу подала, сапоги новы… — Ах ты!.. Давай старуху школить! Ну, што-ж? Што со старухой поделаш? Так ницего и не поделал.Еще не затих ребячий смех, как Скоморох снова рассказывал.
40. Дурень
Пошол дурень, да пошол барин в лес лесовати да круги занимати. Идёт поп. Он ему: «Босько-усь, босько-усь!» Поп его начал тросью колотить. Пришол домой: — Мати, тут меня били, да тут колотили! — Што эко, дурень, сделал? — Да што? Поп шол, я ему: усь-усь! Он почял меня тросью колотить… — Экой ты дикой, дурень! Ты бы в ноги пал: бачько, бла-ослови! — То я, мати, завтра! Пошол дурень, пошол барин… Навстречу-то дурню идет медведь. Он пал ему в ноги: — Бачько, блаослови! Медведь начал его тяпать… Он пришол домой. — Мати, тут меня били, тут колотили. — Што эко, дурень, сделал? — Да што? Медведь шол, — я ему в ноги пал: бачько, баослови! А он меня затяпал. — Экой он дикой, уж уити-ле от него? Ты бы в ель колотил: босько-усь, босько-усь! — То я, мати, завтра. Пошол дурень, да пошол барин в лес лесовати да круги занимати. Едет свадьба. Он в ель колотит: «босько-усь, босько-усь!» Конь у їх испугался, побежал, все растрепал у їх. Его почали бить-колотить. Он опеть пришол: — Мати! Тут меня били, тут колотили… — Што эко, дурень, сделал? — Едет свадьба, я кричял, в ель колотил, конь испугался їх… — Экой ты дурень! Ты бы молился: «Дай боh вам на житьё-бытьё на боhачесьво», они бы тебя не выбили. — То я, мати, завтра. Пошол дурень, пошол барин в лес лесовати да круги занимати. Покойника везут. А он їм крычит: — Дай вам боh на житьё-бытьё, на боhачесьво! Почали его бить, колотить, всего выбили. Он домой пришол: — Мати, мати, мати! То-то меня били, то-то колотили… — Што эко, дурень, сделал? — Покойника везли, я скрычял: «Дай вам боh на житьё-бытьё, на боhачесьво…» — Экой ты дурень! Ты бы молился: «Упокой, hосподи, душу усопших рабов твоїх». — То я, мати, завтра! Пошол дурень, пошол барин в лес лесовати, круги занимати. Едут, котора свадьба ехала, едут на госьбу угошшаться. Он молитця: — Упокой, hосподи, душу усопших рабов твоїх… Его почяли бить, почяли колотить… У їх конь бросилсе, испугалсе, все выпружил: пироги да подушку. Он все собрал, домой пришол. — Мати, тоhда меня били, сегодня подарили! Не можно с їм больша жить. Хочет убежать. Сухарей насушила мешок и поставила за ворота: как его нет, бежать штоб ей. Этот дурень наперед матери пришол, посмотрел в мешок, сухарьки вытрехнул, в мешок сел, сам завезался. Мати пришла, посмотрела: ниhде нету его, — схватить кашолка… бежать! Схватила кашолку, потрепала… Бежит с кашолкой с сухарьками (мать, видно, тоже не остра была у ево). Бежала, бежала… Сесть на пенек да съесть сухарёк, дак полехче бежать… Он в мешки кричит: «Я, мати, хочю-жа!» — Ах, он где-то видит меня. Она опять на убег побежала. Бежала, бежала… тошно їсть захотела… Только за мешок, а он: — Я, мати, хочю-жа! — Осподи, осподи, ишша видит меня! Бежать! Бежала, бежала… — Хочь видит, хочь не видит — я закусывать буду. Села под елушку, развезала мешочек сухарьков поїсть, — он в мешки сидит. — Што ты, дикой, наделал, ни одново сухарька не оставил! Я тошно їсть хочю! — Я тожа хочю. Вот и тёмно стало. — Зверьё ходит, съедят нас. Поедем на ель ночевать. Дурень говорит: — Поедем, мати, на ель. Мати говорит: — Я тошно їсть хочю, мне и не залезть. — Полезай, мати, я по жопе пехать стану. Ну, и полезли на ель. Мати лезе, он пеха. Там уселись на ель. Шли разбойники: под ту ель сели деньги читать. А он там видит їх. Он говорит: — Я мати, закрычю! — Што ты, дикой, ведь убьют нас… — Нет уж закрычю! И закрычал: — Я вас убью-ю! И они испугались. — Ой, сам Исус Христос крычит! Побежали, испугались, всех денег оступились. Вот они тут слезли, денег поклали, домой пошли.Конечно, в тот день и трапезничали, и отдыхали, и узнавали насчет парохода. Уже не «радиосарафан», а настоящий телеграф принес известие, что пароход добрался благополучно до Суры и выходит вниз. И когда уже в поздний час все улеглись, Московка закричала: — Товаришши, Трудовая Республика! Придумайте на завтра сказки о труде. Скоморох не замедлил ответить: — К примеру, как я преду, как квашню развожу, как на медведя хожу… Да што же я сдуру сегодня рассказал! Мне бы завтра! Московка отвечала: — Ничего, на завтра ишшо каки-ле прибереш! Кулоянин заворчал: — Да што на них угомона нет! Спать не дают! Убай ты їх, молодка! В это время молодка, что-то мурлыкавшая своему ребенку, запела нежней и более четко, или это так казалось, оттого что наступила тишина.
Баю-баюшки баю,
Да уж Колюшку лю-лю,
Ходит сон по окон,
Бродит дрёма
Возле дома.
Как у Коли колубель
Во высоком терему,
Во высоком терему,
Да на тонком очепу.
Кольца-пробойца
Серебреные,
Положочек золотой камки.
В изголовьях куны,
А в ногах соболи,
Соболи убают,
Куны усыпят.
День пятый. Сказки о труде
Он засиял чистым небом, ясным солнцем, зазвенел щебетом птиц и радостной вестью, принесенной посетителями из волости: пароход пришел в Карпову Гору, поджидает посадки какой-то экспедиции и сегодня обязательно до заката придет сюда. Московка всякими разговорами задержалась в кулуарах и, когда пришла на свое обычное место, заседание было в полном ходу, а Помор был выразителем общественного смущения. — Ну, и загонула ты нам, Московка, загодку! Каки таки сказки нашчот труда? Век трудимся, а век не слыхали. Не живут! Не быват! — Как не быват? Может волшебны: кто-ле помогает или мешает, кто-ле работает, а другой смиется, кто-ле с умом, а новой без ума. Скоморох ввернул:Фалилей, Фалилей,
Навалил в поле елей,
Пришол к жонки спрашивать,
Куда елки снашивать?
Ты, дурак, не спрашивай,
Навалил, дак снашивай!
41. Гордая царевна
Я вам про государя одново расскажу. У нево в молодых годах супруга умерла и сына оставила лет двух. Можно бы и жениться ему, да он не мечтал. И дорос сын Ваня до семнадцати годов. Тут опять министры к императору подступили: ваше императорское величество, вам бы женитьса. — Я не прочь. И стали присылать ему партреты разных там и княжеских, и королевских, и царских дочерей. И были все эти партреты заключены в громадну рамку и задернуты занавесом зеленово атласа. Однажды император уехал на охоту, а прынц Ваня ходит по дворцу и зашел в императорску спальну. — Ах, у папаши спальна роскошно убрана! И лег на кровать. И видит зеленово атласа занавеса. Он ей оддернул. В большом формате громаднейша рамка и там партреты. И одна красавица очень ему полюбилась. Коhда император вернулса с охоты, сын говорит ему: — Папаша, я женитьса хочу. — Што ты, Ваня, не молод ли, ведь у тебя и усов не видать? — Нет, папаша, я решил. — Ну, а естли решил, может и невесту выбрал? — Да, папаша, я выбрал. — Хто же? — А вот. И показывает партрет. — Ах, вот што ты у меня подсмотрел. Я ведь и сам на ней думал женитьса. Ну, я уж сыну уважаю. Ну, вот, и пишут письмо свадебно. В те времена телеграмм не было, почта из одной державы в другую, не знаю сколько, может тридцать дëн ходила, — так курьера посылали. Ну и на сей раз послали одново господина, не из простых, а высокопоставленново полковника. Император сказал ему: — Ты обрати внимание, как тебя принимать станут, почтение все помни, ты нам передай. Полковник отправилса. Император иностранной державы принел ево великолепно; угошшенье предлагает. Полковник отвечает: — Я должен исполнить порученье, а потом уж угошшение. Мой император хочет своево сына женить на вашей дочери. — Ах, я очень доволен, очень рад, я вашево императора уважаю, но извините, без согласия дочери не могу, должен ее спросить. — Да, уж это, пожалуйста. Император позвал дочь. — Вот, говорит, соседний государь просит тебя за своего сына: согласна ты или нет? — Я слыхала, што эта держава боhата и войсками сильна, но извините, я должна раньше видеть хоть партрет. — А у полковника был с собой партрет прынца в красках. И надо то заметить, красивой был прынц, но бледной, малокровой. Она посмотрела. — Ах, говорит, какой бледной, как белая береза! Бросила и наплевала на партрет. Полковник поднял партрет; што было у нево краски в крови, вся в лицо выскочила. И уехал. После ево уезда император дочери говорит: — Што ты наделала, ведь теперь война будет! — А не хочу за белу печальну березу итти. Тпфу! Она, знашь, девки ветрены. Полковник отрапартовал все своему императору: партрет на пол бросила, плюнула, «не хочу, говорит, за белу печальну березу итти». Старой государь разгоречилса. — Воевать! Собирать войска! А прынц говорит: — Папаша, стоїт-ли людей губить, кровь проливать из-за плевка каково-то? — Да она ведь на тебя плюнула! — Да што, не в мою харю плюнула, а на мой партрет. Я ей без войны возьму. Дайте мне два мильёна. Ну што императору для своево сына два мильёна? Он, разумеется, дал. Прынц призвал корабельнево мастера. — Эти мне корабли не годятса, надо мне новой системы. И огнестрельная оружия была тоhда плохая. Так новую потребовал. Корабельный мастер построїл корабли новой системы, и прынц нагрузил їх товаром. И каким товаром?! Все боле для дам да для девиц: фруктами и кустюмами новой формы. Все генералы поехали капитанами. Вот подъежжают они к иностранной державы, он їм заявляет: — От высшаво до нижнево чина все под коммерческим флагом. — Слушаем, ваше императорско высочество. — Меня по титулу не называть. Я купец Михайлов. — Слушаем, ваше степенсво! Ну, вот. Приехали в столичной там город. Ваня зафрахтовал несколько лавок и стал торговать. Молоды иностранны купцы наехали, торгуют прекрасныма матерьями, — уж и Дворцовы запохаживали горнишныя, потом и фрелины. Молодой хозеїн, два подручных (уже он видит по їх значкам, што фрелины) расшаркались, материї выложили прекрасныя, а дешево, ужасно дешево! Фрелины рассказали старшой фрелины и старшая фрелина поехала; вернулась довольна и докладыват императорской дочери. — Молоды иностранны купцы наехали, торгуют заграничныма матерьями, а дешево, ужасно дешево! — Што же, может товар краденой? — Не знаю,краденой или ворованной, а только дешево! На завтра императорска дочь поехала. И корета подъехала акурат к той магазины, где прынц. Ваня видит императорска корета, мигнул подручным, те расшаркнулись, выложили материй розовых, морей в клетку. А дешево, ужасно дешево! Фруктами угошшают. Ну, императорска дочь и фрелины много есть не стали, не просты девки; попробовали и ладно. Она не узнала прынца. Он был малокровой, а тут повлиял на нево морской воздух и климат здешной державы: он стал полнокровой и похорошел мушшина. Влюбилась она в купца. Стала каждой день к нему ездить. И до тово напосещалась, все бы в магазины жила. Што ей делать? Закон не гласит, штобы ей за купца вытти, не оддаст папаша. Все, што было на уми, она ему написала в письме (она горячая была) и подала ему вместе с деньгами (тут рашшот пришол). Он увидал письмо и хотел так ево в корман, а она ему: — Нет, уж вы постарайтесь прочитать и ответ дайте. А уж она всех фрелин услала к коретам посмотреть, штобы горнишныя материй не помяли. Они наедине. Он письмо прочел, а в письме коротко и ясно: «Естли желаете ко мне в гости ходить, то ройте подкоп, вы в своей магазины, я с своей стороны». Тут и плант приложен. — Ваше императорско высочество, да што мне за это будет, естли узнают? — Не беспокойтесь, нихто не узнат. Подряд надо делать тайно. — А естли полиция увидит? — Полиция будет слепа. Ну вот, и нанели они подрядчиков делать подкоп. Он с своей стороны, она с своей. Эти подрядчики между собой знакомы, встречаютса, разговаривают. — У тебя есть подряд? — Есть. — Выгодной? — Да, денех масса! Только куда копаемса? Не в ад-ли? А у тебя? Есть работа? — Есть. — Выгодна? — Да, очень выгодна. — А где? — Тайна. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делаетса, однако же скоре, чем наша поморска железна дорога. И на двадцать седьмой день (они немного не сошлись, так поларшина оставалось), голоса слышны уже за стенкой, вбежал к Ване подрядчик бледной, как печка. — Докопались до ада, черти слышны! — Ничево, пробивайте стенку, не черти! А тот отряд прибежал к ней: — Ваше императорско высочество, до ада докопались, черти слышны! — Это не черти, ваши знакомые. Фрелина, иди с ними, воодушеви їх. Ну, и действительно, пробили стенку: все знакомы. Подрядчики друг на друга смотрят: — Вот наша тайна и открылась. Коhда у них сошлось этот канал, императорска дочь и говорит отцу: — Папаша, нельзя-ли так сделать, штоб по таким-то и таким-то улицам после десети часов вечера не ездили (боїтся обвала). — А што, душа моя? — Да гром такой, не дает спать, голова болит. — Ах, это, душа моя, можно. И распорядилса, штобы с девети часов езды не было. И стали они друг к другу в гости ходить. Вот раз Ваня приходит такой кручинной, такой печальной. — Ваня, што с тобой, што с вами? — Ах, друг милой, ведь я проторговалса, а ведь ужасно как дешево вам материї продавал, я два мильёна потерял. — Ваня, да я сейчас тебе два мильёна вынесу. — Нет, честь моя все равно потеряна. Я домой поеду! — Ваня, а я как-же? — Вы дома, а мне надо ехать. Любовь все заставлят делать. — Ваня, я с тобой убегу! — Ну, я севодня спать хочу. А ты завтра будь готова. Я поеду горной дорогой, много вешшей с собой не бери, один кустюм с собой, другой получше, в случае под венец. Он нанел корету, маршрут весь записан. Они и убежали ночью. Бегут следующей день и следующую ночь. Он знает хорошо, што погоня будет, надо загримировать себя. Она сделалась девушкой-крестьянкой, он мужиком; взяли уж не корету, телёгу, едут. И действительно была погоня, їх же все спрашивали, не видали-ли кореты? Они ответили, што не видали. Ваня говорит: — Ну, вот видишь. Естли бы не переоделись, вас бы вернули, а меня бы арестовали. А знаешь што, друг мой, эта станция маленька, погода прекрасна, пойдем пешком, приберегем денех. — Ваня, да ведь я каково роду, где я пешком ходила? — Да ничево, попробуйте. Ну, действительно, не привышна ходить, ноги у ей опухли, замучилась. — Хоть тово дороже плати, пешком не пойду. — Нет, нет. А потом проехали несколько станций, он опять: «Погода прекрасна, станция коротенька, пройдемса пешком». А он депеши посылает своему отцу государю с каждой станции, и ответы получает, но ей не говорит. Наконец доплелись до столичново города. Ваня говорит: — У нас квартиры дороги, найдем у заставы. — Ваня, ведь у меня есть два мильёна с собой. — Это каки деньги, у нас все ужасно дорого: эти деньги надо на старость беречь, а теперь надо работы искать. Пошел он во дворец. Государь обрадовалса. — Ну, што, Ваня, как дела? Ваня рассказал. — Зачем ты ей томишь? Объяснись ей, што ты царской сын. — Нет, так надо, пусть не плюет на мою карточку. А теперь мне топор нужно достать. — Да зачем тебе топор? — Надо. Дали ему топор и корету подали. Ваня в кореты проехал полдороги, с собой берет топор, сошел с кучера, идет домой; пришел кручинной, сел и топор в руках держит. — Не мог ваканциї найти, так я уж нанелса дрова рубить. — Ваня, да у нас деньги есть. — Деньги надо беречь. У нас все дорого. Я и вам дело нашел: торговать горшками будете. Я вам купил десять тысяч горшков. — Ваня, да вы забыли, каково я роду. Я и торговать не умею. — Привыкнете, дело простое: там из парусинки сделана палаточка, девушка с вами будет, она будет продавать, вам денежки подавать, а вы будете в сумочку складывать, только и всево. Девушка вас проводит… И действительно. На другой день по уходу ево через полчаса пришла девушка из дворцовых горничных, образованная и повела ее. Идут, а впереди казак, сзади казак, полиция конная. Она и говорит: — Как у вас ходить не свободно. Между тем это охрана для ей: знают, што царска невеста идет. Пришли в палаточку, там десять тысяч горшков, девушка продает, ей денежки подает. Вдруг… только земля дрожит, прокатил полк кавалериї. Тр… р… р… Черепками не расторгуешьса: у нас все горшки купили по дешевой цены, надо домой итти. Приходит домой, рассказывает хозяйки, как было. — Естли бы вольны разбили, я бы подала прошение губернатору, но на щет императорской кавалериї не посмела. — Да я вам тоже не советую, ничево не выйдет. Ваня приходит, говорит: — Слышал, слышал я о вашем нешшастьї. Я купил вам балаган, двенадцать самоваров и посуду; сбитнем торговать будете. — Ваня, да што вы? Да ведь я каково роду? Я ведь непривышна. — Ничево, девушка вам поможет. На другой день опять пошла с ей девушка, привела в балаган: там самовары кипят, девушка сбитень наливает, торгует, ей денежки подавает. Вдруг пришел полк солдат. — Повзводно! Заходи взвод! Выпивай сбитню! Сбитню! — Нету. — А нету? Бей посуду, ломай самовары! Чинно, благородно побили всю посуду. — Чорт с їм с ломом, пойдем домой! Приходят. Ваня уже там. — Слышал, слышал о вашем нешшастьї. Ну, я вам другое занятие нашел. Во дворце ишшут прачку, непременно иностранку. — Ваня, што вы? Да ты забыл, каково я роду?! Да я непривышна, я и не умею. — Неужели? А я сдуру нахвалил вас. Ну, как-нибудь привыкните. На другое утро пришел уже мушшина, прилично одетый, повел ей во дворец. Она идет и думат: — Да, было время: из этого дворца прынц на мне сваталса, а я на ево партрет наплевала, а теперь мне приходитса на ево стирать. Привели ей на белу кухню, посадили на диванчик отдыхать. — Я, говорит, прачка, стирать пришла. — Да, ничево, посидите, отдохните. И отдыхала она полтора часа. Наконец идет горнишна и несет манишку, воротничек и зарукавье на серебряном подносе: прынц просит выстирать. Дали ей таз с теплой водой, мыло. Принелась она бедна стирать. Не умеет. Сама полокот перемокла, ну, што, действительно никовда… — Позвольте, я, говорит, горнишна. Сейчас это взела, перестирала, выгладила, на поднос сложила… — Пожалуйста, несите. — Вы стирали, вы и несите. — Нет, прынц просил, штобы вы сами. Пошла она бедна, боїтса этово прынца, так у ей ноги и подъежжают. Одно думат: вот-вот в обморок меня бросит… А Ваня уже тут лежит на диване, прикрыт шелковым летним одеялом и газетой закрылса. Голос изменил. — Кто тут? — Прачка. — А, прачка. И сто рублей ей на поднос положил. Пришла она домой, Ваня уж там, доволен, што прынц сто рублей дал. — Ну, вот и пошел живот на отворот! К вечеру вдруг из дворца за нею: во дворце празник будет, пир. Велено всем приходить. Ваня ей и говорит: — Вы, ваше императорско высочество, привыкли во дворцах бывать, а я никоhда не был, принесите мне грушу, да две конфеты. — Ваня, да што ты! Как это можно? — Ничево, все так делают; спустите незаметно в корман. И приметал ей корман к платью на живу нитку. Приходит она во дворец. Думала, где-нибудь у стенки стоять будет — нет: ей на перво место сажают, напротив прынца. Она взглянула. — Ах, на Ваню как похож! И не смела больше глядеть, только думат, как бы для Вани грушу да две конфеты унести. И спустила в корман незаметно. Оркестр заиграл. И эх, пары вальса! Министры подступили к прынцу. — Што же вы не танцуете, ваше императорско высочесво? — Пары нет. А впрочем, естли позволите… И к ей. Ну, она повинуетса, бедна. Но это она умет. Танцовать она умет, и їми любуютса. А Ваня и оборвал ей корман: «Острамлю ешшо раз». Груша и две конфеты покатились. — Што это? Ах, как стыдно! С ней удар. Она без чусв. Унесли без движения. Дохтор билса два часа. Фрелины в ванны ей обмывали. Наконец очнулас. Спрашивает: «Што со мной было?» Ей уговорили, што ничево особенново, только дурно сделалось. Про грушу ни слова. А потом ейныи кустюм подвенечной ей же надевают и ротонду подают. И везут к собору или там к керке, естли в Неметчине было (не знаю, где) и объявляют, што прынц будет с ей венчаться. Она и ничево сказать не посмела, што Ваню любит. Овенчали їх. Свадебной пир запоходил за полночь. Все веселы, молодой веселой, а молода кручинна, все думат, как она мужу скажет, што Ваню любит. Наконец, остались они наедине. Он и заговорит мяхко, своїм голосом. Она вглянула и падат на коленки: — Ваня, душа моя, прости меня, што я на партрет твой наплевала. — Прости ты меня, душа моя: я тебя и пешком ходить научил, и торговать заставил, и воровать научил! И молода повеселела. А тут скоро и ейный отец император с приданным наехал.Сказка привела всех в восхищение, а народу набиралось все больше и больше. Действовал «радиосарафан». Вся деревня уже знала, что сегодня придет пароход; ребята, которых вчера матери спустили купаться, а они «прокупались» целый день, насказали чудес про сказки. Слушок давно уж есть. Надо проверить — посмотреть отъезжающих да своим снести подорожники: проелись на берегу. Прибежала и Олександра с Андиги: принесла деду туесок масла да огромный клуб бечевки. Дед взял на зуб, растрепал конец, посмотрел на свет и поблагодарил. — Гожа. И пришел в мягкое настроение. — Олександр Ондреевич, вот видите и нашлась сказка, ну, ешшо! — Нет, уж устал. Расскажу разве про большу неожиданность в море. Неожиданность больша, а быличка не велика. И Помор начал.
42. Неожиданность
Опривык ко всему. На Мурман стал ходить после рекрутсково набору. На шнеке. Видали эту посудину? В бурю только и спасаютса: рогозу намочишь салом и вывесят с бортов; волна подойдет, — от нево лава волну разбиват. Раз погода пала. «Михайла Ломоносова» видали? Так киль ево видно было, так ево катало. Стретили мы норвецько судно и, шутя, поднели рыбу. «Купите, мол!» Вдруг пароход свисток дал, ход замедлил, мы подплыли. Капитан нам бутылку рома показыват. Мы ему рыбину подали, он нам рому. И разошлись. Я говорю: «Ребята, на море пить нельзя, на берегу выпьем». — «Знаем, што нельзя!» А тут случилась погода, а мы все пьяны, не утерпели. Заходить надо в становишше. Тут ешшо одна шнека стретилась. Они пошли карабельним, а мы бойным форватером. И грести — не гребем, и править — не правим. Коршик без памети лежит. Бьет нас, материк на себя не принимает. С берега глядят: — Люди пьяны, разобьет их сейчас! — Эти уж потонут! А тут выкинуло нас на берег и все сохранны. У меня хмель сразу пробрало, а коршика водой отливали — все спал.Махонька что-то надумала и потому, едва кончилась «Неожиданность», она начала.
43. Предел
Я не преха уж, ницего не преду. Быват, и не про меня сказано, бывал, и про жонку каку: не предет ницего. Муж и говорит: — Пошто ницего не предешь? Я помру, цем закроешь? — У меня наношено клубьев: сусек в амбаре накладен. — Пойдем, посмотрим. — А, пойдем. У ней только и напредено, што один клуб, да один простень. В сусек залезла, подала ему простень. — Вот клуб, вот простень. Вот клуб, вот простень! Вишь, сколько накладено. Поди, секи мотовило. Мужик пошел секчи. Пошел дорогою, и она прямою, да и села под кусты. Сидит. Мужик пришел, начинает секчи, а она крыцит:Цили, вили,
Не секи, муж,
Мотовили,
Дети не будут,
Жона помрет.
Цили, вили,
Не секи, муж,
Мотовили,
Дети не будут,
Жона помрет.
Был жил, как гусельцы,
Растенулся, как струноцьки.
Скоморох на эту сказку отозвался песней. Конечно, он обращался к молодке, благо ее звали Дуней. И вертелся около нее, и обнимал ее, а она дала ему тумака очень весело и незлобиво.
Дуня, Дуня, Дунея,
Дуня тонка — прядея,
Дуня пряла и вила
По три ниточки в денек
Во неделю простенек,
Во годок Дуня моток, —
Мотовильце с локоток,
В пять годов Дуня красна:
В том пройдет у ней весна.
44. Хозяюшка Песня
Тонко-то, долго-то — Авдотьїн жених,
Калина-малина.
Да толста-та охомяка — Олександры жених,
Калина-малина.
Цернобров, церноглаз — то Варварин жених,
Калина-малина.
А косы-ти глазишша—їришин жених,
Калина-малина.
Тонко-то, долго-то — зароды метать,
Калина-малина.
А толста-та охомяка — та вода волоцить,
Калина-малина.
Цернобров, церноглаз — тот посвистывать горазд,
Калина-малина.
А косы-ти глазишша — овин молотить,
Калина-малина.
Овин загорел и косой заревел,
Калина-малина.
Итти было к жонушки позавтракати,
Калина-малина.
«Распроклятой ты, косой, недосуг ко мне пришел,
Калина-малина.
Надо детоцек кацять, да телятоцек поїть,
Калина-малина.
Да телятоцек поїть и квашонку разводить».
Калина-малина.
Три недели квашня кисла, не выкисла,
Калина-малина.
На четвертую неделю стала пенитця,
Калина-малина.
Да тесто тенитця,
Калина-малина.
Што на пяту-ту неделю,
Калина-малина.
Стали хлебы катать,
Калина-малина.
Она по полу катала,
Калина-малина.
По подлавицью валяла,
Калина-малина.
На пеци в углу пекла,
Калина-малина.
Кохти-нохти обожгла,
Калина-малина.
Коровая не нашла,
Калина-малина.
Склалась в коробок,
Калина-малина.
Потенулась в городок,
Калина-малина.
Становилась во рядок,
Калина-малина.
Тут и шли, прошли купци,
Калина-малина.
Пинежана-торговци,
Калина-малина.
Они хлеба не купили,
Калина-малина.
Только цену наложили,
Калина-малина.
По три деньги коровай,
Калина-малина.
Куда хошь его девай,
Калина-малина.
Хоть свиньям отдавай,
Калина-малина.
Свины хлебы полизали,
Калина-малина.
Три недели пролежали,
Калина-малина.
На четверту-ту неделю
Калина-малина.
Стали свины пропадать,
Калина-малина.
Да Їришу проклинать,
Калина-малина.
«Распроклятая Їриша,
Калина-малина.
Эких хлебов напекла,
Калина-малина.
Всех свиней тех извела».
45. Гибельное описание (дневник)
… тел заснуть, так мы ему закричали: «Кологриев, не спи! Иди в руль править». А Максим вертится и править не может на волнах. Той же минуты приходил он, Кологриев, к рулю, взглянул: тут воды довольное количество в карбасе. Он закричал: «Батюшки, лейте воду из карбаса». Приходят к помпы Иван Богданов, Осип Тячкин; начали лить воду в носу и кормы, кто чем может, в помпа не берет воды, оттого что сломалась. Хозяина забранили. Тут закричали: «Братцы, ройте мешки с житом в воду, а не то мы потонем». Несколько успели, швырили, но в ту же минуту, погодой, ветром, морскими волнами налило наш карбас и опрокинуло несколько раз вверх колодою. Продчих всех людей охватило от колоды прочь на волнах. Хотя выстали из воды, но не успели захватиться, а нам четырем человекам — Мирону Кологриеву, Афанасью и Степану Тячкиным и Лукияну Лгалову, невидимо бог пособил захватиться за колоду и вытянуться из воды на оную с великим трудом и с разбитыми на себе ранами. Но, когда опрокидывало, тогда Кологриева, схватя за левую ногу Ион Мусников (а Кологриев не захватясь еще ни за что) и обгрузил его в воду, то не знай каким образом выстал из воды немного, успел захватиться за колоду; тогда товарищ Афанасий подал ему руку, пособил вытянуться и, взглянувши на ногу, — сапога нет; его сдернул Ион и сам с ним остался в воды с другими товарищами. А нас на боку карбаса понесло по ветру и морским волнам на средину моря. Когда карбас обтонул с нами, в то время были от берегу, т. е. от земли, примерно расстоянием в пяти верстах, а после понесло и т. д. Сначала можно было видеть своя родима сторона, а после пронесло ее и принесло к Летним горам; того же дня вечером подул от них сменный ветер, т. е. западный. Понесло с прибылой водой прочь назад, обратно, где опрокидывало. Уж и весьма близко подносило к тому месту. Поутру седьмого числа подул сменный ветер, т. е. обедник. Но с ветром, палою водою, понесло опять на средину моря, только что едва можно было видеть та и другая сторона земли. Пронесло Летние и Зимние горы, подносило близко Терского берега (примерно в 15 верстах), и вдруг подул с него ветер Запад. Понесло от него прочь на средину моря и 8-го числа пополудни показались нам Зимние горы и подносило к ним ближее. Но только что носило наш карбас на боку, а не вверх колодою, оттого что не давала опруживаться мачта и рей с парусом, который был не успет обронить при утоплении. После того вздумали обранивать мачту из своего места, чтобы освободить карбас. Сначала на верхнем боку карбаса снасти развизали; при перешвы есть железная обойма, через мачту таковую отстегнули. После от носу отвязывали штак, а отрезать было нечем; вынуждены были спушаться в воду для отвязывания его. Спушшались: Афанасий Тячкин[76] 6 раз без одежды (таковая была оставлена у товарищев). Лукьян Лгалов 3 раза и Степан Тячкин один раз. По нашему счастью бог пособил отвязать. Есть ли бы штаку не отвязали, то должны были потонуть, как и прочие. Вечером 8 числа отвязали этот штак, той же минуты мачта выпала из своего места, а карбас обвернулся вверх килем, т. е. вверх колодою, и мы тут же едва могли вычарапаться из воды. Придумали обворачивать этот карбас как следует быть. Стали веема четверыми, коленами в киль, а руками в воды, захватили за борт и тянули на себя, и обвернули, но того боялись, чтобы не залил он нас. Успели из воды выскочить в карбас и разселись два человека на той стороны и два на другой. Вздумали отлить воду из него, сняли с ног по сапогу, начали лить воду. Сколько таковой не лили, убыли нет. Хоша и была — зводень придет: опять столько же. И не могли ничего сделать. В это время были мы от земли расстоянием семь верст, и усматривали, что нас стало осаживать ниже с палою водою о Зимние горы. Друг другу говорили: «Станемте, братцы, прибарахтываться, кто чем может и у кого сколько силы есть и мочи. Но естьли сюда не попадем в Зимние горы, то унесет нас с палою водою безызвестно: больше не видать нам никакой земли и погибнем». У нас в это время было одно весло удержано при утоплении, еще взяли, отодрали от карбаса телгасины, т. е. две доски. Таковыми к берегу стали подгребать. А мы сидели в воды по поясу на перешвы во время выгребки, а у карбаса руль был на своем месте. У каюты крыши не было, таковую бросами оторвало в первый день. Когда обвертывало, в каюте было три мущины и две женщины: не видали, когда выпали. При руле румпеля не было, нечем было править. Мирон Кологриев взял руль в охапку и стал направлять карбас по воды к берегу. С весьма великим трудом прибарахтались на берег в половину Зимних гор, называемых к тони Добрынихи. Это было 9-го числа по утру. Вышли, змолились господу богу, что не погубил в глубины морские. Носило нас по морю трое сутки, безо всякой надежды, кроме господа бога. Посидели на берегу и посоветовались, куда итти, в котору сторону. Но придумали: в Нижнюю Золотицу. Пошли о Зимние горы. Шедши по берегу, где водою, где глиною и частью наносным непроходимым хламом и по каменьям. У Мирона была одна босая нога — трудно было итти; у Афанасия было разбито тело на коленях большими ранами с повреждением костья. Встречавшись с нами в означенных горах по берегу непроходимые с гор глиняные оплавины в воду, тут мы вынуждены были вылезать наверх их, но нельзя было прямо, а отходили в лога и текут по ним ручья, и от ручьей вылезали на горы. Но только это было весьма трудно. Господь все помогал нам грешным. Шедши горами несколько времени, пришли к логам и спустились по ним к морю, на берег. И тут же шли благо времении, так что дошли до промышленных изб на Лысуново. Обошли мы их кругом, усматривали, нет ли жителей, каковых не оказалось. Но оттудова от нас Мирон вперед ушел искать Золотицкой деревни, объявить жителям, что по берегу осталось три человека в слабом положении. Только тут это время было нас двое: Афанасий и Степан, а Лукьяна не было, оттого что не замог итти с нами и остался. После Мирона отдохнули немного и мы, потихоньку вслед за ним пошли по силы возможности, так что дошли до Вепря. Отошли с одну версту, повалились на бугро, на возвышенное место, полежали немного и вдруг услыхали голос. Мы откликнулись: Мирон приходит обратно к нам и говорит, что дошел до реки Торожмы и не мой ей перейти, ибо она широка, брести через ней не посмел, переехать было не на чем. Вынуждены были воротиться с ним на Вепрь, в часовню. В часовне, в сенях заночевали мокрыми, холодно и голодно. Поутру встали и пошли в Золотицкую сторону, отошли с версты две. Пала сильная погода со ситом и дождем, так что не могли вперед итти, вынуждены были присесть под лесину от экой ненастной погоды. Досидели до того, что не замогли слова вымолвить, исперезябли… Дед снова вмешался: — Тут листочки утерялись, дак я помню, што они нашли избу промышленников, там поглодали прошлогодни хрыбых костей и пожевали воску, лежавшего за їконой. Нашли зато лодку и в ней подъехали к рыболовному судну. Далее читай. … им со слезами: «Батюшки, помилуйте, возьмите нас с собой». Хозяева судна увидали нас гибельных людей, тотчас же на судне паруса обронили, и мы к ним подъехали. Они нас спросили: «Каки вы и откудова». А мы им сказали все подлинное, что случилось с нами. Тогда они из лодки вытянули нас на судно, завели в каюту, на постели повалили и окутали; дали они нам хлеба и говорили: «Много не ешьте, вам вредно будет, а мы хлеба не жалеем». Но мы такового есть много не смели. Хозяин судна привез нас в Золотицу 11-го числа вечером. Мирон, Степан в волость, т. е. деревню, пешком шли сами собою, а Афанасия носком несли двоима. Хозяин судна объявил жителям, что есть из них четвертый человек, остался на берегу от неизможения итти за ними. Жители деревни приказали нас Афанасия и Степана отвести на квартиру сотскому. Мирон тут с жителями остался, а для Афанасия и Степана хозяин квартиры пригласил священника. Таковый нас исповедал и узнали мы, что сего числа праздник живоначальной Троицы, в этой Золотице престольный праздник. Ночью 11-го приходил к нам старшина с понятыми, спрашивая, каки мы и откуда; обсказали ему, как и отчего случилось с нами, и объявили ему, что 4-й человек остался на берегу. Тотчас же старшина с понятыми поехал искать и нашел его не доходя Вепря с две версты: лежит на бугре. Привезли его в лодке и занесли его в ней в деревню 12-го числа. С того же числа сотский со своей квартиры перевел нас на другую по приглашению хозяина, к Степану Субботину. Жили мы с 11-го числа по двадцатое того же месяца. Воспитывал он нас и беспокоился с нами как отец родной до самого отъезда нашего домой. Пришел к нам старшина Золотицкого волостного правления, приказал нам собраться, что вы едете сегодня домой с ямщиками в карбасе. Тогда хозяин дома благополучно нас, Афанасия Тячкина, в карбас занес, а Степан и Мирон сами шли; Лукьяна тоже носком занесли; за все наше проживание ни с кого ничего не брали. Мы хозяина отблагодарили за неоставление ихнее при нашем несчастном положении. Тогда отправились в путь по морю до деревни Козел. Тут золотицкие ямщики благополучно нас сдали козелским, те тоже провезли нас мимо Куи до деревни Мудьюги. Мудьюгское правление тоже приказало содержателю станции нас отправить в Соломбальское волостное правление. Благополучно завели нас в ямщиковый флигирь; мы тут узнали, что здесь есть господин исправник Архангельского земского суда Антон Степанович Русецкий. Ямщики доложили ему, что есть сего числа привезены такие-то люди, из такого-то места и с такой-то стороны. Тогда он тот же час пришел к нам и распросил, отчего и как случилося. Тогда мы ему обсказали все подлинное. После того приказал он ямщикам отправить нас куда мы желаем, но только что советывал нам в Архангельск к своим знаемым для совету с лекарями, так как мы в это время были в весьма слабом положении; наконец того сказал, что есть в Архангельске жена Афанасия: «дожидается, скоро-ли вас привезут, а не то она уедет в Мудьюгу или далее вас искать. Поезжайте в Архангельск, застанете или нет ей, чтобы она не уехала». Тотчас же ямщики на лошадях в роспусках нас привезли к Ненокскому третьей гильдии купцу Егору Васильевичу Суровцеву. Таковый пригласил нас в свой флигель; того дня было 22-е число. Тогда его Суровцева прислуга Авдотья Лукина Карташова известила жены Афанасия на квартиры купца Михаила Васильевича Коковина. Той же минутой таковая к нам пришла. Вслед за ней Михайло Коковин послал лошадь с кучером, чтобы привезти Афанасия от Суровцева. Афанасий был привезен к Коковину, но на другой день 23-го числа Афанасия перевез к себе крестный отец, купец Иван Михайлович Коковин на квартиру и пригласил для его лекаря портового Ефима Яковлевича господина Серикова для присмотра за слабым здоровьем и выписки из аптеки необходимых требуемых лекарств. А Евгений Васильевич Суровцев для Кологриева, Тячкина и Лгалова тоже пригласил лекаря господина Стерня. Лукьян Лгалов 25-го числа сего месяца помер. Жили мы с 22-го мая по 10-е июня. Из домов приехали за нами и увезли нас в Неноксу. Только что весьма было долгое время не могли излечить на себе ран от простуды, отчего и в настоящее время в ногах ломотою в костях предвозвещают ненастную и сырую, мокрую погоду, в чем и удостоверяем своим подписом.К этому присовокупляю, что по приезду домой я узнал от своих домашних, что по нас был совершен заочный отпев и несколько раз отслужены были панихиды. С того времени звали нас «отпетыми».Афанасий Тячкин.
Чтение этих листков произвело особенное впечатление на ребят, и вместе с облегченными вздохами послышалось: — Все же спаслись! — Один-то пропал! — Хошь бы сразу. И Помор заметил: — Одны спаслис, други погинули. Это уж што на нашем деле! Одна могила — мокрая! Да все равно. Только жонки на глядне вопят. Это смотреть не переносно. Московка обратилась к деду: — Ну, дедушко, развесели нас какой-ле сказочкой! — Не стану сказывать! Ешьчо на поганом слове помрешь! Надо о смерти думать! Это тебе хлебы, што списываеш? — Хлебы! — Ну, естьли хлебы, я тебе лучша про Олександра Македонского расскажу. Олександра Македонского знаш? Слыхала? Это как он архиреем был, ковда ешьчо пророк Илья патриархом был? Ко всему привыкла Московка, но тут и она ошеломилась. Однако с привычным интересом она готовилась уже записывать про Олександра Македонского, как две девочки пристали к деду: — Дедушко! Сказочку! Любую! Дед погладил их по головам и весь обмяк: — Вот таки-жа внучки у меня! Ну, ладно уж, знаю вашу любую! Девочки зашептали, как бы подсказывая вперед, а дед говорил.
46. Жерновца
Живало-бывало кот, дрозд да петушок. Кот да дрозд дрова рубили, а петушок домовичал — на печном ето деле. Были у него жерновца знаменисты: как вернешь — вылетит пирожок да каши горшок. Царьсво было близко. Царю антиресно, чем они кормятця, како у їх пепелишшо? Ему говорят: ни горшка, ни ложки, ницего у їх нет. — Хто же у їх мелит? — Не знам, не петух-ли? И послал царь слугу все разузнать. Царской слуга вернулся и рассказал. — Дейсвительно, пишша хороша, у їх есь способие хорошее — жерновца: петух как вернет, дак вылетит пирожок да каши горшок. Царь говорит слуги: — Поди, принеси эти жерновца. — Они без їх пропадут. — Пропадут, так и што! Пошел слуга за жерновцами. Петух на голову клюет: — Мы замрем без їх. Слуга все-ж унес жерновца. Царь доволен: вертит, да ес. Петух налетел, царя стал в голову долбить. — Царь, отдай мої жерновца! Тот крыцыт: — Да што вы не можете унеть? Снесите к коням петуха: они его стопчют. Снесли петуха на конюшой двор, а петушок в шшелину ушел. У государя залив воды был. Вот петух стал к воды задом и заприговаривал. — Жопа пей. Жопа выпей все. Жопа и выпила все. И петух опять налетел к царю: — Царь, отдай мої жерновца. — Да што это? Бросьте его в огонь! Схватили петуха, огонь развели, бросили в огонь. А петух: — Жопа лей, жопа лей, жопа лей, жопа вылей все. И залил огонь. Опеть к царю. Налетел — їсь не дает, орет: — Царь, отдай мої жерновца! — Да што вы осилить его не можете? Отрубите голову, изжарьте, дак я съїм этого мерзавца. Вот изжарили петуха и царю подали. Он голову съїл и пошел на двор. Петух орет: — Кукареку! Из жопы еду! Царь вопит: — Отрубите голову! Стали рубить голову, и царю жопу отрубили.Позабавились, а тут и уха поспела. Александра с Андиги принесла свежей рыбки для сказочников. Помор вынул кусок колбасы, а дед значительно сказал: — Думаю, в калбас не все свинину кладут. Думат и пропасть кладут! В это время Скоморох ударил себя по лбу и убил овода: — Птички-синички, дак, пожалуйста, живите, а што этот вредной элемент… дак его бить надо! — А вот, Московка, отгони загадку! Я теперь загону загадку таку, што помуциссе. Ты нам затонула сегодня, ну-ка, как твой котел поварит? «По полу шшуп, по лавки шшуп, дошшупался до правды — правда мохната, на середке дыра». Ну-ка? Московка смущенно молчала. Все наслаждались ее молчанием, пока молодка, сидевшая тут же, не сжалилась. — Да не бойся, баушка! Отгодка — малиця! Все засмеялись. А потом, удивляясь, что нет парохода, решили соснуть и задремали под пенье молодки, баюкавшей сына:
Бай, бай, мое дитятко!
Спи, дитя, здорово.
Ставай весело.
Выростешь большой,
Будешь рыбку ловить,
Будешь мамку кормить.
Спи до поры,
Не здымай головы.
Выздынешь головку,
В лоб — колотовку!
47. Ваня и Даша
Отец и мать умерли. Осталис Даша да Ваня. Ваня умняк был, а Даша немного лабутка была. А родители їхни тормошили — немного торговали. Осталось денег немного и товары. Ваня и говорит: — Штобы лишной траты не было, давай закопам деньги в туесе. — Давай. — Нам, Даша, дров запасать надо. И поехал в лес, а Даша топит. Ваня в лесу ждет, думат: скоро Даша придет, обед принесет. А Даша одна хозяйсвует: — Ах, Ваня коклетку любит, я ему коклетку испеку. Она коклетку стала печь. — Ах, Ваня уксус любит, в кажно место уксус ложит. Побежала в погреб, кран у боцки отцинила… — Ах, у меня коклетка там сгорит! Уксус бросила, побежала в избу, а коклетка уж готово: сгорела. Вынела из пецки, церна, как угольё, на стол положила. — Ах, у меня там кран открыт, уксус выбежит! Прибежала в погреб, а уксус уж весь выбежал, готово. Лужа большашша. Она схватила мешок тут с крупцяткой был, да мукой все засцяла. Сухо теперь! — Ах, у меня котанко коклетку съїст. Побежала в избу, а уж готово: котанко коклетку съїл. Вот тебе: ни коклетки, ни уксусу, ни муки. Вот посуды красной везут: крынок, латок, горшков… — Кому горшков, горшков! Красавица, не нать-ле горшки? — Да уж как не нать? Надобы. Да денег нету. — Поишши! Найдутся-ле hде? — Есь, да не настояшши. — Каки таки не настояшши? — А таки, которы в земли закопаны. — Ницего, неси! Она принесла полон туес денег; золоты там, серебрены… — Ницего, годятця! И выложил полон воз горшков. Ну, много-ле те стоят глинены горшки? Каки деньги взел! Вот она кругом посуды наклала в избы. Ваня пришел. — Н-на! Што это? — Это хозейсьво. — Куда столько? — Я люблю посуды много. — Нде взела? — Н-на! Купила! — Да hде деньги брала? — Я те отдала, што в земли закопаны. — Эх, Даша, Даша! Как теперь хозейсвовать будем? И муку извела, уксус упустила, коклетку сожгла. Не в люди-ле итти? Нам жить дома нецем. Пеки подорожники. У нас кружок масла есь, да хлеб; и готово! Хлеб в котомоцьку, кружок масла под мышку. Да стали запоходить, Даша двери взела: дома все запирались дверями. Пошли. С горушки она масло упустила. — Ишь, покатился кружок: домой захотил! Шли, шли и опристали. Ваня на сосну полез: огни смотрять. Кругом зверьё ходит. — Знаш, Даша, полезем на сосну ноцевать, как бы нас тут медведь не съїл. — Ну, штож? Давай! Поехали на сосну, она двери с собой волочит. — Даша, куда этта? — Да! На сосны ноцевать, да штоб дверями не заперетьсе?! Я буюс. Ну и поехали там с дверью, не знаю уж, как заспали. Горшешник мимо ехал, тож сед под сосной: охота деньги пошшитать. — Эх, хороши деньги! Ох, стыдно! Глупу девку оманул, ведь видать уж, што глупа. А тут Даша двери уронила. — Батюшки! С сосны двери падают! Это меня боh наказал, што зря деушку оманул. Мужик оступился этих денег, коня хлеснул, да и поехал. А тут Ваня с Дашей с сосны слезли, тут їхной туесок полной денег стоіт… И пошли домой хозеисвовать.Глядя на милых, впившихся глазами ребят, Ошкуй, улы баясь, завел вторую.
48. Лешева репа
Посеял мужик репу, а старуха заругалась, зачем репу сеял. Вот время доспело, старик и спрашиват: — Старуха, не бывала на Лисьей горки, репы не смотрела? — Н-на! Никакой репы не родилось. Было тебе говорено. Пошел старик на репишше: эдаки наперски. Только поле затратили. — Лешему бы всю репу! И собирать не стал. А на другой год не стерпел — опеть репу посеял, и уродилась репа отчаянно блюдце. Принес старухи показать, она не верит. — Поди, дикарь, чужу принес. — А вот возьму мешков, на телёге приеду да привезу тебе воз, тоhда… И поехал. Приехал на место, а там леший стоїт. — Моя репа, не дам! — Я сеял, — моя! — Сеял ты, а ростил я. Сам сказал, што мне репа. Старик одумал: — Я на цем приеду за репой, ты узнай. Узнашь, дак твоя репа. Пошел старик домой, телёгу с мешками оставил на горки, взял старуху с собой, волосы расплел, — становись на корачки! Сам на старуху сел: вези! — Нде мне на эку гору зняться? — Молчи, за репой едем. На гору вызнелись. У старухи волосы больши. Леший ходит кругом — кругом волосы. — Што тако? Овця? Нет, не овця — больно мохнато. — Не знаю… Старик, бери репу! Старуха волосы заплела и стала рвать репу. Дак мешков не хватило…Теперь был черед за Скоморохом, и все предвкушали веселье. Дед заканчивал прелестный маленький невод. Только поплавков не хватало. Но, подняв на Скомороха глаза, дед сплюнул, забрал работу и отошел в сторону на другой конец плошадки. Скоморох хотел было начать, но свиснул пароход, и все зашевелились. Скоморох крикнул: — Стой! Сами знаете, ешшо с лодок примать станет, тихим ходом поползет. Долго-ль в котомоцьку собраться? Слушайте! И рассказал.
49. Куроптев
Куроптев навоевался, по окопам навалялся, всех вшей досыта накормил, тогда службе еговой строк вышел. Можот итти на все четыре стороны, куда любо. А у Куроптева не было ни кола, ни двора, ни малого живота, ни образа помолицца, ни веревки задавицца, ни ножа, чем зарезацца. Идет он, идет день до вечера, и тут ноги шагать перестали. Сел край дороги и разгоревался. У птицы гнездо, у зверя нора, а человеку некуда голова преклонить. Хотел закурить, — табаку нет. И вдруг смотрит, — около человек взялся, такой хорошо оденой и говорит: — Куда, Куроптев, пошел? Присел этот человек рядом, и всю ему Куроптев жись свою рассказал, как воевал, как в окопах позорился. Человек, выслушав, говорит: — Правильной ты, Куроптев, человек. В рай хочешь? — Как это понимать, в рай… — Очень просто: записку дам и вне очереди. Этот прохожий был сам боh, а Куроптев не знат и ничего понеть не можот: — В рай, конешно, приятно, но как туда попась, и чья дорога, и нать-ли помирать? Боh в книжечке черкнул, листок вырвал: — Держи, предъявишь Петру ключарю. До утра иди прямо, о всхожем поверни на восток, в павечерии возьмессе в царсви небесном. Куроптеву выбирать не из чего. Он сделал налево кругом, да и зашагал. Утром поворотил на солнце. О вечерней зори уздрел каменны ограды. У ворот позвонился. Отворили. Документ проверили, все правильно. По книгам провели. Райско-нетленно обмундирование выдали — проходи, блаженствуй. В раю худо-ли? Сады, винограды, палаты, фонтаны! В раю рано ставать не надо, на работу не гонят, ни в поле, ни пахать, ни молотить, ни по дрова ехать. Поокруг празник. Куроптев отоспался, отъелся, ко всему пригляделся. И што же это? Ему не весело стало. Што случилось? А покурить захотел. Спросить неловко. Какой же в раю табак? Весь парень приуныл, весь поблек. Все сады, все кустики обшарил, нет ли где окурочка, — не нашел. С горя што придумал: веревочку нашел, мелом намелил, давай на главной просеки лужайку мерять да колье вбивать. Праведны понеть не можут, што он творит. — Куроптев, ты што затеял? — Я-то? Я вот план снимаю на предмет застройки пустуюшшей плошшади зданием трактира. Праведны бегом к боhу. — Осподи, осподи, твой-то Куроптев, как отличился! В цареве небесном трактир ставит! Разрешенье имет! Осподи брови насупил, да скорым шагом к безобразнику: — Куроптев, ты знашь, што полагается за нарушение тишины и спокойствия в обшественном месте? — Так точно. Только понапрасну они шум поднели. Опосле сами блаhодарить будут. — За што благодарить? — А вот за трактирно заведение, распивочно и на вынос, с продажей папирос. — Дурачина ты, табашна шишка! Осподу смешно. — Люди всю жись рай зарабатывают, аты без заслуг, только в силу моїх к тебе личных синпатий сюда попал — и то тебе, болвану, не сидится… Больше ничеhо, што в аду тебе лучша прописаться. — Сопроводительну бумажку получить можно? — Спешно известим сами. Ступай туда. В аду ворот много и все входы настеж. Выписали Куроптева из рая. Ключарь Петр и дорогу сказал: — Поди прямо, вечером поворотиссе на запад. Куроптев идет день, о закатимом повернул во мрачну сторону. И вот горелым запахло, потом скрежет и визг слыхать стало. Дале — корпуса увидал высоки, ворот много. Ад есть. Черти Куроптева под локотки примают, в жарко место садят. А Куроптев свое: — Покурить, ребята, нет ли? Ему лоток с папиросами в колены высыпали и всё дороги сорта. Он три папиросы подраз закурил. Сидит нажигается. С утра опять за табак. С бесями дружба, и чертовкам Куроптев надо. Кажна обниматься лезет, в губы припадат, кажна записываться зовет, и видом кажная, как жаба. Мужику это каково? Он и табаку не рад, на волю запросился, да нет, не уйдешь. В ад входы полы, а выходу нет. Куроптев опеть потемнел. Брови нависли, дума на мысли. Против главного корпуса лужок был травами высажен узорами. Этта малы бесенята с няньками гуляли. Куроптев веревку намелил, ходит с метром да эту лужайку измерят. Бесям интересно: — Товарыш Куроптев, вы это што делаїте? — Я-то! Я планирую. Церькву-храм будем ставить на сем месте. Направо колокольна, прямо алтарь, звон будет, ладан, пение… У бесей со страху животы того разу схватило. Ко главному сотоны прилетели: — Дедушко, отаманушко! Куроптев в аду церькву строїт. Уж колокольна готова. Всех, всех задушит, закадит… Сотона в чем был к Куроптеву: — Товарыш Куроптев, это што? — Храм божий ставим. Слыхано-ли, штобы помолицца зат-ти некуда было. План готовой, сейчас на биржу за рабочими пойду. — Поди-ко ты лучче вон. Проваливай, куда хош! — Нет, я раздумал, мне тут дородно. Сотона на небо депешу: — Зачем таких боhомолов в ад посылаете? Ваш Куроптев в преисподней церьков строїт… Из раю ответ: — А мы што будем делать, коли он сам так захотел? — Возьмите, ради боhа, обратно. — Довольно мы с їм бились. Нам свой спокой дороже. Што делать? Лихо-то ведь споро, его не сбудешь скоро. В аду кажной день заседанье. Как Куроптева выжить. Вот бес Потанька предложил: — Дедушко, отоманушко, ты с меня шкуру спусти, натени на барабан, я с барабаном за ворота выйду, тревогу ударю, увидаете, што будет. Дедушко со внучка шкуру спустил, сделали барабан. Потанька с барабаном за ворота выбежал, ударил сбор. Куроптев старой службы солдат, привык слушаться команды. Барабан услыхал, амуницию подтянул, ранец на плечи и ать-два — вымаршировал из аду. Только он за ворота, беси ворота на запор, да еще бревно изнутри привалили. А Куроптев осмотрелся, тревога ложна… — Ах, дуй вас горой! Он в ворота ломится, а беси исподворотни языки кажут, хвостом дразнят: — Не пустим боле! Не пу-у-стим! Нам тоже своя жись дорожа. Опять значит Куроптев, куда глаза глядят, бредет по дороги. У птицы гнездо, у зверя логовище, а ему человеку негде глава подклонить. И на стрету ему опеть тот человек, такой хорошо оденой. А это был сам боh: — Куда, Куроптев, пошел? — Да, вот, осподи, из аду выгонили. — В раю тебе было неладно, и в аду нехорошо… Што я с тобой буду делать? — Осподи, мне бы где-ли на часах постоеть. — Куда тебя, Куроптев, деваешь… Видишь, вон около ростанья будка наружна. Становись, охраняй! На зиму тулуп тебе выдам и валенки. Куроптев этта и теперь в будке караулит.Когда смех, звеневший все время, замолк, Скоморох начал вторую.
50. Догада
Была в лесу глупа деревня. Люди в лайды жили, широкого места никогда не видали, дак уж… Был один поумняе, Догадой звали, дак и тот глуп. Вот эти мужики собрались в лес на охоту и видят, в снегу дира, а из диры пар идё… Що тако? Стали думать, часа два думали. — Нать Догаду спросить. — Ну, Догада, он знат, он понимат. И пошли веема к Догады. Приходя и говоря: — Догада! Были мы в лесу, видели диру, а из диры пар идё. Що тако? Советовали, ничего не усоветовали. Скажи, пожалуйста. А Догада на тот час с жоной обедал и говорит: — Так нельзя сказать, нать посмотрять. Вот ужа пообедаю, пойдем веема в лес. Пообедал Догада, пошли веема в лес. Догада видит, в снегу дира, а из диры пар идё. Що тако? Стал думать. Часа два думал. Ничего не удумал и говорит: — Так нельзя сказать, нать посмотрять. Вот що, товарышшы: берите меня за ноги, да суйте в диру. Да держите крепко. А как, если що буде, дак обратно волоките. Мужики взели Догаду за ноги и сунули в диру… А там было логово! Медведь был! Он и стяпал Догаду за голову. Догада ногами голит, рыцять не может… А те держат крепко. Все думают: было що, али не было що? Часа два думали, а потом говоря: — Що Догада сам смотрит, а нам не показыват! Ташшыте его назать! И выташшыли одно тулово без головы. И заспорили: одны говоря, що и ране такой был, а ины: — Не, с головой! Спорыли, спорыли, доспорытця не могли. Говоря: — Нать к Догадихи пойти… — Ну, Догадиха мужа знат. Догадиха понимат. Догадиха скажот. К Догадихи пришли и тулово приволокли. — Скажи, пожалуйста, Догадиха, — как Догада ране с головой был, или без головы? А Догадиха на ответ: — Да как обедали, бороденка болталась. А была голова, нет, — не припомню. Мне ведь не к цему!Скоморох кончил, и в это время раздался второй гудок. Московка всполошилась: — Два гудка! — Это новой пароход. По гудку слыхать: «Посыльный». Два парохода идут! Вот это так повезло! Стали собирать пожитки, и вскоре показался долгожданный, уже наполненный пароход. Все выстроились с котомками. Пароход бросил чалку. Помор поймал ее и живо прикрутил ко вбитому столбу. Пассажиры по доске, брошенной на берег, взбирались на палубу. Капитан приподнял кепку и крикнул Московке: — Вам советую десять минут подождать «Посыльного». Там совсем слободно, каютина больша. Идет пустой, ешьчо нас обгоните! В одну минуту Московка перешепнулась со своей компанией, и они отошли в сторону. — Дедушко, с нами? — Видно, што с вами в ад попадать! — Вдруг веселей! И Скоморох хлопнул деда по плечу. На палубе парохода кто-то узнал Скомороха: — Далеко-ли? — В Архангельско-у! — Што тако? — Весело! Восемь девок на пятак, а девяту дают так! Молодка в последнюю минуту по сходням сбежала обратно. — И я с вами! Через десять минут пришел «Посыльный», совершенно пустой. Оставшиеся вошли, заняли общую каюту-столовую и отбыли. Мелились-ли они еще, много-ли еще сказок рассказали друг другу, — нам неизвестно. Собирались рассказывать всю ночь.
Последние комментарии
7 часов 57 минут назад
1 день 2 минут назад
1 день 8 часов назад
1 день 8 часов назад
3 дней 15 часов назад
3 дней 19 часов назад