Семен Кирсанов. ТОМ ПЕРВЫЙ. Лирические произведения
Предисловие

Стихи семнадцатилетнего Семена Кирсанова (настоящая фамилия — Кортчик) впервые были напечатаны в 1923 году и сразу же привлекли внимание читателей и критиков, стали предметом острых споров. И это естественно: они давали основу для уяснения природы стихового новаторства, а эти проблемы постоянно волновали нашу поэзию. Новое возникает в искусстве, как и в жизни, постоянно. И в прошлые годы художники слова подтверждали свои права и верность избранному ими делу, совершая открытия, обогащавшие представления читателей о жизни. Но бывают такие эпохи, когда необходимость, потребность нового провозглашаются настойчиво и последовательно, становятся девизом и точно намеченной целью. Так жила, так действовала с первых дней своего существования и молодая советская литература. Поэты разного склада, облика, темперамента ощущали себя разведчиками, искателями, осваивающими неизведанные просторы действительности, вызывающими к жизни свежие силы стиха, участвующими в строительстве нового мира. «Надо рваться в завтра, вперед!» — восклицал Маяковский. «Стволы рубцую знаками разведки, веду тропу, неутомим, чтобы товарищ меткий воспользовался опытом моим», — говорил Тихонов. «Давайте снова новое любить начнем», — звал Асеев. А за этими лозунговыми, программными, будто курсивом написанными и произносимыми строками возникал крепкий массив стихотворений и поэм, отчетливо освещавших человеческие характеры и отношения и свидетельствовавших о том, как много доподлинно первозданного в нашей жизни, как необходимо беречь и растить эту социалистическую новь! Кирсанов был еще молод, когда, начиная стихотворение «Поиск», так представлялся читателю:
Я, в сущности, старый старатель,
искательский жадный характер!
А несколько десятилетий спустя он снова задумывается над тем, «что такое новаторство», и старается найти возможно более точное определение, «чтобы от старого новое отделять, как руду». Как видим, поиски нового продолжались постоянно, потому что движение жизни не прекращается ни на мгновение. Но вместе с действительностью изменяются и искатели. Они добывают опыт и навыки, отбрасывают представления незрелые в поверхностные, к ним приходят уверенность и сознание ответственности. И новое укрепляется в их стихах, становится их естеством, их сутью, а не внешним признаком, не преходящим упоминанием. Этот упорный и благодарный труд стал основою, смыслом поэтической биографии Семена Кирсанова. Предвестием предстоящих трудов и открытий оказался для поэта «Разговор с Дмитрием Фурмановым», написанный вскоре после смерти замечательного революционного писателя. Жизненный центр этого стихотворения — беседа создателя «Чапаева» и «Мятежа» с молодым дебютантом, еще только что начинавшим свою биографию. Здесь запечатлены и подробности отшумевших литературных споров тех лет, ныне по преимуществу занимающие лишь историков, и значительно более существенные мотивы, касающиеся самой сердцевины образного творчества, его определяющих принципов. Отвечая своему собеседнику, интересующемуся тем, как писалась «Конармия» («В чем, черт возьми, загадка Бабеля?»), приехавший из Одессы поэт со страстью и убежденностью — признаться, неожиданной, непредвиденной! — произносит пылкую тираду, восторгаясь суровой и строгой прозой Фурманова. Он склоняет голову перед подвигом своего собеседника — реальным, жизненным, который стал основою подвига творческого: «И ввинчен орден до костей, и сердце просверлил!» Подлинность героического — вот что поднято и утверждено в этих жарких строках, привлекательных своей очевидной искренностью и увлеченностью. А между тем поэту, так восторженно восклицавшему: «Я на лазурь не променял бы ваш защитный цвет!» — пришлось пройти путь сложный и долгий, прежде чем добыть и освоить то, что так восхищало и манило его, представлялось с полным на то основанием таким прекрасным и ценным. Произнесенные им осуждающие слова о «громе фанфар», о расцвеченных и украшенных строках могли быть отнесены и к нему самому, когда с виртуозным щегольством, с неистощимой изобретательностью он конструировал разнородные фонетические композиции. «Колокола. Коллоквиум колоколов» — так начинает он стихотворение «Бой Спасских». Составляя «Девичий Именник», рифмует: «Оленей — Елене», «Анастасья — иконостасья», «Анна — мембрана»… Рассказывая в «Букве Р» о том, как избавлялся от картавости, с удовольствием ставит подряд рокочущие, рычащие слова: «Рамка! Коррунд! Карборунд! Боррона!», а далее следуют «звуковые характеристики», написанные по самым различным поводам. Здесь и «Погудка о погодке», и «Германия», и «Красноармейская разговорная». В каждом случае поэт находит соответствующие звукосочетания, ритмы, рифмы… Иногда они соответствуют настроениям, господствующим в стихе, его внутреннему движению, иногда имеют лишь внешнюю связь. Много лет спустя, открывая книгу «Искания» (Стихотворения и поэмы, 1923–1965), Кирсанов писал: «В утренние мои годы меня влекли к себе не только подмостки митинговых аудиторий, но и арена цирка, где хотелось перелетать с трапеции на трапецию головокружительных рифм. Я искал слова быстрого и точного, отважно пробирающегося по канату темы». Признание это нет надобности оспаривать. Особенного внимания здесь заслуживает характеристика отношений меж словом и темой. Они существуют самостоятельно, лишь соприкасаясь, и притом довольно бегло, причем тема остается пассивной опорой для словесных прыжков. Беспощадно строгая оценка собственного прошлого! Но в ту же давнюю пору Семен Кирсанов написал стихотворение «Поиск», где утверждал, что вышел на поиск душевных богатств и искать их будет «не в копях, разрытых однажды, а в жилах желанья и жажды», и обещал «заглядывать в души к товарищам, мимо идущим». Так, несмотря на видимую уверенность и, казалось бы, незыблемое ощущение собственной правоты, он еще проверял, устанавливал принципы своей поэзии. И сказывались здесь отнюдь не только особенности его творческой судьбы, но и противоречия, дававшие себя знать в деятельности существовавших тогда литературных групп. Активным, хотя и юным участником одной из них был Кирсанов, который вместе с Маяковским и Асеевым входил в «Левый фронт искусств». Он объявил себя лефовцем еще до того, как покинул свой родной город — Одессу. Здесь поэт встречался с Багрицким и Катаевым, читал им свои первые стихи. Решающей оказалась встреча с Маяковским, приезжавшим в Одессу в начале 1924 года. Москвичом Кирсанов стал почти два года спустя, но уже до этого в первых номерах журнала «Леф» печатались его стихи. Говоря о «Лефе» — так же как и о других литературных объединениях 20-х годов, — о противоречивых и путаных положениях его программы, надобно помнить и о том, как часто и решительно опровергали ее своими поэмами и стихами поэты, ее подписывавшие. Широта взгляда, мысли, переживания, ощущение личной, кровной причастности ко всему происходящему и изображаемому — вот источник обаяния, таившегося в «Хорошо!» и «Про это» Маяковского, «Свердловской буре» и «Русской сказке» Асеева, поэмах Пастернака о революции 1905 года. Здесь-то и давала себя знать великолепная новизна поэзии, рожденной борьбой за социализм. Семен Кирсанов имел замечательных старших товарищей, соратников и ценил, понимал это. В стихотворении «Маяковскому» он писал со свойственной ему экспрессией:
Я счастлив, как зверь, до ногтей, до волос,
я радостью скручен, как вьюгой,
что мне с командиром таким довелось
шаландаться по морю юнгой.
А несколько лет спустя его стихотворение «Асееву» было начато нежными и благодарными словами:
Какая прекрасная легкость
меня подымает наверх?
Я — друг, проведенный за локоть
и вкованный в песню навек.
Дружба была обоюдной. В собрании сочинений Маяковского не однажды встречается: «Написано С. И. Кирсановым при участии Маяковского». Асеев, посвятив стихотворение «Шум Унтергрундена» — о берлинской подземке — «Всем молодым в лице Семы Кирсанова», писал далее: «Такую бы к нам, в Москву, на радость Кирсанову Семке», — и обещал: «Мы построим не сумрачный ужас, а спокойно сияющий свет!» Строки эти датированы 1928 годом, а семь лет спустя, словно подтверждая реальность обещания, данного старшим другом, Кирсанов пишет уже о построенном метрополитене: «Малиновое М — мое метро, метро Москвы». И тотчас же, будто захваченный внезапно открывшейся перед ним возможностью блеснуть своей ловкостью, берется подбирать слова, начинающиеся на букву «М». Все это выглядело детской забавой, безделицей, кстати сказать, на сей раз и не слишком-то искусно выполненной. Ему долго потом вспоминали эти строки, видя в них образчик формалистического «штукарства». Между тем здесь скорее пригодно определение, брошенное несколько времени спустя самим поэтом: «Вот песенка легкого веса», — так начал он одно из своих стихотворений. Именно эти слова вполне могут быть использованы для характеристики иных страниц молодого Кирсанова. Его старшие товарищи остро ощущали и отлично владели выразительными свойствами стиховой речи. Пафос словоосвоения, словоовладения, если так можно сказать, был хорошо известен и Кирсанову. В те же молодые годы он от имени сверстника-лингвиста славил «сады словарей» и видел, как «лес подымался, а речь ликовала», — лес живых слов, речь многоцветная и обильная оттенками. Он считал себя мичуринцем, выращивая «гибриды» — «деревья-слова». Но, увы, употребляя его же термин, признаем: такая речь не всегда была «зимостойкой». Настоящая новизна давалась ему, когда движущей силой его стиха становилась поэтическая мысль, подлинное переживание, напряженность жизненных связей. Кирсанов всегда был деятелен, и замыслы, им осуществляемые, — смелы, обширны, разнообразны. Об этом свидетельствует и композиция этого четырехтомного собрания его сочинений. В каждом из томов поток стиха устремляется по новому, особому руслу. В одном случае определяющее место занимает лирика; в другом — преобладают мотивы и коллизии фантастические; в третьем — господствует поэзия открытой, прямой гражданственности; в четвертом — на передний план выступают поисковые устремления, настойчиво дает о себе знать энергия стихового новаторства. Конечно, подобное подразделение не может быть жестким, строгим, — в нем есть некоторая условность. Но все же оно свидетельствует о том, что стихи и поэмы Кирсанова движутся фронтом развернутым и вместе с тем все более единым, сплоченным. Все чаще поэт задумывался над тем, «как выхватить из жизни — жизнь», «как выразить те этажи, те сюртуки, ту мебель, места, в которых ты не жил, года, в которых не был». Этот упорный поиск точных и впечатляющих, властных и верных слов длится в поэзии непрестанно. Без него непрочны успехи, невозможны открытия. В конце 20-х — начале 30-х годов Семен Кирсанов обратился к сказке и достиг удачи. Работая над «Моей именинной» (1927) и «Золушкой» (1934), он оказался в родной стихии. Свойственные ему остроумие, любовь к фантазированию пригодились здесь как нельзя более, позволили обновить, перетолковать старые сказочные фабулы. И вот уже в «Моей именинной» он весело пародирует Андерсена, Афанасьева, Гофмана, проводит своего маленького героя сквозь сонмища игр, пестроту одежд, волшебство лекарств — и все это забавно, живо, изобретательно. А в «Золушке» найдено и сквозное действие: бедная девушка из тьмы и чада мачехиной кухни выходит на просторы свободной, умной, реальной жизни, и этот переход к современности совершается без какого либо упрощения потому, что решения, предложенные рассказчиком, остроумны и поэтичны. И все же эти встречи со сказкой не могли стать единственным путем Кирсанова. Он искал общения с современниками в своем стихе, и оно должно было быть все более близким, сердечным, серьезным. Тридцатые годы в нашей поэзии были временем подъема лирики. Утвердилась и распространилась замечательная способность вести речь о жизни народа, жизни страны, как о своей жизни, охватывать душевным движением события, судьбы, исторические свершения, находить в них источник переживания, которое, как известно, и есть основа, суть лирики. К Семену Кирсанову лирика пришла в печальном, горестном обличье. Написанная в июне 1937 года «Твоя поэма» рассказывала о тяжелой поре, о смерти любимой подруги. Это был непрерывный скорбный монолог, безудержное излияние чувств, предельно откровенная, доверчивая речь. Отличали поэму и обретенная чистота тона, душевная достоверность. Автор здесь с особым, пришедшим к нему волнением произносил «все те слова, которыми нельзя солгать». С одинаковым напряжением и убедительностью он воспроизводил и последние минуты прелестной, юной женщины, дорогой его сердцу, и тоску, которая его охватила с сокрушительной, казалось бы, непреодолимой силой, и еще более мощную власть жизни, которая обернулась
желаньем — отстоять Мадрид!
Желаньем, чтобы этот стих
шагал за нею вслед и вслед,
желаньем — сына в двадцать лет
к присяге красной привести.
Так пережитое несчастье словно отворило сердце поэту, открыло ему доступ к свободному и полному выражению своего душевного мира, а вместе с тем и окружающего строя чувств, помыслов, стремлений. Открытие новых путей обычно бывает и началом новых поисков. Кирсанов, должно быть, ощутил, что теперь приспел срок осуществить ранее данное обещание «заглянуть в души к товарищам, мимо идущим». В эту верную сторону направлены его усилия. На этой трудной дороге поэт действительно занят не экзерсисами, не версификационными упражнениями, а серьезными экспериментами. Завершаются они по-разному, но интерес, значение их очевидны и тогда, когда мы забываем о том, ради чего они производятся, что подготавливают, и оцениваем их безотносительно к последующим работам писателя. «Поэма поэтов» (1939–1956) — это отважная попытка выступить перед читателем в нескольких обликах сразу, не раздвоиться даже, а «расшестериться», то есть говорить от имени шести молодых поэтов, проживающих в одном и том же городе Козловске, но меж собою совсем не схожих. Начиная поэму, рассказывая о тетрадях, доставленных ему почтальоном, автор сразу же подчеркивает эту несхожесть. Кирсанов очерчивает своих героев с различной степенью отчетливости. Клим Сметанников — агроном не только по профессии, но и по призванию, и все его стихи несут в себе самозабвенную любовь к природе, возделываемой и обрабатываемой на потребу человеку. В стихах Варвары Хохловой все душевные состояния свидетельствуют о том, что перед нами очень молодая девушка, застенчиво и доверчиво вступающая в жизнь. В тетради Андрея Приходько все подчинено одной драматической коллизии: перед нами слепой юноша — прозрение приходит лишь в финале, — старающийся не пасть духом и терпеливо, с благодарностью говорящий о том, что скрашивает, смягчает его трудное существование. Остальные три поэта имеют уже признаки чисто профессионального, литературного порядка: один из них увлечен созданием «экстрактов» и рассматривает человеческие побуждения в их «концентрированном» виде; другой демонстрирует возможности, таящиеся в раешнике, на границе стиха и прозы, показывает, что и этот жанр может быть гибок, изящен, поэтичен; третий прихотлив, изменчив, его тянет к острословию, к звукожонглированию, — можно считать, что здесь «воскресает» Кирсанов 20-х годов; впрочем, и два предыдущих поэта тоже являются в некотором роде ипостасями своего создателя. Так, рядом с людьми, имеющими всамделишную, самостоятельную судьбу, поэт поставил свои собственные творческие наклонности и симпатии, находящие воплощение в его стихах. Можно предполагать, что Семен Кирсанов, ведя свои поиски на различных уровнях и разными средствами, предвидел возможность промахов, неполных удач и не боялся их. В этом нас убеждают его слова: «Предчувствие будущей войны отлилось в поэму „Герань — миндаль — фиалка“ (1936), показавшуюся тогда неправдоподобной. И действительно, в жизни война оказалась другой, чем в фантастической поэме. Но что-то было угадано, и за эти угаданности я помещаю ее среди новых своих вещей». Так же мог бы он охарактеризовать и написанную двумя годами раньше — в 1934 году — «Поэму о Роботе». И здесь высказаны многие предположения, одни из которых подтвердились, другие — нет. Однако домыслы поэта во многом опередили, предсказали те гипотезы, которые получили такое широкое распространение в книгах фантастического жанра двух последних десятилетий. Но строки, заключающие эту поэму: «Живая и добрая наша машина, стальной человечий товарищ!» — таят в себе очень доброе и точное, вполне современное, рожденное в нашей стране отношение к технике, и оно-то вполне реально и достоверно. Здесь, как и во всей работе Кирсанова, существенное влияние всегда оказывало, как он сам его называл, «желание быть на гребне событий». Своей строкою он постоянно стремился откликнуться на злобу дня, и постоянное следование за текущими событиями, естественно, воспитало в поэте чуткость ко всему, что привлекает внимание нашей страны, входит в жизнь современного человечества. Вот почему он уже в 1936 году пишет поэму «Война — чуме!», многие строфы которой примечательны своей проницательностью. Распространенное тогда речение — «фашистская чума» — стало для поэта опорной метафорой; он развернул ее в повествование сказочное и одновременно злободневное. На этот раз мотив фантастический — заговор крыс, распространяющих чуму, их нападение на Ваню и Машу — послужил раскрытию насущно важной политической темы, обличению захватнических замыслов немецкого и японского империализма. И еще одна поэма, проникнутая ощущением надвигающейся войны, была написана Кирсановым в дни мира. «Ночь под Новый Век» (декабрь 1940 г.) рассказывала о тех, кто будет, встречая новое столетие, глядеть на людей «сороковых и пятидесятых», вспоминать их труды, дивиться их подвигам. В подобной перетасовке времен имелся свой смысл: предвидя приближение серьезных столкновений, трудных лет, поэт подчеркивал их напряженность, их значение, доверяя слово потомкам. Так выдвигались критерии высокие и строгие, те, что должны найти применение во всех областях человеческой жизни, и в поэзии также. «Стих мой! — с надеждой и тревогой восклицал Кирсанов. — Как бы тебе дорасти до такой озаренности слов неожиданности и новизны?» И эта забота о сильном, «озаренном» слове была подсказана тем же предчувствием близящихся испытаний. Именно эта духовная «отмобилизованность», определявшая облик советской литературы в предвоенные годы, позволила нашим поэтам и в пору самых суровых, тяжких битв Великой Отечественной войны сочетать боевую оперативность стиха с нравственной, гражданской широтой и долговременностыо замыслов и решений. Вот и Кирсанов в своей поэме «Эдем» (1945), названной им «Дневником начала войны», изображает бомбежки и перестрелки красками чуть ли не апокалипсическими, лишь для того, чтобы рельефнее выразить смысл развернувшейся грандиозной битвы. «Я мог под Москвою увидеть своими глазами убитого нами Врага Человечьего Рода», — торжественно провозглашает он. И далее, опять и опять соединяет в своей строке фантастическую грандиозность измерений с достоверностью сугубо реальных примет и подробностей. «В ночь войны», ясно видя «новый день — радужный, земной, послевоенный», поэт знал, какими великими усилиями добывается победа, какой безраздельной отдачи она требует. И заключал свой «Дневник начала войны» словами поэтической присяги: «Со мной и походная лира и твердая рифма штыка». И точно: его «Заветное слово Фомы Смыслова», распространявшееся листовками в годы войны, получило широкое признание в Действующей армии. Рассказывая о том, как ведут себя бойцы в атаке, или доказывая, что «с умелым бойцом победа дружит», поэт приводил в действие живость, доходчивость, подвижность рифмованного слова и добивался искомой цели; он заключал свою беседу дружеским обращением: «Читайте, запоминайте, Фому добром поминайте!» Традиции старого русского лубка, и ранее осваиваемые Кирсановым, например, в «Поэме поэтов», здесь получили живое, полное смысла развитие. Возникал характер, — в Смыслове бойцы видели друга, товарища, чье слово было им дорого. Тому подтверждение — миллионы листовок и сорок тысяч писем-откликов. А вместе с тем за время войны укрепляется в поэзии Семена Кирсанова проникновенная отзывчивость, серьезная и сосредоточенная сердечность. Ее он открыто и убежденно утверждает в стихотворении «Творчество», сюжет которого почерпнут из армейского обихода (хирург, спасший бойца и упавший сам бездыханным после того, как снова забилось сердце им оживленного) и служит основою далеко идущего вывода:
Понял я, что нет на свете
выше, чем такое,
чем держать другое сердце
нежною рукою.
В подвиге хирурга поэт видит норму поведения для каждого человека, кем бы он ни был, каким бы он делом ни занимался. И, конечно же, для того, кто решается обращаться к другим людям со словами признания и доверия, то есть для поэта. Потому что «это в жизни, это в песне творчеством зовется». Писатель продолжает вести поиски на разных направлениях, но каждый новый шаг, им сделанный, свидетельствует об истинности именно тех принципов, которые он сам только что определил с такой убежденностью, сказав о том, что есть творчество. Можно подивиться той неутомимости, с которой Кирсанов, стремясь подойти на возможно короткую дистанцию к своим героям, установить с ними наиболее близкую связь, нащупывает, меняет различные подходы. В поэме «Александр Матросов» (1944–1949) он тщательно, с несвойственной ему прежде обстоятельностью воспроизводит биографию отважного юноши. В поэме «Небо над Родиной» (1945–1947) снова обращается к сказке, к фантасмагории, предоставляя слово для оценки совершенного летчиком подвига — облакам, ветру, капле, птицам. В поэме «Макар Мазай» (1947–1950) смело вводит в стих описание производственных процессов, рассказывая о делах знаменитого сталевара. В каждой из этих книг мы обнаруживаем строки, рождающие ответный отклик. В «Александре Матросове» нас трогает желание поэта сделать так, чтобы сам «Матросов рассказывал о себе в удивленном кругу: как решил поползти, как проскальзывал между голых кустов на снегу»; в «Небе над Родиной» — подвиг летчика, выбирающего «самый трудный путь — атаки с высоты»; в «Макаре Мазае» — изображение поединка меж сталеваром и печью, да и все другие сцены, в которых запечатлен творческий поиск героя. В эти же первые послевоенные годы утверждается в поэзии Семена Кирсанова традиция, которая так обещающе выступала в «Разговоре с Дмитрием Фурмановым», в «Твоей поэме», в «Творчестве». В 1947 году появляется стихотворение «Лирика». Опорной точкой здесь оказывается мгновенная встреча в метро с плачущим незнакомцем:
Человек стоял и плакал,
комкая конверт.
В сто ступенек
эскалатор вез его наверх.
Горе прохожего — источник острого переживания, повод для раздумий поэта о своей работе, о высоком назначении стихового слова.
Подойти? Спросить: «Что с вами?» —
просто ни к чему.
Неподвижными словами
не помочь ему.
Может, именно ему-то
лирика нужна.
Лирика здесь противостоит «неподвижным», поверхностным, холодно подобранным словам; ее высокое призвание признает поэт, доверяет ее умению поднимать, укреплять, сплачивать людей.
Пусть она беду чужую,
тяжесть всех забот,
муку самую большую
на себя возьмет.
Автор здесь далек от логических, строго выверенных определений. Во всех своих частях стихотворение это остается поэтическим обобщением, иносказанием. Речь идет не только о том, что лирика «скорой помощью, в минуту, подоспеть должна», но и о том прежде всего, что она обладает замечательной способностью нравственного воздействия. Лирически проникновенны не только стихи, но и поэмы. «Езда в Незнаемое» (1950–1952) — своего рода поэтический комментарий к знаменитой «формуле» Маяковского: «Поэзия — вся! — езда в Незнаемое». Здесь прослежено нынешнее инобытие великого поэта, мощное воздействие его строк, их деятельное участие в сегодняшних боях и трудах. И после сжатого, впечатляющего образа творческих подвигов и деяний — решительный вывод: «Это вот и есть, товарищи, поэзия!» Поэма «Вершина» (1952–1954) построена совсем по-иному. Она имеет сюжет, одновременно и достоверный и иносказательный. Рассказ о завоевании одной горной вершины Памира оказывается вместе с тем и осмыслением путей, ведущих к вершинам нравственным, душевным. Идеи социалистической современности познаются в жизненной гуще; недаром поэт вспоминает и о красном знамени над рейхстагом, и о работах, соединивших Волгу с Доном. Но и в малолюдстве безмерных высот действуют те же благородные принципы человеческой общности, свято соблюдается «приказ любви, приказ присяги, страны, звезды на красном стяге». Мысленно пережив новые для него испытания, писатель еще острее ценит окружающий мир, и рассказ его завершается словами нежными и благодарными. Здесь-то и проходил путь подлинного новаторства, требующего сосредоточенных раздумий и исследований. Кирсанову, должно быть, стали просто не интересны фонетические и ритмические эффекты. Он их оставил мальчикам в забаву. И надо сказать, что некоторые «мальчики», дебютировавшие во второй половине 50-х годов, с охотой этими «забавами» занялись, нимало не стесняясь или не замечая своего эпигонства. Им стоило бы прислушаться к словам Кирсанова, недавно сказанным: «У поэтов зависимых, назовем их последователями… язык — конь, ритм — всадник». Стих Семена Кирсанова, нимало не теряя своей подвижности, гибкости, отточенности, вместе с тем становился все более насыщенным, емким, напряженным. Именно такой стих нужен был поэту для решения сложных задач, поставленных им в порядок своего рабочего дня. Самые добрые и верные стремления, отнюдь не сразу пробившиеся, постепенно утверждавшиеся в его стихе, теперь выразились ясно и многосторонне. Перед нами был мастер зрелый и деятельный, по-новому настойчивый, сосредоточенный, по-прежнему неутомимый. В самом деле, и в 50-х и в 60-х годах его стихи и поэмы движутся широким фронтом. В этой смене мотивов и подходов есть своя последовательность. В «Ленинградской тетради» (1957–1960) он любуется золотым корабликом на Адмиралтейской игле, мостами, перекинутыми через реки и каналы, львами и сфинксами, украшающими невские берега, золотыми статуями Петергофа… Но в каждой из этих записей присутствует «дополнительная» тема, переживание, рождаемое той или иною встречей. Поэт сочувствует кораблику, не трогающемуся с места, «без рейсов и морей», но тут же вспоминает о том, что в этой эмблеме воплощено движение историческое; наблюдая за тем, как разводят мосты и меж ними проходит «громада корабля, два берега деля на разных две судьбы», обращается мыслью к горестному разладу, возникающему в отношениях человеческих, завидует гранитным фигурам, что, не дрогнув, переносят «обидные пинки, насмешливую брань», а проходя среди фонтанов, иронически спрашивает: «Что же, лучше человек, когда он позолочен?» Так через всю «Ленинградскую тетрадь», перекликаясь, поддерживая и оттеняя друг друга, идут два ряда впечатлений — пластический, визуальный и нравственный, душевный.
Я заглянул в глаза
и сердце Ленинграда —
он миру показал,
как жить на свете надо.
В этих словах, произнесенных уже в поезде, уносящем поэта в Москву, — итог памятных встреч, которые обогатили его не только новыми фактами, но и позволили острее ощутить сложное взаимодействие зримой красоты и душевного благородства. С еще большей очевидностью оно открывалось ему в родной Москве, где древний и вечно юный Кремль «диктует новизне урок воображения». Дорого стоят эти слова, произнесенные писателем, всегда радевшим о новизне, упорно постигавшем и постигшем ее природу! И в «Стихах о загранице» (1956–1957) рельефность зарисовок соединяется с поиском внутренним, мыслительным. Сказав в начале пути: «И раскрыто сердце заранее — удивлению, узнаванию», — Кирсанов в дальнейшем и в самом деле с азартом выкладывает один «мгновенный снимок» за другим. Но тут же возникает потребность задуматься над всем виденным. И тогда он видит не только «лак», но и «гниль», тогда он изумленно признается: «Во мне возник прозаик». Что это — отказ от стиха? Нет, иное: «Вторгаться я обязан в жизнь, она важней мозаик!» И стих выполняет эту задачу образного вторжения в жизнь: за «кулисами» венецианских дворцов стоят безработные парни и их пальцы складываются в «салют, известный всем рабочим»; в кафе «Флориан» встает тень Мицкевича, страдавшего здесь «в бархатной неволе»; в редакции «L’Unita» происходит беседа, крепко-накрепко врезающаяся в сердце московского поэта. И далее в стихах следуют одна за другой картины западноевропейской действительности, оцениваемой нашим соотечественником. В циклах «Этот мир» (1945–1956), «Под одним небом» (1960–1962), в поэме «Следы на песке» (1962) Кирсанов также ведет стих свободно и раскованно, словно прошивая сквозным действием различные планы поэтического повествования. Без какой-либо натяжки, непринужденно и властно, он измеряет планетарными масштабами простейшие и сложнейшие человеческие чувства и запросто обживает космические пространства, чувствуя здесь себя, как в родном доме. Дерзкий взлет метафор оправдан, потому что в нем схвачено естественное становление доброго, чистого, нежного чувства. Рядом с взволнованными строками, передающими самые возвышенные стремления, дышащими озонированным воздухом, появляются строки пытливые, аналитически внимательные ко всему сложному, противоречивому. К поэту пришло «счастье — жить в мире осознанном», счастье «знать, что я часть человечества». Это знание и становится источником создания образов живых, трепетных и вместе с тем освещающих глубинные процессы общественной жизни. Анализ и синтез, исследование и обобщение нераздельны, питают друг друга в произведениях зрелых, улавливающих динамику общественной жизни, направление ее развития. В цикле «Под одним небом» лирический герой проходит через испытания многие и трудные — через пустоту покинутого дома и через бешенство стихий, через «гул гор, смоляной мрак, барабан града» и через искушения суемудрием, «шаманством», велеречивостью, через смутность предвидений, предощущений. Поэт не умалчивает о том, что омрачает судьбы земного шара, но в его спокойных, взвешенных словах гораздо больше мужественного оптимизма, чем в беспечально ликующих возгласах, что так часто раздавались в стихах прошлых лет, выходивших из-под пера Кирсанова, и, конечно же, не только Кирсанова! Именно потому так прочно ложатся в строку, так твердо звучат слова, заключающие одно из сильнейших стихотворений цикла: «Этот мир мой, я в него верю». Для доказательства истинности своей веры автор находит аргументы свежие, оригинальные. Оригинальные и по мысли, и по фактам, и по слову. Он очень заботится о том, чтобы речевой строй его стиха был гибок, свободен, многогранен. Он знает: «поэзия ищет и ждет выражения» — впечатляющего, яркого, разностороннего. И потому любит «всяческую метаморфозу, и поэзией ставшую прозу». Действительно: его полупрозаический, с неброской, еле ощущаемой рифмовкой, написанный «сплошной» строкой дифирамб «Слова» из «Поэмы поэтов» исполнен поэтического напряжения. Какие только определения — их несколько десятков! — он не находит для характеристики языковых богатств! Особое место Семен Кирсанов отводит лубочному стиху, что так хорошо послужил ему в «Фоме Смыслове». Поэт требует уважительного отношения к этому стиху: «Ничего, что он шире и тише, что нету в нем слоговых часовых, дисциплинированных четверостиший». И чтобы делом подтвердить свою позицию, пишет озорное, лукавое «Сказание про царя Макса-Емельяна» (1962–1964) — вольную композицию, в которой скоморошьи интонации и мотивы прослоены вполне современными ассоциациями и сопоставлениями. Сквозной темой здесь оказывается презрение к тунеядству, уважение к свободному труду. И сразу же — возвращение к сложным вопросам современной жизни. В поэме «Однажды завтра» (1964) Кирсанов старается рассказать о человеческом существовании с позиций завтрашнего дня, когда этого человека, рассуждающего, переживающего, уже не будет, но будет продолжаться жизнь человечества. Поэт не требует самоотречения, растворения в огромной бесконечности, да и достижимо ли, естественно ли подобное спокойное отношение к небытию?! Но знает: «Мы все из круга жизни», — и находит опору в этой множественности, обилии действительности и неостановимом движении жизни. Он убежден: «Чудо — не вечность, чудо — век… Чудо — нашел! Чудо — что сам на свете нашелся». Вот почему автор и позволяет себе обратиться к потомкам со словами дружелюбия: «Но там, где мы числимся „выбывшими“, вписаны вы — бывшие мы». Так сказано в стихах. Их поддерживает и проза, впрочем, приближенная к поэзии! «Нужно только помнить, что мы не одни, что были они. Что в одних мы кончаемся, а в других начинаемся снова. И последнее слово: нельзя, чтобы кто-нибудь умер совсем». Чего здесь больше: скорби, надежды? Нет, человеческого достоинства и мудрой ясности взгляда! Не этого ли и добивался Кирсанов, когда писал: «Хочу я только трезвости…» И еще: «И зренья, только зренья — в глубинный жизни слой…» Нет, конечно, не только трезвая мысль, но и поэзия живет в его стихах, в его поэме «Зеркала» (1965–1968), которую он назвал «Повестью в двух планах». Образное исследование всегда отличалось и будет отличаться от научного, всегда будет иметь свою особую логику. Но в том-то и сказывается чудесное могущество искусства, вооруженного верной и справедливой идеей, что оно может, нимало не поступаясь своей особенной природой, проникать действительно в глубинные слои жизни. Так и написаны «Зеркала». Автор сразу же вводит в поэму волшебный домысел, сказочную гипотезу, которая и останется основою повествования. Он утверждает, что окружающие нас зеркала сберегают, утаивают навсегда все, что в них отразилось хоть однажды. И относится к высказанному им предположению с совершенной серьезностью, более того — драматизмом:
Жизни точный двойник,
верно преданный ей,
крепко держит тайник
наших подлинных дней.
Тревога, напряжение в этих строках… Они здесь уместны потому, что фантастический «допуск» понадобился поэту для постижения «подлинных дней», той правды, которую скрывает оболочка, скорлупа, шелуха внешнего, кажущегося. Сперва писатель направляет острие исследовательского скальпеля против лжи, лицемерия в частной жизни, порождавшихся и порождаемых собственническими отношениями. Он углубляет, развивает исходное построение: «Жизнь притворяться наловчилась, а правду знали зеркала». «Изобретение», сделанное поэтом, требует дальнейшего развития, применения. Возникает череда картин исторических: Петропавловская крепость, «где смертник ночь провел без сна», «„Искры“ ленинской страница». «Красной гвардии колонны» и далее, далее, уже не только зеркала, но и стены, и газетные страницы, и окна, и потолки, и фабричная труба, и «валун в пустыне каменистой», и мраморно-стальные арки метро, и бетон Братской плотины — все, что окружает нас, несет на себе отпечаток содеянного, передуманного, пережитого современниками. И остается напоминанием, либо осуждающим, либо вдохновляющим, но укрепляющим волю строителей нового мира. Так расширяются рамки поэтического повествования, и оно обнимает, сопрягает, сопоставляет различные планы, ряды фактов, находя в них почву для точных, продуманных умозаключений; так складывается поэма, сильная своей проницательностью, воодушевлением гражданским и поэтическим. Качества, здесь названные, определяют звучание и лирических циклов, написанных Семеном Кирсановым главным образом в конце 60-х — начале 70-х годов. Несходство жизненных мотивировок, привлекаемых поэтом, разительно. В цикле «На былинных холмах» (1968–1970) все определяется ходом наблюдений, ведущихся в астрономической обсерватории. В «Больничной тетради» (1964–1972) как бы ведутся записи, складывающиеся в «историю болезни». А в «Признаниях» (1970–1972) автор высказывает свои суждения и взгляды самым разным ладом и по самым разным поводам: он старается определить природу бесстрашия и воображения, преемственности поколений и любовной страсти, образного творчества и прямодушия… Недюжинный размах! И во всей этой смене тем, коллизий, догадок, умозаключений — есть своя, пускай и не сразу улавливаемая последовательность: пожалуй, с наибольшей явственностью она выступает в призывных словах, обращенных поэтом не только к окружающим, но и к себе самому:
О, товарищи, люди, друзья,
поскорей свои очи протрите,
отворите, разденьте глаза
и без стекол на мир посмотрите!
Так, «без стекол» — зорко и пристально, увлеченно и взыскательно — стремился глядеть на жизнь Кирсанов, передавая ее немеркнущее очарование и постигая ее глубинные противоречия, стараясь найти при этом новые и новые срезы, подходы, повороты, планы поэтического изображения. Порою дивишься тому, как запросто беседует поэт «с поднадзорным мирозданьем», стоя у телескопа, с каким удальством ведет речь о своей болезни, как серьезно говорит о чудесах, что вершатся в волшебной комнате! Но потом понимаешь, что за этим стоит — в чем суть этих видимых несоответствий. Близость к вселенной имеет своей основой заботу о счастье нашей планеты. Силы для борьбы с недугом появляются потому, что «алчет душа труда», и слабая еще рука тянется к перу, к работе. А колдовство и волхвование, таящиеся в художественных образах, действительно требуют самого серьезного отношения со стороны тех, кто за них берется. В этом нас убеждает и не так давно опубликованная драматическая поэма «Дельфиниада» (1971). Герои этого произведения — обитатели морей, нынче привлекшие внимание всего человечества. Кирсановым уже и раньше, в стихотворении «Шестая заповедь», дельфин был назван в числе существ, что «не должны подлежать убийству — пусть живут, пусть летят, плывут». Но поэт не удовлетворился столь беглым упоминанием, — оно не исчерпывало возможности, таящиеся в этой теме. Он написал «Дельфиниаду»… Поэма открывается встречей одинокого гребца с группой — не хочется сказать «стаей» — дельфинов, дружелюбной беседой, ненароком перерастающей в своеобразную поэтическую монографию, которую можно было бы назвать «дельфины в искусстве». В эту веками составляемую летопись, начатую еще во времена античности, Кирсанов вписывает свою главу — особенную, своеобычную… Со свойственной ему отвагой он при помощи электронного переводчика устанавливает, что «у них своя книга Бытия, свое сказание о потопе». Тут читатель знакомится и с языком дельфинов, и с их обычаями, и с их историей, подвигами, трудами. И еще с предательскими, обманными действиями людей, что, использовав доверчивость, трудолюбие наивных собратьев, намеревались их погубить… Перед нами повествование, блещущее безудержностью вымысла и одновременно имеющее значительную, точно определенную цель. Она выступает в строфе, которую можно считать сердцевиною поэмы:
Когда поймешь ты наконец,
врубаясь в мертвые породы,
о, человек, венец природы,
что без природы твой венец?
Понимание, о котором говорит поэт, становится, в порядок нынешнего дня. Им проникнуты правительственные постановления и произведения искусства. Слово Кирсанова произнесено с настоящей страстностью — гражданской, человеческой, поэтической. Отсюда его весомость, убедительность, неподдельная современность. Как-то Семен Кирсанов сказал о том, чем дорожил, чего добивался с первых шагов на литературном поприще, сказал уверенно, твердо:
Да, я знаю — новаторство
не каскад новостей, —
без претензий на авторство,
без тщеславных страстей…
Поэту открылось существо образной новизны. Она сказалась в его циклах и поэмах последних лет, она, наверное, сказалась бы и в тех, которые он предполагал написать… Но тяжелая болезнь оборвала его жизнь в декабре 1972 года. Поэты истинные были, есть и будут неутомимыми, сосредоточенными искателями нового в стихе и в жизни. Тому свидетельство и добытое, сделанное Семеном Кирсановым на путях постижения времени, человека, слова.
И. Гринберг
ЛИРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1923—1972
Лирика
Человек стоял и плакал,
комкая конверт.
В сто ступенек эскалатор
вез его наверх.
К подымавшимся колоннам,
к залу, где светло,
люди разные наклонно
плыли из метро.
Видел я: земля уходит
из-под его ног.
Рядом плыл на белом своде
мраморный венок.
Он уже не в силах видеть
движущийся зал.
Со слезами, чтоб не выдать,
борются глаза.
Подойти? Спросить: «Что с вами?» —
просто ни к чему.
Неподвижными словами
не помочь ему.
Может, именно ему-то
лирика нужна.
Скорой помощью, в минуту,
подоспеть должна.
Пусть она беду чужую,
тяжесть всех забот,
муку самую большую
на себя возьмет.
И поправит, и поставит
ногу на порог,
и подняться в жизнь заставит
лестничками строк.
НАЧАЛО (1923–1937)
Скоро в снег побегут струйки,
скоро будут поля в хлебе.
Не хочу я синицу в руки,
а хочу журавля в небе.
Погудка о погодке
Теплотой меня пои,
поле юга — родина.
Губы нежные твои —
красная смородина!
Погляжу в твои глаза —
голубой крыжовник!
В них лазурь и бирюза,
ясно, хорошо в них!
Скоро, скоро, как ни жаль,
летняя долина,
вновь ударится в печаль
дождик-мандолина.
Листья леса сгложет медь,
станут звезды тонкими,
щеки станут розоветь —
яблоки антоновки.
А когда за синью утр
лес качнется в золоте,
дуб покажет веткой: тут
клад рассыпан — желуди.
Лягут белые поля
снегом на все стороны,
налетят на купола
сарацины — вороны…
Станешь, милая, седеть,
цвет волос изменится.
Затоскует по воде
водяная мельница.
И начнут метели выть
снежные — повсюду!
Только я тебя любить
и седою буду!
Осень
Les sanglots longs…Paul Verlaine[1]
Лес окрылен,
веером — клен.
Дело в том,
что носится стон
в лесу густом
золотом…
Это — сентябрь,
вихри взвинтя,
бросился в дебрь,
то злобен, то добр
лиственных домр
осенний тембр.
Ливня гульба
топит бульвар,
льет с крыш…
Ночная скамья,
и с зонтиком я —
летучая мышь.
Жду не дождусь…
Чей на дождю
след?..
Много скамей,
но милой моей
нет!..
Сентябрьское
Моросит на Маросейке,
на Никольской колется…
Осень, осень-хмаросейка,
дождь ползет околицей.
Ходят конки до Таганки
то смычком, то скрипкою…
У Горшанова цыганки
в бубны бьют и вскрикивают!..
Вот и вечер. Сколько слякоти
ваши туфли отпили!
Заболейте, милый, слягте —
до ближайшей оттепели!
Любовь лингвиста
Я надел в сентябре ученический герб,
и от ветра деревьев, от веток и верб
я носил за собою клеенчатый горб —
словарей и учебников разговор.
Для меня математика стала бузой,
я бежал от ответов быстрее борзой…
Но зато занимали мои вечера:
«иже», «аще», «понеже» et cetera…
Ничего не поделаешь с языком,
когда слово цветет, как цветами газон.
Я бросал этот тон и бросался потом
на французский язык:
Nous étions… vous étiez… ils ont…
Я уже принимал глаза за латунь
и бежал за глазами по вечерам,
когда стаей синиц налетела латынь:
«Lauro cinge volens, Melpomene, comam!»
Ax, такими словами не говорят,
мне поэмы такой никогда не создать!
«Meine liebe Mari», — повторяю подряд
я хочу по-немецки о ней написать.
Все слова на моей ошалелой губе —
от нежнейшего «ax» до клевков «улюлю!».
Потому я сегодня раскрою тебе
сразу все: «amo», «j'ame», «liebe dich» и «люблю».
В черноморской кофейне
О, город родимый! Приморская улица,
где я вырастал босяком голоштанным,
где ночью одним фонарем караулятся
дома и акации, сны и каштаны.
О, детство, бегущее в памяти промельком!
В огне камелька откипевший кофейник.
О, тихо качающиеся за домиком
прохладные пальмы кофейни!
Войдите! И там, где, столетье не белены,
висят потолки, табаками продымленные.
играют в очко худощавые эллины,
жестикулируют черные римляне…
Вы можете встретить в углу Аристотеля,
играющего в домино с Демосфеном.
Они свою мудрость давненько растратили
по битвам, по книгам, по сценам…
Вы можете встретить за чашкою «черного»
глаза Архимеда, вступить в разговоры: —
Ну как, многодумный, земля перевернута?
Что? Найдена точка опоры?
Тоскливый скрипач смычком обрабатывает
на плачущей скрипке глухое анданте,
и часто — старухой, крючкастой, горбатою,
в дверях появляется Данте…
Дела у поэта не так ослепительны
(друг дома Виргилий увез Беатриче)…
Он перцем торгует в базарной обители,
забыты сонеты и притчи…
Но чудится — вот-вот навяжется тема,
а мысль налетит на другую — погонщица
за чашкою кофе начнется поэма,
за чашкою кофе окончится…
Костяшками игр скликаются столики;
крива потолка дымовая парабола.
Скрипач на подмостках трясется от коликов;
Философы шепчут: — Какая пора была!..
О, детство, бегущее в памяти промельком!
В огне камелька откипевший кофейник…
О, тихо качающиеся за домиком
прохладные пальмы кофейни.
Стоят и не валятся дымные, старые
лачуги, которым свалиться пристало…
А люди восходят и сходят, усталые, —
о, жизнь! — с твоего пьедестала!
Моя автобиография
Грифельные доски,
парты в ряд,
сидят подростки,
сидят — зубрят:
«Четырежды восемь —
тридцать два».
(Улица — осень,
жива едва…)
— Дети, молчите.
Кирсанов, цыц!..
сыплет учитель
в изгородь лиц.
Сыплются рокотом
дни подряд.
Вырасту доктором
я (говорят).
Будет нарисовано
золотом букв:
«ДОКТОР КИРСАНОВ,
прием до двух».
Плача и ноя,
придет больной,
держась за больное
место: «Ой!»
Пощупаю вену,
задам вопрос,
скажу: — Несомненно,
туберкулез.
Но будьте стойки.
Вот вам приказ:
стакан касторки
через каждый час!
Ах, вышло иначе,
мечты — пустяки.
Я вырос и начал
писать стихи.
Отец голосил:
— Судьба сама —
единственный сын
сошел с ума!..
Что мне семейка —
пускай поют.
Бульварная скамейка —
мой приют.
Хожу, мостовым
обминая бока,
вдыхаю дым
табака,
Ничего не кушаю
и не пью —
слушаю
стихи и пою.
Греми, мандолина,
под уличный гам.
Не жизнь, а малина —
дай бог вам!
Маяковскому
Быстроходная яхта продрала бока,
растянула последние жилки
и влетела в открытое море,
пока от волненья тряслись пассажирки.
У бортов по бокам отросла борода,
бакенбардами пены бушуя,
и сидел, наклонясь над водой, у борта
человек, о котором пишу я.
Это море дрожит полосой теневой,
берегами янтарными брезжит…
О, я знаю другое, и нет у него
ни пристаней, ни побережий.
Там рифы — сплошное бурление рифм,
и, черные волны прорезывая,
несется, бушприт в бесконечность вперив,
тень парохода «Поэзия».
Я вижу — у мачты стоит капитан,
лебедкой рука поднята,
и голос, как в бурю взывающий трос,
и гордый, как дерево, рост.
Вот вцепится яро, зубами грызя
борта парохода, прибой, —
он судно проводит, прибою грозя
выдвинутою губой!
Я счастлив, как зверь, до ногтей, до волос,
я радостью скручен, как вьюгой,
что мне с командиром таким довелось
шаландаться по морю юнгой.
Пускай прокомандует! Слово одно —
готов, подчиняясь приказам,
бросаться с утеса метафор на дно
за жемчугом слов водолазом!
Всю жизнь, до седины у виска,
мечтаю я о потайном.
Как мачта, мечта моя высока:
стать, как и он, капитаном!
И стану! Смелее, на дальний маяк!
Терпи, добивайся, надейся, моряк,
высокую песню вызванивая,
добыть капитанское звание!
Морская песня
Мы — юнги, морюем на юге,
рыбачим у башен турецких,
о дальних свиданьях горюем,
и непогодь резкую любим,
и Черного моря девчонок —
никчемных девчонок — голубим.
И мы их, немилых, целуем,
судачим у дачных цирулен
и к нам не плыла с кабалою —
кефаль, скумбрия с камбалою!
Но, близкая, плещет и блещет
в обводах скалистых свобода!
Подводный мерещится камень
и рыбы скользят на кукане,
и рыбий малюсенький правнук
рывками тире телеграфных
о счастье ловца сообщает,
и смрадная муха смарагдом
над кучей наживки летает.
Я вырос меж рыб и амфибий
и горло имею немое.
О, песня рыбацкая! Выпей
дельфинье одесское море!
Ко мне прилетают на отдых
птицы дымков пароходных.
Асееву
Какая прекрасная легкость
меня подымает наверх?
Я — друг, проведенный за локоть
и вкованный в песню навек.
Как песня меня принимала,
нося к соловьиным боям!
Как слушало ухо Лимана
речную твою Обоянь!
Не ты ли, сверканьем омытый, —
на люди! на землю! на синь! —
Оксаны своей оксамиты,
как звезды, в руках проносил?
И можно глазища раззарить —
что словом губа сведена,
что может сверкнуть и ударить
как молния в ночь — седина.
В меня залетевшая искра,
бледнея и тлея, светись,
как изморозь речи, как избрань
защелканных песнями птиц!
Рост лингвиста
Сегодня окончена юность моя.
Я утром проснулся в халате и туфлях,
увидел: взрослеют мои сыновья —
деревья-слова, в корневищах и дуплах.
И стала гербарием высохших слов
тетрадь молодого языковеда,
но сколько прекрасных корней проросло,
но сколько запенилось листьями веток!
Сады словарей посетили дожди,
цветут дерева, рукава подымая,
грузинское ЦХ и молдавское ШТИ,
российское ОВ, украинское АЕ.
К зеленым ветвям, закипая внизу,
ползут небывало зеленые лозы —
китайское ЧЬЕН, и татарское ЗУ,
и мхи диалектов эхоголосых.
Я слышал: на ветке птенец тосковал,
кукушка, как песня, в лесу куковала, —
и понял: страна моя такова!
А лес подымался, а речь ликовала…
Весною раскроется сад словарей,
таившийся в промхах кореньев сыновних,
и то, что лелеял еще в январе,
тяжелым и спелым увидит садовник.
Склонения
— Именительный — это ты,
собирающая цветы,
а родительный — для тебя
трель и щелканье соловья.
Если дательный — всё тебе,
счастьем названное в судьбе,
то винительный — нет, постой,
я в грамматике не простой,
хочешь — новые падежи
предложу тебе? — Предложи! —
Повстречательный есть падеж,
узнавательный есть падеж,
полюбительный, обнимательный,
целовательный есть падеж.
Но они не одни и те ж —
ожидательный и томительный,
расставательный и мучительный
и ревнительный есть падеж.
У меня их сто тысяч есть,
а в грамматике только шесть!
Зимняя восторженная
Снега! Снега! Меха! Меха!
Снежинок блеск! Пушинок свет!
Бела Москва, тиха, мягка,
подостлан пух мехов Москве.
Тяжел, колюч кожух-тулуп,
но верхних нот нежней енот.
Тулуп бредет в рабочий; клуб,
енот с бобром: — Куда? — В кино!
Синей, синей полет саней,
в морозном дыме мчит рысак,
и дом синей, и дым синей,
и ты синей, моя краса!
Снега — сверкнут, меха куснут,
свернется барс, ввернется рысь!
Прилег сугроб на снег уснуть,
но снова бег, но снова рысь!
Мороз, мороз! Кусни, щипни,
рвани за ухо, за нос хвать!
Пусть нарасхват снежков щебни
тебе залепят рот, Москва.
Чтоб ты была тиха, бела,
чтоб день скрипел, снежон и бел,
чтоб мерзли в ночь колокола,
чтоб звезды тронул школьный мел.
Пускай блеснут снега, меха
на зимний свет, на белый цвет.
Бела Москва, тиха, мягка,
подостлан пух мехов Москве.
Девушка и манекен
С папироскою «Дюшес» —
девушка проносится.
Лет примерно двадцать шесть,
пенсне на переносице.
Не любимая никем
(места нет надежде!)
вдруг увидит — манекен
в «Ленинградодежде».
Дрогнет ноготь (в полусне)
лайкового пальца.
Вот он девушке в пенсне
тайно улыбается.
Ногу под ногу поджав,
и такой хорошенький
Брючки в елочку, спинжак,
галстушек в горошинку.
А каштановая прядь
так спадает на лоб,
что невинность потерять
за такого мало!
Вот откинет серый плащ
(«Выйди, обними меня!»).
Подплывает к горлу плач.
«Милый мой! Любименький!»
И ее со всей Москвой
затрясет от судорог.
Девушка! Он восковой.
Уходи отсюдова!
Гулящая
Завладела киноварь
молодыми ртами,
поцелуя хинного
горечь на гортани.
Черны очи — пропасти,
беленькая челка… —
Ты куда торопишься,
шустрая девчонка?
Видно, что еще тебе
бедовать нетрудно,
что бежишь, как оттепель
ручейком по Трубной.
Всё тебе, душа моя,
ровная дорожка,
кликни у Горшанова
пива да горошка.
Станет тесно в номере,
свяжет руки круто,
выглянет из кофточки
молодая грудка.
Я скажу-те, кралечка,
отлетает лето,
глянет осень краешком
желтого билета.
Не замолишь господа
никакою платой —
песня спета: госпиталь,
женская палата.
Завернешься, милая,
под землей в калачик.
Над сырой могилою
дети не заплачут.
Туфельки лядащие,
беленькая челка…
Шустрая, пропащая,
милая девчонка!
Разговор с бывшей
Не деньга ли у тебя завелась,
что подстриглась ты и завилась?
Вот и ходишь вся завитая,
и висок у тебя — запятая!
Будь любезен, ты меня не критикуй,
у меня полон денег ридикуль.
Я Петровкой анадысь проходила
и купила ридикуль из крокодила.
Будь любезна, расскажи про это мне:
не стипендию ли класть в портмоне?
Или стала ты, повыострив норов,
получать гонорар от ухажеров?
Подозрительный ты стал, дорогой!
Он мне нужен для надоби другой —
а для пудреницы, хны и помады
и платочки чтобы не были помяты.
Ты не прежним говоришь языком,
да мое тебе слово — не закон,
этих дней не оборвать, не побороть их!
Разойдемся ж, как трамваи в повороте!
Белофетровой кивнула головой,
помахала ручкой — замшей голубой,
отдала кондуктору монету
и по рельсам заскользила — и нету!
Нащот шубы
У тебя пальтецо
худоватенькое:
отвернешь подлицо
бито ватенкою.
А глядишь, со двора —
не мои не юга,
а твои севера,
где снега да вьюга!..
Я за тайной тайги,
если ты пожелашь,
поведу сапоги
в самоежий шалаш.
А у них соболей —
что от них заболей!
А бобров, а куниц —
хоть по бровь окунись!
На ведмедя бела
выйду вылазкою.
Чтобы шуба была,
шкуру выласкаю.
Я ведмедя того
свистом выворожу,
я ведмедю тому
морду выворочу.
Не в чулках джерси,
подпирая джемпр, —
ты гуляй в шерсти
кенгуров и зебр,
чтобы ныл мороз,
по домам трубя,
чтоб не мог мороз
ущипнуть тебя.
Ей
Я покинул знамена
неба волости узкой,
за истоками Дона,
коло Тростенки Русской.
И увез не синицу,
но подарок почтовый,
а девицу-зеницу
за глухие трущобы.
И не поезд раскинул
дыма синие руки —
и, закинув на спину,
вынес тело подруги.
Волк проносит дитятю
мимо логов сыновних,
мимо леса, где дятел —
телеграфный чиновник.
То проточит звереныш
ржи заржавленный волос,
то качнется Воронеж, то —
Репьевская волость!
Хорошо ему, волку,
что она, мимо гая,
на звериную холку
никнет, изнемогая.
Грузинская
О, Картвелия целит за небо,
пули легкие дальше не были.
В небо кинемся амхинагебо,
двинем в скалы на взмахи сабли.
Чика красного, чика белого,
Чиковани и Жгенти, чокнемся! —
Сокартвелоши ми пирвелад вар! —
Говорю я, ко рту рожок неся.
Зноем обдал нас город Тбилиси.
Хорохорятся горы голубо.
Дождь на Мтацминде, тихо вылейся
и до Майдани мчи по желобам…
Любовь математика
Расчлененные в скобках подробно,
эти формулы явно мертвы.
Узнаю: эта линия — вы!
Это вы, Катерина Петровна!
Жизнь прочерчена острым углом,
в тридцать градусов пущен уклон,
и разрезан надвое я
вами, о, биссектриса моя!
Знаки смерти на тайном лице,
угол рта, хорды глаз — рассеки!
Это ж имя мое — ABC —
Александр Борисыч Сухих!
И когда я изогнут дугой,
неизвестною точкой маня,
вы проходите дальней такой
по касательной мимо меня!
Вот бок о бок поставлены мы
над пюпитрами школьных недель, —
только двум параллельным прямым
не сойтись никогда и нигде!
ТБЦ
Роза, сиделка и россыпь румянца.
Тихой гвоздики в стакане цвет.
Дальний полет фортепьянных романсов.
Туберкулезный рассвет.
Россыпь румянца, сиделка, роза,
крашенной в осень палаты куб.
Белые бабочки туберкулеза
с вялых тычинок-губ.
Роза, сиделка, румянец… Втайне:
«Вот приподняться б и „Чайку“ спеть!..»
Вспышки, мигания, затуханья
жизни, которой смерть.
Россыпь румянца, роза, сиделка,
в списках больничных которой нет!
(Тот посетитель, взглянув, поседел, как
зимний седой рассвет!)
Роза. Румянец. Сиделка. Ох, как
в затхлых легких твоих легко
бронхам, чахотке, палочкам Коха.
Док-тора. Кох-ха. Коха. Кохх…
Бой Спасских
Колокола. Коллоквиум
колоколов.
Зарево их далекое
оволокло.
Гром. И далекая молния.
Сводит земля
красные и крамольные
грани Кремля.
Спасские распружинило —
каменный звон:
Мозер ли он? Лонжин ли он?
Или «Омега» он?
Дальним гудкам у шлагбаумов
в унисон —
он до района Баумана
донесен.
«Бил я у Иоанна, —
ан, —
звону иной регламент
дан.
Бил я на казнях Лобного
под барабан,
медь грудная не лопнула, —
ан, —
Била молчат хвалебные,
медь полегла.
Как колыбели, колеблемы
колокола.
Башня в облако ввинчена —
и она
пробует вызвонить «Интерна —
ционал».
Дальним гудкам у шлагбаумов
в унисон —
он до района Баумана
донесен.
Девичий Именник
Ты искал имен девичьих,
календарный чтил обычай,
но, опутан тьмой привычек,
не нашел своей добычи,
И сегодня в рифмы бросишь
небывалой горстью прозвищ!
Легкой выправкой оленей
мчатся гласные к Елене.
В темном лике — Анастасья —
лепота иконостасья.
Тронь, и вздрогнет имя — Анна —
камертон, струна, мембрана.
И потянет с клички Фекла —
кухня, лук, тоска и свекла.
Встань под взмахом чародея —
добродетель — Доротея!
Жди хозяйского совета,
о модистка Лизавета!
Мармеладно-шоколадна
Ориадна Николавна…
Отмахнись от них рукою,
зазвени струной другою.
Не тебе — звучали эти
имена тысячелетий.
Тишина! Silence! и Ruhig!
Собери, пронумеруй их, —
календарь истрепан серый, —
собери их в буквы серий,
чтобы люди умирали,
как аэро, с нумерами!
Я хотела вам признаться,
что люблю вас, R-13!
Отвечаю, умилен:
Я люблю вас, У-1 000 000!
Северные письма
1
Севернее!
Севернее!
В серое!
В серебряное!
В сумерки,
рассеянные
над седыми дебрями!
Выше!
Выше!
Севернее!
Северней полет…
Шумный ветер стервенеет,
нескончаем лед.
Разве есть на свете юг?
Дай ответ!
Разве этих синих дуг
где-то нет?
Холод молод и растущ,
холод гол,
и гудит полярных стуж
колокол.
И назад уйти нельзя,
задрожав, —
выше — в гибель поднялся
дирижабль.
2
Сколько дымных
белых лет,
сколько длинных
кинолент
замерзало?
Сколько темных
звезд вослед
замерцало?
Путешествуем? Путешествуем
в снах туманных высот.
Мы над северным снегом шефствуем
с высоты пятисот.
Что за право? Какая охота?
Чьи ладони несут
миллион ледяных Хара-Хото
подо мною внизу?
3
Милая!
В таком аду,
где и лед
кричит «ату»,
с лету, сразу
разберешь,
до чего
наш мир хорош!
Слушай!
Мной осиротев,
вспомни,
вдруг похолодев,
на какой
я широте,
на какой
я долготе.
4
Недавно в безмолвную темень,
от ужаса сузив зрачки,
на самое полюса темя
они побросали флажки.
Смешные! Зеленые с красным,
но белое их замело.
Назад возвращаться не страшно,
и айсберг принять за мелок.
А южнее — лучше,
лучше — ближе к лету.
Северные люди
пели песню эту:
«Пимы наши,
пумы,
чумы наши,
шумы,
думы наши,
дымы
кажутся
седыми».
А южнее — лучше,
лучше — ближе к лету.
Мурманские люди
пели песню эту:
«Роба наша —
рыба,
слава наша —
ловля,
сельди
идут в сети,
тропы наши —
трапы».
А южнее — лучше,
лучше — ближе к лету.
В Новгороде люди
пели песню эту:
«Снится мне
пшеница,
рожь
всего дороже,
а ячменной
жмене
на пшене
жениться».
А южнее — лучше,
лучше — ближе к лету.
Черноморья люди
пели песню эту:
«У купальни —
пальмы;
ляг плашмя
у пляжа;
камбала
рукам была
тяжела,
как яшма».
Ниже! Туже! Туже!
Вдруг запахло стужей.
Кто-то у Батума
обо мне подумал.
Ты не проворонишь
звук из южных комнат?
Может, у Воронежа тоже,
может, помнят?..
Льдины, льдины, льдины…
Дирижабль, падая
на лед, в крик единый
разорвался надвое.
5
Предъявляйте полюсу счет,
стиснув брови до морщи,
от замерзших уже и еще
не замерзших.
Небывало низка земля,
не бывало пространства ниже.
Сколько градусов ниже нуля
и меня, обхватив, пронижет?
Но увидит пингвиний съезд,
как убит самолет разбегом,
как дотягивается SOS,
чтоб рукою схватить Шпицберген.
6
Парусники-нетопыри
так же носили Пири,
от ледяных осколков
так же спасался Кольгоу.
На ледяную крепость
шел погибать «Эребус»,
и, как они, замучен
дыбою льдов Амундсен.
7
Спросишь, бегло
проглядевши прессу,
что за пекло
бьет в нас из обреза?
Где «Малыгин»?
В ледовитом гуде
бледнолики
и бесследны люди.
У какой он
нынче параллели?
Он спокоен,
льды не поалели.
За тобою
я плыву, «Малыгин»,
китобоем
в этот лед великий,
и прилажен
парус к верху улиц,
такелажем
рифмы протянулись.
Уплывает, как дельфин —
фин-Финляндия.
Моря ширится разлив —
лиф-Лифляндия.
Как медведь пластами лап —
лап-Лапландия.
Корабля широкий крен —
грен-Гренландия.
8
Коду и азбуке
выучим айсберги,
килем железным
в гущу влетим,
на повороте
нам побороть их,
бело-зеленые
глыбы льдин.
Страшные лопасти
в волны вплавивши,
мы пробиваем
заторы,
громы кларнетов
и грохоты клавишей
в имени той,
о которой…
Первым теплом,
как тобою, обласканный,
ветер меня
облетает,
орден снежинки
на меховом лацкане
тает, дрожит
и не тает…
9
Скоро встретим
товарищей,
возвратившихся
сверху.
Скинут шапки
да варежки
да проделают
сверку.
Перед днями
хорошими
шапки теплые
стащат,
у кого
отморожено,
а кого
недостача…
Там,
где воет и мечется
море,
льдом облитое,
будет жить
человечество
голубой
теплотою.
Будем петь,
созывая,
кто смелее
и гибче,
острова
называя
именами
погибших.
Аладин у сокровищницы
Стоят ворота, глухие к молящим глазам и слезам.
Откройся, Сезам!
Я тебя очень прошу — откройся, Сезам!
Ну, что тебе стоит, — ну, откройся, Сезам!
Знаешь, я отвернусь,
а ты слегка приоткройся, Сезам.
Это я кому говорю — «откройся, Сезам»?
Откройся или я тебя сам открою!
Ну, что ты меня мучаешь, — ну,
откройся, Сезам, Сезам!
У меня к тебе огромная просьба: будь любезен,
не можешь ли ты
открыться, Сезам?
Сезам, откройся!
Раз, откройся, Сезам, два, откройся, Сезам, три…
Нельзя же так поступать с человеком, я опоздаю,
я очень спешу, Сезам, ну, Сезам, откройся!
Мне ненадолго, ты только откройся
и сразу закройся, Сезам…
Стоят ворота, глухие к молящим глазам и слезам.
Мелкие огорчения
Почему я не «Линкольн»?
Ни колес, ни стекол!
Не под силу далеко
километрить столько!
Он огромный, дорогой,
мнет дорогу в сборки.
Сразу видно: я — другой,
не фабричной сборки.
Мне б такой гудок сюда,
в горло, — низкий, долгий,
чтоб от слова в два ряда
расступались толпы.
Мне бы шины в зимний шлях,
если скользко едется,
чтоб от шага в змеях шла
злая гололедица.
Мне бы ярких глаза два,
два зеленоватых,
чтобы капель не знавать
двух солоноватых.
Я внизу, я гужу
в никельные грани,
я тебя разбужу
утром зимним ранним.
Чтоб меня завести,
хватит лишь нажима…
Ну, нажми, ну, пусти,
я твоя машина!
Поезд в Белоруссию
Предутренний воздух и сумрак.
Но луч! И в кустарную грусть
на сурмах, на сурмах, на сурмах
играет зарю Беларусь.
А поезд проносится мимо,
и из паровозной трубы —
лиловые лошади дыма
взлетают, заржав, на дыбы.
Поляны еще снеговиты,
еще сановиты снега,
и полузатоплены квиты
за толпами березняка.
Но скоро под солнцем тяжелым
и жестким, как шерсть кожухов
на квитень нанижутся бжолы
и усики июльских жуков.
Тогда, напыхтевшись у Минска,
приветит избу паровоз:
тепла деревянная миска,
хрустит лошадиный овес.
И тут же мне снится и чуется
конницы топот и гик,
и скоро десницу и шуйцу
мы сблизим у рек дорогих.
Чудесный топор дровосека,
паненка в рядне и лаптях…
Прекрасная! Акай и дзекай,
за дымом и свистом летя!
Над нами
На паре крыл
(и мне бы! и мне бы!)
корабль отплыл
в открытое небо.
А тень видна
на рыжей равнине,
а крик винта —
как скрип журавлиный.
А в небе есть
и гавань, и флаги,
и штиль, и плеск,
и архипелаги.
Счастливый путь,
спокойного неба!
Когда-нибудь
и мне бы, и мне бы!..
На кругозоре
На снег-перевал
по кручам дорог
Кавказ-караван
взобрался и лег.
Я снег твой люблю
и в лед твой влюблюсь,
двугорый верблюд,
двугорбый Эльбрус.
Вот мордой в обрыв
нагорья лежат
в сиянье горбы
твоих Эльбружат.
О, дай мне пройти
туда, где светло,
в приют Девяти,
к тебе на седло!
Пролей родники
в походный стакан.
Дай быстрой реки
черкесский чекан!
Ветер
Скорый поезд, скорый поезд, скорый поезд!
Тамбур в тамбур, буфер в буфер, дым об дым!
В тихий шелест, в южный город, в теплый пояс,
к пассажирским, грузовым и наливным!
Мчится поезд в серонебую просторность.
Всё как надо, и колеса на мази!
И сегодня никакой на свете тормоз
не сумеет мою жизнь затормозить.
Вот и ветер! Дуй сильнее! Дуй оттуда,
с волнореза, мимо теплой воркотни!
Слишком долго я терпел и горло кутал
в слишком теплый, в слишком добрый воротник.
Мы недаром то на льдине, то к Эльбрусу,
то к высотам стратосферы, то в метро!
Чтобы мысли, чтобы щеки не обрюзгли
за окошком, защищенным от ветров!
Мне кричат: — Поосторожней! Захолонешь!
Застегнись! Не простудись! Свежо к утру! —
Но не зябкий инкубаторный холеныш
я, живущий у эпохи на ветру.
Мои руки, в холодах не костенейте!
Так и надо — на окраине страны,
на оконченном у моря континенте,
жить с подветренной, открытой стороны.
Так и надо — то полетами, то песней,
то врезая в бурноводье ледокол, —
чтобы ветер наш, не теплый и не пресный,
всех тревожил, долетая далеко.
Свиданье
Я пришел двумя часами раньше
и прошел двумя верстами больше.
Рядом были сосны-великанши,
под ногами снеговые толщи.
Ты пришла двумя часами позже.
Все замерзло. Ждал я слишком долго.
Два часа еще я в мире прожил.
Толстым льдом уже покрылась Волга.
Наступал период ледниковый.
Кислород твердел. Белели пики.
В белый панцирь был Земшар закован.
Ожиданье было столь великим!
Но едва ты показалась — сразу
первый шаг стал таяньем апрельским.
Незабудка потянулась к глазу.
Родники закувыркались в плеске.
Стало снова зелено, цветочно
в нашем теплом, разноцветном мире.
Лед — как не был, несмотря на то что
я тебя прождал часа четыре.
Мексиканская песня
Тегуантепек, Тегуантепек,
страна чужая!
Три тысячи рек, три тысячи рек
тебя окружают.
Так далеко, так далеко —
трудно доехать!
Три тысячи лет с гор кувырком
катится эхо.
Но реки те, но реки те
к нам притекут ли?
Не ждет теперь Попокатепетль
дней Тлатекутли.
Где конь топотал по темной тропе,
стрела жужжала, —
Тегуантепек, Тегуантепек,
страна чужая!
От скал Сиерры до глади плато —
кактус и юкка.
И так далеко, что поезд и то
слабая штука!
Так далеко, так далеко —
даже карьером
на звонком коне промчать нелегко
гребень Сиерры.
Но я бы сам свернулся в лассо,
цокнул копытом,
чтоб только тебя увидеть в лицо,
Сиерры чикита!
Я стал бы рекой, три тысячи рек
опережая, —
Тегуантепек, Тегуантепек,
страна чужая!
Стихи на сон
Пусть тебе не бредится
ни в каком тифу,
пусть тебе не встретится
никакой тайфун!
Пусть тебе не кажется
ни во сне, ни въявь,
что ко дну от тяжести
устремляюсь я.
Даже если гибелью
буря наяву,
я, наверно, выплыву,
дальше поплыву.
Стерегу и помню я,
навек полюбя:
никакой Японии
не схватить тебя.
Утром время радоваться,
не ворчи,
не грусти без надобности —
нет причин.
Пусть тебе не бредится
ни в каком тифу,
пусть тебе не встретится
никакой тайфун!
Сон с продолжением
Не спится мне и снится,
что я попал в беду,
что девочка в платье ситцевом
тонет в моем бреду.
Тянется рука беленькая
к соломинке на берегу,
но я с кроватного берега
руки протянуть не могу!
Я мучаюсь, очень мучаюсь,
хочу поднять глаза,
но их ни в коем случае,
приоткрыть нельзя.
Я сон этот точно выучил:
он в полдень еще ясней…
Как страшно, что я не выручил
ту девочку во сне!
Последние ночи
Ингалятор, синий спирт,
и она не спит.
— Сядь поближе, милый мой,
на постель мою,
сделай так, чтоб вдруг зимой
засиял июль…
— Хорошо, я попрошу,
сговорюсь с сестрою,
я подумаю, решу,
что-нибудь устрою.
— Милый, в горле моем дрожь,
высохло, прогоркло.
Ты другое мне найдешь
какое-нибудь горло?
Синий отсвет кинул спирт
на подушку белую…
— Не тревожься, лучше спи,
я найду, я сделаю.
— Милый, сделай для меня,
чтоб с такою болью
год один хотя бы я
прожила с тобою.
Вместе в будущем году
к золотому пляжу…
— Все устрою, все найду… —
А сам плачу, плачу…
Боль
Умоляют, просят: — Полно,
выпей, вытерпи, позволь,
ничего, не будет больно… —
Вдруг, как молния, — боль!
Больно ей, и сразу мне,
больно стенам, лампе, крану.
Мир окаменев,
жалуется на рану.
И болят болты у рельс,
и у угля в топках резь,
и кричат колеса: «Больно!»
И на хлебе ноет соль.
Больше — мучается бойня,
прикусив у плахи боль.
Болит все, болит всему,
и щипцам домов родильных,
болят внутренности у
снарядов орудийных,
моторы у машин, закат
болит у неба, дальние
болят у времени века,
и звон часов — страдание.
И это всё — рука на грудь —
молит у товарищей:
— Пока не поздно, что нибудь
болеутоляющее!
ТВОЯ ПОЭМА (1937)[5]
Клаве
Сегодня
июня первый день,
рожденья твоего
число.
Сдираю
я
с календаря
ожогом ранящий
листок…
О, раньше!
Нам с тобой везло.
С цветами
в тишь,
пока
ты спишь, —
с охапкой лепестков
и лент
будить губами,
тронуть лишь
вопросом:
«Сколько тебе лет?»
И на руку
надеть часы.
«Красивые они,
носи…»
Не будет больше
лет тебе!
Часам
над пульсом
не ходить!
Но я ж привык
будить,
дарить,
вывязывая
вензеля
из букв:
Ка, эЛ, А, Вэ и А…
Как быть?
Что подарить теперь,
чтоб ты взяла?..
Стихи одни,
где мы с тобой
сквозь плач видны,
где «ты!» —
в слезах воскликну я,
твоя поэма!
В горький срок
я,
как с ожога
бинт, сорвал
с календаря
листок,
даря
запекшиеся в ночь
слова.
Теперь ничто —
стихи одни
меня
мечтой
вернут в те дни;
в стихах
я возвращаюсь вновь
в тревогу снов —
дорогой вспять
опять в свою беду
опять
в бреду
сведенных болью
рифм
я в комнату
к тебе
бреду.
Опять
твой столик,
твой стакан
и столько
склянок,
ампул,
игл!
И лампу
доктор ловит лбом,
циклопа
никелевый глаз
наводит блик
на ужас язв,
о,
в горлышке
твоем больном.
Каких тут
не было врачей!
Чей стетоскоп
с тоской
не лег
на клочья легких
у плеча?!
Едва стучит
в руке врача
твой
нитевидный пульс!
Твой бред.
Твой лоб
нагрет
ладонью проб.
— Как голова?
— Немного льда?
А как погода?
— Холода… —
Я лгал:
три дня,
как таял март,
лишь утром
лужи леденя.
Под сорок
жар
взбежал
с утра.
То капли каплил
невпопад
гомеопат.
Принес тебе
тибетский лекарь
пряных трав.
Рука профессора
прижгла
миндалины.
Пришла
старуха знахарка.
Настой
на травке
принесла простой…
Ты говорила мне:
— Лечи
чем хочешь —
каплями,
травой…
И пахли
грозами лучи
от лампы дуговой.
А ты
уже ловила воздух ртом.
И я
себя
ловил
на том,
что тоже
воздух ртом
ловлю
и словно за тебя
дышу.
Как я тебя люблю!
Спешу —
то причесать тебя,
то прядь
поправить,
то постель
прибрать,
гостей ввести,
то стих прочесть…
Не может быть,
что ты
не сможешь жить!
Лежи!
Ни слова лжи:
мы будем жить!
Я отстою
тебя,
свою…
И вытирал
платочком рот,
и лгал —
мне врач сказал:
умрет.
А что я мог?
Пойти в ЦК?
Я был в ЦК.
Звонить в Париж?
Звонил.
Еще горловика
позвать?
Я звал.
(А ты горишь!)
Везти в Давос?
О, я б довез
не то что на Давос —
до звезд,
где лечат!
Где найти лекарств?
И соли золота,
и кварц,
и пламя
финзеновских дуг —
все!
Все перебывало тут!
А я надеялся:
а вдруг?
А вдруг изобретут?
Вокруг
сочувствовали мне.
Звонки
товарищей,
подруг:
— Ну как?.. —
Как
руки милые
тонки!
Как
мало их
в моих руках!
Потом остался
морфий.
Я
сам набирал
из ампул яд.
Сам впрыскивал.
А ты несла
такую чушь
про «жить со мной,
про юг
и пляж со мной,
про юж…
и ляг со мной,
родной…»
И бредила:
«Плечом
к лучу,
на башню Люсину
лечу,
к плечу жирафик
и верблюд.
Родной,
я так тебя люблю,
так обожаю,
все терпя
лишь для тебя!..»
А морфий
тащит
в мертвый сон,
и стон,
и жар
над головой,
и хрип
чахотки горловой.
Ты так дышала,
будто был
домашний воздух
страшно затхл,
и каждый вдох
тебя губил…
Покорность странная
в глазах.
Вдруг улыбалась,
пела вдруг,
звала подруг,
просила — мать,
потом
на весь остаток дня
все перестала
понимать.
Под ночь
увидела меня
и издали уже,
из нет —
последним
шепотом любви:
— А ты смотри
живи,
еще Володька есть… —
И в бред,
в дыханье,
в хрип,
в — дышать всю ночь.
Помочь
никто уже не мог.
Врач говорит,
что он не бог.
Я бросился
на свой матрас,
и плечи плач
потряс.
Устал
и утонул
во сне.
Я спал
среди каких-то скал
с тобой,
еще живая ты!
Губой
ресницы трогаю,
пою:
ты мне нужна,
ты мне мила!..
Стук.
Просыпаюсь.
В дверь мою
мать постучалась:
— Умерла…
Прошло
лишь тридцать дней пустых,
как пульс утих,
как лоб остыл,
как твой
последний след
простыл, —
от того дня,
как не к тебе
пришли,
а к ней
друзья, родня,
лишь тридцать дней,
как вместо
«ты»
ты стала «та»,
как Тышлер[6]
на квадрат листа
тушь наносил
и не просил
«не двигаться!» —
она сама
себя
как мертвая вела,
сама
не двигалась.
С ума
я не сходил,
а больше сам
мать
успокаивал;
снимать
ее с постели в гроб
пришел,
и платья
синий шелк
в цветах
оправил сам,
и к волосам
приладил с дрожью
косу ту,
что бронзой
светится насквозь…
Вокруг
и в гроб
побольше роз,
чтоб ей
лежалось,
как в саду.
Прощай, прощай!
Я девять лет
брал счастье
за руку
и вел, —
и нет
его!
Я должен встать
и жизнь перелистать
и, встав,
начать
все
с чистого листа.
Как
мир за месяц
поредел!
Ну да,
я здесь,
а Клава где?
Где
эта сказочная «Гда»,
жизнь,
где без нас идут года?
Нет!
Я не мрачен.
Я хочу
войти с другими
к жизни в дом,
пробиться
к чистому лучу
поэзии
своим трудом.
Я говорю:
работай,
лезь
по строчке
лестничной
к звезде!
Я не уйду.
Я жив.
Я здесь!
Ну да,
я здесь,
а Клава где?
Вначале,
десять первых дней,
я позабыл
рыдать над ней.
Меня знобил
какой-то грипп
больного полузабытья.
Должно быть, я
не влип
еще
в топь
трудной жизни
без тебя.
Как прочно
всажен в ребра нож, —
должно ж
так сердце наболеть,
чтоб на балет
пойти в Большой.
С оглохшей
наглухо душой
шел
в «Метрополь»,
часов до трех
в ночь
на бульварную скамью,
в полузнакомую
семью, —
я стал тащиться
в те места,
куда б не стал
ходить при ней,
но только не домой,
где ждет,
где жжет меня
мой враг стальной…
Мыслишкой —
сразу кончить все —
не слишком страшно
сжать висок.
Подумаешь!
В Москве ночной
при телефоне
эта мысль,
как ни томись,
была вполне
карманной,
тихонькой,
ручной.
Но дома!
Где лежит пятном —
да,
на пол пролитый
ментол
и стул
на коврике цветном,
вся наша мебель,
старый стол…
Там эта мысль
меня могла
пугнуть из-за угла.
Но где-то ж надо спать!
Все та ж
на третий
лестница
этаж.
Потащишься —
в передней свет,
а Клавы
просто дома нет.
Нет…
Клавы
просто нет —
всерьез!
Ни роз,
в каких лежала,
ни
косы,
молчат ее часы,
свернулся змейкой
бус янтарь,
и цепко
держит календарь
несорванные дни.
Тут старый
с платьицами шкаф,
доха в духах,
белье ее,
подаренные пустяки,
мои стихи
в тетрадке и
две прядки
русые
твои.
Еще тогда
я срезал прядь,
в тетрадь
упрятал
и достал,
и на столе,
косясь
на них,
я стал
раскладывать пасьянс
из локонов твоих
льняных.
На счастье
клал их
так
и так,
гадал,
подглядывал
под масть
льняных,
соломенных,
витых.
Как я ни жулил,
ты —
не выходила!
Как ни старался,
ты —
не получалась!
Никак!
Глазами
в синяках бессонниц
я увидел свой
револьвер
с сизой синевой.
Он — маузер,
он вот такой:
попробуешь рукой
на вес —
он весь
как поезд броневой,
стреляться из него —
как лечь
под колесо.
Свое лицо
я трогал дулом.
К жару скул
примеривал,
ко рту,
к виску
и взвешивал
в руке
заряд,
где десять медных гильз
горят.
Мне жизнь не в жизнь,
а выход — вот.
Нигде,
хоть всей землей кружись,
нигде —
в воронежском селе
двойник любимой
не живет.
А выход вот:
в стальном стволе,
В сосновом
письменном столе.
На!
Прислонись
к стене,
и стань,
и оттяни
замок к себе,
пусть маслянисто
ходит сталь
в крупнокалиберной судьбе.
Тебя обстанет
цепкий ад
рефлексов,
сопряженных с ней,
во сне
ее глаза стоят.
Скорей вложи обойму, на!
Стихи?
Она!
Весь мир?
Она!
Ты будешь плакать
у окна
и помнить,
помнить,
помнить лоб
с косой соломенной
и рот —
у всех дверей,
у всех ворот,
куда тебя
ни привело б.
Но, знаете,
я думал жить.
И лучше,
что замкнул на ключ
свой стол
и в нем железный ствол.
И ключ —
столу на уголок,
и лег,
не зарыдав
в тот раз,
на свой матрас.
Не спал,
сквозь пальцы
видел я:
ключ сполз,
сам
ящик отпер,
щелк —
и выглянула из стола
насечка деревянных щек
и указательный
ствола.
Револьвер мой
вспорхнул,
поплыл
под потолком лепным,
кругом,
кривым когтем вися.
Вся
комната кружила с ним,
с патроном запасным.
Кружил
и у подушки
врылся в пух,
как друг,
что лучше новых двух
и издавна
со мной дружил.
Пока он ждал
бессильных рук,
я вспомнил:
у меня есть друг
на Трубниковском.
(Серый дом,
крутая лестница
и дверь…)
Не вспомни я о нем,
сейчас
я б не ходил
среди живых.
Срываешь дождевик,
бредешь
в плеск —
в дождь,
тоску свою таща,
текут со щек —
еще! еще! —
капельки плача
и дождя.
Лишь я вошел к нему,
лишь сел,
сказал,
что заночую тут,
что дома моют,
окна трут
и куча дел, —
как телефон
вздрогнул,
звоночком
ночь дробя.
Друг
трубку снял:
— Кого? Его? —
И трубку протянул:
— Тебя.
Шел
шепот
медным волоском.
(Алло?
Не Клава это, нет!)
То проволочным
голоском
револьвер
шепчет
в ухо мне.
Внушает:
«Я могу помочь,
ночь
подходящая вполне
для наших с вами
дел.
Предел
я положу
желанью жить.
Позвольте
положить
в висок
вам сплава
узенький кусок.
Вас Клава б
не ругала
за —
глаза,
что вы идете к ней.
Вам
дуло —
выход из любви,
из ада
„нет ее“,
из дней
без глаз ее,
без губ,
без рук, —
вы ж как без рук…»
И я пошел
к Большой Ордынке,
к тупику,
домой —
где ждет меня,
где жжет,
маня,
меня
мой враг стальной…
Бульваром Гоголевским,
где
в наш старый дом,
да,
каждый день,
мы шли вдвоем.
Где ни пройдешь,
весь грунт
нас помнит от подошв
до рифм
прочитанных поэм,
от Гоголя
до буквы «М».
Как пить —
не пивши тридцать дней,
как есть,
не евши…
Я — о ней!
Как шарят папирос
(курить!).
Где тень
ее
среди берез?
Как повторить
пропавший день?..
…Я отпер
ящик.
Отпил
пыль
с губ
и сошел с ума уже.
И вынул маузер.
Он был
груб,
туг в ходу
и длиннорыл.
Открыл
сине-стальной
замок…
Мой сын
агукнул
за стеной,
пролепетал, замолк.
Как вор,
я сдвинул скобку,
снял затвор,
пружину вынул,
вырвал ствол,
стальную сволочь
мял и рвал,
развинчивал
и вынимал
из самой малой части
часть…
Сейчас
он сам умрет,
сочась
холеным маслом льна —
его слюна;
лишь лязг
да бряк,
разобранный добряк —
лишь грязь,
грозящий брак
кусков стальных…
О, убежать,
уснуть от них!..
Да, лишь бы сон —
и я спасен!
Спит сын
и видит грудь во сне.
Голос любимой
пел
во мне.
«Смотри живи…» —
напоминал.
Вот беленький,
как школьный мел,
бай-бай, и спатки —
люминал…
Да…
Три таблетки
в три глотка…
Мне три годка…
Пополз щенком
под стол,
под свежую сосну.
Коснулся
наволоки щекой
и
камнем
вниз
пошел
ко сну.
На самом дне,
на травах снов,
я снова
рядом
шел с тобой
тропой
в цветы,
в дыханье сна.
И снова —
не «она»,
а «ты»!
Мы шли
в сплошной ромашкин луг,
луг был
как хоровод подруг,
как сбор
в «День белого цветка»
в пользу чахоточных больных.
Мир белых солнц!
Ты ходишь в них,
цветам не больно —
так легка.
И машет нам
ромашек луг.
Мы шли,
не размыкая рук,
и я тебя просил:
— Нет сил
мне жить, родная,
без тебя,
дозволь с тобою
вдаль пойти,
нам по пути… —
Ее глаза
мне жалко бросили:
«Нельзя».
Мы вышли вдруг
на новый луг, —
луг незабудок
начал цвесть;
трудом
голубоглазых швей
он в крестик шведский
вышит весь
и весь —
в цветочную пыльцу.
А синий цвет
тебе к лицу,
твой сарафан
из луга сшит.
— Куда спешить?
Мы сядем здесь,
послушай,
взвесь,
мне трудно врозь,
не брось
меня.
Обсудим все:
я в сотый раз прошу —
пусти!
Один
бродить я не могу! —
Как жаль тебе меня,
прости,
но
«нет»
с твоих слетает губ.
Мы вышли
на жужжащий луг
жуков,
кузнечиков
и пчел.
С тобой
я локоть к локтю
шел
и терся о плечо
щекой.
Рой пчел
кружился у волос,
кололся колос,
рос щавель,
на камне
мох
ржавел
у ног.
Туберкулез —
он мог
отнять,
я ж
только мог тебя обнять
и так остаться,
обнявшись.
Выскальзывала
ты из рук.
Весь
в парашютах,
снялся луг
и —
одуванчиками —
ввысь!
Отсюда
вышли мы
к Тверской,
она спускалась
вниз,
к Неве,
к нам
ветерок подул
морской,
плыл Севастополь
в синеве.
По Ленинградскому шоссе
прошли
Воронежем в село,
где снова луг
стоял в росе,
где детство
ситчиком цвело.
Ордынкой
вышли
в Теберду,
Эльбрус
укутан
в снег-башлык,
по трещинам его,
по льду
мы к морю Черному
сошли.
Там сели в лодку мы
без слов,
на ней была
кровать
и гроб,
по улице Донской
веслом —
венком
с автомобиля
греб.
И я молил
твои глаза,
и все:
нельзя,
нельзя,
нельзя…
Не блажь
ведь то, что я прошу!
Куда-нибудь
еще
пойдем!
Был перед нами
желтый пляж,
и моря шум,
и волн подъем,
и край пути
с тобой вдвоем.
Ты просишься
проститься,
но
я обо всем
просил давно.
Уже дошли?
А мне куда?
Как
морем
прошагать года?
Чем без тебя
дожить до ста,
мне лучше,
тронув свой висок,
пустынной дюной
урны
стать,
к часам песочным
лечь в песок…
Как хочется
тебе со мной
играть
в наш милый
мяч земной!
Заплакать —
не расстаться нам:
что тут —
слеза,
то выстрел там.
Нельзя,
чтоб с глаз
сползла слеза!
Ты,
не заплакав,
от груди
ребенка отняла,
дала
и молвила:
— Один иди… —
И взгляд ее
на мне замерз,
и лоб ее,
прохладней льдин,
губами тронул
и один
пошел…
Я
ногу на волну
занес
и сразу
поднят был
волной,
Ступил,
качнулся,
как больной,
и соскользнул с волны,
и вновь
зеленой пеной
брошен вверх,
как смытый с верфи
мачты ствол,
я стоймя
с волн
сходил и шел
с щекою сына
на щеке.
А вдалеке —
да,
ты одна
видна
в песчаном пляже сна,
да,
как сквозь воду,
неясна…
О,
помыкало море мной!
Нас
Ной не взял
в ковчежный дом,
каюту
в чреве
не дал кит.
Моисей
сияющим жезлом
морской воды
не раздвоит.
Качаясь
на своих двоих,
я
это море
мыкал сам то
пеной вверх,
то — ух! —
к низам,
в бутылочно-соленый
пласт.
Шагать по ним,
да не упасть!
Мальчонку
я прижал
к пальто,
чтобы не то
что хлест воды,
а дым,
а капелек пыльца
не тронула
его лица.
Мой трудный шаг
в подъем и спад,
баланс
у гребня на горбе,
то бульканье
и бурю ту
он люлькой
представлял себе.
(«Качают,
ну и буду спать…»)
Сынишка,
он
сквозь сон:
«Агу», —
а ты
на берегу,
не ждешь,
нет,
наша встреча
не близка,
ты только
блестка
солнца
в дождь
в полоске узенькой
песка.
Шаг —
и того не отыскать.
И нет
полоски
позади.
И шторм
затих.
Шуметь-то
что?
Все глаже
водяные рвы,
а дальше
завиднелась
гладь
ниже воды,
тише травы,
волна
аж просится:
«Погладь».
И я
с волны
ступил
на зыбь,
вглубь
стая рыб,
и ил,
и штиль
хвост солнца
морем распустил…
Тут
новый берег
подан мне,
в ладонь
камней
положен порт.
Я вытер
пот
воды и слез,
с подошв ракушки сбил
и сквозь
шаганье улиц
в жизнь прошел.
Куда я вышел?
Стал,
прочел
двух новых улиц имена.
Припоминал…
Не я,
а сын
смотрел
впервые
окнам в синь.
Проснувшись
в мире
первый раз,
трамвай,
как погремушку,
тряс.
«Уа!» —
сказал трамваю «А».
И мне
в новинку
был Арбат.
Я здесь бывал
и не бывал.
Тверской бульвар,
где стынет мой
по ямбу
бронзовый собрат.
В вагоне
место на скамье
нам уступил старик.
Я сел.
В трамвае,
как в одной семье,
все точно знали,
что со мной
и что за море
за спиной.
На Мыс Желанья
я хочу
лететь,
лететь…
Маршрут
себе
я начерчу,
меня пошлют
навстречу
дующей судьбе.
Что этот Мыс?
Желанье?
Жизнь?
Поэзия?
Социализм?
Любовь?
Москва? —
все те слова,
которыми
нельзя солгать,
которыми
я буду вам
стихи
о будущем
слагать.
Куда себя мне деть?
Лететь!
Перелететь
мой плач навзрыд
желаньем —
отстоять Мадрид!
Желаньем,
чтобы этот стих
шагал за нею
вслед
и вслед,
желаньем —
сына
в двадцать лет
к присяге красной
привести.
Пусть помнится
навеки мне
наш путь,
мой плач,
твой взгляд во сне,
с тобой
мы вымечтали
Мыс,
куда
моя
взметнется
мысль.
Я встал,
и сразу —
рядом стол.
Обрубки маузера —
вот.
Боёк,
прицел,
пружина,
ствол.
Ему,
оставь его
в дому,
дай только волю, —
оживет.
Скорей на мост
к Москве-реке,
мой груз
в руке,
под мостом — синь.
Любовь
приказывает:
«Кинь!»
Вот здесь
конец
моей беде,
я маузер
с моста
бросил вниз:
— Кругами завернись
в воде,
войди в пески
реки Москвы
и вройся
дулом
в ил и слизь!
А ты
на берегу,
на том —
спасибо,
милая,
за жизнь.
Еще проплачу я
не раз,
не раз
приникну
к прядке ртом,
не раз
я вспомню
жалость глаз
и слабость
твоих бедных рук.
Не раз
я вскрикну:
«Клава!» —
вдруг.
Где б ни был я:
у южных пальм,
у скользких льдов,
у горных груд,
где я
палатку
ни развесь, —
кровать
твоя
была
вот тут,
и столик
твой стоял
вот здесь,
и тут
меня
любила
ты!
Какие б я
ни рвал цветы,
тот луг
начнет
в глазах кружить!
Когда мне будет
плохо жить, —
хотя б во сне,
не наяву, —
ресницы мне
раздвинь,
приснись,
коснись
хотя б во сне
рукой,
шепни:
«Живи…»
И я живу,
тебя,
как воздух,
ртом ловлю,
стихом,
последнею строкой
леплю
тебе
из губ:
люблю.
СТОН ВО СНЕ (1937–1939)
«Сказали мне…»
Сказали мне, что я стонал
во сне.
Но я не слышал, я не знал,
что я стонал во сне.
Я не видал ни снов, ни слов
я не слыхал — я спал, —
без сновидений сон.
Товарищ утром мне сказал,
что слышал долгий стон,
как будто больно было мне —
так я стонал во сне.
Да, все, что сдерживалось днем
затихшее в быту дневном,
уже давно не боль,
не рана, а спокойный шрам,
рубец, стянувшийся по швам, —
а что для шрама соль?
Да! Я забыл луга в цвету
и не стонал о ней, —
я стал считать ту,
что любил,
почти любовью детских дней.
Но если б знали вы —
как это все взошло со дна,
очнулось смутной раной сна
и разошлось, как швы.
Но я не видел ничего
во сне. Я спал без снов.
Товарищ в доме ночевал,
и это я узнал со слов…
Как мог таким я скрытным стать
и спрятать от себя
боль и бездумно спать?
Но боль живет, и как ни спишь,
и как ни крепок сон,
какую б ночь ни стлала тишь —
все слышит, знает стон,
все помнит стон, он не забыл
ту, что бессонно я любил
в дали ушедших дней,
стон мне напоминал о ней,
чтоб днем не больно было мне,
чтоб я стонал во сне.
Случай с телефоном
Жил да был Телефон
Телефонович.
Черномаз целиком,
вроде полночи.
От него провода
телефонные,
голосами всегда
переполненные.
То гудки, то слова
в проволоке узкой,
как моя голова —
то слова, то музыка.
Раз читал сам себе
новые стихи я
(у поэта в судьбе
есть дела такие).
Это лирика была,
мне скрывать нечего —
трубка вдруг подняла
ухо гуттаперчевое.
То ли ловкая трель
(это, впрочем, все равно), —
Телефон посмотрел
заинтересованно.
Если слово поет,
если рифмы лучшие,
трубка выше встает —
внимательней слушает.
А потом уж — дела,
разговоры длинные…
А не ты ли была
в те часы на линии?..
Нет Золушки
Я дома не был год. Я не был там сто лет.
Когда ж меня вернул железный круг колес —
записку от судьбы нашел я на столе,
что Золушку мою убил туберкулез.
Где волк? Пропал. Где принц? Исчез. Где бал? Затих.
Кто к Сказке звал врача? Где Андерсен и Гримм?
Как было? Кто довел? Хочу спросить у них.
Боятся мне сказать. А все известно им.
Я ж написал ее. Свидетель есть — перо.
С ней знался до меня во Франции Перро!
И Золушкина жизнь, ее «жила-была» —
теперь не жизнь, а сон, рассказа фабула.
А я ребенком был, поверившим всерьез
в раскрашенный рассказ для маленьких детей.
Все выдумано мной: и волк, и дед-мороз…
Но туфелька-то вот и по размеру ей!
Я тоже в сказке жил. И мне встречался маг.
Я любоваться мог хрустального горой.
И Золушку нашел… Ищу среди бумаг,
ищу, не разыщу, не напишу второй.
Четыре сонета
1
Сад, где б я шил, — я б расцветил тобой,
дом, где б я спал, — тобою бы обставил,
созвездия б сиять тобой заставил
и листьям дал бы дальний голос твой.
Твою походку вделал бы в прибой
и в крылья птиц твои б ладони вправил,
и в небо я б лицо твое оправил,
когда бы правил звездною судьбой.
И жил бы тут, где всюду ты и ты:
ты — дом, ты — сад, ты — море, ты — кусты,
прибой и с неба машущая птица,
где слова нет, чтоб молвить: «Тебя нет», —
сомненья нет, что это может сбыться,
и все-таки — моей мечты сонет
2
не сбудется. Осенний, голый сад
с ней очень мало общего имеет,
и воздух голосом ее не веет,
и звезды неба ею не блестят,
и листья ее слов не шелестят,
и море шагу сделать не посмеет,
крыло воронье у трубы чернеет,
и с неба клочья тусклые висят.
Тут осень мне пустынная дана,
где дом, и куст, и море — не она,
где сделалось утратой расставанье,
где даже нет следа от слова «ты»,
царапинки ее существованья,
и все-таки — сонет моей мечты
3
опять звенит. Возможно, что не тут,
а где-нибудь — она в спокойной дреме,
ее слова, ее дыханье в доме,
и к ней руками — фикусы растут.
Она живет. Ее с обедом ждут.
Приходит в дом. И нет лица знакомей.
Рука лежит на лермонтовском томе,
глаза, как прежде карие, живут.
Тут знает тишь о голосе твоем,
и всякий день тебя встречает дом,
не дом — так лес, не лес — так вроде луга.
С тобою часто ходит вдоль полей —
не я — так он, не он — твоя подруга,
и все-таки — сонет мечты моей
4
лишь вымысел. Найди я правду в нем,
я б кинул все — и жизнь и славу эту,
и странником я б зашагал по свету,
обшарить каждый луг, и лес, и дом.
Прошел бы я по снегу босиком,
без шапки по тропическому лету,
у окон ждать от сумерек к рассвету,
под солнцем, градом, снегом и дождем.
И если есть похожий дом такой,
я к старости б достал его рукой:
«Узнай меня, любимая, по стуку!..»
Пусть мне ответят: «В доме ее нет!»
К дверям прижму иссеченную руку
и допишу моей мечты сонет.
Письмо без адреса
Первое
Я всю ночь писал письмо,
все сказал в письме.
Не писать его не смог,
а послать — не смел.
Я писал письмо всю ночь,
в строки всматривался,
только нет на свете почт
для такого адреса.
Если б я письмо послал —
что слова на ветер.
Той, которой я писал,
нет на свете.
Второе
А я кораблик сделал
из письма,
листок бумаги белой
сложил, не смял.
И в уйму светлых капелек
пустил по реке:
«Плыви, плыви, кораблик,
к ее руке».
А вдруг она на пристани,
спеша домой,
заметит издали
бумажный мой…
Но я боюсь — бумажный
потонет, протечет,
и строки очень важные
она не прочтет.
Третье
А я письмо переписал,
и все сказал в письме я,
и сделал — бросил в небеса
воздушного змея.
«Лети, лети, почтовый змей,
пусть туча не догонит,
но где-то в мире встреться с ней
и дайся ей в ладони».
Но я боюсь — сверкнет гроза
зарницами и зорями, —
и где лежит, и что сказал
мой бедный змей изорванный?
Четвертое
А я, не смыкая глаз,
до рассвета сизого,
буду много, много раз
письмо переписывать.
По улицам, по шоссе,
у вокзальной башенки —
буду класть его во все
почтовые ящики,
вешать его на дубы,
клеить его на клены,
на стены и на столбы,
на окна и колонны.
Последнее
Я пришел, и знать не знал,
ведать не ведал,
и во сне не видел сна,
и не ждал ответа.
А пришел, подумал только:
«Вот пришел бы ответ»,—
лишь подумал и со столика
поднял конверт.
Я узнал любимый почерк,
ее руку около,
завитки знакомых строчек,
волосики с локона.
А написано в письме
голосом в тиши:
«Ты искать меня не смей,
писем не пиши.
Я ушла навеки — надолго
и не в близкий путь,
не пиши и не надо,
лучше забудь.
И не надо змеев по небу
и листков на столбы, —
я прошу тебя: кого-нибудь
найди, полюби…»
А страницы в пальцах тают,
не дочитан ответ,
я еще письмо читаю,
а письма уже нет.
Завитки любимых строчек
ищут глаза еще,
но меж пальцев только почерк,
и то — исчезающий.
Воспоминание
Тихое облако в комнате ожило,
тенью стены свет заслоня.
Голос из дальнего, голос из прошлого
из-за спины обнял меня.
Веки закрыл мне ладонями свежими,
розовым югом дышат цветы…
Пальцы знакомые веками взвешены,
я узнаю: да, это ты!
Горькая, краткая радость свидания;
наедине и не вдвоем…
Начал расспрашивать голос из дальнего:
— Помнишь меня в доме своем?
С кем ты встречаешься? Как тебе дышится?
Куришь помногу? Рано встаешь?
Чем увлекаешься? Как тебе пишется?
Кто тебя любит? Как ты живешь?
Я бы ответил запрятанной правдою:
мысль о тебе смыть не могу…
Но — не встревожу, лучше — обрадую.
— Мне хорошо, — лучше солгу.
Все как по-старому — чисто и вымыто,
вовремя завтрак, в окнах зима.
Видишь — и сердце из траура вынуто,
я же веселый, знаешь сама.
Руки сказали: — Поздно, прощаемся.
Пальцы от глаз надо отнять.
Если мы любим — мы возвращаемся,
вспомнят о нас — любят опять.
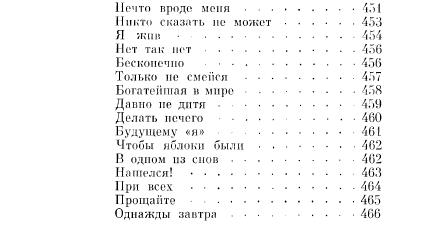
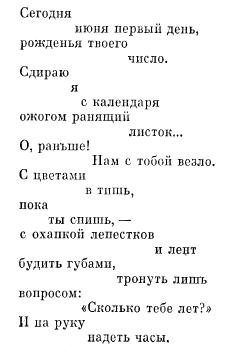
Последние комментарии
2 дней 59 минут назад
2 дней 5 часов назад
2 дней 7 часов назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 9 часов назад
2 дней 10 часов назад