Ираклий Андроников Я хочу рассказать вам…
Все почти… забывают, что надо бегать за приключениями, чтоб они встретились; а для того, чтобы за ними гоняться, надо быть взволновану сильной страстью или иметь один из тех беспокойно-любопытных характеров, которые готовы сто раз пожертвовать жизнию, только бы достать ключ самой незамысловатой, повидимому, загадки; но на дне одной есть уж, верно, другая…М. Лермонтов, «Я хочу рассказать вам».

ЗАГАДКА H. Ф. И
Я не могу ни произнесть,Ни написать твое названье:Для сердца тайное страданьеВ его знакомых звуках есть;Суди ж, как тяжко это словоМне услыхать в устах другого.Лермонтов
ТАИНСТВЕННЫЕ БУКВЫ
На мою долю выпала однажды сложная и необыкновенно увлекательная задача. Я жил в ту пору в Ленинграде, принимал участие в издании нового собрания сочинений Лермонтова, и мне предстояло выяснить, кому посвятил Лермонтов несколько своих стихотворений, написанных в 1830 и 1831 годах. В этих стихотворениях семнадцатилетний Лермонтов обращается к какой-то девушке. Но имени ее он не называет ни разу. Вместо имени в заглавиях стихотворений, ей посвященных, стоят лишь три начальные буквы: «Н. Ф. И.». А между тем в лермонтовской биографии нет никого, чье имя начиналось бы с этих букв. Вот названия этих стихотворений: «Н. Ф. И.», «Н. Ф. И…вой», «Романс к И…», «К Н. И…» Читая эти стихи, нетрудно понять, что Лермонтов любил эту девушку долго и безнадежно. Да и она, видимо, сначала любила его, но потом забыла, увлеклась другим, и вот оскорбленный и опечаленный поэт обращается к ней с горьким упреком:Я недостоин, может быть,
Твоей любви: не мне судить;
Но ты обманом наградила
Мои надежды и мечты,
И я всегда скажу, что ты
Несправедливо поступила.
Ты не коварна, как змея,
Лишь часто новым впечатленьям
Душа вверяется твоя.
Она увлечена мгновеньем;
Ей милы многие, вполне
Еще никто; но это мне
Служить не может утешеньем.
В те дни, когда, любим тобой,
Я мог доволен быть судьбой,
Прощальный поцелуй однажды
Я сорвал с нежных уст твоих;
Но в зной, среди степей сухих,
Не утоляет капля жажды.
Дай бог, чтоб ты нашла опять,
Что не боялась потерять;
Но… женщина забыть не может
Того, кто так любил, как я;
И в час блаженнейший тебя
Воспоминание встревожит! —
Тебя раскаянье кольнет,
Когда с насмешкой проклянет
Ничтожный мир мое названье! —
И побоишься защитить,
Чтобы в преступном состраданье
Вновь обвиняемой не быть!
ДНЕВНИК В СТИХАХ
И вот уже которую ночь сижу я за письменным столом и при ярком свете настольной лампы перелистываю томик юношеских стихотворений Лермонтова. Внимательно прочитываю каждое, сравниваю отдельные строчки. Вот, например, в стихотворении, которое носит заглавие «К ***», Лермонтов пишет:Я помню, сорвал я обманом раз
Цветок, хранивший яд страданья, —
С невинных уст твоих в прощальный час
Непринужденное лобзанье…
Не ты, но судьба виновата была,
Что скоро ты мне изменила…
Она тебе прелести женщин дала,
Но женское сердце вложила.
Тебя раскаянье кольнет…
Когда одни воспоминанья
О днях безумства и страстей
На место славного названья
Твой друг оставит меж людей,
Когда с насмешкой ядовитой
Осудят жизнь его порой,
Ты будешь ли его защитой
Перед бесчувственной толпой?
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ НА КЛЯЗЬМЕ
Легко сказать: выяснить! Как выяснить? Если бы сохранились письма Лермонтова — тогда дело другое. Но из всех писем за 1830 и 1831 годы до нас дошло только одно. Это коротенькая взволнованная записочка, адресованная Николаю Поливанову — другу университетской поры, уехавшему на лето из Москвы в деревню. Написана она 7 июня 1831 года, когда Лермонтов, как видно, находился в ужасном состоянии. «Я теперь сумасшедший совсем, — пишет он Поливанову. — Болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры. Много со мной было…» Сообщая Поливанову о предстоящей свадьбе его кузины, Лермонтов посылает к черту все свадебные пиры и пишет: «Мне теперь не до подробностей… Нет, друг мой! мы с тобой не для света созданы…» Такое письмо мог бы послать другу Владимир Арбенин. Впрочем, это совершенно понятно. И письмо и «Странный человек» написаны почти в одно время: письмо — от 7 июня, а «Странного человека» Лермонтов закончил вчерне 17 июля. Очевидно, приступил к работе над ним в июне. Значит, в пьесе рассказано о тех самых событиях, о которых Лермонтов сообщает Поливанову. Но Поливанов знал об этих событиях, а я не знаю!.. Взглянуть бы на это письмо своими глазами! Может быть, там есть какая-нибудь начатая и вычеркнутая фраза или неверно разобранное слово. Мало ли что бывает!.. Где оригинал письма? Оригинал хранится в Пушкинском доме. Еду в Пушкинский дом. Прошу в Рукописном отделении показать мне письмо к Поливанову. Гляжу — и глазам не верю: да, оказывается, это вовсе не письмо Лермонтова! Это письмо лермонтовского друга Владимира Шеншина, а на этом письме — коротенькая приписка Лермонтова. А Шеншин, сообщая Поливанову различные московские новости, между прочим пишет: «Мне здесь очень душно, и только один Лермонтов, с которым я уже пять дней не видался (он был в вашем соседстве, у Ивановых), меня утешает своею беседою…» Теперь все ясно! В начале июня 1831 года Лермонтов гостил у каких-то Ивановых. Весьма возможно, что к этой семье и принадлежала Н. Ф. И. — Наталия Федоровна… Иванова?! Шеншин пишет: «…пять дней не видался». Значит, Ивановы эти жили недалеко от Москвы. Что это так именно и было, подтверждается «Странным человеком». Там описано, как Арбенин едет в имение Загорскиных, расположенное на берегу Клязьмы. А Клязьма протекает под Москвой. И там же, неподалеку от Клязьмы, Лермонтов каждое лето гостил у родных — у Столыпиных, в их Середникове. Итак, все сходится! 7 июня 1831 года Лермонтов вернулся в Москву от Ивановых, где узнал об «измене» Н. Ф. И., и тут же начал писать «Странного человека», в котором рассказал об этой «измене». А если так, то, значит, в стихотворении, которое носит заглавие «1831-го июня 11 дня», Лермонтов обращается все к той же бесконечно любимой им девушке:Когда я буду прах, мои мечты,
Хоть не поймет их, удивленный свет
Благословят; и ты, мой ангел, ты
Со мною не умрешь: моя любовь
Тебя отдаст бессмертной жизни вновь:
С моим названьем станут повторять
Твое: на что им мертвых разлучать?
ЗАБЫТЫЙ ДРАМАТУРГ
Хорошо! Допустим, что ее звали Наталией Федоровной Ивановой. Но кто она? В каких книгах, в каких архивах хранятся сведения об этой таинственной девушке? Прежде всего, конечно, следует взглянуть в картотеку Модзалевского в Пушкинском доме. Это самый полный и самый удивительный словарь русских имен. Надо вам сказать, что Борис Львович Модзалевский — основатель Пушкинского дома Академии наук, известный знаток жизни и творчества Пушкина, изучая исторические труды и воспоминания, старинные альбомы и письма, журнальные статьи и официальные отчеты, имел обыкновение каждую встретившуюся ему фамилию выписывать на отдельный листок и тут же на листке помечать имя и отчество того лица, название журнала или книги, том и страницу, на которой прочел фамилию. Этой привычке он не изменял никогда. И через тридцать лет в его картотеке оказалось свыше… трехсот тысяч карточек. Картотека — это шкафчик с широкими плоскими ящиками. Каждый ящик разделен на отсеки, плотно набитые маленькими карточками, написанными рукой Модзалевского. После смерти Модзалевского картотеку приобрел Пушкинский дом. Если Модзалевский хоть раз в жизни встретил имя Н. Ф. Ивановой в какой-нибудь книжке, то, значит, он выписал его на карточку и я непременно обнаружу его в картотеке. Неудача! Наталии Федоровны Ивановой в картотеке Модзалевского нет. Это значит, что собрать о ней даже самые скудные сведения будет необычайно трудно. А я не знаю даже, когда она родилась. Про Загорскину в «Странном человеке» сказано, что ей восемнадцать лет. Если допустить, что и Н. Ф. И. в 1831 году было восемнадцать лет, то выходит, что она родилась в 1813 году. Значит, она была на год старше Лермонтова. Очевидно, так и было в действительности. А что можно еще извлечь из текста «Странного человека»? Снова перелистываю пьесу. Отчеркиваю любопытную деталь. Приятель Арбенина спрашивает про Загорскиных: «— Их две сестры, отца нет? так ли? — Так», — отвечает Арбенин. Если в драме изображены подлинные события, то весьма возможно, что и у Н. Ф. И. была сестра, а отца не было. То есть… как «не было»? Не было в 1831 году! В 1813 году, когда Н. Ф. И. родилась, отец был. Звали его, как нетрудно сообразить, Федором Ивановым. Другими словами, мне нужен такой Федор Иванов, который в 1813 году был еще жив, а к 1831 году уже умер. И чтоб у него было две дочери. И хотя у меня не слишком много примет этого Иванова, тем не менее такого Иванова надо найти. И посмотреть, не годится ли он в отцы Н. Ф. И.? Еду в Пушкинский дом. Просматриваю в картотеке Модзалевского всех Ивановых. Выбираю всех Федоров. Узнаю, что один из них умер в Москве в 1816 году. Этот подходит. Выясняется, что это популярный драматург начала XIX века, Федор Федорович Иванов, автор интересной трагедии «Марфа Посадница» и имевшего в свое время шумный успех водевиля «Семейство Старичковых», друг поэтов Батюшкова, Вяземского и Мерзлякова, известный всей Москве хлебосол, весельчак и театрал. Просматривая в библиотеке книги, из которых Модзалевский выписал имя Иванова, я обнаружил некролог Иванова, а в некрологе — строчки: «Он оставил в неутешной печали вдову и двух прелестных малюток». Значит, у Иванова было двое детей лермонтовского возраста — может быть, Н. Ф. И. и ее сестра? Но, к сожалению, только «может быть». А «наверное» я так ничего и не узнал.ТАЙНА ВАГАНЬКОВА КЛАДБИЩА
Я сам понимал, что иду неправильным путем. Ясно, что в начале 30-х годов Н. Ф. И. вышла замуж и переменила фамилию. Гораздо естественнее было бы обнаружить ее под фамилией мужа, чем в биографии Федора Федоровича Иванова, умершего в то время, когда она была еще младенцем. Сведения о том, за кого она вышла замуж, проще всего почерпнуть из родословных. В дворянских родословных книгах каждый представитель рода занумерован по порядку и о каждом пропечатано: когда родился, где и когда служил, на ком был женат, каких имел детей, какими награжден орденами и чинами и когда умер. А про женщин — за кого вышла замуж. Существуют сотни таких родословных сборников — и княжеских, и графских, и баронских, и просто знатных дворянских фамилий. Беда только в том, что фамилия Ивановых не принадлежала к числу знатных. И родословная дворян Ивановых не составлялась. Следовательно, узнать по родословным книгам, за кого девица Иванова вышла замуж, нельзя. Оставалось последнее: выяснить, кто в XIX веке женился на девицах, носивших фамилию Иванова. Я выписал в библиотеке Пушкинского дома все родословные книги, какие там есть, сложил их штабелями возле стола и принялся перелистывать. Сколько испытал я за этим многодневным занятием внезапных радостей и сколько ужасных разочарований! «Иванова. 2-я жена князя Мещерского…» Не годится — Елена Ивановна! «Иванова. Любовь Алексеевна, жена коллежского регистратора Бартенева…» Не годится. «Иванова. Жена штабс-капитана Кульнева…» Глафира Ильинична! Не подходит. «Иванова Наталья Федоровна, жена…»
Чувствую: все замерло во мне и перевернулось. Чья жена? Оказывается, мой палец остановился в середине родословной дворян Обресковых. И Наталия Федоровна Иванова значится в этой книге женой какого-то Николая Михайловича Обрескова, о котором тут же и сказано, что это поручик, за «постыдный офицерскому званию поступок» разжалованный и лишенный дворянства в 1826 году. В 1833 году уволен из военной службы 14-м классом, в гражданской службе с 1836 года. Далее указано, что ему возвращены права потомственного дворянства и что в конце 50-х годов он имел чин надворного советника. Ну, думаю, сейчас буду знать решительно все! В картотеке Модзалевского пересмотрю карточки с именем Обрескова, перелистаю несколько книг, в которых он упомянут, и тогда мне уже станет ясной судьба Н. Ф. И. Из читального зала снова отправляюсь в Рукописное отделение. Роюсь в картотеке Модзалевского… Отец Обрескова, генерал-лейтенант, есть. Брат, посланник в Турине, есть. Про них Модзалевский читал. Но никакого Николая Михайловича Обрескова нет и в помине. А это значит, что Модзалевский и не читал о нем ничего — ни разу в жизни не встретил его имени в печати. Это тем более удивительно, что Обресков разжалован в 1826 году, когда как раз закончился суд по делу об арестованных за участие в декабрьском восстании 1825 года. И я уж даже подумал, не был ли Обресков замешан в восстании. Посмотрел в «Алфавит декабристов». Обрескова нет! Выходит, что Я. Ф. И. и замуж вышла за человека, о котором известно почти так же мало, как и о ней самой. А если так, то уж теперь, кажется, больше ничего не придумаешь. На этот раз, видно, заехал в тупик. Впрочем, один ход у меня еще остается. Я нигде ничего не мог узнать о Наталии Федоровне Ивановой, но это еще не значит, что я не найду каких-нибудь сведений о Наталии Федоровне Обресковой. Правда, этого имени в картотеке Модзалевского нет. Но, может быть, я найду его в каких-нибудь адрес-календарях или справочниках, которые Модзалевский на карточки не расписывал. И я снова принялся перелистывать страницы алфавитных указателей и адрес-календарей. Раньше я изучал в них букву «И», теперь перешел на «О». И снова принимаюсь просматривать некрополи. «Некрополь» — по-гречески «город мертвых». Поэтому некрополями называются также алфавитные списки умерших и погребенных людей. Другими словами — адресные книги кладбищ. Только вместо улицы и номера дома в некрополе указана могильная плита или надгробный памятник. И тут же вслед за именем погребенного приводится все, что написано на могильной плите или памятнике: годы рождения и смерти, изречения, стихи. В конце XIX — начале XX века были изданы описания и петербургских, и московских, и некоторых провинциальных кладбищ, и даже описания русских могил за границей. Беру «Московский некрополь» — второй том. Буква «О»… Батюшки! Целая страница Обресковых: Обрескова Екатерина… …Марина… …Наталья Александровна…Страница из родословного сборника В. Руммеля и В. Голубцова. Н. Ф. Иванова значится женою Николая Михайловича Обрескова (№ 47)

Обрескова Наталия Федоровна! Умерла 20 января 1875 года, на шестьдесят втором году от рождения. Погребена на Ваганьковом кладбище! Если в 1875 году ей шел шестьдесят второй год, следовательно, она родилась, как я предполагал, в 1813 году. Значит, она — Н. Ф. И., Наталия Федоровна Иванова. Значит, я все узнал! И тут я понял, что по существу-то я ничего не узнал! Ну и что из того, что Н. Ф. И. звали Наталией Федоровной Ивановой? А что нового вынесет из этого читатель? Что это откроет ему в стихах Лермонтова? Что скажет его уму и сердцу? И я понял, что надо искать дальше. Но так как из книг уже невозможно было больше извлечь решительно ничего, а познакомился Лермонтов с Ивановой в Москве, я поехал в Москву.Страницa из второго тома «Московского некрополя», с описанием могилы Н, Ф. Обресковой
ЗНАТОК СТАРОЙ МОСКВЫ
Был в Москве такой чудесный старичок, Николай Петрович Чулков, — историк и литературовед, великий знаток государственных и семейных архивов XVIII и XIX веков, лучший специалист по истории русского быта, волшебник по части установления служебных и родственных связей великих и не великих русских людей. Уж никто лучше его не мог сказать вам, кто когда родился, кто где жил, кто в каких служил департаментах и полках, кто на ком был женат, кто к кому ходил в гости, где чей дом стоял и где кто умер. На все подобные вопросы, если только в его силах было ответить на них, Николай Петрович давал самые точные и самые подробные разъяснения. И чаще всего прямо на память. А память у него была удивительная. Он так хорошо знал старую Москву, что, когда строили первую очередь метро, обратились к нему за советом. Один он мог точно указать, где в районе Остоженки — нынешней Метростроевской улицы — были в старину глубокие подвалы и старые, заброшенные колодцы, которые могли встретить на своем пути строители метро. Старик повел комиссию по Остоженке и по прилегающим к ней переулкам — палочкой указывал границы бывших барских особняков и усадеб, объяснял, в каком углу двора был погреб, в каком — колодец. А потом его попросили спуститься на трассу метро. И выдали пропуск «Действителен под землей». Николай Петрович смутился и расстроился и даже, кажется, принял это за неуместную шутку. Но, когда ему объяснили, что у всех пропуска такие, он спустился на трассу и ответил на все вопросы. Как все люди, беззаветно и бескорыстно любящие свою профессию, Николай Петрович охотно делился знаниями со всяким, кто в том нуждался, и никогда не заботился о том, будет ли в печати упомянуто его имя. Последние годы Николай Петрович работал в архиве Государственного литературного музея в Москве. Я не был знаком с ним, но, зная о его необыкновенной щедрости и отзывчивости, понимал, что он охотно поможет советом и мне — незнакомому. Прихожу в Литературный музей. Прошу вызвать Чулкова ко мне в вестибюль. И вот выходит крошечный старичок с несколькими коротко подстриженными над губой серыми волосками, такой милый, такой предупредительный, что даже глазками перемаргивает поминутно, словно опасаясь просмотреть какое-нибудь выражение лица своего собеседника, недослышать какое-нибудь слово. Я представился, вкратце изложил свою историю. Чулков внимательно слушал и помаргивал. Наконец я кончил. И тут настала моя очередь слушать и моргать. — Вы совершенно правы, — сказал Николай Петрович тихим голоском и откашливаясь в кулачок. — Наталия Федоровна Иванова действительно дочь Федора Федоровича, московского драматурга. Правильно и то, что она вышла замуж за Николая Михайловича Обрескова. А вот теперь запишите: у Обресковых была дочь Наталия Николаевна, которая в шестидесятых годах вышла замуж за Сергея Владимировича Голицына. У Голицыных тоже были дочери, родные внучки Наталии Федоровны: Александра Сергеевна — в замужестве Спечинская, Наталия Сергеевна — Маклакова и Христина Сергеевна — Арсеньева. Наталию Николаевну, дочку Ивановой, я лично знал, даже бывал у нее. Вы совсем немного опоздали побеседовать с ней о ее матушке. Наталия Николаевна скончалась совсем недавно: в 1924 году. Кроме нее, я знаком с одной из ее дочерей — с Христиной Сергеевной Арсеньевой. Бывал у нее. Она тут жила недалеко, возле храма Христа Спасителя. Но храм… — тут Николай Петрович несколько затруднился, подыскивая подходящее слово, — храм и домик около храма… подверглись реконструкции… и уже не находятся на месте. Поэтому я просто даже не представляю себе, где может быть Христина Сергеевна в настоящее время. Вот только в связи с вашим рассказом… — Николай Петрович покашливал и потирал то один кулачок, то другой, — в связи с вашим рассказом у меня возникло маленькое недоумение. Ведь довольно близко зная и дочь и внучку Наталии Федоровны, я тем не менее никогда не слышал от них имени Лермонтова. Между тем они должны были хорошо представлять себе, что знакомство его с Наталией Федоровной должно было меня заинтересовать. И вот поэтому я опасаюсь, что Наталия Федоровна Иванова — это не та Н. Ф. И., о которой говорится у Лермонтова. Но, конечно, прежде всего вам надо бы повидаться с Христиной Сергеевной… — Где же мне достать Христину Сергеевну? — спросил я внезапно осипшим голосом, ошеломленный последним замечанием Чулкова. — Да адрес-то можно, пожалуй, узнать через адресный стол… — заметил Чулков. — Ах да, через адресный стол!.. И, поблагодарив Николая Петровича, я опрометью бросился из музея. «Новое несчастье, — думаю, — не та Н. Ф. И.!» Прибежал в адресный стол. Подаю в стол заказов длинный, узенький бланк с именем Христины Сергеевны. Жду ответа. Наконец слышу: — Арсеньеву кто спрашивает? Подбегаю к окошечку: — Я! — Арсеньева, какая нужна вам, в городе Москве не проживает. — Как так «не проживает»? — Гражданин! Наверно, выбыла. Сведений о ней не имеется. Поплелся восвояси. «Эх, — думаю, — пора бросать эту затею! Так можно искать до конца жизни. Куда теперь девалась эта Христина Сергеевна? А если она уехала? А если на Урал, на Кавказ, на Камчатку? Что же, ехать за ней?» А сам чувствую, что поеду.ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ
Христина Сергеевна — урожденная Голицына. Арсеньева — это по мужу. Следовательно, знать о ней может кто-нибудь из Голицыных. Вспоминаю, кто-то говорил, что в редакции журнала «Ревю де Моску» переводчиком с русского языка на французский работает Николай Владимирович Голицын. Еду к нему. Вбегаю в редакцию, первому встречному начинаю объяснять: «Лермонтов, Н. Ф. И., она Иванова, она за Обресковым…» Вижу — на другом конце комнаты от стола поднимается невысокий пожилой человек с окладистой бородой. — Это, очевидно, ко мне! — удивленно говорит он, обращаясь к своим сослуживцам. Я снова начинаю рассказывать о своих злоключениях. — Рад вам помочь и буду с вами совершенно прямодушен, — говорит Голицын, задумчиво комкая и снова разглаживая бороду. — Александра, Наталия и Христина Сергеевны — это мои сестры. Не могу только сказать вам точно — четвероюродные или пятиюродные. Когда-то часто встречал их. Только это было очень давно. И единственное, что запомнилось, — это то, что в молодости они очень хорошо танцевали. Что касается Александры и Наталии Сергеевны — не знаю, давно не слышу о них. Что же касается Христины Сергеевны, то в отношении еe y меня более положительные сведения. Дело в том, что Христина Сергеевна умерла. Жила она где-то тут, под Москвой… Вы, мне кажется, правы: возможно, что у нее и хранилась какая-нибудь связка старинных писем или какой-нибудь сувенир ее бабушки. Проще всего было бы узнать адрес у ее мужа, Николая Васильевича Арсеньева. Но он, к сожалению, умер. Ивану Васильевичу, брату его, тоже безусловно был ведом адрес. Но Иван Васильевич тоже умер. Вот, пожалуй, кто может знать — это сын Ивана Васильевича Арсеньева, Сергей Иванович. Он, насколько я понимаю, жив и находится здесь, в Москве. Поэтому вам прежде всего следует повидать его, поскольку он сын покойного брата покойного мужа покойной Христины Сергеевны. Я, правда, не в курсе того, где он живет. Но, вероятно, можно навести справку в бюро адресов… Я снова кинулся в адресный стол. Достаю адрес Сергея Ивановича, еду к нему в Обыденский переулок и в полумраке небольшой передней вступаю в переговоры со старушкой — тещей Арсеньева, которая стремится побольше узнать от меня и поменьше сообщить мне. Выспросив решительно все, старушка начала подавать мне советы, и весьма дельные. Прежде всего она объяснила, что, несмотря на солидный возраст, Сергей Иванович получил разрешение вторично поступить в вуз, потому что в молодости выбрал себе профессию не по сердцу. Он человек занятой, дома бывает редко, и мне застать его будет трудно. — За Сергеем Ивановичем вам не стоит гоняться, да и не к чему, — говорит мне старушка. — Он ничего ровно вам не скажет. И адрес Христины Сергеевны вам тоже ни к чему. А лучше всего сходить бы вам к сестре ее, к Наталье Сергеевне. Я всполошился: — К какой Наталье Сергеевне? — Как «к какой»? К Маклаковой. — Да разве Маклакова жива? — Да как же не жива, когда я на прошлой неделе с ней вместе в кассе чек выбивала! — Чек в кассе? — Ну да, в «Гастрономе». Поздоровались с ней да и разошлись. — А где она живет, Маклакова? — Тут где-то, на Зубовском. — А дом номер?… — Номера дома не знаю. Чаю у нее не пила. Сходите в адресный стол.ДОМ НА ЗУБОВСКОМ
Снова прибежал в адресный стол, нацарапал на бланке: «Наталия Сергеевна Маклакова», и наконец в моих руках адрес: «Зубовский бульвар, 12, кв. 1». Не буду занимать вас описанием, что я перечувствовал по пути к этой — живой! — внучке. Это понятно каждому. …Маленький деревянный домик, вход со двора, несколько ступенек и дверь. Я постучал. Открывает дверь женщина: немолодая, совершенно седая, высокая, с несколько преувеличенным выражением собственного достоинства на лице. — Вам кого? — Простите, — говорю, — можно видеть Наталию Сергеевну Маклакову? — Да, это я. А что вам угодно? — Здрассьте, Наталия Сергеевна, — говорю я в сильном волнении. — Я узнал ваш адрес через адресный стол… Я занимаюсь Лермонтовым. И вот в связи с этим мне надо бы с вами поговорить… — Голубчик! — с сожалением перебивает она. — Вы напрасно искали меня. Я ничем не смогу быть вам полезной. Ведь все стихи, которые Лермонтов посвящал моей бабушке, Наталии Федоровне, все его письма, которые со стихами вместе хранились в ее шкатулке, давно уже сожжены. Их уничтожил еще мой дед, Николай Михайлович Обресков, из ревности к Михаилу Юрьевичу. У нас ничего не осталось. — Наталия Сергеевна! — вскричал я. — Вы, наверно, даже не представляете себе, что вы сказали! — А что я сказала? — встревожено спросила Маклакова. — Я ничего не сказала и ничего не скажу интересного. Мне, мой милый, известны только те стихи, которые напечатаны во всех изданиях Лермонтова и которые вы знаете, конечно, не хуже меня.Я недостоин, может быть,
Твоей любви: не мне судить;
Но ты обманом наградила
Мои надежды и мечты,
И я всегда скажу, что ты
Несправедливо поступила… —
СУНДУК С БЕЛОРУССКОЙ ДОРОГИ
Маклакова предложила мне, что обойдет всех своих московских родственников и сама расспросит их, не помнят ли они чего о Наталии Федоровне и о Дарье Федоровне, об их отце, матери, тетках, дядьях и знакомых. Чтоб я только написал ей вопросы, какие она должна задавать. Все это было, по ее словам, гораздо проще узнать ей, чем мне. Я обрадовался и притащил ей на дом целую картотеку вопросов. Захожу к ней вскоре. И, сообщив мне целый ворох имен дальних родственников Наталии Федоровны по линии нисходящей и восходящей, Маклакова говорит мне: — У меня к вам просьба. Помогите мне достать машину. Я удивился: — Какую машину? — Автомобиль, — говорит Маклакова. — И такой, чтоб на него можно было поставить сундук покойной сестры Христины. Я ведь вам говорила, что последние годы Христина Сергеевна жила по Белорусской дороге, недалеко от Перхушкова. Вещи, которые после нее остались, мы отдали там на хранение соседям. И знаете, уже столько прошло с тех пор времени, что я опасаюсь, цел ли сундук. Мне хотелось бы его сюда привезти, да он такой громоздкий, что не принимают даже в багаж. А последнее время я все стараюсь припомнить, нет ли там чего-нибудь для вас интересного?… Тут я живо достал машину. Маклакова послала кого-то за сундуком. Я же заблаговременно явился к ней на Зубовский и принялся расхаживать возле ворот: войти в дом — слишком рано, стесняюсь, а в то же время боюсь опоздать к прибытию сундука. Под вечер машина пришла. Отвалили заднюю стенку. Стащили огромный, с коваными наугольниками сундук и поволокли его в дом. Я хотел, чтоб наибольшая тяжесть легла непременно на меня — ревновал к сундуку, говорил: «Не надо! Я сам!..» Наконец водворили его в комнате. Маклакова принялась за разборку. И тут пошли из него такие вещи, каких я вовсе никогда не видывал. Прежде всего пошли какие-то флакончики из-под духов. Потом пошли коробочки из-под флакончиков из-под духов. Перламутровые альбомчики, старые веера и лайковые перчатки, перья и булавки для шляп, старые пуговицы, каких теперь вовсе не увидишь, металлический чайник, корсет, утюг, кривая керосинка, кофейная мельница!.. Колун пошел! Маклакова над каждой вещичкой умиляется, ахает… А для меня — ничего?! И вот, когда уже почти пуст сундук, Маклакова вынимает со дна старинную, светло-коричневой кожи рамку и, улыбаясь, что-то рассматривает. — Вот видите, и для вас под конец нашлось… А мне виден только оборот — и, гляжу я, на обороте рамки старинным почерком надпись: «Наталия Федоровна Обрескова, рожденная Иванова». Взял я эту рамку в руки, повернул ее и увидел наконец лицо той, которую Лермонтов так любил и из-за которой я… так страдал.
Нежный, чистый овал. Удлиненные томные глаза. Пухлые губы, в уголках которых словно спрятана любезная улыбка. Высокая прическа, тонкая шея, покатые плечи… А выражение лица такое, как сказано в одном из лермонтовских стихотворений, ей посвященных:
С людьми горда, судьбе покорна,
Не откровенна, не притворна…
СОЛДАТ НИЖЕГОРОДСКОГО ПОЛКА
Я искал имя Обрескова в московских архивах. Не обнаружил. Особенно долго копался в Военно-историческом архиве. Не обнаружил. Поехал в Ленинград. И там, в Военно-историческом архиве, наконец отыскалось:ДЕЛО
генерал-аудиториата 1-й армии
военно-судное
над поручиком
Арзамасского конно-егерского полка
ОБРЕСКОВЫМ
И когда я перелистал это «дело», то узнал наконец, в чем там было самое дело. По формулярам, аттестациям, донесениям и опросным листам я установил историю этого человека. Обресков родился в 1802 году в семье генерала и по окончании Пажеского корпуса был выпущен в один из гвардейских полков, из которого вскоре его перевели в конно-егерский Арзамасский. В 1825 году полк этот квартировал в городке Нижнедевицке, невдалеке от Воронежа, и офицеры полка часто бывали званы на балы к воронежскому гражданскому губернатору Н. И. Кривцову, женатому на красавице Е. Ф. Вадковской. Обресков находился с нею в близком родстве, и в губернаторской гостиной его встречали как своего. После одного из балов губернатор случайно обнаружил, что из спальни его супруги похищены жемчуга, золотая табакерка и изумрудный, осыпанный брильянтами фермуар. Кривцов заподозрил гостей. На знамя Арзамасского полка легла позорная тень. Вскоре драгоценности были нечаянно замечены у одного из офицеров. Полковой командир вызвал его к допросу; отдав командиру все пропавшие вещи, он сознался в краже. Это был поручик Обресков. Военный суд лишил Обрескова чинов и дворянского звания и выписал его солдатом в Переяславский полк. Оттуда он попал на Кавказ, в Нижегородский драгунский, который в 1829 году участвовал в Турецкой войне. Рядовой Нижегородского полка Обресков отличился и был награжден «солдатским Георгием», как называли тогда в войсках «знак военного ордена». Этот крестик носили на такой же точно черно-оранжевой георгиевской ленточке, только права на включение в списки георгиевских кавалеров он не давал. С этим крестом Обресков и изображен на портрете. Семь лет прослужил Обресков в солдатах. Только в 1833 году он был наконец «высочайше прощен» и уволен с чином коллежского регистратора. В таком чине в царской России служили самые маленькие чиновники — например, пушкинский станционный смотритель, — и с этим чином Обресков должен был начинать новую жизнь. В 1836 году он поступил на службу в канцелярию курского губернатора. Дальнейшая жизнь его не представляет для нас никакого решительно интереса. Первое время он занят был хлопотами о возвращении ему дворянства, а в 60-х годах действительно служил предводителем дворянства в Демянском уезде, Новгородской губернии. Для нас важно другое. В тот год, когда он поселился в Курске и поступил на службу к тамошнему губернатору, он уже был женат на Наталии Федоровне Ивановой. Что побудило ее выйти замуж за этого опозоренного человека, для которого навсегда были закрыты все пути служебного и общественного преуспеяния? Любовь? Или, может быть, она знала, что Обресков взял на себя чужую вину? Или потому, что он был состоятельным человеком? Этого мы никогда не узнаем.АЛЬБОМ В БАРХАТНОМ ПЕРЕПЛЕТЕ
Опять нехорошо! Я много узнал про Обрескова и мало про Лермонтова. Кроме того, у меня скопилось множество фамилий близких и дальних родственников Наталии Федоровны Ивановой, с которыми надо что-то делать. Прежде всего я узнал, что у нее был отчим. Мать Наталии Федоровны после смерти Федора Федоровича вышла замуж за Михаила Николаевича Чарторижского. Наталия Федоровна воспитывалась в его семье. Следовательно, Лермонтов бывал в его доме. Надо выяснить, кто он такой. Спрашиваю Маклакову. Не знает. Спрашиваю Чулкова. И он не знает. Тогда я начинаю снова выспрашивать Маклакову, что это за Чарторижский и как мне что-нибудь вызнать о нем. Маклакова уверяет меня, что не помнит. Но я очень прошу и даже настаиваю. И тут она вспомнила. Она вспомнила, что бабушка некой Нины Михайловны Анненковой — урожденная Чарторижская. — А кто такая Нина Михайловна Анненкова? — Это старушка одна, — говорит Маклакова. — Живет она в семье Анатолия Михайловича Фокина, очень славного и обязательного человека. Я вам дам к нему записку, он вас с ней познакомит. А дом их напротив нашего: Зубовский бульвар, пятнадцать. Я перешел через улицу и во дворе восьмиэтажного дома обнаружил старинный особнячок, в котором и жили Фокины. И вот навстречу мне танцующей походкой выходит очень высокий человек лет пятидесяти. Лицо чисто выбрито, и вокруг губ все время гуляет небольшая усмешка. Встряхнув мою руку, он рекомендуется: «Фокин». Я вручил ему записку Маклаковой, которую он пробежал, извинившись. Сунув ее в карман, он снисходительно склонил голову: — Чем могу служить? И театральным, широким жестом пригласил в комнату. Я объяснил цель своего прихода. Фокин тяжело вздохнул и горестно надломил бровь. Лицо его выразило крайнюю степень сожаления. Нина Михайловна — человек престарелый и нездоровый, с весьмарасстроенной памятью. Еще несколько лет назад она действительно сама как-то упомянула в разговоре с ним, Анатолием Михайловичем, что девичья фамилия ее бабки Чарторижская и что бабка эта погребена на кладбище Донского монастыря, где мраморный ангел распростер крылья над ее надгробьем. Большего она, конечно, припомнить не в силах и только взволнуется. Стоит ли тревожить старушку? Ему очень неприятно, что я напрасно потратил время. У него самого касающегося Лермонтова, к сожалению, ничего нет. Старинные реликвии, принадлежавшие когда-то бабушкам и дедушкам, уже разошлись: кое-что пропало, другое продано. Впрочем, у его жены, Марии Марковны, сохранился еще доставшийся ей по наследству альбом Марии Дмитриевны Жедринской, супруги того Жедринского, который в конце 60-х годов был курским губернатором. В альбоме имеется стихотворение Апухтина, собственноручно им вписанное. — Может быть, вам любопытно взглянуть? — гостеприимно спрашивает Фокин. — Автограф Апухтина еще не опубликован. Апухтин?… К чему мне Апухтин? К работе моей никакого отношения он не имеет. Но Фокин уже достает из письменного стола большой альбом в темно-синем бархатном переплете. Действительно, на первой странице — стихотворение Апухтина, посвященное хозяйке альбома. Я не запомнил его точно: помню только, Апухтин пишет, что нашел «оазис» под кровом губернаторского дома и отдыхал там душой, что он снова уходит в далекий путь, но надеется сложить когда-нибудь свой страннический посох «у милых ног» курской губернаторши. Под стихотворением — число: «2 августа 1873 года». Стало быть, первая страница этого альбома написана через тридцать с лишком лет после смерти Лермонтова. Что интересного может заключаться для меня в этом альбоме? — Ничего нового, кроме Апухтина, в этом альбоме нет, — предупреждает Фокин. — Пожалуй, не стоит и перелистывать. Все остальное — давно известные стихи, которые сама Мария Дмитриевна просто переписывала из книг. В самом деле, стихи все известные: «Выдь на Волгу…» Некрасова, «Сенокос» Майкова, Лермонтов — «На севере диком стоит одиноко…». Потом — стихи Фета, какого-то Свербеева, опять Некрасов, Тютчев, Пушкин… Я уже собираюсь отдать альбом, перевернул еще несколько страниц… И вдруг! Вижу — рукою Жедринской переписано:В АЛЬБОМ Н. Ф. ИВАНОВОЙ
Что может краткое свиданье
Мне в утешенье принести?
Час неизбежный расставанья
Настал, и я сказал: прости.
И стих безумный, стих прощальный
В альбом твой бросил для тебя,
Как след единственный, печальный,
Который здесь оставлю я.
М. Ю. Лермонтов
В АЛЬБОМ Д. Ф. ИВАНОВОЙ
Когда судьба тебя захочет обмануть
И мир печалить сердце станет —
Ты не забудь на этот лист взглянуть
И думай: тот, чья ныне страждет грудь,
Не опечалит, не обманет!
М. Ю. Лермонтов
Мгновенно пробежав умом
Всю цепь того, что прежде было, —
Я не жалею о былом:
Оно меня не усладило,
Как настоящее, оно
Страстями бурными облито,
И вьюгой зла занесено,
Как снегом крест в стели забытый,
Ответа на любовь мою
Напрасно жаждал я душою,
И если о любви пою —
Она была моей мечтою.
Как метеор в вечерней мгле,
Она очам моим блеснула,
И, бывши все мне на земле,
Как все земное, обманула.
М. Ю. Лермонтов

— Этот альбом, — говорит Фокин, иронически наблюдая за тем, как я его изучаю, — собственно, уже не принадлежит Марии Марковне. Она уступила его Государственному литературному музею, и с завтрашнего дня он поступает в их собственность. Поэтому я просил бы вас: пусть то, что мы его с вами рассматриваем, останется между нами… — Можете быть уверены, — бормочу я, а сам думаю: «Сказать ему или не говорить, что в альбоме — неопубликованный Лермонтов? А вдруг он решит не продавать альбом, оставит его у себя, а потом что-нибудь случится — и стихотворения, уже раз уцелевшие чудом, погибнут, как погибли десятки других лермонтовских стихов!.. Нет, думаю, не стоит подвергать альбом риску. Продал — и продал». И я возвратил ему альбом со словами: — Да, очень интересный автограф Апухтина. А на следующий день побежал в Литературный музей и, словно невзначай, спрашиваю: — Вы, кажется, покупали альбом у Фокина? — Купили. — Посмотреть можно? — Нет, что вы! Он еще не описан. Опишут — тогда посмотрите. Опишут?! Это значит: обнаружат без меня лермонтовские стихотворения — и пошла тогда вся моя работа насмарку. Зашел снова через несколько дней: — Ну что? Альбом Жедринской не описали еще? — Нет, уже описали. Стараюсь перевести незаметно дыхание: — А что там нашли интересного? — Особого ничего нет. Только автограф Апухтина. Я прямо чуть не захохотал от радости. Не заметили!!! И тут же настрочил заявление директору с просьбой разрешить ознакомиться с неопубликованным стихотворением Апухтина. Но скопировал я, конечно, не Апухтина, а стихотворения Лермонтова. И только после этого попросил разрешения опубликовать их.Страница из альбома М. Д. Жердинской. Копии стихотворений Лермонтова «В альбом Д. Ф. Ивановой» и «В альбом Н. Ф. Ивановой»
ПРОЩАНЬЕ С Н. Ф. И
Остается объяснить, как неизвестные стихотворения Лермонтова попали в альбом курской губернаторши. Это довольно просто. С 1836 года Наталия Федоровна поселилась с Обресковым в Курске. Дарья Федоровна прожила в этом городе до самой смерти. А после нее там продолжали жить ее дочери. Понятно, что стихи Лермонтова, посвященные сестрам Ивановым, курские любительницы поэзии переписывали из их альбомов в свои. И таким же путем в 70-х годах стихи эти попали наконец в альбом Жедринской. Может быть, кто усомнится: лермонтовские ли это стихи? Лермонтовские! Окончательным доказательством служит нам то, что несколько строчек из «Стансов», обнаруженных в фокинском альбоме, в точности совпадают с другими «Стансами», которые Лермонтов собственноручно вписал в одну из своих тетрадей, хранящихся ныне в Пушкинском доме. Теперь уже становится более понятной вся история отношений Лермонтова с Н. Ф. И. Теперь уже ясно, что и под зашифрованным обращением «К*» в замечательном стихотворении 1832 года скрыто имя все той же Ивановой. В последний раз обращается Лермонтов к Н. Ф. И., чтобы навсегда с ней расстаться. С какой горечью говорит он ей о двух протекших годах! И с какой гордостью — о своем вдохновенном труде, с какой верой в великое свое предназначение! Вот они, эти стихи на разлуку:Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душою.
Знай: мы чужие с этих пор.
Ты позабыла: я свободы
Для заблужденья не отдам;
И так пожертвовал я годы
Твоей улыбке и глазам,
И так я слишком долго видел
В тебе надежду юных дней,
И целый мир возненавидел,
Чтобы тебя любить сильней.
Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?
Быть может, мыслию небесной
И силой духа убежден,
Я дал бы миру дар чудесный,
А мне за то бессмертье он?
Зачем так нежно обещала
Ты заменить его венец?
Зачем ты не была сначала,
Какою стала наконец?
Я горд! — прости — люби другого,
Мечтай любовь найти в другом:
Чего б то ни было земного
Я не соделаюсь рабом.
К чужим горам под небо юга
Я удалюся, может быть;
Но слишком знаем мы друг друга,
Чтобы друг друга позабыть.
Отныне стану наслаждаться
И в страсти стану клясться всем;
Со всеми буду я смеяться,
А плакать не хочу ни с кем;
Начну обманывать безбожно,
Чтоб не любить, как я любил —
Иль женщин уважать возможно,
Когда мне ангел изменил?
Я был готов на смерть и муку
И целый мир на битву звать,
Чтобы твою младую руку —
Безумец! — лишний раз пожать!
Не знав коварную измену,
Тебе я душу отдавал; —
Такой души ты знала ль цену? —
Ты знала: — я тебя не знал! —
ПОРТРЕТ
ЗНАКОМОЕ ЛИЦО
Я хочу рассказать вам историю одного старинного портрета, который изображает человека, давно умершего и тем не менее хорошо вам знакомого. История эта не такая старинная, как самый портрет, но, хотя она началась совсем недавно, это все-таки целая история. От одного московского издательства я был как-то командирован в Ленинград и пробыл там несколько дней. Событие это, само по себе ничем не примечательное, не стоило бы даже и упоминания, если бы другое событие — или, попросту, совершенно ничтожный случай, о каких мы забываем ровно через минуту, — не положило начала целому ряду приключений. Итак, я был командирован в Ленинград — город, особенно близкий моему сердцу. Там я учился и окончил университет, вступил на литературное поприще, обрел там первых друзей — словом, был счастлив. Какое это удивительное, какое радостное чувство — вернуться на несколько дней в город, где прожил лет десять! А уж если вам случалось бывать в Ленинграде, да еще в белые ночи, вы, конечно, поймете меня. Прямота набережных. Неподвижный строй бледно-желтых, тускло-красных, матово-серых дворцов и их опрокинутые отражения в зеркально-черных водах окантованной гранитом Невы. Ажурные арки мостов на фоне розово-желтой зари. Лиловые контуры башен, колонн и скачущих бронзовых коней в этом обманчивом полусвете. И кажется еще прямей, чем всегда, прямота проспектов и набережных. Будто легче и ближе один от другого стали мосты, будто теснее сдвинулись купола и шпили в этой прозрачной, загадочной тишине. Словно все уменьшилось вокруг, но город стал еще лучше, прекрасней, если только может стать еще прекраснее этот великий город! Впрочем, я совершенно отвлекся от предмета своего повествования. По приезде в Ленинград я не преминул наведаться в Пушкинский дом Академии наук СССР. Посвятив себя изучению жизни и творчества Лермонтова, я, приезжая в Ленинград, никогда не упускаю случая побывать в Пушкинском доме, где собраны почти все рукописи Лермонтова, где можно видеть его портреты, картины и рисунки, сделанные его рукой, где целая комната уставлена шкафами, в которых хранятся решительно все издания сочинений Лермонтова и литература о нем. Когда-то я даже служил в Пушкинском доме — по старой памяти пользуюсь там полной свободой и по-прежнему имею доступ в рабочие комнаты. Так и на этот раз я явился в музейный отдел, к Елене Панфиловне Населенко, и получил от нее разрешение хозяйничать: просматривать каталоги, перелистывать инвентарные книги, самому доставать с полок тяжелые альбомы и папки. И вот, пользуясь ее гостеприимством, я уже расположился в рабочей комнате музея, заставленной шкафами, письменными столами и шифоньерками. Бывают же такие неудачи! Не успела Елена Панфиловна отвернуться, как я, пробираясь мимо ее стола, смахнул рукавом какую-то разинутую папку с незавязанными тесемками. Папка шлепнулась на пол, и тут же высыпалось из нее чуть ли не все содержимое: штук пятнадцать портретов известного педагога Ушинского, гравированный портрет митрополита Евгения, составившего словарь русских писателей, несколько изображений Ломоносова с высоко поднятой головой и бумагой в руке, Бестужев-Марлинский в мохнатой кавказской бурке, фотография: Лев Толстой рассказывает сказку внуку и внучке, памятник дедушке Крылову, поэт-партизан Денис Давыдов верхом на белом коне и вид южного побережья Крыма… — Как это меня угораздило! Прямо слон… — бормочу я, ползая по полу. — Простите, Елена Панфиловна, не сердитесь! — Ну уж ладно, что с вами делать! — улыбается Елена Панфиловна. — Давайте-ка папку сюда. Но я медлю отдать ей. — Простите, — говорю. — Разрешите мне еще разок взглянуть на эти картинки… — На что они вам? — Сейчас… — отвечаю я и уже роюсь и роюсь в папке. — Сейчас!.. Неужели это мне только почудилось? Нет, конечно, я видел и упустил какое-то ужасно знакомое лицо. Оно мелькнуло, когда папка упала. — Одну минуту… Секундочку… Вот! И я быстро выхватил из кучи картинок небольшую пожелтевшую любительскую фотографию, изображавшую молодого военного. Никогда в жизни не видел я этого портрета. Но откуда же я тогда знаю это лицо? Темный блеск задумчивых глаз, чуть вздернутый нос, тонкие темные усы над пухлым детским ртом, упрямый подбородок, высоко поднятые, словно удивленные брови и ясный, спокойный лоб будто совсем и не согласованы между собой, а лицо между тем чудное, необыкновенное. Из-под накинутой на плечи распахнутой тяжелой шинели виднеется эполет. Перевернул. На обороте — надпись карандашом: «Прибор серебряный». И все! Кто же это? Это, конечно, он! Я узнал его сразу, словно знаком с ним давно, словно видел его когда-то вот точно таким. Так неужели же это Лермонтов? Неужели это неизвестный нам лермонтовский портрет? И сразу удивление, и радость, и сомнение: Лермонтов?! Среди каких-то случайных картинок… А вот уверен, что он был такой, каким изображен на этой выцветшей фотографии, хотя, по правде сказать, и не очень похож на другие свои портреты. Но все-таки кто это? — Елена Панфиловна, это, случайно, не Лермонтов? — Считается почему-то, что Лермонтов, — отвечает Елена Панфиловна, и мне уже нечем дышать, — только почему так считается, в точности никому не известно.
И вот смотрю я — и ведь еще неизвестно, кто это, а уже кажется, словно короче стали сто лет, которые отделяют нас от него, и Лермонтов словно ожил на этой старенькой фотографии. И какая заманчивая тайна окружает его лицо! Сколько лет ему на этом портрете? В каком он изображен мундире? Как попала сюда эта выцветшая фотография и где самый портрет? И на каком все-таки основании считается, что это Лермонтов? — Елена Панфиловна, на каком все-таки основании считается, что это Лермонтов? — Эта фотография, — говорит Елена Панфиловна, — попала к нам в Пушкинский дом из Лермонтовского музея при кавалерийском училище, очевидно, в 1917 году. Наверно, там ее и считали репродукцией с лермонтовского портрета. А уж коли вам кажется, что это действительно Лермонтов, вам надо заняться этим вопросом и найти самый портрет. Портрет интересный, — с улыбкой заключила она и, выдвинув ящик каталога, взялась за перо.Лицо, о котором идет речь
«Г 1-08-87»
Итак, прежде всего надо было установить, как попала фотография в музей, на стол к Елене Панфиловне. В Рукописном отделении Пушкинского дома я выписал инвентарные книги бывшего Лермонтовского музея при Николаевском кавалерийском училище. Действительно, все материалы, и в том числе инвентарные книги этого музея, в 1917 году поступили в Пушкинский дом. Перелистал инвентарную книгу. Теперь я уже знаю: фотографию с портрета М. Ю. Лермонтова в Лермонтовский музей пожертвовал некий В. К. Вульферт, член Московской судебной палаты. Мне стала известна, таким образом, фамилия владельца портрета. Но когда, в какие годы он владел им? Когда пожертвовал в музей фотографию? Может быть, еще в 80-х годах прошлого века, когда при кавалерийском училище в Петербурге впервые открылся Лермонтовский музей?… Как искать этого Вульферта? Жив ли он? В Москве ли? Хранит ли портрет? «Установим сперва, — говорю я себе, — кто такой Вульферт. Прежде всего надо проверить, нет ли этой фамилии в картотеке Модзалевского». Да, картотека эта — настоящее чудо библиографии. Есть! Я без особого труда выяснил, в каких именно книгах встречается имя В. К. Вульферта. Потом перешел в библиотеку Пушкинского дома и там, снимая с полок книги и раскрывая их на указанных страницах, постепенно узнал, что Вульферта звали Владимиром Карловичем, что в его коллекции хранились рукопись гоголевской «Женитьбы» и письма поэта Батюшкова, что и сам Владимир Карлович печатал рассказы в 80-х годах, что отец его, Карл Антонович, был женат на сестре Николая Станкевича — молодого мыслителя, с которым Лермонтов учился в Московском университете. В книге «Список гражданским чинам» я вычитал, что Владимир Карлович Вульферт «в службе с 1866 года». Смекаю, что, должно быть, его давно нет на свете. Беру книгу «Вся Москва на 1907 год» — адресную московскую книгу. Гляжу: Владимира Карловича нет и в помине. Зато есть какой-то Иван Карлович Вульферт, Молчановка, 10. Вероятно; брат Владимира Карловича. Следовательно, и этот годится. Пропускаю несколько лет. Перелистываю том «Вся Москва на 1913 год». Все идет хорошо. К Ивану Карловичу Вульферту прибавился какой-то Анатолий Владимирович. Очевидно, сын Владимира Карловича. Адрес: Большой Николо-Песковский, 13. Рука тянется к книге «Вся Москва на 1928 год», а в душе — целая буря… Сколько было событий с 1913 года до 1928! Живы ли Вульферты? В Москве ли? Цел ли портрет? В их ли руках или, может быть, продан давно? А… Б… В… Буль… Вульф… «Вульферт Анат. Влад., улица Вахтангова, 13, кв. 23». Живы!!! Живы в 1928 году! А сейчас? — Простите, — говорю, — где тут у вас стоит последняя телефонная книжка? — Вон на той полке. — Так ведь это же ленинградская, а мне московскую надо. — Московской у нас нет. — Батюшки!.. И, недолго размышляя, я опрометью бегу на междугородную телефонную станцию и требую, запыхавшись, московскую телефонную книжку. «Вульферт А. В., улица Вахтангова, 13, телефон Г1-08-87». — Есть!ПОКЛОННИК ТЕАТРА РУСТАВЕЛИ
Вернулся в Москву. И вечером, в тот же день, отправился на поиски Вульферта. В портфеле у меня фотография, переснятая в Пушкинском доме с той фотографии. Живу, оказывается, от Вульферта на расстоянии одного квартала, крышу дома вижу из своего окна каждый день, а даже и не подозревал, что так близко от меня неизвестный лермонтовский портрет. Удивительно! Сворачиваю с Арбата на улицу Вахтангова. Поравнялся с домом 13. Поднимаюсь по лестнице, рассматриваю дощечки на дверях и наконец стучу в дверь 23-й квартиры. Открывает какая-то заспанная старуха. — Простите, — говорю, — можно видеть Анатолия Владимировича Вульферта? — Опомнились! Они уж давно не живут здесь. Я обомлел: — Да что вы! А где же они? — Не скажу. — А у кого же теперь узнать? — У сына ихнего, у Сашеньки. Он военным инженером работает. Сходите к нему домой. Он и скажет. — А он где живет? — На Новинском живет, дом двадцать три вроде… Туда, к площади Восстания поближе. А вот квартира какая, не помню… Александра Анатольевича спросите! И вот я уже бегу на Новинский. Дом 23. Квартира, оказывается, 17. На двери ящик почтовый. Из ящика высунулся угол газеты «Советское искусство». Ну, думаю, коли здесь искусство в чести, цену портрету знают. Очевидно, он цел-невредим. Звоню. Слышу за дверью шаги и голос мужской: — Кто? — Можно видеть Александра Анатольевича? — Простите! Если вы подождете минуточку, я отворю дверь и скроюсь. Я принимаю ванну. Замок щелкнул. Зашлепали туфли. Голос из глубины квартиры крикнул: «Входите!» Не успел я еще и дверь за собою закрыть — уже чувствую, угадываю по вещам: портрет здесь! В передней, под вешалкой, старинный, с горбатой крышкой баул. В стенном шкафу — корешки старинных альманахов и книг. Над шкафом, тут же в передней, старинная картина: пруд и деревья. Пока я оглядывал переднюю, вышел хозяин дома — высокий, красивый, тонкий, чуть-чуть сутулится. На мокром проборе — сетка. Увидел меня — и: — Ах, простите! Я не знал!.. Я по голосу принял вас за одного своего приятеля… Мне так неловко! — Помилуйте! Это мне должно быть неловко. — Позвольте познакомиться: Вульферт. — Андроников. — Очень приятно. Кстати, я, очевидно, знаком с вашим однофамильцем в Тбилиси. — Почему же с однофамильцем? Может быть, даже и с родственником… — Ах, значит, вы из Тбилиси? В таком случае, вы должны хорошо знать театр Руставели. — Еще бы! Можно сказать, воспитан на этом театре. — Значит, вы видели Акакия Хораву? — Разумеется. И страшно люблю его. — По-моему, это совершенно гениальный актер! В этом театре есть другой, тоже потрясающий актер — Васадзе. Скажите, вы их когда-нибудь в «Разбойниках» видели? Я лично просто влюблен в их игру! И тут завязался у нас торопливо-восторженный разговор о грузинском театре, о Малом театре, о МХАТе. Александр Анатольевич оказался записным театралом. Несколько лет он проработал инженером на Колхидстрое и, постоянно бывая в Тбилиси, как говорится, не выходил из театра. Из передней Вульферт ввел меня в комнату. Я покосился на стены: старинные гравюры, акварели. «Моего» портрета не видно. И за интересной беседой я чуть не забыл, зачем и пришел. Наконец я раскрыл свой портфель, вынул из него фотографию и переложил к себе на колени. Затем обратился к Вульферту: — Простите, Александр Анатольевич, этот портрет вам знаком? И с этими словами показал ему фотографию. — Так это же наш Лермонтов! — вскричал Вульферт. — Откуда он у вас? — Так это действительно Лермонтов? — удивился, в свою очередь, я. — Неужели он цел? Покажите! — А я не спросил вас даже, зачем вы зашли, и замучил своими восторгами. Объясните мне, ради бога, откуда у вас фотография! Я объяснил. — Восхитительная история! — поражается Вульферт. — Сейчас настанет конец вашим поискам. Портрет где-то здесь, в этой квартире. Дед мой очень ценил его и, даже когда жертвовал свою библиотеку и рукописи в Исторический музей, с портретом не захотел расставаться. Кстати, вот фотография деда. А это вот прадед. Рядом с ним прабабка моя, Надежда Владимировна, сестра Николая Станкевича. Другая сестра была замужем за сыном Михаила Семеновича Щепкина. У деда хранился где-то портрет Михаила Семеновича, но теперь я не знаю… Итак, я попал в дом к москвичу, предки которого были связаны со Станкевичем — выдающимся русским мыслителем, с великим актером Щепкиным. — Погодите, сейчас покажу вам Лермонтова, — сказал Вульферт. Он заглянул за шкаф. На шкаф. В шкаф. Под шкаф. За ширму. Пошарил за письменным столом. Потом отодвинул диван, сундук в передней… — Странно! — проговорил он. — Портрет довольно большой, в хорошей овальной раме, писан маслом и, к слову сказать, недурным художником. Ума не приложу, где он. Очевидно, мама его куда-то запрятала… Давайте условимся так: через несколько дней моя мать, Татьяна Александровна, приедет из Крыма. Мы с ней отыщем портрет, и я вам сразу же позвоню. Я записал ему свой телефон и ушел, оживленный приятною встречей.«ВЫ НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ…»
Прошло две недели. Наконец Вульферт звонит. — Вы не расстраивайтесь, — предупреждает он с первых же слов. — С портретом произошла маленькая неприятность, и я в результате чувствую себя виноватым перед вами за то, что невольно вводил вас в заблуждение. Мне прямо не хочется говорить, но портрет, к сожалению, уже не в наших руках и, боюсь, не погиб ли… Я не мог вымолвить слова. — Пять лет назад, — продолжал Вульферт, — когда мы переезжали из Николо-Песковского в новую нашу квартиру, моя мать отдала этот портрет одному человечку за совершенный бесценок. Это паренек, по имени Боря, раньше он служил в лавке старинных вещей на Смоленском рынке, у старика антиквара. Мама заходила иногда в эту лавку и видела там этого Борю. Потом он раз или два приносил что-то к нам на квартиру и присмотрел для себя овальную раму от лермонтовского портрета, просил продать ему, но мама отказывалась. И вот в день переезда он снова появился у нас и пристал… ну, прямо с ножом к горлу: продайте ему эту раму! Мама отдала ему раму, потом спохватилась: оказывается, он унес ее вместе с портретом. — Как фамилия этого Бори? — спрашиваю я. — К сожалению, мама не знает. — А почему вы говорите, что портрет мог погибнуть? — Да ведь, очевидно, этот Боря не представляет себе, что в его руках Лермонтов, — отвечал Вульферт. — Татьяна Александровна ему ничего не успела сказать. А после этого случая она его не видала… Я очень жалею, — заключил он, — что так получилось. Но если мы что-нибудь узнаем случайно об этом портрете, я вам позвоню. Мы попрощались. Мне показалось, что я узнал о гибели друга. Потеряны следы. Нить поисков оборвана. Смоленского рынка нет. Лавки древностей нет. Старика антиквара нет. Фамилия Бориса, купившего этот портрет, неизвестна. С момента продажи прошло целых пять лет. Пять лет назад портрет купил в Москве некто Борис. Это все, что я знаю. Увы! У меня слишком мало данных, чтобы продолжать дальнейшие поиски. Однако если этот Борис не знает, что купил Лермонтова, то портрет не обнаружится сам. На это надеяться нечего. Портрет нужно искать, искать упорно, настойчиво! Если у меня мало данных, чтобы продолжать мои поиски, значит, надо собрать эти данные. И, прежде всего, порасспросить Вульфертов об этом бесфамильном Борисе. Я отправился к Вульфертам. На этот раз меня встретила немолодая, но статная черноволосая женщина с умными серо-голубыми глазами. — Знаю, знаю все! — отвечала она с живостью, как только услыхала мою фамилию. — Саша мой мне все рассказал. «Приходил, — говорит. — Так интересно мы с ним поговорили». Я как узнала, что он начал прямо с театра, так ему и сказала: «Ты его, верно, заговорил до смерти, он больше к нам не придет!» Я и то удивляюсь, как вам не противно с нами водиться, — продолжала она, жмурясь с шутливым неудовольствием. — Ведь с этим портретом я и сама себе места не нахожу, а уж будь я в вашем положении, я прямо с ума бы сошла! — А как, — спрашиваю, — унес Борис эту раму? — Да очень просто! — смеется Татьяна Александровна. — Взял подмышку да и понес. Она не тяжелая… И откуда он тут вывернулся, никак не пойму, — недоумевает она. — Нагрузили, значит, машину полную, а Саша куда-то побежал и все деньги унес. Шоферу платить нечем. И вдруг тут этот Борис, эдакий вертлявенький, белобрысенький, шепелявенький: «Отдайте мне рамощьку жа пятьдещат!» — «Да ну вас совсем! — говорю. — Берите!» Он сунул мне деньги и унес. Хватилась — милые мои! — утащил вместе с портретом… Да вы не печальтесь! Сейчас напою вас кофе, а уж как горю помочь, мы придумаем… В тридцать пятом году, — припоминает она, — Борис этот работал в Торгсине, на улице Горького, кассиром в колбасном отделе. Раньше-то он мне часто на глаза попадался, а с тех пор как портрет купил, канул как в воду: верно, боится меня. Ну, да ведь не умер же он! Вот встретила бы его — мигом бы к вам отрядила моего Александра, и достали бы вы портрет за милую душу… Да пейте же кофе, пока горячий! Тут стало мне казаться, что все еще можно поправить: так успокоительно действовала певучая московская речь Татьяны Александровны, ее шутливый тон, ее радушное гостеприимство.ВСТРЕЧА В КОМИССИОННОМ МАГАЗИНЕ
Нашел я знакомых, которые достали мне адрес бывшего директора магазина на улице Горького. Оказалось, что он работает директором во Владивостоке. Написал ему. Спрашивал, не помнит ли он фамилию кассира в колбасном отделе. Наверно, мой вопрос показался ему удивительным. Ответа я не дождался. Тогда я узнал адрес бывшего замдиректора. Оказалось, что он переехал в Одессу. Написал и ему о своих злоключениях. Опять нет ответа. Должно быть, за ненормального приняли. Обошел я комиссионные магазины Москвы. Расспрашивал, не встречал ли кто по комиссионным делам шепелявого Бориса. — Как фамилия? — спрашивают. — Фамилию-то как раз и не знаю. — Трудно сказать, — отвечают. — В Москве много Борисов. Выкладывал перед ними на прилавок фотографию с бывшего «вульфертовского» портрета: — Не попадал к вам этот портрет? — Не попадал. — Если поступит к вам на комиссию, не откажите сообщить мне по телефону. Побывал с этой фотографией в Литературном музее. Просил позвонить, если портрет принесут к ним. Встречаю знакомых, советуюсь с ними, как разыскать Бориса. Заглянул к Вульфертам. Татьяна Александровна дома. — Как живете, Татьяна Александровна? — Не спрашивайте! — Что так? — Я все погубила. — Что погубили? — Ваш портрет. — То есть как «мой» портрет погубили? — Да вы слушайте!.. Зашла я как-то в Столешников переулок, в комиссионный. Только вхожу, вдруг вижу — среди публики Борис этот самый! Я как крикну: «Боренька! Боря!» — и прямо к нему. Даже самой неловко. Он обернулся. «Я, — говорю, — Татьяна Александровна Вульферт, из Николо-Песковского. Неужели не помните?» А он смотрит на меня телячьими своими глазами. «Помню, — говорит. — Я у вас рамощьку купил». — «Шут с ней, с этой рамочкой! — говорю. — Вы мне портрет верните. Это портрет нашего предка и не мне принадлежит, а моему брату. (Это я нарочно. А то сказать ему: „Лермонтов“ — не отдаст!) Брат меня, — говорю, — поедом ест каждый день, требует портрет обратно». И слышу тут я от него, что портрет он какому-то художнику отдал и у того он за шкафом валяется. А раму кому-то другому уступил. Я как узнала, что цел портрет, прямо взмолилась: «Продайте его мне!» А он смеется: «Если я вам портрет принесу, вы мне за него миниатюры отдадите?» Я согласилась. «Пускай, — думаю, — миниатюры даром берет». Условились, что он на другой день принесет мне портрет. Записала ему новый адрес… И вот сижу жду его, жду — три недели прошло, а его нет! — А вы фамилию узнали? — торопливо спрашиваю я. — Вот то-то, что нет. — Ах! Как же так? — Да я спросила, а он говорит: «Ведь вам не фамилию мою к брату нести, а портрет! Не волнуйтесь, завтра приду…» Да бросьте вы хмуриться! — уговаривает меня Татьяна Александровна, — Главное, портрет цел. А уж если мне попадется теперь этот Борис, силой заставлю сказать фамилию, к милиционеру сведу. Одного только боюсь: не вздумал бы этот художник расчищать холст. Ведь там под мундиром у Лермонтова будто еще виднеется что-то. Знакомый художник один к нам ходил, все просит, бывало: «Татьяна Александровна, дайте кусочек отколупнуть, посмотреть, что там просвечивает!» — Позвольте… А что же там может просвечивать? — спрашиваю я в испуге. — Да я ему сама говорю: «Душа там, наверно, просвечивает». Уж не знаю, что он там нашел, только ковырять я ему не позволила. — Ничего, — отвечаю я многозначительным тоном. — Отыщем — проверим, в чем дело. Только бы отыскать поскорей! Остальное нетрудно.НИКОЛАЙ ПАЛЫЧ
Время идет — нет портрета. Нет ни портрета, ни Бориса, ни адреса художника, у которого портрет за шкафом. Знакомые интересуются: — Нашли? — Нет еще. — Что-то вы долго ищете! Портрет, наверно, давно уже ушел в другие руки. Кто же станет Лермонтова за шкафом держать! Я объясняю: — Так ведь нынешний владелец не знает, что это Лермонтов. — Ну-у… — тянут разочарованно, — в таком случае, вряд ли найдете. «Ладно, — думаю, — докажу им!» А доказать нечего. Решил я тогда потолковать на эту тему с Пахомовым, с Николай Палычем. Николай Палыч знает редкие книги, старинные картины и вещи и среди московских музейных работников пользуется известностью и авторитетом. «А Николай Палычу вы показывали?», «А что говорит по этому поводу Николай Палыч?» Такие вопросы постоянно слышишь в московских музеях. А уж что касается Лермонтова, то никто лучше Пахомова не знает портретов Лермонтова, рисунков Лермонтова, иллюстраций к произведениям Лермонтова, музейных материалов, связанных с именем Лермонтова. По этой части Николай Палыч осведомлен лучше всех. А тут я еще узнаю, что он работает над книгой «Лермонтов в изобразительном искусстве». «Дай, — думаю, — зайду к нему. Сперва удивлю его новым портретом, а потом посоветуюсь». Сговорился с ним по телефону и пошел к нему вечерком. Пьем с Николай Палычем чай, звякаем ложечками в стаканах, обсуждаем наши лермонтовские дела, обмениваемся соображениями. Наконец показалось мне, что настал подходящий момент. Расстегнув портфель, я переложил заветную фотографию к себе на колени. — Николай Палыч, — обращаюсь я к нему с напускным равнодушием, — какого вы мнения об этом портрете? И с этими словами поднимаю фотографию над стаканом, чтобы Николай Палычу лучше ее разглядеть. Улыбаюсь. Жду, что он скажет. — Минуточку, — произносит Николай Палыч. — Что-то не вижу, родной, без очков на таком расстоянии. Он протягивает руку к письменному столу. — Вы говорите об этом портрете? — и показывает мне фотографию, такую же точно. Я не мигая смотрю, надеясь отыскать в ней хоть небольшое отличие. Нет! Никакой решительно разницы! Так же виднеется серебряный эполет из-под воротника шинели, так же удивленно приподняты брови у Лермонтова, и глаза смотрят так же сосредоточенно и серьезно. Такой же нос, и губы, и волосы. Даже самый размер фотографии точно такой же! Первое мгновение ошарашило меня, как нечаянный выстрел. В следующий миг и портрет, и Борис, и комиссионные магазины, и разговоры в музеях показались мне пресными, никому уже больше не нужными, как вчерашние сны. Молчим. Я прокашлялся. — Любопытно, — говорю. — Совершенно одинаковые! Пахомов положил фотографию на стол и улыбнулся. — М-да! — сказал он коротко. Мы прихлебнули чаю. — Откуда у вас фотография? — помолчав, спрашивает Николай Палыч. — Пушкинский дом. А ваша? — Исторический музей. — Там оригинал? — Нет, фотография. Оригинал был у Вульферта. Все знает! В какое глупое положение я поставил себя! Снова отхлебнули чаю и снова молчим. Наконец я решаюсь заговорить: — Что вы думаете, Николай Палыч, об этом портрете? По-моему, интересный. — Согласен, — отвечает Пахомов. — Весь вопрос только в том, чей портрет! — То есть как «чей»? Понятно, чей: Лермонтова! — Простите, а откуда вы знаете? — Ниоткуда не знаю, — говорю. — Я только делаю выводы из некоторых признаков. Например, офицер этот необыкновенно похож на мать Лермонтова. Вы ведь, наверно, помните, что Краевский, бывший с Лермонтовым в дружеских отношениях, говорил, что более, чем на свои собственные портреты, Лермонтов был похож на портрет своей матери. Помните, Висковатов в своей биографии Лермонтова приводит слова Краевского. «Он походил на мать свою, и если, — говорил Краевский, указывая на ее портрет, — вы к этому лицу приделаете усы, измените прическу да накинете гусарский ментик — так вот вам и Лермонтов…» Поверьте, Николай Палыч, — продолжал я, — что я уже прилаживал усики к лицу матери Лермонтова и ментик пристраивал — и сходство с «вульфертовским» портретом получается просто поразительное. И это сходство можно объяснить, по-моему, только в том случае, если на портрете изображен ее единственный сын — Михаил Юрьевич Лермонтов. — Предположим, — допускает Пахомов. — Затем, — продолжаю я, — очевидно, у Вульферта были какие-то основания считать этот портрет лермонтовским. Не стал бы он держать его у себя да еще жертвовать фотографии в музей, если бы ему самому он казался сомнительным. И, наконец, Лермонтов изображен здесь, очевидно, в форме Гродненского гусарского полка. В пользу этого говорит серебряный эполет на портрете, потому что в остальных полках, в которых пришлось служить Лермонтову — в лейб-гвардии гусарском, в Нижегородском драгунском и в Тенгинском пехотном, — прибор был золотой. — Вы кончили? — спрашивает Пахомов. — Тогда позвольте возразить вам. Прежде всего, я не нахожу, что этот офицер похож на мать Лермонтова. Простите меня, но это аргумент слабоватый. Вам кажется, что похож, мне кажется — не похож, а еще кому-нибудь покажется, что он похож на меня или на вас. Мало ли кому что покажется. Нужны доказательства. А я думаю: «Кажется, он прав. Действительно, это не доказательство». — Вы ссылаетесь на мнение Вульферта, — продолжает Пахомов. — А я вам покажу сейчас портреты, которые их владельцы тоже выдавали за лермонтовские… Вот, полюбуйтесь. И он протягивает мне две фотографии. На одной торчит кретин, узкоплечий, туполобый и равнодушный. На другой — пучеглазый, со щетинистыми усами и головой, втянутой в плечи, с гримасой ужасного отвращения курит длинный чубук. И впрямь, даже оскорбительно подозревать в этих изображениях Лермонтова! И снова я вынужден согласиться: мало ли что Вульферт считал… — Что же касается формы, — продолжает неумолимый Николай Палыч, — по фотографии, конечно, ее определить невозможно, но вспомните, что серебряные эполеты носили во многих полках, не в одном только Гродненском. Лично я остерегся бы делать какие-либо выводы на основании столь шатких соображений. А теперь, родной, скажите по честному… — и Николай Палыч дружески улыбается, — скажите, положа руку на сердце: какой же это Лермонтов? Да возьмите вы его достоверные изображения! Разве есть в них хоть капля сходства с этим портретом? — Есть, конечно. — Ну, в чем же? — недоумевает Пахомов. — Как вы докажете это? Молчу. Доказать нечем.СУЩЕСТВО СПОРА
Вышел в улицу, словно ошпаренный. Неужели же я ошибся? Неужели это не Лермонтов? Не может этого быть! Выходит, напрасно старался. Досада ужасная! А я уже предоставил себе, как Лермонтов, такой, каким он изображен на этом портрете, ранней весной 1838 года приехал на несколько дней в Петербург. Служба в военных поселениях близ Новгорода, где расквартирован Гродненский полк, подходит к концу. Бабушка хлопочет через влиятельных лиц при дворе. Со дня на день можно ожидать перевода обратно в Царское Село, в лейб-гвардии гусарский полк. И, прежде чем навсегда снять мундир гродненского гусара, Лермонтов уступил, наверно, просьбам бабушки и согласился посидеть перед художником. Портрет, судя по фотографии, очень хороший. Очевидно, бабушка пригласила известного живописца. Вот Лермонтов воротился на несколько дней в город, откуда за год перед тем за стихи на смерть Пушкина был сослан в Кавказскую армию. Он возмужал. Путешествие по странам Кавказа, встречи с новыми людьми в казачьих станицах, в приморских городишках, у минеральных источников, скитания по дорогам кавказским исполнили его впечатлений необыкновенных, породили в нем смелые замыслы. Пустое тщеславие и порочную суетность светского общества, где скованы чувства, где глохнут способности, не направленные ни к какой нравственной цели, он стал понимать яснее и глубже. Уже приходила ему мысль описать свои впечатления в романе, обрисовать в нем трагическую судьбу умного и талантливого человека своего времени, героя своего поколения. Разве не можем мы прочесть эти мысли в глазах Лермонтова на «вульфертовском» портрете? Вот, представлял я себе, Лермонтов — такой, каким он изображен на этом портрете, — возвращается под утро домой по Дворцовой набережной, вдоль спящих бледно-желтых, тускло-красных, матово-серых дворцов. Хлопают волны у причалов, покачивается и скрипит плавучий мост у Летнего сада, дремлет будочник с алебардой у своей полосатой будки. Гулко отдаются шаги Лермонтова на пустых набережных. И кажется, город словно растаял в серой предутренней мгле и что-то тревожное таится в его сыром и прохладном рассвете. Уже представлял я себе, что Лермонтов — такой, каким он изображен на этой выцветшей фотографии, в накинутой на плечи шинели, — сидит, откинувшись на спинку кресла, в квартире у бабушки, в доме Венецкой на Фонтанке, и видит в окне узорную решетку набережной, черные, голые еще деревья вокруг сумрачных стен Михайловского замка. Уже чудился мне возле Лермонтова и низкий диван с кучей подушек, и брошенная на диван сабля, и на круглом столе стопка книг и бумаги… Свет из окна падает на лицо Лермонтова, на бобровый седой воротник, на серебряный эполет. И совсем близко, спиной к нам, — художник в кофейного цвета фраке. Перед художником — мольберт, на мольберте — портрет, этот самый… Нет, не могу убедить себя, что это не Лермонтов! Никогда не примирюсь с этой мыслью! Почему мы разошлись с Пахомовым во мнениях об этом портрете? Да потому, очевидно, что по-разному представляем себе самого Лермонтова. Правда, в этом нет ничего удивительного: даже знакомые Лермонтова расходились во мнениях о нем. Те, кто сражался и странствовал с ним рядом, рассказывали, что Лермонтов был предан своим друзьям и в обращении с ними был полон женской деликатности и юношеской горячности. Но многим он казался заносчивым, резким, насмешливым, злым. Они не угадывали в нем великого поэта под офицерским мундиром и мерили его своею малою меркой. Так почему же я должен согласиться с Пахомовым? Разве он представил мне какие-нибудь неопровержимые данные? Разве он доказал, что на портрете изображен кто-то другой? Нисколько! Просто он очень логично опроверг мои доводы, показал их несостоятельность. Он справедливо считает, что на основании фотографии у меня нет пока серьезных данных приписывать это изображение Лермонтову. Но если бы у меня серьезные доказательства были, тогда Пахомову пришлось бы согласиться. Значит, надо отыскать портрет вочто бы то ни стало. Выяснить, кто из нас прав.ВЫСТАВКА В ЛИТЕРАТУРНОМ МУЗЕЕ
Звонят мне однажды по телефону, приглашают в Литературный музей на открытие лермонтовской выставки. — Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, наш директор, очень просит вас быть. Соберутся писатели, товарищи с кинофабрики, корреспонденты. Потом позвонил Пахомов: — Хорошо, если бы вы завтра зашли. Нам с Михаилом Дмитриевичем Беляевым удалось отыскать для выставки кое-что любопытное: неизвестные рисуночки нашлись, книжечка с автографом Лермонтова. Я пришел, когда уже расходились. В раздевалке было много знакомых. На ступеньках, перед входом в залы, стоял Бонч-Бруевич — с одними прощался, с другими здоровался, благодарил, напоминал, обещал, просил заходить. — Вот хорошо, что пришел! — пробасил он, протягивая мне руку. — Вам надо показать все непременно. — Поздновато, поздновато! — с любезной улыбкой приветствовал меня Пахомов и гостеприимно повел в залы. Несколько опоздавших, закинув голову, рассматривали портреты, картины, скульптуры. — Это потом поглядим, — проговорил Пахомов. — Начнемте лучше отсюда. И повел сразу во второй зал: — Тут недурные вещицы, — говорил он. — Вот занятная акварелька Гау: портрет Монго Столыпина. Отыскалась в фондах Третьяковки. Я переходил от одной вещи к другой. Около нас остановились Бонч-Бруевич и Михаил Дмитриевич Беляев. — Ну как? — спросил Бонч-Бруевич. — Чудная выставка! — отвечал я, поднял глаза и, остолбенев, вдохнул в себя полной грудью: — А-а! Передо мной висел «вульфертовский» портрет в скромной овальной раме. Подлинный, писанный масляными красками. Так же, как и на фотографии, виднелся серебряный эполет из-под бобрового воротника офицерской шинели, и Лермонтов смотрел поверх моей головы задумчиво и печально. — Падайте! — воскликнул Пахомов, жмурясь от дружелюбного смеха и протягивая ко мне обе руки, словно я падал. Я стою молча, чувствуя, как краснею, и в глубоком волнении разглядываю портрет, о котором так долго, так неотступно мечтал. Я растерян. Я почти счастлив. Но какая-то тайная досада омрачает мне радость встречи. К чему были все мои труды, мои ожидания, волнения? Кому и какую пользу принес я? Все даром! — Что ж, сударь мой, не скажете ничего? — спрашивает меня Беляев. — Он онемел от восторга, — с улыбкой отвечает Пахомов. — Дайте, дайте ему рассмотреть хорошенько! — требует Бонч-Бруевич. — Все-таки, можно сказать, из-за него портрет куплен. — Почему из-за меня? — оживляюсь я. — Это потом! — машет рукой Пахомов. — Как купили, я расскажу после. Скажите лучше: каков портрет? — По-моему, превосходный. — Портрет недурной, — соглашается Пахомов. — Только ведь это не Лермонтов, теперь уже окончательно. — Как — не Лермонтов? Кто же? — Да просто себе офицерик какой-то. — Почему вы решили? — Да по мундиру. — А что же с мундиром? — Офицер инженерных войск получается, вот что! Поглядите, дорогой мой: на воротнике сюртука у него кант… красный! А красные выпушки и серебряный прибор были в те времена в инженерных войсках. Тут уж ничего не поделаешь. — Значит? — Значит, ясно: не Лермонтов. — Так зачем же вы его повесили здесь? — Да хоть ради того, чтобы вам показать, услыхать ваше мнение. Хоть и не Лермонтов, а пока пусть себе повисит. Он тут никому не мешает. — А по-моему, Николай Палыч, тут еще все-таки не до конца ясно… Пахомов мотает головой: — Оставьте!..СЕМЕЙСТВО СЛОЕВЫХ
Оказалось, портрет попал в Литературный музей всего лишь за несколько дней до открытия выставки. Пришла в приемную музея старушка, принесла четыре старинные гравюры и скатанный трубочкой холст. Предложила купить. Развернув, предъявила портрет молодого военного, который оценила в сто пятьдесят рублей. Закупочная комиссия приобрела гравюры, а портрет неизвестного офицера решила не покупать. Зашла старушка за ответом. Ей возвращают портрет: — Не подходит. Разложив на столе газету, старушка уже собиралась снова скатать холст в трубочку, но тут как раз в комнату вошел Михаил Дмитриевич Беляев. Увидев в руках старушки портрет, он заявил, что это тот самый, который разыскивает Андроников и фотографию с которого приносил в Литературный музей. Для точности заметил, что Андроников считает портрет лермонтовским, хотя Николай Палыч Пахомов держится на этот счет совершенно иного мнения. Вошедший вслед за ним Николай Палыч стал настаивать, чтобы портрет непременно приобрели. И тогда Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич распорядился купить. После этого портрет был внесен в опись музея под № 13931. Спрашиваю в музее: — Что за старушка? — Слоева Елизавета Харитоновна. — Где живет? — Здесь, в Москве, Тихвинский переулок, одиннадцать. Поехал в Тихвинский переулок. — Слоеву Елизавету Харитоновну можно? — Я Слоева. — Вы продали на днях портрет в Литературный музей? — Я. — Откуда он у вас? — Старший сын дал. — А где ваш старший сын? — В той комнате бреется. — Простите, товарищ Слоев. Где вы достали портрет? — Младший братишка принес. Он сейчас войдет… Коля, расскажи товарищу, откуда взялся портрет. И этот Коля, студент железнодорожного техникума, рассказал мне конец моей многолетней истории: — Ломали сарай дровяной у нас во дворе. Выбросили ломаный шкаф и портрет. Иду по двору, вижу: детишки маленькие веревку к портрету прилаживают, мокрого кота возить собираются. Я говорю: «Не стыдно вам, ребята, с портретом баловаться! Что вы, из себя несознательных хотите изображать?» Забрал у них портрет и положил на подоконник на лестнице. А старший брат шел. «Эдак, — говорит, — от парового отопления покоробятся и холст и краски». Снес я портрет домой, брат починил, где порвано, подреставрировал своими силами, протер маслом и повесил. А потом мама говорит: «Это какой-то хороший портрет. Снесу-ка я его в музей, предложу». — А кому принадлежал шкаф из дровяного сарая? — спрашиваю я. — Художнику Воронову. — Где этот Воронов? — Умер два года назад. А вещи его — портрет, шкаф — сложили в сарай. Концы истории с портретом сошлись. Так я узнал наконец, что все эти годы портрет пролежал в Тихвинском, за шкафом у художника Воронова.ОТВЕТ ИЗ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ
Вышла книга Пахомова. «Вульфертовский» портрет был воспроизведен в ней в отделе недостоверных. «Изображенный на портрете офицер мало чем напоминает Лермонтова, — прочел я на 69-й странице. — Только лоб и нос на этом портрете имеют отдаленное сходство с Лермонтовым». Дочитал я до этого места, задумался. Раньше мне казалось, что самое главное — найти портрет. Теперь он в музее, а главное не решено и решено, вероятно, не будет. И хотя я по-прежнему верю, что это Лермонтов, доказать это я, очевидно, не в силах. Годами, десятилетиями будет стоять портрет в темном шкафу, и тысячи пылких, вдохновенных читателей Лермонтова никогда не взглянут на это необыкновенное лицо. Великий поэт по-прежнему будет скрыт под военным мундиром. Этот мундир не снимешь… Не снимешь? А если все-таки попытаться? Татьяна Александровна Вульферт говорила, что под мундиром что-то виднеется. Если портрет реставрировался, как знать… может быть, поверх сюртука был написан другой сюртук, с другими кантами. Пришел в Литературный музей, в отдел иконографии. Обращаюсь к сотрудникам: — Можно посмотреть вульфертовский портрет Лермонтова, который висел на выставке? — Какой? — Вульфертовский. Вульфертам раньше принадлежал. — Нет у нас такого. — Ну, слоевский, который у Слоевой куплен. — В первый раз слышим. И вдруг одна сотрудница молоденькая восклицает: — Так это, наверно, он говорит про андрониковский, фальшивый! Я покраснел даже. Выдали мне портрет. И снова я подивился выражению лица — ясного, благородного, умного. Поднес к окну. Действительно, под серебряной пуговицей шинели и под воротником в одном месте что-то просвечивает. Попросил лупу. Вглядываюсь. Действительно, так и кажется — под зеленой шинелью сквозь трещинки в краске что-то виднеется. Словно шинель и сюртук написаны поверх другого мундира. А вдруг, думаю, этот мундир соответствует форме Нижегородского, Тенгинского или Гродненского полков, в которых Лермонтов служил, когда отбывал ссылку? Выяснить это можно только с помощью рентгеновых лучей. Ведь именно благодаря им художник Корин обнаружил недавно в Москве знаменитую Форнарину. Рентген показал, что фигура ее скрыта одеждой, которая дописана позже. Корин снял верхний слой красок с картины и открыл творение Джулио Романо, ученика Рафаэля. — Нельзя ли, — спрашиваю, — просветить портрет рентгеновыми лучами? — Отчего нельзя? Можно. Пошлем его в Третьяковскую галерею, там просветят. Послали портрет в Третьяковскую. Я наведывался в музей каждый день, ждал ответа. Наконец портрет возвратился с приложением бумажки. Смысл ее был таков: «Ничего под мундиром не обнаружено». И подпись профессора Торопова.ЛАБОРАТОРИЯ НА УЛИЦЕ ФРУНЗЕ
Слышал я, что, кроме рентгеновых, применяются еще ультрафиолетовые лучи. Падая на предмет, они заставляют его светиться. Это явление называется вторичным свечением или люминесценцией. Предположим, что на документе вытравлена надпись. Она неразличима в видимом свете, ее нельзя заметить на фотографии, ее нельзя обнаружить рентгеном. Но под ультрафиолетовыми лучами ее прочесть можно. Эти лучи обнаруживают замытые пятна крови. Они узнают о наличии нефти в куске горной породы. Они разбираются в драгоценных камнях, в сортах древесины, в составах смазочных масел, красок, чернил. Они обнаружат разницу, если вы дописали свое письмо чернилами того же самого цвета, обмакивая перо в другую чернильницу. В лабораториях консервных заводов при помощи ультрафиолетовых лучей сортируют сотни тонн рыбы. По свечению легко отличить несвежую рыбу от свежей. Если в лермонтовском портрете мундир был дописан позднее — значит, в него были введены новые краски, которые под ультрафиолетовыми лучами могут люминесцировать иначе, чем старые. На мысль об ультрафиолетовых лучах навела меня сотрудница Литературного музея Татьяна Алексеевна Тургенева, внучатая племянница И. С. Тургенева. Зашел я в музей. Татьяна Алексеевна спрашивает: — А вы не думали обратиться с вашим портретом в криминалистическую лабораторию? Это лаборатория Института права Академии наук, и находится она рядом с нами, на улице Фрунзе, десять. Вообще говоря, там расследуют улики преступлений, но вот я недавно носила к ним одну книгу с зачеркнутой надписью: предполагалось, что эта надпись сделана рукой Ломоносова. И знаете, никто не мог разобрать, что там написано, и рентген ничего не помог, а в этой лаборатории надпись сфотографировали под ультрафиолетовыми лучами и прочли. И выяснили, что это не Ломоносов! Я присутствовала, когда ее просвечивали, и уверилась, что ультрафиолетовые лучи — просто чудо какое-то! Все видно как на ладошке… В тот же день мы с Татьяной Алексеевной, взяв портрет, отправились на улицу Фрунзе. Когда в Институте права мы развернули портрет перед сотрудниками лаборатории и объяснили, в чем дело, все оживились, начали задавать вопросы, внимательно вглядываться в Лермонтова. Это понятно: каждому хочется знать, каков он был в жизни, дополнить новой чертой его облик. Поэтому все так охотно, с готовностью, от души вызываются помочь, когда речь идет о новом портрете Лермонтова. В комнате, куда привели нас, портрет положили на столик с укрепленной над ним лампой вроде кварцевой, какие бывают в госпиталях и в больницах. Но через ее светофильтры проходят одни только ультрафиолетовые лучи. Задвинули плотно шторы, включили рубильник. Портрет засветился, словно в лиловом тумане. Краски потухли, исчезли тени, и вижу: уже не произведение искусства лежит предо мною, а грубо размалеванный холст. Бьют в глаза изъяны и шероховатости грунта. Проступили незаметные раньше трещины, царапины, след от удара гвоздем, рваная рана, зашитая Слоевым… — Это вам не рентген, — замечает Татьяна Алексеевна шепотом. — Вижу, — отвечаю я ей. — А полосы видите под шинелью? — Вижу. — Под сюртуком и впрямь что-то просвечивает, — говорит Татьяна Алексеевна вполголоса. — По-моему, не просвечивает. — Вы слепой! Неужели не видите? Пониже воротника безусловно просвечивает. — Нет, не просвечивает. — Да ну вас! — Татьяна Алексеевна сердится. — Неужели же вам не кажется, что там нарисован другой мундир? — К сожалению, не кажется. — Мне уже тоже не кажется! — со вздохом соглашается Татьяна Алексеевна. Работники лаборатории разглядывают каждый сантиметр холста, поворачивают портрет, делятся мнениями. — Как ни жаль, — говорят, — а существенных изменений или каких-нибудь незаметных для глаза надписей на полотне этим способом обнаружить не удается, и мундира там тоже нету. Видны только какие-то небольшие поправки. — Ничего у него там нет, — соглашается Татьяна Алексеевна и с гордостью добавляет: — Предупреждала я вас, что все будет видно как на ладошке! Прямо замечательные лучи! А криминалисты смеются: — Есть еще инфракрасные…ГЛАЗА ХУДОЖНИКА
Написанное карандашом письмо при помощи инфракрасных лучей можно прочесть, не раскрывая конверта. Это потому, что бумага для инфракрасных лучей полупрозрачна. А сквозь карандаш они не проходят. Документ, залитый кровью или чернилами, в свете инфракрасных лучей читается совершенно свободно, потому что лучи проходят сквозь кровь и чернила и натыкаются на типографскую краску. Благодаря этому свойству самые ловкие махинации — подделки, подчистки, поправки на деловых бумагах, на облигациях, в денежных ведомостях — инфракрасные лучи, можно сказать, видят почти насквозь. Если бы в составе красок, которыми написан портрет, оказались краски, не прозрачные для инфракрасных лучей, то тайна мундира была бы раскрыта. Портрет сфотографировали в инфракрасных лучах и с лицевой стороны, и с обратной. Но и этим способом ничего невидимого так и не увидали. Не оправдались мои расчеты! А между тем, кажется мне, способ доказать, что это лермонтовский портрет, один: обнаружить у него другой мундир под этим мундиром. «Э, — думаю, — лучи лучами, а это — искусство. Здесь нужен живой человек. Посоветуюсь с Кориным. Это художник замечательного таланта, тончайшего вкуса, глаз у него острый. Поможет!» Позвонил ему, попросил зайти в Литературный музей. Встретились. Привел его к портрету. — Вот, — говорю, — Павел Дмитриевич, хочу услышать ваше мнение: может ли тут оказаться под мундиром другой мундир или нет? Ни рентген, ни ультрафиолетовые лучи, ни лучи инфракрасные ничего не показывают. — А что вы хотите узнать? — тихим голосом и неторопливо спрашивает Корин. — Хочу установить, кто изображен на портрете. — Так, мне кажется, это довольно ясно: Лермонтов, очевидно? — Позвольте, как вы узнали? — По лицу узнаю: похож! А по-вашему, кто это? — И по-моему, тоже Лермонтов. — Так в чем же дело? — Дело в том, что у меня нет доказательств. — Как же нет! Главное доказательство — сходство. — Но ведь сходство — не документ! — Так вы же не спрашиваете документы у своих знакомых, прежде чем поздороваться с ними, — так узнаете! — улыбается Корин. — Верно! Но согласитесь, Павел Дмитриевич, — отвечаю, — сходство можно оспаривать. Есть люди, которые с вами и со мной не согласны. Считают, что не похож. — Как же так — не похож? — недоумевает Корин. — Овал, пропорции, черты лица — лермонтовские. Писано с натуры. В хорошей манере. В тридцатых годах. Мастер безусловно очень умелый. А почему, собственно, вас интересует, есть ли другой мундир? — Да этот мундир не подходит. — Ах, вот что! Понятно! Но, к сожалению, вмешательства чужой кисти здесь нет, — озабоченно говорит Корин. — Снизу кое-где видны мелкие авторские поправочки. И все. Расчищать портрет незачем. Вы его только испортите. — Что же вы посоветуете? — Поищите другой способ утвердиться в вашей точке зрения. Такой способ, мне кажется, должен существовать. Идите от лица, от сходства. У меня лично оно сомнений не вызывает.ВТОРАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
В то время, когда я еще жил в Ленинграде и работал в Пушкинском доме, сдружился я с Павлом Павловичем Щеголевым. Его давно уже нет на свете. Он умер еще в тридцать шестом году. Это был молодой профессор, очень талантливый историк, человек великолепно образованный, острый. У него я познакомился с его другом — известным юристом, профессором Ленинградского университета Яковом Ивановичем Давидовичем, большим знатоком трудового законодательства. Сидя в кабинете у Щеголева, я не раз бывал свидетелем необыкновенной игры двух друзей. Яков Иванович еще в передней, еще потирает руки с мороза, а Пал Палыч уже посылает ему свой первый вопрос: — Не скажете ли вы, дорогой Яков Иванович, какого цвета были выпушки на обшлагах колета лейб-гвардии Кирасирского ее величества полка? — Простите, Пал Палыч, это детский вопросик, — снисходительно усмехается Яков Иванович, входя в комнату и раскланиваясь. — Что выпушки в Кирасирском полку были светло-синие, известно буквально каждому. А вас, в свою очередь, дорогой Пал Палыч, я попрошу назвать цвет ментика Павлоградского гусарского полка, в котором служил Николай Ростов. — Зеленый, — отвечает ему Пал Палыч. — А султаны в лейб-гвардии Финляндском? — Черные! — Ответьте мне, дорогой Яков Иванович, — снова обращается к нему Пал Палыч, — в каком году сформирован Литовский лейб-гвардии полк? — Если мне не изменяет память, в тысяча восемьсот одиннадцатом. — А в каких боях он участвовал? — Бородино, Бауцен, Дрезден, Кульм, Лейпциг. Я называю только те сражения, в которых он отличился. Я не оказал еще, что этот полк в числе первых вошел в Париж. — Яков Иваныч, этого, кроме вас, никто не помнит! Вы гигант! Вы колоссальный человек! — восхищается Пал Палыч. По правде сказать, эти восторги были мне недоступны. Я ничего не знал ни о выпушках, ни о ташках, ни о вальтрапах, в специальных вопросах военной истории был не силен. Я уставал следить за этой игрой, начинал потихоньку зевать и прощался. Теперь, размышляя о портрете, я все чаще вспоминал о необыкновенных познаниях Якова Ивановича. «Если, — рассуждал я, — Корин прав: 1) если о поисках другого мундира надо забыть (а в этом Корин прав безусловно); 2) если исходить из того, что это все-таки Лермонтов, то остается - 3) подвергнуть изучению мундир, в котором Лермонтов изображен на портрете». Одному мне в этом вопросе не разобраться. И специально, чтобы повидать Давидовича, поехал я в Ленинград. Изложил свою просьбу по телефону. Прихожу к нему домой, спрашиваю еще на пороге: — Яков Иваныч, в форму какого полка мог быть одет офицер в девятнадцатом веке, если на воротнике у него красные канты? — Позвольте… Что значит красные? — возмущается Яков Иванович, — Для русского мундира характерно необычайное разнообразие оттенков цветов. Прошу пояснить: о каком красном цвете вы говорите? — Об этом! — И я протягиваю клочок бумаги, на котором у меня скопирован цвет канта. — Это не красный и никогда красным не был! — отчеканивает Яков Иванович. — Это самый настоящий малиновый, который, сколько мне помнится, был в лейб-гвардии стрелковых батальонах, в семнадцатом уланском Новомиргородском, в шестнадцатом Тверском драгунском и в лейб-гвардии Гродненском гусарском полках. Сейчас я проверю… Он открывает шкаф, перелистывает таблицы мундиров, истории полков, цветные гравюры… — Пока все правильно, — подтверждает он. — Пойдем дальше… Если эполет на этом мундире кавалерийский — в таком случае стрелковые батальоны отпадают. Остаются драгуны, уланы и Гродненский гусарский полк. Тверской и Новомиргородский тоже приходится исключить: в этих полках пуговицы и эполеты «повелено было иметь золотые». А на вашем портрете дано серебро. Следовательно, это должен быть Гродненский… А как выглядит самый портрет? Я показываю ему фотографию. — Вы дитя! — восклицает Яков Иванович. — Это же сюртук кавалериста тридцатых годов. В это время в Гродненском полку введены перемены и на доломаны присвоены синие выпушки. Но сюртуки оливкового цвета сохранены по 1845 год, и до 1838 года на них оставался малиновый кант. В этом вы можете убедиться, просмотрев экземпляр рисунков, специально раскрашенных для Николая I… Итак, — заключает Яков Иванович, складывая книги высокими стопками, — все сходится в пользу Гродненского. — Яков Иванович, — восклицаю я, — вы даже не знаете, какой важности сообщение вы делаете! Ведь на основании ваших слов получается, что это Лермонтов. — Простите, — останавливает меня Яков Иванович, — этого я не говорю! Пока установлено, что это офицер гусарского Гродненского полка. И не больше. А Лермонтов или не Лермонтов — это не по моей части.МЕТОД ОПОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Гродненский гусар! Круг людей, среди которых жил этот офицер, сузился теперь до тридцати — сорока человек: офицеров в Гродненском полку в 30-х годах было не больше… Кажется, уже близок конец. И тем не менее вот тут-то и не понятно, что делать дальше. Вернулся в Москву. Снова ломаю голову. Снова сижу и смотрю на фотографию, словно жду, что она заговорит. Конечно, было бы недурно, если бы портрет сам сказал, с кого он писан. А как же, интересно, поступают в тех случаях, когда человек не говорит? Когда он не может или не хочет назвать свое имя? Совершенно ясно, что такого должны опознать другие. А если его никто не знает или не хочет назвать? Тогда, очевидно, опознают по фотографии. А если нет фотографии? Может ли служить этой цели живописный портрет? Снова отправляюсь с портретом в криминалистическую лабораторию. — А, здравствуйте! — говорят, — Снова к нам? — Да, интересуюсь, как опознают, личность при розыске, если нет фотографии. — В таких случаях применяется учение о словесном портрете. — А что такое словесный портрет? — Сейчас объясним. Криминалистическая наука отбрасывает при опознании личности такие признаки, как, например: толстый, худой, румяный, бритый, седой. Сегодня человек румян — завтра бледен. Сегодня брит — через месяц с густой бородой. Сегодня седой — назавтра взял и покрасился. Поэтому криминалисты опираются на признаки внешности характерные и устойчивые, которых не могут изменить ни обстоятельства, ни время, ни сам человек. Устойчивыми признаками криминалисты считают: рост, строение фигуры, фас и профиль лица; строение и размеры лба, носа, ушей, губ, подбородка, разрез глаз, цвет радужной оболочки и проч. Составленное на основании этих признаков описание — словесный портрет — оказывается каждый раз очень точным. И это потому, что устойчивые признаки внешности одного человека никогда не совпадают со всеми признаками другого, как не совпадают, например, отпечатки их пальцев. — А что вы, собственно, хотите узнать? — спрашивают у меня. Я объясняю: — С мундиром все уже выяснил. Теперь помогите опознать изображенную на портрете личность: Лермонтов, в конце концов, или не Лермонтов? — Знаете что, — говорят, — посоветуйтесь с Сергеем Михайловичем. Может быть, он и возьмется. Уж если он даст заключение — ваши сомнения будут разрешены. — А кто такой Сергей Михайлович? — Как? Вы не знаете? Это профессор Потапов! Ученый с мировым именем, один из основоположников русской криминалистики, лучший знаток судебной фотографии, создатель научного почерковедения, высший авторитет в области криминалистической идентификации! Он, кстати, любит разные сложные, запутанные вопросы и, вероятно, заинтересуется вашим портретом… — Сергей Михайлович, можно к вам? И вводят меня в кабинет. За столом — пожилой человек, с волосами, гладко зачесанными наверх, с крохотной седой бородкой. На спокойном, умном лице — карие глаза, живые и быстрые. Представили меня ему. Выслушал он мою просьбу внимательно, рассматривал портрет пристально, тонким голосом задавал вопросы. Наконец обратился к сотрудникам. — Попробуем применить к данному случаю учение об идентификации на основе словесного портрета, — сказал он. И мне: — Попрошу вас доверить нам этот портрет, приделать репродукции со всех имеющихся изображений этого же лица и дать месяц сроку. Выходим из кабинета, я спрашиваю: — Что он собирается делать? Мне объясняют: — Учение об идентификации, которое Сергей Михайлович решил применить для вашего случая, построено на основе словесного портрета. Это учение доказывает, что если на сличаемых изображениях представлено одно и то же лицо, то при совпадении двух устойчивых точек лица сами собой должны совпасть и все остальные точки. Если же они не совпадут, то, следовательно, это — изображение разных людей, ибо изображения разных людей, как доказывает криминалистика, не совпадают и не могут совпасть. Фотографические изображения сличаются часто, но живописные портреты — впервые. Прощаемся — жмут руку: Можете спать спокойно. Раз взялся сам — через месяц точно будете знать: да или нет.ОТВЕТ ПРОФЕССОРА ПОТАПОВА
Прошел месяц. И вот мне вручают пакет и письмо на мое имя. Разрываю конверт, и первое, что вижу, — заглавие:МНЕНИЕ ПРОФЕССОРА С. М. ПОТАПОВА…
Я не знаю еще приговора, но судьба моя уже решена. С глубоким волнением начинаю читать строки этого документа. «С целью осуществления попытки решить поставленный вопрос путем сравнения признаков лица… с имеющимися образцами несомненных изображений Лермонтова, — читаю я, — были рассмотрены существующие репродукции с его известных портретов…» Из присланных ему репродукций профессор Потапов выбрал фотографию с миниатюры, написанной в 1840 году художником Заболотским, на которой Лермонтов изображен в том же повороте, что и на «вульфертовском» портрете. Эти изображения Потапов решил сличить. Прежде всего он довел их до равной величины, заказав с них такие фотографии, чтобы расстояние между двумя устойчивыми точками лица было на них совершенно одинаковое. В качестве масштаба для обеих фотографий он взял расстояние между окончанием мочки уха и уголком правого глаза на портрете Заболотского. Когда лица на портретах стали одинакового размера, по ним изготовили два крупных диапозитива — пересняли изображения на стеклянные пластинки. «При наложении этих диапозитивов один на другой и рассматривании их на просвет…» — читаю я… Очевидно, они в пакете. Разрываю бечевку, торопливо скидываю крышку с коробки, осторожно вынимаю из нее два темных стекла — диапозитивы, о которых пишет Потапов. Поднимаю их к свету. На одном — увеличенная миниатюра Заболотского, на другом — уменьшенный «вульфертовский» портрет. Продолжая разглядывать их, аккуратно складываю вместе, один на другой, совмещаю окончания мочек ушей… совмещаю уголки глаз… И — чудо! Изображения сразу исчезли, словно растаяли. Они слились воедино, в новый — третий — портрет. Совпали и брови, и глаза, и носы, и губы, и подбородки, и уши!..
Не совпали только прически, да левую щеку на портрете Заболотского ободком облегает щека «вульфертовского» портрета. Но разве прически и полнота щек относится к устойчивым признакам? И еще прежде чем дочитано до конца заключение Потапова, я уже предугадываю вывод:
«…следует высказать мнение, что доставленный тов. Андрониковым портрет масляными красками представляет собой один из портретов М. Ю. Лермонтова».
«Какая радость, — думаю я. — Какая замечательная работа! Выдающийся советский криминалист впервые в истории криминалистики взялся за опознание личности неизвестного офицера на живописном портрете прошлого века, и с каким блеском продемонстрировал он точность криминалистических методов!»
Потапов опасался, что если художники нарушили пропорции между отдельными чертами лица, то, стало быть, портреты не похожи на оригинал и при сличении их ничего не получится. Но, к счастью, все получилось.
И я продолжаю с огромным волнением и радостью рассматривать это волшебное слияние двух разных изображений в одно живое лицо. Как удивительно изменились глаза! Рассеянный, задумчивый взгляд «вульфертовского» портрета сделался пристальным и сосредоточенным и, кажется, устремлен теперь прямо на вас. Какое счастье, что оба художника были верны натуре! Соблюдая реальные соотношения лица, они с большой точностью запечатлели черты великого своего современника.
Я перечитываю заключение Потапова. Это исчерпывающий ответ не только на предложенный мною вопрос — это ответ и тем, кто не узнает Лермонтова на новом портрете.
Результаты достигнуты не случайно. Искали портрет, а в портрете искали Лермонтова люди многих профессий: и сотрудники литературных музеев, и подполковник инженерных войск Вульферт, и студент железнодорожного техникума, и художник Корин, московские криминалисты во главе с профессором Потаповым, библиотекари, фотографы, рентгенологи. Криминалисты применили к портрету свои точные методы, и если бы мне не помог Яков Иванович, то Сергей Михайлович Потапов все равно узнал бы в лицо этого офицера и сказал бы нам, что это все-таки Лермонтов.
Гляжу я на этот портрет и только теперь, когда уже окончены поиски и собраны доказательства, могу сказать вам, как полюбил я его и как трудно было бы мне приучить себя к мысли, что это не Лермонтов. Сколько лермонтовских стихов, сколько представлений о живом Лермонтове связал я с этим благородным изображением!
Скажем же о нем на прощание словами самого Лермонтова:
Поднимаю их к свету. На одном — увеличенная миниатюра Заболотского, на другом — уменьшенный «вульфертовский» портрет. Продолжая разглядывать их, аккуратно складываю вместе, один на другой, совмещаю окончания мочек ушей… совмещаю уголки глаз… И — чудо! Изображения сразу исчезли, словно растаяли. Они слились воедино, в новый — третий — портрет. Совпали и брови, и глаза, и носы, и губы, и подбородки, и уши!..
Не совпали только прически, да левую щеку на портрете Заболотского ободком облегает щека «вульфертовского» портрета. Но разве прически и полнота щек относится к устойчивым признакам? И еще прежде чем дочитано до конца заключение Потапова, я уже предугадываю вывод:
«…следует высказать мнение, что доставленный тов. Андрониковым портрет масляными красками представляет собой один из портретов М. Ю. Лермонтова».
«Какая радость, — думаю я. — Какая замечательная работа! Выдающийся советский криминалист впервые в истории криминалистики взялся за опознание личности неизвестного офицера на живописном портрете прошлого века, и с каким блеском продемонстрировал он точность криминалистических методов!»
Потапов опасался, что если художники нарушили пропорции между отдельными чертами лица, то, стало быть, портреты не похожи на оригинал и при сличении их ничего не получится. Но, к счастью, все получилось.
И я продолжаю с огромным волнением и радостью рассматривать это волшебное слияние двух разных изображений в одно живое лицо. Как удивительно изменились глаза! Рассеянный, задумчивый взгляд «вульфертовского» портрета сделался пристальным и сосредоточенным и, кажется, устремлен теперь прямо на вас. Какое счастье, что оба художника были верны натуре! Соблюдая реальные соотношения лица, они с большой точностью запечатлели черты великого своего современника.
Я перечитываю заключение Потапова. Это исчерпывающий ответ не только на предложенный мною вопрос — это ответ и тем, кто не узнает Лермонтова на новом портрете.
Результаты достигнуты не случайно. Искали портрет, а в портрете искали Лермонтова люди многих профессий: и сотрудники литературных музеев, и подполковник инженерных войск Вульферт, и студент железнодорожного техникума, и художник Корин, московские криминалисты во главе с профессором Потаповым, библиотекари, фотографы, рентгенологи. Криминалисты применили к портрету свои точные методы, и если бы мне не помог Яков Иванович, то Сергей Михайлович Потапов все равно узнал бы в лицо этого офицера и сказал бы нам, что это все-таки Лермонтов.
Гляжу я на этот портрет и только теперь, когда уже окончены поиски и собраны доказательства, могу сказать вам, как полюбил я его и как трудно было бы мне приучить себя к мысли, что это не Лермонтов. Сколько лермонтовских стихов, сколько представлений о живом Лермонтове связал я с этим благородным изображением!
Скажем же о нем на прощание словами самого Лермонтова:
Взгляни на этот лик; искусством он
Небрежно на холсте изображен,
Как отголосок мысли неземной,
Не вовсе мертвый, не совсем живой.
ПОДПИСЬ ПОД РИСУНКОМ
Как-то пришлось побывать мне в Железноводске. Пить воды — дело, конечно, хорошее. Но куда интереснее оказались отлучки из санатория! Вместе с писателем С. П. Бабаевским, с которым мы служили в армейской газете в годы Отечественной войны — после войны он поселился в городе Пятигорске — поехали мы в Ставрополь, побывали в районах; посмотрели прославленные колхозные электростанции, впервые увидел я электрострижку овец знаменитой ставропольской породы, из шерсти которых сделан каждый четвертый костюм в нашей стране. Потом махнули в Черкесию… А ехать пришлось по той самой дороге, по которой когда-то все ездил и ездил Лермонтов — с Кавказа и на Кавказ, из ссылки и в ссылку. И решил я тогда объехать все лермонтовские места на Кавказе. Ведь он путешествовал в тележке, двигался с военным отрядом, ездил верхом… Долго ли, думаю, на машине! Мне же по роду занятий моих — который год изучаю Лермонтова! — необходимо было в конце концов побывать во всех этих городах и станицах, повидать все, что довелось видеть ему. Скажу сразу: спидометр показал около 15 тысяч километров. Я проехал тогда по многим местам, где бывал Лермонтов, но во всех побывать не успел. Из Пятигорска я отправился в Георгиевск, оттуда в Прохладный, Моздок, выехал на Терек. Через терские станицы — Червленую, Шелковскую, Старогладовскую, связанные с именами Грибоедова, Лермонтова и Льва Толстого, — попал в Кизляр. Тут развернулся, взял направление на Грозный. Побывал на речке Валерик, где происходило сражение, описанное Лермонтовым в его удивительном стихотворении. Объехал территорию Северной Осетии, Кабардино-Балкарии. Через Орджоникидзе по Военно-Грузинской дороге попал в Тбилиси. Оттуда, перевалив Гомборы, поехал в Цинандали, затем в Царские колодцы — ныне это Цителцкаройский район Грузии, — добрался до селения Карагач, где квартировал Нижегородский драгунский полк, в котором Лермонтов в 1837 году отбывал ссылку. Потом переправился на пароме через Алазань и, оказавшись на территории Азербайджана, в Закаталах, покатил к югу — по направлению к Пухе и Шемахе, потому что в Кахетию Лермонтов мог попасть из Шемахи только по этой дороге. Шамаханской царицы из пушкинской сказки я не видал, но побывал в местах сказочных… Ехал я не просто так, не для одного удовольствия. На коленях у меня лежали фотографии с картин и рисунков Лермонтова. Известно, что Лермонтов хорошо рисовал, обладал большими способностями к живописи. Сохранились виды Кавказа, сделанные им с натуры, — хранятся они в московских и ленинградских литературных музеях, но снабжены необычайно унылыми этикетками: «Кавказский вид с арбой», «Кавказский вид с верблюдами»… Однако и без подписи ясно: если нарисована скала, и арба на дороге, и горная река — то это «вид с арбой». А верблюды возле скалы и горы на горизонте представляют собой «вид с верблюдами». Но что именно изображено на этих рисунках и полотнах Лермонтова, где, в каких местах исполнены им эти работы, — ничего не известно. Поэтому я до боли в шее вперялся в ветровое стекло машины, беспрестанно вертел головой, озираясь по сторонам и сравнивая рисунки поэта с открывавшимися передо мной видами. Вдруг увижу изображенное Лермонтовым!
Мне везло. «Кавказский вид с арбой» обнаружился в Дарьяльском ущелье. «Кавказский вид с верблюдами» Лермонтов, как выяснилось, писал маслом с натуры в окрестностях селения Караагач. На других репродукциях оказались селение Сиони близ Казбека, замок Тамары в Дарьяльском ущелье, окрестности Мцхета, Тифлис…Вид Дарьяльского ущелья близ Балты. Рисунок Лермонтова

Постепенно опознанных рисунков становилось все больше, неопознанных — меньше. И наконец остался один. Как назло, именно под этим рисунком имеется подпись: «Развалины на берегу Арагвы в Грузии» — обозначение достаточно точное.Тифлис. Метехи. Рисунок Лермонтова

Но сколько ни ездил я вдоль Арагвы — от того места, где она впервые соприкасается с Военно-Грузинской дорогой, до слияния ее с Курою во Мцхете, — ничего похожего на лермонтовский рисунок не обнаружил. Лермонтов нарисовал глухое ущелье, поросшую лесом скалу. На вершине скалы — крепость с зубчатой стеной, по углам — башни с бойницами, за стеной — острый купол грузинской церкви. В середине рисунка река с двух сторон бурно омывает утес. Башня и сакля на другом берегу. Ущелье замыкает горный хребет. Готов поручиться: на Военно-Грузинской дороге похожего места нет! Уже собрался писать, что этот вид Лермонтов набросал на память или, может быть, даже не имел в виду никакого определенного места… Но если сам не убежден в том, что пишешь, как можно уверять в этом других? Пришлось предпринять новую поездку по Военно-Грузинской дороге. Из Тбилиси я выехал на рассвете. Неужели и на сей раз не удастся найти эти несчастные развалины? Куда они могли деться? Что за таинственное ущелье? Остановился в Пасанаури. Прижатые прозрачным потоком Арагвы к подножию лесистых гор, толпятся возле дороги опрятные домики; это как раз полдороги от Тбилиси к Орджоникидзе. День был воскресный. Я пошел на колхозный базар, где продаются куры, мацони, грецкие орехи, чеснок, стопки душистого грузинского хлеба, и стал предъявлять местным жителям фотографию с лермонтовского рисунка. Очень скоро я достиг значительных результатов: превратил базар в настоящий базар. Все перестали покупать, все перестали торговать. Фотография пошла ходить из рук в руки. Послышались советы: надо ехать в Ананури, обратно, километров за двадцать. Там и церковь, и крепость, и тоже Арагва течет… Я только что миновал Ананури и сам догадался, конечно, еще раз осмотреть Ананурский собор. Я сказал им об этом. Мне возразили: не так хорошо посмотрел, как надо, у молодых глаза зоркие, если посмотрят — покажут. Я пригласил в машину трех юношей — порывистых и молчаливых; поехали мы в Ананури, со всех сторон обошли знаменитую крепость. Воздвигнутая на пологой горе, она господствует над окружающей местностью. Река течет здесь спокойнее; зеленые склоны гор, прикрытые одеялами посевов и пашен, расступаются, образуя долину. Ни утесов, ни скал… Словом, проводники мои убедились, что на рисунке точно не Ананури. В Пасанаури я с ними расстался. Отсюда с каждым поворотом дороги окрестность резко меняется. Все сильнее шумит река. Прохладнее и словно легче становится воздух. Пасмурно. Лесистые склоны кончились. За ближними зеленеющими горами поднимаются строгие сине-лиловые горы; в углублениях и складках их гранитных вершин отливают атласом снега. Нельзя оторваться! Много удивительных мест на Кавказе, но Военно-Грузинскую дорогу словно смонтировал великий художник. Она как кинолента, в которой нет повторений, нет лишнего: вся она — чередование контрастов. У подножия Гудгоры в Кайшаурской долине расположено селение Квешеты. Прежде это было знаменитое место. Здесь находилась резиденция начальника горских народов и почтовая станция. Здесь ночевали те, кто совершил переезд через Крестовую гору, и те, кто, едучи с юга на север, готовился его совершить. Тут ночевал Грибоедов. Тут родились великие строки Пушкина:Развалины на берегу Арагвы. Рисунок Лермонтова
На холмах Грузии лежит ночная мгла.
Шумит Арагва предо мною…
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах.
«…то горный дух,
Прикованный в пещере, стонет».
И, чуткий напрягая слух,
Коня измученного гонит…
На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Рассказов, страшных для детей,
О них еще преданья полны…
Как призрак, памятник безмолвный,
Свидетель тех волшебных дней,
Между деревьями чернеет.
Внизу рассыпался аул,
… Земля цветет и зеленеет;
И голосов нестройный гул
Теряется, и караваны
Идут звеня издалека,
И, низвергаясь сквозь туманы,
Блестит и пенится река.
И жизнью вечно молодою,
Прохладой, солнцем и весною
Природа тешится шутя,
Как беззаботное дитя.
Но грустен замок, отслуживший
Когда-то очередь свою;
Как бедный старец, переживший
Друзей и милую семью…
Все дико; нет нигде следов
Минувших лет: рука веков
Прилежно, долго их сметала,
И не напомнит ничего
О славном имени Гудала,
О милой дочери его!
ТАГИЛЬСКАЯ НАХОДКА
1
В редакцию «Нового мира» пришел пакет. На конверте значился адрес отправителя: «Инженер Н. С. Боташев, Нижний Тагил…» Пакет распечатали. В нем оказались новые материалы о гибели Пушкина, выборки из писем современников, писем неопубликованных, еще никому не известных, более ста лет пролежавших под спудом. «В настоящее время, — сообщал инженер Боташев, — письма хранятся в Н.-Тагильском музее краеведения. Они были обнаружены в Нижнем Тагиле у одной из жительниц, родные которой работали в бывшем демидовском управлении. Письма были взяты ими, видимо, в начале 20-х годов. Установить точно это не представляется возможным, так как эти люди уже умерли. Письма были обнаружены и приобретены для музея моей теткой Е. В. Боташевой». Нетрудно представить, что событие это произвело в редакции сильное впечатление. Надо было ознакомить с материалами специалистов — исследователей жизни и творчества Пушкина. Стали звонить Татьяне Григорьевне Цявловской, профессору Сергею Михайловичу Бонди… На следующий день их мнение было уже известно: письма подлинные, находка представляет большой интерес. Однако, прежде чем их печатать, надо было ознакомиться с полным текстом писем в оригиналах и подготовить научную публикацию. Это дело решили поручить мне и вместе с сотрудниками редакции командировали меня в Нижний Тагил. В Тагил мы приехали ночью, остановились в «Северном Урале». Утром Боташев пришел к нам в гостиницу. Ему тридцать пять лет. Это инженер Новотагильского металлургического завода. Свою основную профессию он совмещает с краеведением, изучает историю Урала и в 1953 году напечатал книжку, содержащую неизвестные архивные материалы о крепостном изобретателе-самоучке Егоре Кузнецове, создавшем в XVIII веке прокатные станы, астрономические часы и музыкальные дрожки.[1] Первое, что замечаешь, пожимая руку Николая Сергеевича Боташева, — из-за очков в металлической светлой оправе на вас устремлены широко раскрытые серые глаза, над губой аккуратно подстрижены рыжеватые усики. Когда познакомились и разговорились, Боташев предложил нам вместе идти в музей, к его тетке Елизавете Васильевне, чтобы сразу же посмотреть оригиналы найденных писем, убедиться в их подлинности и уточнить историю находки. Музей помещается в левом крыле ампирного здания с фонтаном и белыми колоннами. Этот дом, напоминающий великолепный стиль Росси, принадлежал прежде Демидовым — богатейшим уральским заводчикам, владевшим на Урале почти миллионом десятин земли, рудными месторождениями, медными и железными заводами, пятнадцатью тысячами крепостных душ. Ныне в ампирном доме, где находилось прежде управление демидовских заводов, помещаются горсовет, госархив и госмузей. Удивительный город Тагил! Великолепные постройки XVIII–XIX веков, которые сделали бы честь старому Петербургу; губернская архитектура; однотипные деревянные дома прошлого века на каменном фундаменте, потемневшие от времени. И — огромный новый Тагил. Могучие трубы доменных печей, ажурные конструкции кранов, многокилометровые ограды заводских территорий; Дворец культуры, которому равный не сразу подыщешь; новые улицы, вроде Песчаной в Москве; просторные гастрономы; автобусы, огибающие регулировщика под светофором; газетные витрины с последним номером «Литературной газеты»… В центре города — заросли лиловой сирени и яблони в розовом цвету, городской сквер, в котором веточки никто не сломит. Эти цветущие яблони, густые шпалеры сирени, желтые дорожки, скамейки — внизу, как раз под окнами нашего номера. И еще прежде чем познакомиться с Боташевым, мы наблюдали удивительную картину. Бледный рассвет. На желтом востоке, как четыре поднятых к небу ствола, высятся трубы. И вдруг — пожар! Полнеба охватывает золотисто-красное зарево. Но никто никуда не звонит, не торопится! Город спит, и сирени цветут, и чирикают воробьи. А небо пылает. Это из домны пустили шлак. Наконец медленно зарево гаснет. Елизавета Васильевна Боташева — женщина невысокого роста, темноволосая, с проседью, с живыми глазами, радушная, на редкость скромная. Занимает она в музее должность библиотекаря, на деле же отдает музею всю душу. Каждый экспонат для нее — живой, и рассказывает она об Урале, может быть сама не сознавая того, удивительно. Конечно, Боташев, инженер, не случайно занимается краеведением. Интерес к этому он унаследовал от тетки. А Елизавета Васильевна в свою очередь тоже потомственный краевед. Изучением Урала занимался ее дед — Шорин, друживший с Маминым-Сибиряком. И дом, в котором поместился музей, существует не только в городе, но и в литературе. И как только Елизавета Васильевна заговорила об этом — заговорила история. Кстати, это в крови у тагильчан: они преданно любят свой край и свои город, знают историю Урала до тонкостей, гордятся его ресурсами, восхищаются его красотой, и краеведение там в почете. Если вам придется побывать в Нижнем Тагиле, загляните в музей краеведения. Город сыграл огромную роль в истории русской промышленности и немалую — в истории русской культуры. Но это всем известное значение Тагила становится в музее точным, реальным, вещественным. А вещи там удивительные! Модель первого русского паровоза, сконструированного в 1834 году тагильскими крепостными мастерами-самоучками Черепановыми. Первый в мире двухколесный педальный велосипед, сделанный крепостным Артамоновым. Говорят, что на этом высоченном велосипеде с огромным передним колесом и крохотным задним, с педалями, похожими на ступени, Артамонов, одолев расстояние в 2500 верст, прикатил с Урала в Москву на коронацию Александра I. В этом музее хранятся астрономические часы Кузненова, изготовленные в 1775 году. Они показывали часы и минуты, «восхождение и захождение» солнца, «рождение и ущербление» луны, дни святых, соответствующие календарному числу по святцам, заключали в себе механизм курантного боя, который сопровождался движением фигурки молотобойца: он брал из горна крицу, клал под молот, ударял по ней и снова относил в горн. Крепостные живописцы Худояровы изобрели уральский хрустальный лак, не уступающий лакам китайским. Много работ целой семьи этих уральских художников выставлено в музее. Но самые интересные — работы Худоярова Павла, изображающие медный и железный рудники, листобойный и листопрокатный цеха Нижнетагильского завода. Эти картины, показывающие крепостной труд рабочих, написаны в 1835 году; такие темы в живописи того времени — величайшая редкость! С изумлением рассматривали мы рекламные изделия Нижнетагильского завода, изготовленные для Московской промышленной выставки 1882 года, — стальные прутья толщиной чуть не в руку, холодным способом завязанные узлами, закрученные винтами, завитые косами. Кажется, только богатырь, подпирающий плечами небо, мог справиться с этой работой. Нет! Это сделали рабочие тагильских заводов, обыкновенного роста люди, но великие мастера, остроумные изобретатели, настоящие художники своего дела, способные удивить Европу, как лесковский Левша. И еще есть там один экспонат. Он найден в 1946 году, при промыве Висимо-Уткинской плотины, недалеко от Тагила. К мертвому брусу этой заводской плотины кованой цепью был прикреплен чугунный цилиндр. Вскрыли его — в нем оказался цилиндр свинцовый. А внутри свинцового — медный. А в медном — свернутые в трубку заводские документы 1872 года. «Сведения эти, — сказано в сопроводительной записке, — должны показать картину настоящего положения заводов, показать, насколько и в чем будущее поколение ушло от нас вперед». Замечательная находка и замечательный документ! Впрочем, чего только нет в Тагильском музее; писанные первоклассными художниками портреты всех поколений Демидовых, начиная с Никиты Демидовича Антуфьева, получившего от Петра I привилегию разрабатывать железную руду на Высокой горе; мраморный бюст Петра I, изваянный едва ли не Шубиным; портрет Авроры Демидовой, писанный Карлом Брюлловым; подносы, шкатулки, столики, расписанные хрустальным лаком, чугунное художественное литье, руды и мраморы, малахиты и самоцветы — все, чем богаты недра и природа Тагила; продукция тагильских заводов; портреты знатных людей нашего времени — уроженцев Тагила; документы о Я. М. Свердлове, руководившем революционной борьбой тагильских большевиков… Наконец дело дошло и до писем о Пушкине. Мы вернулись в библиотеку, откуда начали экскурсию по музею. Елизавета Васильевна вынесла красный сафьяновый альбом с золотым тиснением и зелеными тесемками — старинный, с потрепанным корешком. Перевернули крышку переплета. А дальше — все листы из альбома вырезаны, как по линейке, и к оставшимся корешкам аккуратно подклеены письма, преимущественно французские, писанные на тонкой бумаге различными почерками, но главным образом мелким, бисерным почерком, и чернила во многих местах изрядно повыцвели. Это целая книга — 340 страниц писем, адресованных в разные города Европы из Петербурга и датированных 1836 и 1837 годами. Да, письма эти действительно представляют собой удивительную находку!2
Весной 1836 года молодой гвардейский офицер Андрей Карамзин, сын знаменитого историографа Н. М. Карамзина, в ту пору уже покойного, заболел и по совету врачей предпринял путешествие по Германии, Франции и Италии. Он останавливался во Франкфурте и Эмсе, отдыхал в Баден-Бадене, знакомился с достопримечательностями Парижа и Рима, а родные регулярно сообщали ему петербургские новости. Чаще всех пишет мать, Екатерина Андреевна. Пишет старшая сестра, Софья Николаевна, известная в литературе своей дружбой с Жуковским, Пушкиным, Лермонтовым и другими замечательными людьми той эпохи. Несколько реже пишет брат, офицер гвардейской артиллерии Карамзин Александр. Кроме того, в альбоме имеются письма других сестер Андрея Карамзина-Екатерины Николаевны (по мужу Мещерской), младшей сестры, Елизаветы, и брата Владимира (он петербургский студент). Постоянные посетители карамзинского салона — брат Е. А. Карамзиной, поэт и критик П. А. Вяземский, поэт В. А. Жуковский, беллетрист и драматург В. А. Соллогуб, собиратель исторических документов, известный своею дружбою с виднейшими писателями России и Европы, А. И. Тургенев, брат декабриста… В письмах Карамзиных сохранились их приписки или передаются их суждения и пожелания. Охватывают письма период в один год и два месяца: первое письмо в альбоме датировано 27 мая 1836 года, последнее — 30 июля 1837-го. Несколько листков — видимо, два или три письма, относившиеся к июню 1836 года, — вырваны. Но прежде чем коснуться содержания писем, следует сказать несколько слов о Карамзиных и об их литературном салопе. Не только при жизни самого Николая Михайловича Карамзина, но и в 1830–1840 годах дом этот был одним из центров русской культуры. «Все, что было известного и талантливого в столице, — писал современник, — каждый вечер собиралось у Карамзиных». «Весь большой свет теснился в карамзинской гостиной», — подтверждает другой, отмечая при этом, что дом был открыт «для всякой интеллигенции того времени». «Там выдавались дипломы на литературные таланты», — говорит третий. Действительно, в гостиной Карамзиных собиралось общество, состав которого в известной степени отражал общественное положение покойного Н. М. Карамзина — выдающегося русского писателя и ученого, за спою «Историю государства Российского» удостоенного официального звания историографа Российской империи, что приравняло его к высшим сановникам. В доме Карамзиных бывают поэты, литераторы, музыканты, придворные вельможи, великосветские красавицы, дипломаты, гусарские поручики, с которыми Софья Николаевна Карамзина танцует на придворных балах. Это великосветский литературный салон, но, в отличие от других великосветских домов, здесь не играют в карты и признают русскую речь. У Карамзиных собираются для беседы и обмена мыслями и говорят о поэзии, о науке, о политике. Разумеется, хозяйкой салона была вдова историка — Екатерина Андреевна. Но душою, главным действующим лицом и самой занимательной собеседницей — Софья Николаевна, дочь Карамзина от первого брака, владевшая искусством непринужденного разговора и, как теперь выясняется, одаренная эпистолярным талантом, умением писать письма, легко и свободно передавая на бумаге новости дня, разговоры, характеристики. Время от времени в доме появляется Александр Николаевич Карамзин; служба в гвардейской артиллерии налагает на него известные обязательства, невыполнение которых, как видно из писем, довольно часто приводит его на гауптвахту, откуда, располагая в избытке досугом, он пишет великолепные послания брату Андрею — содержательные и остроумные, полные иронии по адресу великосветского общества. Пишет, в отличие от матери и сестры, чаще всего по-русски. До отъезда за границу Андрей служил с братом в одной батарее, они вместе росли (Андрей родился в 1814 году, Александр-в 1815-м), у них общие приятели, общие литературные интересы; оба пишут и собираются выступать в печати. Этот «Сашка», как называют его в письмах родные, дожил до старости (он умер в 1888 году), но так ни в чем и не проявил заметно своего безусловно незаурядного таланта, о котором можно судить на основании писем. Имя его осталось в истории русской культуры благодаря Лермонтову, упомянувшему его в шутливом стихотворении, написанном для альбома С. Н. Карамзиной:Люблю я парадоксы ваши,
И ха-ха-ха, и хи-хи-хи,
Смирновой штучку, фарсу Саши
И Ишки Мятлева стихи.
«Каждый вагон, — пишет Е. А. Карамзина, — имеет два отделения — одно закрытое, другое открытое. Пара еще не было, поэтому каждые два вагончика тащили две лошади, запряженные одна за другой, гусем. В каждом поезде, состоящем из двух вагончиков, помещалось около 100 человек. Лошади неслись галопом. Эта проба была устроена, чтобы показать удобство и легкость этого способа сообщения. Говорят, что к середине октября все будет готово и поезда уже будут ходить при помощи пара. Это очень интересно. Вообще это была красивая картина — погода стояла прекрасная, обе дорожки, ведущие к железной дороге, пестрели народом; собралась целая толпа — явление у нас необычное. Говорят, московские купцы настойчиво просят государя разрешить построить на их средства железную дорогу от Петербурга до Москвы…»Есть и более интересные сведения. В письме, начатом 5 июня 1836 года, Софья Николаевна Карамзина сообщает, что у Вяземских «в день рождения Поля»
«Гоголь прочел свою комедию „Женитьба“. Слушая ее, мы смеялись до слез, — пишет Софья Николаевна, — так как читает он замечательно. Но его произведения имеют все один и тот же порок: недостаток изобретательности в построении интриги и однообразие шуток, которые всегда вульгарны и тривиальны. Впрочем, самый русский дух, без примеси европейского. Он уезжает сегодня с тетей и рассчитывает тебя увидеть в Эмсе…»Мнение Софьи Николаевны о недостатке изобретательности в построении сюжета «Женитьбы» разделялось в ту пору многими. Однако Софья Николаевна говорит уже не об одной «Женитьбе»: поставив в упрек автору «Ревизора» недостаток в построении интриги, она показала, что новизна гоголевской драматургии вообще непонятна ей. Все же в последней фразе она отметила национальную самобытность пьесы, ее «русский дух, без примеси европейского». Поскольку чтение «Женитьбы» происходило у Вяземских в день шестнадцатилетия «Поля», то число установить не так трудно: рождение Павла Вяземского праздновалось 2 июня, следовательно, 2 июня 1836 года происходило и чтение «Женитьбы» у Вяземских — дата в биографии Гоголя новая. Четыре дня спустя, 6 июня, вместе с Верой Федоровной Вяземской и дочерью ее Гоголь выехал на пароходе за границу.
«Сейчас много идет разговоров об опере Глинки, которой хотят открыть сезон в Большом театре, после его перестройки; говорят, она очень хороша, — сообщает Александр Карамзин в письме от 5 ноября 1836 года. — Виельгорский отзывается об этой опере весьма восторженно, как о замечательном произведении искусства. К сожалению, говорят, невозможно будет достать места на первое представление, которое состоится в конце месяца».Таким образом, письма Карамзиных передают атмосферу, в которой готовилось первое представление «Ивана Сусанина».
«Вчера, в четверг,[3] было открытие Большого театра, который теперь очень красив, — пишет Софья Николаевна 28 ноября 1836 года, — давали „Иван Сусанин“ Глинки; присутствовал Двор, весь дипломатический корпус, все сановники. Я поехала с милой м-м Шевич в ложу второго яруса (нам самим достать ложу, конечно, не удалось). Некоторые арии этой оперы прелестны, но в целом она показалась мне какой-то жалобной по тону, однообразной и мало эффектной — все на русские темы и все в миноре. Декорации Кремля в последнем акте великолепны — толпа народа на сцене незаметно сливается с фигурами, нарисованными на полотне сзади, и уходит в бесконечную даль. Энтузиазм, как всегда у нас, был довольно прохладный, аплодисменты то стихали, то возобновлялись, но всякий раз как бы с усилием».Декорации Андрея Роллера понравились Софье Николаевне больше, чем музыка Глинки, красот которой она по-настоящему не оценила. Премьера «Ивана Сусанина» вызвала противоположные суждения и резкие споры. Пушкин, Гоголь, Жуковский, В. Одоевский, Вяземский, Виельгорский восторгались оперой Глинки; аристократия бранила ее; Булгарин написал о ней злобную и невежественную статью. Но было и среднее: снисходительное одобрение. На первом спектакле присутствовал Николай I, он аплодировал опере Глинки, которая, видимо, по его указанию и была названа «Жизнь за царя». Таким образом, тон высокомерной похвалы выражал мнение официозных кругов. Отзыв Софьи Николаевны Карамзиной объясняется, видимо, тем, как была воспринята опера в ложе «милой м-м Шевич», точнее — Марии Христофоровны Шевич, родной сестры шефа жандармов А. X. Бенкендорфа. Интересно, что Софья Николаевна пишет «Иван Сусанин». Лишний раз подтверждается, что общество не сразу привыкло к чуждому опере Глинки названию — «Жизнь за царя». Знаменитое «Философическое письмо» Чаадаева, напечатанное в сентябрьской книжке «Телескопа» за 1836 год и содержавшее наряду с суровой критикой современного состояния России пессимистический взгляд на историческое прошлое русского народа и на его будущее, в доме Карамзиных было воспринято только как оскорбление национального чувства. Софья Николаевна нападает на Чаадаева, возмущается цензурой, которая пропустила его сочинение. Правда, это не расходится и с тем, как было встречено письмо Чаадаева в Зимнем дворце. Критика самодержавно-крепостнического строя привела императора в бешенство. Чтобы умалить впечатление, произведенное письмом в обществе, Николай приказал считать Чаадаева сумасшедшим и держать под наблюдением врача. Но характерно, что Александр Карамзин в содержании чаадаевского письма выделяет именно эту часть — критику современного состояния русского общества — и с ней соглашается. «Философия самая ужасная вещь настоящего века, — начинает он по-русски в своем обычном, полном иронии, тоне, — станешь философствовать, что вот-де как проводишь время, что-де молодость проходит таким подлым образом, что оскотинился, что чувства душевные тупеют приметно, что начинаешь весьма походить на полену и пр. При этой философии начинает по всему телу проходить какая-то гадость, которая мало-помалу переходит в сонливость, станешь зевать, ляжешь да и всхрапе! А на другое утро в казармы! Видя такую всеобщую гадость в жизни, можно помешаться и даже написать письма вроде Чедаева, о которых говорит тебе сестра! В галиматье этого человека, право, есть справедливые мысли», — признает он, отвергая при этом точку зрения Чаадаева на русскую историю и на русский народ.
3
Но особенное значение тагильской находки даже не в этих отдельных оценках комедии Гоголя, оперы Глинки, «Философического письма» Чаадаева, игры четы Каратыгиных, пения А. Я. Воробьевой-Петровой… Старинная дружба связывала с домом Карамзиных А. С. Пушкина, который близко познакомился с историографом и его женой, будучи еще лицеистом. Когда Пушкину грозила ссылка в Сибирь или в Соловки, H. M. Карамзин ходатайствовал за него вместе с Жуковским. Писатели, в среде которых формировались литературные взгляды Пушкина, считали Карамзина великим учителем. Пушкин с величайшим уважением относился к его литературно-ученой деятельности и к нему самому. Карамзин первый в России высоко поднял авторитет и звание писателя; Пушкина привлекала его благородная независимость, бескорыстие, чуждое искательства славы, широта взглядов, принципиальность, добросовестность Карамзина как ученого, значение трудов которого было гораздо шире его концепции, построенной на утверждении единовластия и крепостного состояния крестьян. Своего «Бориса Годунова» Пушкин посвятил «драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина». Но консервативные взгляды его высмеивал, а в 30-х годах в одном из писем признался, что «под конец» Карамзин был ему чужд. К Екатерине Андреевне Пушкин в юные годы питал настоящее, глубокое чувство. «Если бы в голове язычника Фидиаса, — писал один из постоянных посетителей дома Карамзиных, Ф. Ф. Вигель, — могла блеснуть христианская мысль и он захотел бы изваять мадонну, то, конечно, дал бы ей черты Карамзиной в молодости». Она была старше Пушкина девятнадцатью годами; когда он познакомился с нею, ей было уже тридцать шесть лет. Замечательный исследователь биографии и поэзии Пушкина и автор романа «Пушкин», покойный Ю. П. Тынянов считал даже, что чувство к ней Пушкин сохранил до конца жизни. «Предмет его первой и благородной привязанности», — писала о Карамзиной современница Р. С. Эделинг, хорошо знавшая Пушкина.
Постоянным посетителем дома Карамзиных Пушкин стал уже после смерти историка, по возвращении своем из Михайловской ссылки. К 1827 году относятся его стихотворение «В степи мирской, печальной и безбрежной…», вписанное в альбом Софьи Николаевны, и «Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной». Сперва он бывает у Карамзиных один, а с 1831 года — с женой Натальей Николаевной, потом и с ее сестрами. Значение того, что рассказывают Карамзины не только о Пушкине, но и о других своих знакомых, понятно каждому, потому что все знакомства Карамзиных, кроме чисто деловых, были одновременно и знакомствами Пушкина. Но важность обнаруженных писем усугубляется еще и тем, что Карамзины во всех подробностях знают семенную историю Пушкина. Эта трагедия разыгрывается у них на глазах. В ихдоме Пушкины встречаются с Жоржем Дантесом. Карамзины — в числе ближайших знакомых поэта, получивших по городской почте анонимное письмо, предназначенное для Пушкина и содержавшее в себе нестерпимое оскорбление. Карамзины принимают деятельное участие в улаживании конфликта между Пушкиным и Дантесом в ноябре 1836 года… Впрочем, но будем предвосхищать событий, подробно изложенных в письмах к Андрею Карамзину.Екатерина Андреевна Карамзина

О том, что такие письма в свое время существовали, биографам Пушкина было известно. До нас дошли письма Андрея Карамзина из Парижа, из Рима, из Баден-Бадена. Они адресованы матери, сестрам, брату, содержат в себе великолепные описания его путешествия и ответы на сообщения родных, в том числе и суждение о Пушкине. Письма А. Н. Карамзина хранились в семье потомков Е. Н. Мещерской и незадолго до революции появились в печати («Старина и новизна», 1914, тт. XVII и XX). Но почему же другая часть переписки — письма к нему — отыскалась в Нижнем Тагиле? Оказывается, в этом нет ничего странного. Предоставим слово Николаю Сергеевичу Боташеву. «В то время, — рассказывает он, — нижнетагильскими заводами владели братья Павел и Анатолий Демидовы. Анатолий Николаевич большей частью жил в Италии. Купив княжество Сан-Донато, близ Флоренции, он стал называться Демидов, князь Сан-Донато. Павел Николаевич жил в России. В 1836 году он женился на известной красавице Авроре Карловне Шернваль. Брак был непродолжительным — в 1840 году Павел Демидов умер, оставив малолетнего сына. Вместе с сыном Аврора Демидова вступила в права владения нижнетагильскими заводами наравне с Анатолием Демидовым. В 1846 году она вышла замуж вторично — за Андрея Николаевича Карамзина, того самого, которому адресованы обнаруженные в Тагиле письма. В 1849 и 1853 годах Андрей Карамзин приезжал в Нижний Тагил. В начале Крымской войны он вступил добровольцем в действующую армию и 16 мая 1854 года был убит в Малой Валахии. Очевидно, в один из приездов А. Н. Карамзина в Нижний Тагил и попали туда эти письма, которые он хранил как реликвию. После его смерти они остались в Тагиле. Где они находились с тех пор, неизвестно. Обнаружились они снова уже в наше время, перед самой Отечественной войной». В 1939 году умер в Тагиле восьмидесятичетырехлетний маркшейдер Павел Павлович Шамарин. До Октябрьской революции он работал в демидовском управлении. Вскоре после смерти Шамарина его племянница Ольга Федоровна Полякова, бухгалтер рудоуправления в Тагиле, разбирая его вещи, старые книги, приложения к «Ниве» и прочее, взяла в руки потертый сафьяновый альбом с золотым тиснением, завязанный зелеными ленточками. Раскрыв альбом, увидела вклеенные в него старые французские письма. Ольга Федоровна показала находку Елизавете Васильевне Боташевой. Вследствие этого и попали письма в Тагильский музей. Но это произошло уже во время войны. Директором музея была тогда Надежда Тимофеевна Грушина. Прежде всего надо было выяснить содержание писем. Грушина поручила перевести их на русский язык. Эту работу выполнила врач туберкулезного санатория Ольга Александровна Полторацкая, эвакуированная во время войны из Ленинграда, великолепно знающая французский, язык. Когда работа эта была закончена, решительно всем и уже окончательно стала ясной ценность отыскавшихся, писем. Н. С. Боташев заинтересовался находкой. Пользуясь переводом Полторацкой, он отобрал из писем Карамзиных факты, относящиеся к Пушкину, и, снабдив краткими примечаниями, прислал в редакцию «Нового мира». О. А. Полторацкая вышла после войны на пенсию и поселилась под Москвой, около станции Вешняки, Казанской железной дороги. Я побывал у нее. Узнал, что во время войны музей поручил ей сделать подробное изложение, на основании которого можно было бы судить о содержании писем, что задачи максимально точного перевода всех писем и каждого полностью она перед собой не ставила. Словом, что в ее переводе не весь текст, и прежде чем печатать, следует сверить его с оригиналом. Эта работа проделана. Письма Карамзиных изучены заново. Выборки текста, сообщенные Н. С. Боташевым, дополнены и содержат теперь все, что касается Пушкина, — от важных сообщений до простого упоминания имени. Все французские тексты заново переведены О. П. Холмской. В таком виде новые материалы, снабженные моей вступительной статьей и пояснениями, появились в № 1 «Нового мира» за 1956 год под рубрикой:Софья Николаевна Карамзина
ИЗ ПИСЕМ КАРАМЗИНЫХ.
Публикация Н. Боташева.
Пояснительный текст И. Андроникова.
4
Первое письмо — 27 мая 1836 года. Имена Дантеса, Гончаровых — сестер и брата Натальи Николаевны Пушкиной, Мещерских, П. А. Вяземского… Мы сразу входим в круг лиц, с которыми постоянно встречается Пушкин. Софья Николаевна рассказывает Андрею о «Сашке», который несколько дней развлекал ее «своим милым лицом и смешными выходками». «Он нас покинул в воскресенье вечером, — пишет Екатерина Андреевна. — Великий князь также уезжал в Красное, у них учение целыми днями. Милый Вяземский навещает нас ежедневно, — продолжает Софья Николаевна. — Тетя нездорова, у нее болит нога. Дантес больше не появлялся, и мы знаем о его существовании только потому, что получили от него баночку парижской помады. Вчера был день рождения Пьера. У нас обедали его братья, Вяземский и Мальцов… Сегодня после обеда поедем кататься верхом с Гончаровыми, Балабиным и Мальцевым. Потом будет чай у Екатерины — она устраивает его для Александрины Трубецкой, в которую влюблены Веневитинов, Мальцов и Николай Мещерский. Завтра думаем всей компанией сделать прогулку в омнибусе в Парголово…» Это характерно для всей переписки — подробные сообщения о здоровье родных (у тетки, Веры Федоровны Вяземской, болит нога), о том, кто и в кого влюблен, кто к ним заходит, кого зовут на обед… Кроме Вяземского, который бывает у них ежедневно, такие же частые гости в доме Мещерские — Екатерина Николаевна, урожденная Карамзина, и ее муж Петр Иванович, или Пьер, как называют его в письмах, в отличие от Вяземского, именуемого обычно «князь Петр». На обед по случаю дня рождения Мещерского приглашены его братья Николай и Сергей и двоюродный брат Мещерских Иван Мальцов. В 1820-х годах он принадлежал к числу молодых людей, составлявших литературно-философский кружок «любомудров», участвовал в создании журнала «Московский вестник», потом служил вместе с Грибоедовым в Персии и единственный уцелел при разгроме русской миссии в Тегеране. Это миллионер, уже подумывающий о том, чтобы основать в Петербурге бумагопрядильную мануфактуру. Славится как анекдотист. В пору, когда мы застаем его в доме Карамзиных, ему около двадцати девяти лет. Иван Балабин, который примет участие в кавалькаде, — конногвардеец, приятель Дантеса и братьев Карамзиных. Он из тех Балабиных, в доме которых давал уроки Николай Васильевич Гоголь. Вечернее чаепитие у Екатерины Мещерской устраивается в честь княжны Александрины Трубецкой и влюбленных в нее А. В. Веневитинова (брат рано умершего поэта Д. В. Веневитинова), Мальцева и Николая Мещерского; Софи Карамзину бесконечно интересует, за кого княжна выйдет замуж. В 1837 году она успокоилась — Трубецкая предпочла князя Мещерского. Брат Саша — в Красном Селе, в лагерях; о нем говорят как о мученике. Что касается прогулки в Парголово, то она состоялась, и в ней принимал участие Дантес. По словам Софьи Николаевны, было очень весело. Княгиня Бутера, владелица загородного имения Шувалове, разрешила компании воспользоваться ее домом. Обедали в ее великолепной гостиной. Вино «лилось рекой». Мальцов «трещал без умолку». На обратном пути остановились в имении княгини О. С. Одоевской, жены Владимира Федоровича, известного писателя, старого друга Карамзиных, и пили у нее чай. 3 июня 1836 года. Пишет Александр Николаевич Карамзин: «Кавалергардский полк прибыл в Красное только сегодня, и Дантес уже два раза был у нас». Два дня спустя Екатерина Андреевна сообщает сыну ту же новость: Дантес отправился с визитом в Красное Село, к Александру. Они увлечены Дантесом, вполне разделяют отношение к нему петербургского великосветского общества, считают, что он совершенно заслуживает внимания, с которым относятся к нему при дворе; он пользуется расположением императора и шефа кавалергардов — императрицы, дружески встречается с наследником — они вдвоем совершают верховые прогулки. «Наш образ жизни, дорогой Андрей, все тот же, — извещает его сестра 5 июня. — Каждый вечер у нас гости. Дантес бывает почти ежедневно. Он расстроен тем, что их дважды в день гоняют на военные учения (великий князь нашел, что кавалергарды не умеют сидеть на коне), но он все так же весел и остроумен и находит время принимать участие в наших кавалькадах…» Не подозревая, какую роль сыграет впоследствии в жизни Андрея Карамзина красавица Аврора Шернваль, Софья Николаевна рассказывает брату: «Сообщаю тебе о золотой свадьбе-м-ль Аврора Ширнвальд (так у Карамзиной. — И. А.) выходит замуж за богача Поля Демидова. Какая разница с той скромной судьбой, которая ожидала ее в браке с г. Мухановым». Жених Авроры Шернваль, Александр Алексеевич Муханов, скромный офицер, выступавший в литературных журналах, — по мнению друзей, «человек замечательных дарований» — был горячим почитателем Пушкина и приятелем Карамзиных, Баратынского, Вяземского. Он умер молодым, в 1834 году, незадолго до свадьбы. Он не принадлежал к родовитой аристократии и несметными богатствами Демидовых не обладал. Братья его, Николай и Владимир Мухановы, такие же горячие почитатели Пушкина, встречаются время от времени с Карамзиными. Каждый год 1 июля в Петергофе отмечается традиционный праздник — именины императрицы. Софья Николаевна была на этом празднике вместе с м-м Шевич. Описанию этого дня посвящено письмо, датированное 8(20) июля 1836 года: «…Празднество началось в 8 часов утра. Первые часы я провела довольно уныло в весьма скучном обществе, прогуливаясь медленным шагом по аллеям… Единственный приятный момент был, когда все спустились в сад и затем прошли вереницей после представления государю. Здесь я увидела почти всех наших друзей и знакомых, между прочим Вяземского (он держался весьма непринужденно в своем придворном костюме, который наконец решился надеть), Одоевских (он был в камергерском мундире, а она вся розовая, с полевыми цветами в волосах, очень похудевшая, но почти красивая), Надин Соллогуб (которая 11-го уезжает со своей теткой за границу и там проведет больше года; зимой, может быть, поедет в Италию, а сейчас отправляется прямо в Баден-Баден, где она надеется тебя увидеть. М-м Смирнова сейчас уже в Бадене. Бедный Андрей, береги свое сердце), Опочининых и Люцероде (которые поручили мне передать тебе привет), Бутурлиных (они уезжают 25-го. Лиза была очаровательна в венке из палевых роз) и Дантеса; признаюсь, увидеть его мне было очень приятно. По-видимому, сердце привыкает к тем, с кем встречаешься ежедневно… Он спросил, с кем я приехала, что думаю делать. Он, правда, презрительно бросил: „Как, Вы с этой?“, тем не менее, он был очень обходителен с м-м Шевич. Я его представила ей, и он просил позволения сопровождать нас вечером на прогулке, что она разрешила тем более охотно, что до этого она всем твердила (к моей величайшей досаде): „Боюсь, что нам нельзя будет без кавалеров пойти на иллюминацию, наши кавалеры нас обманули, не видали ли вы наших кавалеров?“ А когда ее спрашивали: „Кого именно?“, она отвечала: „Пишчевича и Золотницкого“, Представляешь себе, как мне было стыдно! На кого мы возлагали надежду, да и тут еще потерпели разочарование». Поручик Гусарского полка Пишчевич и Золотницкий, которых так жаждала видеть сестра шефа жандармов м-м Шевич, — родные племянники шефа жандармов. Смущение Софьи Николаевны Карамзиной вызвано, однако, не этим. Молодые люди недостаточно солидны, по ее мнению, чтобы сопровождать их, ее и м-м Шевич, на иллюминацию, где будет присутствовать весь двор. Имена Пишчевича и Золотницкого постоянно встречаются в письмах Карамзиных. Все же этого было бы недостаточно, чтобы обращать на них особое внимание. Мы останавливаемся на этих именах потому, что оба, и Пишчевич и Золотницкий, печатались в «Современнике», Во втором томе Пушкин поместил подробный разбор книги «Статистическое описание Нахичеванской провинции», принадлежащий В. Золотницкому; путевой очерк П. Пишчевича «О Киеве» уже после смерти Пушкина напечатан в шестом томе. Но вернемся к петергофскому празднику. После прогулки по всем садам, отправившись с м-м Шевич слушать вечернюю зорю, Софья Николаевна опять увидела множество знакомых, которые собирались на костюмированный бал, и: «…снова встретила Дантеса. В дальнейшем он нас уже не покидал. Мы прихватили с собой твоего бедного товарища Александра Голицына (очень грустного по случаю неприятностей по службе), Шарля Россети, Поликарпова и пресловутого Золотницкого, который наконец отыскался и весь оставшийся вечер не отходил от своей тетки… Меня вел Дантес и очень забавлял своими шутками, своей веселостью и даже весьма комичными вспышками своих страстных чувств (все по отношению к прекрасной Натали)…» Лица, мелькающие в придворной толпе и упомянутые в этом письме, — знакомые Пушкина. Вяземский Петр Андреевич — старый друг Пушкина, «декабрист без декабря», как назвал его один из советских исследователей, поэт и критик. В 1820-х годах, уволенный со службы, состоял под тайным надзором полиции, слыл «либералом». В ту пору это литературный единомышленник Пушкина. Но в 1830-х годах либерализм его потускнел, взгляды стали умеренными. За вступлением на государственную службу следует «пожалование» в камергеры. Сначала Вяземский выказывает равнодушие к придворному званию, а тут впервые решается надеть камергерский мундир. В 1840-х годах он уже окончательно отрешился от идей своей молодости и примкнул к врагам прогресса и демократии. В письме Софьи Карамзиной отмечен момент, характерный для постепенного вхождения Вяземского в атмосферу политической реакции. Владимир Федорович Одоевский — писатель и журналист, критик и публицист, музыкант и ученый, ближайший сотрудник Пушкина по «Современнику». Карамзина называет его камергером. В этот чин Одоевский произведен накануне. Ольга Степановна — жена его. Надин Соллогуб — кузина писателя Соллогуба Владимира. Красавица. Фрейлина. Очень нравилась Пушкину. В 1832 году он посвятил ей стихотворение:Нет, нет, не должен я, не смею, не могу
Волнениям любви безумно предаваться;
Спокойствие мое я строго берегу
И сердцу не даю пылать и забываться…
5
Отзыв Софьи Николаевны о журнале Пушкина — о «Современнике», неблагожелательная оценка, исходящая из дома друзей, — как это много говорит нам об одиночестве Пушкина! 24 июля/5 августа ‹1836 года› — С. Н. Карамзина:«Вышел № 2 „Современника“, но говорят, что он бледен и в нем нет ни одной строчки Пушкина (которого разбранил ужасно и справедливо Булгарин, как „светило, в полдень угасшее“). Ужасно соглашаться, что какой-то Булгарин, стремясь излить свой яд на Пушкина, не может хуже уязвить его, чем сказав правду. Есть несколько остроумных статей Вяземского, между прочим одна по поводу „Ревизора“. Но надо же быть таким беззаботным и ленивым созданием, как Пушкин, чтобы поместить в номере сцены из провалившейся „Тивериады“ Андрея Муравьева…»

Вторая книжка журнала «Современник» с дарственной надписью Пушкина статистику и экономисту Г. П. НебольсинуС этой оценкой не согласен Карамзин Александр. Прочитав послание сестры, он приписывает:
«Не верь Софи в том, что она пишет тебе о „Современнике“, номер отлично составлен; Пушкин, правда, ничего там не написал, зато есть прекрасные статьи дядюшки и Одоевского. Пушкин намерен напечатать там свой новый роман».Он имеет в виду «Капитанскую дочку». Трагедию А. Н. Муравьева «Битва при Тивериаде», в 1832 году провалившуюся на сцене Александрийского театра, Карамзин в своей приписке не поминает. Пушкин считал, что второй номер «Современника» «очень хорош». Поэтому возможно, что в оценках Александра Карамзина повторяются иной раз и суждения Пушкина, — Карамзин его часто видит. Две недели спустя (7 августа 1836 года) Александр Николаевич сообщает брату о собственных литературных делах и подает совет:
«…ты, брат, не забудь написать и прислать что-нибудь для журнала Одоевского, раз уже наше имя красуется в проспекте среди имен Тяпкиных, Фитюлькиных и компании. С прозой у меня обстоит хуже, чем со стихами. Я ничего не продаю, стало быть, мне нигде не платят, но я не теряю мужества…»Под «журналом Одоевского» Александр Карамзин разумеет задуманный В. Ф. Одоевским и А. А. Краевским «энциклопедический и эклектический» журнал «Северный зритель», который они предполагали издавать с начала 1837 года. В пору, когда Пушкин приступал к изданию «Современника» (который должен был выходить четыре раза в год), Одоевский и Краевский, принявшие близкое участие в этом журнале, задумали свой, ежемесячный. К участию в своем журнале они хотели привлечь тех, кто сотрудничал в «Современнике», а также идейных противников Пушкина, прежде всего группу реакционных литераторов из «Московского наблюдателя». Издание нового — ежемесячного — журнала цензура не разрешила; после закрытия «Московского телеграфа» затевать новые ежемесячные журналы было запрещено. Тогда, «убежденные в том, что существование двух журналов, в одном и том же духе издаваемых, может только повредить им обоим», Краевский и Одоевский в начале августа 1836 года предложили Пушкину в корне преобразовать «Современник». Пушкин их условий не принял, и 16 августа Одоевский с Краевским обратились к начальнику главного управления цензуры С. С. Уварову за разрешением издавать трехмесячный «Русский сборник». Уваров, ненавидевший Пушкина, увидел в этом ущерб «Современнику» и поддержал конкурентов Пушкина, задумавших свой орган отнюдь не в «одном духе с „Современником“», а, как сказано в их прошении, «в духе благих попечений правительства о просвещении в России». Все эти факты, установленные в наше время В. Н. Орловым, а затем А. П. Могилянским, освещены так в одной из последних работ Ю. Г. Оксмана. Андрей и Александр Карамзины внесли свои имена в «список лиц, желающих участвовать в издании журнала „Северный зритель“». Поэтому-то Александр и напоминает брату о «журнале Одоевского». Прежде чем перевернуть еще несколько листков, напомним, что летом 1836 года Пушкины снимают дачу на Каменном острове, а Карамзины — в Царском Селе. Тем не менее, о жизни Пушкиных они знают от общих знакомых. 30 августа, по случаю семейного праздника, в Царском Селе обедали Мещерский и сослуживец обоих братьев и ближайший друг их Аркадий Россет. После обеда приехали «друзья сестер» — Мухановы Николай и Владимир.
«Старший, — пишет Александр Карамзин 31 августа из Петербурга (по-русски), — довольно толст и похож на умершего своего брата; он не хорош, но видно, что это вещь известная, очень разговорчив, весел и общителен; младший, напротив, совершенно черт знает что такое! худенький, гаденький, тихонький… Старший накануне видел Пушкина, которого он нашел ужасно упадшим духом, раскаивавшимся, что написал свой мстительный пасквиль, вздыхающим по потерянной фавории публики. Пушкин показал ему только что написанное им стихотворение, в котором он жалуется на неблагодарную и ветреную публику и напоминает своп заслуги перед ней. Муханов говорит, что эта пьеса прекрасна».Вначале речь идет, конечно, об оде «На выздоровление Лукулла», напечатанной в конце 1835 года в «Московском наблюдателе» и доставившей Пушкину в 1836 году ужасные неприятности. В наследнике богача Лукулла, ворующем казенные дрова, все узнали министра народного просвещения С. С. Уварова, который обратился с жалобой на Пушкина к царю. По поручению Николая Бенкендорф сделал Пушкину строгий выговор. Неприятность усугублялась тем, что Уваров ведал цензурой и Пушкин находился в зависимости от него. Как раз в августе Уваров поддержал ходатайство Одоевского и Краевского о разрешении издавать журнал, который должен был подорвать литературную и материальную базу «Современника». За три дня до встречи с Мухановым (26 августа) цензура запретила в «Современнике» статью Пушкина «Александр Радищев», — это тоже одна из причин того угнетенного состояния, о котором, со слов Муханова, пишет Александр Николаевич Карамзин. Материальные дела Пушкина таковы, что он вынужден занимать у ростовщика под залог столового серебра. Новое стихотворение, которое Пушкин прочел Николаю Муханову 29 августа, — «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», законченное за несколько дней до этого (в автографе дата: «21 августа 1836 г. Каменный остров»). Слова Муханова лишний раз подтверждают, что стихотворение написано Пушкиным не для самопрославления, а в ответ на суждения реакционной критики и той части читающей публики, которая готова была соглашаться с тем, что Пушкин — «светило, в полдень угасшее». Однако смысл стихотворения Муханов истолковал слишком просто — «Памятник» не жалоба на неблагодарную публику. Справедливо считает Т. Г. Цявловская, что, как часто бывало в таких случаях у Пушкина, стремление возразить против журнальных нападок послужило для него только поводом.

Пушкин создал стихотворение, исполненное глубокого философского смысла; эти размышления о роли и заслугах поэта адресованы не критикам и не охладевшей к нему части «читающей публики» и обращены уже не к своему времени, а к читателю будущему, который сумеет оценить подвиг поэта и значение этого подвига…«Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Автограф с пометою «1836, авг[уста] 21, Кам[енный] остр[ов]».
«Кстати о Пушкине, — продолжает Александр Карамзин, — я с Вошкой и Аркадием после долгих собираний отправились вечером Натальина дня в увеселительную прогулку к Пушкиным на дачу. Проезжая мимо иллюминированной дачи Загрядской, мы вспомнили, что у нее Фурц и что Пушкины, верно, будут там».Александр с братом Владимиром («Вошкой») и с другом Аркадием Россет едут на Каменный остров, чтобы поздравить Наталью Николаевну Пушкину — именинницу. И вспоминают дорогой, что Наталья Кирилловна Загряжская (которой по мужу ее Наталья Николаевна Пушкина приходится внучатой племянницей) тоже в этот день именинница.
«Несмотря на то, мы продолжали далекий путь и приехали только для того, чтобы посмотреть туалеты этих дам и посадить их в экипаж».На этом попытки молодых людей увидеться с Пушкиными не кончились:
«После того, как на третий день возобновили свою прогулку, мы возвратились окончательно пристыженными. В назначенный день мы отправляемся в далекий путь, опять в глухую, холодную ночь и почти час слушаем, как ходят ветры севера, и смотрим, как там и сям мелькают в лесу далекие огни любителей дач. Приехали: „Наталья Николаевна приказали извиниться, оне нездоровы и не могут принять“. Гневные восклицания и проклятия вырвались из ваших мужских грудей, — продолжает Александр Карамзин, переходя на французский язык. — Мы послали к черту всех женщин, живущих на островах и хворающих не ко времени, и воротились домой, смущенные еще более, чем в первый раз. Вот чем ограничились пока что наши визиты. Если бы не это столь услужливое заболевание, Пушкины приехали бы в Царское и провели бы там вчерашний и позавчерашний день».Здесь уже речь идет об именинах самого Александра — 30 августа, — на которые Пушкины не приехали.
«Их отсутствие, — пишет Карамзин далее, — совершенно осчастливило мою кроткую голубку, которая хотела царить без соперниц, особенно в торжественный день моих именин. Но судьба посмеялась над ее радостью и обернула против нее же самой все ее жестокие и бесчеловечные пожелания желудочных колик Пушкиным».«Голубкой» иронически именуется дочь м-м Шевич Александрина, за которой Александр слегка ухаживает. «Предурная собой», как пишет о ней современница, она не может соперничать с Натальей Николаевной Пушкиной и радуется, что та не приехала. Но за эту радость она наказана: вместо Натальи Пушкиной приехала Наталья Строганова, дама, пользующаяся в свете большим успехом, которая отвлекла внимание Александра Карамзина от мадемуазель Шевич. Приписка от 3 сентября содержит рассказ о новой поездке на Каменный остров.
«Вчера вечером я с Володькой, — пишет Александр снова по-русски, — опять ездил к Пушкиным, и было с нами оригинальнее, чем когда-нибудь. Нам сказали, что, дескать, дома нет, уехали в театр. Но на этот раз мы не отстали так легко от своего предприятия, взошли в комнаты, велели зажечь лампы, открыли клавикорды, пели, открыли книги, читали и таким образом провели 1 1/4 часов. Наконец оне приехали. Поелику оне в карете спали, то пришли совершенно заспанные. Александрин не вышла к нам, а прямо пошла лечь; Пушкин сказал 2 слова и пошел лечь, 2 другие вышли к нам, зевая, и стали просить, чтобы мы уехали, потому что им хочется спать, но мы объявили, что заставим их с нами просидеть столько же, сколько мы сидели без них. В самом деле мы просидели более часа. Пушкина не могла вынести так долго, и, после отвергнутых просьб о нашем отъезде, она ушла первая. Но Гончариха высидела все 1 1/4 часов, но чуть не заснула на диване. Таким образом мы расстались, объявляя, что если впредь хотят нас видеть, то пусть посылают карету за нами. Пушкина велела тебе сказать, что она тебя целует (ее слова)…»
6
17 сентября в Царском Селе Карамзины праздновали день именин Софьи Николаевны.«Мы ждали много гостей из города, и это нервировало маму, — пишет она два дня спустя (19 сентября). — Но все сошло очень хорошо, обед был превосходный. Среди гостей были Пушкин с женой, Гончаровы (все три блистали молодостью, красотой и тонкими талиями), мои братья, Дантес, А. Голицын, Аркадий с Шарлем Россети (Клемента они потеряли в городе во время сборов), Скалон, Сергей Мещерский, Поль и Падин Вяземские (тетя осталась в Петербурге ожидать дядю, но он так и не приехал из Москвы) и Жуковский. Ты легко можешь себе представить, что когда за обедом дошло дело до тостов, мы не забыли выпить за твое здоровье. Послеобеденные часы в таком милом обществе показались нам очень короткими. В 9 часов пришли соседи: Лили Захаржевская, Шевичи, Ласси, Лидия Блудова, Трубецкие, графиня Строганова, княгиня Долгорукова (дочь князя Дмитрия), Клюпфели, Баратынские, Аба-мелек, Герздорф, Золотницкий, Левицкий, один из князей Барятинских и граф Михаил Виельгорский, — так что мы могли открыть настоящий бал, и всем было очень весело, судя по их лицам, кроме только Александра Пушкина, который все время был грустен, задумчив и озабочен. Он своей тоской и на меня тоску наводит. Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд поминутно устремлялся с вызывающим тревогу вниманием на жену и Дантеса, который продолжал те же шутки, что и раньше, — не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросал страстные взгляды на Натали, а под конец все-таки танцевал с ней мазурку. Жалко было смотреть на лицо Пушкина, который стоял в дверях напротив молчаливый, бледный, угрожающий. Боже мой, до чего все это глупо! Когда приехала графиня Строганова, я попросила Пушкина пойти поговорить с ней. Он согласился, краснея (ты знаешь, как ему претит всякое раболепие), как вдруг вижу — он остановился и повернул назад. „Ну, что же?“ — „Нет, не пойду, там уж сидит этот граф“. — „Какой граф!“ — „Дантес, Гекрен, что ли!“».Запись очень значительна. О том, что Пушкин, Жуковский и Виельгорский 17 сентября 1836 года присутствовали на именинах С. Н. Карамзиной, было известно и раньше — из ее письма к И. И. Дмитриеву. Но здесь Софья Николаевна впервые называет имена остальных гостей, а главное — пишет о состоянии Пушкина. Кто они, эти гости? Поль и Надин Вяземские — дети П. А. Вяземского, племянники Е. А. Карамзиной. Гончаровы, Александрина и Екатерина, — сестры Натальи Николаевны Пушкиной. Аркадий и Шарль Россет — братья А. О. Смирновой, молодые офицеры, друзья Карамзиных, почитатели Пушкина. Таким же горячим почитателем Пушкина был живший вместе с Россетами офицер Генерального штаба Николай Скалон. Сергей Мещерский — деверь Екатерины Николаевны Карамзиной-Мещерской, Александр Голицын — сослуживец и друг Андрея и Александра Карамзиных. Последним назовем Дантеса. Он не граф Геккерен, а барон Геккерен. Графом Пушкин назвал его иронически, из глубокого презрения к положению, богатству и титулу этого усыновленного голландского барона. Эти приглашены на обед. Вечером собирается великосветская знать, проводящая лето в Царском Селе, «соседи». Родственные связи объясняют их положение в свете и уточняют состав салона Карамзиных — круг, в котором Пушкин приговорен был жить и работать. Генерал Захаржевский — шурин Бенкендорфа. Лили Захаржевская, Елена Павловна, — его жена, приближенная великой княжны Марии. Шевичи — о них уже говорилось — сестра и племянники Бенкендорфа. Золотницкий — племянник Бенкендорфа. Графиня Строганова — дочь канцлера В. П. Кочубея. Княгиня Долгорукова-дочь влиятельного вельможи, московского генерал-губернатора князя Д. В. Голицына. Один из князей Барятинских — очевидно, кирасир Александр Барятинский, сын ближайших друзей императора, назначенный «состоять при наследнике», «преданный друг» Дантеса, как Барятинский подписался в одном из своих писем к нему. Герздорф и Абамелек — лейб-гусары. Баратынские — лейб-гусар Ираклий Абрамович Баратынский, брат поэта, с женою (он женат на сестре Абамелека). Лидия Блудова — дочь министра внутренних дел. Ласси (les Lassy) — видимо, члены семьи генерала-от-инфантерии Бориса Петровича Ласси (1737–1820). Клюпфели — кто-то из семьи дипломата Филиппа Клюпфеля. Трубецкие — камер-юнкер Никита Трубецкой с женой; он родственник Веры Федоровны Вяземской. И, наконец, сослуживец Барятинского, кирасир Левицкий. Имена, перечисленные Карамзиной, не сходят со страниц писем к Андрею. Это общество Карамзиных. Но это и общество Пушкина. Тридцатишестилетняя графиня Наталья Викторовна Строганова, которую поэт должен занять разговором, — его первая, лицейская любовь Наталья Кочубей. В 1830-х годах Пушкин собирался изобразить ее в романе «Русский Пелам» под именем Чуколей. Но в планах сохранилось и настоящее имя: «Кочубей, дочь его»; «Наталья Кочубей вступает с Пелымовым в переписку» и т. д. Это постоянная гостья Карамзиных, которой они оказывают особое уважение, называя ее в письмах «пикантной», «любезной», «блистательной», «обольстительной», подчеркивая, что с ней «очень любезен государь». Ее свекор — знаменитый дипломат наполеоновских времен, старый сановник, пользующийся уважением двора и аристократии. Это близкий родственник Гончаровых, отец рожденной вне брака Идалии Полетики, заклятого врага Пушкина и верного друга Дантеса. Муж Н. В. Строгановой — флигель-адъютант, харьковский генерал-губернатор. Имя графини Строгановой еще встретится нам в письмах Карамзиных в связи с рассказом об отношении к Пушкину петербургского света. В ином случае эта подробная характеристика, разумеется, была бы излишней. Описывая свои именины, Софья Николаевна сообщает подробность, на которую обратят внимание биографы Пушкина: Дантес ведет свою игру с Н. Н. Пушкиной, не отходя ни на шаг от ее сестры. Ухаживание за Е. Н. Гончаровой в сентябре 1836 года? Это сведение новое. Софья Николаевна пишет: «…продолжал те же шутки, что и раньше…», — следовательно, Дантес ухаживает за Екатериной Гончаровой давно? 20 сентября Екатерина Андреевна описала внезапное появление в их доме Жуковского, который остался обедать и был «очарователен своей детской веселостью». «А затем, — сообщает она, — явилась блистательная Аврора с розовыми перстами (она, правда, вся розовая и прелестна, как богиня, чье имя она носит)…» Слова «правда, вся розовая» должны, очевидно, служить подтверждением строк Баратынского, который писал, обращаясь к Авроре Шернваль:
Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари:
Всех румяным появленьем
Оживи и озари…
«Она приехала с прощальным визитом, — продолжает Екатерина Андреевна, — завтра она уезжает в Финляндию, где будет дожидаться жениха, а после свадьбы вместе со своим золотым мужем поедет за границу. Ты, вероятно, увидишь ее в Италии. Она обещала, что будет внимательна к тебе, — предупреждает Карамзина сына. — Только не увлекайся до безумия, что часто с тобой случается при знакомстве с хорошенькими женщинами, а эта уж очень хороша».Как нам уже известно, эти предостережения подействовали ненадолго — через десять лет Андрей Карамзин женился на Авроре Шернваль-Демидовой, к тому времени уже овдовевшей. Перевернем несколько страниц. Письмо Александра от 30 сентября 1836 года (среда):
«17-го у нас в Царском был большой вечер; вероятно, Софи уже описала его тебе во всех подробностях. Что же касается моей здешней жизни, то она настолько лишена всяких событий, так бледна и так однообразна, что не стоит говорить о ней. Три четверти времени я провожу с Аркадием, иногда бываю у Пушкиных, часто посещаю Вяземского, который теперь будет жить на Моховой… Вчера я был на музыкальном вечере у Геккерн, где меня представили м-м Сухозанет, — пишет он. — В пятницу пойду к ней на вечер с танцами. Еще разговаривал вчера с прекрасной Фикельмон — она велела тебе кланяться — не м-м Элиз, которая делала невероятные усилия, чтобы выскочить из своего платья. Затем я отдыхал в кругу Гончаровых… Сегодня пойду к Пушкиным провести вечер».«М-м Элиз» — известная Елизавета Михайловна Хитрово, в ту пору уже немолодая; ее пристрастие к чрезмерно открытым платьям было на устах у всего Петербурга. Она дочь фельдмаршала М. И. Кутузова. «Прекрасная Фикельмон» — внучка Кутузова, дочь Хитрово, вышедшая замуж за австрийского посла в Петербурге. Это самые сердечные друзья Пушкина, самые заботливые друзья. На музыкальном вечере у голландского посланника Геккерена Александр Карамзин знакомится с женой своего шефа — генерал-адъютанта И. О. Сухозанета. Сухозанеты в свойстве с Бенкендорфом: брат м-м Сухозанет женат на падчерице шефа жандармов. Это выдвинуло Сухозанета. 14 декабря 1825 года его артиллерия расстреляла войска декабристов на Сенатской площади в Петербурге. С того дня началось возвышение этого «запятнанного человека», как осторожно назвал его Пушкин в своем дневнике. На том же вечере у Геккеренов Карамзин встречается с Гончаровыми. На другой день идет в гости к Пушкиным. Встречи поэта с Карамзиными оказываются более частыми, чем это было известно раньше, светские цепи еще более крепкими. Сбоку письма Карамзин приписывает (по-русски):
«У Пушкина 700 подписчиков, не много. Одоевский готовится издавать свой журнал, но еще нет ничего. Я буду у него послезавтра. Пришли ему статейку. Говорят, что 3-й том „Современника“ очень хорош, я еще не имел его. Литературных новостей больше нет».Этим сообщением уточняется число подписчиков «Современника» и состояние издательских дел Пушкина — стоит только сопоставить слова Карамзина с цифрами тиража журнала. Первая и вторая книжки «Современника» были напечатаны в количестве 2400 экземпляров. Тираж третьей вдвое меньше — всего 1200. А подписчиков только 700! И даже сотрудник Пушкина Карамзин, считающий, что «Современник» хорош, хлопочет о журнале Одоевского. Объясняется это, конечно, тем, что Одоевский ему покровительствует. Впрочем, сведения о «Русском сборнике» Одоевского запоздали — еще 16 сентября Николай I запретил издавать его. Наступает октябрь. Из Царского Села Карамзины возвращаются в город. В воскресенье 18 октября дочь П. А. Вяземского, молодая Мария Валуева, «устроила у себя чай».
«Там были неизбежные Пушкины и Гончаровы, — пишет Софья Николаевна Карамзина, — Соллогуб и мои братья. Мы сами туда не поехали, так как у нас были гости — м-м Огарева, Комаровский, Мальцов и молодой Долгоруков, друг Россети, довольно скучная личность».Софья Николаевна ничего не пишет о состоянии Пушкина — она не была у Валуевых. Но вспомним, что это происходит накануне празднования лицейской годовщины у М. Л. Яковлева, где Пушкин разрыдался, читая свои стихи… У Карамзиных гости. Прежде всего обратим внимание на м-м Огареву, Варвару Андреевну, сестру всесильного графа П. А. Клейнмихеля, одного из ближайших сотрудников Николая. Другое лицо, представляющее для нас интерес, — «молодой Долгоруков, друг Россети», тот, чьей рукой, по мнению исследователей, написан мерзкий анонимный «диплом», речь о котором еще впереди. О том, что П. В. Долгоруков бывает у Карамзиных, мы узнаем впервые. Граф Егор Комаровский — конногвардейский офицер, постоянный посетитель карамзинской гостиной, старый знакомый Пушкина.
«Как видишь, — продолжает Софья, — мы вернулись к нашему обычному городскому образу жизни. Возобновились наши вечера, и на них с первого же дня все те же привычные лица заняли свои привычные места — Натали Пушкина и Дантес, Екатерина Гончарова рядом с Александром, Александрина с Аркадием, к полуночи — Вяземские и один раз, должно быть по рассеянности, Виельгорский…»Н. Н. Пушкина и ее сестры, Дантес, Аркадий Россет, Вяземские, Александр Карамзин — это «свои». День спустя, 20 октября утром, Екатерина Андреевна рассказывает сыну:
«Вчера много говорили о „Современнике“. Ты мне так и не написал, получил ли его, а между тем князь Петр [Вяземский] тебе его послал… Постараюсь выслать тебе 3-й том, который недавно вышел. Все говорят, что он лучше остальных и должен вернуть популярность Пушкину. Я его еще не видела, но нам кое-что из него читали — там есть прекрасные вещи от издателя, очень милые Вяземского и неописуемая нелепица Гоголя „Нос“».Письмо от 3 ноября полно самых разнообразных новостей. Прежде всего Софья Николаевна спешит рассказать о том, что занимает все петербургское общество, «начиная с редакторов и кончая духовенством», — о «Философическом письме» Чаадаева, которое напечатано в «Телескопе». Как уже было сказано, она дает этому сочинению резко отрицательную оценку и пишет:
«Что ты скажешь о цензуре, которая все это пропустила? Пушкин очень метко сравнил ее с норовистой лошадью, которая не перепрыгнет, хоть ты ее убей, через белый платок, т. е. через некоторые запрещенные слова, например, свобода, революция и т. д., но бросится через ров, если он будет черный, и сломает себе шею. …За чаем, — продолжает она, — у нас всегда бывает несколько человек гостей, в том числе Дантес, который всегда очень забавен. Он поручил мне передать тебе привет».Три дня спустя, 6 ноября, Александр уведомляет брата:
«Одоевскому запретили издавать журнал. Наша литературная слава оказалась недолговечной, дорогой мой, наши имена были напечатаны в объявлении, и на том все кончилось. Впрочем, что касается меня, я окончательно отказался от писательской карьеры. Если я когда-нибудь и питал тайком кое-какие иллюзии насчет моего поэтического таланта, они уже давно умерли от недостатка пищи».Сообщение о том, что «Русский сборник» Одоевскому не разрешен, как уже сказано, несколько запоздало. Уверения же, что он, Александр Карамзин, навсегда отказывается от литературного поприща, наоборот, слишком поспешны. Его стихотворения под псевдонимом «А. Лаголов» в 1837 году будут напечатаны в «Современнике» (в книжках V и VII), в 1839 году выйдет в свет его повесть в стихах «Борис Ульин» и снова появятся — в «Отечественных записках» — стихи. В том же письме 6 ноября есть строки о «м-м Пушкиной». «Завтра, если это тебя интересует, — пишет Александр Карамзин, — я собираюсь завтракать у м-м Пушкиной, что я делаю каждую субботу, сопровождая это целой кучей любезностей». Эти слова можно отнести только к Наталье Николаевне, жене поэта. Никакой другой «м-м Пушкиной», даже если перелистаем все 340 страниц, мы в письмах Карамзиных не найдем. Но всего важнее здесь число, когда Александр Карамзин собрался на завтрак в дом Пушкина, — суббота 7 ноября. В эти дни в жизни Пушкина происходят трагические события…
7
4 ноября члены карамзинского кружка — Вяземские, Жуковский, Россеты,Скалон, Виельгорский, Хитрово, тетка Соллогуба Васильчикова, — получили по городской почте адресованные Пушкину анонимные письма. Во все конверты был вложен один и тот же текст — грубый пасквиль, написанный по-французски печатными буквами, составленный в форме диплома об избрании Пушкина помощником главы ордена рогоносцев. Считая, что поводом к этому послужило настойчивое ухаживание Дантеса, Пушкин вызывает его на дуэль. Встревоженный Геккерен договаривается с Пушкиным об отсрочке ее на две недели. В качестве посредника в дело вмешиваются тетка Натальи Николаевны Е. И. Загряжская, М. Ю. Виельгорский, В. А. Жуковский. Узнав о намерении Геккерена уладить конфликт таким образом, чтобы Дантес по-прежнему мог бывать в обществе Натальи Николаевны и ее сестры, Пушкин приходит в бешенство. В конспективных записках Жуковского отражено его тяжелое душевное состояние. «Его слезы», — записывает Жуковский 8 ноября… В чем же дело? Почему Карамзины не посвящают в это Андрея? Перед нами их письма от 10 ноября, от 11-го… О Пушкине нет ни слова. Что же, они не знают об этих событиях? Знают! И об анонимном дипломе, и о вызове на дуэль, об отсрочке, которую Пушкин предоставил Дантесу, о тяжелом состоянии Пушкина. Знают прежде всего потому, что Софья Николаевна в числе тех знакомых, которые получили 4 ноября гнусный пасквиль. Кроме того, Пушкин сам посвятил их в свою семейную драму — рассказал о шагах, которые он предпринял. «Зачем ты рассказал обо всем Екатерине Андреевне и Софье Николаевне? — выговаривает ему в записке Жуковский, который хлопочет, стараясь уладить конфликт. — Чего ты хочешь? Сделать не возможным то, что теперь должно кончиться для тебя самым наилучшим образом?» Жуковский требует, чтобы Пушкин сохранил вызов в тайне: тогда можно избегнуть дуэли. Он уверяет Пушкина, что об отсрочке дуэли хлопочет старый Геккерен, что Дантес ни при чем. «Это я сказал и Карамзиным, — пишет он Пушкину, — запретив им накрепко говорить о том, что слышали об тебе, и уверив их, что вам непременно надобно будет драться, если тайна теперь или даже после откроется…» Вот почему Карамзины сохраняют молчание: они делают это в интересах Пушкина. Об анонимном пасквиле Андрей Карамзин узнал от Аркадия Россета. И только после того, как Жуковский сообщил им, что опасности поединка больше нет, что Пушкин взял обратно свой вызов, мать и сестра рассказывают Андрею в письмах о том, что представляется им самым невероятным в этой истории и что занимает уже все петербургское общество, — о предложении, которое сделал Дантес Екатерине Гончаровой, сестре H. H. Пушкиной.«У нас тут скоро будет свадьба, — пишет Екатерина Андреевна 20 ноября. — Кто женится и на ком, ты ни за что не догадаешься, и я тебе не скажу, оставлю это удовольствие твоей сестре. Впрочем, ты уже, наверно, знаешь от Аркадия Россети. Это прямо невероятно — я имею в виду свадьбу, — но все возможно в этом мире всяческих невероятностей. Ну, до свидания, я немножко устала, и надо оставить листок бумаги для Софи, чтобы не лишать ее удовольствия посплетничать с тобой… Александр занимается своим туалетом, он идет на раут к княгине Белосельской, а до этого еще будет обедать у Дантеса».Отметим в скобках: княгиня Белосельская — один из самых отъявленных врагов Пушкина, падчерица графа А. X. Бенкендорфа. Впрочем, вернемся к письму.
«У меня есть еще для тебя престранная новость, — продолжает Софья Николаевна, — это свадьба, о которой тебе уже говорила мама. Не догадался? Ты хорошо знаешь обоих действующих лиц, мы нередко рассуждали с тобой о них, но никогда не говорили всерьез. Поведение молодой девицы, каким бы оно ни было компрометирующим, в сущности компрометировало другую, ибо кто же станет смотреть на посредственную живопись, когда рядом мадонна Рафаэля. А вот нашелся, оказывается, охотник до упомянутой живописи — может быть, потому, что ее легче приобрести. Отгадай! Ну, да это Дантес, этот юный и заносчивый красавец (теперь, кстати, очень богатый); он женится на Екатерине Гончаровой, и право же, вид у него такой, как будто он очень доволен; он даже словно обуреваем какой-то лихорадочной веселостью и легкомыслием. Он бывает у нас каждый вечер, так как со своей нареченной видится только по утрам у ее тетки Загряжской, — Пушкин не принимает его в своем доме, так как очень раздражен против него после того письма, о котором тебе рассказывал Аркадий (подразумевается анонимный пасквиль. — И. А.). Натали очень нервна и замкнута, и голос у нее прерывается, когда она говорит о свадьбе своей сестры. Екатерина себя не помнит от радости; по собственным ее словам, она не смеет поверить, что ее мечта осуществилась. В обществе удивляются, но так как история с письмом мало кому известна, то это сватовство объясняют более просто. И только сам Пушкин — своим волнением, своими загадочными восклицаниями, обращенными к каждому встречному, своей манерой обрывать Дантеса при встречах в обществе или демонстративно избегать его — добьется, в конце концов, что люди начнут что-то подозревать и строить свои догадки. Вяземский говорит, что он как будто обижен за свою жену из-за того, что Дантес больше за ней не ухаживает. В среду я была у Салтыковых, там и объявили об этой свадьбе, и жених с невестой принимали уже поздравления… Дантес, зная, что я тебе пишу, просит сказать, что он очень счастлив и что ты должен пожелать ему счастья».«Это — самопожертвование», — отвечал Андрей Карамзин, пораженный сообщением сестры и полагавший, что Дантес «совершил эту штуку» во сне. «Что это-великодушие или жертва?» — спрашивала императрица, желавшая знать подробности о «невероятной женитьбе Дантеса». «Неужели причиной ее явилось анонимное письмо?» — недоумевала она. Слух о предстоящем браке Дантеса привел в недоумение решительно всех, кто в продолжение многих месяцев наблюдал за отношением Дантеса к Наталье Николаевне Пушкиной. Никто не хочет верить, что он женится по своей воле: Наталья Николаевна — одна из самых красивых женщин, которые когда-либо существовали, а Екатерина Николаевна, рослая, статная и даже схожая с ней чертами, «смахивала, — как писал современник, — на иноходца или на ручку от помела». В биографической литературе о Пушкине утвердилось такое представление: Е. H. Гончарова влюблена в Дантеса, а он увлечен H. H. Пушкиной. После получения анонимного письма, когда Пушкин посылает вызов Дантесу (в ноябре), у Геккеренов возникает проект: они объяснят Пушкину, что Дантес влюблен в его свояченицу и будет просить ее руки, если Пушкин возьмет назад вызов, сохранив дело в тайне. Принято считать, что до получения анонимного пасквиля брак Дантеса с Гончаровой не проектировался, что этот проект есть следствие анонимного письма и последовавшего за ним вызова на дуэль. Наряду с этим имеются данные, опровергающие это предположение. Во второй половине октября 1836 года, то есть задолго до того, как Пушкин получил пасквиль, Сергей Львович, отец поэта, в не дошедшем до нас письме сообщал из Москвы в Варшаву дочери, Ольге Сергеевне, о предстоящем браке Е. Н. Гончаровой. 2 ноября, то есть опять же до пасквиля, на два дня раньше, Ольга Сергеевна отвечала ему: «Вы мне сообщаете новость о браке м-ль Гончаровой». Следовательно, разговоры о ее замужестве начались задолго до того, как Пушкин получил пасквиль. На это обратил внимание П. Е. Щеголев, автор исследования «Дуэль и смерть Пушкина». Но Б. В. Казанский, автор позднейших исследований о гибели Пушкина, уверен в противном. Он считает, что в переписке С. Л. Пушкина с дочерью речь шла о браке Е. Н. Гончаровой, но не с Дантесом. Действительно, имя Дантеса в письме О. С. Павлищевой не упомянуто. Однако теперь, после писем Карамзиных, вопрос о сватовстве Дантеса придется пересмотреть, ибо становится ясным, что имена Е. Н. Гончаровой и Дантеса связывали уже в начале 1836 года, до отъезда Андрея Карамзина за границу, что летом и осенью 1836 года этот роман продолжается (вспомним, что Дантес ни на шаг не отходит от Гончаровой, а внимание его приковано к Пушкиной); письма Карамзиных говорят о том, что Екатерина Гончарова задолго до получения пасквиля играла по отношению к сестре низкую роль: сперва подвизалась в роли сводни, потом выступила в роли любовницы (amante), a затем и жены. Об этом мы еще узнаем в дальнейшем. Кроме того, нам известно теперь еще одно обстоятельство, позволяющее утверждать, что еще в октябре — и тоже задолго до получения пасквиля — Наталья Николаевна отвергла Дантеса. Об этом мы узнаем из неопубликованного дневника княжны Марин Барятинской, предоставленного мне М. Г. Ашукиной-Зенгер, которая обращает внимание на важную запись. Но сперва о Марии Барятинской. Барятинские знакомы с Карамзиными и с Пушкиными. В доме Барятинских постоянно бывает Дантес. Красивую девушку, принадлежащую к одной из самых привилегированных фамилий России, интересуют балы, кавалькады, придворные празднества, светские новости. Около 24 октября 1836 года она заносит в дневник разговор, который зашел в связи со слухами о том, что Дантес намерен жениться. Барятинская заинтересована Дантесом, и родные решают выяснить эти слухи через ближайшего друга Дантеса — кавалергарда А. В. Трубецкого. «И maman, — записывает Барятинская, — узнала через Трубецкого, что его отвергла госпожа Пушкина. Может быть, поэтому он и хочет жениться. С досады! Я поблагодарю его, если он осмелится мне это предложить…» Итак, Н. Н. Пушкина отвергла Дантеса недели за три до получения Пушкиным анонимного письма. А за две недели, в начале двадцатых чисел октября, уже распространился слух, что он собирается жениться. И тогда же, в двадцатых числах, заговорили о замужестве Е. Н. Гончаровой. Иначе старик С. Л. Пушкин не мог бы узнать об этом в Москве еще в октябре и Ольга Сергеевна Павлищева не могла бы писать об этом 2 ноября из Варшавы. Кроме того, известно со слов Жуковского, что Геккерен предоставил ему какое-то «материальное доказательство», что дело, о котором идут толки, то есть предложение Дантеса свояченице Пушкина, «затеяно было еще гораздо прежде» вызова Пушкина, следовательно, до получения анонимного письма — в октябре. Таким образом, нам известно теперь: 1) что в октябре Наталья Николаевна отвергла Дантеса; 2) что в те же дни пошли слухи о замужестве Гончаровой; 3) что в это же время заговорили о женитьбе Дантеса; 4) что, по уверению Геккерена, тогда же затеялось дело о сватовстве Дантеса к свояченице Пушкина. Произошло все это в начале второй половины октября, в сравнительно короткий промежуток времени. Перечисленные события предшествуют появлению пасквиля. Становится ясным, что пасквиль — акт мести и за поступок Натальи Николаевны, роняющей Дантеса в глазах великосветского общества, и за возникший, должно быть, у Е. И. Загряжской, тетки Гончаровых, проект брака Екатерины с Дантесом, которого, по мнению родных Гончаровой, обязывают к этому понятия чести. Как бы то ни было, эти факты должны изменить отношение исследователей — не к содержанию пасквиля, а, как выражаются юристы, к причинной связи событий. Уместно будет напомнить: еще в 1929 году профессор Л. П. Гроссман писал, что Дантеса вынуждали к женитьбе отношения с Екатериной Гончаровой. П. Е. Щеголев отклонил тогда эту версию, — как видим, без достаточных оснований. Вернемся к письму Карамзиной. Из него можно понять, что Екатерина Гончарова не могла скрыть своего отношения к Дантесу (вспомним слова о поведении, «компрометирующем» эту девицу). Однако ни у кого из Карамзиных не возникало мысли о возможности брака, — сама Екатерина боится поверить в это. Поступок Дантеса вызывает всеобщее недоумение. Об анонимном письме известно пока немногим, друзья держат его в секрете. Поэтому, пишет Карамзина, великосветские сплетни объясняют это «более просто». Чем же они объясняют это? Объясняют по-разному. Многие уверены, что это Пушкин принудил Дантеса жениться, когда узнал, что у него с Гончаровой роман. Другие считают, что Дантес делает это для спасения чести Пушкиной, что это «самопожертвование». И только сам Пушкин своими загадочными восклицаниями и манерой обращения с Дантесом наведет всех на мысль, беспокоится Софья Николаевна, что начнут подозревать правду, поймут, что здесь надо подозревать нечто более сложное, искать другую причину. И потому именно, что Карамзиным известна связь неожиданной «влюбленности» Дантеса в Е. Н. Гончарову с анонимным письмом, их беспокоит, что общество может догадаться об этом. Отсюда и загадочный, иносказательный тон письма к Андрею, и трехнедельное молчание; даже за границу Андрею они сообщают об этой истории только после того, как осложнение считается улаженным и Пушкин взял обратно свой вызов. Наталья Николаевна оскорблена. С помощью ее сестры Дантес нанес ущерб ее самолюбию и престижу, унизил ее, поставил в смешное положение, сделав ее темой великосветских пересудов. Побуждаемая обидой и ревностью, она рассказывает Пушкину о том, что нашептывал ей Геккерен, уговаривая ее изменить своему долгу, бросить мужа, уехать с Дантесом за границу. Именно в этот момент, когда Дантес посватался к ее сестре, она и раскрыла мужу всю гнусность поведения обоих Геккеренов. Понятно, почему она «нервна и замкнута и голос у нее прерывается, когда она говорит о свадьбе своей сестры». Понятно, почему Пушкин еще более, чем раньше, раздражен против Геккеренов, отказывается принимать у себя Дантеса и Е. Н. Гончарову, заявляет, что между домом Пушкина и домом Геккерена не может быть ничего общего, почему он избегает Дантеса и говорит ему резкости, почему, наконец, производит впечатление, словно он обижен за жену. Не обижен, конечно, а глубоко уязвлен. Профессор Б. Б. Казанский прав: вся эта история со сватовством Дантеса к Екатерине Гончаровой изменяет в глазах Пушкина отношение Дантеса к Наталье Николаевне, делает его оскорбительным. Но светское понятие приличий и вопросов чести таково, что Карамзины по-прежнему сохраняют нейтралитет: продолжая относиться дружески к Пушкину, они в то же время помогают свиданиям Дантеса с Екатериной, которые в доме Пушкиных встречаться уже не могут. Поведение Пушкина Софья Николаевна описывает на основании собственных впечатлений. После 4 ноября Пушкин, как мы говорили, продолжает бывать у них. 16-го, по случаю дня рождения Екатерины Андреевны, он приглашен к ним на обед, во время которого тихо, скороговоркой поручает сидящему около него Соллогубу условиться с виконтом д’Аршиаком, родственником и секундантом Дантеса, об условиях дуэли — двухнедельная отсрочка кончилась. В одиннадцать часов вечера — гости уже разошлись — Карамзины едут на раут к австрийскому посланнику Фикельмону. По случаю смерти низложенного Июльской революцией французского короля Карла X объявлен придворный траур, и все 400 человек, приглашенные в австрийское посольство, в черном. Одна Е. Н. Гончарова выделяется среди остальных гостей белым платьем, в котором она явилась по праву невесты. С нею любезничает Дантес. Пушкин приехал один, без жены, запретил Екатерине Николаевне разговаривать с Дантесом, сказал ему самому несколько более чем резких слов. На другой день, 17 ноября, на балу у Салтыковых (Софья Николаевна была на этом балу) объявлено о предстоящей свадьбе Дантеса. Пушкин не верит, предлагает Соллогубу биться об заклад, что свадьбы не будет. Возможно, — Пушкин не знает этого! — вопрос о свадьбе решен окончательно не им и не Дантесом. Есть основания думать, что в дело вмешался царь. Эту гипотезу высказал в 1963 году пушкинист М. И. Яшин. И в том же году стала известна книга «Сон юности», — вышедшие в Париже мемуары королевы вюртембергской Ольги Николаевны, дочери Николая I. Написанные в начале 1840-х годов по-французски, они увидели свет в 1955 году в переводе на немецкий язык. А спустя восемь лет с немецкого издания был сделан перевод русский. Нет сомнения, что в основу этих записок вюртембергская королева положила свои дневники, ибо строится изложение по датам — день за днем, год за годом. Известно, что сыновья и дочери Николая I вели дневники с детских лет. И только обращение мемуаристки к дневниковым записям способно объяснить нам, каким образом Ольга Николаевна могла описать не только туалеты свои, но и блюда, которые подавались царской семье в России и за границей. Вообще записки ее строго фактичны, — пусть самые факты часто оказываются малозначительными. В год смерти Пушкина Ольге Николаевне было пятнадцать лет. Тем не менее, свидетельство ее, относящееся к Пушкину и к царю, принять во внимание следует. Немецкий, а вслед за ним и русский перевод ее мемуаров содержит фразу, не оставляющую сомнений в том, что к женитьбе Дантеса на Е. Н. Гончаровой причастен Николай I. «Папа ничего не упустил, что могло его (Пушкина) успокоить, — пишет вюртембергская королева. — Бенкендорфу было поручено отыскать автора анонимных писем, и Дантес должен был жениться на младшей сестре г-жи Пушкиной, довольно незначительной персоне». В русском переводе сказано решительнее: «А Дантесу было приказано жениться на младшей сестре Натали Пушкиной, довольно заурядной особе». Живущий во Франции правнук А. С. Пушкина Г. М. Воронцов-Вельяминов сверил текст переводов с оригиналом записок, который хранится в Штутгартском государственном архиве. Переводы оказались неточными. Вот что пишет дочь императора. «Воздух был заряжен грозой. Ходили анонимные письма, обвиняющие красавицу Пушкину, жену поэта, в том, что она позволяет Дантесу ухаживать за ней. Негритянская кровь Пушкина вскипела. Папа, который проявлял к нему интерес, как к славе России, и желал добра его жене, столь же доброй, как и красивой, приложил все усилия к тому, чтобы его успокоить. Бенкендорфу было поручено предпринять поиски автора писем. Друзья нашли только одно средство, чтобы обезоружить подозрения. Дантес должен был жениться на младшей сестре г-жи Пушкиной, довольно мало интересной особе». Извиним автору маленькую неточность: Екатерина была старшей сестрой, а не младшей. А теперь обратим внимание на фразу: «приложил все усилия, чтобы его успокоить». Эта фраза показывает, что уточненный перевод не опровергает гипотезу М. И. Яшина (которую я продолжаю считать убедительной). Хоть и с меньшей долей уверенности, мы вправе считать, что на исход ноябрьского конфликта повлиял царь. Да и странно было бы, если б он не слышал ни о вызове Пушкина, ни об усилиях Жуковского, Е. И. Загряжской и Геккерена уладить дело без поединка. А раз знал, то так или иначе должен был проявить свое отношение к событиям. О том, что он поручил Бенкендорфу отыскать автора писем, мы знаем из другого источника. Стало быть, в этом Ольга Николаевна не ошибается. Ну а если царь считает «средство друзей» — их план женитьбы — приемлемым, этот план для Дантеса становится обязательным. Записки Ольги Николаевны свидетельствуют об интересе Николая к этому делу и дают основание угадывать его влияние на семейные дела Пушкина уже на этом этапе. Кстати, в тех же записках Ольга Николаевна приводит убедительнейший пример подобного рода вмешательства царской семьи в брачные дела своих подданных. Восхищаясь красотой Авроры Карловны Стьерньевард (Шернваль, той самой, имя которой не раз вспоминают в своей переписке Карамзины), Ольга Николаевна пишет: «Поль Демидов, богатый, но несимпатичный человек, хотел на ней жениться. Два раза она отказала ему, но это не смущало его, и он продолжал добиваться ее руки. Только после того, как мама поговорила с ней, она сдалась… Во втором браке она была замужем за Андреем Карамзиным, на этот раз по любви». Влиять на личные дела, решать судьбы своих приближенных, венчать их, не считаясь с их собственными желаниями, было в обычае и у Николая I, и у супруги его. И мы понимаем теперь, что Николай приказал Дантесу жениться, дабы избегнуть скандала, которым угрожал Пушкин Дантесу и Геккерену с того самого дня, когда пришел к заключению, что анонимные письма исходят из голландского посольства на Невском. При этом следует помнить, что в лице Екатерины Гончаровой была посрамлена честь фрейлины императорского двора. И коль скоро повод к скандалу в обоих случаях подал Дантес, этот двойной скандал надо было замять самым решительным образом. Мы знаем, что, получив от Пушкина вызов, Дантес соглашался жениться на Екатерине Николаевне Гончаровой при том лишь условии, что Пушкин не станет приписывать его сватовство «соображениям, недостойным благородного человека». И Пушкин дал ему требуемое заверение, прибавив на словах, переданных через секунданта, что он «признал и готов признать, что г. Дантес действовал, как честный человек». Пушкин считает, что выиграл он: он заставил Дантеса жениться. Но вот мы допустили, что к этому делу имеет отношение царь, — и все выглядит по-иному. Выходит, что Пушкин вынудил не Дантеса. Своим поведением — решимостью защищать свою честь до конца, он, не подозревая того, вынудил царя предупредить надвигающийся общественный скандал и дискредитацию Геккерена. Царь, в свою очередь, одобряет «план друзей» — женить Дантеса на свояченице Пушкина. Решение принято сразу: иначе императрица не удивлялась бы так по поводу «невероятной женитьбы» и не решала бы для себя вопрос, что представляет собой этот акт — проявление великодушия или стремление к жертве. Очевидно, в первый момент об этом знают только двое — император и Бенкендорф. Когда происходит все это? Если о свадьбе Дантеса объявлено 17-го числа, следовательно, о решении царя Дантес узнал раньше. Пушкин не догадывается об этом: иначе он не давал бы Дантесу успокоительных заверений. А главное — почел бы вмешательство царя и шефа жандармов без его ведома в вопросы собственной чести и в улаживание своих семейных дел глубоко для себя оскорбительным. Так представляется мне соотношение сил в этом конфликте в ноябре 1836 года.
8
Взяв обратно свой вызов, Пушкин пишет письмо Геккерену, сыгравшее такую важную роль в дальнейшем ходе событий. 21 ноября он прочел его Соллогубу, сказав: «…с сыном уже покончено, теперь вы мне старичка подавайте». «Тут он прочитал мне, — говорит Соллогуб, — всем известное письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что тогда я понял, что он действительно африканского происхождения». Желая предотвратить новый конфликт, Соллогуб рассказал об этом Жуковскому. Вечером, у Карамзиных, Жуковский успокоил его: дело улажено, письмо отослано не будет. Тогда же, 21 ноября, Пушкин написал Бенкендорфу. Он утверждал: сочинитель анонимного письма — Геккерен, о чем он, Пушкин, считает своей обязанностью довести до сведения правительства и общества. Бенкендорф доложил императору. Опасаясь компрометации европейского дипломата, Николай принял Пушкина. Это было в понедельник, 23 ноября. В тот вечер Софья Карамзина танцевала у саксонского посланника Люцероде с конногвардейцем Головиным, с конно-артиллеристом Огаревым, с конно-гренадером Хрущевым,«а мазурку с Соллогубом, у которого на этот раз была тема для разговора со мной — неистовства Пушкина и внезапная влюбленность Дантеса в свою нареченную… Соллогуб все еще делает вид, что презирает светское общество, и с большим жаром обличает его ничтожество, чем доказывает, что неравнодушен к нему. Он ухаживает за м-м Пушкиной и многим нравится в свете…»Об этом мы узнаем из письма от 28 ноября. Когда в начале 1836 года Пушкину передали разговор Соллогуба с Натальей Николаевной, разговор, тон которого показался ему недостаточно уважительным, Пушкин послал вызов, но помирился, удовлетворившись объяснениями Соллогуба. Он не искал поединка, а просто исполнил принятые в ту пору формальности. Отношения восстановились. В ноябре Пушкин избрал Соллогуба посредником между собой и Дантесом. В самом ухаживании за Натальей Николаевной Пушкин ничего предосудительного не видел, если только внимание к ней и восхищение ее красотой не выходили из границ безусловного уважения к ней и к чести имени, которое она носила. В ноябре Соллогуб уже понимал это. Впрочем, новость, что он «ухаживает за м-м Пушкиной», относится, конечно, не к тому вечеру, когда Софи Карамзина танцует с ним в доме саксонского посланника, а, вероятно, к осенним месяцам 1836 года. Вряд ли наблюдение это могло быть сделано через день после того, как Пушкин прочел Соллогубу свое письмо, обращенное к посланнику Геккерену. В следующих письмах Карамзиных имени Пушкина нет, однажды упоминается Дантес. 29 декабря. Почерк Софьи Николаевны. Для начала она спешит рассказать о Дантесе. Свадьба назначена на 10 января. Ее братья поражены изяществом квартиры, приготовляемой для новобрачных, и обилием столового серебра. Дантес говорит о своей невесте «с явным чувством удовлетворения», отец, Геккерен, балует ее.
«С другой стороны, Пушкин по-прежнему ведет себя до крайности глупо и нелепо; выражение лица у него как у тигра, он скрежещет зубами всякий раз, как заговаривает об этой свадьбе, что делает весьма охотно, и очень рад, если находит нового слушателя. Слышал бы ты, с какой готовностью он рассказывал сестре Екатерине (Мещерской. — И. А.) обо всех темных и наполовину воображаемых подробностях этой таинственной истории; казалось, он рассказывает ей драму или новеллу, не имеющую никакого отношения к нему самому. Он до сих пор утверждает, что не позволит жене присутствовать на свадьбе и не будет принимать у себя ее сестру после замужества. Вчера я внушала Натали, чтобы она заставила его отказаться от этого нелепого решения, которое, конечно, вызовет еще новые пересуды. Она, со своей стороны, ведет себя не слишком прямодушно: в присутствии мужа не кланяется Дантесу и даже не смотрит на него, а когда мужа нет, опять принимается за прежнее кокетство — потупленные глазки, рассеянность в разговоре, замешательство, а он немедленно усаживается против нее, бросает на нее долгие взгляды и, кажется, совсем забывает о своей невесте, которая меняется в лице и мучается ревностью. Одним словом, все время разыгрывается какая-то комедия, суть которой никому толком неизвестна… А пока что бедный Дантес перенес тяжелую болезнь — воспаление в боку, вид у него ужасный, он очень изменился. Третьего дня он появился наконец у Мещерских, похудевший, бледный, очень интересный. Со всеми нами он был необыкновенно нежен, как бывает, когда человек очень взволнован или несчастен. На следующий день он пришел опять, на этот раз со своей нареченной, а что хуже всего — с Пушкиными, и снова начались гримасы ненависти и поэтического гнева; мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер во гневе, Пушкин прерывая свое угрюмое и стеснительное для всех молчание только редкими, отрывистыми, ироническими восклицаниями и, время от времени, демоническим хохотом. Ах, смею тебя уверить, он был просто смешон!.. Для разнообразия скажу тебе, что только что вышел 4-й „Современник“, в нем напечатан новый роман Пушкина „Капитанская дочка“, говорят, восхитительный. Вчера я была с м-м Пушкиной на балу у Салтыковых и веселилась гораздо больше, чем на придворных балах».Несмотря на то что Софья Николаевна стремится изобразить поведение Пушкина как нелепое, нельзя без волнения, без какого-то внутреннего содрогания читать о его душевных страданиях. Сестра Карамзиной, Екатерина Николаевна Мещерская, вернувшаяся из деревни после долгого отсутствия, была поражена лихорадочным состоянием Пушкина «и какими-то судорожными движениями, которые начинались в его лице и во всем теле при появлении будущего его убийцы». Графиня Наталья Викторовна Строганова говорила, что в те дни у него был такой устрашающий вид, что, будь она его женой, она не решилась бы вернуться с ним домой. Вера Федоровна Вяземская еще осенью отказалась принимать у себя Дантеса одновременно с Пушкиными, предложила Дантесу не входить в дом, если у подъезда стоят экипажи. Тем самым этот дом был для Дантеса закрыт. «После этого, — писал биограф Бартенев со слов Вяземской, — …свидания его с Пушкиной происходили уже у Карамзиных». Софья Николаевна осуждает Пушкина, осуждает Наталью Николаевну. Дантеса она не осуждает: Дантес «несчастный». Она вмешивается в семейные отношения, дружески внушает Наталье Николаевне, чтобы та подействовала на Пушкина. Для нее самой многое в этой истории непонятно: «…таинственная история, — пишет она, — комедия, суть которой никому толком не известна». Тем не менее она осуждает Пушкина, жалея Дантеса. А ведь Пушкин-то — друг им, считающий их лучшими своими друзьями, ближе которых у него действительно пет никого в Петербурге! Это двадцатилетние отношения! Но мы видим, что в этом конфликте Софья Николаевна, не думая о последствиях, снова разделяет «общее мнение» — мнение света, против которого всегда восставал Пушкин, мнение всех этих Захаржевских, Шевичей, Белосельских, Клейнмихелей, Сухозанетов, Барятинских… Письмо ее от 9 января 1837 года посвящено предстоящему бракосочетанию Дантеса: «Завтра, в воскресенье, будет происходить эта странная свадьба». Они, Карамзины, собираются присутствовать во время обряда в католической церкви св. Екатерины. А братья Софьи, Александр и Вольдемар, будут шаферами невесты.
«Пушкин же, — продолжает она, — завтра проиграет не одно пари, так как он со многими бился об заклад, что эта свадьба — одно притворство и никогда не состоится. Очень все это странно и необъяснимо и вряд ли приятно для Дантеса. Вид у него отнюдь не влюбленный. Но Екатерина счастлива — гораздо более, чем он».Следующее письмо, датированное 12 января 1837 года, начинается с рассказа о впечатлении, которое произвело на всех последнее письмо Андрея Карамзина из Парижа:
«Жуковский, Тургенев, Виельгорский, Пушкин захотели послушать твое письмо и отозвались о нем все одинаково — нашли, что в нем отражается высокий ум и яркое, живое воображение».Предлагая после этого перейти к новостям и «посплетничать», Софья Николаевна пишет:
«Итак, свадьба Дантеса состоялась в воскресенье. Я присутствовала при туалете м-ль Гончаровой, но ее злая тетка Загряжская устроила мне сцену, когда дамы сказали ей, что я еду с ними в церковь. Возможно, из самых лучших побуждений — от страха перед излишним любопытством, но она излила на меня всю желчь, которая у нее накопилась за целую неделю от разговоров с разными нескромными доброжелателями».Софья Николаевна «чуть не заплакала».
«Это было не очень приятно для меня, да вдобавок и очень досадно — я теряла надежду видеть вблизи лица главных актеров в заключительной сцене этой таинственной драмы».В этих строках поражает неприкрытое любопытство и совершенное непонимание смысла происходящих событий. Софья Николаевна полагает наивно, что свадьба — заключительная сцена «таинственной драмы». Она говорит, конечно, о «драме» Дантеса. Но даже и в его судьбе это еще не финал! На следующий день после свадьбы Дантес с женой приехал к Карамзиным. Софья Николаевна отдала им визит. Она восхищена красотой комнат, комфортом и пишет, что не видела более веселых и безмятежных лиц, чем у них:
«…я говорю о всех троих, ибо отец является неотделимым участником этой семейной драмы. Не может быть, — восклицает она, — чтобы с их стороны это было притворством, для этого нужна сверхчеловеческая скрытность и вдобавок такую игру им бы пришлось продолжать всю жизнь. Непонятно!»При всем этом она, конечно, очень наивна: восхищенная Дантесом, в любезной улыбке она видит выражение счастья, его плоские шутки кажутся ей забавными, она не допускает в нем сверхчеловеческой скрытности, но не догадывается о циническом спокойствии карьериста. 16 января 1837 года, сидя на гауптвахте петербургского ордонансгауза, Александр Карамзин решает приняться за большое письмо. Поговорив о ненавистном начальнике Ганичеве, упрятавшем его в дежурную комнату под недельный арест, он переходит к новостям — литературным и светским.
«Неделю тому назад сыграли мы свадьбу барона Эккерна с Гончаровой, — повествует он по-русски. — Я был шафером Гончаровой. На другой день я у них завтракал. Их элегантный интерьер очень мне понравился. Тому 2 дня был у старика Строганова (посаженый отец невесты) свадебный обед с отличными винами. Таким образом кончился сей роман a la Balzac, к большой досаде с. — петербургских сплетников и сплетниц… Надо тебе сказать, — продолжает он, перевернув страницу, — что я дал несколько стихотворений моих Вяземскому для его Альманаха и Одоевскому, который собирает провизии для „Прибавления к Русскому инвалиду“, которое купил Плюшар от Воейкова и которое сделалось или должно сделаться порядочною литературною газетой. Формат ее огромен, и она выходит еженедельно».В четвертом томе «Современника» появилось извещение о том, что в начале 1837 года должен выйти в свет альманах «Старина и новизна», задуманный князем Вяземским. Наряду с письмами царевича Алексея, Екатерины II, H. M. Карамзина, отрывками из записок И. И. Дмитриева и графа Ростопчина, историческими анекдотами о принце Бироне Вяземский собирался печатать в нем стихи, отрывки из повестей и писем о русской литературе. Вначале он собирался назвать альманах «Старина». Слово «новизна» добавлено по совету Пушкина. По причинам, нам неизвестным, альманах в свет не вышел. Не состоялся, как было говорено, и «Русский сборник» Одоевского и Краевского. Тогда они заключили договор на право издания «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду», которые перешли к издателю Плюшару от А. Ф. Воейкова. Новым редактором «Прибавлений» стал А. А. Краевский. Но фактическим литературным руководителем, как установлено в последнее время, был В. Ф. Одоевский. В числе сотрудников «Литературных прибавлений» значился и Александр Николаевич Карамзин. Порассказав о разных незначительных новостях, Александр добавляет на последней странице:
«У нас бывают умные люди — Вьельгорский, Тургенев, Жуковский, Пушкин и пр. Иногда они очаровательны, но иной раз так скучны, как и нашему брату дураку не всегда удается… Но довольно я наболтал, — пишет он в заключение, — пора закусить да и всхрапе».Утром 27 января Екатерина Андреевна продолжает письмо, начатое накануне:
«Среда 10 часов. Лиза и я только одни встали в целом доме, мой дорогой друг. Софи и Сашка спят еще после бала у графини Разумовской…»

Страница дописана. В доме встали. Софья Николаевна начинает новую. В прошлый четверг они были приглашены к Фикельмонам, где собралось 500 человек.Клочки письма Пушкина к барону Луи Геккерену, разорванного самим поэтом
«А в воскресенье был большой вечер у Екатерины (Мещерской. — И. А.), где присутствовали Пушкины, Геккерены, которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию, что весьма нравится публике. Пушкин скрежещет зубами, и на лице у него появляется его тигровое выражение. Натали опускает глаза и краснеет под жарким долгим взглядом своего beau frère.[4] Это начинает становиться безнравственным сверх всякой меры. Екатерина ревниво направляет лорнет на эту пару и, чтобы никто уж никто не оставался без роли в этой драме, Александрина отчаянно кокетничает с Пушкиным, который, по-видимому, серьезно в нее влюблен; жену свою он ревнует из принципа, а свою belle soeur[5] — из чувства. В общем все это очень странно. Наш дядя Вяземский говорит, что он закрывает лицо свое и отвращает его от всего семейство Пушкиных…»Эти строки пишутся в тот час, когда Пушкин в кондитерской Вольфа ожидает секунданта — Данзаса, который поехал за пистолетами…
9
И вот письмо от матери, от Екатерины Андреевны. По-русски, — французский язык не передал бы так значительности его содержания…

Письмо E. А. Карамзиной к Андрею Карамзину от 30 января 1837 года с сообщением о гибели Пушкина
«Суббота. 30 января 1837 г. Петербург. Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестию; закатилась звезда светлая, Россия потеряла Пушкина? Он дрался в середу на дуели с Дантезом, и он прострелил его насквозь; Пушкин бессмертный жил два дни, а вчерась, в пятницу, отлетел от нас; я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо когда узнаешь, что Арнд с первой минуты сказал, что никакой надежды нет! Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также, а потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: перекрестите еще; тогда я опять, пожавши еще раз его руку, я уже его перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке: он ее тихонько поцеловал, и опять махнул. Он был бледен как полотно, но очень хорош: спокойствие выражалось на его прекрасном лице. Других подробностей не хочу писать, отчего и почему это великое несчастие случилось: оне мне противны; Сонюшка тебе их опишет. А мне жаль тебя; я знаю и чувствую, сколько тебя эта весть огорчит: потеря для России, но еще особенно наша; он был жаркий почитатель твоего отца и наш неизменный друг 20 лет. Эти дуэли ужасны, — продолжает она, переходя на французский язык, — и что ими можно доказать? Пушкина больше нет в живых, а те, кто остались, через два года и не вспомнят об этой истории. Да сохранит тебя небо от такого шага, да удержит тебя от него твое сердце и твой разум. Прижимаю тебя к моему скорбному сердцу, сожалея, что это горе коснулось тебя…»Софья Николаевна продолжает:
«А я так легко говорила тебе в последнюю среду об этой печальной драме, в тот день и даже в тот час, когда совершалась такая ужасная развязка. Бедный, бедный Пушкин! Как он должен был страдать все три месяца после получения этого гнусного анонимного письма, которое послужило причиной, по крайней мере явной причиной, несчастья, столь страшного. Я не могу тебе сказать, что именно вызвало эту дуэль, которую женитьба Дантеса, казалось, делала невозможной, и никто ничего не знает. Думают, что раздражение Пушкина дошло уже до предела еще в прошлую субботу, когда на балу у Воронцовых он видел, как жена его разговаривает, смеется и вальсирует с Дантесом, а эта неосторожная не побоялась снова встретиться с ним в воскресенье у Мещерских и в понедельник у Вяземских. Уезжая оттуда, Пушкин сказал моей тетке: „он не знает, что его ждет дома“. Он подразумевал свое письмо к отцу Геккерену, оскорбительное сверх всякой меры, в котором он называл его „старой сводней“ (тот действительно играл эту роль), а его сына презренным трусом; он обвинял Дантеса в том, что даже после своей женитьбы он осмеливается обращаться к м-м Пушкиной со своими казарменными остротами и гнусными объяснениями в любви, и он грозил публично оскорбить его на балу, если письменного оскорбления ему недостаточно. Тогда Дантес послал к нему в качестве своего секунданта некоего д’Аршиака из французского посольства, чтобы передать ему вызов. Это было во вторник утром, а вечером на балу у графини Разумовской я видела Пушкина и последний раз; он был спокоен, смеялся, разговаривал, шутил; он как-то очень крепко пожал мне руку, но я тогда не обратила на это внимания. В среду утром он поехал к своему товарищу по лицею Данзасу, чтобы пригласить его себе в секунданты, встретил его на улице, посадил к себе в сани, тут же объяснил ему, в чем дело, и в пятом часу они уже отправились на место поединка — на Парголовскую дорогу возле имения Одоевских. Там, говорят, Пушкин проявил величайшее спокойствие и энергию. Дантес стрелял первым и ранил его в середину тела; он упал, но когда Дантес бросился, чтобы поддержать его, он закричал: „вернитесь на место, мой выстрел!“ Его приподняли и поддерживали; так как пистолет выпал у него из руки на снег, Данзас подал ему другой. Он долго целился, пуля пробила руку Дантеса, но только мягкую часть, и остановилась против желудка — пуговица на мундире предохранила его, и он получил только легкую контузию в грудь, но в первую минуту он зашатался и упал, тогда Пушкин подбросил пистолет кверху и закричал: браво! Потом, видя, что Дантес поднялся и идет, он сказал: „А, значит, поединок наш не окончен“. Он был окончен, но он-то думал, что ранен только в бедро. По пути домой тряска в карете вызвала у него сильные боли в животе. Тогда он сказал Данзасу: „Кажется, это серьезно. Послушай: если Арендт найдет мою рану смертельной, ты мне это скажешь. Меня не испугаешь. Я жить не хочу“. Дома он увидел жену и сказал ей: как я рад, что еще вижу тебя и могу обнять. Что бы ни случилось, ты — ни в чем не виновата и не должна упрекать себя, моя милая! Арендт сразу объявил, что рана безнадежна, так как перебита большая артерия и вены, кровь излилась внутрь и поранены кишки. Пушкин выслушал этот приговор с, невозмутимым спокойствием, с улыбкой. Он причастился, всех простил: он был в памяти до последней минуты и с ясным сознанием наблюдал за угасанием своей прекрасной жизни. От государя он получил полное участия письмо, в котором выражено пожелание, чтобы он умер, как христианин, и не тревожился о судьбе жены и детей, ибо заботу о них государь берет на себя. Пушкин недолго страдал; все время он был неизменно ласков со своей бедной женой. За 5 минут до смерти он сказал врачу: „Что, кажется, жизнь кончается?“ Без агонии закрыл он глаза, и я не знаю ничего прекраснее его лица после смерти — чело, исполненное мира и покоя, задумчивое и вдохновенное, и улыбающиеся губы. Я никогда не видела у мертвого такого ясного, утешительного, поэтического облика. Его несчастная жена в ужасном состоянии, почти невменяема; это понятно. Страшно о ней думать. Прощай, дорогой Андре. Нежно люблю тебя.О том, что Пушкин пожелал перед смертью проститься с Е. А. Карамзиной, было известно и прежде — со слов тех, кто находился возле него. Но в собственном ее рассказе, исполненном высокой простоты и строгости, Пушкинпредстает в таком бесконечном величин, что по силе и благородству чувств, которые оно порождает, это скромное сообщение следует, пожалуй, отнести к самым замечательным документам пушкинской биографии. Какая живая минута это письмо! И как хороша здесь каждая фраза — стиль Карамзина: «я имела горькую сладость проститься…» Письмо Софьи Николаевны не содержит новых, неизвестных фактов. О дуэли и последних днях Пушкина она пишет со слов д’Аршиака, Данзаса, Вяземских, Тургенева, П. И. Мещерского… После того как Пушкин пожал ей руку на балу у графини Разумовской, она увидела его снова только в гробу. Но ее описание воссоздает события этих последних дней и заставляет заново их пережить. Софья Николаевна недоумевает: что именно вызвало эту дуэль, какой поступок Дантеса оказался последним, побудившим Пушкина достать из письменного стола то письмо к Геккерену, которое слышал в ноябре Соллогуб, внести в его текст новые оскорбления и отослать в голландское посольство? Считалось, что это письмо написано и отослано 26 января. Б. В. Казанский доказывает — 25-го. Слова Софьи Николаевны Карамзиной подтверждают это предположение. Тем самым хронология последних трех дней жизни Пушкина выяснена уже окончательно. П. А. Вяземский, видимо со слов д’Аршиака, передавал потом фразу Пушкина, сказанную за час до поединка: «С начала этого дела я вздохнул свободно только в ту минуту, когда именно написал это письмо». Так и по рассказу Софьи Николаевны Карамзиной: в последний вечер перед дуэлью Пушкин смеялся, разговаривал, шутил. Есть в письме и другие подробности, которые дополнят общую картину гибели Пушкина. Пользуясь отъездом д’Аршиака, который в связи с участием в дуэли должен вернуться во Францию, Екатерина Андреевна пишет сыну коротенькую записочку:Софи».
«Понедельник. 1 февраля 1837. 11 часов вечера. Сейчас, когда я пишу тебе эти строчки, в гостиной у нас полно народу… Тургенев передаст эту записку д’Аршиаку, которого после истории с бедным Пушкиным заставили уехать — его отсылают в качестве курьера. Если ты зайдешь к нему, то сможешь узнать подробности об этой роковой дуэли. Он привезет тебе маленькую книжечку — новое издание Онегина, по-моему, очень изящное; думаю, что тебе приятно будет сейчас получить его».На следующий день Екатерина Андреевна пишет обстоятельное письмо:
«Вторник. 2 февраля 1837. Петербург. 1 час дня. Вчера было отпевание бедного дорогого Пушкина: его останки повезут хоронить в монастырь около их имения, в Псковской губернии, где похоронены все Ганнибалы; ему хотелось быть похороненным там же. Государь вел себя по отношению к нему и ко всей его семье, как ангел. Пушкин после истории со своей первой дуэлью обещал государю не драться больше ни под каким предлогом и теперь, будучи смертельно ранен, послал доброго Жуковского просить прощения у государя в том, что не сдержал слова. Государь ответил ему письмом в таких выражениях: „Если судьба нас уже более в сем мире не сведет, то прими мое последнее и совершенное прощение и последний совет: умереть христианином! Что касается до жены и детей твоих, ты можешь быть спокоен, я беру на себя устроить их судьбу“. Когда В. А. Ж[уковский] просил г[осуда]ря во второй раз быть секретарем его для Пушкина, как он был для Карамзина, г[осуда]рь призвал В. А. и сказал ему: „Послушай, братец, я все сделаю для П[ушкина], что могу, но писать, как к Карам[зину], не стану: П[ушкина] мы насилу заставили умереть, как христианина, а Карам[зин] жил и умер, как ангел“. Есть ли что-нибудь более справедливое, более деликатное, более благородное по мысли и по чувству, чем это различие, которое он сделал между обоими. Мне хотелось самой передать тебе все подробности, хоть я боюсь, что не сумею сделать это так хорошо, как Софи, но сейчас я только об этом и думаю».Сообщение о том, что Пушкин после истории со своей первой дуэлью обещал царю «не драться больше ни под каким предлогом» и, раненный, послал Жуковского просить прощения за то, что не сдержал слова, — сообщение важное. До сих пор было известно из писем А. И. Тургенева и Вяземских, что Пушкин просил у царя прощения своему секунданту Данзасу и себе самому. Но в чем конкретно заключалась эта просьба, за что просил Пушкин прощения — не расшифровывалось. Биографу Пушкина Бартеневу Вяземский рассказывал много лет спустя, что после свадьбы Дантеса Николай I, «встретив где-то Пушкина, взял с пего слово, что, если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав ему знать наперед», что Пушкин, связанный словом, накануне дуэли собирался известить его о своем решении через Бенкендорфа, написал Бенкендорфу письмо — и не отослал. И будто бы это письмо было найдено в кармане сюртука, в котором Пушкин стрелялся, и хранилось потом у Миллера, секретаря Бенкендорфа. На самом деле письмо, адресованное Бенкендорфу и бранившееся у Миллера, Пушкин писал не в январе, а в ноябре и тогда же отослал его. Поэтому-то оно и хранилось у Миллера, в кармане сюртука в день дуэли оно быть не могло. Из-за этой неточности рассказ Вяземского подвергался сомнению. Между тем он совпадает со свидетельством Е. А. Карамзиной, писанным через три дня после дуэли. И оба, Карамзина и Вяземский, говорят об одном — что царь связал Пушкина обещанием не драться. Мы знаем, что, после того как ноябрьское столкновение было улажено, Пушкин сообщил царю через Бенкендорфа о своих подозрениях относительно Геккерена и о том, что он, Пушкин, будет искать удовлетворения. 23 ноября, как уже было сказано, царь вызвал Пушкина. Кроме того, мы знаем, что в январе, за три дня до поединка с Дантесом, Пушкин вторично разговаривал с царем на эти же темы. Об этом известно со слов самого царя, записанных сановником Корфом. Теперь выясняется, что во время одного из этих свиданий царь взял с Пушкина обещание не драться. Вяземский говорит: «не дав ему знать наперед»; Карамзина: «не драться ни под каким предлогом». В обоих случаях смысл остается тот же. Может возникнуть вопрос: зачем понадобилось царю брать с Пушкина слово? Уж не собирался ли он в самом деле уберечь поэта от поединка? Для того, чтобы правильно понять смысл этой царской «заботы», постараемся представить себе это свидание, как реконструирует его замечательный пушкинист профессор Сергей Михайлович Бонди. Пушкин во дворце, в кабинете царя. Он повторяет то, о чем уже сообщил Бенкендорфу: анонимный диплом писан Геккереном и он, Пушкин, собирается объявить об этом во всеуслышание. Он не ищет защиты: он предупреждает, что защищать свою честь будет сам и не посчитается с дипломатическими привилегиями Геккерена. Что может царь ответить на это? Грозить? Угрозами Пушкина не напугаешь: Пушкин — человек бесстрашный; он уже не побоялся однажды заявить царю, что если бы 14 декабря 1825 года оказался в Петербурге, то вышел бы с заговорщиками на площадь. Спорить с ним? Но Пушкин все равно останется при своем. Лучше всего дать ему заверение, что будут приняты меры, что не следует предпринимать ничего, не посоветовавшись с ним, с Николаем («не дав знать наперед»), и уж во всяком случае не доводить дело до поединка («не драться ни под каким предлогом»). «Дай мне слово, — говорит царь, — ты же мне веришь, Пушкин!» Несомненно, он должен был тогда сказать Пушкину что-нибудь в этом роде. Взяв с Пушкина слово не драться, царь тем самым отнимал у него свободу действий по отношению к Дантесу и Геккерену и на время пресекал возможность общественного скандала. Но даже и в том случае, если Пушкин не посчитался бы с просьбой царя (а, зная Пушкина, царь, вероятно, в этом не сомневался), слова Николая все равно были бы восприняты в обществе как стремление предостеречь Пушкина, спасти его. В любом случае царь должен был выглядеть в этой истории разумным советчиком, миротворцем. Одним словом, потребовать от Пушкина обещания не затевать конфликта с голландским посольством было выгодно для Николая во всех отношениях. А спасать Пушкина он, разумеется, не собирался. Если в 1826 году он еще надеялся привлечь его ко двору, использовать его перо и влияние в интересах престола, то к 1837 году окончательно разуверился в этом. И когда Пушкин вышел из его кабинета, любые слова, которые мог произнести Николай, были поняты присутствовавшим при свидании Бенкендорфом как уверенность, что столкновения этого не предотвратишь и что Пушкина все равно ничто не удержит. Истинное отношение царя угадать Бенкендорфу было нетрудно. Секундант Пушкина К. К. Данзас рассказывал впоследствии, что Бенкендорф поддерживал Геккерена и Дантеса, что, зная заранее о предстоящей дуэли, он не пожелал предотвратить ее. Эти факты давно и широко известны из биографии Пушкина. Мы знаем, как разговаривал Николай I с декабристами. Допрашивая их, он проявлял сочувственный интерес и лицемерное участие к ним. А вслед за тем отдавал распоряжения заковать в кандалы, посадить на хлеб и воду. Поэтому он вполне мог сочувственно беседовать с Пушкиным, а с Бенкендорфом вел разговоры иного характера. И можно не сомневаться, что враги Пушкина были поддержаны Бенкендорфом с ведома Николая. Но теперь мы наконец понимаем, за что Пушкин просил прощения: бесконечно честный, он просил извинить его за нарушение слова. Это новое понимание предсмертной просьбы, обращенной к царю, просьбы, которой долго придавали смысл верноподданнический, помогает понять и ответ Николая (в передаче Е. А. Карамзиной он почти не отличается от ранее известных нам записей). Смысл ответа сводится к следующему: «Я прощу тебе нарушение слова и обеспечу жену и детей, если ты выполнишь христианский обряд». Очевидно, Пушкин еще колебался и согласие выполнить этот «совет» царя дал не сразу. Иначе Николай I не сказал бы Жуковскому тех слов, которые впервые приводит в своем письме Екатерина Андреевна. «Пушкина мы насилу заставили умереть, как христианина, а Карамзин жил и умер, как ангел» (курсив мой. — И. А.). «Насилу заставили…» — стоит вдуматься в эти слова и сопоставить их с легендой о христианском смирении умиравшего Пушкина, которая более восьмидесяти лет повторялась во всех его биографиях. Поэту пришлось пойти на условие царя: он ничего не оставлял семье, кроме долгов. Что он был к этому вынужден, понимали даже те современники, которые осуждали его. «Он выполнил свои христианские обязанности, — писала в день смерти Пушкина племянница Виельгорского, Волкова, — потому что император ему написал, что за это позаботится о его жене и детях». Николай проследил за выполнением своего требования: доктор Спасский, находившийся возле раненого поэта, записал, что священник прибыл в присутствии лейб-медика Арендта. После смерти Карамзина Жуковский составил текст указа о его заслугах и о пенсии семейству его. Когда умер Пушкин, Жуковский предложил царю составить такой же указ и о Пушкине. В ответ на это царь произнес те слова, которые приводит Карамзина. Министру юстиции Дашкову Николай объяснил более грубо. «Какой чудак Жуковский, — сказал он, — пристает ко мне, чтобы я семье Пушкина назначил такую же пенсию, как семье Карамзина. Он не хочет сообразить, что Карамзин человек почти святой, а какова была жизнь Пушкина?» «Он дал почувствовать Жуковскому, что и смерть и жизнь Пушкина не могут быть для России тем, чем был для нее Карамзин», — занес в свой дневник А. И. Тургенев. И Екатерина Андреевна, только что писавшая: «Пушкин бессмертный…», «потеря для России…», соглашается с отзывом императора. Но самое важное в этом письме не то, что в нем сказано: самое важное — что в нем нет ни одного слова о том, будто умирающий Пушкин посылал благословения по адресу государя, желал ему долгих лет царствования, восклицал: «Жаль, что умираю, весь его был бы…» Словом, даже намека нет, будто Пушкин умер, примирившись перед смертью с престолом и с богом. Советские исследователи в результате огромной и кропотливой работы доказали, что все это было придумано друзьями, и прежде всего Жуковским. Когда Жуковского упрекали потом, зачем он приписал Пушкину верноподданническую фразу «весь его был бы…», он отвечал: «Я заботился о судьбе жены Пушкина и детей». Этот факт сообщал один из первых биографов Пушкина. На самом деле у Жуковского были и другие причины, более важные. В дни, когда толпа осаждала дом Пушкина, когда раздавались угрозы по адресу его убийц и в первый раз с такой очевидностью стало ясно, что «литературный талант есть власть» (Н. Языков), Бенкендорф выдвинул против друзей Пушкина обвинение, будто они хотели превратить погребение поэта в демонстрацию против правительства, волнение, вызванное известием о смертельном ранении Пушкина и его гибели, использовать для «торжества либералов». Независимость Пушкина, его высокое чувство национального достоинства, прежняя его дружба с декабристами, народная слава истолковывались в высших кругах петербургского общества как проявление «либерализма». «Пушкин был склонен к либерализму», — доносил своему правительству неаполитанский посланник Бутера. Вюртембергский дипломат Гогенлоэ проявление в те дни всеобщего горя и гнева расценивал как действия «русской партии, к которой принадлежал Пушкин». После 14 декабря 1825 года Николай I не переставал подозревать о существовании еще не открытого тайного общества. В 1834 году, в связи с запрещением «Московского телеграфа», один из ближайших помощников царя утверждал, что «декабристы еще не истреблены», что в России «есть партия, жаждущая революции». Появление в 1836 году «Философического письма» Чаадаева в «Телескопе» снова вызвало подозрение, что это дело «тайной партии». Действия тайного общества Николай склонен был видеть в любом проявлении протеста. И вот на третий день после гибели Пушкина, 2 февраля 1837 года, один из приближенных царя, граф А. Ф. Орлов, пересылает ему анонимное письмо, полученное по городской почте. Хотя письмо содержало заверения в преданности народа престолу и было продиктовано стремлением предотвратить последствия, которые могли вызвать «оскорбление народное», в нем изливалась горечь, вызванная гибелью Пушкина, говорилось о том, что свершилось «умышленное убийство» великого поэта России. Этого было достаточно для Бенкендорфа, чтобы расценить письмо как документ, доказывающий «существование и работу Общества». Агенты доносили в Третье отделение, что в толпе, окружавшей дом Пушкина, раздавались угрозы по адресу Дантеса и Геккерена, что обвиняют жену Пушкина, что во время перевоза тела в Исаакиевскую церковь почитатели Пушкина собираются отпрячь лошадей в колеснице, что в церковь явятся депутаты от мещан и студентов, а над гробом будут сказаны речи.

Поэтому-то гроб с телом Пушкина тайно, ночью, под конвоем жандармов, и был перевезен из квартиры в придворную церковь. По этим-то причинам и умчали мертвого Пушкина из Петербурга в Михайловское ночью в сопровождении жандарма… Пушкин был положен в гроб не в придворном мундире, а во фраке, — это вменено в вину Вяземскому и Тургеневу. Вяземский, прощаясь, бросил в гроб Пушкина перчатку, — это воспринято как условный знак. Все вместе истолковано как действие партии, враждебной правительству. Геккерен, получавший информацию в салоне министра иностранных дел Нессельроде, доносил своему министру, что смерть Пушкина открыла власти «существование целой партии, главою которой был Пушкин». «Эту партию можно назвать реформаторской», — утверждал голландский посланник, добавляя, что предположение русского правительства не лишено оснований, если припомнить, что Пушкин был замешан в событиях, «предшествовавших 1825 году». Правда, таким заявлением он стремился восстановить свою репутацию, и подобное сообщение было ему крайне выгодно. Тем не менее не подлежит сомнению, что сообщает он своему правительству то, что слышит в придворных петербургских салонах. Подозревать в ту пору Вяземского, а тем более Жуковского в намерении составить заговор против правительства у Бенкендорфа не было, конечно, никаких оснований. Но в том, что Пушкин до конца оставался непримиримым противником самодержавно-полицейской власти и всей общественно-политической системы страны, в этом шеф жандармов не ошибался. Партии либералистов в России 1830-х годов не существовало. Но политические настроения, о которых Бенкендорф доносил царю, давали о себе знать постоянно и с особой силой проявились в связи с убийством Пушкина, еще раз — и уже в угрожающих размерах — подтвердив, что имя Пушкина в самых широких кругах русского общества являлось символом национального достоинства, свободолюбия и прогресса. На языке того времени это и называлось либерализмом. И символом либерализма Пушкин, конечно, был.Записка В. Ф. Одоевского, адресованная «Карамзину, Плетневу или Далю»

Выдвинув гипотезу о существовании заговора, Бенкендорф получал тем самым возможность предупредить любые проявления протеста, заранее объясняя их как действия заговорщиков, и принимать меры предосторожности, пресекая возможные действия этой предполагаемой «демагогической партии». «Вы считали меня если не демагогом, то какой-то вывеской демагогии, за которую прячутся тайные враги порядка», — писал Бенкендорфу Жуковский, опровергая выдвинутые против него обвинения. «Мне оказали честь, отведя мне первое место», — жаловался Вяземский брату царя, великому князю Михаилу, убеждая его не верить в существование заговора. Вот почему Жуковскому, Вяземскому, Тургеневу важно было доказать, что они никогда не замышляли против правительства, что устраивать Пушкину народные похороны не собирались, что это не соответствует их понятиям. Вот почему они стремились убедить правительство и великосветское общество, что в зрелые годы Пушкин был человеком благонамеренным и умер, как подобает христианину и верноподданному. «Да Пушкин никоим образом и не был либералом, ни сторонником оппозиции в том смысле, какой обыкновенно придается этим словам. Он был искренне предан государю», — писал Вяземский Михаилу Павловичу. В этом же духе действовал Жуковский. С этой целью сочинил он свое знаменитое письмо к отцу поэта, изобразив Пушкина раскаявшимся и смирившимся. Письмо его распространилось во многих копиях и потом было напечатано в «Современнике». В этом смысле старался не только Жуковский, — то, что писали Вяземский и Тургенев, точно так же было рассчитано на широкое оглашение. Отправляя свои письма в Москву, Тургенев и Вяземский просили директора московской почты Булгакова снимать копии для общих знакомых. В этих письмах они стремились разъяснить, в каком трагическом положении оказался Пушкин вследствие темных интриг, среди враждебного общества. Но и они повторяли ложь о примирении и о просветленном конце, считая, что эта версия реабилитирует их в глазах правительства. Таким образом, письма близких людей — Жуковского, Тургенева, Вяземского — облик Пушкина заведомо искажают. Что касается сообщений других современников, знавших поэта мало, то сведения их о гибели Пушкина основаны зачастую на непроверенных слухах, к этим откликам относиться следует тоже с большой осторожностью.Бюллетени о состоянии Пушкина, писанные рукою В, А. Жуковского
10
Тагильские письма писались людьми, близко стоявшими к Пушкину, и писались не для распространения в обществе. В этом их особая ценность. Можно не сомневаться, что, если бы в словах, сказанных Пушкиным перед смертью, хоть как-нибудь проявились те чувства, о которых повествует Жуковский, Карамзины, люди религиозные и консервативные, не преминули бы сообщить об этом Андрею; поторопились же они сказать, что государь вел себя по отношению к поэту, «как ангел».«В воскресенье вечером мы ходили на панихиду по нашему бедному Пушкину, — продолжает письмо мачехи Софья Карамзина. — Трогательно было видеть толпу, стремившуюся поклониться его телу; говорят, в этот день у них перебывало более 20000 человек: чиновники, офицеры, купцы — все шли в благоговейном молчании, с глубоким чувством — друзьям Пушкина было отдано это. Один из этих неизвестных сказал Россети: „Видите ли, Пушкин ошибался, когда думал, что потерял свою народность: она вся тут, но он ее искал не там, где сердца ему отвечали“. Другой, старик, поразил Жуковского глубоким вниманием, с каким он долго смотрел на лицо Пушкина, уже сильно изменившееся; он даже сел напротив и неподвижно просидел так с 1/4 часа, слезы текли по его лицу, потом он встал и пошел к выходу. Жуковский послал за ним узнать его имя. „Зачем вам? — ответил он. — Пушкин меня не знал, и я его не видал никогда, но мне грустно за славу России“. И вообще это второе общество проявляет столько энтузиазма, столько сожаления, сочувствия, что душа Пушкина должна радоваться, если хотя бы отголосок земной жизни доходит туда, где он сейчас. Более того: против убийцы Пушкина подымается волна возмущения и гнева, раздаются угрозы, — но все это в том же втором обществе, среди молодежи, тогда как в нашем кругу у Дантеса находится немало защитников, а у Пушкина — это всего возмутительнее и просто непонятно — немало ожесточенных обвинителей. Их нисколько не смягчили адские муки, которые в течение трех месяцев терзали его пламенную душу, к сожалению слишком чувствительную к уколам этого презренного света, и за которые он отомстил, в конце концов, только самому себе: умереть в 37 лет — и с таким прекрасным, таким трогательным спокойствием!..»Когда слух, что Пушкин находится в смертельной опасности, облетел город, всем стало ясно, что в Петербурге существуют два лагеря; Софья Николаевна очень точно сформулировала это в словах о «нашем обществе» — то есть великосветском, где раздаются обвинения по адресу Пушкина, и о «втором обществе», которое оплакивает Пушкина, являя замечательные примеры любви. Никто, конечно, не подсчитывал точно, сколько народу приходило проститься с Пушкиным. Жуковский писал, что за два дня мимо гроба прошло более 10 000 человек. С. П. Карамзина утверждает, что более 20 000 за один день. Говорили еще, что «при теле перебывало 32000 человек», что в последние дни жизни Пушкина «25 000 человек приходили и приезжали справляться о его здоровье». Прусский посол Либерман писал в своем донесении, что в доме Пушкина перебывало «до 50 000 лиц всех состояний». Как бы то ни было, речь идет о десятках тысяч — стоявших у подъезда, приходивших проститься, запрудивших Конюшенную площадь и прилегающие переулки и улицы во время отпевания тела. В этой необычной в то время толпе чиновников, литераторов, артистов, студентов, учеников, купцов, военных много «простолюдинов», мелькают тулупы, иные приходят даже в лохмотьях, — весь город взволнован событием, возбужден, опечален. Муханов записывает, что в Гостином дворе о смерти Пушкина толкуют сидельцы и лавочники. Вяземский обращает внимание, что «мужики на улицах» говорили о нем. Сохранился рассказ (Д. Милютина) о том, что мальчик-половой в трактире Палкина беспокоился, кто будет вместо Пушкина «назначен для стихов». Везде слышатся толки и злоба на Геккеренов. Убийство Пушкина широкие круги петербургского общества восприняли как общественное бедствие. Иностранные дипломаты доносят своим дворам, что гибель поэта возбудила «национальное негодование», «всеобщее возмущение» (баварский посланник), расценивается как «общественное несчастье» (неаполитанский посланник), как «потеря страны» (прусский посланник); вюртембергский посланник сообщает, что Пушкину «создают апофеоз» чиновники, «многочисленный класс, являющийся в России в некотором роде третьим сословием». Французскому послу Баранту приписывают слова, что «общенародное чувство», проявившееся в те дни в Петербурге, «походило на то, которым одушевлялись русские в 1812 году».

Описывая последнюю панихиду, Софья Николаевна сознательно умолчала о том, что ночью в числе ближайших двенадцати человек она присутствовала при выносе тела в придворную церковь; набережная была оцеплена жандармами, жандармы наполняли пушкинскую квартиру. Об этом Карамзина не могла написать Андрею. Как не могла сообщить и о том, что вызванные в Петербург «для парада» войска расположились в переулках и улицах, окружавших Зимний дворец, Конюшенную церковь, пушкинскую квартиру на Мойке. Это установлено в самое последнее время (М. Яшиным). Гибель Пушкина изменила отношение Карамзиных к предшествовавшим событиям. Поведение его в продолжение всех этих месяцев уже не кажется Софье Николаевне ни «глупым», ни «смешным». То, что она называла «комедией», предстало теперь в новом свете. Великая популярность поэта, которую неизвестный почитатель назвал «народностью» Пушкина, каждого заставляет понять, что эти дни уже подлежат суду истории. Но даже и в этой обстановке Софья Николаевна стремится видеть в поединке Пушкина и Дантеса столкновение своих знакомых; она хочет оплакать Пушкина, не обвиняя при этом Дантеса. «Я рада, что ничего не случилось с Дантесом», — пишет она Андрею. Ей кажется, что, если бы в результате дуэли погибли оба — и Пушкин и Дантес, — было бы хуже: гибель Пушкина не вызвала бы такого сочувствия. Роль жертвы, по ее представлению, «это всегда самая благородная роль, и те, — пишет она о Пушкине, — кто осмеливается нападать на него, по-моему, очень походят на палачей».Сообщение о смерти Пушкина, составленное В. Ф. Одоевским, помещенное в «Литературных прибавлениях к „Русскому инвалиду“» 1837 года, № 5
«В субботу вечером я видела несчастную Натали, — продолжает Карамзина, — не могу передать тебе, какое раздирающее душу впечатление произвела она на меня: настоящий призрак — блуждающий взгляд и выражение лица до того жалкое, что невозможно без боли в сердце смотреть на нее. И как она хороша даже в таком состоянии. В понедельник были похороны, то есть отпевание. Собралась огромная толпа, все хотели присутствовать, целые департаменты просили разрешения не работать в этот день, чтобы иметь возможность пойти на панихиду, пришла вся Академия, артисты, студенты университета, все русские актеры. Церковь на Конюшенной невелика, поэтому впускали только тех, у кого были билеты, иными словами, исключительно высшее общество и дипломатический корпус, который явился в полном составе (один дипломат даже сказал: „Я только здесь в первый раз узнаю, что такое был Пушкин для России. До этого мы его встречали, разговаривали с ним, и никто из вас (он обращался к даме) не сказал нам, что он ваша национальная гордость“). Площадь перед церковью была запружена народом, и, когда открыли двери после службы, все толпой устремились в церковь; спорили, толкались, чтобы пробиться к гробу и нести его в подвал, где он должен оставаться, пока его не отвезут в деревню. Один молодой человек, очень хорошо одетый, умолял Пьера [Мещерского] разрешить ему только прикоснуться рукою к гробу; тогда Пьер уступил ему свое место, и юноша благодарил его со слезами на глазах. — Как трогателен секундант Пушкина, его друг и товарищ по лицею полковник Данзас, которого прозвали в армии „храбрый Данзас“, сам раненый, с рукою на перевязи (Данзас был ранен в турецкую кампанию.), с мокрым от слез лицом, говорящий о Пушкине с чисто женской нежностью, не думая нисколько о наказании, которое его ожидает; он благословляет государя за данное ему милостивое позволение не покидать своего друга в последние минуты его жизни и его несчастную жену в первые дни ее тяжкого горя. Вот что сделал государь для семьи…»И тут Карамзина перечисляет «милости» Николая, распорядившегося выплатить долги Пушкина, выкупить его имение Михайловское; вдове назначена пенсия в 5000 рублей, детям — по 1500 рублей. Оба сына записаны в Пажеский корпус.
«Кроме того, — продолжает Софи, — в пользу детей будет на казенный счет выпущено полное издание произведений Пушкина, которое, вероятно, расхватают мгновенно».Распоряжение Николая Софья Карамзина воспринимает как его искреннее сочувствие и заботу. На самом же деле эта благотворительность, ничего Николаю не стоившая, послужила для него удобным поводом предстать перед глазами Европы в роли просвещенного покровителя литературы. Чуть ли не все иностранные дипломаты в своих донесениях из Петербурга отметили в те дни щедрую помощь русского императора осиротевшей семье первого поэта страны. Славу Пушкина Николай I умело использовал в своих интересах. Но возвратимся к письму.
«Поверишь ли, — пишет С. Н. Карамзина, — в эти три дня было продано 4 000 экземпляров „Онегина“».Как эта небольшая подробность передает атмосферу тех дней!
«Вчера (то есть после отпевания, в понедельник. — И. А.) мы еще раз видели Натали, она была спокойнее и много говорила о муже. Через неделю она уезжает в имение брата возле Калуги, где намерена провести два года. „Мои муж, — сказала она, — велел мне два года носить по нем траур (какая деликатность чувств с его стороны, он и тут заботился о том, чтобы охранить ее от пересудов света), и я думаю, что лучше всего исполню его волю, если проведу эти два года в деревне. Сестра приедет ко мне, это будет для меня большим утешением“».Да, таково было завещание Пушкина; в день смерти, прощаясь с женою, он сказал ей: «Отправляйся в деревню, носи по мне траур два года, а потом выходи замуж, только не за шелопая». Это слышали Вяземские.
«Еще мы говорили об анонимных письмах. Я рассказала ей о том, что ты говорил по этому поводу, и о твоем страстном возмущении против их гнусного автора».«Пощечины от руки палача — вот чего он, по-моему, заслуживает», — писал родным Андрей Карамзин, высказывая опасение, что если «этот негодяй когда-нибудь откроет свое лицо», то «наше снисходительное общество», то есть великосветское, выступит в роли его соучастника. В этом он не ошибся. В то дни друзья Пушкина постоянно возвращаются к мысли о пасквиле, угадывая теперь, задним числом, что он был главной причиной, приведшей Пушкина к гибели, что развязка трагедии — на душе сочинителя, что с тех пор Пушкин «не мог успокоиться».
«Теперь, — продолжает Карамзина, — расскажу об одной забавной мелочи среди всех наших горестей: Данзас просил государя разрешить ему сопровождать тело; государь ответил, что это невозможно, так как Данзас должен идти под суд (говорят, впрочем, что это будет одна формальность). Для того, чтобы отдать этот последний долг Пушкину, государь назначил Тургенева, — „как единственного из друзей Пушкина, который в настоящее время ничем не занят“. Тургенев сегодня вечером уезжает с телом. Он очень недоволен этим и не умеет это скрыть. Вяземский хотел поехать, я ему [Тургеневу] сказала: „Почему бы ему не поехать с вами?“ „Помилуйте, со мною! — он не умер!“».То же самое отметил в своем дневнике Тургенев: «О Вяземском со мною (у Карамзиных): „он еще не мертвый“». Карамзиной кажется «забавной» стороной в этом деле, что царь без ведома Тургенева назначил его сопровождать гроб с телом Пушкина вместе с жандармом. Тургенев подчинился, но заявил, что поедет «на свой счет и с особой подорожной». В дневнике он, уязвленный, подчеркивает: «отправились мы — я и жандарм!!» Ирония его ответа Карамзиной в том, что он «ничем не занят» и поэтому царь превратил его в служителя погребальной процессии: возить Вяземского ему не положено — Вяземский не мертвый, а ему, Тургеневу, царь, мол, определил возить только покойников.
11
А. И. Тургенев отвез тело Пушкина туда, где поэт два года прожил в изгнанье, и похоронил в Святогорском монастыре, и уже вернулся в столицу, но волнение, вызванное убийством Пушкина, еще не утихло. Об этом можно судить по строчкам тагильских писем, даже по тем, которые не имеют прямого отношения к Пушкину. 10 февраля Софья Николаевна пишет «несколько строчек». Праздновалось рождение младшей сестры, Лизы. Желая устроить ей настоящий праздник, Екатерина Николаевна Мещерская повела ее в русский театр, «где Каратыгин был великолепен в пьесе „Матильда, или Ревность“». Лиза Карамзина и Наденька Вяземская «безумствовали от восторга». Вместе с ними повели восьмилетнего сына Мещерских — Николеньку.«Сперва он был очень доволен, но затем испугался, что будут стрелять из пистолета, так как из всего происходившего на сцене понял только, что там ссорятся; история же с Пушкиным, о которой он слышал… необыкновенно обострила его сообразительность по отношению ко всему связанному с дуэлями, и он решил, что и тут будет дуэль. Пришлось увезти его домой раньше окончания. Не могу тебе передать, — продолжает Софья Николаевна на той же странице, — какое грустное впечатление произвел на меня салон Екатерины в то первое воскресенье, когда я там опять побывала, — не было уже никого из семьи! Пушкиных, неизменно присутствовавших раньше, — мне так и чудилось, что я их вижу и слышу звонкий, серебристый смех Пушкина. Вот стихи, которые написал на смерть Пушкина некий г. Лермантов, гусарский офицер. Они так хороши по своей правдивости и по заключенному в них чувству, что мне хочется, чтобы ты их знал.Стихотворение Лермонтова Софья Николаевна приводит в письме без единого отступления от собственноручного текста Лермонтова. Это понятно — стихотворение дал ей списать В. Ф. Одоевский, у которого находился автограф. В первые дни после смерти Пушкина предполагалось напечатать этот текст в «Современнике»; после замечания, которое получил Краевский от Уварова, об этом нечего было и думать. Заключительных строк Софья Николаевна не приводит по вполне попятной причине — в те дни Лермонтов еще не написал их, еще не пострадал и не сослан. Это потом, по возвращении из ссылки, через год с небольшим, он сделается гостем и другом Карамзиных, гордостью и украшением их салона. А в феврале 1837 года он еще «некий», он еще не знаком с ними, хотя в доме Карамзиных бывает добрый десяток его однополчан — лейб-гусаров. Впоследствии познакомил его с Карамзиными, очевидно, Одоевский.СМЕРТЬ ПОЭТА
Погиб Поэт! — невольник чести —Пал, оклеветанный молвой,С свинцом в груди и жаждой мести,Поникнув гордой головой!..Не вынесла душа ПоэтаПозора мелочных обид,Восстал он против мнений СветаОдин, как прежде… и убит!Убит!.. К чему теперь рыданья,Пустых похвал ненужный хорИ жалкий лепет оправданья?Судьбы свершился приговор!Не вы ль сперва так злобно гналиЕго свободный, смелый дарИ для потехи раздувалиЧуть затаившийся пожар?Что ж?… веселитесь… — он мученийПоследних вынести не мог;Угас, как светоч, дивный Гений,Увял торжественный венок.Его убийца хладнокровноНавел удар… спасенья нет:Пустое сердце бьется ровно,В руке не дрогнул пистолет.И что за диво?… из далека,Подобный сотням беглецов,На ловлю счастья и чиновЗаброшен к нам по воле рока;Смеясь, он дерзко презиралЗемли чужой язык и нравы;Не мог щадить он нашей славы;Не мог понять в сей миг кровавый,На что он руку поднимал!..Как это прекрасно, не правда ли? Мещерский пошел отнести эти стихи Александрине Гончаровой, она просила их для сестры, которая с жадностью читает все, что касается мужа, постоянно говорит о нем, обвиняет себя и плачет. Она все время так мучается, что жалко смотреть, но стала спокойнее и у нее уже нет такого безумного блуждающего взгляда. К сожалению, она плохо спит, вскрикивает по ночам, зовет Пушкина: бедная, бедная жертва собственного легкомыслия и людской злобы… Одоевский умиляет своею любовью к Пушкину: он плакал, как ребенок, и нет ничего трогательнее тех нескольких строчек, в которых он объявил в своем журнале о смерти Пушкина. „Современник“ будет по-прежнему выходить в этом году».И он убит — и взят могилой,Как тот певец, неведомый, но милый,Добыча ревности глухой,Воспетый им с такою чудной силой,Сраженный, как и он, безжалостной рукой.Зачем от мирных нег и дружбы простодушнойВступил он в этот свет завистливый и душныйДля сердца вольного и пламенных страстей?Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,Зачем поверил он словам и ласкам ложным,Он, с юных лет постигнувший людей?…И прежний сняв венок — они венец терновый,Увитый лаврами, надели на него:Но иглы тайные суровоЯзвили славное чело;Отравлены его последние мгновеньяКоварным шепотом насмешливых невежд,И умер он — с напрасной жаждой мщенья,С досадой тайною обманутых надежд.Замолкли звуки чудных песен,Не раздаваться им опять:Приют певца угрюм и тесен,И на устах его печать.

Несколько строк, в которых Одоевский объявил о смерти Пушкина, — это краткий некролог, начинающийся словами: «Солнце нашей Поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет…», помещенный в № 5 «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду». Считалось, что автор этого некролога Краевский. Р. Б. Заборова, сотрудница Ленинградской публичной библиотеки, высказала предположение, что некролог написан Одоевским. Предположение подтверждается.«Смерть Поэта». Первая страница белового автографа без заключительных 16 строк. С пометою В. Ф. Одоевского: «Стихотворение Лермонтова, которое не могло быть напечатано»
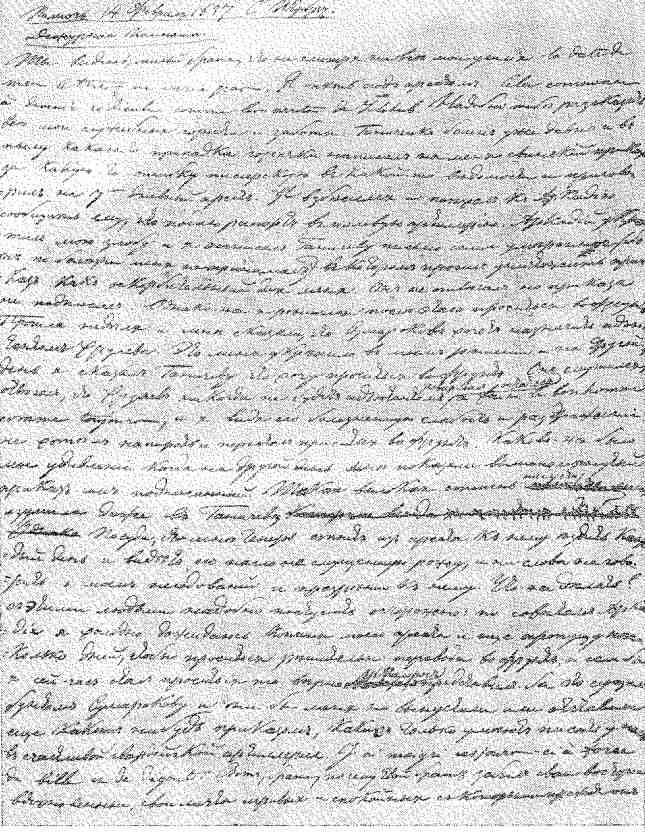
121-я страница альбома. Письмо по-русски, с датой: «17 февраля, Дежурная комната». Почерк Александра Карамзина, довольно разборчивый:Письмо Александра Карамзина к брату Андрею от 14 февраля 1837 года
«На смерть Пушкина я читал два рукописных стихотворения: одно какого-то лицейского воспитанника, весьма порядочное; другое гусара Лерментова,[6] по-моему, прекрасное, кроме окончания, которое, кажется, и не его. Вообще публика приняла с таким энтузиазмом участие в смерти своего великого поэта, какого никак я от нее не ожидал. Что касается высшего света — это заплеснутая [заплесневелая? — И. А.] пенка публики, она слишком достойна глубокого презрения, чтобы обратить внимание на ее толки pro et contra,[7] которые, если это возможно, бессмысленнее ее самой. Как ни ругай публику (тут Карамзин переходит на французский язык) в собственном смысле слова, все же это лучшее, что у нас есть. Совершенно неправильно было бы говорить, как часто у нас и говорится, что у наших писателей нет публики: скорее наоборот, нашей публике недостает писателей. Немудрено, что им нравится какая-нибудь чучела Брамбеус на голодный зуб. Желали бы лучше, да нет».Под стихотворением лицейского воспитанника Карамзин подразумевает «Воспоминание о Пушкине», автор которого остается до сих пор неизвестным, хотя из текста стихотворения следует, что оно написано однокашником Пушкина, принимавшим участие в праздновании лицейских годовщин. Разницу между этим слабым стихотворным откликом на смерть Пушкина и гениальным стихотворением Лермонтова Карамзин почувствовал, но в оценке заключительных строк «Смерти Поэта» (они были написаны 7 февраля) оказался на уровне своего круга. Гневная речь Лермонтова, обращенная к потомкам «известной подлостью прославленных отцов», — строки, в которых Лермонтов грозит палачам Пушкина народною местью, предрекает время, когда польется их черная кровь, — не понравилась Александру Карамзину. Для него это слишком смело и резко, хоть он с презрением говорит о высшем свете и сочувственно — о читателях Пушкина, о демократической части общества. И неплохо объясняет успех произведений О. И. Сенковского, выступавшего под псевдонимом «Барон Брамбеус». Сенковский, писатель и критик, редактор журнала «Библиотека для чтения», вместе с Булгариным и Гречем выступал против Пушкина. В отзыве Александра Карамзина чувствуется человек, не чуждый литературной борьбы 1830-х годов, сторонник Пушкина, Вяземского, Одоевского.
12
16 февраля Наталья Николаевна Пушкина вместе с сестрой Александриной и теткой Екатериной Ивановной Загряжской уехала из Петербурга в калужское имение брата Полотняный завод.«Вчера выехала из Петербурга Н. Н. Пушкина, — пишет Александр Карамзин. — Я третьего дня ее видел и с ней прощался. Бледная, худая, с потухшим взором, в черном платье, она казалась тению чего-то прекрасного. Бедная!!!»Во всех письмах о дуэли и смерти Пушкина друзья старательно оберегают честь Натальи Николаевны. Это попятно. Даже те, кто не знает Пушкина близко, как, например, сослуживец Краевского литератор Януарий Неверов, считают слова Пушкина о невиновности Натальи Николаевны «его последним святым завещанием». Только Вяземский упрекнул Наталью Николаевну в «бестактности» да в том, что в ее отношении к Дантесу после его женитьбы было много беспечности и непоследовательности. Письма Екатерины Андреевны и Софьи Николаевны Карамзиных не предназначены для распространения и пишутся не для того, чтобы защищать вдову Пушкина в общественном мнении. В первые дни обе женщины рассказывают о Наталье Николаевне с глубоким сочувствием. Но следующие письма — о последнем свидании с нею, о проезде Натальи Николаевны через Москву, где она не пожелала повидать отца Пушкина, — полны сурового осуждения. Прежде всего это относится к письму Софьи Николаевны, написанному 17 февраля. Она раздосадована тем, что перед отъездом Наталья Николаевна «слишком занималасьупаковкой вещей» и «кажется, совсем не была тронута, когда прощалась с Жуковским, Данзасом и Далем, этими тремя ангелами-хранителями, которые окружали постель ее умирающего мужа и так много сделали, чтобы смягчить его последние минуты». Софья Николаевна находит, что в такую минуту «можно бы проявить больше чувства». Ей кажется, что Наталья Николаевна «менее грустна, чем обычно». Софья Николаевна не удивляется этому. Она считает, что «Натали» «поставила на карту драгоценную жизнь Пушкина» по легкомыслию и «даже не ради увлечения, а ради жалких соблазнов кокетства и тщеславия».
«Бедный, бедный Пушкин, — восклицает Карамзина, — она его никогда не понимала. Потеряв его по своей вине, она сильно страдала только несколько дней, а теперь горячка уже прошла, осталась только слабость и угнетенное настроение; и то пройдет очень скоро! Обе сестры виделись, чтобы попрощаться, вероятно, навсегда, и тут Екатерина наконец-то хоть немного откликнулась на это несчастье, которое по-настоящему лежит на ее совести тоже, — она заплакала, но до тех пор она все время была весела, спокойна, смеялась и всем, с кем виделась, говорила только о своем счастье. Вот еще тоже чурбан, да и дура вдобавок! Суд над Дантесом еще не кончился, говорят, его разжалуют и затем вышлют из России. Геккерен готовится к отъезду и у себя в кабинете самолично распродает весь свой фарфор и серебро; весь город ходит к нему покупать, кто для смеха, а кто из дружбы».Пришел отклик Андрея на письмо, в котором Екатерина Андреевна рассказывает о последних минутах Пушкина и о своем с ним прощании. А вот ответ матери:
«Среда, 3 марта, 1887, С.-Петербург. Я знала, что весть о трагической смерти Пушкина поразит тебя в самое сердце. И ты не ошибся, предполагая, что м-м Пушкина станет для меня предметом сочувствия и забот. Я ходила к ней почти каждый день, сперва с глубоким состраданием к ее великому горю, но потом, увы, с уверенностью, что это горе, хотя и острое сейчас, не будет ни продолжительным, ни глубоким. Грустно сказать, но это правда. Наш добрый, наш великий Пушкин должен был бы иметь совсем другую жену, более способную его понять и более подходящую к его уровню. Их рассудит бог, но все же эта катастрофа ужасная и во многом до сих пор темная, — он внес в нее свою долю непостижимого безрассудства… Бедный Пушкин, жертва легкомыслия, неосторожности и неразумия этой молодой красавицы, которая ради нескольких часов кокетства не пожалела его жизни. Не думай, что я преувеличиваю, я ведь ее не виню, как не винят детей, когда они по неведению или необдуманности причиняют зло».Эту характеристику H. H. Пушкиной продолжает в том же письме Софья Карамзина.
«Сейчас она уже успокоилась, — пишет Софья Николаевна о жене Пушкина, — и ведь он хорошо ее знал, он знал, что это Ундина, в которую еще не вдохнули душу. Да простит ей господь, ибо она не ведала, что творит. И ты, мой дорогой Андрей, не горюй о ней — для нее еще много найдется на земле радостей и удовольствий».Нельзя не задуматься над этими строчками. Карамзины хорошо знают Наталью Николаевну и, конечно, сообщают о ней мнение искреннее и авторитетное. Их письма дополняют наши представления о характере этой женщины, помогают понять ее отношение к Пушкину, и к его гибели, и к окружавшим его. Софья Николаевна называет ее бестолковой. Екатерина Андреевна пишет, что ее поведение после гибели Пушкина говорит о недостатке ума и о черством сердце, но, кстати сказать, горькие упреки по адресу Натальи Николаевны никак не повлияют на их дальнейшие отношения с ней. По возвращении своем из деревни она по-прежнему будет украшать их салон, где когда-то появлялась с Пушкиным и встречалась с Дантесом. Она еще увидит внимание к себе в этом доме. И только один Лермонтов будет избегать разговоров с ней. Нет надобности защищать и оправдывать жену Пушкина. Но все же причина его гибели не она. И в этом отношении письма Е. А. и С. H. Карамзиных уступают свидетельствам Вяземского, Александра Тургенева, Александра Карамзина, Екатерины Мещерской, Соллогуба. Те понимают общественный смысл происшедших событий, говорят о загадочной обстановке, о клевете, пытаются разгадать анонима. Вяземский считает, что постыдную роль в этой истории сыграли «некоторые общественные вершины», что Пушкина «положили в гроб и зарезали жену его» городские сплетни и клевета петербургских салонов. Соллогубу понятно, что в лице Дантеса Пушкин искал расправы с целым светским обществом. А Софья Николаевна и Екатерина Андреевна ограничивают конфликт семейными рамками; сосредоточившись на личности Натальи Николаевны Пушкиной, они не делают даже попыток угадать скрытые — и главные — причины гибели Пушкина, ни словом не намекают о них Андрею. Хотя Екатерина Андреевна и пишет, что «эта катастрофа ужасная и во многом до сих пор темная», ни она, ни Софья Николаевна не связывают эту историю ни с тайными интригами, ни с отношением к Пушкину великосветских салонов, ни с лютой ненавистью к нему графа Бенкендорфа, графа и графини Нессельроде, Уварова, княгини Белосельской, падчерицы Бенкендорфа, которую Данзас назвал в числе сильнейших врагов поэта, скрыв ее под буквой — «княгиня Б.». Несмотря на скупую информацию, Андрей Карамзин лучше их сумел понять в Париже смысл происшедшего в Петербурге. «Поздравьте от меня петербургское общество, маменька, — писал он. — Оно сработало славное дело: пошлыми сплетнями, низкою завистью к Гению и к красоте оно довело драму, им сочиненную, к развязке: поздравьте его, оно стоит того…» Всеобщее сочувствие, возбужденное смертью Пушкина, тронуло Андрея Карамзина и обрадовало его до слез. «Но с другой стороны, — продолжает он, — то, что сестра мне пишет о суждениях хорошего общества, высшего круга, гостинной аристократии (черт знает, как эту сволочь назвать!), меня нимало не удивило: оно выдержало свой характер. Убийца бранит свою жертву… это в порядке вещей». Но удивительно, что это свое негодование по адресу аристократии Андрей Карамзин не распространяет на Дантеса. Убежденный в том, что Дантес пожертвовал собой ради спасения чести любимой женщины, а выйти на поединок был вынужден, Карамзин не хочет верить, что Дантес после свадьбы своей продолжал говорить Наталье Николаевне о своей любви к пей. «Я первый, с чистой совестью и со слезой на глазах о Пушкине, протяну ему руку; он вел себя честным и благородным человеком — по крайней мере, так мне кажется, — пишет Андрей Карамзин родным, — но что у Пушкина нашлись ожесточенные обвинители… негодяи!» Софья Николаевна вполне с ним согласна: в ее собственных письмах за горестными строчками о Пушкине следуют сожаления по адресу Дантеса, который будет разжалован. Вот что значат понятия о чести в светском обществе, понятия, по которым оскорбитель, убивший на поединке оскорбленного им человека, реабилитируется в общественном мнении, понятия, по которым великий национальный поэт и наглый иноземный развратник в глазах даже таких людей, как Андрей и Софья Карамзины, выступают как равноправные члены общества. Все же вести, которые приходят в Париж от матери и сестры, не объясняют Андрею тайных причин катастрофы. И он обращается с просьбой: «Скажите брату Саше, что я ожидаю от него письма, он, как мужчина, многое мог слышать».
13
13 марта Александр берется за перо. Его письмо на семи страницах — из них половина посвящена Пушкину. Приведем их здесь полностью — это самый значительный документ тагильской находки.«Здравствуй, брате, что делаешь? Здоров ли? весел ли? Я очень доволен твоими письмами, где ты так хорошо пишешь о деле Пушкина. Ты спрашиваешь, почему мы тебе ничего не пишем о Дантесе, или лучше о Эккерне. Начинаю с того, что советую не протягивать ему руки с такою благородною доверенности: теперь я знаю его, к несчастью,[8] это знание мне дорого обошлось. Дантес был совершенно незначительной фигурой, когда сюда приехал: необразованность забавно сочеталась в нем с природным остроумием, а, в общем, это было полное ничтожество как в нравственном, так и в умственном отношении. Если бы он таким и оставался, его считали бы добрым малым, и больше ничего, и я бы не краснел, как краснею сейчас, при мысли, что был с ним дружен, — но его усыновил Геккерн по причинам, до сей поры неизвестным обществу (которое мстит за это, строя всяческие предположения). Геккерн — человек весьма хитрый и развратник, каких свет не видывал, и ему не стоило большого труда совершенно завладеть умом и душой Дантеса, у которого ума было значительно меньше, а души, возможно, и вовсе не было. Эти два человека, не знаю уж с каким дьявольским умыслом, принялись так упорно и неуклонно преследовать м-м Пушкину, что, пользуясь ее простотой и ужасной глупостью ее сестры Екатерины, добились того, что за один год почти с ума свели несчастную женщину и совершенно погубили ее репутацию. Дантес в то время хворал грудью и худел на глазах. Старик Геккерн уверял м-м Пушкину, что Дантес умирает от любви к ней, заклинал спасти его сына, потом стал грозить местью, а два дня спустя появились эти анонимные письма (если правда, что Геккерн сам является автором этих писем, то это совершенно непонятная и бессмысленная жестокость с его стороны; однако люди, которым, казалось бы, должна быть известна вся подоплека, утверждают, что его авторство почти доказано). За сим последовали признания м-м Пушкиной мужу, вызов и затем женитьба Геккерна; та, которая так долго подвизалась на ролях сводни, выступила, в свою очередь, в роли любовницы (amante), a затем и супруги; она, единственная из всех, выиграла на этом деле, торжествует и по сие время и до того поглупела от счастья, что, погубив репутацию, а возможно, и душу своей сестры м-м П[ушкиной], убив ее мужа, она в день отъезда м-м Пушкиной послала сказать ей, что готова забыть прошлое и все ей простить!!! У Пушкина тоже была минута торжества: ему казалось, что он утопил в грязи своего врага и заставил его играть роль труса; но Пушкин, полный ненависти к этому врагу, давно исполненный омерзения к нему, не сумел взять себя в руки, да он даже и не пытался. Он сделал весь город, всех посетителей салонов наперсниками своей ненависти и своего гнева, он не сумел воспользоваться выгодами своего положения и стал почти смешон. И так как он не объяснял нам всех причин своей ярости, то мы все говорили: да чего же он хочет? Что он, с ума сошел? Или показывает свою удаль? — А Дантес тем временем, следуя советам своего старого ‹двa бранных слова›, вел себя необыкновенно тактично, стараясь главным образом привлечь друзей Пушкина на свою сторону. Наше семейство он усерднее, чем раньше, заверял в своей дружбе; он делал вид, что откровенен со мной до конца, и не скупился на излияния чувств, он играл на таких струнах, как честь, благородство души, и так преуспел в своих стараниях, что я поверил в его преданность м-м П[ушкиной] и в любовь к Екатерине Гончаровой], словом, во все самое нелепое и невероятное, но только не в то, что было на самом деле. На меня словно нашло ослепление, словно меня околдовали: ну, как бы там ни было, а я за это жестоко наказан угрызениями совести, которые до сих пор меня тревожат; каждый день я переживаю их вновь и вновь и тщетно пытаюсь их отогнать. Без сомнения, Пушкину было тяжело, когда я у него на глазах дружески пожимал руку Дантесу, стало быть, и я способствовал тому, чтобы растерзать это благородное сердце, ибо он страдал невыразимо, видя, что его противник встает, обеленный, из грязи, в которую Пушкин его поверг. Гений, составлявший славу своей родины, привыкший слышать только рукоплескания, был оскорблен чужеземным авантюристом ‹…›, который хотел замарать честь Пушкина, и когда он, исполненный негодования, заклеймил позором своего противника, тогда собственные его сограждане поднялись на защиту авантюриста и стали извергать хулу на великого поэта. Конечно, не все его соотечественники изрыгали эту хулу, а только горсточка низких людей, но поэт в своем негодовании не сумел отличить вопль этой клики от голоса широкой публики, к которому он всегда был так чуток. Он страдал безмерно, он жаждал крови, но бог, к нашему горю, судил иначе, и лишь собственная кровь поэта обагрила землю. Только после его смерти я узнал правду о поведении Дантеса — и немедленно порвал с ним. Может быть, я говорю слишком резко и с предубеждением, может быть, это предубеждение происходит именно оттого, что раньше я был слишком к нему расположен, но, так или иначе, не подлежит сомнению, что он обманул меня красивыми словами и заставил видеть преданность и высокие чувства там, где была только гнусная интрига: не подлежит сомнению, что и после своей женитьбы он продолжал ухаживать за м-м Пушкиной, чему я долго не хотел верить, но очевидные факты, которые стали мне известны позже, вынудили меня, наконец, поверить. Всего этого достаточно, брат, чтобы ты не подавал руки убийце Пушкина. Суд его еще не кончен.[9] После смерти Пушкина Жуковский принял по воле государя все его бумаги. Говорили, что Пушкин умер уже давно для поэзии. Однако же нашлись у него многие поэмы и мелкие стихотворения. Я читал некоторые, прекрасные донельзя. Вообще в его поэзии сделалась большая перемена: прежде главные достоинства его были удивительная легкость, воображение, роскошь выражений, бесконечное изящество, связанное с большим чувством и жаром; в последних же произведениях его поражает особенно могучая зрелость таланта; сила выражений и обилие великих глубоких мыслей, высказанных с прекрасной, свойственной ему простотою; читая их, поневоле дрожь пробегает, и на каждом стихе задумываешься и чуешь гения. В целой поэме не встречается ни одного лишнего, малоговорящего стиха!.. Плачь, мое бедное отечество! Не скоро родишь ты такого сына! На рождении Пушкина ты истощилось!..»Сопоставим этот замечательный документ с тем, что пишут Вяземский и Тургенев. В первые же дни после смерти Пушкина, решив выяснить для себя ход событий и мотивы, руководившие Пушкиным, они все более приходят к убеждению, что Пушкин пал жертвой тонкой и сложной интриги, что его «погубили». Сопоставляя последние разговоры Пушкина, обмениваясь с друзьями подозрениями и догадками, Вяземский понимает, что против Пушкина и его жены были устроены «адские козни», «адские сети», что они «попали в гнусную западню», он пишет о «развратнейших и коварнейших покушениях двух людей» на «супружеское счастье и согласие Пушкиных». Это мнение вполне разделяет Тургенев. В его глазах, как и в глазах Вяземского, Геккерен и Дантес с каждым днем «становятся мерзавцами более и более», по мере того как раскрывается «гнусность поступков» Геккерена-отца. В письмах, адресованных друзьям и знакомым, оба, и Тургенев и Вяземский, стремятся развеять клевету вокруг имени Пушкина, правильно информировать общество в отношении поступков Дантеса и хотя бы глухими намеками дать представление о том, что за спиной Дантеса стояли силы, враждебные Пушкину, что обстоятельства, толкавшие его к гибели, Пушкин предотвратить не мог. То, что пишет Карамзин, совпадает с утверждениями Вяземского и Тургенева. Как и они, Карамзин уверен, что у Геккерена и Дантеса была цель — «замарать честь Пушкина». Точно так же он говорит о «дьявольском умысле», о «гнусной интриге». Автором анонимного письма Карамзин считает Геккерена. Ему говорили, что люди, «которым должна быть известна вся подоплека», авторство Геккерена считают почти доказанным. Кто они, эти «люди»? Кому могла быть известна «вся подоплека» событий? Очевидно, он разумеет жандармов — руководителей Третьего отделения Бенкендорфа и Дубельта. Вспомним, что Николай I, как утверждает его дочь Ольга, поручил Бенкендорфу предпринять поиски автора писем. H. M. Смирнов, муж А. О. Россет, пишет в своих воспоминаниях, что «полиция имела неоспоримые доказательства», подтверждающие авторство Геккерена, и что Николай в этом не сомневался. Пусть Щеголеву удалось доказать, что диплом, адресованный Пушкину, переписан или даже написан измененным почерком князя П. В. Долгорукова (это еще требует дальнейшего изучения), но это не отводит подозрений от Геккерена, инициатива несомненно принадлежала ему. Мы видим, что люди, близко стоящие к Пушкину, разделяют его убеждение относительно Геккерена. Они слышали это от самого Пушкина, а кроме того, его письмо к Геккерену известно им в копии: после смерти Пушкина копия находится в руках Вяземского. Вероятно, Карамзин читал это письмо и просто пересказывает пушкинские слова — там, где он говорит, как Дантес хворал и худел, а старый Геккерен уверял Наталью Николаевну, что он умирает от любви к ней, и заклинал ее «спасти его сына». Припомним пушкинский текст. «Когда, заболев… он должен был сидеть дома, — писал Пушкин посланнику, — вы говорили ей, что он умирает от любви к ней, вы бормотали ей: верните мне моего сына». За увещеваниями последовали угрозы, рассказывает Карамзин, «а два дня спустя появились эти анонимные письма». Если сопоставить эти слова с записью в дневнике Барятинской, о котором уже было говорено в этой книге, то последовательность событий становится совершенно понятной. Наталья Николаевна отказывается от внимания Дантеса, отвергает его, за этим следуют заклинания и угрозы Геккерена, а через два дня после угроз появляются анонимные письма. Нет, чьей бы рукой ни был переписан текст пасквиля, ясно, что это месть, исходящая из дома Геккеренов! Оставить оскорбление без последствий Пушкин не мог. Вызов, посланный им Дантесу, был только частью задуманного им плана действий. — Через несколько дней вы услышите, как станут говорить о мести, единственной в своем роде, — заявил Пушкин Вяземской в первой половине ноября, когда еще подозревал в сочинении письма Дантеса, — она будет полная, совершенная, она бросит того человека в грязь. Когда Александр Карамзин говорит, что Пушкин «утопил в грязи своего врага», он, конечно, вспоминает эту угрозу и подтверждает тем самым, что Пушкин ее исполнил. Из его слов выясняется также, что именно разумел Пушкин под выражением «бросить в грязь». Он его утопил в грязи, пишет Карамзин, «заставив играть роль труса». Он имеет в виду тот момент, когда Пушкин, разгласив в ноябре о предстоящем поединке (вспомним упреки Жуковского, что он не соблюдает тайны), вслед за тем отказался от вызова под предлогом, что Дантес женится на его свояченице. Конечно, после этого помолвка Дантеса должна была выглядеть как проявление трусости, как нежелание драться. И в тот самый момент, когда Пушкин мог считать, что унизил и развенчал Дантеса в глазах светского общества, это общество начинает оказывать Дантесу внимание, жалеет его, подхватывает распущенный Геккереном слух о благородстве Дантеса, о жертве, которую якобы он принес Наталье Николаевне Пушкиной. В городе говорят, что жениться на Гончаровой заставил Дантеса Пушкин (хотя Пушкин и бьется об заклад, что Дантес не женится), а великосветская знать твердит о самопожертвовании. Только в такой связи можно понимать слова Карамзина о том, что Пушкин, «исполненный негодования, заклеймил позором своего противника», а он «встает, обеленный, из грязи, в которую Пушкин его поверг». Теперь, когда Пушкина уже нет, Карамзин понимает, какую помощь он и его родные оказали Дантесу, продолжая по-прежнему принимать его в своем доме, где он снова получил возможность встречаться с Натальей Николаевной и самым присутствием своим наносить оскорбление Пушкину, который отказался принимать в своем доме не только его, но и свояченицу. Самой тяжелой виной Дантеса Карамзин считает его ухаживание за Пушкиной после женитьбы на ее сестре. Если так, то ни о самопожертвовании, ни о рыцарском поведении, ни о любви к Екатерине Гончаровой не может быть и речи. А как раз в этом-то Дантес и старался заверить Карамзиных, склоняя их на свою сторону. Поведение его оказалось сложной игрой. Эту игру еще при жизни Пушкина понял Жуковский и внес в свои конспективные записи несколько строк, разоблачающих двуличие и подлость Дантеса.
«После свадьбы. Два лица. Мрачность при ней. Веселость за ее спиной. — Les Révélations d'Alexandrine <разоблачения Александрины›. При тетке ласка с женой: при Александрине и других, кои могли бы рассказать, des brusqueries ‹резкости›. Дома же веселость и большое согласие».Биографы по ошибке отнесли эти строки к Пушкину. Только в наши дни Е. С. Булгакова и независимо от нее А. Л. Слонимский по-новому истолковали эту запись, и сразу стало попятно, что речь в ней идет о Дантесе. Это у него «два лица» после свадьбы, а совсем не у Пушкина. Это он при Наталье Николаевне напускает на себя мрачность, а в ее отсутствие весел. Свояченица Пушкина Александрина подметила, что при их тетке — Е. С. Загряжской — Дантес ласков с женой, а при ней, Александрине, и при других, кои могут передать Наталье Николаевне, говорит жене резкости. Между тем дома у Геккеренов «веселость и большое согласие». Эта подлая игра и разоблачает Дантеса в глазах Александра Карамзина. Андрей Карамзин в Париже хочет найти оправдание Дантесу. Но Александр уже понял, что Дантес действовал по наущению Геккерена, который плетет интригу, и он пишет: «не подавай руки». Важную роль в этом заговоре, гораздо большую, чем это было принято считать до сих пор, Александр Карамзин отводит Е. Н. Гончаровой. В его рассказе она выступает как пособница Геккеренов, как активный враг; он называет ее в числе убийц Пушкина. С того дня, когда Пушкин, получив пасквиль, вызвал Дантеса на дуэль, аристократия встала на защиту авантюриста и принялась травить Пушкина пуще прежнего. Александр Карамзин возмущен этим. Он ценит и понимает поэзию Пушкина, он называет его врагов «кликой», «горсточкой низких людей».
«Не думай, однако, — приписывает он с краю по-французски, — что все общество встало против Пушкина после его смерти; нет, только Нессельрод и еще кое-кто. Другие, наоборот, например графиня Нат[али] Строганова и м-м Нарышкина (Map. Яков.) с жаром выступили на его защиту, что даже повело к нескольким ссорам, а большинство вовсе ничего не говорило — так им и подобает».О том, что в петербургском великосветском обществе еще при жизни Пушкина образовались две партии, одна — за Пушкина, другая — за Дантеса, рассказывал в свое время секундант поэта Данзас. Карамзин прав, когда говорит о существовании двух партий и о том, что во главе враждебных Пушкину сил находилась целая «клика». Даже по словам великого князя Михаила Павловича, Пушкина довели до смерти «подлый образ действий» и сплетни «клики злословия», «конгрегации», которую брат царя называл «комитетом общественного спасения». Известно — об этом пишет Д. Д. Благой, — что великий князь имел при этом в виду салон жены министра иностранных дел графини М. Д. Нессельроде. Ненависть графини Нессельроде к Пушкину была безмерна и столь же хорошо известна, как и дружеское отношение ее к Геккерену и Дантесу, на свадьбе которого она была посаженой матерью. Современники заподозрили в ней сочинительницу анонимного диплома — но лютой вражде своей к Пушкину и по моральной низости она была способна на это. Почти вне сомнении, что она вдохновительница этого подлого документа. Даже в те дни, когда Николай I, встревоженный проявлением народного сочувствия Пушкину, счел нужным продемонстрировать свое охлаждение к Геккерену и выслал ему табакерку с портретом своим в знак того, что не желал бы более видеть его среди дипломатических представителей, аккредитованных при русском дворе, даже и тогда графиня Нессельроде не отступилась от Геккеренов, а продолжала выказывать им свое покровительство. В ее салоне в самой откровенной и циничной форме выражалась вражда, которую питало к Пушкину аристократическое общество в целом. В распоряжении исследователей имеется достаточно сведений, разоблачающих зловещую роль в судьбе Пушкина графини Нессельроде. Теперь прибавилось письмо Александра Карамзина. Однако, если вполне положиться на его слова, что против Пушкина выступали Нессельроде и «еще кое-кто», можно подумать, что силы противников и сторонников Пушкина были равны. На самом же деле отношение аристократии к Пушкину определяли не друзья, а враги. И не только самые лютые, кто клеветой и злоречьем довели его до кровавой развязки, погубили его, но и те, которые открыто не выступали, но при жизни Пушкина Дантеса поддерживали, а после смерти оправдывали. Да что же говорить о представителях великосветского общества, далеких Пушкину и враждебных, когда друзья — Карамзины — не встали на его сторону! Больше, чем защитительные речи аристократок, упомянутых Александром Карамзиным, говорят нам письма Андрея и Софьи: в дни, когда каждый грамотный русский проклинал убийцу поэта, они стремились его оправдать! Ничто не обнажает с такой ясностью отношение великосветского общества к Пушкину, как позиция его друзей, разделяющих взгляды этого общества! Много ли было в петербургских гостиных таких, как Александр Карамзин? Дамы, которых он называет? Первая из них — уже упоминавшаяся в письмах графиня Наталья Викторовна Строганова. Помимо ее близости к семейству Карамзиных зимой 1836–1837 года, она находилась в дружеских отношениях с Вяземским; вернее всего, что в ее отношении к гибели Пушкина отразилась позиция Вяземского. Что касается Марии Яковлевны Нарышкиной, имя которой в связи с Пушкиным мы встречаем впервые, она не может быть причислена к николаевской знати: ее муж, гофмаршал К. А. Нарышкин, находился в оппозиции к правительству Николая, мнений придворной аристократии Нарышкины не разделяли. То, что попытки Строгановой и Нарышкиной встать на защиту Пушкина привели к нескольким ссорам, лишний раз свидетельствует об активности пушкинских врагов. «Да, конечно, светское общество погубило его!»-восклицал Вяземский, напоминая, что сплетни и анонимные письма приходили к Пушкину «со всех сторон». Что Пушкина убил «неблагожелательный свет», утверждала и Екатерина Мещерская. «В наших позолоченных салонах и раздушенных будуарах, — писала она вскоре после гибели Пушкина, — едва ли кто-нибудь думал и сожалел о краткости его блестящего поприща. Слышались даже оскорбительные эпитеты и укоризны, которыми поносили память славного поэта… и в то же время раздавались похвалы рыцарскому поведению гнусного обольстителя и проходимца, у которого было три отечества и два имени». Какая точная характеристика барона Дантеса-Геккерена, французского монархиста, усыновленного голландским дипломатом и обласканного русским двором!
14
«Князь Петр В[яземский]… все эти дни был болен — физически и нравственно, как это с ним обычно бывает, — пишет Екатерина Андреевна сыну 16 марта, — но на этот раз тяжелее, чем всегда, так как дух его жестоко угнетен гибелью нашего несравненного Пушкина…»Из писем Карамзиных окончательно выясняется, что об отправке письма Геккерену Вяземский узнал вечером 25 января, за два дня до дуэли: Пушкин сам рассказал об этом его жене — Вере Федоровне. Даже и не читая письма, Вяземский должен был понимать, что последствием его может быть только дуэль. И все же, как видно, ничего не сделал для того, чтобы предупредить несчастье. Выходит, что намерение свое отвернуться от дома Пушкиных, о чем мы знаем из письма Софьи Карамзиной, Вяземский выполнил. Сомневался ли он, что может помочь Пушкину? Пли не считал себя вправе вмешиваться в «дело чести», которое потом раскрылось ему как результат коварнейших покушений двух негодяев? Этого мы не знаем. Но когда тело Пушкина после отпевания выносили из церкви, на паперти лежал кто-то большой, в рыданиях. Его попросили встать и посторониться. Это был Вяземский. Память Пушкина он защищал страстно, разрывая отношения с приятелями, которые вели себя в те дни непатриотично или колебались во мнениях. Во всяком случае, никто из людей, окружавших Пушкина в последние годы, не разоблачал с такой энергией, с такой убежденностью, как Вяземский, тайные интриги врагов, гнусность Геккерена и его приемного сына. 29 марта 1837 года. С.-Петербург. Письмо Софьи Карамзиной:
«Суд над Дантесом окончен. Его разжаловали в солдаты и под стражей отправили до границы; затем в Тильзите ему вручат паспорт, и конец — для России он больше не существует. Он уехал на прошлой неделе, его жена вместе со своим свекром поедет к нему в Кенигсберг, а оттуда, как говорят, старый Геккерен намерен отправить их к родным Дантеса, живущим возле Бадена. Возможно, что ты их там встретишь: думаю, мне не нужно просить тебя: „будь великодушен и деликатен“; если Дантес поступил дурно (а только один бог знает, какая доля вины лежит на нем), то он уже достаточно наказан: на совести у него убийство, он связан с женой, которую не любит (хотя здесь он продолжал окружать ее вниманием и заботами), его положение в свете весьма скомпрометировано, и, наконец, его приемный отец (который, кстати, легко может от него и отказаться), с позором, потеряв свое место в России, лишился здесь и большей части своих доходов…»Бедный Дантес наказан: он не любит жену, Геккерен может от него отказаться, они лишаются русских доходов, на совести у Дантеса убийство, — поэтому надо быть с ним деликатным и протянуть ему руку! Вот опять оно, мнение света! Как раскрываются характеры в письмах! Отношения к Пушкину и к Дантесу разделили семью на два лагеря: Софья и Андрей жалеют убийцу, Екатерина Мещерская и Александр проклинают его. Екатерина Андреевна, оплакивая Пушкина, не говорит о Дантесе ни слова. Вяземский выступает в защиту Пушкина, обвиняет обоих Геккеренов, обвиняет великосветское общество, а его дочь, Мария Валуева, торопится выразить сочувствие Екатерине Дантес…

Адрес на оборотной стороне письма С. Н. Карамзиной к брату Андрею
«Так называемые патриоты, — продолжает Софья Николаевна, — случалось, начинали у нас разговоры о мести, предавали Дантеса анафеме и осыпали проклятиями, — такого рода рассуждения уже возмущали тебя в Париже, и мы тоже всегда отвергали их с негодованием. Не понимаю, неужели нельзя жалеть одного, не обрушивая при этом проклятий на другого. Если случится тебе встретить Дантеса, будь осторожен и деликатен, касаясь, с ним этой темы…»«Патриоты», проклинающие Дантеса, — это те, кто стоял на морозе под окнами Пушкина, кого не пустили в придворную церковь, у кого украли тело поэта, те, которых Софья Карамзина называла «вторым обществом», демократические круги, «средний класс», являвшийся тогда, по словам Пушкина, «единственно русским». 9 апреля, пятница, С.-Петербург. Снова письмо Софьи Николаевны Карамзиной:
«Жуковский недавно читал нам чудесный роман Пушкина „Ибрагим, Царский Арап“. Этот негр до того обаятелен, что ничуть не удивляешься тому, что он мог внушить страсть придворной даме при дворе Регента. Многие черты его характера и даже его облик как будто скопированы с самого Пушкина. Перо писателя остановилось на самом интересном месте. Какое несчастье, боже мой, какая утрата, как об этом не перестаешь сожалеть…»В рукописи этого неоконченного романа Пушкина заглавия нет. Название «Арап Петра Великого» дано редакцией «Современника», в которую после смерти Пушкина входили Жуковский, Вяземский, В. Одоевский, Плетнев и Краевский. «Арап» был напечатан в 1837 году, в шестой книжке журнала. Строчки из письма Екатерины Андреевны от 11 мая:
«Чтобы сделать тебе подарок на пасху — записалась для тебя на собрание сочинения Пушкина за 25 рублей».Среда, 2 июня 1837 года. Царское Село. Пишет Софья Карамзина:
«На днях я получила письмо от Александрины Гончаровой и Натали Пушкиной… Я еще раньше писала ей о романе Пушкина „Ибрагим“, который нам недавно читал Жуковский, — кажется, в свое время я и тебе говорила о нем, ибо он привел меня в восторг, — теперь она мне отвечает: „Я его не читала и никогда не слышала от мужа о романе „Ибрагим“; возможно, впрочем, что я знаю его под другим названием. Я велела прислать мне все произведения моего мужа, я пыталась их читать, но у меня не хватило мужества; слишком сильно и слишком мучительно волнуют они, когда их читаешь, будто снова слышишь его голос, — а это так тяжело“».Вероятно, Пушкин не читал жене этого неоконченного романа, над которым начал работать задолго до женитьбы, в 1827 году, и к которому позже, видимо, уже не возвращался. 9 июля, С.-Петербург. Екатерина Андреевна Карамзина:
«Хотела послать тебе „Современник“, но кн[язь] Петр В[яземский] говорит, что послал его еще в листах м-м Смирновой; надеюсь, она даст тебе почитать».Речь идет о пятой книжке «Современника», в которой напечатаны произведения Пушкина, обнаруженные при разборе его бумаг, — «Медный всадник», «Сцены из рыцарских времен» и стихи. В том же номере напечатано письмо Жуковского к отцу поэта, под названием «Последние минуты Пушкина». И, между прочим, стихи Александра Карамзина. Александра Осиповна Смирнова-Россет, уехавшая за границу в июне 1835 года, хочет знать все подробности о гибели Пушкина, каждую новую строчку его стихов. Вяземский шлет ей листы «Современника» в Баден, где находится и Андрей Карамзин. В этот курортный городок, излюбленный русской аристократией, в конце июня 1837 года приехали Геккерен и Дантес. Андрей Карамзин встретил Дантеса на прогулке и… подошел к нему. «Русское чувство боролось у меня с жалостью, — объяснял он в письме к родным, упрекая брата Александра за то, что тот не пожелал повидать и выслушать убийцу Пушкина. — В этом, Саша, я с ним согласен, ты нехорошо поступил». Вот ответ Софьи Николаевны Андрею (17 июля 1837 года, Царское Село):
«Твое мирное свиданье с Дантесом очень меня порадовало…»О многом говорит это «мирное свиданье». Несмотря на гневные тирады по адресу великосветского общества, Андрей Карамзин слишком разделял понятия этого общества и возвыситься над ними не мог. Он принадлежал свету всецело. И нет ничего удивительного в том, что в 1840-х годах он уже числился адъютантом шефа жандармов. В год гибели Пушкина эта эволюция еще не завершилась. Две недели спустя после встречи с убийцей Пушкина Андрей Карамзин танцевал в Бадене на балу, устроенном русской знатью. «Странно мне было смотреть, — пишет он, — на Дантеса, как он с кавалергардскими ухватками предводительствовал мазуркой и котильоном, как в дни былые».
Это сообщение подействовало даже на Софью Николаевну, хотя она и тут показала, что не поняла трагедии Пушкина.
«То, что ты рассказываешь о Дантесе, как он дирижировал мазуркой и котильоном, — отвечала она, — даже заставило нас всех как-то вздрогнуть, и все мы сказали в один голос: бедный, бедный Пушкин! Ну, не глупо ли было с его стороны пожертвовать своей прекрасной жизнью? И ради чего?»Это письмо от 22 июля — последнее упоминание имени Пушкина в тагильской находке.
15
Обстоятельства, погубившие Пушкина, были куда сложнее, чем это казалось Карамзиным. Поэта долгие годы губили и в конце концов погубили: и унижавшая его придворная служба, и невозможность вырваться из петербургского света и спокойно писать, мелочная опека царя, грубые нотации Бенкендорфа, борьба с цензурой, литературная травля, интриги бывших единомышленников, дела «Современника», долги, нужда, материальная зависимость от двора, глубокое одиночество, наглость Дантеса, козни его «отца», анонимный «диплом», сплетни и клевета злоречивого общества. Как много доказательств этому содержится в письмах Карамзиных! Огромный интерес представляет даже и то, что уже было известно раньше, от других современников. Кроме того, тут много нового. В письмах, относящихся к июлю — октябрю 1836 года, находятся сведения о душевном состоянии Пушкина, о его литературно-издательских делах, об отношении его к Дантесу, о той двойной игре, которую Дантес одновременно ведет с женой и свояченицей Пушкина. Ноябрьские письма помогают нам понять происхождение «диплома» и мотивы внезапного сватовства. Первые сообщения о дуэли и смерти Пушкина представляют собой новое опровержение легенды, сочиненной Жуковским. К документам, разоблачающим заговор «двух негодяев», прибавилось письмо Александра Карамзина. И почти все письма содержат важные детали, новые даты, имена знакомых Пушкина, прежде нам не известные. Воспоминания, записки строятся на отобранных фактах, пишутся потом с «поправкой на время», с учетом сложившихся мнений. Дневник, хотя записи в нем идут «по следам событий», пишется как документ для истории. А письма содержат описание событий, последствия которых большей частью еще не известны, факты в них еще не осмыслены; в них передано только первое отношение к событию, с темп подробностями, которых не сохранила бы память мемуариста. В своих письмах Карамзины часто говорят об одном, но каждый из них освещает факты по-своему. Благодаря этому мы видим Пушкина словно в стереоскопе, объемно. А в совокупности эти письма составляют целую повесть о борьбе и о гибели Пушкина, повесть, и теперь еще способную возбуждать чувства, с которыми приходили прощаться с Пушкиным его неизвестные почитатели. Пушкин во время дуэли и в дни страданий, прощание с Карамзиной, вереница незнакомых у гроба, толпа на Конюшенной площади в час отпевания, стихи Лермонтова, отправляемые в Париж, письмо Александра Карамзина… Эти и многие другие страницы очень значительны. Такие письма стоят романа. Понять смысл трагедии, разгадать, в чем причина того состояния Пушкина, которое они так подробно описывали, Карамзины не могли. Не раскрыли этого до конца и другие свидетели, которые понимали, что дело не только в Дантесе, и догадывались, очевидно, и о закулисных действиях Бенкендорфа, и о подлинном отношении царя, а возможно, и о его вмешательстве в отношения Пушкина и Дантеса. Вяземский в своих письмах к друзьям настойчиво твердил в те дни о «печальной и загадочной обстановке», намекал на существование тайны, жаловался, что многое осталось в этом деле темным и таинственным для него самого и друзей. Но то, о чем догадывался Вяземский, он написать не решался: надо было называть имена. «Сказанное есть сущая, но разве неполная истина», — замечал он в конце обстоятельного письма к московскому почт-директору А. Я. Булгакову с рассказом о гибели Пушкина. «Предмет щекотлив», — объяснял он в письме к Е. А. Долгоруковой. Не один Вяземский опасался писать. А. О. Смирнова, отвечая ему из Бадена, намекала, что и она кое-что знает и хотела бы поделиться своими мыслями о людях и делах, имевших отношение к гибели Пушкина, «но на словах, — писала она, — я побаиваюсь письменных сообщениях». Можно было бы привести целый ряд доводов, почему в переписке пушкинских современников невозможно найти ключ к раскрытию этой тайны. Стоит только припомнить жалобы Пушкина, что царь читает его переписку с женой, или то беспокойство, которое побудило Клементия Россета обратиться к Пушкину с просьбой, чтобы он не отсылал по почте свой ответ Чаадаеву. Все эти заявления и намеки в письмах друзей Пушкина относятся к тому времени, когда даже знаки сочувствия к нему рассматривались как действия заговорщиков. С этим надо считаться. Тайна существовала. Современники раскрыть ее не могли. Но о ней писал не только Вяземский. О ней говорят и Карамзины. И они допускают существование причин, оставшихся им неизвестными. Ведь несмотря на то что, по словам Софьи Карамзиной, Пушкин рассказывал ее сестре, Е. Н. Мещерской, «обо всех темных… подробностях» этой истории, она все-таки кажется им «таинственной». Хотя Жуковский и пеняет Пушкину за то, что он рассказал Карамзиным «все», они утверждают, что «суть» истории непонятна и «никому не известна». Пушкин убит, а история и после смерти его продолжает казаться им «темной». Анонимное письмо Софья Николаевна называет «явной причиной несчастья». Значит, подозревает и тайные. Подозревает потому, что причины явные — поведение Дантеса — еще не объясняют им состояния Пушкина. «Время откроет более», — писал Александр Тургенев. В 1926 году исследователь дуэли и смерти Пушкина Б. В. Казанский выдвинул гипотезу, что пасквиль, полученный Пушкиным по городской почте, связывал имя жены Пушкина с именем Николая. И что Пушкин понял этот намек. Независимо от Казанского с этой гипотезой выступил П. Е. Рейнбот. Ее принял П. Е. Щеголев, поддерживал и развивал М. А. Цявловский. Новые письма не поддерживают, но и не опровергают этой гипотезы. Зато они подтверждают главное, то, что открыло наше время и доказали советские исследователи, — политический характер гибели Пушкина. Версия о семейной драме оказалась несостоятельной. Пушкина убило великосветское общество. Оно сочувствовало наглому искателю приключений, поддерживало грязного интригана, улыбалось выходке негодяя, выводившего каллиграфические буквы скабрезного документа. Оно хотело гибели Пушкина, оно ее подготовило. И не так уж важно, в конце концов, чьей рукой переписан документ, отравивший существование Пушкина. Кроме князя Долгорукова, рассылкой анонимных писем осенью 1836 года занимались молодой князь Урусов, молодой граф Строганов, молодой Опочинин… В великосветском обществе это считалось веселой забавой. Враги Пушкина превратили эту забаву в орудие казни. Письма Карамзиных оживляют наши знания множеством новых подробностей, проясняют наши представления о жизни Пушкина среди беспощадного к нему света. И потому, что мы понимаем Пушкина лучше, чем понимали Карамзины, и знаем исход, которого Карамзины не предвидели, этот домашний разговор в письмах производит огромное впечатление. Он вызывает такие горькие сожаления, он будит, подымает в нас чувства такой бесконечной любви, которая уже давно доказала, что Пушкин бессмертен. Вот какие материалы отыскались в Нижнем Тагиле. Вы, может быть, скажете, что это случайная находка? Да в том-то и дело, что не случайная: такое происходит в Тагиле уже не впервые. В 1924 году в одном из домов, которым прежде владели Демидовы, обнаружилась старинная картина, изображающая мадонну с младенцем, с подписью: «Рафаэль Урбинас…»; она хранится в Москве, в Музее изобразительныхискусств имени Пушкина. Высказывалось мнение, что это «Мадонна», которую Рафаэль написал в 1509 году для церкви Мария дель Пополо в Риме, — она исчезла оттуда еще в XVI веке. Потом ее видели в Риме, у кардинала Сфондрато… Автор этой гипотезы, академик И. Э. Грабарь, предполагал, что кто-то из Демидовых, собравших во Флоренции огромные художественные богатства, привез «Мадонну дель Пополо» в Нижний Тагил. Другие специалисты не видят достаточных оснований считать «Тагильскую Мадонну» творением великого Рафаэля. Но как бы то ни было, картина эта принадлежит кисти старого итальянского мастера, и мастера замечательного. Такая находка делает честь Тагилу. А тут еще письма… Пожалуй, найдется еще что-нибудь в этом же роде! Впрочем, Тагил не один. Есть и другие города на советской земле, большие и малые. Стало быть, скоро услышим о новых находках.[10]ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Посвящается Вивиане Абелевне Андрониковой, которая заставила меня записать этот рассказ
БЫВАЕТ ЖЕ ТАКАЯ УДАЧА!
Уже не помню сейчас точную дату, знаю только, что это было весной, когда знакомые позвонили мне по моему московскому телефону: — Послушайте, Ираклий! Вас интересует письмо Лермонтова? Подлинное. И, кажется, еще неизвестное. Что это, шутка? В трубке слышится дружный хохот, голоса: «Что, молчит?», «Он жив?», «Представляю себе его видик!». Может быть, розыгрыш?… Нет! Голос, который произнес эти ошеломившие меня фразы, принадлежит женщине серьезной, уважаемой, умной, немолодой, наконец! Положительной во всех отношениях! Конечно, это чистая правда! Вот радость! Начинаю выражать восторги, ахать, шумно благодарить собеседницу. — Чтобы увидеть это письмо, — говорит она уже совершенно серьезно, — вам придется ехать в Актюбинск… Почему в Актюбинск? Потому что письмо находится там! — И снова смеется. — Вот уж правда, что на ловца и зверь бежит! Новая тема для ваших рассказов. Кроме лермонтовского письма, — продолжает она, словно решила меня дразнить, — там, говорят, есть еще кое-что. И, кажется, даже много «кое-чего». У нас сейчас сидит доктор Михаил Николаевич Воскресенский. Он только что из Актюбинска. И расскажет вам все это, конечно, лучше меня. Передаю ему трубку… То, что я услышал от Михаила Николаевича Воскресенского, заинтриговало меня еще больше. — Пользуясь любезностью наших общих друзей, обращаюсь к вам за советом, — начал он негромко и осторожно. — Дело в том, что проживающая в Актюбинске Ольга Александровна Бурцева уполномочила меня переговорить в Москве о судьбе принадлежащих ей рукописей. Кроме письма Лермонтова, у нее хранятся письма других писателей. Все это она хотела бы предложить в один из московских архивов. Вы, насколько я знаю, связаны с Государственным литературным архивом, и, если не возражаете, мне хотелось бы подробнее поговорить обо всем этом при личном свидании. На другой день он приехал ко мне — небольшой, предупредительно-вежливый, скромный, с представительной, прежде, видимо, очень красивой женой — и в доказательство серьезности намерений Бурцевой разложил на скатерти два письма Тургенева, два письма Чехова, два письма Чайковского и маленькую записочку Гоголя. Разложил и взглянул на меня вопросительно и вместе с тем понимающе. Увидев все это, я присмирел и в тот же миг углубился в чтение. Да. Конечно. Подлинные автографы. Письма Чехова опубликованные. И никогда еще не появлявшиеся в печати письма Тургенева и Чайковского. Объявление Гоголя об отъезде его за границу в собраниях его сочинений тоже не обнаружилось. — Если эти рукописи представляют для вас интерес, — заговорил доктор снова, — то Ольга Александровна хотела, чтобы вы приехали к ней в Актюбинск и познакомились с остальными. — А сколько их у нее? — Затрудняюсь сказать: я видел не все — только часть. По моим представлениям, у нее много интересного и, видимо, редкого: автографы музыкантов, писателей, ученых, итальянских певцов. Это не моя область: по специальности я рентгенолог. В прошлом мы с женой ленинградцы, ну, и, конечно, большие любители музыки, литературы, театра… На наш взгляд, коллекция представляет исключительный интерес. Жена подтвердила. Возвращая автографы, присланные в качестве образца, я просил передать Ольге Александровне Бурцевой, что приеду в Актюбинск, предварительно договорившись о передаче принадлежащих ей рукописей в Центральный государственный архив литературы и искусства. А с доктора взял обещание: по возвращении в Актюбинск выслать хотя бы приблизительное описание тех документов, о которых мне следовало вести переговоры в Москве.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ
Письмо пришло через месяц. Оно состояло из длинного списка фамилий великих деятелей русской культуры. Впрочем, это было еще не все: доктор предупреждал, что многие подписи ему разобрать не удалось и что Ольга Александровна не очень хотела бы заочного решения вопроса. Перечитав список бессчетное число раз, выучив его чуть ли не наизусть, я отправился в Центральный государственный архив литературы и искусства, который сокращенно именуется ЦГАЛИ, а в разговорах просто Гослитархив и даже Литературный архив. Иные и до сего времени связывают с этим словом представление о какой-то безнадежно серой и нудной работе, с пренебрежением говорят: «сдать в архив», «архивная пыль», а то еще и «архивная крыса»… Деятели архивного дела рисуются им людьми пожилыми, с нездоровым цветом лица, с блеклым взглядом, сторонящимися живой жизни и бегущими от нее в прошлое. Сказка! И притом старая. Нынче в учреждениях подобного рода, особенно в системе Главного архивного управления, работают больше девушки-комсомолки, мужчины в полном выражении здоровья — народ современный, живущий не прошлым, а самым что ни есть настоящим. Они окончили Историко-архивный институт (или университет), помышляют о диссертации (или уже защитили ее), одержимы стремлением не только хранить, но, прежде всего, изучать, разведывать архивные недра, вводить в научную эксплуатацию новые запасы исторического сырья, занумерованного и скрытого в помещениях, недоступных солнцу, огню и воде, сырости, холоду и хищениям. Нынешний архивист не вздохнет над засушенным цветком в старинном альбоме, не загрустит над упакованным в миниатюрный конвертик колечком золотистых волос. Не сувениры прошлого привлекают его, а неизвестные факты этого прошлого. Не в его характере ахать и удивляться. Особенно трудно чем-либо удивить работников ЦГАЛИ — архива, принявшего в себя многое множество старинных рукописей, в связках, в папках, в картонах, коробках и переплетах из музеев Литературного, Исторического, из театров Большого и Малого, из Третьяковской галереи, из Московской консерватории, из Архива древних актов и другие более близкие к нам по времени акты, договоры, письма и рукописи, которые передали в ЦГАЛИ нынешние наши издательства и творческие организации. Чем удивить работников этого архивного левиафана, насчитывающего около двух тысяч отдельных фондов — фондов родовых и семейных, писателей и ученых, актеров и музыкантов, деятелей политических и общественных?! Станут ли там ахать и удивляться при виде еще одного письма или двух фотографий? Привыкли! Однако сообщение доктора Воскресенского даже и в ЦГАЛИ произвело впечатление огромное. Зарумянились опытнейшие, оживились спокойнейшие. Просто неправдоподобным казалось, что в Актюбинске, в частных руках, может храниться такая удивительная коллекция. Все задвигалось, заговорило, принялось строить догадки и вносить предложения. Одни считали необходимым немедленно запросить или вызвать, другие — отправить и привезти, третьи — просто доставить. Иные советовали не торопиться, а рассмотреть, обсудить и решить. Но поскольку рассматривать было нечего, то и обсуждать было нечего, а решать могло только вышестоящее Главное архивное управление, ибо даже и предварительные расчеты показывали, что для подобной покупки потребуются ассигнования особые. Сначала писал по начальству я, потом начальник архива, все пошло своим чередом. И насунулся уже декабрь, и давно установилась зима, когда нужные суммы были отпущены и вышел приказ командировать меня в Актюбинск для изучения коллекции рукописей и переговоров с владелицей.СКОРЫЙ «МОСКВА-ТАШКЕНТ»
Ободренный командировочным удостоверением (я замечал, что оно как-то придает человеку энергии), заручившись рекомендательным письмом к О. А. Бурцевой от Союза писателей СССР, я «убыл» с ташкентским поездом. Теперь, когда медленно заскользили за стеклом составы пустых электричек, потом побежали под мостами убеленные снегом улицы с трамваями, про которые уже давно забыли в центре Москвы, когда закружились на белых полянах однорукие черные краны, осеняющие кирпичные корпуса, промелькнули вытянувшиеся возле переездов трехтонки и самосвалы, я мог, наконец, подробно обдумать поручение, которое по желанию моему и ходатайству возложило на меня Главное архивное управление. Что же это за рукописи? Сколько их? Как их оценивать? Автограф автографу рознь. Можно расписаться на визитной карточке, на театральной программе — вот тебе и автограф! Но написанные от руки страницы романа или рассказа, письмо да и всякая рукопись автора — тоже автограф! Как примет меня Ольга Александровна Бурцева? С чего начинать разговор? Какими глазами буду глядеть я, возвращаясь через несколько дней, на все эти подмосковные дачи и станции? К исходу второго дня пошли места пугачевские, пушкинские, известные с детства по «Капитанской дочке», — оренбургские степи, где разыгрался буран, когда «все было мрак и вихорь», ветер выл «с такой свирепой выразительностью», что казался одушевленным, и, переваливаясь с одной стороны на другую, как «судно по бурному морю», плыла среди сугробов кибитка Гринева! Сперва думалось, как поэтично и верно у Пушкина каждое слово, потом мыслями завладел Пугачев, пришли на память сложенные в этих местах песни и плачи о нем, в которых он именуется Емельяном и «родным батюшкой», покинувшим горемычных сирот… Оренбургские степи перешли в степи казахские. Тогда я еще не мог знать, что передо мною расстилаются те самые земли, подняв которые славный Ленинский комсомол прославит навсегда своим подвигом! Несколько лет спустя, осенним днем, я смотрел на них в круглое окошечко самолета. Черно-бархатные и золотисто-русые квадраты, вычерченные рукой великана, пропадали в стоверстной дали, заваленной дымной мглой. Простроченное пупырышками заклепок крыло неподвижно висело, подбирая под себя эти бескрайние земли, а они всё текли и текли… Но это было потом, через несколько лет. А тогда я ехал, а не летел. И поезд стучал и покачивался, на окне лежала толстая шуба инея, в окно проникал серебристо-серый морозный свет. Процарапав на стекле щелку, можно было видеть степь в завихрении дыма и вьюги. Ветер катался по крыше и к ночи совсем разошелся: толкал вагон, сбивал с такта колеса. Наконец, вынырнув из темноты, окно засверкало, в купе завертелись тени, остановились, под вагоном стукнуло, скрипнуло, брякнуло, стал слышен храп, в душную спячку ворвался холод. — Актюбинск!СОТРУДНИЦА АКТЮБИНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА
Уже к концу первого дня каждый приезжий узнаёт, что «Ак-тюбе» — «Белый холм», что не так давно здесь было казахское поселение и старые люди помнят, как оно становилось Актюбинском. Теперь это крупный город. В годы пятилеток здесь возникла промышленность — завод ферросплавов, «Актюбрентген», «Актюбуголь», «Актюбнефть» и другие актюбпредприятия, Актюбинский аэропорт. Потом город оказался среди поднятой вековой целины. И пошли на сотнях тысяч конвертов слова: «Актюбинск», «Актюбинский»… И стал он городом будущего… Но это я опять забегаю вперед. В то утро я еще не знал всего этого, а, сдав вещи в гостиницу, торопливо шагал по архивным делам к доктору Воскресенскому. Буран утих. Актюбинск спешил на работу. Сияли сугробы, в светлое небо поднимались жемчужные дымы, снег под калошами визжал и присвистывал. Можете поздравить меня! В этот час Михаил Николаевич Воскресенский спешил на работу уже в другом городе. Оказывается, покуда я собирался в Актюбинск, Москва утвердила его диссертацию и он привял приглашение в Воронеж. — Недели три как уехали. Они больше здесь не живут!.. А я так на них полагался, что не узнал даже адреса Бурцевой. Правда, выяснить это было нетрудно. Но пока я перебегал с тротуара на тротуар, расспрашивал, как пройти в управление милиции, потом искал Красноармейскую улицу, Бурцева уже ушла на работу — в топливный отдел Актюбинского горисполкома, или, короче, в Гортоп. Это заставило меня еще раз пробежаться в хорошем темпе по городу, бросив взгляд на бронзовую фигуру знатного казахского просовода Чаганака Берсиева. Непредвиденные препятствия распаляли нетерпение и беспокойство. «Что, — думал я, — если раньше конца дня на автографы поглядеть не удастся? А может быть, и до завтра?… А вдруг она не сможет показать их до воскресенья?! Хоть бы Лермонтова увидеть сегодня!..» Но тут я уже читаю на табличке: «Гортоп» — и, обметя веничком ноги на деревянном крылечке, вступаю в помещение, где за столами вижу пятерых женщин — четырех помоложе, одну постарше других. Те, что помоложе, подняв голову при моем появлении, не проявили ко мне никакого решительно интереса и снова углубились в работу. Та, что постарше — лет пятидесяти, — с пронзительным темным взглядом, с интересным и тонким лицом, с цветной повязкой на седеющих волосах, проявила ко мне значительный интерес. Наклонив голову и слегка опустив ресницы, она дала понять, что догадывается, кто я и откуда к ней прибыл, но не хотела бы распространяться здесь — в учреждении — на тему, с работой не связанную. Я представился ей. Она, в свою очередь, познакомила меня с остальными. Зашел разговор о вчерашнем буране, об изобилии снега, о гостеприимстве актюбинцев, о достоинстве актюбинских гусей, продающихся на колхозном базаре. Проявив повышенный интерес к актюбинской кухне, ибо время завтрака уже миновало, я извинился тем, что у меня к Ольге Александровне неотложное дело и я хотел бы его изложить, не мешая другим. Ольга Александровна, казалось, находится в затруднении: начальник уехал в район, если только уйти без его разрешения? Сослуживицы ее поддержали: будь начальник на месте, он, конечно, отпустил бы поговорить — человек из Москвы, потеряет день понапрасну. Два-три часа можно всегда отработать. Доводы показались Ольге Александровне вескими, и мы вышли.ТЫСЯЧА ПЯТЬСОТ ВОСЕМЬ
Бурцева привела меня в комнату на втором этаже, обычную комнату о двух окнах, затопила небольшую плиту, поставила чайник и в нерешительности стала оглядывать стол, диван, подоконники. — Прямо не представляю себе, — сказала она, — где вы разложите их… Список я знал. Знал, что бумаг будет много. Тем не менее сердце испуганно екнуло, стало жарко. — На столе? — сказал и тут же понял, что глупо. — Ну стола-то вам, конечно, не хватит, — ответила Бурцева, быстро взглянув на меня и улыбнувшись любезно и живо. И я — за эти полчаса в который раз! — отметил про себя, что она держится с простотой и свободой человека благовоспитанного и сдержанного. — Впрочем, — продолжала она, — как-нибудь выйдем из положения. Боюсь только, негде будет поставить чай. А вы у меня голодный… Сделав шаг по направлению к окну, она сдернула скатерть, какою была накрыта стопка вещей в углу, сняла и отставила в сторону корзиночку, потом чемодан, еще чемодан… — А этот, — сказала она, указывая на самый большой, — берите! Ставьте его на диван! Я схватился… Помятый, обшарпанный чемодан в старых ярлыках и наклейках, служивший хозяевам, видимо, с дореволюционных времен… Вцепился в ручку — он как утюгами набит! Взбросил его на диван… Бурцева подняла брови: — Открывайте! Он у меня не заперт… Раздвинул скобочки, замки щелкнули, крышка взлетела… Нет! Сколько ни готовился я увидеть эту необыкновенную коллекцию и взглянуть на нее спокойно и деловито — не вышло! Я ахнул. Чемодан доверху набит плотными связками… Письма в конвертах… Нежные голубые листочки. Листы плотной пожелтевшей бумаги из семейных альбомов. Рескрипты. Масонские грамоты. Открытки. Фотографии. Визитные карточки. Аккуратные копии… Черновики. По-русски. По-французски. По-итальянски… Задыхаясь, беру письмо… «Лев Толстой»… Фуф!!! Как бы с ума не сойти!.. …Автобиография Блока! …Стихотворение Шевченко! …Духовное завещание Кюхельбекера! …Черновик XII главы «Благонамеренных речей» Щедрина! …Фотография Тургенева с надписью. …Рассказ Николая Успенского. …Стихотворение Есенина… …Письмо мореплавателя Крузенштерна… Революционера Кропоткина… Кавалерист-девицы Дуровой… Художника Карла Брюллова… Генерала Скобелева… Серафимовича, автора эпопеи «Железный поток»… Академика Павлова… Читать одни подписи?… Нет! Надо хотя бы проглядывать!.. Это что? Карамзин? «…Нашел две харатейные Нестеровы летописи весьма хорошие: одну 14 века у Григория Пушкина, которую уже списал для себя, а другую в библиотеке Троицкой, столь же древнюю. Ни Татищев, ни Щербатов не имели в руках своих таких драгоценных списков… Одним словом, не только единственное мое дело, но и главное удовольствие есть теперь история. Думаю, что бог поможет мне совершить начатое не к стыду века…» 12 сентября 1804 года. Письмо к какому-то Михаилу Никитичу… Муравьеву, должно быть?! «Начатое» — это, конечно, «История государства Российского».«Дорогой Антон Степанович…»

Это Рахманинов пишет Аренскому!Письмо С. В. Рахманинова к А. С. Аренскому. Первая страница
«…Будь добр… сделай мне одолжение… нечего и говорить, конечно, что я заранее одобряю и доволен твоим выбором… В первый момент, как я прочитал твое письмо, мне пришло в голову, что лучше Земфиры — Сионицкой и Шаляпина — Алеко я никого не найду. Но согласятся ли они? Как бы то ни было, но я прошу тебя подождать назначать кого-нибудь на эти роли дней пять, шесть, когда я сообщу тебе результаты… 17 апреля 1899 г.».

Речь идет о подборе певцов для постановки оперы Рахманинова «Алеко» в Таврическом дворце в Петербурге…Письмо С. В. Рахманинова к А. С. Аренскому. Первая страница
«…об Грибоедове имеем известия… он здоров, но, говорят, совсем намерен бросить писать стихи, а вдался весь в музыку, что-то серьезное пишет…»Чья подпись? «Д. Бегичев». Письмо Кюхельбекеру. Март 1825 года — время, когда Грибоедов находится в Петербурге, где с огромным успехом в декабристских кругах ходит по рукам в копиях «Горе от ума». Что Грибоедов сочинял музыку — веем известно. Но это, кажется, свидетельство новое!.. А это?! Шесть, семь… целых восемь писем самого Кюхельбекера. К разным лицам. Из ссылки. «Позволено ли поэту изображать порок?…» Ого!.. В печати не появлялось!..
«Изображать поэт все может и даже должен, иначе он будет односторонним, но представлять порок в привлекательном виде преступление не перед одною нравственностью, но и перед поэзиею…»Взгляд на роль и назначение литературы, характерный для декабристов, требовавших от нее высокого этического идеала. Письмо 1835 года. Прошло уже десять лет после крушения всех декабристских замыслов; Кюхельбекер, отбывая сибирскую ссылку, проповедует свои прежние взгляды. А это что же такое — в другом письме Кюхельбекера?… «…Пушкина…»?
«Успел прочесть Гусара Пушкина. По моему мнению журналисты с ума сходили, нас уверяя, что Пушкин остановился, даже подался назад. В этом Гусаре Гётевская зрелость таланта…»Великолепные письма! Каждое!.. Вот еще: о заслугах поэта Гнедича — переводчика «Илиады» Гомера. О его — Кюхельбекера — работе над трагедией «Прокофий Ляпунов»… Это, кажется, менее интересное письмо; «Казань, 21 Генваря 1832 года…» Чье это?
«Мы были на литературном вечере у Фуксов… Н. И. Лобачевский…»Нет, тоже важное!
«…Н. И. Лобачевский читал стихи сочинения m-me Фукс и несколько раз чуть не захохотал… Баратынский все время сидел с потупленными глазами…»Великий математик Н. И. Лобачевский и замечательный поэт Е. А. Баратынский в казанском литературном кругу! Тоже интересно! Адресовано письмо литератору Ивану Великопольскому. Бросаю его, потому что вижу почерк Чайковского… о «Чародейке»!
«…В глубине души я твердо убежден, что фиаско незаслуженно, что опера написана с большим тщанием, с большой любовью и что она совсем не так плоха, как об ней с единодушной враждебностью отозвались петербургские газеты…»Гениальнейший композитор оправдывается перед директором императорских театров И. А. Всеволожским после того, как новая его опера провалилась на императорской сцене! Это тоже письмо неизвестное, интереснейшее письмо!.. Где тут у меня композиторы? Письмо ложится на подоконник, рука тянется к чемодану… И — даже в жар бросило! — Лермонтов!
«Милая бабушка, так как время вашего приезда подходит, то я уже ищу квартиру и карету видел, да высока…»

Вся кровь в голову!.. Неизвестное!! Упоминается имя Ахвердовой… Много лет стремлюсь доказать, что Лермонтов знал эту женщину. И вот наконец:Письмо М. Ю. Лермонтова к Е. Л. Арсеньевой. Первая страница
«Прасковья Николаевна Ахвердова в майе сдает свой дом…»Подробно изучать буду после: впереди десятки, нет, сотни документов и писем! Неизвестно еще, что найду: Жуковский Василий Андреевич… Сообщает, как идет у него перевод «Одиссеи»… Дельвиг обращается к Кюхельбекеру:
«Ты страшно виноват перед Пушкиным, он поминутно об тебе заботится… Откликнись ему, он усердно будет тебе отвечать…»1821 год. Пушкин в Кишиневе. Кюхельбекер уехал на службу в Грузию. Дельвиг стремится связать лицейских друзей. …Полевой: благодарит Марковича за согласие сотрудничать в «Московском телеграфе»… Станкевич: предлагает Максимовичу «три пьесы» для альманаха «Денница»… Надеждин: просит прислать ему материалы для «Одесского альманаха»… Катенин: поручает свои литературные дела Жандру… Чернышевский: после долгих лет ссылки обращается к Авдотье Панаевой… Шаляпин: сообщает Горькому об успехе в Париже оперы «Борис Годунов»… Посерел и померк за окнами короткий актюбинский день, наступил и прошел вечер. Бурцева ушла ночевать к дочери. А я все еще, словно фокусник, продолжаю вытаскивать рукописи из этого; кажется, бездонного чемодана. Да… Ольга Александровна не шутила, сказав, что стакан с чаем некуда будет поставить. Рукописи разложены на столе, на постели, на валиках дивана, на табуретках и просто на полу — на газетах… Здесь подлинные и большей частью неопубликованные автографы: Ломоносова, Державина, Крылова, Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Вяземского, Дениса Давыдова, Катенина, Кюхельбекера, И. И. Козлова, Дельвига, Баратынского, Веневитинова, Языкова, Хомякова, С. Т. Аксакова, Даля, Гоголя, Лермонтова, Герцена, Огарева, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Курочкина, Тютчева, Полонского, Фета, Майкова, А. К. Толстого, Гончарова, Григоровича, четыре письма А. Н. Островского, четыре письма Льва Толстого, восемь писем Достоевского, тринадцать писем Тургенева, шестнадцать писем Горького, пятьдесят писем Чехова и автограф рассказа его «Великий человек», переименованного потом в «Попрыгунью». Здесь сорок два письма журналиста Греча к Фаддею Булгарину, девяносто одно письмо поэта Пальмина к Лейкину, пять писем Лескова, Писемский, Сухово-Кобылин, Гаршин, Глеб Успенский, Мамин-Сибиряк, Андреев, Брюсов, Блок, Есенин; композиторы: Чайковский (пять писем), Кюи, Рубинштейн, Направник (двенадцать), Глазунов, Танеев, Рахманинов; художники: Александр Иванов и Карл Брюллов, семнадцать писем В. В. Верещагина; письма актеров Мочалова, Каратыгина, Стрепетовой, Яворской, гастролировавших в России итальянских певцов и других заграничных знаменитостей; грамота за подписью гетмана Мазепы, указы Екатерины II, автографы Потемкина и Суворова, записки Павла I, рескрипты Александра I, письма декабристов, письма генералов: Ермолова, Платова, Барклая де Толли, Дибича-Забалканского, Паскевича-Эриванского и многих других… Если бы я захотел перечислить все документы, мне пришлось бы назвать более пятисот имен великих и прославленных русских людей. Передо мной лежала знаменитая коллекция Бурцева, которая исчезла из поля зрения исследователей и архивистов в тридцатых годах и считалась безвозвратно утраченной! Судя по обращениям в письмах, можно было понять, что в основу ее легли документы из архива В. К. Кюхельбекера, из архивов позорно знаменитого Фаддея Булгарина, литераторов М. А. Максимовича и Н. А. Марковича, писателя-юмориста Н. А. Лейкина, беллетриста А. А. Лугового, певицы П. А. Бартеневой, композитора Н. Ф. Соловьева, из коллекций доктора Л. Б. Бертенсона и переводчика Ф. Ф. Фидлера. Трое суток я не ложился спать — все раскладывал этот необыкновенный пасьянс. Наконец, когда работа была закончена и я, стуча зубами от усталости и волнения, зябко потирал руки, Бурцева спросила меня: — Сколько вы насчитали? Я отвечал: — Здесь тысяча пятьсот восемь различных писем и рукописей. — Да. Я тоже считала, и у меня получилось даже как будто немного меньше. Не откажите, — попросила она, — сообщить ваше мнение о коллекции моего отца, с которой вы познакомились, и охарактеризовать наиболее интересные вещи. Я начал перечислять имена, называть особо замечательные автографы. — Вас не затруднит сказать, чего здесь не хватает, по-вашему? — спросила Бурцева, когда я умолк. — Какие имена не встречаются в этой коллекции вовсе? Не возникает ли у вас ощущения пробелов? Только долгое время спустя я понял, что беспокоило Бурцеву и почему мне был задан этот вопрос, ответить на который не так-то легко. Известно: труднее всего сказать; чего нет!.. — Здесь нет… м-м… сразу не сообразить как-то… автографов… Пестеля, Грибоедова… в копии представлен Рылеев… Кого еще нет?… Стасова нет… Короленко… Из тех, что лежат возле зеркала, — тут у меня полководцы, — Кутузова и Багратиона. Да, вспомнил! Нет Глинки, Мусоргского, Бородина… А главное, Пушкина нет, к сожалению! — Пушкин есть. Он у меня отложен! С этими словами Ольга Александровна вынула из книги маленькую записочку на французском языке, адресованную Катенину, с просьбой одолжить денег. Две строчки. — Вот. Дата «1-е апреля». И подпись «Pouchkin». Тут мы подошли к самому трудному.
САМОЕ ТРУДНОЕ
— Если бы я решила уступить этот автограф архиву, — спросила Бурцева, обдумывая и осторожно взвешивая каждое слово, — в какой, по-вашему, сумме могла бы выразиться подобная передача? Я не менее осторожно ответил: — Это вам точно скажет закупочная комиссия при Литературном архиве. — Нет! — мягко произнесла Бурцева. — Мне хочется услышать от вас хотя бы приблизительную оценку. — Если это действительно окажется Пушкин (говорить надо было ответственно и по-деловому) …если это окажется Пушкин, то за это могут заплатить, — стал я размышлять вслух, — чтобы не соврать вам… что-нибудь порядка… рублей, я думаю, пятисот… — Неужели? — Конечно, порядка пятисот… Ну, может быть, несколько меньше… — Автографы Пушкина — величайшая редкость, — сказала Бурцева озабоченно. — Мой отец был крупным специалистом и знал цену таким вещам… Он очень дорожил этим автографом. Поэтому я думаю, что вы ошибаетесь. И как-то, простите, удивлена словами: «если это окажется Пушкин…» Вы, вероятно, уже убедились, что в коллекции, над которой я предоставила вам возможность трудиться, собраны только подлинные автографы. А вы — эксперт государственного архива — начинаете выражать сомнения. Если бы я не была в вас уверена, я могла бы подумать, что вы просто решили ввести меня в заблуждение… И вообще, я не совсем понимаю: если Пушкин идет за пятьсот, то в какой же цене остальные автографы? Лермонтов, скажем? Двести? Или, может быть, сто? — Не менее тысячи. — Это что? Ваше пристрастие? — Ольга Александровна говорит иронически. — Или другие тоже посмотрят так? Ну конечно, не надо ей объяснять… Она и сама понимает, что содержательное письмо Лермонтова, заключающее в себе новые факты, ценнее незначительной записочки Пушкина. Но… Впрочем, она хотела бы прежде всего выслушать мое мнение о каждой рукописи отдельно. Дело сложное! Передо мной лежали документы, научное значение которых одному человеку известно быть не могло. Разве я специалист по военной истории? Или, даже и зная литературу, мог ли на память сказать, какие письма Чехова опубликованы полностью, какие с купюрами? Перед отъездом в Актюбинск я, разумеется, спрашивал в архиве, во сколько оценивать автографы Гоголя, Тургенева, Достоевского, Чайковского, Чехова — те, о существовании которых в коллекции Бурцева знал. Но разве мог я предвидеть, что нападу на такую пропасть бумаг! Приходилось цены определять приблизительно: «от» — «до». «От» иной раз казались Ольге Александровне маловаты. «До» беспокоили меня. Назову, а сам сомневаюсь: что скажут в Москве? «Наобещал! Увлекся! Завысил!..» Впрочем, Ольга Александровна и здесь проявляла сдержанность, разговаривала любезно и просто, сомнения выражала в вопросительной форме, удивленно приподняв брови. Если я начинал убеждать ее, что больше никак не дадут, отвечала, подумав: — Вам виднее. — Очевидно, нам будет удобнее разговаривать, — сказала она наконец, — если вы предварительно составите опись. И лучше бы в двух экземплярах. Один возьмете с собой. Другой останется у меня. На случай возможных недоразумений. Это был дельный совет. В тот же час я принялся за работу.НОТАРИАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ
Склонив голову несколько набок, как Чичиков; сгибаясь, прищуриваясь и подмигивая себе самому, словно Акакий Акакиевич, трудился я над составлением первого каталога коллекции, отмечая, где копня, где автограф, а если письмо, то от кого и кому, дату, число страниц. Время быстро пошло. Москва стала окутываться для меня туманом воспоминаний. По окончании описи каждое письмо и записку пришлось пробежать глазами, против каждого номера выставить предположительную оценку. После этого Бурцева взяла счеты. И записала итог. Он выражался в солидной сумме из четырех нолей, а впереди стояла хотя и не последняя цифра из девяти, но далеко и не первая. Предварительное изучение коллекции — на дому у владелицы — можно было считать законченным. Тут Ольга Александровна стала собираться к нотариусу, чтобы оформить доверенность. — Зачем? Мне неудобно, — возражаю я ей. — Я представляю интересы архива. — Не отказывайтесь, — советует Бурцева. — Вы возьмете с собой чемодан. И вас и меня это вполне устроит. У меня нет сомнений, — говорит она, улыбаясь, — что вы все равно будете защищать в Москве мои интересы. — Тем не менее вам следовало бы поехать самой. — Не могу. Я человек служащий. Ни с того ни с сего — и вдруг еду. Я предлагаю походатайствовать о предоставлении ей отпуска. Нет, это ее не устраивает. Уехать она не может по разным причинам. — Кого же уполномочить? — размышляет она. — Знакомых у меня в Москве нет. — Дайте доверенность дочери. Ей двадцать три года. Она юридически правомочна. — Рине? Но у Рины ребенок. Мальчику третий годик. — А свекровь? Мальчик побудет без матери полторы-две педели, — подаю я совет. — Покупка должна быть оформлена до двадцатого декабря. Иначе срежут ассигнования. Двадцать третьего можете Рину встречать. — Боюсь, ничего не получится! — Остановится Рина у нас, — продолжаю я уговаривать. — От имени нашей семьи я зову ее в гости. И даже проезд оплачу. — Только в долг, — решительно ставит условие Бурцева. — Из полученных денег она все вам вернет… Ладно, — сдается она. — Как-нибудь выйдем из положения. Рина! — зовет она дочь. — Тебе придется поехать в Москву. Иди, собирайся. Если ты поторопишься, вы успеете к ашхабадскому. А я тем временем пойду оформлю на твое имя доверенность. Рина согласна. За сыном посмотрит свекровь, по вечерам Ольга Александровна будет брать его к себе в комнату. Все устроилось. Едем. Но, прежде чем оставить Актюбинск, надо сказать наконец, откуда взялась и как попала туда эта удивительная коллекция.ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ, КАК ПОПАЛА?
Жил в свое время в Петербурге богатый коллекционер из купцов Александр Евгеньевич Бурцев. Собирать он начал давно — еще в конце прошлого века. Собирал все: редкие книги, журналы, газеты, иллюстрированные издания, картины, лубок, литографии, исторические документы, автографы. Малыми тиражами выпускал на свои средства описания этих коллекций. Характер собирательской деятельности А. Е. Бурцева хорошо раскрывает заглавие одного из таких изданий: «Мой журнал для немногих или библиографическое обозрение редких художественных памятников русского искусства, старины, скульптуры, старой и современной живописи, отечественной палеографии и этнографии и других исторических произведений, собираемых А. Е. Бурцевым. СПб., 1914». Публиковал Бурцев не только «обозрения», но и самые документы, а иногда полностью тексты принадлежавших ему редких книг. Так, скажем, он дважды перепечатал в своих изданиях радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву», которое царская цензура жестоко преследовала со дня выхода в свет этой книги вплоть до 1905 года. Среди бурцевских материалов, которые печатались крохотным тиражом, эти перепечатки прошли, не задержанные цензурой. О них напомнил несколько лет назад в своей книге крупнейший советский библиофил Николай Павлович Смирнов-Сокольский, Народный артист, отметивший также, что издавались «описания» и «обозрения» Бурцева довольно беспорядочно и неряшливо. Это понятно: научная сторона дела не очень интересовала его. Собирал Бурцев много и широко, не жалел ни времени, ни трудов, чтобы раздобыть уникальную книгу или гравюру, скупал полотна молодых, подававших надежды художников, архивы писателей — знаменитых, незнаменитых, умерших, живых, — их долговые обязательства, расписки, семейные фотографии… Все шло в дело!
В начале двадцатых годов попал к нему сундук с бумагами Кюхельбекера. Когда в 1925 году вышел в свет роман Юрия Николаевича Тынянова «Кюхля», большая часть содержимого этого сундука перекочевала к Тынянову: Тынянов, занимавшийся Кюхельбекером с юных лет, смог выяснить подлинное его значение, издал его сочинения, впервые открыл его читающей публике как большого поэта. Но перешел архив Кюхельбекера к его страстному исследователю и биографу не весь и не сразу. А переходил по частям в продолжение нескольких лет. Помню, Тынянов приобрел часть кюхельбекеровской тетради, затем — начало ее и, наконец, долго спустя — недостающие в середине листы. Впрочем, прежде в среде коллекционеров дробление рукописей считалось делом обычным. Даже такой известный литератор, как Петр Иванович Бартенев, один из первых биографов и почитателей Пушкина, издатель исторического журнала «Русский архив», отрезал от принадлежавших ему автографов Пушкина узкие ленточки — по нескольку строк — и расплачивался ими с сотрудниками. Об этом рассказывал знавший Бартенева лично пушкинист Мстислав Александрович Цявловский. В наше, советское время все эти обрезки встретились вновь в сейфе Пушкинского дома — Института русской литературы Академии наук СССР. Так что в смысле обращения с рукописями Бурцев, смотревший на них, как на предмет продажи или обмена, среди собирателей исключения не составлял. Но по количеству и качеству прошедших через его руки автографов это был коллекционер исключительный, один из крупнейших в России. Его хорошо знали исследователи литературы, жившие в Ленинграде, знали историки. Мне лично не довелось с ним встретиться. Но в пору, когда я жил в Ленинграде, приходилось много слышать о нем от людей, хорошо с ним знакомых. В двадцатых годах многие материалы из собрания Бурцева поступили в Пушкинский дом, в Ленинградскую Публичную библиотеку, позже — в Московский литературный музей… В 1935 году Бурцевы переехали в Астрахань, забрав с собою коллекцию. Три года спустя Бурцев умер. Умерла и жена его. Ольга Александровна, жившая с ними в Астрахани, осталась с двенадцатилетней дочерью Риной одна. Теперь коллекция перешла в ее собственность. Понимая, что это огромная ценность, она, хотя и нуждалась в деньгах, решила во что бы то ни стало ее сохранить. Но в 1941 году, когда гитлеровские войска подходили к Ростову, ей пришлось срочно эвакуироваться. Эшелон шел в Актюбинск. Увезти с собой коллекцию она не могла. И оставила ее в доме, из которого принуждена была выехать. Тут было уже не до рукописей! Время шло. Живя в Актюбинске, она с тревогой думала о коллекции, брошенной на произвол судьбы. И в 1944 году решила послать за ней Рину, которой к тому времени исполнилось восемнадцать лет. Рина приехала в Астрахань и сразу пошла туда, где они жили прежде. Хозяева квартиры не претендовали на чужое имущество: коллекция с 1941 года лежала на чердаке, по-астрахански — на «подловке». Рина поднялась на чердак. В светелке под крышей лежала на полу груда рукописей. Девушка набила бумагами большой чемодан. Потом занялась ликвидацией кое-какого имущества. Закончив дела, повезла чемодан в Актюбинск. Мать приняла его, поставила в угол, на него поставила еще два чемодана и маленькую корзиночку, накрыла их скатертью и стала подумывать о том, как приступить к реализации этих сокровищ. Актюбинское областное архивное управление с самого начала показалось ей недостаточно мощной организацией. Тогда она решила обратиться с предложением в один из московских архивов. Доктор Воскресенский собирался в Москву. Она попросила его прощупать почву в столице, а по поводу лермонтовского письма связаться со мной — ей как-то попалась на глаза в «Огоньке» одна из моих работ. Воскресенский в Москве завел разговор в доме одного академика. Там было названо мое имя. Таким образом находка пришла ко мне сама, без всяких с моей стороны поисков и усилий… Остальное вы уже знаете.Автограф рассказа А. П. Чехова «Великий человек», переименованного потом в «Попрыгунью»
ПАССАЖИР ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ
Рина оделась, стоит с чемоданчиком, в валенках и в пальтишке, прижимая подбородком заправленный в ворот белый оренбургский платок. Это заставляет ее, слушая разговор, скашивать глаза попеременно то на меня, то на мать. Взгляд у нее карий, живой. Приятный овал лица, легко розовеющая кожа. У матери лицо спокойнее, строже. У дочки есть что-то остренькое, чуть напряженное, хотя черты правильные, даже красивые. Но выражение лица заключено не в чертах, а в «поведении» лица. А жизнь лица соответствует разговору — в данном случае удивленно-наивному. Рина прощается с матерью. Я в последний раз заверяю, что это дело не долгое. Можно ехать! …Пыхтя, переступая криво и мелко, мы с Риной волочим вдоль вагонов тяжеленный чемодан с полутора тысячами рукописей, поминутно перехватывая другой рукой «свои» чемоданы, и наконец останавливаемся возле жесткого бесплацкартного: об удобствах нужно было думать заранее. Места в поездах, проходящих через Актюбинск, бронируются по телеграфу. Напрасно, расстегнувшись, лезу я в глубину пиджака. — Нет мест, идите в другой… Гражданин, теряете время! Но тут пассажир, стоящий в лютую стужу возле ступенек без шапки и в кителе, сгорбившись и запустив руку в карманы штанов до самых локтей, — пассажир, дрожащий и посиневший, однако верный своей привычке выходить из вагона в чем есть, — вступил в разговор. Люблю пассажира-общественника — любознательного, дельного, справедливого: пассажира, который первым соскакивает на платформу и последним входит в вагон уже на ходу; который знает всегда, какая впереди станция, который охотно укажет вам на новый завод в степи, обратит внимание на новую марку машин, мелькающих под брезентом на открытых движущихся платформах… Он же первый в вагоне шутник, балагур и рассказчик. И все-то знают его, все на него смотрят с улыбкой, беспокоятся — не остался ли? А он тут как тут, душа-человек, любимец всего вагона! На коротких дистанциях такому пассажиру не развернуться. И потому встречается он в поездах только дальнего следования. — Как же в другой, когда в наш вагон? — наставительно обратился он к проводнице. — Давай этих двоих посадим! Тем более, что один пассажир — девушка! Передайте сюда чемоданчик — вот тот, здоровый! И, схватив заветный — с коллекцией, поставил его на площадку. Я сделал попытку вернуть чемодан на платформу: — Не надо, скоро алма-атинский проходит… — Не трогай, хозяин, — пригрозил коченеющий. — Девушка, подымайтесь! Рина взбежала. — Равняйся на лучших! — И он подпихнул меня на ступеньку. Подножка поплыла, заскользили колеса… Он некоторое время шел рядом с вагоном, стуча зубами, потом ввинтился на поручне и, вступив на площадку, назвался Павлом Василичем. В вагоне быстро обнаружил резервы площади. Рине уступил вторую полку, сам полез на багажную. А я уселся на краешке скамьи у прохода и стал пасти чемоданы. Не часто случается, чтобы рукописи великих людей, да еще в несметном количестве, транспортировались в таких неподходящих условиях! Подумать! Чуть не на цыпочках входите вы в помещение архива, шепотом просите выдать для изучения рукопись. Чуть не на цыпочках вам выносят ее — «единицу хранения» — в папке, с инвентарным номером, переложенную тонкой бумагой. Расписавшись в ее получении, затаив дыхание, вы не беретеее, а касаетесь. Пальцы ваши становятся перстами — сухими и легкими. Пролистав со всеми предосторожностями, вы наконец сдаете ее. И понесли ее бережно снова в хранилище, которое в шесть часов вечера запрут, запломбируют и опечатают, придавив сургучом суровую нитку. Какие там нитки и сургучи! Я поставил бурцевский чемодан на попа в проходе между скамейками, ел на нем суп, пил на нем чай да еще приговаривал: — Ноги затекли из-за этого проклятого чемодана! Хоть бы его украли! Мне казалось, что пренебрежение к нему — лучший способ предохранить его от случайностей, рассказами о которых то и дело угощал меня Павел Василич. — Вот недавно, — начинал он, свешиваясь с верхней полки, — у одного чемодан обменяли. Ночью подъезжают к Свердловску — сосед схватился: «Мне выходить!» Пошел — с чужим чемоданом. А свой — перепутал — оставил. Тот глядит утром: «Не мой!» Открыли — там коробки круглые, с кинокартиной, исключительной ценности. А у него что было? Курица, вещи — это неважно! А главное, диссертация! «Четыре года работал над ней. Всё, говорит, мне дальше незачем ехать. В Казани схожу, еду обратно, я этого раззяву найду!» А начальник поезда: «Не советую. Вы его потеряете хуже. А так вас в Москве встречать будут. Ему тоже от вашей диссертации радости мало». И что же вы думаете? Прибывает поезд в Москву — подходят; «Не вы кандидатскую пишете?» Наслушаюсь я этих рассказов — гляжу… Нет, бурцевские богатства на месте!КОНЕЦ БЮДЖЕТНОГО ГОДА
Так, обмениваясь разными «случаями», доехали мы до Москвы, а там и до дома. Звоним. Открывают: — Наконец-то! Что ты так задержался? Я радостно: — Познакомьтесь: это Рина — дочь Ольги Александровны Бурцевой. Она будет теперь жить у нас. — Так ведь ты же ездил за рукописями?! — И рукописи привез! — Ну, молодец! Поздравляю! Здравствуйте! Как ваше отчество? Передислоцировались. Устроили Рину. После этого я сел разбирать неразборчивое, читать недочитанное. Замелькали короткие серые дни — декабрь, конец года. Наконец изучение закончилось, и поехали мы с Риной в Литературный архив — повезли знаменитый чемодан на такси. Если даже предварительный список, сообщенный доктором Воскресенским, список глухой и неполный, и тот произвел в архиве, как говорилось, впечатление неслыханное, то появление чемодана следовало отнести к чрезвычайным событиям. Я поднял крышку… Это сопровождалось покорными просьбами не тянуть; достал первые листки-послышались разные «Ух, ты!..», «Скажите…», «Шибко!», «Да-а…», «Съездил!..» и прочие глаголы, частицы и междометия, которые куда лучше пространных речей выражают настроения восклицателей. Я стал метать на столы автографы самые редкие, называть самые звучные из самых знаменитых фамилий… Исторглись возгласы одобрения, вопросы: — Это что же? Полная бурцевская коллекция? — Полная, — горделиво отвечал я. — Вся. До последней бумажки. Сперва коллекцию смотрел начальник архива. Потом — его заместитель. Потом — начальник начальника. Затем — эксперт по оценке. После него — другой. Наконец они оба вместе. После этого стала известна предварительная оценка, которая выражалась в сумме, заключавшей четыре ноля, а впереди цифру, среднюю между девяткой и единицей. После этого собрали Научный совет. И тут каждый начал интересоваться не только тем, что составляет его специальность и предмет его изучения, но и решительно всем. Так, знаменитый наш пианист профессор А. Б. Гольденвейзер просматривал письма Льва Николаевича Толстого, которого близко знал, и в то же время держал руку на письмах Рахманинова — с ним он вместе учился.
Письмо П. И. Чайковского к И. А. Всеволожскому
 Профессор Иван Никанорович Розанов, собравший в своей библиотеке восемь тысяч стихотворных сборников, и тут, прежде всего, стал интересоваться стихами. И решительно все — музыканты, историки, архивисты — подтверждали ценность коллекции, отдавая должное опыту Бурцева. Только в одном автографе Бурцев ошибся: все подлинно в автографе Пушкина — и бумага, и дата, и подпись «Pouchkin». Только Пушкин не тот. Не Александр Сергеевич, а брат его — Лев. Необычайно похожий почерк.
Плохо было, однако, то, что, пока шли ознакомления и обсуждения, оценки, переоценки, бюджетный год подошел к концу. И средства, отпущенные на покупку коллекции, срезали.
Тогда мне сказали:
— Поскольку дочь Бурцевой гостит у вас, передайте ей, что оформление задерживается и что оплатить покупку мы сможем только в новом году, после того как нам утвердят смету. А пока пусть едет в Актюбинск. Мы ее вызовем. Это будет в марте или апреле.
Я приехал домой и сказал:
— Покупка несколько задержалась, Рина, поэтому пока поезжайте в Актюбинск. Они вас вызовут. Это будет… в январе или в феврале.
Даже и сейчас, по прошествии долгого времени, без всякого удовольствия вспоминаются дни, когда я ходил виноватый в том, что не заплатили, испуганный, что не скоро заплатят. Со дня приезда в Москву прошли две недели, и три… Рина скучала, ходила в кино, беспокоилась о ребенке и о коллекции, напоминала мои обещания: «Двадцать третьего будете дома». Из Актюбинска шли телеграммы.
Все это было невесело!
Профессор Иван Никанорович Розанов, собравший в своей библиотеке восемь тысяч стихотворных сборников, и тут, прежде всего, стал интересоваться стихами. И решительно все — музыканты, историки, архивисты — подтверждали ценность коллекции, отдавая должное опыту Бурцева. Только в одном автографе Бурцев ошибся: все подлинно в автографе Пушкина — и бумага, и дата, и подпись «Pouchkin». Только Пушкин не тот. Не Александр Сергеевич, а брат его — Лев. Необычайно похожий почерк.
Плохо было, однако, то, что, пока шли ознакомления и обсуждения, оценки, переоценки, бюджетный год подошел к концу. И средства, отпущенные на покупку коллекции, срезали.
Тогда мне сказали:
— Поскольку дочь Бурцевой гостит у вас, передайте ей, что оформление задерживается и что оплатить покупку мы сможем только в новом году, после того как нам утвердят смету. А пока пусть едет в Актюбинск. Мы ее вызовем. Это будет в марте или апреле.
Я приехал домой и сказал:
— Покупка несколько задержалась, Рина, поэтому пока поезжайте в Актюбинск. Они вас вызовут. Это будет… в январе или в феврале.
Даже и сейчас, по прошествии долгого времени, без всякого удовольствия вспоминаются дни, когда я ходил виноватый в том, что не заплатили, испуганный, что не скоро заплатят. Со дня приезда в Москву прошли две недели, и три… Рина скучала, ходила в кино, беспокоилась о ребенке и о коллекции, напоминала мои обещания: «Двадцать третьего будете дома». Из Актюбинска шли телеграммы.
Все это было невесело!
НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ СОБЫТИЙ
Прошло несколько дней. В ЦГАЛИ опять многолюдно. В вестибюле докуривают, обмениваются рукопожатиями, вежливо уступают — кому первому войти в двери зала. В зале расспросы, приветы, шутки, тут же, на ходу, обсуждение важных дел: — …на конференцию в Харьков… — …ставьте вопрос — мы поддержим… — …продавалась в Академкниге… — …почерк очень сомнительный… — …такие уже не носят… Звонок. Начальник архива, упираясь ладонями в стол, объявляет: — На повестке — отчет отдела комплектования о поступлениях последнего времени. Докладчик — товарищ Красовский. Юрий Алексанч, прошу… К трибуне быстро и бодро идет, приосанившись, средних лет человек с внешностью декабриста: серьезное, благодушное выражение лица, бачки, в черной оправе очки. Говорит интересно и обстоятельно, перечисляет новые рукописи, часть которых в научный оборот или входит, или уже вошла. Но о бурцевских материалах — ни слова. Наклоняюсь к уху начальника: — Почему он про бурцевские не говорит? — Да за них еще не заплачено… — А вы что, хотите от них отказаться? — Ни в коем случае! Какой может быть разговор! — Тогда я скажу о них. — Дело ваше… Может быть, в следующий раз, когда все будет оформлено? Но какое отношение имеет бухгалтерский документ к самому факту архивной находки? И когда начинается обсуждение доклада, беру слово и объявляю о том, что обнаружилось в актюбинском чемодане. Не успел кончить — из зала идут записки; поднимается Василий Александрович Киселев — профессор, музыковед, один из деятельнейших работников Музея музыкальной культуры. — Простите, — обращается он ко мне, — кому адресованы письма Чайковского, обнаруженные в этой коллекции? — Два из них, — отвечаю, — обращены к какому-то Павлу Леонтьевичу и относятся к 1892 году, другие… — Спасибо! А письма композитора Львова? — Письма Львова, мне помнится, адресованы певице Бартеневой. — О, это важные сведения! Вам, вероятно, будет интересно узнать, что в Астраханской картинной галерее имеются письма Чайковского к тому же Павлу Леонтьевичу (фамилия его Петерсон), а также неизвестные письма Михаила Ивановича Глинки, и — что в данном случае важно! — к той же певице Бартеневой. Очевидно, актюбинские и астраханские материалы как-то связаны между собой! Мне кажется, вам следует это проверить. — Простите, — спрашиваю, в свою очередь я, — а как они попали в Астраханскую галерею, письма, о которых вы говорите? — Мне объясняли, — отвечает Киселев, — только я уже точно не помню. По-моему, в Астрахани умер какой-то старик, родственники его не то погибли во время войны, не то куда-то уехали-словом, это поступило в Астраханский музей в военное время и куплено чуть ли не на базаре.КОРЗИНА, О КОТОРОЙ НЕ ГОВОРИЛИ
Кончилось заседание. Приезжаю домой. Дверь открывает Рина. Кутается в оренбургский платок, угасающим от долгого ожидания голосом спрашивает: — По нашему делу ничего нового нет? — Есть, — говорю. — С вашей помощью попал сегодня в очень неловкое положение. — В неловкое? А я тут при чем? — При том, что со слов Ольги Александровны и с ваших я уверяю всех, что коллекция передана вами полностью, а вы, оказывается, продали часть документов в Астрахани. — Да что вы мне говорите! Никаких документов не продавали! Уж я то знаю! — Рина возмущена. — Ну, значит, Ольга Александровна поручила кому-то продать. Чудес не бывает: ваши рукописи попали в Астраханскую картинную галерею. — Каким же образом? Господи! — Она чуть не плачет. — В первый раз слышу! Рукописи? Это значит — кто-то взял и продал без нас. Подлость какая!.. — Постойте, — прошу. — Давайте говорить по порядку. Я ничего не пойму. Рукописи в Актюбинске, а вы говорите, что кто-то взял их у вас… И что же? Повез продавать в Астрахань? — Да вы никак не поймете, потому что не знаете толком: у нас половина архива осталась на подловке в Астрахани. — Так вы же ездили и целый чемодан привезли?! — Ну да… чемодан — привезла. А там еще куча целая оставалась. Я чемодан-то набила, а с этими что делать — не знаю. Взяла корзину — мама раньше белье в ней держала — и туда все! Если с сорок первого, думаю, пролежало три года, что может случиться? Не могла же я еще и корзину забрать! Я и с чемоданом намучилась: вы знаете, какой он тяжелый. Холод! В вагон не протиснешься. Время военное. А у меня две руки только… Как уезжать из Астрахани, я подругам кое-что раздала. Дневник писателя Лейкина Гена один взял читать. А теперь ругать себя готова: надо было передать на храпение людям все, до последней бумажки. Кто бы подумать мог! Глупость такую сделала. — А что было в корзине, не помните? — Господи! — Рина взмолилась. — Вы странный какой! Ну откуда я могу помнить, когда мне и посмотреть как следует было некогда! И я же не специалистка. К тому же еще девчонка была — девятнадцатый год. Что там осталось на подловке? Рукописи, ноты от руки переписаны… Письма… Скрябина нет в чемодане?… Там, значит!.. Петра Первого пачку бумаг, жалею, туда положила. Ноты композитора Чайковского… Вот что точно запомнила: Чехова письма там были. — Нет, Чехова, — говорю, — вы в чемодан положили, — там было пятьдесят писем к литераторам Баранцевичу, Лейкину… По-моему, вы ошибаетесь. — Ошибаюсь? Да вы знаете, у дедушки сколько Чехова было? Связка огромная. Чего же, думаю, я маме одного Чехова повезу? Разделила пачку: что — в чемодан, остальное — в корзину, ведь все равно наша. Если б я могла тогда знать… Теперь я очень и очень жалею. Конечно, если представить себе условия, в которых пришлось оставить эту коллекцию в Астрахани, упрекать Бурцевых не за что. Как могли они в 1941 году увезти с собой тяжеленную корзину с бумагами?! В продолжение всей войны Ольга Александровна беспокоилась о коллекции, при первой возможности послала а Астрахань дочь, чтобы спасти собрание отца. Поручила ей привезти самое ценное. Наконец, без всяких с чьей-либо стороны побуждений сама заявила о желании передать коллекцию в государственное хранилище. Казалось бы, сделано все. И сделано правильно. И, тем не менее, нельзя успокоиться при мысли, что уникальные документы остались на чердаке без присмотра и, возможно, частично пропали. Ведь если бы в 1944 году все, чего нельзя было с собой увезти, Рина передала в картинную галерею, бумаги были бы целы! — Почему же вы не обратились в музей, когда стало ясно, что всего с собою не увезете? — спрашиваю Рину. Но к чему это я говорю? Что она может сделать теперь? — Право, вы со мной беседуете, как с маленькой, — отвечает Рина с улыбкой обиженно-снисходительной. — Слава богу, сына воспитываю… А поскольку коллекция составляет нашу личную собственность, сами понимаем, куда нам с ней обращаться и кому доверять!.. Сказала и молча смотрит в окно, румяная от волнения.ЕЩЕ СОРОК ДЕВЯТЬ
Поехал в Союз писателей, нацарапал письмо с отчетом о поездке в Актюбинск и с просьбой командировать меня в Астрахань. Генеральным секретарем Союза был в ту пору Александр Александрович Фадеев. Письмо попало к нему. Когда на заседании секретариата дело дошло до меня, Фадеев предложил удовлетворить мою просьбу. Об этом сказал мне Николай Семенович Тихонов — я звонил ему, с тем чтобы повидаться. Условились. В тот же вечер я отправился к Тихоновым. У них, как всегда, народ. За чаем зашел разговор об Актюбинске, о решении секретариата; я долго упрашивать себя не заставил и регламентом ограничивать не стал. Только, рассказывая, все удивлялся: Тихонов слушает спокойно, а то вдруг словно спохватится — начинает улыбаться, раскачивается от беззвучного смеха. А я, кажется, ничего смешного не произнес. — Когда же, наконец, изрядно наговорившись, добрался я да конца и сообщил, что на днях уезжаю в Астрахань, Тихонов продолжал, уже не скрывая улыбки: — А прежде чем ехать, позвони Нине Алексеевне Свешниковой. Она сообщит тебе конец этой истории. — Какой истории? — Той, что ты рассказывал сейчас. — А что такое? — Позвони в Союз художников и узнаешь. Она была сегодня у нас: услышав, что ты собираешься в Астрахань, она просила тебе передать, чтоб ты не уезжал, не поговорив с ней. Она в курсе всего, что касается картин из коллекции Бурцева. — Картины? А что с картинами? — Их там продавали и покупали… Впрочем, она тебе все расскажет. А после этого ты подробно расскажешь нам. Непостижимо! Если такое написать в повести, скажут: так не бывает. А между тем жизнь, при всей закономерности в ней совершающегося, полна подобных случайностей. Ведь если бы Тихонов не присутствовал на секретариате и Свешникова не зашла бы к нему, а он не упомянул бы о моей предстоящей поездке, — я уехал бы в Астрахань, не выяснив что-то важное. Может быть, не придется и ехать? — Да, торопиться, во всяком случае, некуда. Картины и рисунки из коллекции Бурцева еще во время войны растащены какими-то бойкими субъектами, а частично распроданы. Я в Союзе художников — у Нины Алексеевны Свешниковой. У нее озабоченный вид: приходится сообщать такие скверные новости. Но лучше сперва выяснить обстоятельства здесь, на месте, а потом уже ехать, не правда ли? — В Москве скоро будет астраханский художник Скоков Николай Николаевич, от которого, собственно, у нас в Союзе художников и узнали эту историю. Подождите его, посоветуетесь. Но, насколько я понимаю, на чердаке уже ничего нет. А что касается автографов, которые поступили в Астраханскую галерею, то это можно выяснить сегодня же: для этого ни в какую Астрахань ездить не надо. Я сейчас позвоню в министерство Антонине Борисовне Зерновой — это отдел музеев… Позвонила. В художественную галерею Астрахани переданы в 1944 году хранившиеся в коллекции Бурцева письма: Стасова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина (три записки), Достоевского, Гончарова, Полонского, Майкова, Мея, Чехова (пять писем), Короленко, французских писателей — Альфонса Доде и Поля Бурже, тринадцать неизданных писем Михаила Ивановича Глинки (о которых говорил мне опубликовавший их вскоре В. А. Киселев); письма композиторов: Варламова, Львова, Балакирева, Кюи, Чайковского (два письма), Рубинштейна, Аренского, Скрябина — целых сорок девять автографов! Немало! Но все же в тридцать раз меньше, чем хранилось в Актюбинске. И — страшно подумать! — какая это малая часть того, что оставалось в злополучной корзине! Повез я этот список в Гослитархив. Оттуда пошла в министерство бумага с ходатайством о передаче астраханских материалов в Москву. Если не знать про корзину, можно бы радоваться. А тут одни огорчения.БУМАЖНЫЙ ДОЖДЬ
Прихожу домой. — Рина! Кому вы продавали рисунки? Выясняется, что продавала военному Володе, который приезжал в Астрахань из армии после ранения и снова уехал в часть. Он художник. — Потом Розе: у нее не то армянская, не то грузинская фамилия. Еще одному художнику — пожилому. И подслеповатый ходил. Первый явился мужчина в летах. Совсем недавно помнила их фамилии, а сейчас… что ты скажешь?! …Приехал Скоков — хороший художник-график и человек очень милый. Но сведения, которые он сообщает, ничего хорошего не сулят. Все подтвердилось: и про базар, и про расхищенные автографы. В сорок четвертом году на астраханском базаре стали появляться куски картона, на обороте которых можно было увидеть писанный маслом пейзаж, эскиз фигуры, головку… Приносила картоны старуха. Однажды в картинную галерею притащил с базара пачку рисунков начинавший в ту пору художник Архипов. Директором галереи в то время был старейший астраханский художник Алексей Моисеевич Токарев. Вещи заинтересовали его. Выяснилось, что они попадают на базар с улицы Ногина. Старый художник пригласил с собой Скокова, и пришли они к Рине. На веранде, где она укладывала вещи, «шел дождь бумажный». Под ногами валялись переплеты без книг, книги без переплетов, старые газеты, автографы… Скоков запомнил: автографы Репина, поэта М. Кузьмина, Григория Распутина, альбом с рисунками Шишкина, рисунки Брюллова, Афанасьева и Лукомского. Узнав, что картин и рисунков Рина с собой не берет, Токарев предложил принять их на сохранение. Рина не решилась без матери. Сам Скоков корзины не видел, но слышал о том, что объемистая и что Рина сложила туда все то, что не могла увезти. После ее отъезда Токарев снова побывал в доме, но корзины не обнаружил — только отдельные рисунки и рукописи, которые и попали через него в картинную галерею. По словам Скокова, Рина пользовалась советами компании, с которой ходила в кино. Были там, кажется, неплохие девушки и ребята, но посоветовать дельного они не смогли. А кое-кем руководили и корыстные интересы. — Какую-то часть бурцевского имущества, — предполагает Скоков, — можно найти. Еще недавно в Товарищество художников приносили рисунки и книги из коллекции Бурцева. Надо ехать вам в Астрахань, не откладывая. Вы у нас не бывали? Нет? Ну, тем более… Город у нас хороший! Ждем… Благодарю, обещаю. — Ну, а когда? — Как только покончу с актюбинскими делами — и к вам.ПО СОВЕТУ КОМСОМОЛЬСКИХ РАБОТНИКОВ
Тем временем в архивных кругах стали вдруг поговаривать, что Бурцевы не столько сохранили коллекцию, сколько растеряли ее и платить им, собственно, не за что. Разговоры эти так разговорами и остались. Такой подход к делу не соответствовал интересам нашей архивной политики, а главное — советским законам. При покупке оплачивается не хранение, а стоимость вещи. Прошел Новый год. Рина вернулась в Актюбинск. Но рано или поздно дело должно было окончиться оформлением взаимоотношений между владелицей и архивом. Тем и кончилось. Это было уже весной. В Москву вместо дочери приехала сама Ольга Александровна Бурцева. По существу вопрос был решен. Через несколько дней она получила сумму, на которой остановилась оценочная комиссия, и, будучи ограничена временем, поспешила воротиться в Актюбинск. Она простилась по телефону. И больше я их не видал. В руках моих осталась доверенность Бурцевой на случай поездки в Астрахань. В этом документе поименованы шкаф и шкафик, дамский письменный столик, кровать, пуховая перина и лампа на винтовой ножке; все остальное уместилось в двух строчках: «имущество, заключающееся в рукописях, письмах, книгах и картинах из коллекции покойного отца». На этот раз доверенностью можно было воспользоваться: интересы обеих сторон — владелицы и архива — совпали. Надлежало найти утраченные бумаги. Но как? Каким способом? Приехать в незнакомый город и начать ходить по квартирам? Трудно искать даже в том случае, когда знаешь, где надо искать. Трудно искать, когда знаешь, что ищешь. А как поступить в данном случае, когда я не знаю ни списка бурцевских материалов, ни фамилий людей, которые их покупали? Тут надо было что-то придумать… Но думать мне не пришлось: это сделали за меня другие. Случилось это вот как. Когда бурцевские материалы были внесены в описи ЦГАЛИ, «Литературная газета» поместила о них информацию. После этого все меня стали расспрашивать, откуда взялась коллекция, и как попала в Актюбинск, и чьи автографы обнаружены в ней, кроме тех, что перечислены в «Литературной газете». Выступая с исполнением своих рассказов, я, между прочим, знакомил публику и с этой историей. Как-то раз в конце вечера мне передали за кулисы нацарапанную на входном билете записку: «Мы, трое комсомольских работников, прослушав ваш отчет о командировке в Актюбинск, хотим посоветовать вам при дальнейших поисках в Астрахани обратиться к помощи пионеров». Этим мудрым советом я и воспользовался.В СЛАВНОМ ГОРОДЕ АСТРАХАНИ
Отъезжая в Астрахань, перелистал справочники, библиографии, «почитал литературу предмета» и перебрал в памяти решительно все, начиная с народных песен о том, как «ходил-то гулял все по Астрахани» Степан Тимофеевич Разин и как «во славном городе Астрахани проявился добрый молодец, добрый молодец Емельян Пугач». Поселившись в Астрахани в «Ново-Московской», вставал на рассвете, «домой» возвращался к ночи: по асфальту обсаженных липами улиц бегал на Кутум, на Канаву, на Паробичев бугор, в район Емгурчев, на улицу Узенькую, на улицу Володарского, которая раньше называлась Индейской. Названия какие! На Индейской в XVII веке стоял караван-сарай индийских купцов. Как не вспоминать тут историю на каждом шагу: Золотую Орду, падение Астраханского ханства перед войском Ивана Грозного, изгнание восставшими астраханцами Заруцкого с Мариною Мнишек, вольницу Разина, приверженцев Пугачева, персидский поход Петра?! Здесь умер и похоронен грузинский царь Вахтанг VI — поэт и ученый, обретший в петровской России политическое убежище, и другой грузинский царь — Теймураз II. Два года провел здесь А. В. Суворов, родился И. Н. Ульянов — отец В. И. Ленина, побывал Т. Г. Шевченко, прожил пять лет возвращенный из сибирской ссылки Н. Г. Чернышевский. Земляк астраханцев — замечательный русский художник Б. М. Кустодиев. Рассказ «Мальва» Горького связан с его пребыванием в Астрахани. В годы гражданской войны Астрахань выстояла под натиском белых: с гордостью произносится в городе благородное имя Сергея Мироновича Кирова, руководившего героической обороной. Здесь долго играл актер удивительной силы П. Н. Орленев. Отсюда родом народные артисты В. В. Барсова, М. П. Максакова, Л. Н. Свердлин. В Астрахани ценят искусство. Издавна славилась она художественными коллекциями. Знаменитая картина Леонардо да Винчи в собрании Эрмитажа, известная под названием «Мадонна Бенуа», в свое время была куплена в Астрахани. Здесь есть чем заняться историку, есть что искать ученому-следопыту: имеются сведения, что именно в окрестностях Астрахани в 1921–1922 годах в последний раз видели древний — XVI века — список «Слова о полку Игореве», принадлежавший до революции Олонецкой духовной семинарии, а потом находившийся в руках преподавателя семинарии Ягодкина. Говоря об Астрахани, как не сказать о рыбе, о нефти, о соли; я побывал в порту, на рыбоконсервном комбинате. Но станешь рассказывать — скажут: «Отдалился от темы». Потому обращусь к цели своего путешествия. Прежде всего явился в отдел культуры облисполкома, затем отрекомендовался в редакции газеты «Волга». Посоветовано встретиться с астраханской интеллигенцией, провести беседы с читателями районных библиотек, напечатать статью о бурцевских материалах, выступить в воскресенье по радио. Идея привлечь пионеров одобрена. План архивных поисков разработан самый широкий. Обещана помощь. Отыскал воспитанницу Саратовского университета — литературоведа Свердлину Софью Владимировну. Вручил письмо от профессора Ю. Г. Оксмана. Выражена готовность помочь. С этого часа по Астрахани начали бегать двое. Задания обсуждали совместно, делили поровну. Разбежимся в разные стороны… Через три часа возвращаюсь на угол Советской и Кирова, еле плетусь — Свердлина битый час дожидается, читает книжку или остановила знакомых. Дошло дело и до Дворца пионеров. Прихожу — собраны самые маленькие. Как завел я про чемодан, переутомились уже через пять минут: вертятся, мученики, радостно отвлекаются — книжка упала, на улице камера лопнула, зазвенел номер от вешалки. «Эх, думаю, — надо было комсомольцев привлечь! Посоветовали!» Но вот произнес слово «Астрахань»… И то, что произошло вслед за этим, можно сравнить только с остановившимся кинокадром: никто не мигнет, позы не переменит — все застыло! Только закрыл рот — тянут руки. — Что такое архив? — Где Актюбинск? — Пожалуйста, расскажите сначала! Эх, неопытность моя в педагогике! Надо было начинать с Астрахани! А руки все тянутся. — Сколько весил чемодан Бурцевых? — В какой школе училась Рина? — Как фамилия человека, у которого Архипов купил картинки? — Чемодан тоже остался в архиве или только бумаги? — Что надо искать — продиктуйте. Редкие молодцы! Диктую вопросы. Прошу пересказывать эту историю всем астраханцам. Уславливаемся насчет часа, когда буду ждать их в гостинице. Уже попрощались — вопрос: — К нам мамин дядя приехал из Гурьева. Ему можно сказать про это? Или только таким, кто ходит голосовать? — Можно и дяде! Положился на них и вам посоветую: действовали с редким энтузиазмом. Сижу в кабинете Токарева. Беседуем. Делаю пометы для памяти: у Рины было несколько писем Шаляпина, альбомы Репина, письма художника Сергея Григорьева к самому А. Е. Бурцеву. Три полотна Саламаткина из бурцевского собрания есть на Кутуме. Художница Нешмонина приобрела в свое время несколько неплохих рисунков. Много вещей находилось в руках Гилева. — Кто такой? — Художник. Бывал у Бурцевых еще до войны. Военные годы провел в Астрахани. Часто навещал дом на улице Ногина, когда приехала Рина и стала распоряжаться коллекцией… У него были Шишкин, Крыжицкий, Крачковский… Федотова как-то показывал здесь… Много других вещей было от Бурцевых: он их хороший знакомый. Как будто разошлось все это по частным коллекциям — в Москве и в Поволжье… Дневник Лейкина? Еще недавно его видели в Астрахани в руках этого… Гены Гендлина! Говорил кто-то, что там есть упоминания про Чехова. Токареву запомнилось: дочь Бурцевой говорила, что имущество их хранится не только на улице Ногина, но и в других местах. Где? Обо всем этом мог знать Алексей Архипов, который первым тогда прибежал в галерею. Можно ему написать: он в Казани, в художественном училище. Только проще побывать на квартире, где жили Бурцевы, поговорить с Полиной Петровной Горшеневой — хозяйкой. Она в Хлебпищеторге работает. Там разговаривать неловко, а лучше домой… Я к ней уже заходил — никак не застану. «А вы приходите, как встанете, — говорят. — Хоть в половине шестого, хоть в пять. Она товар принимает. Уходит — темно на дворе». И вот наконец я на чердаке этого дома — чердаке, который старался представить себе в продолжение долгих месяцев, — у входа в светелку с окошечком, с выструганным добела полом, где когда-то стояла корзина. Беседуем с Полиной Петровной — хозяйкой, — и оба невеселы. — Здесь у них все и было… Я уже слыхала про вас: мальчонка соседский тут прибегал. «У вас, говорит, на подловке ценности сколько лежало, а вы не устерегли. Писатель — из Москвы — приходил, велел сдавать тетрадки писателей или письма, что есть…» Вы мне скажите, — она ждет от меня оправдания, — могла я знать, что сложено тут у Рины? Как я стану вещи ее проверять? Чужое. Мне не доверено. Три года лежало — не трогали. И после не стали брать. Я ее понимаю! Рассказывает: Рина приехала тогда — каждый день поднималась сюда, разбирала, приводила с собой компанию. — Бумаги у них так и веяли… Прощалась — наказывала: «Если кто от меня заходить будет — пускайте, это свои, для них тут отложено». После являются: «Рина про нас говорила?» — «Идите». Потом, уже когда остатки остались, — пожарник: «Чья бумага?» — «Жильцов старых». — «Оштрафовать бы вас разок для порядка! Хорошо не сгорели!» — Смел в кучу да на сугроб… Кажется, лучше родиться глухим, чем слышать такое!НАХОДКА
Подымаюсь по лестнице в номер. На площадке гостиницы, возле дежурной, дожидается знакомец по Дворцу пионеров, лет десяти. — Хотите, я вас сведу к одному? У него картины с улицы Ногина куплены. Повел. Пришли в мастерскую художника. На мольберте большая, еще не законченная работа — астраханская степь, отара овец, чабаны… Трудится над полотном, как потом выяснилось, тот самый военный Володя, имя которого упомянула однажды Рина. Его фамилия — Вовченко. — Вот у него есть картины, какие, вы говорили, пропали на подловке, — зашептал мой вожатый. Художник обернулся мгновенно. — Какие тебе картины?… Вам что? — и поглядывает то на меня, то на мальчика недоуменно и даже недружелюбно. — Чего тебе надо здесь? Ну-ка, сыпься! — Я с писателем, — пролепетал мой наставник. — С каким писателем? — И уже помягче: — Это что, вы? Я назвался, разъяснил причину и обстоятельства. Вовченко заулыбался, сразу же проявив жаркую готовность помочь. — Рисунков я тогда накупил довольно. Мне попались работы не больно-то интересные, но коллекция раньше была-оёёй! Фото, письма, альбомы, книжки в переплетах роскошных… Там до меня народу перебывало порядком. Самое ценное в то время уже ушло, растеклось по частным каналам. Дочка владелицы, Рина, приехала ликвидировать имущество, которое здесь оставалось. В Куйбышев, говорили, попало кое-что, в Казань… Корзину? Видел! Багажная, приличных размеров! Пригласил меня к себе на квартиру. Помощника моего подергал легонько за ухо: — Тебя за «языком» посылать… Дома, на улице Пушкина, вынес целую стопу карандашных рисунков и акварелей: Прянишников, Маковский, Мясоедов, Вахрамеев, Зичи, Григорьев… Наряду с этим много работ малоизвестных художников начала нашего века и просто ремесленные картинки — карикатуры, иллюстрации к дешевым изданиям, оригиналы поздравительных открыток… Как уже было сказано, Бурцев собирал все!.. И вдруг! Среди этих наклеенных на пыльные паспарту рисунков несколько альбомных листков: переплет оторван, начала и конца нет, по обращениям можно понять, что принадлежал этот альбом в свое время известному переводчику В. В. Уманову-Каплуновскому… 1909 год… Запись литератора Тенеромо… Высокопарное изречение об эмансипации женщин — подпись Н. Б. Нордман-Северовой, жены И. Е. Репина… И запись самого Репина! Страничка, на которой изложен взгляд его на искусство!
Запись И. E. Репина в альбоме В. В. Уманова-Каплуновского, Собрание В:. Вовченко. Астрахань
«1909 23 июля. Куоккала. Модные эстетики полагают, что в живописи главное — краски, что краски составляют душу живописи. Это не верно. Душа живописи — идея. Форма — ее тело. Краски — кровь. Рисунок — нервы. Гармония — поэзия дают жизнь искусству — бессмертную душу.Как передать здесь то внезапное удивление, которое испугало, обожгло, укололо, потом возликовало во мне, возбудило нетерпеливое желание куда-то бежать, чтобы немедленно обнаружить еще что-нибудь, а затем снова вернуло к этой поразительной записи. Вот она, мысль, в которую уместились часы вдохновения, годы труда, подвиг всей жизни Репина! Мысль выстраданная и выношенная! Мысль, бывшая путеводителем в творчестве! Мысль — убеждение, защита, мерило искусства, оценка художника!.. Вот он, пыльный альбомный листок, без которого мы, сами того не ведая, были бы на один факт беднее, как были бы, не зная того, беднее без собранных Бурцевым документов, отразивших мгновения нашей истории, моменты жизни и творчества наших великих людей, — без писем Ломоносова и Суворова, Лермонтова и Кюхельбекера, Горького и Чайковского… Да, впрочем, что тут! Одна страничка, исписанная рукой великого Репина, стоила бы упорных поисков! …Вовченко охотно дает разрешение сфотографировать этот листок. Вообще он полон готовности помогать. — Куда посоветую вам зайти, — говорит он, — это к Розе Давидян, к художнице… Тут, улица Победы, неподалеку… Идемте, я вас сведу! И я понимаю, что это и есть та самая «не то с грузинской, не то с армянской фамилией» Роза, о которой я слышал от Рины.Илья Репин».
НЕВЕСЕЛЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Пришли. — Мы к тебе на минутку, Роза. Ты Рину Бурцеву помнишь? Тут надо человеку помочь… У тебя каких-нибудь бурцевских нет рисунков?… — Интересного нет… К ней попали все больше средней руки иллюстрации к дореволюционным изданиям, оригиналы картинок, которые печатала «Нива», юмористические листки — шаржи, карикатуры… — Куда бы его еще повести? — советуется с ней общительный Вовченко, покуда я перекладываю листы. — Ты человек живой! Сообрази, Роза! Сложив на диван рисунки, я разговариваю и смеюсь с ними, как с добрыми друзьями, которых знаю с молодых лет. — Сейчас, наверно, сменилась с дежурства Лида (Дьяконова, ты знаешь!), она работает сестрой в клинике. Сегодня она должна быть дома. Она говорила, ей Рина давала на хранение письма Багратиона. Все вместе отправляемся к медсестре Дьяконовой. Пришли и смутили — высокую, сероглазую, строгую. — Были Багратиона письма. Но я сама в сорок четвертом году уезжала в деревню, а вернулась — и не нашла. Вздыхаем. Потом они втроем начинают потихонечку совещаться: — Куда ему посоветовать зайти? Ты Рининых знакомых не знаешь? — У Гены был дневник Лейкина, я сейчас его фамилию забыла… Еще другой — в ТЮЗе работал, — он книги у них покупал. Начинают всплывать обстоятельства, восстанавливаться подробности… Но не стану больше перечислять имен, которые ничего вам не скажут. Не буду занимать вас рассказом о том, как я бегал из института рыбной промышленности в медицинский, из педагогического — в Театр юного зрителя, из Товарищества художников — в клиническую больницу, в Общество по распространению знаний… Не стану, потому что добывал я уже не автографы, не картины, а только новые доказательства, что они действительно были. Выяснилось, что нет не только бумаг Петра Первого и писем Багратиона, нет писем и донесений Кутузова, писем Чехова к Горькому, а их видели. Не оказалось того, о чем говорила Рина, что видели Скоков и Токарев… Устремились мы со Свердлиной на поиски дневника Лейкина. И опять безуспешно! Новый владелец тетрадей переехал в Караганду. Разъехались и другие, кто знал или мог знать, что хранилось в корзине на чердаке, — один ушел в армию, другой учился в Казани… Мне давали адреса: Воткинск, Березники, Новосибирск, Ховрино под Москвой… Двое из тех, что часто бывали на чердаке, не выезжали из Астрахани. Но их уже не было в живых. Каждый день прибегали ко мне пионеры, ждали часами, провожали, объясняя, в какие ворота войти, в какую стучать квартиру и кого там спросить. Я все знакомился, все расспрашивал, получал от новых людей все новые и новые адреса. С каждым днем становилось все более ясным: если искать бесконечно, можно найти еще один документ, еще два рисунка, может быть, десять, двадцать… Но астраханская часть коллекции Бурцева растеклась, разошлась по рукам и как таковая больше не существует. Тут можно было бы поставить последнюю точку. Но я предвижу вопросы и возражения. — Какое право было у Бурцевых хранить документы, имеющие общественное значение? — Надо было изъять у владельцев коллекцию, которую они не сумели сберечь! — Почему коллекция не была конфискована при жизни самого Бурцева? — Отчего не привлекли виновных в гибели документов к ответственности? Такие вопросы уже задавали. Попробуем разобраться.ОБЩЕСТВЕННАЯ СТОРОНА ДЕЛА
История эта вызывает чувство глубокой горечи. Но суть дела вовсе не в том, что коллекцию не конфисковали вовремя, и не в том, что владельцев не привлекли к судебной ответственности. Это дело сложнее. Оно выходит из юридической сферы и касается понятий моральных. Право личной собственности в нашей стране распространяется на предметы домашнего хозяйства и обихода, личного потребления и удобства — на то, что служит удовлетворению наших материальных и культурных потребностей. Это право незыблемо. Его охраняет закон — десятая статья Конституции. Вы решили украсить свою комнату — повесили полотна Сергея Герасимова и Сарьяна, этюды Кукрыниксов, рисунки Верейского и Горяева. Вот и коллекция! Кто может изъять ее у вас, полноправного члена советского общества? А завтра вы, может быть, решите собирать на свои сбережения патефонные пластинки, почтовые марки, фарфоровую посуду, редкие книги?! Собирание коллекций — общественно полезное дело: коллекционируя, вы изучаете вещи, сохраняете их от забвения, от распыления. Любая коллекция, собранная на ваши личные сбережения, — ваша личная собственность. Закон советский охраняет и право наследования. Рано или поздно ваша библиотека, картины, пластинки, фарфор, если только вы не завещали передать их в государственное хранилище, станут собственностью ваших наследников. И они распорядятся ею по своему усмотрению. И, возможно, так же не сумеют ее сохранить, как не смогли полностью сохранить свою коллекцию Бурцевы. Спрашивают: почему коллекцию, представлявшую ценность общественную, не реквизировали после Октябрьской революции? Для этого не было оснований: закона об изъятии частных коллекций не существует. Что же касается предложения привлечь владельцев к ответственности за то, что они не сумели полностью уберечь эти документы, картины и книги, то можно ли возбудить дело против гражданина, повинного в утрате принадлежащего ему личного имущества? И, тем не менее, все понимают: бросить на чердаке подушки или посуду — дело одно; оставить без охраны уникальные ценности — дело другое. Нельзя привлечь к юридической ответственности за то, что человек уничтожил принадлежавшую ему книгу или картину. Но, узнав об этом, мы вправе считать, что личное право он ставит выше общественных интересов, и справедливо осудим такого. Владеть ценнейшей коллекцией — быть в ответе перед историей. Потомки не станут вникать в обстоятельства, при которых владельцам пришлось расстаться с частью коллекции. Уже не о них — обо всех нас будут говорить они с осуждением: «не могли сохранить», «растеряли», «где были те, кому по роду занятий надлежало проявлять заботу об исторических документах, — люди культуры, историки, музейные работники, архивисты?» Разве мы не говорим так о тех, что жили в прежние времена и не сохранили для нас многих замечательных памятников искусства, литературы? Да, говорим. Сокрушаемся. А чаще всего негодуем! Советское государство гарантирует нам права, которые не гарантированы ни в одной стране по ту сторону границ мира социализма, — право на труд, на образование, на отдых, на обеспечение по болезни и старости и многие другие права; в том числе гарантировано наше право и на личную собственность. На заботу государства о нас мы отвечаем заботой о государственных интересах. И ставим их выше личных. Коллекция Бурцевых представляла ценность общественную. А это обязывало их проявлять в отношении ее куда большую меру заботы, чем о всякой другой своей собственности.ПУСТЬ ЭТО ПОСЛУЖИТ УРОКОМ!
Сколько ценнейших рукописей погибло от случайных причин, начиная со «Слова о полку Игореве», список которого хранился в Москве, в доме собирателя Мусина-Пушкина, и сгорел в 1812 году во время пожара! Владелец не уберег! Тем более не стоит наследникам хранить у себя документы, значение которых большею частью им непонятно. Но если наследник хотя бы слышал, что это ценность, то третьи лица чаще всего не знают даже и этого. Не вникнув в содержание попавших в их руки бумаг, они часто дают им совсем другой ход. Великий грузинский поэт Давид Гурамишвили, будучи вынужден покинуть Грузию еще юношей, умер в конце XVIII века на Украине. Незадолго до смерти, полуслепым стариком, он вписал все свои сочинения в толстую книгу и, узнав, что в Кременчуг прибыл грузинский посланник при русском дворе царевич Мириан, отослал ему труд всей своей жизни в надежде, что стихи и поэмы, писанные по-грузински в полтавской деревне, найдут путь на родину и станут известны грузинским читателям. Все, однако, случилось совсем не так, как рассчитывал поэт. Рукопись его в Грузию не попала. Туда дошли только копии. А сама рукопись почти сто лет спустя после смерти Гурамишвили была куплена в Петербурге, в антикварном магазине на Литейном проспекте. И то потому, что случайно попалась на глаза студенту, который смог прочесть заглавие и первые листы текста и понял значение находки. В ином случае мы не имели бы ни одной собственноручной строки этого замечательного поэта. Не менее значительное событие произошло в нашем веке в городе Чехове под Москвой. На дне клетки, в которой прыгала канарейка, случайно обнаружился лист, исписанный почерком Пушкина. Удивились, стали искать, откуда он взялся. И набрели на ящик с бумагами Пушкина — это была рукопись о Петре. В Талдомском районе, Московской области, случайно заметили, что в одной избе стена под обоями в горнице обклеена старыми письмами. Содрали обои, отмочили листки. Это были письма к родным великого сатирика Щедрина. Если говорить об ответственности, то виноваты наследники тех, кому эти бумаги принадлежали. О чем они думали, оставляя после себя эти рукописи? Кто должен был решать их судьбу? Определить руку Пушкина могут только специалисты. Но даже специалисты по Пушкину щедринский почерк читают с трудом. Человек, не сведущий в этих вопросах, сам разобраться в этом не может. И единственно правильное, что может он сделать, — обратиться к специалисту, в редакцию местной газеты, в библиотеку, в архив… Учащиеся Красноборскойсредней школы, Архангельской области, и поступили именно так: послали в Ленинград, в Пушкинский дом, два рукописных сборника, составленных в XVIII веке. Ученики одной из московских школ пошли еще дальше. Они решили искать литературные документы. Узнав, что Аркадий Гайдар жил когда-то в подмосковном городе Кунцеве, решили проверить, не осталось ли в доме каких-нибудь рукописей, книг или фото. И, роясь на чердаке, обнаружили и командировочные удостоверения Гайдара, и договоры с издательствами, и письма к нему, и даже неопубликованный очерк. Находки свои они передали в Центральный литературный архив. А возле Мичуринска, во дворе техникума, двое учащихся нашли еще более редкую вещь: дневник чиновника, служившего вместе с Пушкиным в Кишиневе. Автор этого дневника рассказывает, как сосланный Пушкин отзывался о политических порядках тогдашней России: «…Штатские чиновники — подлецы и воры, генералы — скоты большею частью, один класс земледельцев почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если бы это было, то он с удовольствием затягивал бы петли». Ученики передали находку преподавательнице русского языка. Та, в свою очередь, доставила ее в Москву, в Литературный музей, и вручила пушкинисту М. А. Цявловскому. Дневник опубликовали, а самая тетрадь, обнаруженная во дворе техникума, хранится ныне в сейфе Пушкинского дома Академии наук СССР, куда мало-помалу стекаются все рукописные материалы, имеющие отношению к Пушкину. Много можно рассказать интересного о находках, поступающих в этот сейф! В 1921 году ленинградский искусствовед Г. И. Гидони, развернув купленный в булочной хлеб, обнаружил, что на обертку были пущены старинные, большого формата письма, в которых шла речь о дуэли и смерти Пушкина. Оказалось, что автор их — сын знаменитого историка Андрей Карамзин, который писал из Баден-Бадена в Петербург матери и сестре Е. А. и С. Н. Карамзиным — о том впечатлении, которое произвело на него известие о гибели Пушкина. Гидони передал эти письма в Пушкинский дом. Прошло около двадцати лет. И вот, разбирая в Нижнем Тагиле книги, оставшиеся после смерти инженера Шамарина, бухгалтер О. Ф. Полякова обнаружила письма о дуэли и смерти Пушкина, писанные из Петербурга в Баден-Баден Е. А. и С. Н. Карамзиными и адресованные Андрею Карамзину. Полякова передала их в Тагильский музей краеведения. А в 1957 году они поступили в Ленинград, в Пушкинский дом, и легли рядом с находкой Гидони. Впрочем, об этих письмах — особо! Совсем недавно в Пушкинский дом поступило подлинное письмо Пушкина к некой Алымовой и вместе с ним письмо Гоголя к его ученице Балабиной. Их прислал в дар институту известный физиолог — московский профессор И. М. Саркизов-Серазини. В сопроводительной записке его говорится: «Считаю себя не вправе держать эти драгоценные реликвии у себя дома». Немало таких подарков поступает в наши архивы. И. Н. Заволоко прислал из Риги письмо художника Рериха; А. М. Кулакова из Вельска — пять старинных рукописных книг, в их числе неизвестную повесть. От Т. Е. Бурдина поступил в дар старинный сборник сказаний и поучений; от И. Н. Заборского — десять рукописей XVII–XIX веков: старинные повести, сказки, крестьянские челобитные. А. М. Бебяков подарил старинный «столбец» — свиток длиной в пять метров, в котором сообщается о тяжбе владельцев той самой земли, на которой ныне стоит колхоз «Красный пахарь», Архангельской области. «Столбцу» этому около трехсот лет. В. Г. Зыкин принес в дар государству целых тридцать шесть рукописей, и некоторым из них по пятьсот лет. Кто эти люди? Заволоко — пенсионер. Кулакова — жена краеведа. Бурдин — редактор районной газеты. Заборский — колхозный счетовод. Бебяков — колхозник. Зыкин — преподаватель… Таких людей много. О них можно было бы написать целую книгу. Это они из интереса и уважения к нашей культуре, к нашей истории доставляют в музеи ценные археологические находки, древние клады, сообщают о редких книгах, о старых рукописях. Все больше становится людей, передающих свои находки и материалы в дар, безвозмездно. Сколько рассеяно по нашей стране — и не только в областных и районных центрах, но и в селах, у частных лиц-ценнейших материалов: писем, рукописей, документов, революционных листовок, старых альбомов, книг, уникальных портретов, пожелтевших, выцветших фотографий, важных для нашей истории! Пусть печальный опыт с корзинкой на чердаке послужит всем нам уроком. Давайте искать, собирать, сохранять архивные ценности! Не для себя, а для всех! Для советского общества! Для культуры!О СОБИРАТЕЛЯХ РЕДКОСТЕЙ
1
Перед моими глазами аккуратно разложено около трехсот писем. Это отклики радиослушателем на рассказ об Актюбинском чемодане и о поисках в Астрахани утерянных рукописей из коллекции Бурцева. Впечатления. Вопросы. Советы. Указания, как продолжить поиски остатков этой коллекции. Адреса, по которым можно найти другие собрания редких книг, картины и рукописи, брошенные на произвол судьбы или попавшие в руки людей несведущих, равнодушных. Мысли по поводу собирателей и частных коллекций. Попробуем разобраться в этой корреспонденции. Коснемся сначала тех писем, в которых сообщаются новости о коллекции Бурцева. Калининград. Пишет Александр Шабанов. Слушая рассказ «Личная собственность», он вспомнил, что в Астрахани, где прошла его юность, в 1944 году его родственница Любимова случайно купила на рынке большой — размером около метра — портрет Льва Толстого. Волосы, борода, блуза на этом портрете смонтированы из текста «Крейцеровой сонаты». Теперь ему, Шабанову, кажется, что портрет мог попасть на базар из коллекции Бурцева. С этой целью он сообщает астраханский адрес своих родных. Да, почти с полной уверенностью можно сказать, что он нрав: вот ответ его родственницы Е. В. Любимовой. Портрет Толстого куплен ею в 1944 году на астраханском базаре у какой-то старушки. Но откуда взяла старушка портрет, нынешняя владелица сказать ничего не может. На портрете клеймо издателя Хазина: местечко Ярышев, Подольской губернии. А вот другое письмо. Тоже из Астрахани. В кем фотокопия с рукописи. Шлет ее В. Логинов, племянник художника Токарева, имя которого упоминалось в рассказе. «В мои руки случайно попал исторический документ, очевидно из коллекции Бурцева, — пишет товарищ Логинов. — Буду очень просить: сообщите, что это за документ?» Отвечаю: это — письмо императрицы Марии (матери Николая I), писанное в 1827 году и обращенное к тогдашнему министру народного просвещения, известному писателю адмиралу Шишкову. Директор Горьковского музея в Казани М. Н. Елизарова сообщает, что музей приобрел шестьдесят иллюстраций к произведениям Гоголя, находившихся раньше в коллекции Бурцева. Принес их в музей художник Архипов, тот самый, что первым сообщил Астраханской картинной галерее о старухе, торгующей рисунками на базаре. Но это отдельные, частные указания. А вот рассказ о судьбе бурцевской коллекции в целом. Содержится он в письме режиссера, бывшего художественного руководителя астраханских — татарского и колхозно-совхозного — театров, члена астраханского отделения Союза художников Александра Михайловича Василькова, проживающего ныне в Москве, в Доме ветеранов сцены. С волнением вспоминает товарищ Васильков один из дней 1944 года, когда он находился в помещении астраханского товарищества «Художник» и увидел, как зашедший туда работник астраханского отделения Художественного фонда СССР Сергей Георгиевич Масленников стал доставать из папки принесенные им рисунки Репина, Серова, Афанасьева и других замечательных русских художников. Васильков вспоминает, что, демонстрируя свои приобретения, Масленников рассказывал, как он и другие наткнулись на барахолке на старуху, распродававшую эти рисунки, как он, Масленников, ходил на «базу» этой старухи и рылся — теперь это Василькову становится ясным — в той самой корзине, о которой шла речь в рассказе «Личная собственность». «Увидев рисунки Репина и Серова, — пишет старый художник, — я был потрясен». Большего, однако, он в тот раз вызнать не смог. «Тогда, — продолжает он, — у меня осталось впечатление, что это был случайный эпизод на астраханской барахолке, что работник Художественного фонда случайно наткнулся на какую-то старуху, к которой так же случайно попало два-три десятка рисунков наших великих мастеров». Правда, говорится далее в письме, Масленников упоминал фамилию какого-то Бурцева, бывшего владельца этих рисунков, «но ни я, ни другие не придали этому тогда никакого значения, так как никто из нас не знал, что такое был Бурцев». «У меня сейчас сердце обливается кровью, — продолжает, обращаясь ко мне, Васильков, — когда я вспоминаю строки Вашего очерка с именами Петра I, Багратиона, Федотова, Чехова… Но все это, я уверен, и сейчас цело. Оно только может быть перепродано в другие руки, но не погибло! Ни в коем случае! Может быть, погибла мелочь в руках пожарника… Те, в чьих руках оказались все эти вещи, хорошо знали, что они приобрели…» Васильков называет фамилии людей, к которым могли попасть части коллекции Бурцева. Не будем перечислять их пока. Видимо, придется вновь побывать в Астрахани. Хотя дело теперь—это ясно — не в том уже, у кого находятся сейчас автографы и картины из бурцевского собрания. Ясно уже, что из одной частной коллекции они перекочевали в другие. А между тем по характеру своему бурцевская коллекция должна была бы полностью стать доступной для широкого изучения. Но во всяком случае уверенность художника Василькова в том, что эти ценности хранятся в других руках, что они не погибли все же, более радостна, нежели сознание об их невозвратной потере. Впрочем, к судьбе этой части коллекции мы еще, надеюсь, вернемся… Интересный отклик получен из Харькова. Пишет К. Я Юрченко. В 1949–1950 годах она жила в Астрахани, на квартире Полины Петровны Горшеневой, той самой, у которой о свое время жили Бурцевы. Клавдия Яковлевна считает, что Горшенева могла бы рассказать о судьбе коллекции куда больше, чем она рассказала… Будем надеяться, что все эти указания приведут к новым находкам. Но вот письма, уже не имеющие отношения ни к Астрахани, ни к собранию Бурцева. «Решила предложить Вам оставшуюся у меня от бабушки книжку с автографом писателя Гончарова — „Четыре очерка“, подаренные автором писательнице Надежде Дмитриевне Зайончковской…» — пишет Татьяна Николаевна Королева. Это Москва.
«У меня имеется любительский снимок Федора Ивановича Шаляпина, очевидно с семьей, — сообщает из Ярославля Леонтий Андреевич Серапионов. — Распоряжайтесь им по своему усмотрению. Где будет он находиться — в Театральном музее Бахрушина или в Литературном архиве, — мне безразлично». В конверте неизвестная фотография великого певца в окружении детей. «После смерти отца… — это письмо Анастасии Владимировны Шеболковой из Горького, — у меня остался альбом с портретами актеров России и Европы конца прошлого — начала двадцатого века: Тартаков, Петипа, Чинизелли, Славина, Собинов, чета Фигнер… Посылаю Вам фотографию Мазини с автографом и портрет Баттистиии, затем фотографию Тургенева с его подписью…» В письме просьба — посоветовать, куда эту коллекцию передать. Москвич Н. Л. Сигель охотно расстанется с визитной карточкой Айвазовского, на которой имеется собственноручная приписка художника. Артист Мосэстрады И. А. Гип-Толин хочет подарить в Литературный музей фотографии, снятые им в Тобольске: домик Ершова, автора «Конька-Горбунка», дома, в которых жили декабристы Фонвизин и Кюхельбекер, украинский писатель П. Грабовский. Письмо художника К. Ф. Юона шлет в редакцию радио из Саратовской области Ф. Ф. Резников. П. К. Дорошев из курского села Хлюстино ставит в известность, что в Старом Осколе имеются неопубликованные материалы о Кольцове и Щедрине. Карина Зверева сообщила из Липецка, где искать автографы Маяковского и Есенина, владельцем которых был историк литературы В. Л. Львов-Рогачевский. Открытка: в Казани, в собрании покойного профессора Егерева, хранится автограф Некрасова. В 1940 году, будучи студентом Художественно-керамического техникума, Д. Д. Шарабанкин попал в Карачарово, бывшее имение художника прошлого века Григория Гагарина — это в Калининской области, — и, копаясь на чердаке в куче бумажного хлама, нашел старинную, в коленкоровом переплете, тетрадь, в которой постоянно встречались имя М. Ю. Лермонтова и названия кавказских населенных пунктов. Зная, что Лермонтов и Гагарин были дружны, Шарабанкин передал тетрадь одному из преподавателей техникума, который подтвердил, что это неизвестный дневник Гагарина. Это было в Москве в мае 1941 года. Демобилизовавшись после войны, Д. Д. Шарабанкин узнал, что преподаватель его ушел в ополчение и вскоре погиб. В письме сообщаются данные, которые могли бы навести на след дневника. Вот еще письмо — из Архангельской области, от Сергея Ивановича Тупицына, учителя Красноборской средней школы. Несколько лет назад, совершая туристский поход по своему району, он и ученики его видели в селе Белая Слуда у одного из жителей, бывшего старообрядческого попа Осиева, около сорока книг, большая часть которых печаталась в XVII веке. Одну, напечатанную еще раньше — в 1592 году, Осиев отдал ребятам, и она находится теперь в их школьном музее. Через два года Осиев умер. А некоторое время спустя на складе, где принимают макулатуру, Тупицын обнаружил две книги из собрания Осиева. Одна напечатана в 1632 году, а другая — в 1642 году. Естественно, это вызвало беспокойство Тупицына; предлагая послать своих учеников в Белую Слуду поискать у местных жителей остальные старинные книги умершего собирателя, он спрашивает, нужно ли за них предлагать деньги и как вести поиски. Забегая вперед, скажу, что письмо С. И. Тупицына я переслал в Институт русской литературы — Пушкинский Дом — в Ленинграде. И оттуда в Красноборск, к С. И. Тупицыну, выехал аспирант А. М. Панченко. Печатных книг из библиотеки Осиева они пока не нашли, зато обнаружили у других жителей рукописные, в их числе книги XVI–XVII веков. О ценном собрании сообщает Л. Раев из Энгельса. Оказывается, в Хвалынске, Саратовской области, в краеведческом музее, с 1927 года лежат без употребления «дониконовские» рукописные и старопечатные книги, свезенные туда из старообрядческих монастырей в Черемшанах. «Возможно, среди этих книг имеются редкие или даже уникальные, представляющие историческую и культурную ценность? — высказывает предположение автор письма, — Не возьмете ли Вы на себя, — пишет он, — заинтересовать этим собранием соответствующие организации и добиться командирования специалистов в город Хвалынск?» Желание товарища Раева выполнено. Сектор древнерусской литературы Пушкинского Дома вступил в переговоры с дирекцией Хвалынского краеведческого музея. Еще одно важное указание — из города Каменск-Уральского. Пишет Владимир Захарович Разумов. В 1942 году он был назначен комиссаром эвакогоспиталя, размещенного в одном из сел Пермской области. В селе Ильинском, бывшей вотчине графов Строгановых, «в подвале дома, где в свое время жил управляющий», он обнаружил библиотеку и огромный баул, туго набитый старинными, главным образом французскими, письмами, а в числе книг — первые издания великого просветителя И. И. Новикова, журнал «Телескоп», комплект герценовского «Колокола», три экземпляра его «Полярной звезды», «Литературные прибавления к „Русскому инвалиду“» 1837 года, в том числе номер, в котором было напечатано сообщение о гибели Пушкина; среди писем лежали два листка голубой бумаги с написанным от руки текстом пушкинских «Стансов». Все эти книги и рукописи командиры и комиссар привели в порядок с помощью эвакуированной учительницы Анастасии Александровны Бабушкиной. И когда в 1943 году госпиталь отправлялся на фронт, товарищ Разумов захватил часть материалов с собой, с тем чтобы отвезти их в Москву. Дорогой стало известно, что эшелон минует столицу, и он сдал их во Владимире в областной отдел народного образования. К сожалению, обнаружить их покуда не удалось. Передо мной ответы — Владимирского областного архива, отдела народного образования, облисполкома и редакции газеты «Призыв». Письма о том, что там-то валяются без присмотра ценные полотна и книги, а там остались без хозяина старинные документы, идут из Краснодарского края, Костромской области, Ставрополя, Челябинска, Новосибирска, Смоленска, Харькова… В ответ на призыв собирать и бережно хранить памятники культуры поступают вопросы: куда передать чугунные часы XVIII столетия? Старинные туалетные украшения из яшмы и хрусталя? Сундучок матроса Миронова, сражавшегося в Цусимском бою? Французско-русский словарь, изданный в пушкинскую эпоху? Изделия из кости, насчитывающие более четырехсот лет. Н. Кроневальд (Чебоксары) спрашивает, как сдать в государственный фонд хранящиеся у него этюды замечательного казанского художника Н. И. Фешина, одного из лучших учеников Репина? Нельзя не порадоваться этим письмам. В поиски ценностей архивных, художественных, исторических включаются радиослушатели — мощный актив, который охватывает весь Советский Союз. Работа может приобрести небывалый размах. А это сулит множество новых находок. Москвич А. Г. Григорьев уверен, что, если копнуть хорошенько, нашелся бы не один вагон с корзинами, подобными бурцевской. В этом нет никакого сомнения! Нет города в нашей стране, где бы не было собирателей! И при этом коллекций самых различных!«Четыре очерка» с надписью И. А. Гончарова: «Надежде Дмитриевне Зайончковской от искреннего поклонника ее ума, сердца и таланта. От автора. 10 декабря 1880»
2
«Возможно ли в наше, советское время заниматься частным коллекционерством, причем не спичечных коробок, не почтовых открыток, а исторических документов, произведений искусства? — пишет тамбовская жительница Н. Кузнецова. — Мне кажется, — продолжает она, — что частные коллекционеры наносят вред, пряча в сундуки то, что должно храниться там, где тому положено». Остановимся на этом письме. Подобная точка зрения все чаще высказывается, и не только в разговорах и письмах, но и на страницах печати. У многих людей, никогда никаких коллекций не составлявших и далеких от дел, связанных с собиранием и хранением художественных ценностей, документов и книг, возникает представление о коллекционировании как о некоей эгоистической прихоти, во всех случаях наносящей ущерб общественным интересам. Так ли это? Ввиду того, что этот сложный вопрос затронут и в моем выступлении и в многочисленных откликах, давайте его выяснять. Оставим те зарубежные страны, где царят иные порядки и понятие личной собственности наполнено совсем иным содержанием. Поговорим о своих. Коллекционированием в кашей стране занимается множество лиц разного возраста и самых разных профессий. Передо мной справочник. Кто собирает? Врач. Инженер-строитель. Экономист. Радиомонтажник. Летчик. Артист оркестра. Искусствовед. Книжный работник… Что собирают? Помимо марок и спичечных этикеток, денежные знаки, монеты, медали. Картины, Автографы. Грампластинки. Фарфор. Но бывают коллекции и более редких предметов. Один собирает веера, подзорные трубки, бинокли. Другой изображения мостов всех времен и конструкций. Гретин — все о море и флоте. Четвертый — фотографии кладбищенских памятников. Пятый — часы. Афиши. Театральные программы. Меню. Пряники. Я не шучу. Москвич Н. Д. Виноградов собрал за долгие годы две с половиной тысячи пряников: тверские, тульские, вяземские, черниговские, архангельские. Сусальные. Мятные. Тут и всадники на конях, украшенных сахарной сбруей. И девицы в кокошниках. И жаворонки с глазом-изюминкой. Это тоже один из видов народного творчества, кстати сказать — близкий к народной игрушке. В каком музее вы найдете еще такое удивительное собрание? Ленинградец В. А. Домбровский собирает все, что относится к шахматам. Картины и книги. Игровые комплекты, начиная с шахмат XVI столетия, принадлежавших русскому боярину, кончая современными, в число которых входят и фронтовые — из винтовочных гильз, и блокадные шахматы — из картона. В его коллекции можно увидеть русские доски из уральских камней, японские — из перламутра, эфиопские, выложенные из кусочков слоновой кости… Архитектор Перепелкин собрал 12 тысяч граммофонных пластинок. Майор технических войск в отставке Б. А. Вилинбахов — 18 тысяч экслибрисов — книжных знаков, выполненных художниками и украшающих книги общественных и личных библиотек. Проживающий в Курске старый спортсмен И. Д. Булгаков собирает все, что откосится к истории русского спорта, — афиши, газетные вырезки, письма и портреты спортсменов. В коллекции экономиста А. М. Макарова 5 тысяч книг по военным вопросам, 10 тысяч портретов военных деятелей, 2 тысячи боевых орденов разных эпох и народов, сотни пуговиц и оловянных солдатиков. Ленинградский искусствовед И. С. Тагрин собрал 480 тысяч открыток; главные разделы — искусство, история, география. Кажется, такого обширного собрания открыток не имеет ни одно государственное хранилище. От петровских времен до наших дней представлены в них Ленинград, портреты замечательных людей, исторические события. Геофизик Е. А. Румянцев задался целью создать своеобразную энциклопедию Ленинграда. У него 300 тысяч рисунков, гравюр, фотографий, чертежей, планов, рукописей… За перечнем этих предметов скрыт колоссальный труд, неистовая страсть собирателя, терпение, упорство, огромные знания. Все это не готовым попало в руки. Все это надо было найти, угадать ценность каждой бумажки, сберечь. Нетрудно понять значение для истории листовки 1905 года или эпохи гражданской войны сегодня. Но в те дни кто думал о них как о будущих исторических документах? А коллекционер в заботе о полноте своего собрания подымал и берег. В коллекции Румянцева имеется, скажем, листовка Военно-Революционного комитета, выпущенная в канун Октябрьской революции — 24 октября. Откуда она у него? Нашел ее в свое время в одном из ленинградских дворов. Если хотите знать, какую пользу приносят коллекционеры, спросите у работников киностудий, музеев, библиотек, у театральных работников, реставраторов, музыкантов — пусть они вам расскажут, в каких коллекциях отыскали они уникальные записи русских певцов, узоры старинных решеток, планы дворцовых ансамблей, уничтоженных фашистскими бомбами. Старты первых авиаторов русских. Первый автомобильный пробег из Петербурга в Москву… Нет возможности даже и приблизительно перечислить все, что коллекционируют советские люди. Поговорки. Пословицы. Афоризмы. Маяковский писал стихи для рекламы; сейчас исследователи его поэзии обнаруживают множество не учтенных ранее строк у собирателей конфетных оберток. Московский инженер П. М. Матко коллекционирует материалы, связанные с творчеством Гашека — автора бессмертной книги о бравом солдате Швейке. В Чехословакии такой полной и такой интересной коллекции нет. Литературовед профессор Розанов Иван Никанорович всю жизнь собирал книги русских поэтов XVIII–XIX веков. И оставил подбор изумительный! А критик Тарасенков Анатолий Кузьмич решил собрать все книги русских поэтов века XX. И библиотека его — едва ли не самое полное собрание советской поэзии. В ней имеются книги, которые в годы гражданской воины и последней войны не попадали в государственные хранилища, потому что печатались в походных типографиях, в агитвагонах, в партизанских отрядах и в условиях военной жизни были безворатно утрачены. Если бы эти люди не собирали книг и портретов, открыток, шахмат, фотографий, гравюр? Ну что ж! Малая часть этих вещей, несомненно, попала бы в наши музеи. Но большая — можете быть в этом уверены! — погибла бы, распылилась. А распылившись, в глазах очень многих людей не представляла бы никакой ценности. Кому практически нужны сегодня шахматы пз картона или засохшие пряники? Москвичка О. В. Мамет-Сваричовекая более двадцати лет собирает этикетки винных бутылок, консервных, коробок, образцы мод; из того, что люди привыкли бросать, она сделала 10 тысяч самодельных открыток с изображением костюмов, причесок, посуды, военных мундиров. К ней обращаются художники, декораторы, бутафоры. Осмысленные по-новому приложенным к ним творческим трудом, вещи обретают в коллекции новое значение и новую ценность. Но чаще всего понятно это бывает только специалистам. Описывая библиотеку, оставшуюся после умершего московского собирателя, родные, с благословения нотариуса, вытряхивали из всех 6 тысяч книг вложенные в них записки, портреты, рецензии. А в этой необыкновенной полноте и состояла особая ценность коллекции. Вы можете возразить: существуют музеи, государственные книгохранилища, они тоже ведут собирательскую работу! Правильно! И все же находкам коллекционеров очень часто могут позавидовать крупнейшие государственные коллекции. Я уже не говорю, например, о библиотеке народного артиста Н. П. Смирнова-Сокольского, в которой хранятся единственные экземпляры книг, уничтоженных в свое время царской цензурой. Любая библиотека мира была бы рада владеть подобными ценностями. Нет! Не о таких униках идет речь! Но собирает, к примеру, московский бухгалтер материал о Крылове. Гоняется за каждым изданием басен, за маркой с крыловским изображением, за тарелкой, расписанной картинками на крыловские темы. Тратит на это всю жизнь, все свободное время, все деньги. Литературный музей посвятить себя поискам материалов об одном лишь Крылове не может. И чаще всего для музея очень важной бывает приобретение такой вот коллекции. Но это все речь шла о предметах, которые любитель подбирает, покупает, получает в подарок, выменивает. О вещах, которые мог бы собрать и музей. Однако есть и другой вид коллекции: человек просит написать в его альбом несколько строк, музыкальную фразу, набросать шарж. В альбоме писателя Корнея Чуковского можно увидеть автографы Горького, Блока, Алексея Толстого, рисунки Репина, Маяковского, записи множества современников наших — целая полоса культуры отражена в этом альбоме. Если бы не Чуковский, никакому музею не могли бы присниться эти сокровища! Недавно один собиратель показывал мне свой альбом, куда в продолжение многих лет писатели, с которыми ему приходилось встречаться, вписывали несколько строк, — Бернард Шоу, Ромен Роллан, Жан Ришар Блок, Мартин Андерсен-Нексе… Не положи он перед ними альбома — не было бы этих интереснейших записей! А таких собирателей — сотни. Кстати, альбомы сыграли не такую малую роль в нашей культуре, вызвав к жизни вдохновенные стихи великих поэтов, изречения политиков, шутки сатириков, рисунки знаменитых художников, шаржи, карикатуры… Вспомним пушкинское «Я вас любил, любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем…» — это из альбома Анны Олениной. Или еще пример. В дни ленинградской блокады полковник В. И. Цветков стал обращаться к писателям и художникам с просьбой внести в его фронтовой блокнот несколько строк о городе, который вместе они защищали. С тех пор его коллекция превратилась в своеобразную летопись Ленинграда военных и послевоенных лет. В ней хранятся записи Тихонова, Вишневского; Прокофьева, Алексея Толстого, Федина, академика Тарле, Улановой, Качалова и многих других. У него больше 2 тысяч плакатов, листовок, открыток, брошюр и журналов, изданных в Ленинграде в годы войны, сатирические рисунки, стихи, эпиграммы, шаржи, портреты. Страсть собирателя, его инициатива, его любовь к великому городу, забота о будущих историках ленинградской блокады, частые встречи с поэтами и художниками предопределили характер и полноту этой коллекции. С полной уверенностью можно сказать, что после войны такую богатую коллекцию составить было бы уже невозможно. Кто решится при этом настаивать, что коллекционирование — пережиток прежних времен, что руководят собирателем интересы эгоистические?! А собиратели песен, пословиц, загадок народных, частушек и поговорок! Изречений, крылатых слов! Нет. Тут уж собиратель участвует в создании духовных ценностей. Тут он причина всему и начало начал. Так что сказать: «Незачем в наше время заниматься коллекционированием. Для этого существуют музеи» — значит сказать, не подумав. Тем более, что можно и не быть коллекционером, а все же оказаться владельцем архивных ценностей. Я говорю о личном архиве о рукописях и письмах, фотографиях, дневниках, записных книжках, отражающих важные факты общественной и культурной жизни, о документах, которые впоследствии могут представить общественный интерес. Если бы не было на руках у советских граждан всех этих архивных ценностей, государственным хранилищам осталось бы принимать и хранить одни лишь архивы государственных учреждений. Поэтому вопрос о взаимоотношениях музея или архива с отдельными собирателями, с владельцами музейных ценностей — вопрос не простой. Вот, скажем, около двадцати лет назад возникла мысль централизовать архивные фонды СССР, свести в одно место все архивы, в которых хранятся документы, связанные с историей нашей культуры. Потом отказались от этого. И одна из причин — что тем самым централизованное хранилище навсегда потеряло бы связь с периферией страны. Ведь Кострома или Томск уже не могли бы приобретать материалы от костромичей или томичей. Тем самым прекратилось бы дальнейшее пополнение централизованного архива, нарушилась бы «система питания». Когда мы говорим о коллекционерах, то не должны забывать, что коллекционер — это первая ячейка музея, коллекционеры — актив музея. Это «кровеносная система», связывающая государственное хранилище с жизнью. А кроме того, в большинстве случаев работа отдельных коллекционеров вливается потом в общую сокровищницу культуры. И. П. Павлов считал, что, развивая «рефлекс цели», коллекционирование представляет собою тренировку волевых качеств. Нет сомнений также, что коллекционирование — одна из самых доступных форм творческого труда. И чем ближе мы становимся к коммунизму, тем все большее число людей будет принимать участие в благородной работе по собиранию памятников культуры. Разница в том, что с каждым годом все большее число людей будет собирать вещи для коллекций общественных, а не личных. Усматривать же в собирании коллекций нечто антиобщественное — значит отвращать людей от внимания к памятникам культуры и человеческого труда.3
Я сказал, что работа коллекционеров вливается в общую сокровищницу культуры. Да. Во многих случаях. Но, увы, далеко не всегда. «Умер инженер Виктор Павлович Денисов, — начинает письмо москвичка А. Жегалова. — Все последние годы он коллекционировал редкие книги — русские, иностранные, коллекционировал монеты и марки… Никого из близких людей не имел. После смерти коллекцию опечатала милиция. Со слов очевидцев, марки описывались „чохом“, так же, как книги…» Другое письмо. «Скончался В. М. Измаилович, художник, рисовавший когда-то Ленина. Рисунок его, подписанный собственной рукой Владимира Ильича, висят сейчас в Смольном, а личный архив Измаиловича — зарисовки, фотографии, письма — свален в сарай в одну кучу». Об этом сообщает ленинградский инженер В. А. Меньшиков. А разве книги XVII столетия из коллекции Осиева, которые обнаружил на складе утильсырья архангельский педагог Тупицын, не являют собой прискорбнейшее свидетельство негосударственного, антиобщественного отношения к ценным коллекциям? Надо прямо сказать: гибель коллекций после смерти их собирателей наносит тяжелый ущерб общественным интересам. Кто виноват в этом? Прежде всего владелец, не озаботившийся передать при жизни многолетний свой труд в верные руки или не завещавший его в государственное хранилище. Виноваты наследники, если таковые имеются. Виноваты государственные хранилища. И вот этот вопрос широко обсуждают в письмах своих советские люди. «Разве не делят вину в истории с коллекцией Бурцева архивы, музеи и другие учреждения, поставленные и призванные страной разыскивать, собирать и хранить для потомства все духовные и материальные ценности?» — пишет из Горького А. И. Голованова. «У радиослушателей осталось мнение, — делится впечатлением военнослужащий Н. Ф. Пащенко, — что не сообщи вам доктор о коллекции Бурцева — никто и до сего дня не знал бы о кладах в Актюбинске…» А. П. Шалагин из города Балашова уверен, что судьба астраханской корзины постигнет и другие собрания ценных бумаг, если архивные учреждения не будут принимать мер к тому, чтобы следы коллекций не исчезали со смертью владельца. «Ружье охотничье, хоть и личная собственность, — добавляет московский сторож И. Я. Жарков, — но и оно находится на учете». За недостаток инициативы укоряют архивные учреждения и другие радиослушатели. В некоторых письмах содержатся упреки конкретные. У А. В. Шеболковой в Бахрушинском музее отказались принять фотографии артистов с автографами на том основании, что в музее такие портреты есть. Точно так же ответили в Ленинской библиотеке товарищу Парфенову из Уфы, который принес издание XVIII столетия. Москвичка Антонина Александровна Поперек хотела передать туда же, в Ленинскую библиотеку, библию, изданную в 1662 году. Ей ответили: «Мы вашей библией не интересуемся!» «Умру, — замечает Парфенов, — книги выкинут, как старье. А библиотека обязана, если у нее уже есть такие издания, пересылать их в другие библиотеки, где подобных изданий нет». И он, разумеется, прав. Много замечаний прислал доктор юридических наук профессор А. М. Ладыженский. Между прочим, он пишет, что вещи, передаваемые в музеи страны, долгие годы находятся там под спудом. И это понятно: наши музеи располагают таким огромным количеством картин, что выставить могут только часть своих богатейших запасов. Поэтому, говоря о дальнейшем расширении государственных фондов, надобно ставить одновременно вопрос и о музейном строительстве. И — как ни странно это звучит — при этом не всегда хорошо обстоит дело с комплектованием фондов. Бывает, что музей или архивное учреждение отвергнут полотно, сомнительный автограф, тетрадь неизвестного автора — глядь, они уже заняли почетное место в частной коллекции. И новый хозяин уже зовет друзей поглядеть на свое приобретение, оказавшееся великолепным подлинником, вещью, заслуживающей самого серьезного изучения. А все потому, что коллекционер действует решительнее, нежели дирекции и оценочные комиссии. Я лично коллекции не собираю, редкими вещами никого удивить не могу. Но даже и в моих руках оказалась недавно тетрадка воспоминаний, писанных петербургским чиновником 30-х годов прошлого века, которую отвергли несколько крупнейших архивов страны. На деле же она оказалась весьма интересной, а погоня за ней после того, как ее окончательно вернули владелице, могла бы составить сюжет небольшой повести. Каждый просчет, неудача подобного рода в работе государственных наших хранилищ превращается неизбежно в удачу отдельного собирателя. Поэтому, призывая к широкой охране культурных реликвий, мы прежде всего должны обратиться с этим призывом к хранилищам государственным. Вот еще упрек, и очень серьезный упрек, по их адресу. А. Г. Григорьев сообщает, что в Павловской слободе, Истринского района, в руках одного из жителей он видел фотографию, на которой тот снят как рядовой матрос охраны рядом с Лениным, Свердловым и Дыбенко. «Такой фотографии ни в одной газете я не встречал», — пишет товарищ Григорьев. И продолжает: «От Москвы до Павловской слободы езды не более часа, но, вероятно, этого бывшего матроса из охраны Совета Народных Комиссаров не взял на учет ни архив, ни Союз писателей, ни Союз журналистов, ни Всесоюзное радио — словом, никто. А сам владелец показывает эти сокровища к случаю, к слову…» Это, может быть, самое сильное доказательство того, что государственные хранилища не должны дожидаться, когда к ним, как говорят, «самотеком» будут поступать исторические реликвии. Они должны вести планомерные розыски, посылать за материалами экспедиции. Пятнадцать лет назад научный сотрудник Института русской литературы Академии наук Владимир Иванович Малышев, историк древнерусской литературы, стал ежегодно выезжать на Север: на Печору, на Пижму, Усть-Цильму к рыбакам и охотникам — за старинными рукописными книгами. Не стану говорить сейчас даже о самых важных находках, назову лишь цифру приобретений: собрание древних рукописей Института литературы за пятнадцать лет возросло в 100 раз! Но вернемся к основному предмету — к ответственности владельцев за судьбы коллекций. Да, конечно, коллекционер — труженик. И энтузиаст. И знаток, который может поспорить с ученым-специалистом. А часто и сам ученый-специалист. Он сохраняет ценности от распыления и гибели. Опознает, изучает их. Все это верно. Но есть и другая сторона: коллекция — это собственность. И очень часто он поступает с ней, как с любой своей собственностью: оставляет в наследство людям, которые ничего в ней не понимают. Вот в этих «вторых руках», для которых реликвия уже перестает быть духовным богатством, а превращается в одну материальную ценность, и ценность тем большую, что реализовать ее не стоит никакого труда, а продать можно всегда тому, кто больше за нее даст, причем лучше по частям, нежели полностью, — вот в этих «вторых руках» коллекция чаще всего распадается, и собранное с великим трудом растекается снова, остается недоступным, а впоследствии нередко и гибнет. Речь идет не о марках, не о спичечных этикетках, которые выпускаются огромными тиражами и имеются во многих коллекциях. Особо серьезные опасения внушают, конечно, судьбы исторических документов, художественных полотен, автографов, редких книг — словом, ценностей уникальных, единственных, по характеру своему представляющих достояние национальное. И правильное решение тут, на мой взгляд, может быть только одно: в конечном счете передача собранных ценностей в руки общества. Эту мысль, между прочим, великолепно сформулировал пасечник А. Фролов со станции Заводоуковская Тюменской железной дороги, который пишет по этому поводу: «Собирающий уже решимостью собирать подписывает завещание в пользу Отечества… Ценности духовной культуры в коллекции советского собирателя, — продолжает он в том же письме, — имеют два подданства: личной собственности и национального достояния». У пасечника Фролова много единомышленников. Один из них — П. И. Князев из деревни Потанино Новоладожского района (Ленинградская область). «Благородная честь советского человека, — заявляет товарищ Князев, — собрать сокровища в любом жанре искусства, сохранить и определить в государственное хранилище, чтобы пользовались ими потомки». Так и поступают многие советские собиратели, начиная с Алексея Максимовича Горького. Далеко не все знают, что Горький был страстным коллекционером и что немного было в России таких знатоков фарфора, гравюры, редкой монеты, старинной миниатюры, вазы, картины, книги. Изучить вещь, знать ее — вот что интересовало его. А сами по себе коллекции были ему не нужны. И, собрав редчайшие вещи, Горький дарил их, отдавал на общую пользу — в художественную галерею города Горького, в Эрмитаж, в Русский музей, в Пушкинский Дом Академии наук СССР. Недавно скончавшийся известный наш пианист профессор Александр Борисович Гольденвейзер целую жизнь собирал ноты, книги о музыке, автографы музыкантов, со множеством из которых он был в деятельной переписке, хранил программы решительно всех концертов, которые посетил. А не так давно передал всю коллекцию Советскому государству в дар. Теперь в его бывшей квартире музей, филиал Государственного музея музыкальной культуры имени М. И. Глинки.
Вот в таком бескорыстном, широком движении души проявляется настоящий коллекционер. Невольно вспоминаются тут имена П. М. Третьякова, А. А. Бахрушина, художника А. П. Боголюбова — основателей Третьяковской галереи и Бахрушинского музея в Москве, Радищевского музея в Саратове… Другой современник наш — о нем много писали — инженер Б. В. Бородин, работающий в Донбассе. Собирал на трудовые сбережения произведения живописи. А несколько лет назад подарил свое собрание — 217 полотен — родному городу Горловке. И тем самым заложил основу городской галереи. Ленинградский преподаватель С. М. Вяземский, собравший, скопивший в своих папках свыше миллиона газетных вырезок на самые разные темы, решил передать их в музей города. И пряники, о которых мы уже говорили, тоже пойдут в государственное хранилище. А вот шахматный собиратель В. А. Домбровский предлагал Комитету физкультуры и спорта создать специальный музей и передать туда свое удивительное собрание. Предложение это в свое время, как говорится, поддержки не встретило. На это жалуются и другие. Коллекция Н. А. Никифорова в Тамбове, известная даже за пределами нашей страны, насчитывает около 12 тысяч предметов: автографы государственных деятелей, писателей, художников, артистов, рисунки, книги, картины… Все это было набито в маленькой комнатке. От такого хранения портились не только бумаги и ткани, но даже бронза и слоновая кость. Никифоров — немолодой человек — неоднократно заявлял о своем желании завещать коллекцию родному Тамбову. И тут помогла радиопередача о собирателях редкостей: ценности, собранные Никифоровым, превратились в Литературный музей, созданный на общественных началах, областные организации предоставили для него площадь. Но мне кажется, любому должно быть ясно, что мы — общественность обязаны проявлять всемерную заботу по отношению к тем собирателям, которые заявили о своем желании передать свои сокровища государству. Это было бы справедливо. Вот уже скоро исполнится двадцать лет, как Николай Спиридонович Тагрин завещал государству свое уникальное собрание открыток, в которое, кстати сказать, вложены без остатка трудовые сбережения всей его жизни. Огромная ценность безвозмездно перейдет в собственность общества. И, конечно, собиратель вправе рассчитывать на то, что ему помогут еще более умножить на его средствасокровища, уже взятые под государственную охрану. Надо поощрять передачу коллекций, надо информировать об этом общественность через газеты, радио, телевидение. «Сколько людей, — пишет в редакцию „Нового мира“ А. М. Смирнов, — жертвовали всем во время войны, не считаясь ни с чем. И пример вызывал подражание!» Эго, разумеется, верно. Но все-таки надобно помнить, что в интересах государства сосредоточить в архивах, музеях, библиотеках как можно большее количество ценностей. И тут на одни подарки рассчитывать нельзя, Советский собиратель, вложивший в коллекцию все свои сбережения, имеет право ее и продать. Это право сохраняет за ним советский закон. А брать или не брать деньги — это дело его и его материальных возможностей. Несомненно только одно: с каждым годом число поступлений, передаваемых в государственные хранилища в дар, безвозмездно, будет расти. Порукой тому — неуклонное изменение сознания людей, строящих коммунизм. Но это все речь идет о коллекционерах подлинных, чей труд умножает духовные ценности и тем самым приобретает общественное значение. Есть другая категория: люди, которые покупают картины, фарфор, редкие книги, не ставя перед собой никакой определенной цели — собрать что-то одно, скажем, посуду определенной эпохи или определенной фабричной марки. Они покупают все, что придется, — без системы, а случается, и без точного представления о предмете: так, раздобыв одного Коровина, они откажутся от другого, может быть лучшего, на том основании, что второй не нравится им по сюжету. Собирают они, чтобы удовлетворить свои эстетические потребности, — на здоровье! Есть среди них и такие, для которых коллекция — разновидность сберегательной кассы. Купив в комиссионном магазине вазу или картину, он несет ее к себе в дом — его дело! На то и существуют комиссионные магазины. Но подлинными коллекционерами таких собирателей не назовешь, хотя сами они таковыми себя считают. Правда, некоторые начинают со временем разбираться в своих приобретениях, определяют направление своих интересов и становятся коллекционерами подлинными. Есть, наконец, третья категория — это те, кому чужда этика советского собирателя, человека бескорыстного, преданного своему делу. Под видом составления коллекций эти лица занимаются систематической перепродажей вещей. И вот по ним-то судят о коллекционерах вообще. И даже делают на этом основании выводы. Однако если кто-то наживается на чулках или театральных билетах, то это не склоняет нас к мысли, что следует прекратить выпуск нейлоновой продукции или перестать посещать театры. Точно так же следует подходить и к вопросу о собирательстве. Надо решительно различать тех, кто направляет все свои силы и средства на то, чтобы найти, объединить, сохранить для истории творения человеческого гения и человеческого труда, — от тех, кто скупает и продает под видом собирания коллекций предметы, корыстно используя при этом заинтересованность подлинных собирателей, невежество случайных: владельцев или повороты в судьбах людей, побуждающие их расстаться с ценностью за бесценок. Если даже коллекционер настоящий в одном случае и продал предмет дороже, чем заплатил за него, то мы должны помнить, что к двадцати других случаях он приобретал вещи для своей любимой коллекции ценою лишений. Истинный коллекционер — подвижник, спекулятор — преступник. Первый не щадит себя в интересах общественных, второй не щадит общественных интересов в личных, корыстных целях. У первого — стремление, или, как говорят юристы, умысел принести пользу обществу, у второго — стремление нажиться. Что может быть общего между ними? И тут неизбежно возникает вопрос: каковы дальнейшие пути этого дела?Фотография с надписью: «Талантливой поэтессе Гекле Линген на память. Федор Шаляпин. 7/П СПб». Прислано в ответ на радиопередачу «О собирателях редкостей» М. Г. Онинканской (Ленинград)
4
Путь здесь, мне кажется, может быть только один — всемерное поощрение работы обществ советских коллекционеров. Создание их широко разветвленной сети. Покуда эти общества объединяют только собирателей марок, этикеток, открыток, медалей и денежных бон. По рекомендации Министерства культуры такие общества возникли во многих городах Российской Федерации.: Надо расширить работу! Охватить все виды культурного собирательства! Поощрять доклады и выставки. Проводить собрания книголюбов. Оказывать коллекционерам необходимую помощь. Проводить консультации. А со временем создать и печатный орган, чтобы хранящееся в личных коллекциях выявлялось, становилось известным, доступным общественному обозрению и обсуждению. За примером ходить недалеко! Вот уже около девятнадцати лет при Ленинградском Доме ученых каждый вторник происходят собрания. За это время ленинградские коллекционеры заседали более тысячи раз, читали сообщения и доклады, провели десятки концертов в грамзаписи, организовывали выставки. Все это привлекало и привлекает множество посетителей. Систематически уже многие годы Центральный Дом работников искусств в Москве организует великолепные выставки, на которых экспонируются картины из частных собраний. Эти выставки посещают тысячи. Такое широкое ознакомление с коллекциями надо было бы только приветствовать. Между тем газета «Вечерняя Москва» выступила с письмом, авторы которого возмущались, что на выставке картин Б. М. Кустодиева многие полотна были снабжены этикетками: «Из собрания такого-то». «Как можно мириться с тем, — восклицала газета, — что картины скрываются от народа?» Пример не вполне удачный. Ибо в данном случае авторы письма противоречат себе: раз картины представлены на государственной выставке, значит, их не скрывают. Полезно будет напомнить и то, что было время, когда музеи неохотно приобретали Кустодиева. И естественно, что полотна его в большом количестве сосредоточились в личных собраниях. Чем чаще полотна великих художников из коллекции советских граждан будут появляться на общественных выставках, тем реже вопрос о «личной собственности» будет возникать с такой остротой, с какой он еще возникает сегодня. Народная артистка Ирма Петровна Яунзем считает, что уникальным произведениям не может быть места в частной квартире. Глубокоуважаемая Ирма Петровна! Любое произведение истинного художника (если только это не копия) — уникально! И границу провести тут довольно трудно. Уникальны не только картины Брюллова или Крамского, но и полотна выдающихся современных художников. Однако это не значит, что советские граждане не должны вешать в своей квартире картин. Да художник и творит не для одних только музеев. Он волен продать или подарить свое полотно кому хочет. Не в том дело, чтобы в квартире не было места произведениям искусства: важно, чтобы человеку, владеющему сокровищем, хотелось бы поделиться своим приобретением, чтобы он разрешил напечатать с него репродукцию, предоставил для выставки, позаботился бы о его дальнейшей судьбе и тем самым позаботился о потомках… Несколько лет назад мне довелось побывать на слете юных туристов на уральском озере Тургояк. Вспоминаю, как отряды, пришедшие из Свердловска, Казани, Уфы, Кузбасса, Сибири, Осетии, с увлечением готовили выставки — раскладывали в лесу на самодельных стендах гербарии, коллекции насекомых, коллекции минералов и фотографий. Оказалось, что можно быть охваченным и коллективной собирательской страстью. Трудно предугадать, конечно! Но мне думается, что коллекции сегодняшних юных туристов — это прообраз тех форм коллективного собирательства, из которого будут рождаться по всей стране, тысячи новых музеев, книгохранилищ и фонотек!5
Рассказ «Личная собственность» вызвал отклики, расширяющие пределы темы. Речь идет не об одних лишь автографах, картинах и книгах! Л. П. Сапогова из города Глазова хочет напомнить, что через несколько десятков лет станет реликвией плакат на заборах ее города, призывающий на воскресник по сбору металлолома, или небольшой листок с призывом к озеленению улиц! Расширяется тема. Вот еще письмо — от П. Веденеева. Считая, что в передаче «затрагивается принципиально, можно сказать, государственно важная идея, и притом актуальная», он приводит примеры покушений на архитектурные памятники. Рассказав о Чернигове — одном из древнейших городов Руси, родине «Слова о полку Игореве», где были написаны Завещание Мономаха, Изборник Святослава, где возникли былины об Илье, который в древнейших вариантах прозывается Моровленином (а не Муромцем) по древнему городку Моровийску (ныне село Моровск на полпути из Чернигова в Киев), где в селе Любече родился Добрыня Никитич, о Черниговской области, где столько реликвий материальной культуры древней Руси, что ее называют областью-музеем, несколько лет назад произошел анекдотический случай. Председатель Черниговского горисполкома, рассказывает Веденеев, вкупе с городским архитектором «возбудили ходатайство о сносе трех уникальных памятников зодчества — Борисоглебского собора XII века, Пятницкой церкви XII века и Екатерининской церкви XVII века. Есть у нас еще Иваны, не помнящие родства, — возмущается автор письма, — не понимающие, что памятники культуры — это наследство всего народа». По счастию, это покушение на древние памятники поддержано не было. Напротив, нынешние руководители Черниговской области позаботились о реставрации всех трех соборов. Но это нисколько не умаляет важности вопроса, поставленного товарищем П. Веденеевым. Дикой кажется даже самая мысль об уничтожении культурных ценностей! Ширится тема: А. Г. Григорьев, которого я цитировал уже, предлагает записывать воспоминания уходящего поколения — современников событий 1905 года, Октябрьской революции, людей, видевших Ленина, которым сейчас лет по семьдесят — восемьдесят… Идет обсуждение: что такое в большом понимании «личная собственность»? Как собирать? Как хранить реликвии нашей культуры? И, может быть, самый удивительный документ, в котором, я бы сказал, символически отразилась вся суть нашего отношения к культуре, — отклик, пришедший из города Острова. «В первые дни войны, — пишет автор этого письма Е. Николаева, — я подобрала в разрушенном доме большую книгу — полный том Пушкина с комментариями, издания 1929 года. Конечно, неразумно было тащить его с собой в такое страшное время на территории, занятой врагом, с двумя малыми детьми, но я почему-то не могла поступить иначе. Я пять недель пробиралась из-за Львова к своим в Киевскую область, и он был со мной. И сейчас он, мой старый друг, стоит на полке среди иных книг». Прекрасные, благородные строки! Только так и может относиться настоящий человек ко всему, что олицетворяет культуру!ПИСЬМО Ф. И. ШАЛЯПИНА К А. М. ГОРЬКОМУ
Как уже было сказано, в бурцевском чемодане в Актюбинске обнаружилось неизвестное письмо Шаляпина к Горькому. В печати оно не появлялось, я огласил его только по радио. Между тем оно интересно и очень значительно. И дополняет представления наши не только о той долголетней творческой дружбе, которая связывала великого русского певца с великим писателем, — об этом мы знаем из других дошедших до нас 40 писем (21 письмо Шаляпина к Горькому и 19 писем К Шаляпину Горького). Нет, новое письмо особо значительна потому, что содержит рассказ Шаляпина об одном из самых выдающихся событий его артистической жизни. И даже больше — об одном из важнейших событий в истории русского музыкального искусства. Речь в этом письме идет о гастролях в Парике «Русской оперы» С. П. Дягилева и о представлениях оперы Мусоргского «Борис Годунов» с Шаляпиным в главной роли. Это было весною 1908 года. Премьера состоялась 19(6) мая в театре «Grand Opera». Кроме Шаляпина в спектакле участвовали Д. А. Смирнов (Дмитрий), В. И. Касторский (Пимен), И. А. Алчевский (Шуйский), В. С. Шаронов (Варлаам), Н. С. Ермоленко-Южина (Марина), М. М. Чупрынникоз. (Юродивый) и другие солисты императорских театров. Шел «Борис Годунов» в постановке А. А. Санина, в декорациях А. Я. Головина, К. Ф. Юона и А. Н. Бенуа; хором московской оперы руководил У. И. Авранек; дирижировал оперой Ф. М. Блумеифельд. Как пишет биограф Дягилева, впечатление от спектакля было невероятное. Публика в холодно-нарядной «Гранд-опера» словно переродилась: люди взбирались на кресла, исступленно кричали, стучали, махали платками, плакали… Французская столица была завоевана. С этого дня не только Франция, весь мир стал постигать гений Мусоргского и чудо искусства — Шаляпина. Артисты всего мира, и не только оперные артисты, и не только в «Борисе», стали учиться у Шаляпина, стали петь и играть иначе — не так, как играли и пели до тех пор. Если перед спектаклем Шаляпин волновался от неуверенности, как перед одним из ответственнейших испытаний в своей артистической жизни, — об этом рассказывал Дягилев, — то после премьеры он был глубоко взволнован грандиозным успехом. И впечатлениями своими хотел поделиться прежде всего с Алексеем Максимовичем Горьким. По окончании парижских гастролей, уже на борту парохода, идущего в Аргентину, где его ждет новый успех, Шаляпин берется за перо и на бланке «Гамбургско-Южноамериканского пароходного общества» пишет:«Дорогой мой Алексей! Мне просто стыдно, что я не нашел время написать тебе несколько строк. Сейчас, уже на пароходе, хочу тебе похвастаться огромнейшим успехом, вернее триумфом в Париже, — Этот триумф тем более мне дорог, что он относится не ко мне только, а к моему несравненному, великому Мусоргскому, которого я обожаю, чту и которому поклоняюсь. — Как обидно и жалко, что ни он, ни его верные друзья не дожили до этих дней, великих в истории движения русской души. Вот тебе и „Sauvage“[11] — ловко мы тряхнули дряхлые души современных французов. — Многие — я думаю — поразмыслят теперь, пораскинут гнильем своим в головушках, на счет русских людей. Верно ты мне писал: „Сколько не мучают, сколько не давят несчастную Русь, все же она родит детей прекрасных и будет родить их — будет!!!“ Милый мой Алеша, я счастлив как ребенок — я еще не знаю хорошо, точно, что случилось, но чувствую, что случилось с представлением Мусоргского в Париже что-то крупное, большое, кажется, что огромный корабль — мягко, но тяжело — наехал на лодку и конечно раздавит ее, — Они увидят, где сила, и поймут, может быть, в чем она. — Сейчас я еду в Южную Америку и вернусь в средине сентября в Европу. Дорогой, мне ужасно стыдно, что я тебе — во 1-х опоздал, а во 2-х прислал только три тысячи фр. Но это ничего, я приеду из Америки, привезу или пришлю тебе еще. — Одно обстоятельство непредвиденное, о котором я могу тебе только рассказать на словах, поставило меня на некоторое время в смешное финансовое положение. — Осенью я тебе пришлю мои фотографии Бориса Годунова и некоторые статьи журналов о Борисе, а теперь я еще не знаю хорошо и точно, что писали, — знаю только, что писали много. — В Париже я пел в граммофон, и пластинки мои вышли замечательно хорошо. Я просил фирму „Граммофон“ послать тебе на Капри машину и диски и уверен, что они все это сделают, — предупреждаю тебя, что платить им ничего не нужно, а когда получишь, послушаешь, то черкни мне твое впечатление в Bouenos Aires — Theatre Colon. Марья со мной не поехала, а осталась дней на десять в Париже, так как очень захворала. — Прошу тебя, передай мой привет и поцелуй ручку Марье Федоровне, а тебя целую крепко я,твой Федор.P. S…»



«Русский сезон» Сергея Дягилева и особенно выступления Шаляпина произвели на французов впечатление столь сильное и оставили след настолько глубокий, что пять лет спустя, в мае 1913 года, в дни дягилевского сезона Шаляпин вновь пел в Париже Бориса. И скова парижская пресса писала о «блестящей победе» и о «новом торжестве» русского искусства в Европе. Итак, Шаляпин выступал в Париже в роли Бориса в мае 1908-го и в мае 1913 года. Публикуемое письмо не датировано, последние строки, приписанные после знака «Р. S.» на отдельной страничке, до нас не дошли. Тем не менее, решая вопрос о том, к какому времени отнести это письмо, мы можем уверенно датировать его 1908 годом. Именно в том году по окончании парижских гастролей Шаляпин уехал в Южную Америку и выступал в Буэнос-Айресе («Русская музыкальная газета», 1908, № 34, 35 за 24–30 августа). Упоминание в конце письма имени М. Ф. Андреевой точно так же заставляет отнести письмо к этому времени: в 1913 году Марин Федоровны Андреевой на острове Капри не было (уточнено Е. П. Пешковой). Казалось бы, аргументом в пользу 1913 года служат слова о Мусоргском и о «его верных друзьях», которые не «дожили до этих дней, великих в истории движения русской души»: в мае 1908 года еще был жив Н. А, Римский-Корсаков, в инструментовке которого шел «Борис Годунов». Его-то именно и должен был, прежде всего, иметь в предмете Шаляпин, когда вспоминал друзей Мусоргского. Однако следует принять во внимание, что письмо пишется в Атлантическом океане, после окончания гастролей в Париже — последний, спектакль «Бориса» состоялся 4 июня. А Римский-Корсаков умер 8-го. И под свежим впечатлением от дошедшего до него горестного известия Шаляпин вспоминает о нем, о Бородине и о Мусоргском — великих творцах русской музыки, покорившей французов. В день открытия в Париже гастролей оперы Дягилева редакция газеты «Matin» поместила статью Шаляпина «Цветы моей родины», в которой он рассказывал о Мусоргском и — что очень важно для восприятия публикуемого письма — о своем друге Горьком. «Я люблю свою родину, — писал Шаляпин в этой статье, — не Россию кваса и самовара, а ту страну великого народа, в которой, как в плохо обработанном саду, стольким цветам так и не суждено было распуститься». Упомянув «славное имя Мусоргского» и его «шедевр» — оперу «Борис Годунов», Шаляпин более половины статьи посвящает личности Горького и, называя его «мой друг Горький», восклицает: «как он чист, как он честен, как безусловно честен… мне стыдно потому, что я не так чист, как этот чистейший цветок моей родины». А в конце статьи делится своей верой в будущность русского искусства и своей «чудесной земли». Успех парижских спектаклей Шаляпин оценивал правильно. Это был не только его собственный успех, величайшего певца и замечательного актера, не только успех гениальной оперы Мусоргского, а триумф всего русского реалистического искусства в пору, когда во Франции господствовали модернисты, которых вместе с их почитателями и подразумевает Шаляпин в строках, где говорит о «дряхлых душах современных французов». Шаляпину хотелось услышать суждение Горького и об этом триумфе и о своем исполнении еще и потому, что он знал, как относится к нему Горький, как высоко ставит его в русском искусстве. Мнение Горького о Шаляпине известно. И тем не менее каждый раз, перечитывая эти отзывы, мы удивляемся горьковской прозорливости, его умению видеть масштаб явления. «Ты в русском искусстве музыки первый, как в искусстве слова первый — Толстой, — писал Горький Шаляпину несколько лет спустя. — Это говорит тебе не льстец, а искренне любящий тебя русский человек, — человек, для которого ты — символ русской мощи и таланта… Так думаю и чувствую не я один, поверь. Может быть, ты скажешь; а все-таки — трудно мне! Всем крупным людям трудно на Руси. Это чувствовал и Пушкин, это переживали десятки наших лучших людей, в ряду которых и твое место — законно, потому что в русском искусстве Шаляпин — эпоха, как Пушкин». О недостатках Шаляпина, которые в конце жизни оторвали его от родины, Горький знал лучше многих. И не скрывал их. Ио считал, что ценить этого великого художника надо высокой ценой. «Ф. Шаляпин — лицо символическое, — писал он в 1911 году И. Е. Буренину. — …Федор Иванов Шаляпин всегда будет тем, что он есть: ослепительно ярким и радостным криком на весь мир: вот она — Русь, вот каков ее народ — дорогу ему, свободу ему!» Думается, что новое письмо Шаляпина послужит существенным дополнением к его переписке с Горьким. Как много узнали мы из него и о дружбе этих великих людей, и о глубоких прогнозах Шаляпина, и о громадном авторитете русского искусства за рубежом, чему мы получаем теперь каждый день все новые и новые доказательства…Письмо Ф. И. Шаляпина А. М. Горького
НА БЛАНКЕ ПАРОХОДНОЙ КОМПАНИИ
Я уже говорил, и вы, наверное, обратили внимание, что письмо Шаляпина к Горькому написано на бланке «Гамбургско-Южноамериканского пароходного общества». Обратила внимание, читая первое издание этой книги, и Кира Петронна Постникова. Увидев фирменный бланк с флажком, она вспомнила про письма Ф. И. Шаляпина к ее отцу — Петру Ивановичу Постникову; одно из них было писано на таком точно бланке. Достав их и порадовавшись тому, что они у нее целы, Кира Петровна решила передать письма мне. И как только она выполнила это свое намерение, я их обнародовал по телевидению — как раз в те дни исполнялось девяносто лет со дня рождения Ф. И. Шаляпина. А теперь включаю их в книгу, — очень уж они хороши, эти письма, остроумны, талантливы и широко раскрывают могучий образ Шаляпина, неповторимого даже в своем литературном стиле. Для того чтобы все в них оказалось понятным, надобно знать, что была в начале нашего века в Москве, на Большой Дмитровке, лечебница Петра Ивановича Постникова — хирурга великолепного и добрейшей души человека. Говорю это не с чужих слов, не понаслышке: в мои молодые годы я сам знал его — Петр Иванович умер в 1936 году. А в 1906-м в его лечебнице по случаю воспаления в гайморовой полости лежал Федор Иванович Шаляпин. Операцию делал Постников. Чтобы не портить лицо великого актера, не оставлять на щеке шрам, хотя бы и небольшой, Постников применил новый в ту пору способ и щеку резать не стал. Лежа в лечебнице, Шаляпин сдружился не только с самим Петром Ивановичем и женой его Ольгой Петровной, но и с другими врачами и с фельдшерицами, получившими от него общее прозвище — «Братия». Это были почитатели таланта Шаляпина, не пропускавшие его спектаклей, а одна из фельдшериц, Р. В. Калмыкова, в 1908 году даже ездила в Париж, чтобы присутствовать на тех самых спектаклях «Русской оперы» С. П. Дягилева, в которых участвовал Ф. И. Шаляпин: надо же было послушать его в «Борисе». В настоящее время уже никого из этой шаляпинской «братии» нет. Первое письмо помечено: «СПБ. 12/XII 906». Шаляпин жалуется на дирекцию императорских театров, которая перевела его из московского Большого театра на петербургскую сцену.«Дорогие мои, преславные и преподобные друзья Петр Иванович, Ольга Петровна и прочая любезная братия мужского и женского пола! С тех пор нечистая сила, заседающая в кулуарах зданий императорских театров и нами грешными правящая, — послала меня в вертеп, называемый Петровым градом, я мечусь и стрекочу подобно кузнецу в летнюю пору с той только разницею, что истинный кузнец стрекоча славит бога, а я стрекочу петербургской публике. И таково много стрекочу я здесь, что правду сказать даже побриться времени не нахожу — то репетиции, то спектакли, то депутации, то концерты — прямо светопредставление да и только — стакан вина и то не проглотишь сразу, а все по капелькам в виде как гофманские капли принимаешь. Эх, соколики — куда лучше и приятнее жизнь в Москвин — зайдешь бывало в лечебницу, так тебе и вино и елей и кофей и котлета, пьешь и наслаждаешься, да еще и милые добрые, хорошие лица угощают. Ну, впрочем скоро прикачу опять к Вам — 19-го уезжаю из вертограда, а 20-го даже и петь в Москве уже буду. Вчера закатился на охоту верст за 100 от Питера и застрелил зайца — жалко было косого, да охотничий азарт припер к горлу ну и решил заячью жизнь, а по совести сказать совестно перед трупиком — совестно. Кажинный день промываю гайморовскую тоннель и дело кажется идет на лад, а впрочем не знаю — к докторам ни к каким не захаживал и никого ни о чем не спрашивал, — Что-то Вы поделываете? Как все поживаете и здоровы ли?.. Ну, голубчики, до скорого свидания, обнимаю всех по одиночке, а милым дамам целую ихние ручки и прочие мелочи. Такого интересного, о чем можно было б порассказать — пока ничего нет, а потому прилипаю устами моими к рядом стоящему стакану с винцом и пью его за Ваше всех здоровье. Да ниспошлет Савваоф Вам всем то именно, кто чего желает. Душою ВашВторое письмо не датировано. Но писано на бланке гостиницы «Гранд Отель», что на бульваре Капуцинов в Париже, да и по содержанию нетрудно установить, что оно отправлено из Парижа с «милейшей Раисой Васильевной» — фельдшерицей лечебницы Постникова Калмыковой в мае 1908 года, в те самые дни, когда Шаляпин потрясал парижан исполнением партии Бориса Годунова в опере Мусоргского:Федор Шаляпин».
«Милый мой, дорогой Петр Иванович! Конечно ты уже не раз поругивал меня в душе за мое упорное молчание, но верь мне, что чувства мои всегда одинаковы к тебе и к твоей милой братии. Где бы я ни был и сколько бы не молчал — я же Вас всех, а тебя в особенности люблю и люблю искренно. Пользуюсь случаем послать это объяснение в любви с нарочным — милейшая Раиса Васильевна была так мила, что заходила к нам частенько, а также была и в опере, об успехах которой я просил ее рассказать по возможности беспристрастно. Самого меня, после Парижа черти несут в Южную Америку в Bouenos Aires — уж черт с ним! Попутешествую еще, а там отдохну в дорогой России. Я говорю дорогой — да, Петра, я вижу теперь, что наша родина как ее не мучают — есть страна чистой сильной мощи духа. Всякие же Американцы и т. п. двуногие — меня разочаровали весьма — золото и золото — людей если не совсем нет, так так мало, что хоть в микроскоп их разглядывай. Поболтал бы еще да иду — должен поесть, сегодня пою спектакль французам в пользу раненых Марокко и что бы им была возможность ложно покичиться собой — пою „Марсельезу“. Эх, французы!.. И они начали по моему разлагаться и нет уже в них того прежнего святого духа, который носили в себе Сирано де Бержераки. — Ну, милый Петра, целую тебя крепко и прошу передать драгоценной Ольге мои наилучшие пожелания и поцаловать ручку, а всей братии нижайший мой поклон.И, наконец, третье письмо, писанное на бланке пароходного общества, только, в отличие от письма к А. М. Горькому, датированное: «Июнь 27/14 1903, Рио де Жеиайrо» (Шаляпин сделал описку и смешал два алфавита — русский с латинским!).Твой Федор Шаляпин».


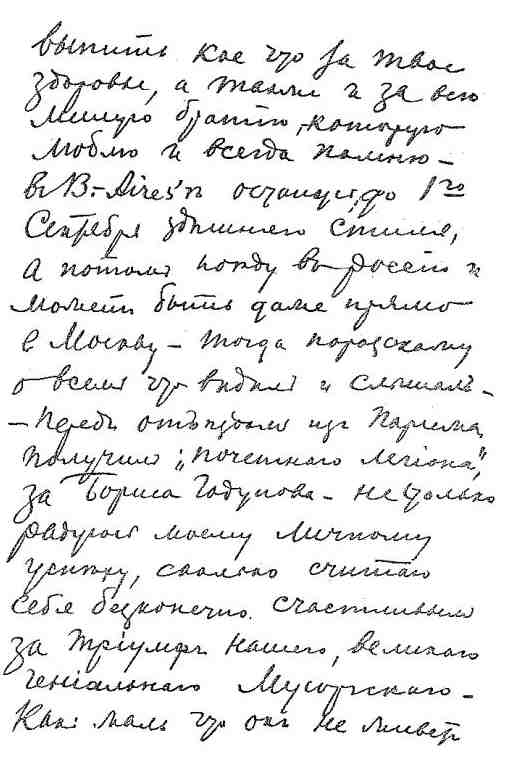

Итак, июнь 1908 года! Выходит, что письмо к Горькому нам удалось датировать с достаточной точностью.Письмо Ф. И. Шаляпина д-ру П. И. Постникову
«Братие! Дорогой мой Петр Иванович! Проболтавшись 15-ть дней в седых волнах океана, хочу в виде отдыха написать Вам несколько строк из другой части света. Очень хотелось бы быть сейчас с Вами и сыграть в домино. Как Вы поживаете? Здоровы ли все, так же ли, каждый день все режете и режете? В этом году мне таки действительно повезло на путешествия. После Америки Северной попал в Америку Южную. Хотя физически чувствую себя превосходно, однако от путешествия устал. И если бы не несколько аргентинских испанцев, влюбленных в „бакара“ — можно было бы сойти с ума от скуки, — но слава богу карты спасают, хотя я не могу сказать, что играю счастливо, однако время проходит сравнительно весело — еще 3 1/2 дня и приеду в Bouenos Aires. Что представляет из себя Рио до Жанейро не знаю, но вход в порт красота несравненная. Можно сравнить только Босфор. Сейчас собираюсь поехать на берег, где не премину выпить кое-что за твое здоровье, а также и за всю милую братию, которую люблю и всегда помню. В Bouenos Aires останусь до 1-го Сентября здешнего стиля, а потом поеду в Россию и может быть даже прямо в Москву — тогда порасскажу о всем, что видел и слышал. Перед отъездом из Парижа получил „почетного легиона“ за Бориса Годунова — не столько радуюсь моему личному успеху, сколько считаю себя бесконечно счастливым за триумф нашего великого гениального Мусоргского. Как жаль, что он не живет. Я думаю, он был бы удивлен своему триумфу, особенно после того, как его честили и перечестили на всех перекрестках в России (конечно в свое время). Ну, дорогой Петруша, целую тебя крепко и приветствую от души милую Ольгу Петр., всей же братии мой искренний поклон.В этих письмах выражены отчасти те же самые мысли, которыми Шаляпин поделился с Горьким в своем письме, — и о родине, которую мучают, а она остается страной «чистой сильной мощи духа», и о «разложении» французского искусства, и о величии гениального Мусоргского, и о собственном успехе в Париже в роли Бориса. Но эти повторы делают еще более интересными письма. Становится очевидным, что в них выражены не моментальные состояния Шаляпина, а коренные, непоколебимые его убеждения. А тут еще размышления об американском образе жизни!.. Радует в этих письмах благодарная память Шаляпина о своих московских друзьях. Где бы он ни был — в Петербурге, в Париже, в Южной Америке, его постоянно тянет к этим добрым, открытым людям, к талантливой среде московских интеллигентов, самобытных русских людей. Среди грома оваций, прославляемый восторженными рецензентами двух континентов, окруженный удивлением, признанием, почетом, он думает о них, делится с ними радостью от успехов, которые переживает не за самого себя, а за русскую музыку, русскую культуру, русское общество. Нынешние поколения уже не застали Шаляпина. Наши представления о нем основываются на пластинках, фотографиях, кинокадрах, воспоминаниях. Но вклад Шаляпина в искусство так неизмеримо велик, так велика сила его таланта, что даже и того, что мы видим и слышим, довольно, чтобы посмертная слава его все росла и росла, чтобы все выше ценили гений Шаляпина, его создания и великие заслуги его перед мировым и русским искусством.Твой Федор Шаляпин.Адрес: Theatre Colon Bouenos Aires Amerique du Sud».
РАССКАЗЫВАЮТ СТАРЫЕ МОРЯКИ
В ответ на радиопередачу, в которой я огласил письмо Ф. И. Шаляпина к А. М. Горькому, пришел пакет из Ленинграда. Прислал его Николай Павлович Ядров, бывший матрос легендарного крейсера «Варяг», участник штурма Зимнего дворца в октябре 1917 года, член Военного отдела Народного Комиссариата по морским делам, прослуживший на флоте около полувека, ныне персональный пенсионер. Товарищ Ядров сообщал, что в молодости ему посчастливилось не только слышать Федора Ивановича Шаляпина, но и встречаться с ним. В дореволюционную пору дирекция Мариинского театра в Петербурге часто использовала в качестве статистов матросов Гвардейского экипажа. В число этих статистов попал и матрос Ядров. Благодаря этому в продолжение нескольких лет он имел возможность постоянно слушать лучших русских певцов, в том числе и Шаляпина. К своему письму Н. П. Ядров приложил несколько страничек воспоминаний. Написаны они очень просто и непринужденно. И для нас интересен в них не только тот, о ком они рассказывают, интересен и тот, кто писал их, — не директор театра, не сослуживец-артист, не личный враг и не личный друг Шаляпина, а рядовой человек, скромный участник оперного спектакля, восторженный почитатель великого певца. Мы часто читаем: «Рабочая аудитория любила Шаляпина…», «Искусство Шаляпина было доступно…» Но почти всегда это пишут критики и биографы, историки театра, люди искусства. Здесь мы видим великого певца глазами молодого матроса, и глаза эти смотрят на сцену не из театрального зала, а из-за кулис. Мы видим Шаляпина в моменты творчества — на сцене и в артистической. Видим его перед бойцами, уходящими на фронты гражданской войны. В мемуарную литературу о Шаляпине воспоминания Н. П. Ядрова вносят подробности живые и достоверные. В рассказе старого моряка мы улавливаем тот восторг, тот сердечный трепет, который вызывали игра и пение Шаляпина. И хочется сказать спасибо товарищу Ядрову за то, что он написал эти странички и разрешил опубликовать их. Н. П. Ядров пишет:В минувшие годы, до революции, Мариинский театр в Петербурге по договоренности с Гвардейским экипажем, в зависимости от того, какая идет опера или балет, требовал на каждый день столько-то матросов-статистов. Нас, матросов, строем водил в театр уитер-офицер Ермаков, который хорошо был знаком с театральной жизнью. Начиная с 1912 года я постоянно бывал статистом. За каждый выход на сцену нам платили 25 копеек, а с 1915 года прибавили — стали платить 50. В то время для нас это деньги были большие, так как матрос получал жалованья всего 87 с половиной копеек в месяц. Много интересных артистов удалось мне видеть и слышать в те времена — Собинова, Андреева, Смирнова, Каракаша, Тартакопа, Збруеву. Но особенно запечатлелся в моей памяти облик Федора Ивановича Шаляпина. Мне посчастливилось видеть его в операх «Русалка», «Иван Сусанин», «Фауст», «Хованщина», «Севильский цирюльник», «Юдифь», «Князь Игорь», «Борис Годунов» и других. Сорок с лишним лет прошло с тех нор. Но созданные великим артистом образы и по сей день сохраняются в памяти. Его чарующий голос забыть невозможно. Когда выступал Шаляпин, билет достать было трудно. Длинная очередь толпилась в морозные дни около Мариинского театра, двигалась медленно, но все же люди стремились купить билет в кассе: барышники продавали с рук по спекулятивной цене, втридорога. А на те спектакли, где сразу пели Шаляпин и Собинов, цены и в кассе повышались в три раза. Студентам трудно было попасть в театр. Они часто просили нас провести их. И вот, когда мы шли строем в театр, студенты пристроятся к нам, и мы проводили их за кулисы. Если выступает Шаляпин, весь театр, галерка, проходы заполнены народом. Нарушались все правила пожарной безопасности — так много было всегда желающих попасть на спектакль. До начала еще далеко, но подойдешь к занавесу, посмотришь через дырочку в зал — народу там столько, что как в муравейнике шевелятся, все проходы забиты приставными местами… Когда Федор Иванович шел из своей артистической на сцену, впереди бежал его секретарь Исай Григорьевич Дворищин и говорил: «Шаляпин идет, Шаляпин…» Перед кулисой Федор Иванович садился в кресло и громко пробовал свой голос, а мы, статисты, во все глаза глядели на него. Некоторые даже пытались заговорить с ним, пока Дворищин не гнал их прочь. Сидит он в кресле, такой величественный, царь Борис Годунов, в парчовом одеянии, усыпанном разноцветными камнями… Величественна была осанка Шаляпина, когда, стоя на паперти Успенского собора, он исполнял знаменитый монолог: «Скорбит душа…»…А мы, матросы, в это время стояли, переодетые стрельцами, совсем недалеко от него. В другой картине — в царском тереме, исполняя монолог: «Достиг я высшей власти. Шестой уж год я царствую спокойно…», Шаляпин умел это слово «спокойно» так спеть, что мурашки по спине бегали. В опере «Борис Годунов» Шаляпин совершенно преображался. Он заставлял забывать, что перед тобою артист, а не сам царь Борис. А когда произносил: «Чур, чур, дитя… Не я твой лиходей…», я тоже невольно ощущал неодолимый ужас и не мог не смотреть в тот угол, куда Шаляпин устремлял свой взгляд, как-то по-особенному вперив его в одну точку. Голосом, полным дрожи, он говорил: «Что это там… в углу?» Так велика была сила артистического дарования Шаляпина, что впечатление это не изгладилось из моей памяти до сих пор. До чего же он был хорош! Как любила его публика! Гром аплодисментов после каждой картины. Он раза два-три выйдет, а его все вызывают. Администрация, директор театра — все просят его выйти на сцену. Но у него на переодевание и грим уходило немало времени, и выходить в перерывах кланяться он не любил. Со сцены в артистическую уборную он возвращался весь мокрый. Бывало, сидит в кресле перед большим зеркалом в одной нижней рубашке — такой весь красный, как будто только что вышел из парилки. Обтирается полотенцем, а сам, улыбаясь, говорит: «Ну что? Понравилось тебе, как я спел?» — «Да, говорю, Федор Иванович, очень понравилось. А сейчас смотрю на Вас — Вы не такой, как на сцене». А он переодевается и говорит: «Мне надо быстро готовиться к следующей картине, а тут все еще просят, чтобы я вышел на аплодисменты». Гримировался он сам, ему только преподносили карандаши да краски. В это время я всегда старался уловить момент поговорить с ним. Приятно было говорить с ним. Душа у него была русская! Мне пришлось видеть, как Шаляпина в одеянии царя Бориса рисовал художник А. Я. Головин. Шаляпин в это время жаловался мне: «Вот, надо позировать!» Позировал он в продолжение нескольких минут каждый раз перед тем, как выйти на сцену. После спектакля народ долго не расходился… Оперу «Борис Годунов» мне удалось видеть раз десять. И всегда с участием Шаляпина. В 30-е годы я как-то снова смотрел «Бориса Годунова», но это было уже не то… В Мариинском театре в те годы был дирижером композитор Направник. Бывало, станет за шопитр, раскроет партитуру, палочкой взмахнет — и польются чарующие звуки. Направник был маленького роста, подтянутый, в черном фраке, голова белая. Помню, Шаляпин на репетициях иногда подправлял оркестр. Направник долго не соглашался, но Шаляпин как-то умел подчинить себе и его. На репетициях все пели полным голосом, а Шаляпин — негромко. На спектакле «Руслан и Людмила» в перерывах, когда Шаляпин не пел, он любил пошутить. Иной раз так рассмешит, что фыркнешь. Эти шутки он устраивал тут же, за кулисами, во время спектакля. Однажды за кулисами Шаляпин, Тартаков, Сибиряков и другие артисты слушали молодого певца Пиотровского. Он потом выступал в Литве под своим настоящим именем — Кипрас Петраускас — и удостоен звания Народного артиста СССР. Шаляпин сказал тогда о нем: «Это — наша восходящая звезда». Шаляпин носил звание «солиста его величества», а мы, матросы, до революции назывались «нижними чинами». Иначе сказать, нас считали людьми низшего сорта. В Кронштадте у входа в сад и в Летнем саду в Петербурге, да и в других садах были надписи: «Строго воспрещается вход нижним чинам и собакам». Нижним чинам не разрешалось ходить по правой стороне Невского проспекта. Но Шаляпин был всегда прост с нами и сердечен, поговорит с тобой, пошутит, как с равным. В конце 1917 года Шаляпин выступал а Мариинском театре, в концерте для фронтовиков. Солдаты и матросы сидели в театре в полушубках и валенках, внимательно слушали Шаляпина. В зале было холодно. В то время в Петрограде был топливный кризис, население получало дрова на вес — не более пуда. В 1918 году я был членом Военного отдела Народного Комиссариата по морским делам. Мы располагались в бывшем здании Гвардейского экипажа. Тут из матросов формировались экспедиционные отряды. К нам часто приходили артисты Мариинского театра. Шаляпин своим исполнением песен умел поднимать настроение, умел воодушевлять уходивших на фронт моряков. Перед каждой отправкой матросов мы старались устроить концерт для них в нашем кинотеатре «Школюнг». На этих концертах выступали певцы Сибиряков, Пиотровский, балерина Люком и другие. После концерта артисты поднимались на второй этаж, и мы с ними расплачивались продуктами: кому давали фунт муки, кому — полфунта сахару, кому — селедки. Один раз Шаляпин и Сибиряков были так тронуты этим вниманием, что здесь же, в Военном отделе, запели какой-то дуэт, не помню какой. Мы с большим вниманием слушали их. А потом все сошли вниз и провожали отряд моряков, уходивший на фронт. В конце того же 1918 года Шаляпин выступал для матросов в Мариинском театре. Он был в подпоясанной шнуром голубой рубашке и высоких сапогах. Запел «Дубинушку» — и всех заставил петь. По его знаку весь зал подхватил: «Эх, дубинушка, ухнем!» После концерта весь театр гремел — мы благодарили Федора Ивановича за то, что он пел для нас. Было торжественно! Но случалось, что Шаляпин ставил нас, членов Военного отдела, в трудное положение. Один раз запросил полпуда муки. Это по тем временам! Нам пришлось посоветоваться, дать ли столько. Но после его концерта матросы всегда загорались — решили дать. В 20-х годах я служил на Гидроавиационной базе Балтфлота. Наш отряд был расквартирован на Каменноостровском проспекте, а за углом был дом Шаляпина. Многие матросы нашего отряда ходили к нему на квартиру, и он с ними охотно беседовал на разные темы. В последний раз я встретился с Шаляпиным весной 1921-го или 1922 года — сейчас трудно вспомнить. Мы ехали на грузовике по служебным делам по Каменноостровскому, ныне Кировскому, проспекту. У нас были бочки из-под бензина. На проспекте стоит Федор Иванович, в сером костюме, с тросточкой, на руке пальто. И машет нам тросточкой: «Моряки, вы куда едете?» Мы отвечаем ему: «На Гутуевский остров». Он просит, чтобы мы взяли его на грузовик, — в Петрограде с транспортом было плохо. Так мы, стоя в кузове, и ехали с Шаляпиным. Он сказал нам, что ему надо в портовую таможню, что он уезжает на гастроли за границу. В грузовике бочки железные катались, и стоять было трудно. Но мы довезли Шаляпина до портовой таможни. Федор Иванович испачкал свой костюм, но мы его бензином отчистили и распрощались с Шаляпиным. Больше нам не суждено было свидеться.Так заканчиваются воспоминания бывшего матроса Балтийского флота Николая Павловича Ядрова, члена КПСС с 1924 года. Знакомство с ним привело к тому, что в моих руках оказался еще один документ о Ф. И. Шаляпине. Н. П. Ядров заочно познакомил меня с близким своим другом — моряком А. Е. Воробьевым. Александр Ефимович Воробьев — старый большевик. В начале 900-х годов он работал в Нижнем Новгороде вместе с Я. М. Свердловым. Потом служил в Балтфлоте. В октябре 1917 года вместе с Ядровым штурмовал Зимний, был начальником караула в Смольном, у В. И. Ленина, потом первым комиссаром Балтфлота. Много энергии отдал А. Е. Воробьев организации экспедиционных отрядов морской пехоты, уходивших на фронты гражданской войны.

В письме А. Е. Воробьева содержатся важные сведения о помощи, которую Ф. И. Шаляпин оказал подпольной организации нижегородских большевиков. Вот что рассказывает Александр Ефимович:М. Горький и Ф. Шаляпин. Фото М. П. Дмитриева
Помнится, это было в году в 1902 или в 1903. Федор ИвановичШаляпин пел на Нижегородской ярмарке, в Ярмарочном театре. Я работал в ту пору на Сормовском заводе, был профессиональным революционером. Нам была необходима денежная помощь на покупку печатного агрегата. Яков Михайлович Свердлов, Иван Чугурин (работавший впоследствии в большевистском подполье на Урале) и я поехали к Алексею Максимовичу Горькому, чтобы посоветоваться. А. М. Горький очень сочувственно отнесся к нашей идее и поехал с нами на ярмарку, в оперный театр, к Федору Ивановичу Шаляпину. В театре шла репетиция оперы «Фауст», в которой Шаляпин пел партию Мефистофеля. После репетиции Федор Иванович встретил нас в своей артистической уборной. Горький изложил ему нашу просьбу. — А это не опасно? — спросил Шаляпин. — Ведь вы рискуете многим! Алексей Максимович ответил ему, что мы народ опытный. Шаляпин сказал Алексею Максимовичу, что даст ответ на следующий день, а нас пригласил в оперу, принес три контрамарки. Когда мы вышли от Шаляпина, Горький сказал Свердлову: — Ты обязательно послушай с ребятами оперу «Фауст». Шаляпин второй раз будет петь Мефистофеля. В этот вечер я впервые услышал Шаляпина. Это был настоящий дьявол! Вся публика была потрясена его голосом и игрой. Театр дрожал от оваций. Через три дня Я. М. Свердлов сообщил, что деньги получены. Агрегат был куплен, и вскоре подпольная типография заработала. А мы продолжали получать от Федора Ивановича контрамарки и ходили слушать оперы, в которых он пел. Не раз он приводил нас к режиссеру, и мы участвовали статистами в операх «Аида» и «Демон». В 1918 году, когда я был первым комиссаром личного состава Военно-Морского Балтийского флота, Я. М. Свердлов вызвал меня в Смольный и спросил: — Чем может ваш флот помочь железнодорожникам Украины? Я подумал и ответил, что мы можем устроить в Летнем саду концерт с участием Шаляпина. Яков Михайлович обещал нам напечатать афиши и дал возможность организовать концерт в Летнем саду. Я поехал к Шаляпину на Петроградскую сторону (улицы теперь не помню). Когда я напомнил ему о наших встречах в Нижнем-Новгороде, он усадил меня в кресло, и мы стала говорить о прошедших годах. Федор Иванович был очень любезен и не только согласился выступить в нашем флотском концерте, но написал нам рекомендательные письма к артистам, которые могли бы также принять участие в нем. В тот вечер, когда состоялся концерт, была прекрасная погода. У входа в Летний сад стояли моряки и продавали билеты. В середине сада мы установили высокую площадку, с которой выступали артисты. Чудесно пел Шаляпин! Было так тихо, что его прекрасный голос был ясно слышен и публике, которая не смогла попасть в сад, а стояла за решеткой и слушала наш флотский концерт. Помню, сбор был колоссальный для того времени. После концерта стали думать, как отблагодарить артистов. Решено было преподнести им армейские пайки. В дальнейшем мы не раз приглашали Шаляпина в Морской корпус и в Гвардейский экипаж. Эти выступления Шаляпина долго-долго вспоминали потом военные моряки. Великий артист шел в народную массу без гордости и зазнайства. Вот почему мы в те суровые годы с особенным удовольствием слушали, как Шаляпин пел «Есть на Волге утес…» или «Дубинушку». И нам, ветеранам, хочется, чтобы память о народном русском певце была сохранена для будущих поколений.Это письмо, так же как и воспоминания Н. П. Ядрова, еще раз — и очень авторитетно — подтверждает силу шаляпинского искусства, свидетельствует о том, какое огромное воздействие оказывало пение Шаляпина на людей, совершивших величайшую в мире революцию. Недавно А. Е. Воробьев умер. В конце письма он ставил вопрос об организации музея Ф. И. Шаляпина, о чем, кстати сказать, пишут многие. И действительно, пора создать такой музей — в Москве, в доме № 25 по улице Чайковского, где жил великий русский артист и где в 1957 году установлен его мраморный бюст.
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФОТОГРАФ
Кажется, будет уместным рассказать сейчас об одной великолепной находке — на этот раз не рукописей, не писем, не картин, не рисунков, а негативов — больших стеклянных пластин, запечатлевших Нижний Новгород на рубеже двух веков и связанных с работой и жизнью в ту пору совсем молодого Алексея Максимовича Горького. Не помню в каком году Надежда Федоровна Корицкая, в ту пору заведовавшая фондами музея А. М. Горького в Москве, только и думающая, где бы и как разыскать о Горьком что-нибудь новое, выехала в командировку в Горький. Уже давно интересовали ее негативы фотографа М. П. Дмитриева. И вот она решила пересмотреть их и выбрать то, что имеет отношение к жизни и творчеству Алексея Максимовича. Максим Петрович Дмитриев, старинный знакомый Алексея Максимовича по Нижнему Новгороду, умерший в 1948 году, девяноста лет от роду, был настоящим художником и энтузиастом своего дела. В конце прошлого века этот талантливый русский человек задумал сфотографировать всю Волгу — от тверской деревушки до Астрахани. Он снимал ее через каждые четыре версты и, можно сказать, создал монографию о великой русской реке. Горький очень ценил эту работу, особенно за то, что Дмитриев собрал в своей фототеке целую галерею волжских типов и запечатлел картины народного труда. Дмитриев снимал и самого Горького. Это по его фотографиям мы знаем Алексея Максимовича такого, каким он был в 90-е и 900-е годы, в нижегородский период своей жизни, — с зачесанными назад длинными мягкими волосами, в черных или светлых косоворотках, лицо серьезное, задумчивое, исполненное энергии и решимости. Сохранились фотографии: Горький с К. П. Пятницким и Скитальцем-Петровым, Горький среди сотрудников редакции газеты «Нижегородский листок». Сохранились фотографии Короленко, Комиссаржевской, Шаляпина… Много Дмитриевских негативов погибло, но несколько тысяч все-таки уцелело; хранятся они в областном архиве города Горького. И вот результаты работы Н. Ф. Корицкой: виды Казани, Самары, Саратова, Нижний Новгород, его улицы, здания, пароходы, караваны барж, пристани и склады на Волге, которые Горький описал в своих книгах; это ночлежные дома, заводы, Всероссийская выставка 1896 года; это трудовой парод Поволжья: бурлаки, рабочие Сормовского завода, углежоги, плотовщики, рыбаки; нижегородская интеллигенция — журналисты, врачи, адвокаты. Эти фотографии размером 40х50 сантиметров кажутся иллюстрациями к произведениям Горького, к его биографии. На самом деле они сняты раньше, чем написаны книги Горького. Они восхищают нас, эти снимки, потому что мы видим в них тот мир, из которого вышел Горький. Мы видим Волгу и Нижний Новгород времен его юности, прекрасные сами но себе и воспетые, опоэтизированные Горьким в его гениальных романах, рассказах, пьесах и очерках. Мы видим, как жил, как трудился на Волге русский народ, в ту пору еще бесправный и угнетенный, народ, которому суждено было свершить революцию, беспримерную в истории человечества. …Кипит работа на волжских пристанях, по которым бродил юный Пешков. Над складами вьются флаги, с баржи по мосткам грузчики вкатывают на тачках ящики, бочки с рыбой, по дощатым настилам везут через железнодорожную ветку, проложенную по территории пристаней. Штабеля сложенных ящиков накрыты рогожами. Шарабан, запряженный серой в яблоках лошадью, ожидает хозяина. Ревет пароход на реке — над трубой растворяется облачко пара. Эти пристани описаны в «Фоме Гордееве», в «Моих университетах». Фотоэтюд Дмитриева — по Волге плывут плоты. Совсем как в рассказе Горького «На плотах», — тишина, свежее весеннее утро, блестящая поверхность воды. На другой фотографии группа врачей, санитары. Снимок сделан в холерном 1892 году. Эта фотография кажется иллюстрацией к «Супругам Орловым». А вот двор завода, заваленный железным хламом. Человек пятьдесят в лаптях и в опорках, тяжело дыша, надрываясь, тащат огромный, опутанный канатами котел. И невольно вспоминается «Дело Артамоновых»: там точно так же волокут «красное тупое чудовище, похожее на безголового быка». И Горький одной фразой передает движение этой махины и торжество человеческого труда. «Круглая глупая пасть котла, — пишет он, — разверзлась удивленно пред веселой силой людей». …В солнечный весенний день из павильона причудливой формы валит толпа хорошо одетых людей: промышленники, купцы, помещики — все в черных фраках, губернские чиновники в черных вицмундирах. Раскрыты черные зонтики — жарко. Сверкает золотая парча духовенства. На первом плане — царский министр Витте, с лентой через плечо, в руке шляпа с плюмажем. Это — открытие Всероссийской промышленной выставки. Кажется, что толпу эту мы словно когда-то видели своими глазами. Но это только так кажется. Мы читали о ней в корреспонденциях Горького с выставки, печатавшихся в свое время в «Одесских новостях», мы читали описание выставки в «Жизни Клима Самгина» в первом томе. Перед входом в главный павильон фотограф рассадил Совет выставки. Во втором ряду — Дмитрий Иванович Менделеев с женой, «древний литератор Дмитрий Григорович», как назвал Григоровича Горький в «Жизни Клима Самгина», миллионеры Савва Морозов и Н. А. Бугров. Об этом Бугрове у Горького есть замечательный очерк. «Миллионер, крупный торговец хлебом, — говорит о нем Горький, — владелец паровых мельниц, десятков пароходов, флотилии барж, огромных лесов, — Н. А. Бугров играл в Нижнем и губернии роль удельного князя». В Нижнем Новгороде Бугрову принадлежал ночлежный дом на Миллионной. Горький хорошо знал Бугрова: «…большой, грузный, в длинном сюртуке, похожем на поддевку, в ярко начищенных сапогах и в суконном картузе, он шел, — пишет Горький, — тяжелой походкой, засунув руки в карманы… На его красноватых скулах бессильно разрослась серенькая бородка мордвина, прямые, редкие волосы ее, не скрывая маленьких ушей, с приросшими мочками, и морщин на шее, на щеках, вытягивали тупой подбородок, смешно удлиняя его». Бугров тоже знал Горького. Еще до личной встречи с ним Бугров прочел «Фому Гордеева» и высказал свое суждение о книге очень отчетливо. — Это вредный сочинитель, — сказал он про Горького, — книжка против нашего сословия написана. Таких — в Сибирь ссылать, подальше, на самый край… И вот, оказывается, сохранилась фотография Дмитриева «Ночлежный дом Бугрова» — трехэтажное кирпичное строение с высоким крыльцом. Вдоль фасада крупными буквами надписи: «Принимают трезвых», «Табаку не курить», «Песен не петь», «Вести себя тихо». На крыльце сам Бугров, именно такой, каким он описан у Горького, — грузный, в длинном сюртуке и в темном суконном картузе. А внизу, перед высоким крыльцом, толпа обитателей ночлежки: голодные, утомленные люди — сезонные рабочие, ремесленники, старьевщики, «босяки», странники, нищие, богомолки. И неизменный блюститель порядка — городовой. От этой фотографии не оторвешься. Лучшего комментария к горьковской пьесе «На дне» нельзя и придумать. Вот она, реальная жизнь, из которой черпал свои наблюдения великий пролетарский писатель, тот материал, из которого творил он свою пьесу. И хотя Горький воссоздал не одну ночлежку, а многие, материал Дмитриева не становится от этого менее интересным. Со двора, вымощенного булыжником, Дмитриев перенес аппарат во внутреннее помещение бугровской ночлежки. На широких двухъярусных парах и прямо на каменном полу сидят и лежат ночлежники. Лапти, онучи, заплатанные армяки и просто лохмотья… А лица умные, строгие. Дмитриев не стремился приукрашать тяжелый рабочий быт, выставлять перед аппаратом тех, на ком сапоги, а «лапотников» ставить подальше. Нет, Дмитриев сочувствовал народу, видел его умным, талантливым, верил в его счастливое будущее. В меру собственного своего таланта и мастерства, — а в своем деле, как уже сказано, это был настоящий художник, — он стремился показать народ правдиво, без всяких прикрас. Это и делает фотоархив Дмитриева таким для нас драгоценным. Вот еще «типы» — целая коллекция «странников». Один из них, с посохом, с рваной шапкой в руках, с корзиночкой, с чайником, так похож на Луку — Москвина, что кажется, будто он вышел из горьковского спектакля «На дне» в постановке Московского Художественного театра, хотя мы и знаем, что Дмитриев отыскал его в самой гуще нижегородских трущоб. Впрочем, в этом удивительном сходстве нет ничего удивительного. Когда в 1902 году Московский Художественный театр приступал к постановке «На дне», Горький обратился к Дмитриеву с просьбой сфотографировать и выслать ему в Москву типы нижегородских «босяков», «старьевщиков», «странников» для гримов и костюмов Луки, татарина, Сатина… Дмитриев выполнил просьбу писателя и послал ему множество фотографий. Горьким выбрал из них сорок дне, снабдил пометами — для режиссеров, гримера, художника — и передал Константину Сергеевичу Станиславскому. Поэтому оставим на время Музей А. М. Горького и перенесемся в Музей Московского Художественного театра. Раскроем хранящийся там альбом с фотографиями Дмитриева и остановимся только на тех, на которых имеются горьковские пометы (номера проставлены рукой К. С. Станиславского). На фотографии № 7 Горький пишет:«Кривой Зоб. Нужно еще подушку на спину и крюк за пояс. № 8. Бубнов. № 9. Грим для Татарина. № 10. Костюм для Татарина. № 13. Алешка в 4-м акте. ‹ в групповом снимке отмечен крестом молодой парень›. № 14. Алешка в первом. № 15. Деталь для 2-го акта. + Грим для Костылева. № 17. ‹Старики, сидящие возле стены. Возле одного из них надпись на паспарту фотографии сбоку›: Лука. № 18 (а). ‹Под фигурой человека в лаптях›: Костюм. № 18 (б) ‹Та же группа, снятая с другой точки. Возле высокого бородатого крючника приписано›: Зоб. № 18 (в). ‹Фото, повторяющее № 18 (а)›: Костюмы. № 19. + Барон Бухгольц, босяк. Грим и костюм для барона. № 20. + Грим Медведеву. № 21. + Медведев. № 22. Костюм для Луки. Не забыть — Лука лысый. № 23. Поза для Клеща. № 25. ‹знак стрелы и› Грим для Луки. Стена — деталь для 3-го акта ‹в группе отмечен тот же странник, что и на фотографии,№ 17›. № 26. Костюмы. ‹ Горький обращает внимание на босые ноги спящего человека, голова которого осталась за краем кадра, и ставит под ними +. И тут же еще указание - + Грим Костылеву. № 27. ‹Труппа возле кирпичной стены›: Для третьего акта деталь. № 28. ‹Перечеркнутый кружок› Грим для Сатина. Высокий, худой, прямой. № 30. ‹знак стрелы и› Тот, что крутит ус — Клещ. № 32. Деталь ночлежки. Может пригодиться для комнаты Пепла. № 33. Деталь ночлежки. № 34. Деталь ночлежки».На фотографии № 12 формата открытки — группа странников с надписью рукой М. П. Дмитриева: «Завтра высылаю типы. М. Дмитриев. Простите, что запоздал, не браните, хотелось обстоятельнее и точнее исполнить поручение». Разглядываешь эти снимки и поражаешься. Насколько же точно выхватил Дмитриев из нижегородской толпы эти типы, если Горький, всегда до мелочей представлявший себе характеры и внешность героев, рожденных его художническим воображением, безошибочно «узнает» их на дмитриевских фотографиях!

Фотография М. П. Дмитриева с пометой М. Горького «Барон Бухгольц, босяк. Грим и костюм для барона»

В. И. Качалов в роли Барона в спектакле Московского Художественного театра «На дне»

Фотография М. П. Дмитриева с пометой М. Горького «Костюм для Луки. Не забыть — Лука лысый»


Не менее важно и то, что режиссура и актеры Московского Художественного театра с величайшей старательностью воспроизводят горьковские указания и стремятся воплотить на сцене внешний облик совершенно конкретных людей. И это не только не мешает, а, наоборот, помогает им усиливать типическое в характерах персонажей. Может быть, ни в одной из первых своих постановок создатели Художественного театра не были так скрупулезно документальны, так верны натуре, как в спектакле «На дне». Стоит сравнить с фотографиями М. П. Дмитриева хотя бы Барона — В. И. Качалова и Луку — И. М. Москвина. Во внешнем облике персонажа — мы это видим — соблюдено портретное сходство с Дмитриевскими «образцами», словно каждый из них представляет собою историческое лицо, вроде царя Федора Иоанновича или Юлия Цезаря. Но мы знаем при этом, что образы, созданные в спектакле «На дне», не портреты — они вобрали в себя черты множества странников, босяков, старьевщиков, грузчиков, мастеровых, опустившихся на «дно» жизни. Это кажущееся противоречие понятно: Дмитриев уже выбором своим определил в этих людях типичное. Горький усилил это в тех случаях, когда совмещал внешний облик одного с костюмом другого. А художник, актеры и режиссеры МХАТа, черпая материал из текста пьесы и собственных наблюдений во время походов в ночлежки Хитрова рынка в Москве, довели эту работу до наивысшего ее выражения. И снимки Дмитриева — одно из наиболее убедительных доказательств, что синтез типических черт возможен не только в искусстве, но и в самой жизни, что фотография может передавать собирательные черты, а фотопортрет — обретать черты обобщения. Во всяком случае, для размышлений об искусстве портрета эти сопоставления очень существенны. Что же касается работ М. П. Дмитриева, собранных для Музея А. М. Горького Н. Ф. Корицкой и ее помощницей А. А. Воропаевой, то это новый удивительный клад — лучшего иллюстративного материала к сочинениям Горького не придумаешь. Читатели должны своими глазами увидеть эти снимки — эти места, этих людей, из среды которых вышли горьковские герои.И. М. Москвин в роли Луки в спектакле Московского Художественного театра «На дне»
ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ КАРТИНКАХ, О ПРОЗЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО И О КИНО
В послесловии, озаглавленном «Несколько слов по поводу книги „Война и мир“, Лев Николаевич Толстой, говоря о различии задач историка и художника и считая, что художник не исполнит своего дела, представляя лицо всегда в его значении историческом, пишет: „Кутузов не всегда со зрительной трубкой, указывая на врагов, ехал на белой лошади, Растопчин не всегда с факелом зажигал Вороновский дом (он даже никогда этого не делал), императрица Мария Федоровна не всегда стояла в горностаевой мантии, опершись рукой на свод законов, а такими их представляет себе народное воображение“. В черновике сказано несколько иначе: „наше воображение“. Интересно, что, рассуждая о задачах историка и писателя, Толстой имел в виду не исторические и не литературные труды, а лубочные и популярные картинки начала XIX столетия, долженствовавшие символически изобразить значение для России упомянутых исторических лиц. Отмечаю это не случайно. Исследователи Толстого подробнейшим образом проанализировали историческую и мемуарную литературу, которую Толстой использовал в работе над своей эпопеей. Но, кроме этих источников, были другие — иллюстративные. Их-то и помянул Толстой косвенно в своем послесловии. Известно, что, собирая необходимый ему материал, Толстой посещал в Москве Чертковскую библиотеку и знакомился там с нужными ему книгами и „портретами Генералов“, которые, как писал он жене, были ему „очень полезны“. В примечаниях к письму указывается, что Толстой имел в виду пятитомное издание военного историка Михайловского-Данилевского „Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814 и 1815 годах. Военная галерея Зимнего дворца“, выпущенное в 1845–1849 годах и заключающее в себе 159 биографий и литографированных портретов. Однако есть основания думать, что Толстой просмотрел не только это издание, но и собрание гравюр, литографий и лубочных картинок, относившихся к Отечественной войне 1812 года. Среди этих картинок он мог видеть и Кутузова на белой лошади, с трубкой в руке, и Растопчина, поджигающего свой подмосковный дом в Воронове, и императрицу Марию, опирающуюся на свод законов. Ныне материал этот находится в Отделе бытовой иллюстрации Государственного Исторического музея.
Рассматривая собрание, заключающее сотни листов, мы видим Наполеона перед Аустерлицем и различные изображения Аустерлицкой битвы, свидание Александра и Наполеона в Тильзите, и описанный Толстым парад войск в присутствии Наполеона и Александра, и переход французской армии через Неман в 1812 году, — гравюру, в точности совпадающую с толстовским описанием, — и переправу польского уланского полка через Вислу, и битву при Островне, и бомбардировку Смоленска. Здесь можно увидеть гравюру, на которой французским войскам показывают портрет сына Наполеона, — сцена, подробно описанная в „Войне и мире“. Тут и французская армия под Москвой, и вступление ее в Москву, и московский пожар, бегство Наполеона, переправа через Березину и множество других эпизодов, изображенных в романе Толстого. Разглядывая эстампы Исторического музея, можно только удивляться точности, с какою воспроизведены эти эпизоды в тексте Толстого. Но… Но разве не могут сказать, что все это Толстой мог найти в описаниях наполеоновских войн, не прибегая к картинкам? Нет, не могут! Есть основания считать, что Толстой просмотрел этот изобразительный материал, ибо некоторые подробности можно было только увидеть — вычитать их, заимствовать из описаний, Толстой при всем желании не мог. Среди эстампов Исторического музея задевает внимание литография начала XIX века, на которой изображена группа австрийских беженцев. Доверху нагруженная домашней утварью и перинами повозка с большими колесами, к которой привязана породистая пестрая корова. Возле повозки суетятся мужчины, среди них плачущие старуха и молодая женщина. Литография напоминает то место из второй части первого тома „Войны и мира“, где говорится о движении русских войск через Энс: „Русские обозы, артиллерия и колонны войск в середине дня тянулись через город Энс, по сю и по ту сторону моста“. Затем описывается повозка, „непохожая на все проезжавшие до сих пор“. „Это был немецкий форшпан на паре, нагруженный, казалось, целым домом; за форшпаном, который вез немец, привязана была красивая, пестрая с огромным выменем корова. На перинах сидела женщина с грудным ребенком, старуха и молодая, багрово-румяная, здоровая девушка-немка. Видно, по особому разрешению были пропущены эти выселявшиеся жители…“М. И. Голенищев-Кутузов. Гравюра А. Карделли по рисунку А. Орловского

Хотя на картинке и нет грудного ребенка, упомянутого в описании Толстого, так и кажется, что Толстой видел это изображение и, мысленно закончив укладку вещей и усадив наверх воза запомнившиеся ему фигуры, включил этот форшпан в вереницу людей и повозок, сгрудившихся на мосту в городке Энс. Другая литография — „Французская кавалерия на пути к Островно“ немецкого художника Альбрехта Адама, участника наполеоновского похода в Россию. Кавалеристы движутся по большаку, с двух сторон обсаженному березками. Это изображение как нельзя больше подходит к тому месту „Войны и мира“ (т. III, ч. I, гл. XIV), где речь идет о выступлении эскадрона Ростова к местечку Островно, когда, покинув корчму, офицеры „сели на коней и тронулись по большой, обсаженной березками дороге… Становилось все светлее и светлее… Яснее и яснее обозначились лица солдат. Ростов ехал с Ильиным, не отстававшим от него, стороной дороги, между двойным рядом берез“.Беженцы. Литография начала XIX века

Необычайная конкретность этого описания (аллея именно березовая, и при этом но дороге в Островно, а не в каком-либо другом месте), разительное сходство с литографией Адама заставляют думать о том, что Толстой видел и это изображение. Все читавшие „Войну и мир“ хорошо помнят сцену — Наполеон по окончании свидания в Тильзите награждает русского гренадера орденом Почетного легиона. „Лазарев!“ — нахмурившись, прокомандовал полковник, — читаем мы у Толстого, — и первый по ранжиру солдат Лазарев бойко вышел вперед… Наполеон подошел к Лазареву, который, выкатывая глаза, упорно продолжал смотреть только на своего государя, и оглянулся на императора Александра, показывая этим, что то, что он делает теперь, он делает для своего союзника. Маленькая белая ручка с орденом дотронулась до пуговицы солдата Лазарева…» Необычайная близость этого описания к изображенному на гравюре, сделанной по картине Лионеля Ройа, вплоть до малейших подробностей (у Толстого отмечено и то, что во все время этой процедуры Лазарев продолжал «неподвижно держать на караул»), снова приводит к мысли, что в основу и этого описания Толстого положен не только литературный источник, но и гравюра с картины французского баталиста. Но допустим, что Толстой не видел этих изобразительных материалов. Все равно, самый факт, что многие из них кажутся точными иллюстрациями к соответствующим страницам «Войны и мира», важен не менее. Он обязывает нас снова вникнуть в толстовские описания, обратить внимание на их конкретность, «зримость», «стереоскопичность», обязывает нас попытаться заново осмыслить эту по-новому выявленную изобразительность толстовской прозы. Изобретение Люмьера принесло с собой в искусство не только динамическое изображение, но и особое — динамическое — видение мира. Однако можно не сомневаться, что и до изобретения кинематографа некоторые его художественные особенности должны были, хотя бы в зародыше, найти выражение в смежных рядах искусства. И в этом смысле достижения современного кинематографа, умеющего видеть мир с разных точек одновременно, предвосхищала не живопись (это не в ее средствах!), не театр предвосхищал, а проза. И если говорить о русской литературе, то не романы Тургенева, не чеховские рассказы, не ранние вещи Льва Толстого — произведения, в которых мир представлен чрез восприятие героя и стоящего за его плечом автора, другими словами — с одной стороны, не западный роман с одним героем, а многолюдный роман, со множеством точек изображения одного и того же события. Такой роман, в котором мы начинаем видеть события глазами нескольких героев. А это возможно лишь тогда, когда мы узнаем не только о том, что они делают и говорят, но что думают, чувствуют и что вспоминают, ибо только благодаря этому для нас становится доступным, я бы сказал — очевидным, их внутренний мир, и тогда все, что вокруг них происходит, преломляется для нас уже через их сознание. Одно из важнейших свойств зрелой прозы Толстого — совмещение в ней разных восприятий одного и того же события. Об этом писали, отмечая вслед за В. Б. Шкловским толстовские «остранения», основанные на том, что герой видит происходящее «странно», неожиданно остро, по-новому, потому что свободен от привычного восприятия. Но никто, кажется, не отметил при этом, что, показывая событие с различных точек зрения, Толстой предвосхитил многопланность кинематографа. Поясню на примере. В начале третьего тома «Войны и мира», в главе, в которой Наполеон отдает приказ переступить границу России, Толстой пишет: «12-го числа рано утром он вышел из палатки, раскинутой в этот день на крутом левом берегу Немана, и смотрел в зрительную трубу на выплывающие из вильковысского леса потоки своих войск, разливающиеся по трем мостам, наведенным на Немане. Войска знали о присутствии императора, искали его глазами, и когда находили на горе перед палаткой отделившуюся от свиты фигуру в сюртуке и шляпе, они кидали вверх шапки и кричали: „Vive l’Empereur“ и одни за другими, не истощаясь, вытекали, все вытекали из огромного, скрывавшего их доселе леса и, расстроясь, по трем мостам переходили на ту сторону».Французская кавалерия на пути к Островно. Литография А. Адама

Оставим на этот раз без внимания великолепные поэтические достоинства этого текста, в котором войска Наполеона, переправляющиеся через широкую реку, уподоблены могучей человеческой реке: «Потоки войск, разливающиеся по трем мостам, не истощаясь, вытекали, все вытекали…» Обратимся к другим существенным свойствам этого описания. Глава начинается словами: «29 мая Наполеон выехал из Дрездена…» — и целиком посвящена описанию действий французского императора и его армии. Но внутри главы обнаруживается сложнейшая «раскадровка» — множество планов, позволяющих видеть события глазами и Наполеона, и военачальников, и солдат, и отдельного лица, и толпы, и самого автора. Так, в приведенном отрывке отчетливо различаются три плана: 1) выплывающие из леса потоки войск, которые в зрительную трубу видит Наполеон; 2) Наполеон, отделившийся от свиты на горе, перед палаткой, как видят его войска, и, наконец, 3) войска, кидающие вверх шапки при виде Наполеона и переходящие на другой берег Немана, взятые «общим планом» с некоей третьей позиции, принадлежащей автору. Другой пример — сражение при Шенграбене. Оно показано с нескольких точек. Прежде всего — с батареи капитана Тушина, «с которой все поле было видно» и «открывался вид почти всего расположения русских войск и большей части неприятеля». Ясно, что эта центральная позиция выбрана Толстым не случайно, а в полном соответствии с ее стратегическим значением для хода сражения. Почти все события, происходящие на этом участке нашей позиции, где действует батарея Тушина, даны через восприятие Андрея Болконского, приезжающего сюда с поручениями от Багратиона. Тот же князь Андрей, но уже вместе с Багратионом, приезжает в другое место сражения — «на самый высокий пункт правого фланга» (подчеркнуто мною — И. А.). И снова все события проведены сквозь его восприятие. Это князя Андрея «поразила перемена, происшедшая в лицо князя Багратиона». И когда Багратион, сказав окружающим: «с богом!», «слегка размахивая руками, неловким шагом кавалериста, как бы трудясь, пошел но неровному полю», то именно князь Андрей чувствовал, что «какая-то непреодолимая сила влечет его вперед, и испытывал большое счастье». На левом фланге расположения русских войск находится Николай Ростов. И развернувшиеся там события, естественно, даны с точки зрения Ростова. «„Неужели и меня возьмут? Что это за люди?“ — все думал Ростов, не веря своим глазам», и т. п. Момент, когда все забывают про батарею Тушина, продолжающего сражаться с наседающим на него неприятелем, по сути дела, исключает возможность пребывания на батарее постороннего наблюдателя — князь Андрей прибудет только в конце с приказом отступать. До его появления события начинают оцениваться самим Тушиным. Тушин перестал быть лицом, на которое смотрит один из главных персонажей романа, перестает быть фигурой эпизодической. В соответствии с его выясняющейся в ходе событий ролью мы начинаем узнавать характер Тушина не только через его извне наблюденные поступки, но и через собственные его мысли и ощущения, вводящие пас в его внутренний мир. Мы узнаем, о чем думает капитан Тушин. «Ну-ка, наша Матвеевна», — говорит он про себя. И Толстой сообщает, что Матвеевной представлялась ему большая крайняя, старинного литья пушка, а французы около своих орудий представлялись ему муравьями. Словом, в этот момент определяется новое восприятие боя — не привилегированным штабным офицером князем Болконским, не новичком на войне Николаем Ростовым, а скромным, смелым и опытным военным-профессионалом, от которого зависит исход затеянной операции. Итак, перед нами полная картина сражения — мы побывали на флангах и в центре и знаем, как восприняли войну три офицера различного военного опыта, различного возраста и различного склада мыслей. Этим достигнута особая рельефность, перспективность, «стереоскопичность» изображения, возникающего как бы в трех измерениях. Но вот к стремени полкового командира, действующего на левом фланге, подходит Долохов и сообщает, что он взял в плен француза и ранен. «Долохов тяжело дышал от усталости. Он говорил с остановками», — пишет Толстой. Этого не видят ни Болконский, ни Ростов, ни Тушин. Это новая точка зрения, но и не Долохова: он дан «извне». Это авторское повествование, связующее между собой, монтирующее в одну общую картину по-разному увиденное героями романа, по-разному перечувствованное, воспринятое в разных местах, но одновременно. Личное восприятие каждого действующего лица входит в общее изображение события, сообщая описанию свойства объективного познания мира. Это — отличительная черта реалистического романа второй половины прошлого века, в высокой степени свойственная именно реализму Толстого. Я потому говорю об этом, что передать событие через сознание героя, заглянуть во внутренний мир героя, совместить несколько ракурсов изображения может не только литература, но и кино, которое, к слову сказать, не слишком часто использует этот прием. Бородинское сражение показано иначе, нежели Шенграбенское. Но основной принцип тот же — событие изображается с нескольких точек. Описывая Шенграбенский бой, Толстой показал действия отряда Багратиона. Бородинское сражение дано двусторонне — и с русской стороны и с французской. С французской битву наблюдает Наполеон. Этот аспект описания строится на несоответствии хода сражения с планом сражения. Мы узнаем, что хочет видеть Наполеон и что он на деле видит. Несоответствие выявляется во времени, в ходе боя. Но точка зрения на события тут одна. Действия же русской армии изображаются с трех точек. В гуще боя, на курганной батарее Раевского, находится Пьер Безухов, который следит за действиями отдельных сражающихся солдат. Андрею Болконскому, стоящему в резерве возле села Семеновского, виден находящийся под его командою полк, Кутузов воспринимает сражение, находясь на командном пункте. Это три «плана», которые можно условно назвать «крупным», «средним» и «общим» (в литературе это не принято!), даны не в простой последовательности, а вперебивку, причем осмысляются попутно рассуждениями Толстого о характере войны и ходе сражения. С момента, когда Кутузов, приняв командование над армиями, решает дать сражение Наполеону, и до исхода сражения, аспекты его показа монтируются в следующем порядке: Кутузов — Пьер — Толстой — Пьер — Андрей — Наполеон — Толстой — Наполеон — Пьер — Наполеон — Кутузов — Андрей — Наполеон — Толстой (гл. XV–XXXIX). Подобная система изображения — следствие не одного лишь гения Льва Толстого, но и постепенного открытия новых художественных возможностей, в котором участвовала предшествующая литература. Это становится более ясным, если сравнить батальные сцены «Войны и мира» с «Полтавой» Пушкина и лермонтовским стихотворением «Бородино». Описание Пушкина необычайно выразительно, динамично и словно создано для кино. Об этом говорил на Втором съезде писателей Александр Петрович Довженко. «Все слова вдруг, как в сценарии, оборачиваются в настоящее время», — отмечал он, цитируя строки:Переход французской армии через Неман. Гравюра Ш. Жирардо
…Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен…
Швед, русский — колет, рубит, режет,
Бой барабанный, клики, скрежет…
Гром пушек, топот, ржанье, стон…
Ура! Мы ломим, гнутся шведы…
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами…
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.
ОДНА СТРАНИЦА
Гоголем нельзя начитаться. Даже трудно представить себе человека, который прочел его один раз и более к нему бы не возвращался. По правде сказать, нам было бы жаль такого человека. Повторное чтение высокохудожественных книг вообще доставляет огромное наслаждение, позволяет по-новому воспринимать события, движение и конец которых — во второй раз — уже известны заранее. Но перечитывать Гоголя — удовольствие еще большее, чем даже читать его в первый раз. Прозу Гоголя хочется запоминать, как стихи, произносить вслух. Речь идет не о какой-нибудь подобной стихам птице-тройке, а даже о самых «обыкновенных» страницах «Тараса Бульбы», «Невского проспекта», «Шинели», «Мертвых душ»… Гоголя хочется читать вслух — сообща, делиться с другими, так сказать, не только впечатлениями о прочитанном, но и самым процессом чтения. Многие фразы Гоголя, составляющие целые художественные открытия, мы цитируем как своеобразные афоризмы. Все помнят, что при въезде в гостиницу Чичиков был встречен трактирным слугою, «живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо». Или сидящего у окна лавочки сбитенщика с лицом, напоминающим самовар из красной меди, «так, что издали можно было подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с черною, как смоль, бородою». Или разве можно забыть разговор двух мужиков: «доедет то колесо, если б случилось, в Москву, или не доедет?» Кто не любит вспоминать, как описал Гоголь внешность Чичикова, или, вернее, как он отказался ее описать: «не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, не слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод»… Но самое во всем этом удивительное, что все эти художественные открытия — и трактирный слуга, и сбитенщик, и разговор мужиков, и описание внешности Чичикова, — все это находится на одной и той же странице, в начале первой главы «Мертвых душ». Раз уж речь зашла об этой странице, следует сказать, что замечательна она и во многих других отношениях. Здесь, в первой же строке, мы знакомимся со знаменитой чичиковской бричкой, которая проезжает потом через всю поэму и в конце первой части подвозит нас к заключительным строкам о птице-тройке, несущейся вперед, мимо всего, что ни есть на земле. Два мира, один, олицетворенный в чичиковской бричке, и другой — в птице-тройке, песней несущейся в будущее, составляют два плана в гоголевской поэме. Бричка, запряженная тройкой сытых коньков, везущая Чичикова и его крепостную собственность — кучера Селифана, лицо в высшей степени поэтическое, и молчаливого лакея Петрушку, открывает поэму. Птица-тройка заключает ее. Из второй строки мы узнаем, что Чичиков холост и что принадлежит он к господам средней руки, — обстоятельства, которые сопутствуют потом ему на протяжении всей поэмы. Итак, в ворота гостиницы губернского города NN въехала бричка с господином неопределенного вида и неопределенных занятий. «Въезд его, — замечает Гоголь, — не произвел в городе совершенно никакого шума». Тот, кто не перечитывает Гоголя, естественно, никак не оценит иронию, скрытую в этих словах. Тот же, кто уже знает, каким шумом сопровождался выезд Чичикова из этого города, невольно улыбнется и еще раз подивится строгой соразмерности всех частей гениальной поэмы: ведь между въездом и выездом Чичикова умещается вся первая часть «Мертвых душ». Многозначительна каждая фраза! Вспомним опять разговор мужиков, лишенный на первый взгляд всякого смысла: «„Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву, или не доедет?“ — „Доедет“, — отвечал другой. „А в Казань-то, я думаю, не доедет?“ — „В Казань не доедет“, — отвечал другой». О прочности колеса судят крестьяне-умельцы, понимающие толк в колесах. Разговор этот короткий, потому что профессиональный. Не посвященным в тайны колесного производства он непонятен. Потому-то он и вызывает улыбку. А ведь они правы! Если помните, Чичикову и впрямь понадобилось перед выездом перетягивать шину на колесе и налаживать передок. Из разговора, кроме того, становится ясным, что если колесо доедет до Москвы, а до Казани уже не доедет, то губернский город NN находится ближе к Москве, чем к Казани, а следовательно, все приключения Чичикова произошли не так уж далеко от столицы. Разговор этот заключает в себе, наконец, и еще один — иносказательный — смысл: в бричке Чичикова далеко не уедешь. Так говорит народ. «Когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскою булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукой картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой». Этот молодой человек в поэме больше не появится. Но точность, с какою описан его костюм, определяет весь стиль дальнейшего повествования, в котором второстепенным моментам будет отводиться почти столь же важная роль, как и первостепенным; с другой стороны, случайный прохожий, описанный с такою подробностью, усиливает впечатление неопределенности черт проезжего господина. Кстати сказать, Гоголь и не торопится знакомить читателя с новоприбывшим. Сперва весьма обстоятельно выясняется внешность слуги, «лица которого нельзя было рассмотреть» по уже упомянутой выше причине. Оказывается, вертлявый трактирный слуга был и сам длинный, да еще и в длинном демикотоновом сюртуке со спинкой чуть не на самом затылке, что он «проворно» выбежал с салфеткой в руке, «встряхнул волосами» и повел «проворно» господина вверх по деревянной галдарее показывать «ниспосланный ему богом покой». Затем следует описание покоя «известного рода», ибо гостиница «тоже была известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими как чернослив из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленною комодом, где устраивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего». Что это за любопытный сосед, интересующийся знать обо всех подробностях проезжающего? Совершенно очевидно, что это тайный агент Третьего отделения. Больше о нем не будет сказано ни одного слова. Но этот молчаливый соглядатай так же, как и трактир напротив гостиницы, как и «вечная желтая краска», в которую выкрашено здание самой гостиницы (любимый цвет Николая I!), выступают как символы николаевско-бенкендорфовского режима: они выставлены на первой странице, как нотный ключ, в котором надо читать всю поэму. «Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности». Эта фраза позволяет Гоголю не вдаваться в дальнейшее описание внутренних покоев гостиницы, но ограничиться справкой о фасаде: «она была очень длинна, в два этажа; нижний не был выщекатурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе». Словом, ясно, что гостиница и внутри была грязновата. Из описания наружного вида гостиницы узнаем еще, что в нижнем ее этаже были лавочки с хомутами, веревками и баранками и что в угольной из этих лавочек помещались уже упомянутые самовары: один — из красной меди и другой — «с лицом также красным, как самовар» и с «черною, как смоль, бородою». Все очень обыкновенно в описании Гоголя: и бричка, в каких ездят «отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян»; и гостиница «известного рода», и покой «известного рода», в котором поместился Чичиков. Во всем обнаруживаются черты самые обыкновенные, самые характерные. И тем не менее вас не оставляет ощущение необыкновенной новизны и, я бы сказал, праздничности гоголевского повествования. Происходит это, конечно, прежде всего от потрясающей точности гоголевского глаза, от необычайной насыщенности каждой строки. Новизну сообщает обыкновенным вещам и тон — иронически-обстоятельный. И одинаковый интерес, который автор проявляет к явлениям разного масштаба и значимости. Поэтому равнозначными оказываются в изображении и господин в рессорной бричке, и тульская булавка с бронзовым пистолетом, коей заколота манишка губернского франта, и тараканы, и характер соседа, живущего за заставленной комодом дверью. Показанные в одном масштабе, они невольно вызывают улыбку. Гоголь ведь не просто говорит, что комната была с тараканами. Нет, уподобленные черносливу тараканы, если можно так выразиться, представлены читателю. Упомянутый после них молчаливый сосед унижен этой последовательностью. Он выглядит такой же обязательной принадлежностью гостиницы, как и тараканы, выглядывающие из всех углов и словно бы тоже интересующиеся знать «о всех подробностях проезжающего». Точно так же и тульская булавка на манишке молодого человека, рассмотренная во всех деталях, становится столь же значительной, как и сам молодой человек. Но тем самым молодой человек низводится до размеров булавки, да еще не простой, а с претензией — с бронзовым пистолетом самого крошечного размера. И в этом пистолете содержится для молодого человека что-то очень обидное. Дальше в тексте поэмы подобные ему молодые люди будут обозваны зубочистками. Так уже и не сойдет улыбка с лица читателя, покуда речь будет идти о губернском городе, о Чичикове, о светском обществе, об окрестных помещиках, ибо описание всего этого мира будет осмысливаться через комические уподобления, через детали, взятые в увеличении и смещающие привычные представления. Жизнь губернского города показана уже на первой странице. Он населен людьми разного чина и звания, показан в движении. Едет господин в бричке, у дверей кабака стоят мужики, напротив бородач, торгующий сбитнем, провинциальный щеголь обернулся, придерживая от ветра картуз, слуга выбегает навстречу приезжему… Многие из этих подробностей, казалось бы, не имеют никакого отношения ни к «герою», ни к движению событий в книге. Однако стоило бы автору описать только то, что имеет непосредственное отношение к Чичикову, — и мы бы узнали лишь о том, что он был встречен трактирным слугой. Он потому и убедителен, Чичиков, что представлен на широком фоне помещичьей, крепостнической России и трудовой народной Руси, представлен как одно из явлений жизни. Именно эта жизнь, показанная в различных аспектах, в движении, необыкновенная точность каждой детали, окружающей Чичикова, позволили Гоголю построить образ Чичикова и доказать его достоверность. Потому что Гоголю предстояла труднейшая задача — создать образ, которого внешний вид не соответствовал бы его внутренней сущности, и сделать его убедительным. Неопределенный вид, неопределенный возраст, неопределенный голос, ибо Чичиков, как с удовольствием отметил губернский свет, и говорил «ни громко, ни тихо, но совершенно так, как следует», туманная неопределенность выражений — все это показное, любезное благоприличие, светский стандарт, маска светского человека. Под ней, под этой маской, скрыто нутро стяжателя, казнокрада, дерзкого спекулянта, алчного и циничного невежды, которому глубоко враждебно все возвышенное, все человеческое. Никогда еще — до Гоголя — светское лицемерие, которому задавал тон оловянный император Николай I, не было так унижено, так позорно обнажено, как в книге Гоголя, где оно предстало в образе Павла Ивановича Чичикова. «Мертвые души» — поэма не о Чичикове, а о России. И не только Чичиков, но еще более жизнь страны определяет идейный смысл гоголевской поэмы. На этом широком фоне Гоголь и начинает развивать образ Чичикова уже на первой странице. При этом все, что описано в ней, в этой странице, будет и потом играть свою роль в поэме: не только бричка, но и трактирный слуга, и гостиница, и трактир, куда удалятся в один из вечеров Селифан и Петрушка, и комната, куда вводят Чичикова, и сами Селифан и Петрушка, которые появятся на второй странице, и чемодан из белой кожи, и ларчик красного дерева с штучными выкладками из карельской березы, и даже запах, который притащит с собой Петрушка, — все это получит в поэме свое место и свою роль. Даже комод будет помянут в восьмой главе. Даже тараканы. Каждая деталь значительна, каждая соображена в соответствии с целым. Не случайны поэтому и мужики на первой странице. Всюду, где в дальнейшем ни побывает Чичиков, мы увидим крестьян. И тех, что будут объяснять, как проехать на Маниловку. И босоногую девчонку, которая усядется к Селифану на козлы указывать дорогу. И дядю Митяя с дядей Миняем, что займутся выпутыванием лошадей из постромок. Крепостного человека Собакевича, который станет учить, где ближе дорога к Плюшкину, и по этому случаю отпустит в его адрес крепкое слово… Широкая картина трудовой Руси представится Гоголю в перечне купленных Чичиковым умерших и беглых крестьян — в судьбах каретника Михеева, плотника Пробки Степана, кирпичника Милушкина, сапожника Максима Телятникова, Еремея Сорокоплехина, что «в Москве торговал и одного оброку приносил по пятьсот рублей», Абакума Фырова, которого «занесло, верно, на Волгу, и взлюбил он вольную жизнь, приставши к бурлакам…». Выводит Чичиков каллиграфическим почерком имена купленных им «мертвых душ», а мы видим крестьянскую Русь — великих тружеников и мастеров, что с топором за поясом да с сапогами на плечах идут по бесконечным дорогам, и где стукнут они топором, вырастают села и города, мчится эта Русь на тройках, в рогожных кибитках, гнется на хлебных пристанях, зацепив крючком на спину девять пудов; лезет, опоясавшись веревкой, под церковный купол, а то и на самый крест; сидит по острогам иди тащит лямку под одну бесконечную, как Русь, песню… Мужики на первой странице поэмы не только напутствуют чичиковскую бричку — они начинают в поэме тему крестьянской Руси. Молодой человек с тульской булавкой начинает тему светского общества, Чичиков со своей бричкой — тему приобретательства и помещичьего благополучия. Все линии намечены на первой странице. Никаких вступительных фраз. Никаких описаний, предваряющих или настраивающих читателя. Завязка началась в первой строке. Каждая художественная деталь получает значение в дальнейшем ходе повествования. Каждая оказывается необходимой для развития основных идейных мотивов гениальной гоголевской поэмы. Вот это и есть мастерство!ГОГОЛЬ И ЕГО СОВРЕМЕННИКИ
1
Думали ли вы когда-нибудь о том, что Тарас Бульба — сверстник Ивана Сусанина, удалого купца Калашникова и Емельяна Пугачева? Не в истории, конечно, а в истории литературы и искусства? Припомним даты: 1835 год. Вышел в свет «Тарас Бульба» Гоголя. 1836 год. Появилась «Капитанская дочка» Пушкина, в которой предстал перед читателями богатырский образ Пугачева. В том же 1836 году состоялось первое представление оперы Глинки. «Иван Сусанин». В 1836–1837 годах Лермонтов пишет «Песню про купца Калашникова». В «Тарасе Бульбе» воскрешены битвы украинского народа XV–XVI веков. Купец Калашников живет в Москве второй половины XVI века, в суровую эпоху Грозного. Иван Сусанин совершает свой подвиг в глуши костромских лесов — это начало века XVII. У Пушкина изображено восстание Пугачева — страницы истории XVIII столетия. Но в литературе и в музыке эти герои, эти борцы за свободу, за независимость народа, люди высокой чести, созданные гениями Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Глинки, родились в одно время. Пусть Тарас Бульба и Степан Калашников не существовали в действительности, как Сусанин и Пугачев. Верные исторической правде, Гоголь и Лермонтов, так же как Пушкин и Глинка, создали образы, в которых обобщены черты народа, самые лучшие: любовь к родной стране, мечта о свободе, бесстрашие, огромная нравственная сила, глубокий ум, стремление к подвигу, готовность принести себя в жертву высокой идее. Не сговариваясь между собою, четыре великих художника делали одно дело в одно и то же время. И каждого из них вдохновляли подлинные народные песни. Для каждого песни служили важным источником исторических знаний и мерилом исторической правды. «Моя радость, жизнь моя, песни, — как я вас люблю, — восклицал Гоголь, приступая к собиранию материалов по истории Украины. — Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями». «Я не могу жить без песен, — пишет он в том же письме. — Вы не понимаете, какая это мука. Вы не можете представить, как мне помогают в истории песни. Даже не исторические…» «Если захочу вдаться в поэзию народную, — записал Лермонтов, — то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях». В «Песне про купца Калашникова» он воссоздал и дух и характер русских исторических песен — об Иване Грозном, о его шурине Мастрюке Темртоковиче, воплотил стиль и дух песен «разбойничьих» и казачьих. Сохранился план статьи о народных песнях, которую собирался писать Пушкин. «О Иване Грозном, — читаем мы в этом плане, — о Мас[трюке], о Ст. Разине… Казацкие…» Задумав писать о Пугачеве, Пушкин, как известно, отправился на Урал, в места, связанные с пугачевским движением, собирать народные предания, записывать народные песни. Из рассказов современников Пугачева, из этих народных преданий и песен вырос перед ним мощный образ народного вождя. Образ другого народного вождя — Степана Разина — он воссоздал в трех песнях, написанных в духе народных. В восьмую главу «Капитанской дочки» Пушкин вставил старинную народную песню:Не шуми, мати зеленая дубравушка,
Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати,
Что заутра мне, доброму молодцу, в допрос идти.
Перед грозного судью, самого царя.
Что возговорит надежа православный царь:
«Исполать тебе, детинушка, крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать.
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной».
«Хорошо тебе, детинушка,
Удалой боец, сын купеческий,
Что ответ держал ты по совести.
…Ступай, детинушка,
На высокое место лобное…
Чтобы знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моей милостью…»

Подлинная народная песня в «Иване Сусанине» только одна. Но источником собственной музыки служили Глинке мелодии народных песен. Вот почему он говорил о «чисто русском характере» своей онеры, а современники отмечали в речитативах «Ивана Сусанина» «интонацию русского говора». Кому же, как не Гоголю, как не Пушкину, было оценить по достоинству первую русскую народную оперу! «Покажите мне народ, у которого бы больше было песен, — писал Гоголь. — У нас ли не из чего составить своей оперы. Опера Глинки есть только прекрасное начало…» Пушкин, восхищенный творением Глинки, посвятил ему веселое четверостишие. Кому же, если не Пушкину и Глинке, было оценить героическую повесть Гоголя. Вдохновленный Гоголем, Глинка начал писать украинскую симфонию «Тарас Бульба». Пушкин, по словам одного из его друзей, «особенно» хвалил «Тараса Бульбу». Гоголь, в свою очередь, восторгался «Капитанской дочкой» и считал, что это — «решительно лучшее русское произведение в повествовательном роде», в котором «в первый раз выступили истиннорусские характеры». Какое единодушие видно в этом взаимном понимании великих созидателей русской культуры! Какое ясное ощущение общего дела! Если мы вспомним при этом, что несколькими годами раньше украинские предания, легенды, поверия Гоголь использовал в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», что Лермонтов еще в отрочестве писал песни в подражание народным, что в 30-е годы в народном духе сочиняют сказки Пушкин, В. А. Жуковский, H. M. Языков, В. И. Даль и П. П. Ершов, который пишет в это время своего «Конька-Горбунка», что в народном духе слагает свои песни А. В. Кольцов, в те же годы выходят «Украинские народные песни», собранные M. А. Максимовичем, что ученый фольклорист И. П. Сахаров выпускает «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков», сборник русских пословиц готовит к печати ученый И. M. Снегирев; П. В. Киреевский и H. M. Языков приступают к собиранию русских народных песен, В. И. Даль — к составлению «Толкового словаря живого великорусского языка», о народных песнях пишет исследование филолог Ю. И. Венелин, а историк О. M. Бодянский защищает диссертацию о народной поэзии славянских племен, — если мы вспомним все эти факты, сопоставленные в свое время профессором M. К. Азадовским, то почувствуем, как велик был в 30-е годы интерес к фольклору в передовых кругах русского общества — интерес к народному творчеству в самом широком смысле: к народной поэзии, к памятникам истории народа, к его языку. И тогда лучше ощутим атмосферу, в которой Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Глинка создавали гениальные творения свои, вдохновленные народными песнями.М. И. Глинка. Рисунок Н. Степанова
2
Народные герои — Пугачев, Разин, кузнец Архип, крепостной из Кистеневки, деревеньки Дубровского (тот самый Архип, который сжигает приказных в барском доме и, рискуя жизнью, спасает из огня кошку), старый русский солдат из лермонтовского стихотворения «Бородино», Максим Максимыч, Степан Калашников, Тарас Бульба, его сын Остап — противопоставлены у Пушкина, Гоголя, Лермонтова иному миру-миру бесчувственных и корыстолюбивых себялюбцев и свирепых крепостников. Разоблачая этот мир, Гоголь и Лермонтов не были зачинателями. Начало было положено Радищевым и Фонвизиным, «Деревней» Пушкина, «Горем от ума» Грибоедова. Но литература должна была раскрыть еще не известные формы этого общественного состояния, этого общественного позора. Важным этапом в этой борьбе с самодержавно-помещичьей, полицейской Россией было удивляющее своим радищевским пафосом стихотворение Пушкина «Деревня». Двадцать лет спустя с оглушительной силой прозвучало восьмистишие уезжавшего в ссылку Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…» Огромным общественным событием явилась постановка на сцене «Ревизора», в котором высмеяны были дворяне-чиновники, то есть те, кто оберегал основы режима и сам составлял эти основы. Но разве этим были исчерпаны краски?! Пушкин показал, каков Троекуров, надменный и жестокий самодур; и старый шут с рябым бабьим лицом Антон Пафнутьевич Спицин; и раболепный поклонник парижских мод граф Нулин; и англоман Муромский, высмеянный в «Барышне-крестьянке»; и сосед его Берестов, почитавший себя умнейшим человеком, хотя «ничего не читал, кроме „Сенатских ведомостей“», где печатались одни объявления о продаже дворянских имений с публичных торгов. Со злой иронией изображен в «Евгении Онегине» и московский «свет», и петербургский «свет», и толпа захолустных помещиков, съехавшаяся к Лариным на именины:С своей супругою дородной
Приехал толстый Пустяков;
Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков;
Скотинины, чета седая,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов;
Уездный франтик Петушков…
И отставной советник Флянов,
Тяжелый сплетник, старый плут,
Обжора, пьяница и шут.

Изображая частное явление или характер, Гоголь настойчиво стремился к тому, чтобы обнаружить в нем типическое для всех категорий российских дворян, более того — для всех категорий тунеядцев и бездельников, стремился довести каждый образ до широчайшего обобщения. В одной заметке, относящейся к работе над первой частью «Мертвых душ», он записал для памяти:Н. В. Гоголь. Рисунок Э. Дмитриева-Мамонова
«Как низвести все мира безделья во всех родах до сходства с городским бездельем? и как городское безделье возвести до преобразования безделья мира?»И тут же приписал:
«Для этого включить все сходство и внести постепенный ход».На той же странице:
«Весь город со всем вихрем сплетней — преобразование бездельное жизни всего человечества в массе».Гоголь стремился к тому, чтобы описания губернского города со всем вихрем сплетен, вызванных покупками Чичикова, изображали вихрь всяких сплетен — и петербургских и московских, изобразили самую суть явления, чтобы под городом можно было бы разуметь и самый губернский город NN, и Петербург, и Москву, и всякую иную столицу, и всякую иную светскую среду, в которой не переводятся сплетни, и николаевскую Россию, и вообще всякое паразитическое общество. Словом, стремился докопаться до прообраза всякой сплетни. Стремился сочетать предельно конкретное и предельно обобщенное изображение. Оттого-то творения Гоголя и разоблачают не только ту российскую действительность, которую он изображал и которой давно уже нет, но и в наше время продолжают разоблачать неизменяемую сущность общества эксплуататоров в поступках и характерах всех современных маниловых, плюшкиных, собакевичей, ноздревых, чичиковых, хлестаковых, бобчинских, добчинских и разных других… В тексте «Мертвых душ» Гоголь постоянно напоминает читателю о широте изображаемого явления: о том, что дамы города NN «опередили даже дам петербургских и московских», что «отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенною осторожностью и приличием в словах и выражениях». По тому случаю, что с уст Чичикова «излетело словцо, подмеченное на улице», Гоголь считает нужным адресоваться к читателям высшего общества, от которых «не услышишь ни одного порядочного русского слова…». Нечего и говорить, что отмеченное сходство с петербургским высшим светом тут же нещадно высмеивается. На протяжении всей книги подчеркивается и проводится мысль, что речь идет о чертах типических для любого «света» — уездного, губернского, столичного — и что нет принципиальной разницы между какой-нибудь глупой старухой Коробочкой и великосветской столичной дамой:
«…Да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосягаемо огражденной стенами аристократического дома с благовонными чугунными лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами, зевающей за недочитанной книгой в ожидании остроумно-светского визита, где ей предстанет поле блеснуть умом и высказать вытверженные мысли, мысли, занимающие по законам моды на целую неделю город, мысли не о том, что делается в ее доме и в ее поместьях, запутанных и расстроенных, благодаря незнанию хозяйственного дела, а о том, какой политический переворот готовится во Франции, какое направление принял модный католицизм».Образ бестолковой Коробочки внезапно превращается в огромное обобщение: непринужденный тон бытописателя, повествующего о похождениях Чичикова, сменяется серьезным, комическое изображение старухи становится сатирой на целый класс. Небывалый до Гоголя жанр поэмы в прозе позволял ему не только активно вмешиваться в слова и поступки действующих лиц, перемежая повествование лирическими отступлениями, но путем смелых сопоставлений и поэтических аллегорий доводить частные наблюдения до больших социальных обобщений. Коробочка, Манилов, Плюшкин, Ноздрев, Собакевич с необычайной художественной силой, точностью и полнотой олицетворяли тот общественный порядок, против которого направлялась вся ярость крепостной, крестьянской России.
3
В том обществе, где деньги считал тот, кто никогда их не зарабатывал, можно было нажить миллионы и составить себе имя крупной игрой. Пушкин, Гоголь и Лермонтов, каждый по-своему, раскрыли эту злободневную тему. В Петербурге, где еще так недавно собирались декабристы, где они строили планы освобождения родины от тирании и обсуждали проект конституции, светская молодежь 1830-х годов проводит ночи в игорных домах и, можно сказать, сходит от карт с ума. Германн в «Пиковой даме» сходит с ума буквально. Он сидит в Обуховской больнице и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз», «Тройка, семерка, дама». Но и прежде чем он услышал историю о трех картах старой графини, ему беспрестанно грезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. «Деньги — вот чего алкала его душа». «Пиковая дама» начинается словами: «Однажды играли в карты…» — и кончается фразой: «Игра пошла своим чередом». Судьба Германна выглядит на этом фоне как заурядный случай из хроники петербургской жизни 1830-х годов. Повесть Пушкина вышла в свет в 1834 году. Лермонтовский «Маскарад», написанный в следующем, 1835 году, начинается с того, на чем кончилась «Пиковая дама»; игорный дом, «за столом мечут банк и понтируют». Поэт показывает цвет петербургской аристократии — карточных шулеров, темных проходимцев, карьеристов, сгрудившихся возле игорного стола. «Но чтобы здесь выигрывать решиться, — говорит Арбенин князю Звездичу,-Вам надо кинуть все: родных, друзей и честь…
Удачи каждый миг постыдный ждать конец
И не краснеть, когда вам скажут явно:
„Подлец!“»
Не по нутру мне этот Ванька-Каин,
И притузит он моего туза».
А право, трудно разрешить,
Которое из этих двух дороже».
Что ни толкуй Вольтер или Декарт,
Мир для меня — колода карт.
Жизнь-банк — рок мечет, я играю.
И правила игры я к людям применяю.
4
Трудно назвать талантливого русского писателя, который вошел в литературу при жизни Пушкина и не был бы им поддержан. В числе отмеченных Пушкиным был (это давно известно) Гоголь: Пушкин восторженно отозвался о его первой книге, помогал ему советами, привлек в свой журнал и, как пишет сам Гоголь, дал ему сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ». Это была настоящая дружба. Нет сведений о знакомстве Пушкина с Лермонтовым. Однако, как теперь выясняется, незадолго до смерти, прочитав стихи Лермонтова, Пушкин успел оценить и его талант. Объявив Гоголя главою русской литературы, Белинский через три года после гибели Пушкина заявил, что в лице Лермонтова «готовится третий русский поэт» и что «Пушкин умер не без наследника». В том же году он назвал Лермонтова, наряду с Гоголем, «властителем дум своего поколения». Идя по пути, завещанному Пушкиным, направляемые Белинским, оба они, и Гоголь и Лермонтов, решали в этот период по-разному одну и ту же задачу. Чтобы бороться с врагом — феодально-крепостническим строем, — передовая Россия должна была понять внутреннюю слабость противника. Эту историческую задачу выполняли обличительные произведения Гоголя. Но для того, чтобы изобличить противника и успешно бороться с ним, передовой России необходимо было осознать, в чем заключались и собственные ее слабости. Эту историческую задачу выполняла поэзия Лермонтова, его обличительный роман «Герой нашего времени». «В созданиях поэта, выражающих скорби и недуги общества, — писал Белинский в одной из статей о Лермонтове, — общество находит облегчение от своих скорбен и недугов: тайна этого целительного действия-сознание причины болезни чрез представление болезни». Судьбу Печорина, наделенного умом, талантом, волей, но погибающего от вынужденного бездействия, Лермонтов представил как следствие мертвящего политического режима, установившегося после разгрома декабристов. «История души» Печорина раскрыта им как явление эпохи. «Подобные обвинения необходимы были в современной России, — писал Герцен о „Мертвых душах“.-Это история болезни, написанная мастерской рукой». Обнаружение болезни общества — вот та задача, которую решали Гоголь и Лермонтов. Работая над первым томом «Мертвых душ», Гоголь предвидел уже, что не избежать писателю, дерзнувшему вызвать наружу «всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров», лицемерно-бесчувственного современного суда, «который назовет ничтожными и низкими им лелеянные созданья, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта». Гениальные строки! На какой же подвиг шел Гоголь, отдавая в печать «Мертвые души», если так отчетливо представлялся ему «лицемерно-бесчувственный суд», который, как он и предвидел, осудил его после выхода книги и всеми силами стремился угасить в нем «божественное пламя таланта»!.. Лермонтов видел выполнение своего общественного долга в создании портрета, составленного «из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии». «Будет и того, что болезнь указана, — писал он в предисловии к своему роману, — а как ее излечить — это уж бог знает». Личное знакомство Лермонтова с Гоголем, состоявшееся в Москве весною 1840 года, на именинном обеде, на котором присутствовали опальный мыслитель П. Я. Чаадаев, опальный генерал М. Ф. Орлов, поэты и писатели Баратынский, Вяземский, С. Глинка, Загоскин, М. Дмитриев, будущие славянофилы — поэт Хомяков, К. Аксаков, Самарин; актер М. С. Щепкин, профессора Московского университета, — это знакомство вызвало широкий общественный интерес. Встреча автора «Героя нашего времени» с автором «Ревизора» и почти законченного первого тома «Мертвых душ» воспринималась как большое общественное событие, потому что с именами этих писателей передовая часть русского общества связывала, после смерти Пушкина, лучшие свои надежды и видела в них, по слову Белинского, своих единственных вождей и защитников. Как излечить указанные ими общественные болезни, ни Гоголь, ни Лермонтов в ту пору, конечно, знать не могли, но уже самое разоблачение пороков, порожденных крепостническим строем, представляло собою великий гражданский подвиг. Следующие за ними поколения борцов — революционных демократов — восприняли книги Лермонтова и Гоголя как драгоценное идейное наследство. Недаром молодой Чернышевский писал, что Гоголь и Лермонтов «наши спасители» и что они кажутся «недосягаемыми, великими», за которых он готов «отдать жизнь и честь». Всем своим творчеством Гоголь отрицал ту русскую действительность, которая его окружала, как отрицал ее и Лермонтов. Известно, что это отрицание было выражением самого благородного, самого активного и действенного патриотизма — «ненавистью из любви». Эту мысль выразил Герцен и сформулировал Некрасов, который сказал в стихах на смерть Гоголя:Со всех сторон его клянут,
И, только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он, — ненавидя.
5
Пугачевское восстание описал Пушкин. Чуть раньше Пушкина пугачевское восстание изобразил девятнадцатилетний Лермонтов в своем незаконченном романе «Вадим», в котором молодой разорившийся дворянин примыкает к восставшим крестьянам, мечтая отомстить своему обидчику — богатому помещику Палицыну. И в это же самое время Пушкин пишет «Дубровского». Чтобы отомстить своему притеснителю Троекурову, пушкинский герой так же, как и Вадим, становится во главе отряда восставших крестьян. Уже установлено, что Пушкин и Лермонтов нашли эти сходные сюжеты независимодруг от друга. И, конечно, совершенно от них независимо Гоголь в свою поэму «Мертвые души» вставляет повесть о капитане Копейкине, который, будучи притесняем начальниками и доведенный до крайней нужды, становится атаманом «шайки разбойников» из беглых солдат, то есть тех же крестьян. Дело тут не в обиженных молодых дворянах, удивительные совпадения эти объясняются мощным подъемом крестьянского движения в 1830-х годах. А. М. Горький подсчитал как-то, что в ту пору крестьянские восстания вспыхивали то в одной, то в другой губернии России в среднем через каждые 20 дней; эта русская действительность того времени отзывалась в творчестве великих поэтов, обращала их к животрепещущей социальной теме крестьянского восстания. И еще шире — теме народа. С «Тарасом Бульбой», «Капитанской дочкой», «Песней про купца Калашникова», «Иваном Сусаниным» в русскую литературу, в искусство русское входил не только народный герой, входил сам народ. Да герой из народа и не мог бы существовать на страницах книг, на сцене один, сам по себе. Он только стоял впереди народной толпы, как ее представитель, как выразитель ее настроений и интересов. Вместе с Бульбою в русскую литературу вошла Запорожская Сечь, откуда вылетали козаки, «гордые и крепкие, как львы». Образ Тараса вписан в сцены славных битв за Украину. Сверкают сабли, свистят горячие пули. Тарасов сын Остап, налетев на хорунжего, накидывает ему на шею веревку и волочит его через поле, сзывая громко козаков. Куренной атаман Кукубенко вгоняет тяжелый палаш в побледневшие уста поверженного врага. Рубит и крестит оглушенного шляхтича прославленный бандуристами, видавший виды козак Мосий Шило. Отбивает главную пушку Гуска Степан. У самых возов Вовтузенко, а спереди Черевыченко, а за ним — куренной атаман Вертихвыст. Двух шляхтичей поднял на копье Дегтяренко. Угощает ляхов Метелыця, шеломя того и другого. Насмерть бьется Закрутыгуба. И много других именитых и добрых Козаков. На глазах всего честного народа вышел против царева опричника удалой боец Степан Парамонович. И вот под заунывный звон колокола собирается на Красную площадь люд московский — смотреть, как будут казнить купца Степана Калашникова. Не расскажут летописи о его смелом подвиге. Сохранят память о нем людская молва и народная песня. Мимо безымянной могилки его «промеж трех дорог, промеж Тульской, Рязанской, Владимирской» проходит и вечно будет проходить народ-«люди добрые»:Пройдет стар человек — перекрестится,
Пройдет молодец — приосанится,
Пройдет девица — пригорюнится,
А пройдут гусляры — споют песенку.

Эти мощные выражения патриотической и революционной активности народа отозвались в творчестве великих народных поэтов, породив не только прямые отклики на восстания против угнетателей внешних и внутренних — «Капитанскую дочку», «Дубровского» и «Вадима», «Бородино», «Тараса Бульбу», «Купца Калашникова», «Ивана Сусанина». Нет. Клокотание народного гнева, которого столь убедительную статистику приводил А. М. Горький, с 30-х годов прошлого века определяло весь путь русского искусства и русской литературы — путь Чернышевского, Льва Толстого, Тургенева, Щедрина, и «передвижников», и «кучкистов». Творения, о которых мы говорим, — и «Бульба», и «Капитанская дочка», и «Песня про купца Калашникова», и «Бородино», и «Сусанин», — это мысль о судьбе народа, это прославление народа, это желание народу свободы. И сами по себе замечательны эти произведения. Но замечательны они еще и той силой воздействия, какое они оказали на последующее искусство — на Некрасова, на Мусоргского, на Репина… ибо, отвечая своему времени, воплощая новые — революционно-демократические идеи и новый исторический опыт, эти громадные художники второй половины столетия в изображении русского народа, его исторической роли и все возрастающей мощи в «Кому на Руси жить хорошо», в «Запорожцах», в «народной музыкальной драме» «Борис Годунов» шли по пути своих великих предшественников и наследовали их гениальный опыт.Страница из «Записок» М. И. Глинки с записью мелодий, восходящих к русским народным песням
КТО ТАКОЙ КОДЗОКОВ
В принадлежащем Ленинградской публичной библиотеке альбоме М. Ю. Лермонтова, который поэт заполнял в 1840 году на Кавказе, а в 1841 привозил с собой в Петербург, на одном из чистых листов записано: ЛУКМАН БЕК-МУРЗИН КОДЗОКОВ ДМИТРИИ СТЕПАНОВИЧ КОДЗОКОВ В ПЯТИГОРСКЕ. 89 №
Запись эта мало кому известна, так как внесена в альбом не лермонтовской рукою и поэтому в описаниях лермонтовских автографов не фигурирует. Как попала в альбом поэта фамилия «Кодзоков» — ке установлено. Неизвестно, наконец, кто эту фамилию носил: попыток объяснить происхождение записи, насколько мне известно, никто до сих пор не делал. Стоит, однако, обратить внимание на то, как начертаны буквы в этой фамилии, и становится ясно — это рука самого Кодзокова, его подпись. В верхней строчке фамилия написана привычной скорописью, с росчерком на конце; во второй строке повторена тем же почерком, но более спокойно к характера подписи не имеет, хотя снова кончается небольшим росчерком. На первый взгляд может показаться, что Лукман Бек-Мурзин Кодзоков и Дмитрий Степанович Кодзоков разные лица. На самом деле это два имени одного человека с очень интересной и необыкновенной судьбой. До сих пор широко было известно имя Шоры Бек-Мурзина Ногмова — гениального кабардинца, литератора и ученого, видевшего путь просвещения своего народа в приобщении его к передовой русской культуре, составившего первую грамматику кабардинского языка на основе русского алфавита, создавшего по преданиям и песням «Историю адыгейского народа» — труд, находящийся на уровне лучших исторических исследований своего времени и не утерявший своего значения до сих пор. Теперь к числу первых высокообразованных кабардинцев мы должны присоединить имя лермонтовского знакомца Кодзокова, о котором мало знают даже в его родной Кабарде. В конце 1820-х годов мать поэта Алексея Степановича Хомякова, Мария Алексеевна, привезла в Москву с Кавказа, куда ездила на воды, мальчика-черкеса Аукмана. Он воспитывался в ее доме и в 1630 году, когда подрос, был окрещен под именем Дмитрия. Считается, что его крестным отцом был Алексей Степанович Хомяков, только что вернувшийся с Балкан, с театра военных действий. Кодзоков жил в доме Хомяковых в Москве, лето проводил с ними в их тульском поместье Богучарове и, как пишет биограф поэта, «пользовался постоянного дружбою своего крестного отца, отдававшего ему значительную часть своего времени». Имя Кодзокова встречается в письмах Хомякова к родным и друзьям, Кодзоков для него «Митя» и «Митенька», поэт пишет о нем с любовью я лаской. «Хотел письмо отправить с Митею, — обращается он к своему старинному другу Алексею Владимировичу Веневитинову, отправляя Кодзокова в Петербург, — а он совсем не так скоро выехал, как мы ожидали». И дальше: «Отдаст тебе письмо наш Черкес, что прежде Лукман, ныне Дмитрий. Полюби его: малый славный, готовый к труду, умный и дельный. Ему приказано от меня доложить про свои дела, свои хлопоты и надежды, а обещано, что ты поможешь ему советом; я уверен, что ты это сделаешь. Зачем он едет в Питер, история длинная, и он тебе лучше ее расскажет, чем я могу это сделать в письме… Будь здоров, и надеюсь на тебя для Кодзокова». «За Лукмана и за все твои одолжения бесконечно тебе благодарен», — пишет он по возвращении воспитанника.Запись в альбоме М. Ю. Лермонтова

Это выдержки из писем 1839 года; отсюда нетрудно сделать вывод, что вплоть до 1840 года Кодзоков прожил в России. Из примечания П. И. Бартенева к одному из хомяковских писем, напечатанных в «Русском архиве» 1899 года (№ 7), мы знаем, что, «выросши», Кодзоков «уехал на родину». Эти сведения подтверждаются данными журнала «Мусульманин», выходившего в Париже на русском языке в начале нынешнего столетия (1911, № 14–17). «Кодзоков был сын простого, бедного кабардинца аула Тамбиевского, — пишет автор статьи М. Абаев, — маленьким мальчиком был взят кем-то из служивших на Казказе русских в Россию, где его выкрестили и дали образование, так что он является первым кабардинцем, получившим в России университетское образование. Молодые годы он провел в лучшем литературном кругу 40-х годов прошлого столетия и был вполне интеллигентным лицом и, по-видимому, демократического направления». Зная, что Кодзокова взял в Россию не «кто-то», а именно Хомяковы и, стало быть, университетское образование он должен был получить в Москве, следовало обратиться к архиву Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Действительно, в МГУ сохранились документы Д. С. Кодзокопа. Первый — свидетельство, выданное 13 января 1830 года в крепости Нальчикской Кабардинским временным судом «малолетнему узденю Лукману Кодзокову, имеющему от роду двенадцать лет, в том, что он действительно законный сын Кабардинского второй степени узденя Магомета Кодзокова». Содержащиеся в этом документе сведения «1830 год» и «двенадцать лет» дают возможность определить год рождения Кодзокова: 1818. Второе свидетельство составлено Московской духовной консисторией и выдано не самому Кодзокову, а «отставному гвардии поручику Степану Александровичу Хомякову» — отцу поэта — на случай помещения его воспитанника, «кабардинского узденя Магомета Кодзокова сына Аукмана, нареченного при святом крещении Дмитрием», в публичное учебное заведение. Из документа выясняется, что прошение «присоединить вышеозначенного воспитанника к грекороссийской церкви» было подано С. А. Хомяковым 20 декабря 1829 года. Таким образом, примечание «Русского архива» о том, что Лукман Кодзоков был якобы взят Хомяковыми на воспитание летом 1830 года, когда они находились в Пятигорске, следует считать неправильным. Оно не согласуется ни с датой крещения Кодзокова (4 февраля 1830 года), ни с обращением С. А. Хомякова в Московскую консисторию по поводу Лукмана в декабре 1829 года. Однако вполне возможно, что, отправляясь летом 1830 года в Пятигорск, Хомяковы брали с собою и Лукмана. И, наконец, отчество Кодзокова, «Степанович», заставляет думать, что крестил его не поэт Алексей Хомяков, а Степан Хомяков — отец. Но самый интересный документ — третий: прошение Дмитрия Кодзокова в правление Московского университета, датированное 7 августа 1834 года. «Родом я из черкесских узденей, — пишет Кодзоков, — от роду имею 16-ть лет, обучался в учебном заведении Г. Профессора Павлова следующим предметам: 1) языкам: русскому, латинскому, греческому, французскому, немецкому, английскому; 2) наукам: закону божию, священной и церковной истории, физике, логике, риторике, географии, статистике, истории русской и всеобщей, арифметике, алгебре, геометрии; 3) искусствам: рисованию и музыке» В заключение он пишет о своем желании «продолжать науки в императорском московском университете» и просит включить его по экзамену в число своекоштных студентов словесного отделения.[12] Сохранились ведомости, по которым можно судить об успехах Кодзокова, внесенного в список своекоштных студентов словесного отделения, обучавшихся с 1834 по 1838 год. В частности, он слушал лекции М. П. Погодина и в числе других студентов участвовал в переводе с французского языка на русский сочинения Демишеля «История средних веков». Имя Кодзокова значится рядом с именами Ф. И. Буслаева, Ю. Ф. Самарина и М. Н. Каткова. Буслаев — это известно — прославился впоследствии как выдающийся русский историк, искусствовед и филолог. Юрий Самарин вместе с К. С. Аксаковым и А. С. Хомяковым стал одним из лидеров славянофильства. Что же касается Михаила Никифоровича Каткова, то к концу 1830-х годов он, как писал критик П. В. Анненков, уже составил себе репутацию человека «с основательными филологическими познаниями, замечательными способностями к отвлеченному мышлению и критике идей». Катков был членом кружка Станкевича и «своим» для Белинского. В 1839 году он качал сотрудничать в «Отечественных записках» Краевского и вместе с Белинским участвовал в обновлении журнала. Белинский дорожил Катковым и возлагал на него надежды, хотя с течением времени все более приходил к мысли, что Катков их не оправдает. «Катков, — писал он в 1840 году, — будучи нашим… не наш». Так и случилось — вскоре Катков перешел в лагерь реакции. Но произошло это не Б ту пору, которая нас интересует, а позже. В годы, когда Катков и Кодзоков кончали университет, да и по выходе из него Катков примыкал к кругу единомышленников Белинского. Остановились же мы на фигуре Каткова особо в связи с тем, что Кодзоков обучался вместе с ним еще в пансионе, «был товарищем и приятелем М. Н. Каткова» и, по мнению личного знакомого Хомяковых, П. И. Бартенева, именно Кодзоков «ввел его в дом Хомяковых, где Каткоз некоторое время и жил». Судя по этому, Кодзоков должен был читать статьи Белинского, печатавшиеся в «Телескопе» и «Московском наблюдателе», и уж во всяком случае быть в курсе философских и политических споров, которые велись в кружке Станкевича. Университетские лекции Надеждина и Павлова, влияние Хомякова, который, как уже сказано, проводил с Кодзоковым «значительную часть своего времени», дружба с Катковым, близость к кругу их друзей и знакомых, среди которых были Белинский, Станкевич, Грановский, Боткин, Бакунин, Киреевские, Аксаковы, Самарин, — в этой среде должен был сформироваться человек очень высокой культуры, с серьезными духовными и умственными запросами. Московский университет Кодзоков окончил со званием действительного студента. По каким делам ездил он в Петербург, о каких его «хлопотах и надеждах» предварял Хомяков А. В, Веневитинова — этого мы не знаем. Надо полагать, что поездка была связана с намерением молодого черкеса быть полезным своему народу и краю, потому что в следующем, 1840 году, двадцатидвухлетний Кодзоков вернулся на родину: в альбом Лермонтова вписан его пятигорский адрес. Очевидно, всю остальную жизнь Кодзоков провел на Кавказе. В 1860-х годах он возглавлял сословно-поземельную комиссию Терской области, проводившую в Кабарде крестьянскую реформу. Реформа — это понятно — предусматривала интересы кабардинских феодалов: крестьяне получали свободу за выкуп. Но Кодзоков, стремясь, по его словам, быть полезным для своего народа и рассчитывая земли на кабардинской плоскости передать в общинную собственность (феодалы соглашались пользоваться ими на основе традиционного общинного права), склонил часть кабардинских князей и дворян к отказу от права владения. И попал в сети, ловко расставленные начальником области генералом Лорис-Меликовым. Тот роздал эти земли русским чиновникам. — Я думал, что все земли перейдут в собственность всего кабардинского народа, и Лорис-Меликов убеждал меня в этом, — говорил Кодзоков Абаеву, выступившему впоследствии в «Мусульманине» со статьей о кабардинских и балкарских делах, — но я ошибся… это меня мучает, но ничего не могу теперь исправить. Умер Кодзоков в 1880-х годах,[13]. Вот и все, что известно о нем. Участие Кодзокова в проведении земельной реформы не может повлиять на наше представление о том, каким он был в пору, когда познакомился с Лермонтовым (как, скажем, не влияет на оценку молодого грузинского поэта-романтика Григория Орбелиани военно-административная карьера царского наместника Орбелиани). Случайно ли встретился Лермонтов в Пятигорске с талантливым кабардинцем? Или услышал о нем еще раньше, когда, следуя в кавказскую ссылку, останавливался в Москве и беседовал с Хомяковым в погодинском саду на именинах Николая Васильевича Гоголя? Или, может быть, имя Кодзокова впервые возникло в разговоре с Самариным? Этого мы не знаем. Ио что сригура молодого кабардинца, получившего блестящее образование и вращавшегося долгие годы в центре духовной и умственной жизни Москвы, не могла не заинтересовать Лермонтова, это, разумеется, вне сомнений. Черкес, получивший воспитание в России, — образ, который Лермонтов уже воплотил в юношеской поэме об Измаил-бее, — снова предстал перед ним, но уже не в преданиях, не в песнях, не в отрывочных рассказах старых кавказцев, а в облике современника, почти сверстника, интеллигентного человека, «умного, дельного, славного», свободно владевшего русской речью, способного быть не только собеседником, но и советчиком в работе над задуманным в ту пору романом о кавказской жизни, о кровавом усмирении Кавказа, о диктатуре Ермолова. Именно в ту самую пору, в 1840 и 1841 годах, Лермонтов напряженно размышлял об исторических судьбах кавказских народов; с этими мыслями связаны и стихотворение «Спор», и очерк «Кавказец», и замысел неосуществленной трилогии в прозе с заключительным романом о кавказской войне. Разумеется, Лермонтову могли быть полезны и детские воспоминания Кодзокова, и первые впечатления по возвращении его на родину, и взгляд на судьбы кавказских народов человека, связанного и с Кабардой и с Россией. Надо ли говорить о том, что Кодзоков ясно представлял себе значение Лермонтова, который уже широко печатался, был автором «Героя нашего времени» и которого лично знали и Хомяков, и Катков, и Самарин? И если бы даже он не имел собственного взгляда на лермонтовскую поэзию, то уж во всяком случае хорошо знал, как относится к таланту Лермонтова хотя бы тот же А. С. Хомяков. «На него есть надежды», — писал Хомяков Н. М. Языкову по поводу «Песни про царя Ивана Васильевича», которую он почему-то именует «Сказкою об Опричнике». «Лермонтов написал повесть превосходную и по содержанию и по рассказу „Бела“», — сообщает он в другом письме. «Лермонтов пишет стихи со дня на день лучше». «Он с истинным талантом и как поэт и как прозатор», — делится он впечатлением после встречи с Лермонтовым на именинах у Гоголя, в письме от 20 мая 1840 года, когда Лермонтов уже выехал из Москвы в кавказскую ссылку. И с тревогою добавляет: «Боюсь, не убили бы». Помимо того интереса, который возбудит личность Кодзоуова у всякого, кого занимают кавказские знакомства Лермонтова, это еще одна нить, свидетельствующая о связях поэта и с Литературной Москвой. Нет необходимости особо говорить о том, что не менее интересна фигура Кодзокова для истории культурных связей России и Кабарды. Нам ничего не известно об отношениях Лермонтова с Кодзоковым, кроме самого факта их знакомства. Но можно сказать одно: знакомство это должно было стать многозначительным для обоих. И кто знает, может быть, адрес, записанный в черновом альбоме поэта, разрастется когда-нибудь в целую главу еще далеко не дописанной советским литературоведением книги «Лермонтов и Кавказ».А. С. Хомяков. Рисунок Э. Дмитриева-Мамонтова
РЕЧЬ РАСУЛА ГАМЗАТОВА
Расул Гамзатович Гамзатов, председатель Союза писателей Дагестана, человек замечательного ума, сын прославленного поэта Гамзата Цадасы и сам поэт высокого дарования, — мой друг. Это не много прибавляет к его характеристике, потому что многие литераторы Москвы, Ленинграда и других городов и республик могут назвать его своим другом. Но я хочу прибавить к славной его репутации еще один эпизод, о котором вам, может быть, слышать не приходилось. А между тем он дает представление о выдающемся остроумии Расула. Но для того, чтобы вполне его оцепить, придется предпослать рассказу о нем довольно обширное предисловие. Великий грузинский поэт Давид Гурамишвили родился в 1705 году в Сагурамо, возле Тбилиси. В ту пору он еще не был поэтом и не был великим. Грузия была теснима Ираном и Турцией. А над самым селением Сагурамо, на горе Зедазени, обосновались лезгины — «леки». Они совершали набеги в долину Арагвы, захватывали скот и уводили людей. Гурамишвили был вынужден покинуть родное гнездо и уехать к замужней сестре в Ламискана, тут же, в Картли, неподалеку. Если ехать теперь в машине, спидометр отсчитает шестьдесят один километр. Но Гурамишвили в своей поэме писал, что, обливаясь слезами, покинул родину ради чужбины. Как меняют представления время и средства передвижения! Переселение не помогло ему. Когда он пошел к реке, чтобы напоить жнецов, прислонил оружие к дереву и нагнулся с кувшином к воде, лезгины, подкравшись, схватили его, привязали к седлу и умчали за Кавказский хребет, в Дагестан, Там ему набили колодку на ноги и сунули в яму. Гурамишвили целый год мечтал о побеге. Наконец сбил колодку и бежал. Его поймали, вернули и снова посадили в глубокую яму. И он понял, что ему уже никогда не видать Грузии, что каждый раз его будут ловить на дороге. Он решил обмануть преследователей — сбил колодку и побежал не в Грузию, а на север. Его не поймали. Десять дней скитался он босой, изнемогая от голода, и наконец, раздвинув колючий кустарник, увидел бородатых людей, которые молотили снопы. Один из них, заметив Гурамишвили, сказал: — Лазарь, дай ему хлеба! Слово «хлеб» было единственным, которое знал Гурамишвили по-русски. Он зарыдал и потерял сознание. Это оказались терские казаки. Они одели его и помогли перебраться в Астрахань. А оттуда Гурамишвили попал в Москву, ко двору грузинского царя Вахтанга VI. Лишившись в 1723 году, после вторжения турок, престола, Вахтанг обратился к Петру I, прося политического убежища. Грузин пригласили в Москву, и тут, на территории нынешних Большой и Малой Грузинских улиц и в селе Всесвятском (возле станции метро «Сокол»), и поселились грузины. Давид Гурамишвили жил, очевидно, на Пресне. Он состоял в царской свите как придворный поэт. После смерти Петра затеянный им персидский поход был отложен. Русские войска из Баку и Дербента отозвали на Северный Кавказ. Расчеты на то, что военные действия России обеспечат безопасность Грузии от внешних врагов, не оправдались. Вахтанг удалился в Астрахань, где вскоре и умер. А грузинам, прибывшим с ним, было предложено принять русское подданство и вступить в русскую службу. Грузины царского рода, получившие впоследствии фамилии светлейших князей Грузинских и Багратионов, были поверстаны поместьями в поволжских губерниях, а члены их свиты получили наделы на Украине. Давид Гурамишвили вступил в Грузинскую гусарскую роту, брал крепость Хотин, участвовал в Семилетней войне, попал в плен, томился в Магдебургской крепости, а потом, по окончании войны, поселился в своем поместье Зубовке, на Украине, в Миргородском повете, и был соседом родителей Гоголя. Он писал по-грузински свои поэмы, стихи и песни, обогащая грузинский стих элементами русского и украинского стихосложения. Он умер в 90-х годах XVIII столетия и погребен на кладбище в Миргороде, поэт, родившийся в Грузии, обретший приют в России и вторую родину на украинской земле. …Исполнилось двести пятьдесят лет со дня рождения Гурамишвили. Эту дату решили отметить как праздник дружбы пародов и дружбы литератур. В Тбилиси съехались представители пашей многоязыкой поэзии, в Театре оперы и балета шло заседание, поэты читали свои переводы, стихи, произносили речи о дружбе. Слово было предоставлено Расулу Гамзатову… Он вышел на трибуну и, обращаясь к залу, сказал: — Дорогие товарищи! Разрешите мне приветствовать и поздравить вас от имени тех самых леки — лезгин, которые украли вашего Давида Гурамишвили! По залу побежал добрый хохот. — Дело в том, — продолжал Расул, хитро улыбаясь, — что с нами произошла неприятная историческая ошибка: мы думали, что крадем грузинского помещика, а утащили великого поэта. Когда мы осознали эту неловкость, мы очень смутились. Но это произошло только после Великой Октябрьской революции… Дорогие товарищи! Давид Гурамишвили жестоко отомстил нам! Мы держали его в плену только два года и все же кормили — соленым курдюком. А он забрал нас в плен навсегда. И угощает стихами… — Но вы должны признать, — сказал он, понизив голос, — что известный прогрессивный смысл в нашем поступке был! Ведь если бы мы не украли тогда вашего Давида Гурамишвили и он не убежал бы в Россию, не жил бы на Украине, не описал бы свои скитания и муки — какой праздник дружбы пародов мы могли бы сегодня отметить? Как могли бы восхищаться великой книгой «Давитиани», где описана биография Давида Гурамишвили?… А теперь разрешите поговорить с человеком, который находится здесь и не понимает происходящего… Он повернулся к портрету: — Дорогой наш друг, великий Давид Гурамишвили! Ты умер в слезах, когда враги мучили твою бедную Грузию. Ты отдал свою рукопись чужим людям и даже не знаешь, попала ли она на твою родину. Ты ничего не знаешь, бедный человек, что случилось за это время, какая слава пришла к тебе, как дружат теперь наши народы и леки — теперь добрый — качает грузинских детей… И он говорил то, что всем нам известно, о чем говорилось и на этом торжественном вечере. Но оттого, что эту речь произносил дагестанский поэт и она была обращена к портрету человека, который действительно не знал всего этого, речь обрела черты высокой поэзии и глубоко взволновала притихший зал. Видя такое необычайное действие слов своих, Расул Гамзатов снова обратился к аудитории: — Дорогие товарищи, я очень люблю Давида Гурамишвили. Но еще больше мне нравятся сидящие в этом зале грузинские женщины и девушки! Эта речь имела необыкновенный успех. И на другой день Расул Гамзатов стал в Тбилиси человеком таким же любимым и популярным, каким является всюду, где его видели, знают и любят. Но речь, как я вижу, не прошла для него бесследно. Она отразилась в стихах Гамзатова, посвященных дочери его друга — поэта Ираклия Абашидзе, отразилась в стихах, обращенных к грузинским девушкам:Зачем у вас так много цинандали
Мужчины пьют?
Их не пойму вовек.
Меня лишь ваши очи опьяняли,
А за столом я стойкий человек.
Припомнив стародавние обиды,
Вы нынче отомстили мне сполна
За то, что вас аварские мюриды
В седые увозили времена.
Как вы со мной жестоко поступили:
Без боя, обаянием одним,
Мгновенно сердце бедное пленили
И сделали заложником своим.
Но, чтобы мне не лопнуть от досады.
И не лишиться разума совсем,
Одену вас я в горские наряды,
Назначив героинями поэм,
В ущельях познакомлю с родниками,
Ведя тропинкой, что узка, как нить,
И будете вы жить над облаками
И в дымных саклях замуж выходить.
Искрятся звезды над вершиной горной.
О девушки грузинские, не лгу:
Я пленник ваш, я ваш слуга покорный,
Живущий на каспийском берегу.
Мне ваши косы видятся тугие,
Мне ваши речи нежные слышны,
Но все, что я сказал вам, дорогие,
Держите в тайне от моей жены!
ЧЕТЫРЕ ГОДА ИЗ ЖИЗНИ ИЛЬИ ЧАВЧАВАДЗЕ
Если вы попадете в Кахетию — благодатный виноградник, раскинувшийся во всю длину и во всю ширину Алазанской долины, потом уже никогда ее не забудете, как не забудете гор, за которыми лежит Дагестан. Голубые, акварельные на рассвете; потом кудрявые, темно-зеленые, с изумрудными вершинами, кое-где посеребренными снегом. Потом могучие, синие, тронутые волокном облаков, они начинают лиловеть постепенно и как бы отдаляются, подернутые той сизой дымкой, какая бывает на кожице спелой сливы. В полуденный зной облака свиваются, набухают, бросая на склоны гор фантастические пятна теней. А к вечеру снова великой стеной стоят горы, чистые, легкие, на фоне светлого предзакатного неба — в розовой и золотой парче. У подножия этих гор, в селении Кварели, родился Илья Чавчавадзе. И когда двадцатилетним юношей он покидал родину, чтобы продолжить образование в Петербурге, то первое свое стихотворение посвятил этим горам:Горы Кварели! Вдали от родного селенья
Может ли сердце о вас вспоминать без волненья?
Где бы я ни был, со мною вы, горы, повсюду,—
Сын ваш мятежный, ужели я вас позабуду?..
Горы Кварели, сопутники юности нежной.
Долг перед жизнью влечет меня в путь неизбежный.
Судьбы грядущего требуют нашей разлуки, —
Можно ли требовать более тягостной муки.
Конь мой торопится, стонет душа от печали,
С каждым вы шагом уходите в синие дали.
Вот вы исчезли… И только вершины седые
Еле видны… И расстался я с вами впервые…
Тщетно глаза я от солнца рукой прикрываю.
Тщетно я взоры в пустое пространство вперяю, —
Всюду раскинулись синего неба просторы,
Уж не венчают их больше прекрасные горы!
О, так прощайте же, дивные горы Кварели!
Сердце мое, полюбившее вас с колыбели,
Вечно любовью к великой отчизне пылая,
Вам улыбнется, рыдая, из дальнего края!

Все двадцать прожитых лет — детство в Кварели, запавшие в душу наставления матери, нравоучения нянюшки Саломэ, рассказы сельского дьякона, фантастика сказок народных и ужасающая действительность — жизнь угнетенного трудового народа, поэзия народных преданий и песен и проза жизни дореформенного дворянства, богатый мир, открывшийся на уроках тифлисской гимназии, Руставели, Пушкин, Шекспир, разговоры с друзьями — все, что видел взор, что любило, от чего страдало и горело его благородное сердце, все ждало только часа, чтобы излиться. Но прежде надо было понять: кто виноват? и что делать? Ответ на эти вопросы можно было найти только в далеком Петербурге. Четыре года, проведенные в Петербурге, он называл потом «золотыми годами», «фундаментом жизни», «первоисточником жизни». Если не обратиться к этим годам в его биографии, не вдуматься в их значение, то не понять Ильи Чавчавадзе, не оценить его литературно-общественного подвига, не постигнуть новаторского характера его стихов и его прозы, бурного созревания его поэтических сил. Откроем книжки «Современника» — журнала, руководителем которого был в ту пору великий революционер и мыслитель Николай Гаврилович Чернышевский. Перелистаем тонкие листы герценовского «Колокола». Сопоставим высказывания Ильи Чавчавадзе с мыслями Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Всмотримся в лица петербургских студентов тех лет на выцветших фотографиях, в лица русских, грузин, поляков — студентов, сидевших за «беспорядки» и в Петропавловской крепости и в Кронштадтской. Вдумаемся в то, какое значение имело для Ильи Чавчавадзе и для его славных сверстников — Лордкипанидзе, Накашидзе, обоих Гогоберидзе, для Георгия Церетели, для Кохта Абхази, Исарлишвили, Нико Николадзе — общение с Чернышевским, принадлежность к его кружку. И только тогда мы поймем, какое обилие мыслей, какую верность идее, какую преданность общему делу освобождения народа вынесли эти передовые грузины, или, как назвал их Илья Чавчавадзе, — «тергдалеулеби» — испившие воды Терека, то есть побывавшие по сю сторону Кавказских гор, — сколько вынесли они из общения с вождем русской революционной демократии, какую великую роль сыграли эти четыре года в жизни и творчестве Чавчавадзе…Илья Чавчавадзе

Перелистаем его сочинения. Посмотрим стихи, поэмы, прозу, написанное им в 1857–1861 годах — вещи, под которыми выставлены пометы: «С.-Петербург», «Тярлево», «Павловск». Вот стихотворение, написанное через год после переезда в столицу:Студенты-грузины, заключенные в Кронштадтскую крепость в 1860 году. Н. Николадзе, Б. Гогобсридзе, А. Исарлишвили, Г. Церетели…
Пусть я умру — в душе боязни нет,
Лишь только б мой уединенный след
Заметил тот, кто выйдет вслед за мною;
Чтоб над моей могильною плитою —
Далекий житель солнечных долин —
Склонился мой возлюбленный грузин,
И голосом, исполненным участья,
Мне пожелал спокойствия и счастья,
И так сказал: «Хоть рано ты умолк,
Но ты исполнил свой великий долг,
И песнь твоя от самого начала
Нам не напрасно с севера звучала!»
Путь наш прям и бескорыстен,
И один завет в груди:
Вожаки мостом должны быть
Для идущих позади.
Руку, воин, на клинок!
Позабудь былые беды!
Час сраженья недалек,
Наступает день победы!
Труд на земле давно порабощен,
Но век идет, — и тяжкие оковы
Трещат и рвутся, и со всех сторон
Встают рабы, к возмездию готовы.
Освобожденье честного труда —
Вот в чем задача нынешнего века.
Недаром бурь народных череда
Встает во имя братства человека…
Падут оковы, рушится оплот
Проклятого насилья мирового.
И из побегов новых расцветет
Страна моя, родившаяся снова.
В туманном блеске лунного сиянья
В глубоком сне лежит мой край родной.
Кавказских гор седые изваянья
Стоят вдали, одеты синей мглой.
Какая тишь! Ни шелеста, ни зова.
Безмолвно спит моя отчизна-мать.
Лишь слабый стон средь сумрака ночного
Прорвется вдруг, и стихнет все опять…
Стою один… И тень от горных кряжей
Лежит внизу, печальна и темна.
О господи! Все сон да сон… Когда же,
Когда же мы воспрянем ото сна?
В знойный день, в Тбилиси, около базара
Проходил я часто. Черный от загара,
У стены лежал ты, брат мой несчастливый,
Сердце надрывал мне твой напев тоскливый.
Живнь твою прочел я в этих скорбных звуках —
Труд во имя хлеба в горестях и муках.
Кто ты, брат мой бедный? В чем твоя кручина?
Может, не стерпел ты плети господина
И, семью покинув, кров забыл домашний,
Бросил дом отцовский, распростился с пашней?
Иль судьба бесчестно парня обманула,
Выгнала из дому, жизнь перевернула,
На людей надежды также не сбылися…
Но куда пришел ты? Что нашел в Тбилиси?
Слышу звук цепей спадающих,
Звук цепей неволи древней!
Не гремела никогда еще
Правда над землей так гневно.
Слышу я — и в восхищенье
Грудь живой надеждой дышит.
Вешний гром освобожденья
И в родной странеуслышат.
РАЗГАДКА ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ТАЙНЫ
Перед тем как включить в книгу эту главу, я колебался, понимая, что она покажется трудной: речь идет о специальных проблемах, о музыке, об особенностях нотописания, притом нотописания древнего. А упростить этот рассказ, не лишая его конкретного смысла, не удается. И в то же время мысль, что, даже и не улавливая подробностей, читатель представит себе открытие в целом и не осудит за желание рассказать ему об этих трудных вещах, побудила решиться. Покажется трудной глава — пропустите! Это одна такая. А если согласны — слушайте,СТРАНА ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ
Когда в 1885 году Николай Дадиани — внук знаменитого грузинского поэта Александра Чавчавадзе — вместе со своей уникальной библиотекой передал в дар национальному музею в Тбилиси хранившуюся в его семье древнюю грузинскую рукопись, никто не мог предвидеть в ту пору, какую ценность представит для истории культуры этот замечательный манускрипт, хотя ученые тогда же назвали его «сокровищем десятого века». Ныне эта книга хранится в Институте рукописей Академия наук Грузии, на улице Кецховели. Писана она на пергаменте, старинным грузинским шрифтом, над строками и под строками киноварыо выведены музыкальные знаки. Это свод древних гимнов, составленный крупнейшим грузинским композитором и поэтом X века Микаэлем Модрекили. До нас дошла не вся рукопись, только часть — 544 страницы. Еще больше утрачено — 720. Не хватает начала и большого числа страниц в середине. Отсутствует и конец; сколько в нем заключалось страниц, мы не знаем, Тем не менее даже и уцелевшая часть манускрипта свидетельствует о высокой культуре средневековой Грузии, с древнейших времен связанной со странами классического Востока — с Ассиро-Вавилонией, с государствами урартов и хеттов. Вы об этих связях наслышаны. О них рассказывают и памятники материальной культуры и клинописные тексты II и I тысячелетий до нашей эры. Что касается сведений о прочных связях Грузии с Западом — с эллинским миром, то их содержат не только сочинения античных авторов, но и всемирно известные греческие легенды. Одна из них сохранила память о походе аргонавтов в Колхиду в поисках золотого руна, другая—олицетворила человеческий гений в образе Прометея, прикованного к Кавказской скале. Скала — Кавказская, и уже одно это служит прямым доказательством, что легенда, послужившая основой для гениальной трагедии Эсхила, пришла в Грецию из древней Колхиды. В нашу эру — в I веке и во II — Грузия играла важщчо роль в отношениях Рима с Востоком. О том, как велик был в ту пору политический авторитет грузинского государства, рассказывают античные авторы, описавшие торжественный прием, который устроил в Риме император Адриан грузинскому царю Фарасману II. Это было в 138 году нашей эры. Фарасман принес в Капитолин жертву и удостоился почести высочайшей: конная статуя грузинского царя была установлена в храме Белонны. Археологические раскопки обнаружили недавно недалеко от нынешней столицы Тбилиси остатки древнейшей столицы — Армази. Крепостные стены, башни, вещи, найденные в гробницах — оружие, золотые украшения, посуда, геммы, на одной из которых изображен приближенный царя Фарасмана II Дзевах со своей супругой, — все это еще более расширило представления об очень высоком уровне древней культуры Грузии. При этом важно напомнить, что христианство было объявлено государственной религией в Грузии уже в начале IV века. Но наивысшего расцвета культура достигла в XII и XIII столетиях; их принято считать «золотым веком» Грузии, когда среди грузин стали развиваться гуманистические идеи, что позволяет сблизить эту эпоху с последующим явлением европейского Ренессанса. В частности, к этому времени относится стремительное развитие светской литературы, достигшее наивысшего выражения в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»; в ней, — это известно и признано, — автор выступает как великий певец гуманизма. Если при этом напомнить, что Грузия издревле была единственной среди окружавших ее народов страной трехголосного пения, то будет легче представить себе атмосферу, в которой поэт и композитор X века Микаэль Модрекили трудился над рукописью, поступившей в конце прошлого века в национальный музей. Что же представляет собой этот сборник? «Я, Микаэль Модрекили, — пишет составитель в послесловии к одному из разделов, — потрудился и в результате тщательных поисков собрал отовсюду все песнопения, какие нашел на грузинском языке, и записал их в эту святую книгу истинно… сохраняя чистоту напевов, без ошибок в музыкальных знаках». Итак, в сборнике Модрекили собраны песнопения, снабженные котяыми знаками. Но как их прочесть? Как подойти к расшифровке этих своеобразных обозначений? Это произошло в наше время, но тоже не сразу. Замечательному открытию древнегрузинской музыки предшествовало другое открытие, не менее удивительное, — в области древнегрузинской поэзии. Оба открытия принадлежат выдающемуся ученому Грузии Павле Ингороква — историку и филологу, специалисту и области древней грузинской поэзии. Вот краткая история этих недавних открытий.«МОНУМЕНТ ГРУЗИНСКОЙ УЧЕНОСТИ»
В древнегрузинских рукописях сохранилось немало гимнов; ученые хорошо знали их, но читали их как прозаические произведения. Вчитываясь в старые рукописи, Ингороква обратил внимание на то, что далеко не все точки в текстах можно рассматривать как обычный знак препинания. Заподозрив, что они выполняют другую функцию, ученый стал подсчитывать количество слогов между точками и обнаружил в них несомненную закономерность: 7, 7, 7, 11, 7, 7, 5. Следующий абзац — та же последовательность. И так — до конца песнопения. Ингороква взял другой текст. И снова: 5, 10, 5, 11, 5, 8, 10. И то же чередование слогов до конца текста. Исследователь понял: это стихи без рифм, но с точным строфическим построением, записанные без выделения стиховой строки ради экономии дорогой в ту пору «бумаги» — пергамента. Ингороква продолжил подсчет. И когда работа над всеми сводами гимнов была закончена, смог подвести итоги. Он обнаружил 1217 разновидностей древней грузинской строфики!.. Так была раскрыта стиховая структура гимнов. Разгадав их метрическую основу, Павле Ингороква открыл свод стихотворных размеров, смог изучить систему древнегрузинского стихосложения, выяснить, что построение стиха в виде строфы с параллельными антистрофами имеет связь с хорической лирикой античной эпохи и с формой стиха, который произносится хором в античной трагедии. Более того: Ингороква открыл несколько сот неизвестных грузинских гимнов, открыл новых поэтов и среди них таких крупных, как гимнографы Григорий Хандзтели и Георгий Мерчуле. Установил, что древнейшие гимны восходят к V веку. Это открытие один из английских историков назвал «монументом современной грузинской учености». Результаты своей работы П. Ингороква опубликовал в книге «Георгий Мерчуле. Очерки по истории литературы, культуры и государственной жизни древней Грузии». Этот объемистый труд (более тысячи страниц) вышел в свет в 1955 году и привлек внимание не только научных кругов СССР и за рубежом, — он стал широко популярным среди грузинских читателей. Международный филологический орган «Ориенс кристианус» (т. 41, 1957) поместил весьма положительный и обстоятельный разбор этой замечательной книги.ВОСЕМЬ
Разгадав метрическую и ритмическую основу гимнов, Ингороква совершил открытие, важное не только для изучения и понимания древнегрузинской поэзии, но подошел тем самым и к разгадке музыкальных обозначений. Стало ясно, что между стихотворным и музыкальным текстами существует неразрывная связь. Надо было обнаружить ее. Первый шаг в этом направлении был сделан без особых усилий; черной точке в поэтическом тексте соответствовала красная точка среди музыкальных знаков. Тогда Павле Ингороква приступил к изучению всех древнегрузинских рукописей, в которых имеются нотные знаки. Таких манускриптов дошло до нас девять. Пять из них находятся в Грузии, один в Греции, в Афонском монастыре, основанном в X веке грузинами: он был центром грузинской литературной школы. Три рукописи хранятся на Синае, в обители св. Екатерины, где с VIII века находилась грузинская монашеская колония и процветала грузинская письменность. Всего в девяти рукописях насчитывается около 1300 ирмосов — песнопений. Сличая рукописи, хранящиеся в грузинских музеях, с микрофильмами синайских котированных манускриптов, Ингороква окончательно убедился в том, что нотные знаки в них представляют одну и ту же систему. Но при этом они не имеют ничего общего с известными нам типами нотописи, — в частности, совсем не похожи на невмы, которые в средневековье заменяли нотные знаки у народов Европы и восточнохристианского мира. Ингороква выписал грузинские музыкальные знаки. Их оказалось восемнадцать. Было ясно, что это не иероглифическое письмо: иероглифов в древних письменах бывает гораздо больше, чем букв. Очевидно, здесь каждый знак обозначает не группу звуков, а всего один звук, и восемнадцать знаков должны представлять собой нотный алфавит. Как часто повторяются они, эти знаки? Ингороква снова принялся за подсчеты. На это ушло несколько месяцев. Наконец можно было принять как бесспорное: основных знаков восемь. И тут уже стало ясно, что они соответствуют восьми ступеням октавы. Это был первый крупный успех. Ученый понял, что находится на верном пути. Но последовательность пока еще не ясна, не ясно значение каждого знака. Если этого не удастся восстановить — все сделанное окажется бесполезным.
Началось сличение знаков.
Четыре из них пишутся под строкой, четыре — над строкой, Но совершенно очевидно, что между ними есть соответствие. Среди них есть один совсем маленький — черточка. Но и среди верхних один тоже меньше других. Этот напоминает скобку. Один из нижних — самый большой — похож на чайку в полете. Такой же знак имеется среди верхних; только он перевернут и дополнен чертой. При этом нетрудно заметить, что нижние знаки по мере приближения к строке становятся меньше. А верхние, удаляясь от строки, начинают расти. Еще одно наблюдение: нижние знаки по мере приближения к строке имеют тенденцию к упрощению рисунка ноты, а верхние знаки, наоборот, начинают усложняться по мере того, как удаляются строки. Так и кажется, что между ними имеется «зеркальное соответствие».
Исследователь расположил эти знаки так, что, сходясь, они уменьшаются. Получилась шкала. Стало ясным, что группы из четырех знаков — это нижний и верхний тетрахорды диатонической гаммы, как бы нижняя и верхняя ее половины.
Но как узнать, правильна ли последовательность, в которой он расположил самые знаки?
Опять на помощь приходит подсчет. Самый малый знак, напоминающий скобку, встречается в четыре раза чаще, чем остальные. Он доминирует. Понятно: это и есть «доминанта», пятая господствующая — ступень октавы. Кроме того, можно предположить, что, поскольку в последнем такте каждого гимна должна звучать тоника, следовательно, тут должен стоять хотя бы один из двух знаков октавы… Так и есть! Значит, перевернутая птица и похожий на нее узорчатый знак — крайние ноты, обозначение первой и восьмой ступеней.
Так удалось разгадать последовательность новых обозначений. Это был второй крупный успех. Но все же какие звуки обозначает каждая нота, оставалось неясным.
Однако еще в самом начале работы Ингороква обратил внимание на то, что над первой строкой каждого гимна приписано, на какой «глас» они поются: «глас первый», «глас четвертый», «первый побочный» (пятый), «третий побочный» (седьмой). Всех «гласов» восемь. Значит, это указание на так называемые «церковные» диатонические лады, на которых строилась музыка древнехристианского мира; это указание на то, какой подразумевается звукоряд.
Это был третий существенный шаг на пути к разгадке тайны древнегрузинской нотописи.
Решив эти основные вопросы, можно было заняться изучением и дополнительных знаков. Шесть из них оказались обозначением «юбиляций» — музыкального орнамента ликующего характера. Другими знаками переданы хроматизмы — полутона, которые в грузинском культовом пении допускались весьма редко.
Таким образом, появилась возможность перевести древние обозначения в современные нотные знаки. Но при этом надо иметь в виду, что как в культовом пении римско-католической церкви, где до XIII века выписывался только ведущий голос, (он называется «кантус фирмус»), так и в грузинских рукописях котировалась только ведущая мелодия — по-грузински «дэлис пири», «предводитель голосов». Другие голоса не обозначались. Певцы, обрамляя мелодию, руководствовались нормами церковной гармонии.
Итак, первую часть исследования можно было считать оконченной: система музыкальных знаков раскрыта, разгадана грузинская нотопись в рукописи X века!
Это был первый крупный успех. Ученый понял, что находится на верном пути. Но последовательность пока еще не ясна, не ясно значение каждого знака. Если этого не удастся восстановить — все сделанное окажется бесполезным.
Началось сличение знаков.
Четыре из них пишутся под строкой, четыре — над строкой, Но совершенно очевидно, что между ними есть соответствие. Среди них есть один совсем маленький — черточка. Но и среди верхних один тоже меньше других. Этот напоминает скобку. Один из нижних — самый большой — похож на чайку в полете. Такой же знак имеется среди верхних; только он перевернут и дополнен чертой. При этом нетрудно заметить, что нижние знаки по мере приближения к строке становятся меньше. А верхние, удаляясь от строки, начинают расти. Еще одно наблюдение: нижние знаки по мере приближения к строке имеют тенденцию к упрощению рисунка ноты, а верхние знаки, наоборот, начинают усложняться по мере того, как удаляются строки. Так и кажется, что между ними имеется «зеркальное соответствие».
Исследователь расположил эти знаки так, что, сходясь, они уменьшаются. Получилась шкала. Стало ясным, что группы из четырех знаков — это нижний и верхний тетрахорды диатонической гаммы, как бы нижняя и верхняя ее половины.
Но как узнать, правильна ли последовательность, в которой он расположил самые знаки?
Опять на помощь приходит подсчет. Самый малый знак, напоминающий скобку, встречается в четыре раза чаще, чем остальные. Он доминирует. Понятно: это и есть «доминанта», пятая господствующая — ступень октавы. Кроме того, можно предположить, что, поскольку в последнем такте каждого гимна должна звучать тоника, следовательно, тут должен стоять хотя бы один из двух знаков октавы… Так и есть! Значит, перевернутая птица и похожий на нее узорчатый знак — крайние ноты, обозначение первой и восьмой ступеней.
Так удалось разгадать последовательность новых обозначений. Это был второй крупный успех. Но все же какие звуки обозначает каждая нота, оставалось неясным.
Однако еще в самом начале работы Ингороква обратил внимание на то, что над первой строкой каждого гимна приписано, на какой «глас» они поются: «глас первый», «глас четвертый», «первый побочный» (пятый), «третий побочный» (седьмой). Всех «гласов» восемь. Значит, это указание на так называемые «церковные» диатонические лады, на которых строилась музыка древнехристианского мира; это указание на то, какой подразумевается звукоряд.
Это был третий существенный шаг на пути к разгадке тайны древнегрузинской нотописи.
Решив эти основные вопросы, можно было заняться изучением и дополнительных знаков. Шесть из них оказались обозначением «юбиляций» — музыкального орнамента ликующего характера. Другими знаками переданы хроматизмы — полутона, которые в грузинском культовом пении допускались весьма редко.
Таким образом, появилась возможность перевести древние обозначения в современные нотные знаки. Но при этом надо иметь в виду, что как в культовом пении римско-католической церкви, где до XIII века выписывался только ведущий голос, (он называется «кантус фирмус»), так и в грузинских рукописях котировалась только ведущая мелодия — по-грузински «дэлис пири», «предводитель голосов». Другие голоса не обозначались. Певцы, обрамляя мелодию, руководствовались нормами церковной гармонии.
Итак, первую часть исследования можно было считать оконченной: система музыкальных знаков раскрыта, разгадана грузинская нотопись в рукописи X века!
ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Теперь можно было приступить к чтению самих музыкальных текстов. И вот записи X века Ингороква стал переводить на современные нотные знаки! Первым он транскрибировал гимн в честь девы Марии — «Гихароден!» («Радуйся!») — и, положив листок на пюпитр рояля, проиграл расшифрованный музыкальный текст. — Трудно передать, — вспоминает исследователь, — неповторимое переживание этих минут, когда я впервые услышал звуки, доносившиеся из глубины веков, звуки, отдаленные от меня десятью столетиями. Если бы в расшифровке была допущена хоть незначительная ошибка, в результате получился бы случайный и бессмысленный набор звуков. А между тем зазвучала прекрасная торжественная мелодия. Вслед за первым гимном Ингороква расшифровал еще восемьдесят. И во всех случаях рождалась великолепная музыка, поражающая внутренней логикой и глубиной музыкальной мысли. Наконец настал день, когда Ингороква решил познакомить с ходом открытия и с его результатами музыкантов и отправился в Союз композиторов Грузии, где передал секретарям Союза, известным грузинским композиторам Андрею Баланчивадзе и Алексею Мачавариани, «ключ» к своей расшифровке. Рассказ его поразил композиторов. А. Мачавариани выразил желание детально познакомиться со всеми положениями Ингороква и с расшифрованными музыкальными текстами. Изучив материалы, Мачавариани выступил со статьями. Он писал, что «расшифрованные знаки составляют вполне организованные мелодии» и носят глубоко национальный характер обнаруживая «тесную связь с народно-хоровой музыкой». «Во всех случаях, — заявлял композитор, аттестуя восемьдесят проигранных им гимнов, — звучала величественная древнегрузинская музыка». Эти статьи появились в грузинской и русской печати.ТЫСЯЧЕЛЕТНИЕ ГИМНЫ
Теперь Ингороква занимал новый вопрос. Не сохранились ли остатки древнегрузинских песнопений в церковных песнопениях XIX–XX веков? Три дня спустя после визита в Союз композиторов он пришел в Институт рукописей и попросил выдать ему все имеющиеся там записи грузинской церковной музыки. Ему принесли собрание грузинских церковных песнопений, которые были записаны в 80—90-х годах прошлого века до глубоких знатоков древнегрузинской духовной музыки. До недавнего времени эти материалы хранились у одного из участников сбора церковных мелодий и только после смерти его поступили в Институт рукописей. Никто никогда не работал над этими записями, никто не интересовался ими. Ингороква открыл оглавление и сразу же увидел среди множества иных сочинений первые строчки уже известных ему стихов, тех, что легли в основу нескольких древних гимнов. Это были стихи те самые, которые он, Ингороква, опубликовал годом раньше в своей монографии о Георгии Мерчуле. Это его обрадовало. Значит, стихотворные тексты X века исполнялись еще совсем недавно. А музыка? Чтобы не разбрасываться, исследователь взял хорал «Сасцаулита» («Чудом»), которым открываются своды песнопений X века, нашел его в записи 80-х годов — большая часть знаков совпала. Запись XIX столетия, более сложная в некоторых элементах, была похожа на древнюю запись, как дочь бывает похожа на мать! Ингороква чуть не лишился чувств! В институте до сих пор вспоминают, как слабеющим голосом он попросил воды. Этот момент в процессе исследования Ингороква я бы сравнил с недавней находкой хетто-финикийской биллингвы — двуязычной записи, которая подтвердила правильность работ Мерриджи, Грозного, Боссерта по расшифровке хеттского иереи глифического письма. Ингороква продолжал сличать музыкальные тексты… Второй гимн: стихи те же, но между музыкальными текстами нет ничего общего! Третий хорал — то же самое. Четвертый… Пятый… Восьмой… Не похоже! Ирмос «Обремененная» — сильное сходство! Ингороква сравнил между собой почти триста гимнов. Тридцать один из них имел много общего с записями XIX столетия. Но особое сходство обнаружилось в записях семи гимнов, Значит, на все остальные тексты позже — на протяжении тысячи лет — была написана новая музыка. Подобно археологу, Ингороква поднял тысячелетний исторический слой и обнаружил тридцать один гимн, переживший десять столетий. И более тысячи двухсот гимнов, которые навсегда, казалось, исчезли, поглощенные временем, но благодаря трудам Ингороква ожили и зазвучали вновь в наше время. Он воскресил творчество великих музыкантов древней Грузин—Иване Минчхи, Иоанна Мтбевари, Микаэля Модрекиля и прежде всего Григория Хандзтели, который, — это теперь становится ясным, — сыграл в истории древнегрузинской музыки примерно такую же роль, как Иоанн Дамаскин в греческой, а в истории римско-католической — папа Григорий II. Наконец — это было 26 ноября 1956 года — на расширенном заседании отделения общественных наук Академии наук Грузии Павле Ингороква сделал доклад об этом открытии. Когда ученый сошел с трибуны, в вал стали входить артисты Грузинской капеллы. За рояль сел композитор Мачавариани. Нет, не берусь передать силу этого первого впечатления. Дирижер поднял руку, и величественно, торжественно, стройно зазвучала «Песнь покаяния» Григория Хаидзтели на слова грузинского царя Давида Строителя;Когда настанет время последнего вздоха,
Величие царственности прейдет и слава померкнет,
Радость станет излишней,
Цветение увянет,
Другой получит скипетр,
За другим встанет воинство, —
Тогда помилуй меня, мой всевышний судия!
НОТОПИСЬ ГРУЗИНСКАЯ И НОТОПНСЬ ГРЕЧЕСКАЯ
Уже не одни ученые Грузии знают теперь, как звучали древние грузинские гимны. Всесоюзное радио транслировало их на весь Советский Союз. Радиопередачу из Парижа, посвященную открытию Ингороква, организовала ЮНЕСКО; древняя грузинская музыка прозвучала уже на весь мир. Еще раньше, в майском номере «Курьера ЮНЕСКО» за 1962 год, редакция напечатала статью П. Ингороква, излагающую основную суть его замечательного открытия. Работа вызвала большой интерес и во Франции, и в Италии, и в Японии, и в социалистических странах. Казалось бы, все уже выяснено, все обнародовано. Нет! Последнюю точку в науке поставить нельзя. Поэтому пойдем дальше и расскажем больше того, что изложено в «Курьере ЮНЕСКО». Как и когда возникла грузинская нотопись? В какой связи находится она с нотным письмом других древних культур? Ингороква снова всматривается в «невмы», которыми в средние века пользовались народы Европы и христианский Восток. Нет, они не похожи ни по рисунку, ни по характеру, ибо невмы — это обозначение не звуков, а интервалов. Ученый рассматривает нотные знаки античных греков… Это гораздо ближе, ибо греческое письмо обозначает не интерн валы, а звуки. Но в остальном между ними нет ничего общего. Греческие нотные знаки буквообразны и пишутся в строчку, как в книге. Грузинские напоминают стенографические обозначения и движутся вверх и вниз: движение голоса и движение глаза здесь согласованы. Эта система приспособлена для свободного чтения музыки. У греков двадцать три нотных знака. Из них главных пятнадцать, и в основе их лежит звукоряд двух октан, образующих систему «телейон». У грузин восемь знаков; следовательно, они проще и тем самым более совершенны, поскольку отражают структуру одной октавы, Но что это? Грузинский нотный знак, напоминающий собою флажок, принятый для обозначения шестой ступени октавы, в точности совпадает с греческим знаком! И, что самое удивительное, у греков этот знак тоже стоит шестым в первой октаве! Значит, совпали не только начертания знаков, но и функции знаков! Если такое же сходство обнаружится в других знаках… Нет, пятый греческий знак «гамма» — «Г» — не похож на грузинский, Тем не менее связь несомненна, ибо пятый грузинский знак — это тот же греческий «Г», как упрощенно, скорописью, обозначали его древние греки. Седьмой знак тоже греческого происхождения: это упрощенное написание греческой буквы «дигамма» (Е). Восьмой знак грузинского письма повторяет восьмой знак из второй октавы греческой нотописи, только в перевернутом виде. Но зато этот знак — «прессус майор» — имеется в латинском письме, и он совпадает с грузинским начертанием полностью. Это не удивительно: латинские нотные знаки тоже восходят к греческим! Так выяснилось, что верхний ряд нотных знаков связан с нотным письмом древней Греции. Но в подстрочных знаках ничего общего с греческим Ингороква не обнаружил. Откуда же взялись они? Раздумывая над происхождением этих подстрочных знаков и видя в их очертаниях сходство с верхними знаками, зеркальное их подобие, Ингороква подумал, что, наверное, грузины сами сконструировали их по образцу верхнего ряда. Это предположение было правильно, но правильно только отчасти. Однако, прежде чем рассказать о происхождении знаков нижнего тетрахорда, нам придется сообщить еще об одной находке.УЧЕБНИК VII ВЕКА
В сущности, на первый взгляд, никакой новой находки не было: рукопись, которую потребовал Павле Ингороква, уже бывала в руках ученых, только никто из них не смог разобраться в ее содержании. Это древний учебник пения, озаглавленный «Свод номосов полный и точный». С таким же правом его можно было назвать «Свод законов полный и точный», потому что по-гречески «номос» — закон. Собранные в этом своде стихи сопровождаются не нотными знаками, а проставленным возле каждой стихотворной строки указанием на номос (закон), по образцу которого она должна исполняться. Возле каждой строки указан свой номос. Таким образом, в целом напев складывался из готовых музыкальных «формул» — «законов», из комбинаций уже существовавших мелодических оборотов. Образно говоря, пение по иомосам можно сравнить со строительством зданий из готовых крупноблочных панелей: каждая строчка — это готовая цельная музыкальная фраза. А самые фразы, то есть готовые музыкальные штампы — номосы, черпались из обширного репертуара уже существующих гимнов. И от того, в каком порядке они следовали друг за другом, слагался хорал. Расположены песнопения в этом учебнике в последовательности церковно-грузинского календаря V–VIII веков. Изучая тексты учебника и сопоставляя их с данными грузинской истории, Ингороква выяснил, что он составлен в 30-х годах VII века, во Мцхете — в центре грузинской патриархии. В это самое время номосы, выработанные в течение трех первых веков христианского богослужения в Грузии, и были приведены в систему, классифицированы. Кроме того, в учебник вошли и те древние номосы, которые сложились еще в античный, дохристианский период. В учебнике эти древнейшие номосы используются в качестве образцов. Этого мало. В конце книги они представлены в виде особого приложения под названием «Роды номосов 24». И каждый из них имеет свое название. Перечитывая эти названия, ученый обратил внимание на то, что они составляют три группы по восемь номосов и что между этими тремя «восьмерками» существует какая-то связь. Эта система напомнила Ингороква греческую систему «телейон», то есть греческий звукоряд в две октавы. Но то, что в грузинском учебнике эти группы заключают по восемь номосов, наводило на мысль, что они должны быть связаны с системой октавы. Тогда Ингороква решил, что номосы соответствуют звукорядам — «гласам», выставленным в начале каждого гимна. И не ошибся: это подтвердил анализ названий номосов. Так, первые номосы в каждой из этих трех групп носят названия, которые означают — «главенствующий», «основной», «низкий». А это говорит о том, что они имеют прямую связь с первой ступенью октавы. Восьмые номосы называются по-грузински «одиа», «ахайа» и «дасадебели». «Дасадебели» значит: «то, что накладывается». Это вызывало в памяти Ингороква греческий термин, замыкающий систему «телейон» — «прос-ламбаноменос», что полностью совпадает со значением грузинского термина и заключает в себе важный смысл — «соответствие звуков октавы». А что значит «одиа»? В античной грамматике есть раздел, называемый «просодия»: буквально это значит припев. В грамматику этот термин вошел из музыкального обихода. Заподозрив, что по аналогии с «прос-ламбаноменос» «одия» обозначает соответствие между собой восьмых ступеней, Ингороква предположил, что термин «одиа» произошел от «просодия»… В ту минуту он еще не знал сам, насколько он прав!ТРОЙНАЯ РЕШЕТКА
Иоанэ Петрици, грузинский философ XI века, в своем сочинении «Толкование Платоновой философии» приводит греческие и соответствующие им грузинские названия знаков просодии. «Вракия», — пишет он, — по-грузински значит «сабрунави», «пепле» означает по-грузински «цвили». Позвольте, ведь это же названия номосов! Тех самых, что составляют раздел «Роды номосов 24». Ингороква раскрыл греческий справочник, чтобы проверить, как выглядят знаки просодии… И увидел: знак «брахия» полностью соответствует второму нотному знаку грузинской октавы. Так вот откуда взялись нижние знаки. Они взяты из античной грамматики. Этого мало! В списке номосов «сабрунави», или, как пишет Петрици, «вракия», тоже стоит на втором месте. Это двойное совпадение могло поразить любого! Но это еще не все! Знак «псиле» соответствует третьему знаку октавы. И, естественно, в списке номосов «цвили», или, как заявляет Петрици, «псиле», точно так же занимает третье место! Таким образом, в тот миг, когда Ингороква убедился, что два нотных знака в грузинском письме представляют собою знаки просодии, объяснилось: происхождение грузинских нотных знаков нижнего тетрахорда, обозначаемых под строкой; название двух нотных знаков; соответствие между положением нотных знаков среди ступеней октавы и положением двадцати четырех номосов в трех октавной системе. А главное — была установлена глубокая связь между знаком просодии, нотой и номосом, которая обнаружила строгий порядок, систему, в которой они расположены, словно в клетках таблицы. После того, как выяснилось все это, следовало углубиться и изучение родословной остальных нотных знаков.НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ ЕВАНГЕЛИЕ
В общем-то все уже было ясно: четвертому знаку грузинской нотной системы должно соответствовать название четвертого номоса — «ойни», пятому — номоса «нойни». Но откуда происходят эти названия? Знак просодии, означающий четвертую ноту, — маленькая черта. И тут Ингороква вспомнил евангельский текст; «Доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или керайа [черта] не прейдет из закона». Отсюда родилось выражение, которое употребляет каждый из нас: «Не уступить ни на йоту». Йота — «I» — писалась так же, как единица. «Ойни»— по-гречески «один». Значит, «йота» и «ойни» — синонимы, слова-близнецы! Сходится! Второй знак в евангельском тексте носит наименование «керайа». В просодии он передается знаком, напоминающим скобку. Этот знак в грузинском нотном письме совпадает с пятой ступенью. Среди просодических знаков «керайа» и «йота» — самые маленькие. И в грузинском нотном письме они самые маленькие среди знаков верхнего и нижнего тетрахордов. Но что значит название «нойни»? Это значит: «не ойни», то есть противостоящий «ойни». А ведь в грузинской нотной графике они и находятся именно в таком отношении друг к другу: «ойни» в нижнем ряду противостоит знаку «керайа» в верхнем. Ингороква решает проверить себя. Петрици в перечислении знаков просодии называет «керайа» чертой, а «йоту», или «ойни», — нижней чертой. И вносит в рукопись начертания обоих знаков. А это как раз и есть четвертый и пятый знаки грузинской октавы! И действительно, один из них пишется выше строки, другой — ниже строки, то есть является «нижней чертой». В том, что в основу грузинских нотных знаков было положено греческое письмо, нет ничего удивительного. До нас дошло множество фактов, говорящих о широком распространении в Грузии античной эпохи наряду с грузинским письмом письма греческого. Оставалось выяснить происхождение самого нижнего знака в нижнем ряду. Но поскольку все нижние нотные знаки, как стало ясно Павле Ингороква, восходят к знакам просодии, то и этот знак надо было искать среди просодических начертаний. Так и оказалось ка деле. По-гречески этот знак носит название «ипо-диастолс». Когда в VI или VII веке переводилось сочинение греческого писателя Епифания Кипрского, грузинский переводчик, дойдя до этого знака, передал его словами «квеше-скнели», что значит «крайний снизу». А именно такое положение и занимает этот знак в грузинском нотописании! Отсюда нетрудно понять, что в VII веке между знаками просодии и нижними нотными знаками грузины не видели разницы. И опять совпадение с номосом: соответствующий этому номос, как уже сказано, носит название «главенствующий», «основной», а это определяется его ведущим положением в октаве. Эта необычайная аргументация, многократно и всесторонне подтверждающая стройность единой системы нотных знаков, гласов и номосов, вызывает в памяти знаменитую «решетку» Вентриса—замечательного ученого нашей эпохи, раскрывшего тайну крито-микенской письменности. Как известно, стройность аргументации, графически воплощенная именно в виде таблицы — «решетки», произвела наибольшее впечатление на всех следивших за открытием Вентриса.В ОДНОМ РЯДУ
Все, что открыл Ингороква и о чем я решился вам рассказать, дает достаточно ясное представление о высоком уровне музыкально-теоретических представлений и музыкального мышления в древней Грузии. Возникновение грузинского музыкального письма Павле Ингороква относит к первым двум векам нашей эры. Не так уж много дошло до нас музыкальных памятников древности столь глубокой, как новооткрытые древнегрузинские гимны. Древнегреческих памятников сохранилось очень мало, это известно. Самые ранние записи музыки европейской в основном относятся к средним векам. Наиболее ранние — репертуар римско-католической церкви: это века VII–XI. Древнейшие греко-византийские рукописи относятся к X веку. Уже из одного этого ясно, что древнегрузинская музыка VIII–X веков должна занять место в одном ряду с древнейшими музыкальными культурами мира. Это со всей очевидностью вытекает из открытия Павле Ингороква. Единственное, что оставалось невыясненным, — это реальное звучание номосов, Казалось, ни один из них до нас не дошел, казалось, что они уже раз и навсегда «растворены» в песнопениях и уже не могут быть выделены из них в «чистом виде». Но это только казалось. До тех пор, покуда не было расшифровано древнее нотное письмо, система номосов сама по себе не привлекала исследователей. Между тем в начале XX века пять номосов — «Чабанеба», «Улхине», «Чрелсадаги», «Ойни» и «Нойни» — были записаны. Их сохранил для нас знаток древнегрузинского пения Василий Карбелашвилн. В учебнике номосов Ингороква нашел указание на то, что гимн «Натели мохвед» («Ты явился, свет») поется как номос «Чрелсадаги», а первый стих песнопения «Христос воскресе» — как номос «Улхине». Эти тексты отыскались среди записей X века в сборнике Модрекили. Ингороква стал сличать расшифрованные гимны с номосами, записанными Карбелашвили… И опять получилось совпадение разительное! Это новый и весьма убедительный аргумент в пользу ученого, но… Но и без этого ясно выдающееся значение того, что открыл замечательный советский ученый в древних грузинских рукописях.ОБРАЗНЫЙ МИР ЧИКОВАНИ
В стихотворении Симона Чиковани «Гремская башня» замечательно сказано об одном из важнейших достоинств истинного поэта — умении увидеть в предмете сходство с другим и, обнаружив суть этого сходства, превратить его в поэтическое сравнение:Всему дана двойная честь
быть тем и тем: предмет бывает
тем, что он в самом деле есть,
и тем, что он напоминает.
Предвечерняя тень,
удлиняясь, лежит на земле,
Угасающий день
безвозвратно уходит в былое.
Эти строки письма
я писал не пером на столе,
А на дикой скале
заходящего солнца стрелою.
То в капанье слышится треск
Расправленных крыльев павлиньих,
То их переливчатый блеск
Мерещится в молниях синих.
К дождю обратим все мечты.
Прижмемся на улице к зданьям.
Средь давки откроем зонты,
В толпе под платанами станем.
Я сдержать налетевшего чувства не мог,
Дал сорваться словам с языка,
И, как вылитый в блюдце яичный белок,
Торопливая строчка зыбка.
А ну, поставь-ка скалы сверху скал,
В их серебре, в туманной пене,
Орлиных крыльев у виска
Послушай-ка и трубный глас оленя.
И крепостей на всех вершинах мощь
измерь-ка мастера глазами,
Все собери ты краски наших рощ,
Их в тьме времен уже сиявший пламень.
Хочу, чтоб вечно множились друзья,
Чтоб чувство дружбы бесконечно зрело.
Где рельсы и свищут, и льются, и стелют
Огни по уже пролетевшим огням,
Где конь мой Мерани ныряет в метели
В безжалостной жадности к будущим дням.
ГЕОРГИИ ЛЕОНИДЗЕ И ЕГО СТИХ
Если не стареют стихи, не стареет в нашем представлении и сам поэт. Не знаю, может быть, это истина старая, но мне она кажется новой, потому что она вошла в наше сознание через строки замечательного грузинского поэта Георгия Леонидзе, великолепно переведенные Николаем Тихоновым:И в стихи твои просится рев, грозя,—
Десять тысяч рек в ожидании.
Стих и юность — их разделить нельзя,
Их одним чеканом чеканили.
Тобой озарены мои мечты,
О Грузия! Ты вся как вдохновенье!
Ты сердца моего биенье, — ты —
Названье моего стихотворенья!
Мы прекраснейшим только то зовем,
Что созревшей силой отмечено:
Виноград стеной, иль река весной,
Или нив налив, или женщина.
Мы в Миргороде… Давнее желанье
Исполнилось. Еще детьми, за партой,
Стремились мы мечтой сюда — в те годы,
Когда впервые в сердце зазвучала
Могучей скорбью песнь «Давитиани»
И Гоголь нас пленил своей улыбкой…
Какое утро! Свежий ветерок
Играет легкой оолачной куделыо;
Высокие осины шелестят
Серебряной листвой. Хорол струится.
И слышу я, как Кацвия-пастух
Наигрывает в роще на свирели.
Вот это поле ты пахал когда-то…
Выл человек добра — так нам сказали —
И потрудился, видим мы, немало…
Выращивал ячмень, и лен, и просо,
А если не бродил в твоих кувшинах
Тот буйный, сладкий сок лозы — ну что ж!
Он хлынул током огненных стихов!
Восстал из пепла с громкой песней,
Возвысился, и горы пересек,
И встал, как брат, бок о бок с Руставели.
Спасибо, братья, вам! Вы дали кров
Несчастному скитальцу, приютили
Изгнанника, бежавшего из плена,
Измученного злой судьбой страдальца,
С босыми, изъязвленными ногами,
Всем нам родного,
Нашу плоть и кровь!
Переплетем же струны наших лир,
Сольем сердца, как братья, воедино…
Сегодня слышим отклик из былого
Мы, зодчие невиданной любви!
ПУТЕШЕСТВИЕ В ЯРОСЛАВЛЬ
В мае 1939 года Алексей Николаевич Толстой собрался на один день в Ярославль: в театре имени Волкова впервые шел его «Петр Первый». Толстой пригласил меня поехать с ним. — В машине есть одно место, — сказал он мне по телефону, — едем мы с Людмилой, Тихонов Александр Николаевич и режиссер Лещенко. Застегнись и выходи к воротам. Мы заезжаем за тобой… За все двадцать лет, что я знал Алексея Николаевича, никогда еще характер его не раскрывался для меня с такой полнотой, как тогда, в этой поездке. …Он сидел рядом с шофером, в очках, с трубкой, в берете, сосредоточенный, серьезный, даже чуть-чуть суровый: на вопросы отвечал коротко, на разговоры и смех не обращал никакого внимания. С утра он часто бывал в таком состоянии, потому что привык в эти часы работать. А работал он ежедневно. Каждый раз писал не менее двух страниц на машинке и даже в том случае, если вынужден был утром куда-то ехать, старался написать хотя бы несколько фраз, чтобы не терять ритма работы. И теперь, в машине, он что-то обдумывал молча. А дома, бывало, из кабинета его доносятся фразы — Толстой произносит их на разные лады. Он потом объяснял: — Это большая наука — завывать, гримасничать, разговаривать с призраками и бегать по кабинету. Очень важно проверять написанное на слух… Стыдного тут ничего нет — домашние скоро привыкают… Когда он творил, его трудно было отвлечь. То, что в данную минуту рождалось, было для него самым важным. Oн говорил, что, когда садится писать, — чувствует: от этого зависит жизнь или смерть. И объяснял, что без такого чувства нельзя быть художником. Но вот мы проехали Загорск, пошли места новые, незнакомые, — и Толстой словно преобразился. Поминутно выходил из машины и с огромной любознательностью, с каким-то детским удивлением, с мудрым вниманием, мигая, неторопливо и сосредоточенно рассматривал (именно рассматривал!) расстилавшуюся по обе стороны дороги переяславскую землю — каждую избу с коньком, колхозный клуб, новое здание почты, старую колокольню, кривую березу на обочине, сверкающие после дождя лужи и безбрежную даль озера… То восхищенно хохотнет, то замечтается или пожмет в удивлении плечами. Он впитывал в себя явления природы сквозь глаза, уши, сквозь кожу вливалась в него эта окружавшая жизнь, этот светло-зеленый мир. — Перестаньте трещать, — говорил он, сердито оборачиваясь к нам. — Поглядите, какая красота удивительная… Непонятно, почему мы сюда не ездим никогда? И живем под Москвой, когда жить нужно только здесь. Я лично переезжаю сюда, покупаю два сруба простых, и можете ездить ко мне в гости… — Ты на спектакль опоздаешь. — Я лично не опоздаю, потому что не собираюсь отсюда уезжать. Тем не менее, через минуту мы едем. — Стой! Секунду! — Алексей Николаевич распахивает дверцу машины и распрямляется, большой, крупный, дородный. — Красивее этого места я в жизни ничего не видел. Можете ехать без меня… Вы знаете — он говорил это в шутку, а чувствовал всерьез. С каждым поворотом дороги моста казались ему все лучше и краше. Он жалел, что не жил здесь никогда. А через два года, в июне 1941-го, прочел я в «Правде» статью Толстого «Что мы защищаем» и вспомнил нашу поездку и эти частые остановки на ярославской дороге. «Это — моя родина, моя родная земля, мое отечество — и в жизни нет горячее, глубже и священнее чувства, чем любовь к тебе…» Озеро Перо на ярославской дороге. Подымающиеся из-за него строения и колокольни Ростова Великого напоминают Толстому очертания «острова Буяна в царстве славного Салтана», и он с увлечением говорит о пушкинских сказках, о Пушкине, о стихии русской народной речи. Проезжаем древний русский город Ростов — он рассказывает о Петре, издавшем указ перелить на пушки колокола. И колокола гудят и поют в рассказе его, и кажется — слышишь запах селитры и видишь пороховой дым, поднимающийся клубами, как на старинных картинках. Изобразительная сила Толстого огромна. Он заставляет вас физически видеть читаемое: толщу древней кремлевской башни, рыжебородого солдата в серой папахе, сдирающего кожицу с куска колбасы, несущиеся в бой эскадроны — гривы, согнутые спины, сверкающие клинки; вы слышите в его описаниях шелковый плеск волны, рассеченной носом моторной лодки, чуете вкус ледяной воды в ковшике, запах ночного костра, зябко ежитесь, окутанные молочным туманом. И все это у него дано в развитии, в движении. Он считал, что предмет, о котором пишешь, нужно непременно видеть в движении, придавал большое значение жесту, говорил: — Пока не вижу жеста — не слышу слова. Способность видеть воображаемое он развил в себе до такой яркости, что иногда путал бывшее и выдуманное. Он даже писал об этом. Записными книжками он почти никогда не пользовался. — Лучше, — считал он, — участвовать в жизни, чем записывать ее в книжку. Он воплощался в своих героев, умел страдать и расти вместе с ними. Театральные режиссеры говорят, что роли в пьесах Толстого написаны так, словно он прежде сам сыграл каждую, проверив ее сценические свойства и форму. Делился мыслями о работе над историческими романами, — говорил об огромном количестве материала, который нужно охватить, систематизировать, выжать из него все ценное и главное, а потом «отвлечься от него, превратить его в память». Гоголь в статье о Пушкине пишет, что в нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, с какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Если это определение можно относить к другим художникам слова, я отнесу его к Алексею Толстому. От Ивана Грозного и царя Петра до майора Дремова в рассказе «Русский характер»… Целую галерею русских характеров создал Толстой. Он отразил самые возвышенные свойства русского ума и души. А русский язык!.. Он любил его вдохновенно и знал, как может знать только народ и только народный писатель. Казалось, ему ведомы все оттенки всех ста тысяч слов, из которых состоит русский язык. Потому-то он мог взяться за редактирование записей русских народных сказок. Он отцеживал случайное, сводил в один текст лучшее, что было у разных сказителей, собирал народную мудрость в один вариант. А потом поступал с текстами сказок, как композиторы русские с народными песнями: пошлифует поверхность волшебного стекла, и оно становится только прозрачнее. Языком чистым, сильным, простым, образным, гибким говорил и писал Толстой о языке русском. Как часто обращается он в статьях к языку советской литературы, к истории народа, воплощенной в истории языка. Вспоминаю одно место из его доклада на Первом съезде писателей: «Грохот пушек и скорострельных митральез Пугачева, отлитых уральскими рабочими, слышен по всей Европе. Немного позже им отвечают пушки Конвента и удары гильотины… Грозы революции перекатываются в XIX век. Больше немыслимо жить, мечтая об аркадских пастушках и золотом веке. Молодой Пушкин черпает золотым ковшом народную речь, еще не остывшую от пугачевского пожара». Как хорошо! В этой поэтической фразе какие масштабы у Пушкина богатырские! Как в сказке, черпает он золотым ковшом, и речь народная тоже отливает золотом, как раскаленные угли. Каждое слово здесь вызывает зрительные представления, усиливающие и поддерживающие свойства предыдущего слова. И пламя есть в этой фразе — пламя революции, и жар творчества, и молодость Пушкина, и чистота пушкинской речи, и золотой ковш этот, как образ пушкинской поэзии, как синоним ее народности, емкости, великого совершенства ее формы. Толстой поддерживал Горького в его борьбе за чистоту языка советской литературы, выступал с жаркими полемическими статьями. Олицетворением совершенства русской речи был для Толстого Пушкин. Да, в нем самом есть многое, идущее от пушкинской традиции, от классической русской литературы. У него был большой масштаб, и ощущение общего дела литературы, и стремление поработать во всех жанрах. И при этом он был необычайно профессиональным писателем. Он сочинял романы, повести, рассказы, сказки, драмы, комедии, киносценарии, оперные либретто, писал статьи о литературе, театре, кино, об архитектуре и музыке, публицистические памфлеты, замечательные патриотические статьи, редактировал сочинения других. А в молодости идеал стихи, выступал с вечерами художественного чтения, исполнял роли в собственных пьесах. Им созданы замечательный исторический роман и драматические произведения об Иване Грозном и о Петре, он изобразил уходящее российское дворянство, воспел Великую Октябрьскую революцию, создал удивительную эпопею гражданской войны «Хождение по мукам», рассказы о героях Великой Отечественной войны. Стремясь заглянуть в будущее, он сочинил фантастический роман «Гиперболоид инженера Гарина», он описывал жизнь советских людей и капиталистический Запад, его творческое воображение, словно ему тесно показалось на земном шаре, унесло в романе «Аэлита» межпланетный корабль инженера Лося на Марс… Прошлое. Настоящее. Будущее. Россия. Европа. Космическое пространство… Казалось, нет больших тем, неинтересных для этого большого писателя. И во всех произведениях он оставался оптимистом: такая у него была любовь к жизни, к людям, к бытию. Как подлинный художник, ой обладал способностью видеть то, чего никто до него но замечал, слышать то, чего никто не услышал. Он умел видеть борьбу нового с отживающим, косным, и с особенной силой показал это в произведениях, где обращался к материалу русской истории. Он сумел запечатлеть русское общество не в моментальных изображениях, а показать жизнь во времени, в движении, в развитии. Алексей Толстой принадлежал к старшему поколению советских писателей. Он вступил в литературу в то время, когда реакционеры и ренегаты всех мастей, напуганные революцией 1905 года, выступали против русского освободительного движения, когда в литературных салонах проповедовались эстетские теории, звучала заумная речь. Чутье большого художника-реалиста уберегло Толстого от влияния буржуазного декаданса. Он остался верен традициям классической русской литературы. Круг его чтения в детстве и юности — Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, Достоевский, Некрасов, Тургенев, Щедрин, Чехов. Шестнадцати лет Алексей Толстой прочел Горького и навсегда запомнил первое впечатление — «поэзию простора свободы, силы и радости жизни», почувствовал, что горьковские босяки были «передовыми зачинщиками нового века». Первую известность Толстому принесла в 1910 году книга «Заволжье» — сатира на вырождающееся дворянство, книга презрительная, полная тонкого и веселого юмора. Дворяне уже сошли с исторической арены, Толстой дописывает последнюю страницу их родословной. Вспомним картину предреволюционного Петрограда в романе «Сестры», начатом в 1919 году. Сразу, с первых страниц, понятно, сколь чужды были Толстому российская буржуазия, эстетские салоны, модернисты, религиозно-метафизические споры… Повесть «Ибикус» — замечательная сатира на белогвардейщину, памфлет на мещанство, олицетворенное в образе Семена Невзорова, он же Семилапид Навзораки, он же граф Симон де Незор. Этот трактирный завсегдатай, мещанин-пигмей, уголовник возмечтал о мировом господстве, о славе Наполеона. Ему, ночующему на грязных тротуарах Константинополя, мерещится, что он открывает богатый ресторан с отдельными кабинетами, женится на миллионерше. Он — рычаг европейской политики, уже чудится ему, что он выгоняет из Европы всех русских, искореняет революционеров, «напускает террор на низшие классы», вешает за одно слово «революция», объявляет себя императором… И что же? — мечты его начинают сбываться… «Честность, стоящая за моим писательским креслом, — заканчивает свою повесть Толстой, — останавливает разбежавшуюся руку: „Товарищ, здесь ты начинаешь врать, остановись, — поживем — увидим…“». Писатель поставил точку. Это было в 1924 году, за девять лет до того, как запылал подожженный германский рейхстаг и Адольф Гитлер, он же Адольф Шикльгрубер, собрался осуществить бредовую мечту, родившуюся за столиком баварской пивной, и завопил о завоевании мирового господства. Надо отдать справедливость Алексею Толстому: ненависть к мещанству натолкнула его на широкое обобщение. Старый мир органически был чужд Алексею Толстому. Тем не менее путь его в советскую литературу был не простым. «…На „Петра Первого“, — писал он в 1933 году, — я нацеливался давно, еще с начала Февральской революции. Я видел все пятна на его камзоле, но Петр все же торчал загадкой в историческом тумане… Работа над Петром, прежде всего, — вхождение в историю через современность, воспринимаемую марксистски… Октябрьская революция как художнику дала мне все». Это был размышляющий, умный художник, понимавший высокие цели советской литературы. Прочтите статьи, составляющие 13-й и 14-й тома Полного собрания его сочинений. Еще в 1920-х годах он ратует за литературу «монументального реализма», за «героический роман», за объединение литературных сил для осознания общих задач. В своих статьях того времени он требует от писателей знания жизни. «С чужих слов новую жизнь писать нельзя, — утверждает он. — Путь художника — быть соучастником новой жизни». 1930-е годы. Он утверждает, что художник должен стать теперь историком и мыслителем, и если прежде художник говорил: «Я мыслю — значит, я отрицаю», то ныне он говорит: «Я мыслю — значит, я строю жизнь». Толстой боролся за высокий художественный критерий в литературе. Произведения, написанные наскоро, кое-как, ради быстрого отклика на важные темы, приводили его в негодование. «Художник, — говорил он, — должен понимать современность, находя художественные образы». «Выдавать исскусство за искусство — все равно, что преподносить вместо живой розы цветок из крашеных стружек». Он уважал читателя. Читатель для него был составной частью искусства, зритель, воспринимающий спектакль, — таким же творцом его, как автор и как актер. Пять минут скуки на сцепе или пятьдесят страниц вязкой скуки в романе Толстой считал преступлением почти уголовным. Он призывал к простоте и величию искусства, писал, что русское искусство должно быть ясно и прозрачно, как стихи Пушкина. Дорога Москва — Ярославль оказалась неважной — колдобины на каждом шагу. Стадо ясно, что к началу спектакля мы опоздали. Ну, не такая беда. Будем смотреть со второго акта. Но вот уже скоро должен начаться третий, а до Ярославля еще больше часа. Очевидно, Толстому придется выйти на сцену и самому объяснить публике причину задержки. И вдруг крики: — Стой, стой! Вы Толстого не обогнали дорогой? Алексей Николаевич даже опешил: — Какого Толстого? Это я Толстой! Кто вы такие? — Алексей Николаевич, милый, скорее, ура! Заждались! Спектакль не начинаем, ждем вас… Цветы, поцелуи, объятия. — Какое событие для Ярославля — спектакль и ваш приезд! Публика в театре с восьми. Мы предупредили, что начнем с опозданием… Машины понеслись, и вот уже въезжаем на площадь. Театр. Густая толпа. Толстой распахивает дверцу — аплодисменты, рукопожатия, фотографы. «Добро пожаловать, Алексей Николаевич!»; «Город ждет с нетерпением»; «Мы отмечаем в газете… интерес к спектаклю огромный»; «Алексей Николаевич, может быть, на минуту в гостиницу?». — Никаких гостиниц, — заявляет Толстой. — Я взволнован приемом, очарован замечательным городом. Мы на родине русского театра. С нетерпением ожидаю спектакля, который будут оценивать земляки великого Волкова. Он прошел через вестибюль и партер, поднялся на авансцену, произнес несколько приветственных слов. Шумные аплодисменты. Толстой сел в партер, пошел занавес. Спектакль начался в половине одиннадцатого. После каждого действия вызывают, в антрактах Толстой, окруженный актерами, хвалит, делает отдельные указания, разъясняет, собирается вносить в текст пьесы какие-то изменения. А это, заметьте, четвертый сценический вариант «Петра Первого».
Потом ночь на берегу Волги, за городом, рассвет, пароходы, плоты на реке, радушный прием — тут партийные работники, журналисты, актеры. Толстой рассказывает о переяславском флоте Петра, о колхозных постройках, о том, что увидел, покуда ехал сюда. Слушаю я и дивлюсь: да почему же из нас-то никто не увидел всего этого с такою предельною точностью, не может рассказать так сочно и кратко? То он шутит, — заставляет помирать со смеху, то снова говорит о серьезном, выспрашивает о старинных документах, о состоянии районных библиотек, о литературных кружках, о плане областного издательства, о породах скота. — Александр Николаевич Тихонов-Серебров — вон он сидит и видит меня во сне — мог бы заняться ярославскими литературными кружками. От вас вышли высокоодаренные люди. Я уж не говорю о Некрасове. Но абсолютно талантливый человек — Трефолев. У вас, безусловно, есть замечательные старинные документы. «Слово о полку Игореве» было обнаружено Мусиным-Пушкиным у вас. Надо организовать поиски древних списков! Надо ехать сюда — я должен сказать, что редко видел места более красивые, чем дорога на Ростов и на Ярославль. Иностранцам не снилось такое! Вы — счастливые люди!.. Ваше здоровье!.. Потом вдруг начал замышлять колхозную симфонию, которую напишут Прокофьев и Шостакович «для самодеятельных объединенных оркестров Ярославской области». Исполнить ее надо будет на берегу озера Неро, ударив в финале в колокола, «которые у вас, товарищи ярославцы, болтаются зря! Между тем звон этих колоколов описан в литературе. Он потрясал всех, кто только слышал это гениальное звучание!» И вот уже утро. — Вам отдохнуть надо, Алексей Николаевич! — Это я сделаю позже. На девять часов я назначил в театре беседу о вчерашнем спектакле. И через двадцать минут, выбритый, свежий, садится в машину. Поехал делиться с актерами литературным и театральным опытом, мыслями о государственной деятельности Петра, о его характере, о эпохе… Рассказ «День Петра» написан в 1916 году. Над романом «Петр Первый» Толстой трудился до последнего вздоха. Без малого тридцать лет разделяют начало работы над темой и, может быть, самые совершенные главы романа. Не многим известно, что все свои дореволюционные повести и рассказы Толстой переписал заново в 1920-х годах. «Хромого барина», «Чудаков» переписывал три раза. — Брошу переделывать, тогда дело пойдет под гору, но покуда вижу ошибки, значит, еще расту, — говорил он. — Когда я не нахожу в своей старой книге, что бы можно было почиркать, мне кажется, что я остановился в развитии. Он всегда находился в творческом состоянии, в горении, — если не писал, то рассказывал; не рассказывал — слушал, поглощенный интересом к собеседнику и к рассказу его. И всегда должен был видеть то, о чем ему говорят: увидев мысленным взором, радовался — лицо освещалось нетерпеливым любопытством и наивной улыбкой в ожидании дальнейшего. Если рассказчик излагает свои мысли туманно, неточно, Толстой выспрашивает, уточняет, покуда не представит себе все в деталях. Бывало, с помощью наводящих вопросов восстановит весь эпизод и тут же, при всех, за столом, перескажет его в лицах да еще с комментариями. И все поражаются. И рассказчик сияет: — Точно, Алексей Николаевич. Именно так все и было. Рассказы, которые у Толстого рождались в беседе, иной раз не уступали написанным. Он излагал их неторопливо, обдумывая фразы, но зато это было рассказано «начисто» — слова лишнего нет. Другого такого рассказчика я только один раз еще слышал — Алексея Максимовича Горького… А он как слушал Толстого! Зорко, внимательно, с удовольствием, поведет головой, улыбнется в усы: — Удивительно интересно рассказывает. Итак, мы еще в Ярославле, а вечером этого дня премьера другой пьесы Толстого — «Путь к победе» — в Вахтанговском театре в Москве. Чтобы попасть на спектакль, надо ехать сейчас же. — Уехать, не осмотрев Ярославля? — Толстой слышать не хочет об этом. — Где тут церковь Ильи Пророка? — спрашивает он. Едем к Илье Пророку. Рассматриваем старинные фрески. Алексей Николаевич делает тонкие замечания, восторгается шумно. Потом просит показать ему музей краеведения. Идем через площадь в музей. За Толстым густая толпа. Выходя из музея, он минут десять вписывает свои впечатления в книгу пожеланий и отзывов. Это еще не все: ему бы хотелось повидать племянниц поэта И. А. Некрасова. Едем в Карабиху — восемь километров от города. И когда Толстой говорит о Некрасове, думаешь: откуда он все это знает? Наконец мы снова в пути. Мысль успеть на спектакль в Москву Толстой предлагает оставить. Вместо этого собирается осмотреть хорошенько Ростов, подняться на колокольню, попробовать, как звучит самый большой колокол под названием «Баран», весом «в 400 пуд»: для нового издания «Петра» нужен точный эпитет. Выходим из машины — толпа: «Когда выйдет последняя часть „Хождения по мукам“?»; «Приезжайте к нам выступать»; «„Петра“ еще не закончили?». Целая конференция.А. Н. Толстой среди актеров Ярославского театра имени Ф. Г. Волкова

— Замечательно смеются эти ребята и эти девчонки белоголовые, — говорит с удовольствием Толстой, когда мы покидаем Ростов. — Зубы крепкие, из глаз так и прыщет веселье… Понимают все с полуслова. Они еще покажут себя!.. Ночь. У машины летит задний мост. Нас заводят в военный городок, обещают к утру починить. Мы сидим зеваем, боремся с тяжелой дремотой, а Толстой беседует с летчиками, расспрашивает, как происходит воздушный бой, повторяет движения рук подполковника, «отдаст ручку от себя». — А если я сделаю так? — Спикируете, Алексей Николаевич. — А как сделать, чтобы выровнять у земли? — Разрешите набросать схему… — Послушайте, у вас нет машины? — спрашивает вдруг Толстой, — Отсюда до Переяславского озера несколько километров. Я бы хотел посмотреть бот Петра. — Там света нет, не увидите. — Руками пощупаю. Кто едет со мной? Еще совершенно темно, но озеро поблескивает, как ртуть, вбирает свет чуть побелевшего неба. «Эмка» остановилась, Толстой открывает ворота сарая, где стоит бот, и оттуда доносится его голос: — Ни черта но видать! Жуткая темнота… но бот здоровенный… Это мореный дуб. Зажгите-ка фары… Замечательная посудина! Рассвело. Заливаются соловьи. Алексей Николаевич называет колена соловьиного свиста: «Бульканье, клыканье, дробь, раскат, вот юлиная стукотня, а это называется лешева дудка…» Свежий, бодрый, хотя спал в последний раз двое суток назад. …Когда мы уезжали из лагеря, высыпали гурьбой солдаты, окружили Толстого. Так он мне и вспоминается всегда на людях, перед лицом читателей его книг, замечательных книг, достойных стоять в ряду лучших творений русской литературы.Встреча А. Н. Толстого в Ярославле
ПОЭЗИЯ ДОВЖЕНКО
В конце 1956 года в хмурый и короткий зимний день мы присутствовали на погребении художника масштаба Бетховена. Может быть, Моцарта. Это и мы чувствуем. Наверное, так будут считать люди и в XXI или XXII столетии. Ясно: мы лишились одного из творцов, по трудам которых будут слышать наше время потомки. Довженко ушел, не сняв ленту, в которой предстал бы по-прежнему молодым и по-прежнему смелым, по умудренным тем вниманием к жизни, которому научили его наша потрясающая эпоха и собственные его картины. С чувством глубокой грусти думаем мы о его других, несовершившихся, замыслах. А он говорил: «Хотя и повечерел мой день, я верю, что две лучшие мои картины где-то еще впереди и я могу еще приносить радость народу». Горько нам, что не появится он среди нас — скромный, красивый, мужественный, мудрый, тихий и чистый. Но эту скорбь умеряет и украшает восторг перед его творениями, его великое художественное богатство. И что бы ни прибавил Довженко к ранее созданному — никто, и даже он сам, уже не сдвинул бы его с того места в истории советского и мирового киноискусства, которое принадлежит ему по праву. Пройдут годы и годы, а яблоки по-прежнему будут падать с беззвучным стуком на землю в «Земле», и, торопливо тарахтя в немой картине, будет появляться на соло первый советский трактор, и вороная туча будет заходить на ясное небо, и проливаться будут дожди; и нас не станет, а картины его, статьи его, страсть и мысль его, всегда мудрая, философски значительная, его поэтическая сила будут по-прежнему жить. Путь его богат и прекрасен. Прекрасно даже не завершенное им, ибо мы знаем мастера и по намеку угадываем, какие готовил он нам откровения. После смерти его я пересмотрел все ленты Довженко, иные помногу раз. Прочел все его сценарии, не осуществленные в кино, и хотел бы немного сказать о некоторых чертах его стиля, его поэзии. Прежде всего — Довженко поразительно лаконичен. Я говорю это несмотря на то, что «Щорс» — очень длинная лента. Объясняется это тем, что в каждую его картину входит содержание многих картин. Темы его широки. Размаха требовала концепция, но выражалась она поэтически кратко. Довженко призывал к лаконизму Пушкина и Маяковского. Попробуем понять, чем родственно было ему их лаконическое и ёмкое слово. Вспомним первые кадры «Земли». Идет волна по пшенице. Сколько раз за время, отделяющее нас от года создания картины, показывали нам пшеницу, снятую с разных точек. Между тем образ этот у Довженко не потускнел, не потерял новизны. Это потому, что кадр снят не для правдоподобия и не для красоты только. Это — метафора. Это — «море пшеницы». Сколько ни будут повторять заключительные кадры «Земли» — стекают капли дождя с плодов, — не коснется это Довженко, не погасит его открытия. Потому что у него это не натюрморт, а метафора: это — «потоки слез», это — слезы, смывающие остатки скорби и печали с людей. Дождь здесь не просто дождь — он снят для поэтического и философского осмысления картины. Если каждое произведение следует рассматривать в целом, а не по отдельным частям, то уж лентыДовженко в особенности. По для этого надо проследить его образную систему, особенности его простого и богатого языка (я говорю не о словесном искусстве, о нем-особо!). Надо усмотреть взаимосвязь, — потому что взятый в отдельности эпизод не просто теряет значение: он начинает означать другое.
Есть в «Земле» замечательное место: крестьяне смотрят в степь, по которой идет трактор: «Идет», «Стал», «Идет», «Опять стал». Крики, свистки, раздраженные возгласы колхозников. И снова: «Пошел!» И в этот момент лошади, стоящие у выгона, начинают утвердительно кивать головами. И старик, сивый, как вол, стоит на скифской могиле с двумя круторогими волами и смотрит в степь, застыв, словно изваяние прошлой эпохи.
Какая многоплановость решения! Колхозники, комсомольцы утверждают победу нового хозяйственного уклада над старым, победу над кулаками. Лошади признают победу трактора над сохой. Старик с волами видит конец седой старины и наступление новой эпохи.
Система метафор, система поэтических решений каждого кадра беспредельно раздвигает сюжет, сообщает событиям аллегорический и философский смысл, который не подразумевается и не декларируется в финале картины, а представляет собою предмет картины, ее сюжет, ее основную идею.
Распускающиеся цветы в «Мичурине» не из научно-популярного фильма. Нет! Это образное воплощение мечты Мичурина, торжество его жизни, его победа.
Крушение поезда в «Арсенале» завершает упавшая на крышу вагона гармошка. Скатывается вниз, изгибается, съежилась. Это — опять метафора. Это — последний вздох. Гибель людей показана через стон гармони.
Словесное выражение Довженко переводит на язык кино. «Арсенал». Железнодорожное движение остановлено. По платформе бежит человек с чемоданом. Повернул, побежал назад и исчез: «растаял на глазах». Словесная метафора превращена в кинематографический каламбур.
На этом же построена финальная сцена «Арсенала». Три залпа дают гайдамаки но Тимошу — он стоит. Выражение: «его пули не берут» облечено здесь в зримую метафору, полную глубочайшего политического и философского смысла: «Рабочий класс, взявшийся за оружие, не убьешь, его дело бессмертно».
Само название картины «Арсенал» аллегорично — это не только киевский Арсенал, но арсенал революции, кующий победу.
Аллегорично название и другой ленты — «Иван». Имя одного человека, ставшее нарицательным в дурном смысле, заново переосмыслено Довженко: «Вот на что способны Иваны».
Контрастные чередования в лентах Довженко строятся по принципам поэтической антитезы. Скажем, Лермонтов говорит: «И царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь горит в крови». Холод противопоставлен огню. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ». Рабы противопоставлены господам.
Обратимся к той же «Земле».
Улыбается умирающий дед в первом куске. Проливают слезы кулаки во втором. Умер человек, и в благоговейной тишине стоят окружающие его близкие люди. Громы раздирают тишину, ревут бабы, воют собаки, мечутся кони в конюшнях — у кулаков отбирают имущество.
И опять прием дорастает до аллегории. Кадры «Арсенала»: замертво упала на землю мать инвалида — царь пишет «убил ворону». Подписывается: «Ники». И ставит точку. Поставил точку не только в дневнике. Поставил точку в конце жизни простой крестьянки.
И замечательнейшее применение этого чередования изобразительных антитез-похороны Василя в «Земле». Несут комсомольца в гробу. Плоды и цветы касаются его чистого лица. Его мать рожает. Мечется от страха его убийца. Мечется от горя его невеста. Молится поп в церкви, призывая громы на головы богоотступников. Поют толпы народные песни про новую жизнь. Это шеститактное чередование эпизодов по смысловой ёмкости принадлежит к самым высшим достижениям кино.
Критика этой картины в свое время была направлена против некоторых кусков, воспринятых изолированно. Между тем пафос картины, ее философский смысл в том, что новое опровергает и побеждает старое во всем. И новое торжествует. Показана, скажем, наивная вера дидов в загробную жизнь. И дид уходит с этой верой на тот свет. Если судить об этом эпизоде вне связи с общим, покажется, что Довженко опоэтизировал эту наивную веру. На самом же деле наивной вере дида противопоставлен атеизм сына и внуков.
В начале картины подчеркнута обыкновенность смерти, извечный круговорот событий. Одно нарождается, другое умирает. Показана не социальная, а биологическая основа жизни. Но, во-первых, марксист видит жизнь во всей совокупности ее явлений. Одно умирает, другое нарождается. Но, кроме того, обыкновенность смерти старого человека подчеркивает необыкновенность дел, совершающихся в старом украинском селе. Каждый раз уход старого знаменует приход нового.
Дед, прозрачный от старости и доброты, собравшийся в последнее свое чумакование, похож на одного из богов, висящих в его хате. «…белела его святая борода», — пишет о нем Довженко. Друг его, дед Григорий, похож на старинного воина. И у него грозные прокуренные усы. Это их эстетика. Их веками не менявшаяся мода. Но за ними стоит их труд, их жизнь. Это чумаки, перевозившие на своих волах книги из Москвы в Харьковский университет в продолжение трети века.
Им противопоставлен Василь. У него дедова улыбка. Но он, Василь, заключает в себе потенциальные возможности всей молодежи советской. «Укажите ему дорогу, — писал Александр Петрович, — дайте науку, дайте технику и тогда посылайте куда угодно: в инженеры, в капитаны, в дипломаты, в артисты…»
Василь олицетворяет новый мир, он призван осуществить новые отношения, возникшие из революционного порядка. Он перепахивает межу кулака. Перепахивает межу своего отца. Он — тракторист-революционер на полях Украины. Как Прометей принес огонь людям, так он привел трактор. Он переосмыслил века жизни. Он мужествен, скромен, целомудрен, красив. Он чем-то похож на самого Александра Петровича, который одарил его высокой душой и талантом.
Василь показан на тракторе и в танце. В деловом разговоре. В объяснении с любимой. У изголовья умершего деда. И, наконец, в гробу. И всегда он прекрасен. Помните, как он танцует? Пыльная дорога освещена луной. Темные кони пасутся. И вот он идет по дороге один среди звезд. И начинает танцевать потихоньку. Он не танцует — он творит танец. В этом танце выражена радость его трудовой победы, радость разделенной любви, радость бытия. Танец раскрывает в картине душевные движения. До этого ранга танец поднимался только в балете. Он протанцевал целых три улицы. Это танец не повторяемый, а рождающийся впервые. Танец в его изначальной сущности. Это воплощенная в движении душа парода. Закинув руку на затылок, взявшись другой за бок, он пляшет, и долгий пыльный след клубится за ним в переулке. И вдруг он падает. В немой картине прозвучал выстрел. Это потому, что всхрапнул и поднял голову пасшийся поблизости конь, И что-то пробежало, согнувшись.
Вы знаете — Василя убил Хома Белоконь. Это вытекает из логики действия, из характера Хомы — высоченного парня в тугом картузе старинного фасона, с мутным прищуренным глазом, с шелухой семечек на мокрой губе. Но Довженко расширяет картину. Убили кулаки. И отец Василя, Опанас Трубенко, кричит:
— Гей, Иваны, Степаны, Грыпьки! Вы моего Василя убили???
И кулачество отпирается. Это не только столкновение одного середняка с кулаком и не только событие, происшедшее в одном украинском селе. Это — столкновение класса с классом. И Довженко находит выразительнейшие средства для обобщения. Он — великий мастер обобщений.
Отец Василя, Опанас, — характер из высокой трагедии, данный в развитии. В начале картины это крестьянин, который не принимает участия в коллективизации, но и не восстает против нее. Он жует ломоть хлеба, и по тому, как он бережно подбирает крошки на бороде и отправляет их в рот, мы видим, чего стоит ему этот хлеб. Поверив в новое, он спокойно следит за тем, как трактор перепахал межу. А когда убивают сына, он преображается. Он становится грозной силой этого нового. Он отвергает старое: раз Василь погиб за новую жизнь, то хороните его по-новому. И пусть «хлопцы и дивчата спивают новые песни про нашу новую жизнь».
Довженко сумел показать процесс внутреннего роста человека, глубокую душевную работу. И сделано это очень простыми средствами. После смерти сына сидит Опанас за столом. Затемнение. Сидит в той же позе. Затемнение. И снова все та же поза застывшего, как изваяние, и напряженно думающего человека.
Несут Василя по сельской улице. И, как потоки в реку, вливаются в нее все новые и новые люди, новые и новые песни. Несут героя. Современный Гомер творит песнь современной «Илиады».
И чем проще, чем достовернее герой и человечнее, тем более верим мы в его геройскую силу. Секретаря комсомольской организации Довженко сделал рыжим, с веснушками (хотя лента, как известно, черно-белая). И Василь любил, танцевал, улыбался отцу, был и смел и прост в разговоре с врагами. Достоверность человеческого характера необходима в эпопее так же, как и в психологической драме. Вне достоверности характера нет философии, ибо философия — вывод из частных наблюдений. И если неверно наблюдение, вывод неверен или же притянут, не подтвержден и существует сам по себе, отдельно от ленты, книги, полотна.
Селькор Василь Трубенко погибает геройской смертью, утвердив новое и поправ своим подвигом смерть.
Его невеста выйдет за другого, утешится. Но это не умаляет картину. Ибо Василь бессмертен, он — образ народа, он — герой, выражающий его суть.
Образы Василя в «Земле» и Тимоша в «Арсенале» — это образы огромной обобщающей силы.
И жизнь в «Земле» показана в нескольких ракурсах. По сюжету это несколько дней лета 1929 года, когда в украинское село привели трактор и в ту же ночь кулак убил комсомольца. Но это и жизнь четырех поколений во все важные моменты ее. И жизнь человеческая вообще. И жизнь украинского села, которая вот так и текла много веков, а сейчас пошла по-другому.
Эта емкость содержания потребовала обращения к высоким категориям выразительности. И обнаженная девушка, которая мечется по хате, кидая в иконы подушками, — вряд ли даже сам автор осознавал в тот момент, когда по великой художественной необходимости творил эту сцену, — вряд ли сам он осознавал, что вступает в сферу искусства, представленную Венерой Милосской или Венерой Джорджоне. Он обратился к той выразительности, к которой прибегали художники всех времен и народов и создавали подчас творения бессмертные.
Задача, стоявшая перед Довженко, требовала от него этой смелости, ибо это был необходимый последний мазок на полотне великого художника. И он должен был положить смелый мазок. А разве улыбающееся лицо комсомольца в гробу не смело?
И рожающая в час похорон мать героя — тоже не менее смело!
И поп, призывающий кару на головы богоотступников, — тоже не менее смело!
И не менее смело было решение показать кулака, уходящего в землю! Роющего себе нору головой!
В 1930 году Довженко упрекали за то, что он показал кулака бессильным и обреченным, а кулак был в ту пору еще вполне реальной и весьма активной силой. И тем не менее, скажем мы сейчас, четыре десятилетия спустя, кулак был уже исторически обречен, и Довженко показал его таковым: он показал, что кулак может мстить, но не может поворотить историю вспять. Кулак, пытающийся зарыться в землю в его картине, — червь и одновременно покойник. И внушить уверенность в конечной победе над кулаком было так же важно в ту пору, как изображать Гитлера и его фашистских вояк в карикатурах и сатирических стихах, даже когда враг шел на Москву, когда он был еще силен и когда еще предстояли годы борьбы.
Философский и сюжетный итог в трагедии часто не совпадают. «Кармен» кончается смертью и героя и героини. И тем не менее чувство, с которым читатель закрывает книжку или уходит из оперы, оптимистично. Победа остается за свободной Кармен.
Чапаев погибает, но он живет в памяти народа, в песнях, в книге, в картине, он порождает сотни и тысячи подобных себе новых Чапаевых. Он бессмертен. И потому произведения о нем оптимистичны. Вишневский создал «Оптимистическую трагедию». И высокие образцы трагедийного оптимизма представляют собою все лучшие ленты Довженко — «Арсенал», и «Земля», и «Аэроград», и «Щорс», и документальные ленты о победах на Украине.
Поэзия Довженко оптимистична, и растет она на почве фольклора — песни и сказки.
«Арсенал». «Сеет мать, шатаясь. И от всей ее фигуры веет чем-то песенным, и сама она в поле словно зримая песня», — пишет Довженко.
Вспомним, какую роль играет песня в «Щорсе». И в «Земле», где, по словам Довженко, «поющие охватывают песнями целые века своей жизни».
Интересно, что, когда Довженко хочет в «Земле» описать, как идет Василь по ночному селу, он пишет звуками. «Все полно особых ночных, еле различимых звуков. Сквозь далекие девичьи песни, чуть еще звенящие где-то в серебристом сиянии, кажется, слышно, как травы растут, огурцы…»
В «Арсенале» повествование, начавшись с кадров, документальных по своей точности, вдруг переходит в сказку:
«И говорит конь солдату, кивнув головой:
— Не туда бьешь, Иван!»
И, как в сказке Андерсена, вдруг начинает от нечестивых речей гайдамацких шевелиться и гневно сверкать очами Тарас Шевченко в своей золоченой раме.
Сказочность — фольклорность — поит образы «Звенигоры», «Арсенала», «Ивана», «Щорса». Причем все, что сделал Довженко, растет от одного ствола, все связано между собою, все имеет разумную внутреннюю необходимость, глубокое душевное обоснование. Мы можем проследить, как развиваются, как трансформируются, наполняясь новым содержанием, новой экспрессией, излюбленные образы. Сколько ни будут изучать творчество Довженко, каждый найдет новые образные параллели между «Звенигорой», «Арсеналом», «Землею», «Щорсом»… Будет каждый понимать, что от чего пошло.
Ибо все это не выдумано, а выбрано, выношено, отложилось еще давно когда-то в детском сознании Сашко Довженко, о чем мы прочли недавно в его «Зачарованной Десне».
Вот плывут, как в воспоминании, по лесной дороге всадники в «Звенигоре». А вот уже пролетает конный отряд красных партизан в «Арсенале». Кровавые бои идут под Бахмачем и под Нежином. Занесло снегом железнодорожный путь между Нежином и Киевом. А на краю села две женщины ждут не дождутся родных, «как в песне или в старинной думе».
Прощается всадник с товарищами — тоже как в песне:
«Гей вы, братья мои, товарищи боевые…
Поранил меня пулей Петлюра, и чувстую я свою геройскую смерть…»
Просит схоронить его дома… «Только поспешайте, братья. Арсенал погибает».
Гремит бой в Арсенале. По снежной равнине мчатся кони. Как это родственно Гоголю, как это одномасштабно, как это понравилось бы ему, будь он жив!
Мелькают снежные леса, степные просторы.
«— Гей вы, кони наши боевые! — кричит первый номер.
И кажется — отвечают кони:
— Чуем… чуем, хозяева наши! Летим во все наши двадцать четыре ноги!»
Распластались кони над равниной. Огонь в Арсенале. Летит красная кавалерия на подступах к Киеву.
«Прискакали с дорогой ношей:
— Получай, мать, объясняться некогда, революционная наша жизнь и смерть!
И снова мчатся вдогонку кавалерии — „На Киев!“».
«Щорс». Выходит на балкон батько Боженко. И речь его транспонирована в экспрессию коней:
«Словно подхваченные горячей бурей, взвились на дыбы командирские кони, винтами повернулись в воздухе и ринулись вдаль».
И, применяя такой гиперболизм, Довженко на этой же странице сценария поминает «грандиозную душу Гоголя».
Гипербола, вырастающая из песни и более достоверная, чем документ, лежит в самой основе его творчества.
Гениальная сцена: огибая поле пшеницы, несут умирающего Боженко. За носилками ведут вороного копя, накрытого черной буркой. Ложатся снаряды в пшеницу. Громыхают орудия. Горит хутор. Осаживают взмыленных коней всадники. Исполинские размеры этой сцены вызывают в памяти сцены из «Илиады», как вызывают их, скажем, и страницы «Войны и мира», несмотря на стилистическое несходство.
И вот просит Боженко «поховать его коло Пушкина в Житомири на бульвари и заспивать над могилою „Заповит“ Шевченко». И, когда падает он, бездыханный, на носилки, и мечутся лошади, и таращанцы запевают «Заповит», гениальный его мотив, и греющий, и ласкающий, и разрывающий душу, усиленный этой трагедийною сценой, производит впечатление просто потрясающее.
«Было ли оно так? — пишет Довженко. — Пылали ль хутора? Таковы ли были носилки, такая ли бурка на черном коне? И золотая сабля у опустевшего седла? Так ли низко были опущены головы несущих? Пли же умер киевский столяр Боженко где-нибудь в захолустном волынском госпитале, под ножом бессильного хирурга? Ушел из жизни, не приходя в сознание и не проронив, следовательно, ни одного высокого слова и даже не подумав ничего особенного перед кончиной своей необычайной жизни? Да будет так, как написано!»
Легендарность — вот что составляет основу довженковской масштабности. Потому-то и присуще его картинам такое широкое и долгое дыхание! Когда ты уже знаешь автора и написал он уже не одну книжку и не одну поставил картину, сам он, его личность, его судьба начинают составлять часть содержания его работ. Каждая деталь, каждое примененное им средство становятся особо многозначительными и важными.
А средства Довженко богаты неисчерпаемо. Он поэт в высоком и прямом смысле слова — поэт прозы, и художник, и актер, и режиссер, и мыслитель, и драматург, облекающий в сценарии свои думы, свои сюжеты. О живописности его кадров много говорено. Даже остановленные, они полны динамики и художественной законченности. Эта живописность дала поэту кино средство превратить в поэзию огород, и подсолнечники, и мак, и горшки на могильных крестах, и непышную ниву, и сивых волов, найти новые ракурсы, опоэтизировать казавшееся обыденным.
Не только живопись, но и графика, и карикатура присутствуют в его кадрах. Оскаленные зубы убитого германского солдата в «Арсенале», хохочущий до изнеможения и злобы нанюхавшийся веселящего газа солдат.
О песенности, о музыкальности Довженко я уже говорил. Могуч он был и тогда, когда кино являлось двоюродной сестрой живописи, а когда оно обрело звук и стало родной сестрою театра, перед Довженко и тут открылись новые горизонты. Ибо получило простор его емкое и поэтичное слово. Недаром сценарии его живут самостоятельной жизнью, отдельно от самих картин. И хранят в себе целые отступления, как поэмы Пушкина в стихах и поэмы Гоголя в прозе.
«Приготовьте самые чистые краски, художники, — обращается Довженко к художникам, операторам, ассистентам и осветителям „Щорса“. — Мы будем писать отшумевшую юность свою.
Пересмотрите всех артистов и приведите ко мне артистов красивых и серьезных. Я хочу ощутить в их глазах благородный ум и высокие чувства!..»
Какая это высокая проза! И сколько раз будут цитировать ее! В ней заложено образное решение картины, она кратка, точна, своеобразна, полна интонаций Довженко, в ней слышен его тихий и милый голос, его мягкое произношение, речь, обогащенная прелестью украинских оборотов и слов!
Помните его статью о Зое Космодемьянской во время войны? Она начиналась словами, какими только он мог начать ее: «Смотрите, люди!..» Никто так не сказал до него!
Как осмыслились кадры кинохроники, возвышенные его замечательным дикторским текстом! И той новой последовательностью, новой связью, которую нашел он в рассказе о битве за нашу Советскую Украину, потому что это та Украина, которую знал и любил Довженко, и каждый кадр отвечает его слезам, подтверждает его мысль, иллюстрирует его слово!
Километры пленки пересмотрел он, чтобы смонтировать эти картины. По осмысление громадным кускам давали кадры, доснятые по его заказу. Так, он обратился к Павлу Васильевичу Русанову с просьбой поехать на Украину и дождаться, когда на пепелище прилетит аист и не будет крыши, куда ему сесть. И станет вить гнездо не на крыше, а на дереве.
Если каждое произведение следует рассматривать в целом, а не по отдельным частям, то уж лентыДовженко в особенности. По для этого надо проследить его образную систему, особенности его простого и богатого языка (я говорю не о словесном искусстве, о нем-особо!). Надо усмотреть взаимосвязь, — потому что взятый в отдельности эпизод не просто теряет значение: он начинает означать другое.
Есть в «Земле» замечательное место: крестьяне смотрят в степь, по которой идет трактор: «Идет», «Стал», «Идет», «Опять стал». Крики, свистки, раздраженные возгласы колхозников. И снова: «Пошел!» И в этот момент лошади, стоящие у выгона, начинают утвердительно кивать головами. И старик, сивый, как вол, стоит на скифской могиле с двумя круторогими волами и смотрит в степь, застыв, словно изваяние прошлой эпохи.
Какая многоплановость решения! Колхозники, комсомольцы утверждают победу нового хозяйственного уклада над старым, победу над кулаками. Лошади признают победу трактора над сохой. Старик с волами видит конец седой старины и наступление новой эпохи.
Система метафор, система поэтических решений каждого кадра беспредельно раздвигает сюжет, сообщает событиям аллегорический и философский смысл, который не подразумевается и не декларируется в финале картины, а представляет собою предмет картины, ее сюжет, ее основную идею.
Распускающиеся цветы в «Мичурине» не из научно-популярного фильма. Нет! Это образное воплощение мечты Мичурина, торжество его жизни, его победа.
Крушение поезда в «Арсенале» завершает упавшая на крышу вагона гармошка. Скатывается вниз, изгибается, съежилась. Это — опять метафора. Это — последний вздох. Гибель людей показана через стон гармони.
Словесное выражение Довженко переводит на язык кино. «Арсенал». Железнодорожное движение остановлено. По платформе бежит человек с чемоданом. Повернул, побежал назад и исчез: «растаял на глазах». Словесная метафора превращена в кинематографический каламбур.
На этом же построена финальная сцена «Арсенала». Три залпа дают гайдамаки но Тимошу — он стоит. Выражение: «его пули не берут» облечено здесь в зримую метафору, полную глубочайшего политического и философского смысла: «Рабочий класс, взявшийся за оружие, не убьешь, его дело бессмертно».
Само название картины «Арсенал» аллегорично — это не только киевский Арсенал, но арсенал революции, кующий победу.
Аллегорично название и другой ленты — «Иван». Имя одного человека, ставшее нарицательным в дурном смысле, заново переосмыслено Довженко: «Вот на что способны Иваны».
Контрастные чередования в лентах Довженко строятся по принципам поэтической антитезы. Скажем, Лермонтов говорит: «И царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь горит в крови». Холод противопоставлен огню. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ». Рабы противопоставлены господам.
Обратимся к той же «Земле».
Улыбается умирающий дед в первом куске. Проливают слезы кулаки во втором. Умер человек, и в благоговейной тишине стоят окружающие его близкие люди. Громы раздирают тишину, ревут бабы, воют собаки, мечутся кони в конюшнях — у кулаков отбирают имущество.
И опять прием дорастает до аллегории. Кадры «Арсенала»: замертво упала на землю мать инвалида — царь пишет «убил ворону». Подписывается: «Ники». И ставит точку. Поставил точку не только в дневнике. Поставил точку в конце жизни простой крестьянки.
И замечательнейшее применение этого чередования изобразительных антитез-похороны Василя в «Земле». Несут комсомольца в гробу. Плоды и цветы касаются его чистого лица. Его мать рожает. Мечется от страха его убийца. Мечется от горя его невеста. Молится поп в церкви, призывая громы на головы богоотступников. Поют толпы народные песни про новую жизнь. Это шеститактное чередование эпизодов по смысловой ёмкости принадлежит к самым высшим достижениям кино.
Критика этой картины в свое время была направлена против некоторых кусков, воспринятых изолированно. Между тем пафос картины, ее философский смысл в том, что новое опровергает и побеждает старое во всем. И новое торжествует. Показана, скажем, наивная вера дидов в загробную жизнь. И дид уходит с этой верой на тот свет. Если судить об этом эпизоде вне связи с общим, покажется, что Довженко опоэтизировал эту наивную веру. На самом же деле наивной вере дида противопоставлен атеизм сына и внуков.
В начале картины подчеркнута обыкновенность смерти, извечный круговорот событий. Одно нарождается, другое умирает. Показана не социальная, а биологическая основа жизни. Но, во-первых, марксист видит жизнь во всей совокупности ее явлений. Одно умирает, другое нарождается. Но, кроме того, обыкновенность смерти старого человека подчеркивает необыкновенность дел, совершающихся в старом украинском селе. Каждый раз уход старого знаменует приход нового.
Дед, прозрачный от старости и доброты, собравшийся в последнее свое чумакование, похож на одного из богов, висящих в его хате. «…белела его святая борода», — пишет о нем Довженко. Друг его, дед Григорий, похож на старинного воина. И у него грозные прокуренные усы. Это их эстетика. Их веками не менявшаяся мода. Но за ними стоит их труд, их жизнь. Это чумаки, перевозившие на своих волах книги из Москвы в Харьковский университет в продолжение трети века.
Им противопоставлен Василь. У него дедова улыбка. Но он, Василь, заключает в себе потенциальные возможности всей молодежи советской. «Укажите ему дорогу, — писал Александр Петрович, — дайте науку, дайте технику и тогда посылайте куда угодно: в инженеры, в капитаны, в дипломаты, в артисты…»
Василь олицетворяет новый мир, он призван осуществить новые отношения, возникшие из революционного порядка. Он перепахивает межу кулака. Перепахивает межу своего отца. Он — тракторист-революционер на полях Украины. Как Прометей принес огонь людям, так он привел трактор. Он переосмыслил века жизни. Он мужествен, скромен, целомудрен, красив. Он чем-то похож на самого Александра Петровича, который одарил его высокой душой и талантом.
Василь показан на тракторе и в танце. В деловом разговоре. В объяснении с любимой. У изголовья умершего деда. И, наконец, в гробу. И всегда он прекрасен. Помните, как он танцует? Пыльная дорога освещена луной. Темные кони пасутся. И вот он идет по дороге один среди звезд. И начинает танцевать потихоньку. Он не танцует — он творит танец. В этом танце выражена радость его трудовой победы, радость разделенной любви, радость бытия. Танец раскрывает в картине душевные движения. До этого ранга танец поднимался только в балете. Он протанцевал целых три улицы. Это танец не повторяемый, а рождающийся впервые. Танец в его изначальной сущности. Это воплощенная в движении душа парода. Закинув руку на затылок, взявшись другой за бок, он пляшет, и долгий пыльный след клубится за ним в переулке. И вдруг он падает. В немой картине прозвучал выстрел. Это потому, что всхрапнул и поднял голову пасшийся поблизости конь, И что-то пробежало, согнувшись.
Вы знаете — Василя убил Хома Белоконь. Это вытекает из логики действия, из характера Хомы — высоченного парня в тугом картузе старинного фасона, с мутным прищуренным глазом, с шелухой семечек на мокрой губе. Но Довженко расширяет картину. Убили кулаки. И отец Василя, Опанас Трубенко, кричит:
— Гей, Иваны, Степаны, Грыпьки! Вы моего Василя убили???
И кулачество отпирается. Это не только столкновение одного середняка с кулаком и не только событие, происшедшее в одном украинском селе. Это — столкновение класса с классом. И Довженко находит выразительнейшие средства для обобщения. Он — великий мастер обобщений.
Отец Василя, Опанас, — характер из высокой трагедии, данный в развитии. В начале картины это крестьянин, который не принимает участия в коллективизации, но и не восстает против нее. Он жует ломоть хлеба, и по тому, как он бережно подбирает крошки на бороде и отправляет их в рот, мы видим, чего стоит ему этот хлеб. Поверив в новое, он спокойно следит за тем, как трактор перепахал межу. А когда убивают сына, он преображается. Он становится грозной силой этого нового. Он отвергает старое: раз Василь погиб за новую жизнь, то хороните его по-новому. И пусть «хлопцы и дивчата спивают новые песни про нашу новую жизнь».
Довженко сумел показать процесс внутреннего роста человека, глубокую душевную работу. И сделано это очень простыми средствами. После смерти сына сидит Опанас за столом. Затемнение. Сидит в той же позе. Затемнение. И снова все та же поза застывшего, как изваяние, и напряженно думающего человека.
Несут Василя по сельской улице. И, как потоки в реку, вливаются в нее все новые и новые люди, новые и новые песни. Несут героя. Современный Гомер творит песнь современной «Илиады».
И чем проще, чем достовернее герой и человечнее, тем более верим мы в его геройскую силу. Секретаря комсомольской организации Довженко сделал рыжим, с веснушками (хотя лента, как известно, черно-белая). И Василь любил, танцевал, улыбался отцу, был и смел и прост в разговоре с врагами. Достоверность человеческого характера необходима в эпопее так же, как и в психологической драме. Вне достоверности характера нет философии, ибо философия — вывод из частных наблюдений. И если неверно наблюдение, вывод неверен или же притянут, не подтвержден и существует сам по себе, отдельно от ленты, книги, полотна.
Селькор Василь Трубенко погибает геройской смертью, утвердив новое и поправ своим подвигом смерть.
Его невеста выйдет за другого, утешится. Но это не умаляет картину. Ибо Василь бессмертен, он — образ народа, он — герой, выражающий его суть.
Образы Василя в «Земле» и Тимоша в «Арсенале» — это образы огромной обобщающей силы.
И жизнь в «Земле» показана в нескольких ракурсах. По сюжету это несколько дней лета 1929 года, когда в украинское село привели трактор и в ту же ночь кулак убил комсомольца. Но это и жизнь четырех поколений во все важные моменты ее. И жизнь человеческая вообще. И жизнь украинского села, которая вот так и текла много веков, а сейчас пошла по-другому.
Эта емкость содержания потребовала обращения к высоким категориям выразительности. И обнаженная девушка, которая мечется по хате, кидая в иконы подушками, — вряд ли даже сам автор осознавал в тот момент, когда по великой художественной необходимости творил эту сцену, — вряд ли сам он осознавал, что вступает в сферу искусства, представленную Венерой Милосской или Венерой Джорджоне. Он обратился к той выразительности, к которой прибегали художники всех времен и народов и создавали подчас творения бессмертные.
Задача, стоявшая перед Довженко, требовала от него этой смелости, ибо это был необходимый последний мазок на полотне великого художника. И он должен был положить смелый мазок. А разве улыбающееся лицо комсомольца в гробу не смело?
И рожающая в час похорон мать героя — тоже не менее смело!
И поп, призывающий кару на головы богоотступников, — тоже не менее смело!
И не менее смело было решение показать кулака, уходящего в землю! Роющего себе нору головой!
В 1930 году Довженко упрекали за то, что он показал кулака бессильным и обреченным, а кулак был в ту пору еще вполне реальной и весьма активной силой. И тем не менее, скажем мы сейчас, четыре десятилетия спустя, кулак был уже исторически обречен, и Довженко показал его таковым: он показал, что кулак может мстить, но не может поворотить историю вспять. Кулак, пытающийся зарыться в землю в его картине, — червь и одновременно покойник. И внушить уверенность в конечной победе над кулаком было так же важно в ту пору, как изображать Гитлера и его фашистских вояк в карикатурах и сатирических стихах, даже когда враг шел на Москву, когда он был еще силен и когда еще предстояли годы борьбы.
Философский и сюжетный итог в трагедии часто не совпадают. «Кармен» кончается смертью и героя и героини. И тем не менее чувство, с которым читатель закрывает книжку или уходит из оперы, оптимистично. Победа остается за свободной Кармен.
Чапаев погибает, но он живет в памяти народа, в песнях, в книге, в картине, он порождает сотни и тысячи подобных себе новых Чапаевых. Он бессмертен. И потому произведения о нем оптимистичны. Вишневский создал «Оптимистическую трагедию». И высокие образцы трагедийного оптимизма представляют собою все лучшие ленты Довженко — «Арсенал», и «Земля», и «Аэроград», и «Щорс», и документальные ленты о победах на Украине.
Поэзия Довженко оптимистична, и растет она на почве фольклора — песни и сказки.
«Арсенал». «Сеет мать, шатаясь. И от всей ее фигуры веет чем-то песенным, и сама она в поле словно зримая песня», — пишет Довженко.
Вспомним, какую роль играет песня в «Щорсе». И в «Земле», где, по словам Довженко, «поющие охватывают песнями целые века своей жизни».
Интересно, что, когда Довженко хочет в «Земле» описать, как идет Василь по ночному селу, он пишет звуками. «Все полно особых ночных, еле различимых звуков. Сквозь далекие девичьи песни, чуть еще звенящие где-то в серебристом сиянии, кажется, слышно, как травы растут, огурцы…»
В «Арсенале» повествование, начавшись с кадров, документальных по своей точности, вдруг переходит в сказку:
«И говорит конь солдату, кивнув головой:
— Не туда бьешь, Иван!»
И, как в сказке Андерсена, вдруг начинает от нечестивых речей гайдамацких шевелиться и гневно сверкать очами Тарас Шевченко в своей золоченой раме.
Сказочность — фольклорность — поит образы «Звенигоры», «Арсенала», «Ивана», «Щорса». Причем все, что сделал Довженко, растет от одного ствола, все связано между собою, все имеет разумную внутреннюю необходимость, глубокое душевное обоснование. Мы можем проследить, как развиваются, как трансформируются, наполняясь новым содержанием, новой экспрессией, излюбленные образы. Сколько ни будут изучать творчество Довженко, каждый найдет новые образные параллели между «Звенигорой», «Арсеналом», «Землею», «Щорсом»… Будет каждый понимать, что от чего пошло.
Ибо все это не выдумано, а выбрано, выношено, отложилось еще давно когда-то в детском сознании Сашко Довженко, о чем мы прочли недавно в его «Зачарованной Десне».
Вот плывут, как в воспоминании, по лесной дороге всадники в «Звенигоре». А вот уже пролетает конный отряд красных партизан в «Арсенале». Кровавые бои идут под Бахмачем и под Нежином. Занесло снегом железнодорожный путь между Нежином и Киевом. А на краю села две женщины ждут не дождутся родных, «как в песне или в старинной думе».
Прощается всадник с товарищами — тоже как в песне:
«Гей вы, братья мои, товарищи боевые…
Поранил меня пулей Петлюра, и чувстую я свою геройскую смерть…»
Просит схоронить его дома… «Только поспешайте, братья. Арсенал погибает».
Гремит бой в Арсенале. По снежной равнине мчатся кони. Как это родственно Гоголю, как это одномасштабно, как это понравилось бы ему, будь он жив!
Мелькают снежные леса, степные просторы.
«— Гей вы, кони наши боевые! — кричит первый номер.
И кажется — отвечают кони:
— Чуем… чуем, хозяева наши! Летим во все наши двадцать четыре ноги!»
Распластались кони над равниной. Огонь в Арсенале. Летит красная кавалерия на подступах к Киеву.
«Прискакали с дорогой ношей:
— Получай, мать, объясняться некогда, революционная наша жизнь и смерть!
И снова мчатся вдогонку кавалерии — „На Киев!“».
«Щорс». Выходит на балкон батько Боженко. И речь его транспонирована в экспрессию коней:
«Словно подхваченные горячей бурей, взвились на дыбы командирские кони, винтами повернулись в воздухе и ринулись вдаль».
И, применяя такой гиперболизм, Довженко на этой же странице сценария поминает «грандиозную душу Гоголя».
Гипербола, вырастающая из песни и более достоверная, чем документ, лежит в самой основе его творчества.
Гениальная сцена: огибая поле пшеницы, несут умирающего Боженко. За носилками ведут вороного копя, накрытого черной буркой. Ложатся снаряды в пшеницу. Громыхают орудия. Горит хутор. Осаживают взмыленных коней всадники. Исполинские размеры этой сцены вызывают в памяти сцены из «Илиады», как вызывают их, скажем, и страницы «Войны и мира», несмотря на стилистическое несходство.
И вот просит Боженко «поховать его коло Пушкина в Житомири на бульвари и заспивать над могилою „Заповит“ Шевченко». И, когда падает он, бездыханный, на носилки, и мечутся лошади, и таращанцы запевают «Заповит», гениальный его мотив, и греющий, и ласкающий, и разрывающий душу, усиленный этой трагедийною сценой, производит впечатление просто потрясающее.
«Было ли оно так? — пишет Довженко. — Пылали ль хутора? Таковы ли были носилки, такая ли бурка на черном коне? И золотая сабля у опустевшего седла? Так ли низко были опущены головы несущих? Пли же умер киевский столяр Боженко где-нибудь в захолустном волынском госпитале, под ножом бессильного хирурга? Ушел из жизни, не приходя в сознание и не проронив, следовательно, ни одного высокого слова и даже не подумав ничего особенного перед кончиной своей необычайной жизни? Да будет так, как написано!»
Легендарность — вот что составляет основу довженковской масштабности. Потому-то и присуще его картинам такое широкое и долгое дыхание! Когда ты уже знаешь автора и написал он уже не одну книжку и не одну поставил картину, сам он, его личность, его судьба начинают составлять часть содержания его работ. Каждая деталь, каждое примененное им средство становятся особо многозначительными и важными.
А средства Довженко богаты неисчерпаемо. Он поэт в высоком и прямом смысле слова — поэт прозы, и художник, и актер, и режиссер, и мыслитель, и драматург, облекающий в сценарии свои думы, свои сюжеты. О живописности его кадров много говорено. Даже остановленные, они полны динамики и художественной законченности. Эта живописность дала поэту кино средство превратить в поэзию огород, и подсолнечники, и мак, и горшки на могильных крестах, и непышную ниву, и сивых волов, найти новые ракурсы, опоэтизировать казавшееся обыденным.
Не только живопись, но и графика, и карикатура присутствуют в его кадрах. Оскаленные зубы убитого германского солдата в «Арсенале», хохочущий до изнеможения и злобы нанюхавшийся веселящего газа солдат.
О песенности, о музыкальности Довженко я уже говорил. Могуч он был и тогда, когда кино являлось двоюродной сестрой живописи, а когда оно обрело звук и стало родной сестрою театра, перед Довженко и тут открылись новые горизонты. Ибо получило простор его емкое и поэтичное слово. Недаром сценарии его живут самостоятельной жизнью, отдельно от самих картин. И хранят в себе целые отступления, как поэмы Пушкина в стихах и поэмы Гоголя в прозе.
«Приготовьте самые чистые краски, художники, — обращается Довженко к художникам, операторам, ассистентам и осветителям „Щорса“. — Мы будем писать отшумевшую юность свою.
Пересмотрите всех артистов и приведите ко мне артистов красивых и серьезных. Я хочу ощутить в их глазах благородный ум и высокие чувства!..»
Какая это высокая проза! И сколько раз будут цитировать ее! В ней заложено образное решение картины, она кратка, точна, своеобразна, полна интонаций Довженко, в ней слышен его тихий и милый голос, его мягкое произношение, речь, обогащенная прелестью украинских оборотов и слов!
Помните его статью о Зое Космодемьянской во время войны? Она начиналась словами, какими только он мог начать ее: «Смотрите, люди!..» Никто так не сказал до него!
Как осмыслились кадры кинохроники, возвышенные его замечательным дикторским текстом! И той новой последовательностью, новой связью, которую нашел он в рассказе о битве за нашу Советскую Украину, потому что это та Украина, которую знал и любил Довженко, и каждый кадр отвечает его слезам, подтверждает его мысль, иллюстрирует его слово!
Километры пленки пересмотрел он, чтобы смонтировать эти картины. По осмысление громадным кускам давали кадры, доснятые по его заказу. Так, он обратился к Павлу Васильевичу Русанову с просьбой поехать на Украину и дождаться, когда на пепелище прилетит аист и не будет крыши, куда ему сесть. И станет вить гнездо не на крыше, а на дереве.

Такие кадры осмыслили и объединили снятое другими операторами в разное время, независимо друг от друга. И все же, замечательный создатель поэтических текстов, он требовал от кинематографистов почаще молчать и слушать тишину, слушать мысли героев. Он говорил об этом на Втором съезде писателей. Это было поэтическое и мудрое выступление. Он говорил о покорении космоса, и все образы в этой речи были космические. Мы не знали тогда, что он работает над сценарием «В глубинах космоса». И это объяснит его тогдашнюю речь так же, как «Зачарованная Десна» объяснила источники «Звенигоры», «Земли», «Мичурина» и многих других картин. Не так давно я опубликовал странички сохранившегося в его архиве плана «космического» сценария. Он хотел показать все, что можно показать сегодня на широком цветном экране. Хотел использовать в фильме земную хронику Великой Отечественной войны, великих битв и строек, великих собраний молодежи всего мира, разливов рек, атомных взрывов и катастроф в Японии — и все это предъявить как «земную визитную карточку» марсианам. Хотел вспомнить Циолковского. Показать рождение мальчика, смерть сына. Восторг отца и скорбь его в космосе. Хотел использовать музыку Шостаковича. Передать тишину космоса. Это может быть обычная тишина или музыкальная. Может быть тишина сна. Спящие несутся в космосе, и снятся им песни и сны Земли. Он хотел все сделать для того, чтобы в сценарии не было символики, а была новая поэзия, новая героика, «лиризм нового мировидения». Он хотел сделать фильм разумный и радостный, прославляющий человеческий гений, интересный и академикам и детям. История, современность, будущее сливаются в его творчестве. В своих картинах он глядит на современность из будущего и из сегодняшнего нашего дня — в грядущее. Как художник, отступающий от полотна, чтобы видеть, что получается, Довженко умел и любил заглядывать в будущее и творить в интересах этого будущего, имя которому — коммунизм.Эскизы А. П. Довженко к «Поэме о море» (была нарисована на доске в павильоне студии за день до смерти)
ВЛАДИМИР ЯХОНТОВ
Внешность его невольно привлекала внимание. Серые глаза, полные мысли, благородное лицо — спокойное и серьезное. Очень светлые волосы на пробор, косо ниспадающие на лоб. Безукоризненно одетый, высокий, статный, несмотря на сутулую приподнятость плеч, неторопливый, сдержанный, скупой на движения. Но в каждом жесте его была какая-то удивительная значительность — не поза, а признак необыкновенного таланта и необыкновенной судьбы. В его манерах и поведении не было ни актерской свободы, ни актерского наигрыша. И все-таки, даже не зная его, любой сказал бы, что этот задумчивый человек может быть только актером. Он улыбался — чаще уголком рта. Смеялся? Нет, хохотал! Редко. Зато громко и заразительно. Говорил немного и не спеша. Голос его… Но о голосе надо сказать особо. Самый звук его производил впечатление магическое, Юношественный и спокойный, звенящий, властительный, не похожий ни на один дотоле слышанный голос, он бывал строгим, нежным, мечтательным. Бывал суровым, насмешливым, гневным. И при этом в тембре его заключена была какая-то трепетность, которая сообщала таинственную прелесть его интонациям. Звучанию его было чуждо однообразие характерных красок или показная красивость актерского голоса. Сверкающий и словно ломкий, высокий, светлый звук его рассекал сдержанную мужественность глубоких регистров. И речь у него была необычная — свободная от интонационных штампов, от избитых, «заигранных» модуляций. Яхонтовские интонации всегда по-новому и неожиданно освещали текст — словно слой старого лака смывался и знакомые слова приобретали свежесть и новизну. Он знал прелесть медленного звучания стиха, эмоциональную силу скандированного слога, тайну ниспадающих укороченных окончаний, в совершенстве владел тем, что по аналогии с музыкой я бы назвал фразировкой. Воспроизведение на сцене характерных особенностей бытовой речи, правдоподобие повседневных интонаций, иллюстративное чтение не привлекали его. Слово интересовало Яхонтова не в житейском своем звучании, а как первоэлемент поэтической речи. Смысл слова он воспринимал в нерасторжимой связи с его звучанием, с его формой и функцией в стихотворной строфе или в закругленном периоде художественной и публицистической прозы. В каждом стихе, в каждой фразе он находил ударное слово, которому поручал главную роль, возлагал на него основную ответственность. Он ощущал силу и красоту слов, он вдумывался и вслушивался в них, произнося их неторопливо и веско. Самый темп речи Яхонтова определялся этим его вниманием к слову. Он и слушателя заставлял сосредоточенно вдумываться в смысл сказанного, приучал его мыслить вместе с собой, оценивать словесную ткань. А не только следовать — и, как часто бывает, стремительно — за развитием сюжета. Вернее сказать, чпо Яхонтов выносил на эстраду не результат своего прочтения вещи, хотя этому и предшествовал длительный период ее воплощения, — он как бы посвящал зрительный зал в самый процесс. Одни слова звучали у него подчеркнуто протяженно — так и музыке звучат половины и целые ноты; другие произносил так же отчетливо, но пробегал их, словно четверти или восьмые. Пауза значила у него столько же, сколько и слово. Читал ли он поэму Маяковского или стихотворение Пушкина, «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса или фрагменты романа Достоевского — вы ощущали ритмическую основу текста, словно в музыке, ощущали ее как организующее начало, усугубляющее силу мысли, своеобразие стиля. Основная сила, основная энергия яхонтовской речи заключалась в ее ритме — устойчивом и многообразном. Это составляло одну из важнейших особенностей его исполнения. Неритмично он читать не умел.
Это, в сущности, и позволило Яхонтову по-новому подойти к исполнению стиха и — я не боюсь слова — совершить в этой области подлинную реформу. Потребность в этой реформе ощущал уже Станиславский, объяснявший неудачу с постановкой на сцене МХАТа «маленьких трагедий» Пушкина неумением актеров читать стихи.
Попытки подвести стих под общие законы сценической речи, привычка читать стихи как психологический монолог и не могли привести к удачам. Нужно было отрешиться и от декламационной напевности, продолжавшей звучать на литературных вечерах еще в 1920-х годах, и от распространенного отношения к стихам как к зарифмованной прозе.
Яхонтов нашел ключ, и огромный успех его выступлений перед тысячными аудиториями с программами, включавшими поэмы Маяковского, «маленькие трагедии» Пушкина, «Евгения Онегина», исполнявшегося подряд два вечера, «Горе от ума» — спектакль, в котором Яхонтов играл один за всех, — уже это могло бы свидетельствовать о его в этом деле новаторской роли.
Он читал лучше поэтов и лучше актеров. И не просто «лучше», а совсем по-другому.
Поэты почти всегда сохраняют ритмическую структуру стиха, несут стихотворную строку как отлитую в форме, как бы убеждают в неделимости стихотворной строки — ценят не слово, а строчку и, стремясь к передаче целого, не заботятся о словесных деталях.
Актероз, — а тридцать лет назад, когда начинал Яхонтов, они главным образом и выступали с чтением стихов, — актеров всегда привлекала смысловая сторона стихотворного текста; особенности стиховой речи, как правило, отступали у них на второй план или становились вовсе неощутимыми.
Владимир Яхонтов объединил в споем творчестве обе тенденции. И новое звучание стиха превратилось в высокое и принципиальное явление искусства.
В понимании структуры и ритма стиха и функции слова в стихотворной строке Яхонтов многим обязан Маяковскому — его поэзии и его исполнению. Недаром он называл себя «негласным учеником» Маяковского и говорил, что голос Маяковского принадлежал к голосам, которые не только убеждают, но и воспитывают: Яхонтов не подражал интонациям Маяковского, не пытался читать «под Маяковского» — басом. Он читал его по-своему, медленнее, чем читал сам поэт, усиливая «воздушные прокладки» между словами, планируя стих на свой голос, на свой темперамент; более, чем Маяковский, «исполнял» их. Но именно эта «непохожесть», самостоятельность яхонтовского чтения превращала его в художественное событие даже для тех, кто не раз слышал самого Маяковского и не мог представить себе лучшего исполнителя его стихов и поэм.
Маяковский помог Яхонтову не стихотворную строку, а именно слово воспринять как первооснову стиха. Разбитая строка Маяковского служила ему руководителем в понимании поэтического слова. И мне кажется, что опыт работы над Маяковским сказался потом в работе Яхонтова над Пушкиным, что к пониманию пушкинского стиха Яхонтов шел от стиха Маяковского.
Это совершенное владение стихом и словом позволяло ему с поразительной остротой обнаруживать стиль и характер вещи. Ничего сказочнее ие слышал я, чем пролог из «Руслана и Людмилы» в его исполнении, ничего песеннее «Песни о Стеньке Разине». Никто не передал лучше романтический пафос горьковского «Буревестника», гражданское воодушевление пушкинской «Деревни», эпическое величие поэм Маяковского «Ленин» и «Хорошо!», сердечность разговорных интонаций в обращении к товарищу Нетте, увлекательность речи Достоевского. С необычайной чуткостью он обнаруживал и подчеркивал в прозе то, что называется «слогом» писателя, — музыкально-ритмические особенности повествования, «долготу» дыхания рассказчика, его языковые средства. И как удивительно было у Яхонтова ощущение архитектоники вещи!
Он читал пушкинского «Пророка», восторгаясь его библейской торжественностью, величавым пафосом, человеческой страстью, — он внушал слушателю этот текст, раскрывал в нем глубины второго и третьего планов, ибо пророк — поэт, а за образом поэта обобщенным возникает представление о событиях, случившихся в декабре 1825 года, и о поэзии, полной гражданских доблестей. Он открывал эту поэтическую перспективу с необычайной отчетливостью. Голос его, страстный и сдержанный, звонкий, взволнованный, трепещущий силой, нарастал постепенно, и когда доходил до слов:
Одни слова звучали у него подчеркнуто протяженно — так и музыке звучат половины и целые ноты; другие произносил так же отчетливо, но пробегал их, словно четверти или восьмые. Пауза значила у него столько же, сколько и слово. Читал ли он поэму Маяковского или стихотворение Пушкина, «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса или фрагменты романа Достоевского — вы ощущали ритмическую основу текста, словно в музыке, ощущали ее как организующее начало, усугубляющее силу мысли, своеобразие стиля. Основная сила, основная энергия яхонтовской речи заключалась в ее ритме — устойчивом и многообразном. Это составляло одну из важнейших особенностей его исполнения. Неритмично он читать не умел.
Это, в сущности, и позволило Яхонтову по-новому подойти к исполнению стиха и — я не боюсь слова — совершить в этой области подлинную реформу. Потребность в этой реформе ощущал уже Станиславский, объяснявший неудачу с постановкой на сцене МХАТа «маленьких трагедий» Пушкина неумением актеров читать стихи.
Попытки подвести стих под общие законы сценической речи, привычка читать стихи как психологический монолог и не могли привести к удачам. Нужно было отрешиться и от декламационной напевности, продолжавшей звучать на литературных вечерах еще в 1920-х годах, и от распространенного отношения к стихам как к зарифмованной прозе.
Яхонтов нашел ключ, и огромный успех его выступлений перед тысячными аудиториями с программами, включавшими поэмы Маяковского, «маленькие трагедии» Пушкина, «Евгения Онегина», исполнявшегося подряд два вечера, «Горе от ума» — спектакль, в котором Яхонтов играл один за всех, — уже это могло бы свидетельствовать о его в этом деле новаторской роли.
Он читал лучше поэтов и лучше актеров. И не просто «лучше», а совсем по-другому.
Поэты почти всегда сохраняют ритмическую структуру стиха, несут стихотворную строку как отлитую в форме, как бы убеждают в неделимости стихотворной строки — ценят не слово, а строчку и, стремясь к передаче целого, не заботятся о словесных деталях.
Актероз, — а тридцать лет назад, когда начинал Яхонтов, они главным образом и выступали с чтением стихов, — актеров всегда привлекала смысловая сторона стихотворного текста; особенности стиховой речи, как правило, отступали у них на второй план или становились вовсе неощутимыми.
Владимир Яхонтов объединил в споем творчестве обе тенденции. И новое звучание стиха превратилось в высокое и принципиальное явление искусства.
В понимании структуры и ритма стиха и функции слова в стихотворной строке Яхонтов многим обязан Маяковскому — его поэзии и его исполнению. Недаром он называл себя «негласным учеником» Маяковского и говорил, что голос Маяковского принадлежал к голосам, которые не только убеждают, но и воспитывают: Яхонтов не подражал интонациям Маяковского, не пытался читать «под Маяковского» — басом. Он читал его по-своему, медленнее, чем читал сам поэт, усиливая «воздушные прокладки» между словами, планируя стих на свой голос, на свой темперамент; более, чем Маяковский, «исполнял» их. Но именно эта «непохожесть», самостоятельность яхонтовского чтения превращала его в художественное событие даже для тех, кто не раз слышал самого Маяковского и не мог представить себе лучшего исполнителя его стихов и поэм.
Маяковский помог Яхонтову не стихотворную строку, а именно слово воспринять как первооснову стиха. Разбитая строка Маяковского служила ему руководителем в понимании поэтического слова. И мне кажется, что опыт работы над Маяковским сказался потом в работе Яхонтова над Пушкиным, что к пониманию пушкинского стиха Яхонтов шел от стиха Маяковского.
Это совершенное владение стихом и словом позволяло ему с поразительной остротой обнаруживать стиль и характер вещи. Ничего сказочнее ие слышал я, чем пролог из «Руслана и Людмилы» в его исполнении, ничего песеннее «Песни о Стеньке Разине». Никто не передал лучше романтический пафос горьковского «Буревестника», гражданское воодушевление пушкинской «Деревни», эпическое величие поэм Маяковского «Ленин» и «Хорошо!», сердечность разговорных интонаций в обращении к товарищу Нетте, увлекательность речи Достоевского. С необычайной чуткостью он обнаруживал и подчеркивал в прозе то, что называется «слогом» писателя, — музыкально-ритмические особенности повествования, «долготу» дыхания рассказчика, его языковые средства. И как удивительно было у Яхонтова ощущение архитектоники вещи!
Он читал пушкинского «Пророка», восторгаясь его библейской торжественностью, величавым пафосом, человеческой страстью, — он внушал слушателю этот текст, раскрывал в нем глубины второго и третьего планов, ибо пророк — поэт, а за образом поэта обобщенным возникает представление о событиях, случившихся в декабре 1825 года, и о поэзии, полной гражданских доблестей. Он открывал эту поэтическую перспективу с необычайной отчетливостью. Голос его, страстный и сдержанный, звонкий, взволнованный, трепещущий силой, нарастал постепенно, и когда доходил до слов:
И он к устам моим приник
И ВЫЫЫрвал грешный мой язык…—
Восстань, пророк, и виждь и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.
(Ладонь, обращенная к залу.)
Читайте!
(Приближена к глазам зала.)
Завидуйте!
(Широко ложится на грудь.)
Я
— гражданин
(Поднята вверх.)
Советского
(Держит паузу.)
Союза!
(Секунду держит звучание. Ушла.)
«1811 года в августе, числа решительно не помню, дед мой, адмирал Пущин, повез меня и брата моего двоюродного Петра, тоже Пущина, к тогдашнему министру народного просвещения графу Алексею Кирилловичу Разумовскому… Слышу: Александр Пушкин — выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, тоже несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий, или по чему другому, несознательно сближающему, только я заметил его с первого взгляда».За принадлежность к заговору декабристов Пущин был осужден по первому разряду и сослан в Нерчинские рудники, в Сибирь. Свои «Записки о Пушкине» он писал в преклонном возрасте, по возвращении из ссылки. Яхонтов не изображал его ни лицейским воспитанником, ни сосланным декабристом, ни старым, ни молодым. Он произносил воспоминания о Пушкине своим голосом. Но доха и свечи на столе напоминали, что это говорит человек, прошедший через сибирскую ссылку, много лет спустя после своей первой встречи с Пушкиным, что это не просто воспоминания одного из современников Пушкина, а что вспоминает о нем декабрист — человек высокой души и благородных стремлений. Доха и свечи позволяли Яхонтову говорить от имени Пущина. Игра и сценические предметы выводили литературные образы из области воображения на подмостки эстрады. За образом исполнителя стоял образ автора. Так во всех пушкинских программах Яхонтова возникал образ Пушкина, самый поэтичный и самый достоверный из всех сыгранных Пушкиных. И не только в тех композициях, которые Яхонтов строил как повествование о судьбе и поэзии Пушкина, но и на тех вечерах, где Яхонтов исполнял «Евгения Онегина». Таким же достоверным, умным, живым, благородным был созданный им поэтический образ Маяковского. Игра, театральное действие составляли динамическую основу вечеров Яхонтова, превращали чтение в зрелище, в спектакль. Без этого его не привлекли бы ни трагедии Пушкина, ни «Горе от ума», ему не пришло бы в голову построить спектакль из «Домика в Коломне», «Коляски» и «Казначейши» или выступить с композицией «Петербург». Словом, не родилось бы на свет искусство, которое носит имя Владимира Яхонтова. В одних работах игра становилась равноправной слову. В других к залу был обращен жест оратора, но театральный, сыгранный жест. Играл Яхонтов всегда — игра происходила из самой природы его творчества. Только через нее наиболее остро и полно он мог выразить свое отношение к исполняемой вещи. Игра заменяла ему речь, которую он мог бы сказать по поводу каждой детали, создавала угол зрения на вещь. Характер ее определялся текстом, задачей. Стихотворение Маяковского «Разговор на рейде» Яхонтов играл голосом, изображая пароходные гудки. Протяжный, низкий, влюбленный — призыв, И высокий, кокетливо-равнодушный — ответ. Разговор любовный, музыкальный, наводящий на долгие размышления. Яхонтов усиливал контрастные элементы самого стихотворного текста. Он любил контрасты во всем. Этого требовал самый принцип литературных композиций. Ведь уже чередования стиха и прозы — внезапные эмоциональные и ритмические сдвиги — создавали ощущение контраста. Но когда Яхонтов начинал сопоставлять «кадры» — въезд германского кайзера Вильгельма II в Иерусалим накануне первой мировой войны и въезд в Иерусалим Иисуса Христа или статью военного специалиста XX века с псалмами библейского царя Давида (в композиции «Война») — в действие вступали контрасты уже смысловые. Эти постоянные переходы из одного эстетического и смыслового ряда в другой, несоответствие их и одновременно постепенное накопление сходственных черт ощущались как «образный конфликт». Он разрешался в тот самый момент, когда зритель наконец связывал между собой эти далекие сравнения. На этом принципе Яхонтов строил свою чрезвычайно своеобразную «драматургию». Даже и менее контрастные сопоставления (вспомним композицию «Ленин» — переходы от первых строк стихотворения Пушкина «Осень» к народной песне, от нее — к статьям В. И. Ленина, созданным в шалаше в Разливе) заключали в себе несомненное динамическое начало. Так гармоническая неустойчивость в музыкальном произведении требует разрешения в согласном аккорде и тем самым уже заключает в себе движение. Да и вообще — столкновение и развитие у Яхонтова нескольких тем, чередование различных планов, смены темпов, ритмические перебои напоминают логику музыкального развитии, хотя сам Яхонтов никогда, вероятно, не думал при этом о музыке. Незадолго до войны он подготовил лермонтовскую программу — читал «Пророка», «Смерть Поэта», «Бородино», удивительный «Валерик», «Казначейшу», «Соседку», «Завещание», сцену из «Маскарада». Стихи Лермонтова связывал со стихами Пушкина. В этой программе было то, что так восхищало в Лермонтове Белинского: «беспощадность мысли» Лермонтова и «прозаичность выражения» при избытке мысли и чувства. Эту работу невозможно забыть. Самому же Яхонтову она не понравилась, и он перестал исполнять ее. Почему? — Я не нашел верных сцеплений между отдельными вещами, — отвечал он. — В программе нет нарастания, нет контрастов, нет «сквозного действия». Это только доказывает, что он создал свою драматургию. Однако отделить драматургию Яхонтова от исполнителя Яхонтова невозможно. Были попытки издать тексты литературных монтажей Яхонтова. Нет, самостоятельно литературного значения, отдельно от его личности, от его игры и его чтения, они не имеют. Их подлинный смысл, заложенный в глубоких подтекстах, раскрывался только в голосе Яхонтова. И ритм его речи, и способность «авторизовать» текст исполнением, умение в ряду других текстов придать художественную значительность даже языку документов — все это давало ему возможность сглаживать кричащие несоответствия стилей, подчинять единому художественному плану это разноголосое, «лоскутное» чередование текстов и, доводя их до сплава, сообщать им художественную цельность. Рассчитанные на Яхонтова, на его художественные возможности, представляющие собой как бы конспекты его выступлений, без Яхонтова они не существуют. Но на основе этой оригинальной драматургии он создал театр. Театр с обширным репертуаром. В списке драматургов стояли имена Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Л. Толстого, Блока, Есенина и множества советских прозаиков, поэтов, очеркистов. И среди них на первом месте Владимир Маяковский — «ведущий поэт всех моих программ», как говорил о нем Яхонтов. На воображаемом фронтоне театра Яхонтова были начертим имена Маяковского и Пушкина. Театр назывался «Современник», так же, как журнал, который с 1836 года издавал Пушкин. Яхонтов хотел сказать этим названием, что его театр, подобно пушкинскому «Современнику», будет откликаться на события современности, будет «слушать свое время, его смысл, содержание и идеи», будет продолжать пушкинские традиции. Театр просуществовал восемь лет (1927–1935). В театре была своя режиссура — Еликонида Ефимовна Попова, имя которой стоит на всех афишах Владимира Яхонтова, Сергей Иванович Владимирский. Не обошлось в театре без артиста просцениума, без директора, без завлита. Но главное отличие его от всех остальных театров состояло в том, что труппу его составлял лишь один актер — Владимир Николаевич Яхонтов. Яхонтов всегда подчеркивал, что он актер из театра «Современник», и придавал этому большое значение. Иные видели в этом странную игру в театр, причуду талантливого мастера, пожелавшего назвать себя театром. Дело, однако, не в названиях, а в существе. Конечно, можно было называть Владимира Яхонтова Владимиром Яхонтовым и получать на его вечерах высокое эстетическое наслаждение, не вдаваясь при этом в теоретический спор d природе его искусства. Но для того, чтобы правильно понять ее и верно определить место Яхонтова в ряду других явлений, без понятия «театр» не обойдешься. Слово это возникло не случайно и свидетельствует о том, что Яхонтов не только играл, но уже с давних пор размышлял о том, что делает. Театр «Современник» служил литературе. И уже этим решительно отличался от всех когда-либо существовавших театров. И задачи решал он такие, которые никакой другой театр решить не мог. Спектакли Яхонтова не походили на инсценировки литературных произведений. Естественность повествования, говорит он, сохраняющаяся в исполнении солиста, в инсценировке гибнет. Инсценировка обедняет художественное произведение, отсекает мысли автора, лишает вещь авторского отношения. Могут возразить, что естественность повествования сохраняется в искусстве художественного чтения, что это не исключительное право Яхонтова или его театра. Такое объяснение будет верным, но только отчасти. Нельзя игнорировать театральную природу яхонтовского искусства. Это не просто художественное чтение, а нечто более сложное. О событиях и людях можно рассказывать. Это — искусство рассказа, искусство художественного чтения. Их можно играть. Это — искусство театра. Но можно рассказывать играя. Это — особый, синтетический жанр, вклинившийся между театром и литературой. То, что делал Яхонтов, представляло собой сплав художественного чтения с театральным действием, необыкновенно музыкального исполнения слова с искусством оратора-пропагандиста. Размышляя о судьбах русского искусства, Ф. И. Шаляпин высказывал мысль, что оно пойдет по пути дальнейшего синтеза слова, интонации и жеста — то есть литературы, музыки и театра. И в связи с этим вспоминал талантливейшего русского писателя-рассказчика Ивана Федоровича Горбунова (1831–1895). Горбунов славился как замечательный исполнитель собственных рассказов и бытовых сценок; бывало, интонируя на разные лады даже одно слово, он с помощью жеста и мимики создавал галерею разнообразных характеров. Горбунов — явление замечательное, но до сих нор не изученное и не получившее должной оценки. Дело не в сходстве — Яхонтов на Горбунова совсем не похож, — дело в тенденции. И важно, что такой синтетический актер, как Шаляпин, понимавший функцию слова и театрального жеста, посредством интонации раскрывавший глубины характеров, видел в Горбунове прообраз будущего искусства и предсказал появление жанра. Яхонтов шел в искусстве не проторенной дорогой, а целиной, оставляя глубокий след. Иного пути для него не было. Это был человек, веривший в свою высокую миссию, родившийся на свет для того, чтобы читать. С самого детства его восхищала литература и томило стремление играть. Поэзия правды в спектаклях Художественного театра, искусство Станиславского покорили его — он поступил в школу Художественного театра. Потом увлекся вдохновенной работой Вахтангова. «Ученик Станиславского, отчасти Вахтангова», — говорил о себе Яхонтов. Но все же как актер он сформировался в театре Вахтанговском. Затем работал у Мейерхольда. Своей зрелостью и высокой театральной культурой он обязан Вахтангову, Станиславскому, Мейерхольду. И — само собой разумеется — Маяковскому. Трудно отделить в творчестве Яхонтова эти авторитеты один от другого, но можно сказать с полкой уверенностью, что способность проникать в ход мысли автора и в чувство, родившие слово, умение обогащать его содержанием собственного душевного опыта восходит к искусству МХАТа. Искусство играть, не сливаясь до конца с образом, сохраняя «авторские права» над ним, быть и автором и героем одновременно, шло от Вахтангова. От него же принес Яхонтов на эстраду праздничную условную театральность, любовь к обыгрыванию предмета. Переосмысление классики, скажем спектакль «Да, водевиль есть вещь!», подготовлено спектаклями Мейерхольда. Это отнюдь не значит, что на работах Яхонтова лежит печать подражания. Нисколько. Речь идет о закономерной последовательности. Независимо от того, что Яхонтов считал себя воспитанником Станиславского и отчасти Вахтангова и оставался верным их заветам, Мейерхольд не мог не оказывать воздействия на такого смелого и чуткого актера. И то, как Яхонтов трактовал Пушкина, Гоголя, Лермонтова, иной раз рождало ассоциации с мейерхольдовскими спектаклями. Думается, что спектакль Яхонтова не родился бы до Мейерхольда. Конечно, воздействие Мейерхольда на Яхонтова сказывалось не только в переосмыслении классики. Достаточно вспомнить, что в спектакль «Зори» по Э. Верхарну Мейерхольд включал последние сводки с фронтов гражданской войны, чтобы составить представление об эстетических предпосылках яхонтовскнх композиций. Впрочем, надо помнить и то, что столкновение разнокачественных и стилистически неоднородных кусков в искусстве 1920-х годов было явлением довольно распространенным. Родственный композициям Яхонтова принцип монтажа еще раньше осуществлял в кино режиссер Дзига Вертов. С. Эйзенштейн даже искал теоретические обоснования этого вида искусства. С Маяковским Яхонтова роднило острое чувство современности, отношение к слову как к орудию борьбы, предназначенному для свершения великих революционных и будничных повседневных задач; понимание высокой своей обязанности и ответственности перед сегодняшним днем; единство новаторского содержания и новаторской формы. Сродни Маяковскому были эстетические принципы яхонтовских работ — совмещение «высоких» и «низких» планов, внезапные переходы от серьезного повествования к едкой иронии, сама ирония как средство для передачи глубоких раздумий. У Станиславского, Вахтангова, Мейерхольда и Маяковского он перенял новаторскую смелость и умение отвечать своему времени. Вклад Яхонтова в наше искусство еще не оценен как следует. То, что он сделал, огромно — по количеству, по значению, по накалу, по мастерству. Как он много мог сделать сегодня! Летом 1945 года он приехал выступать в клуб одного из московских госпиталей, где я в ту пору находился на излечении. Это было 10 июля. Он читал офицерам рассказы Соболева и Зощенко. Потом — стихи Есенина; стихи чередовались с музыкой, которую исполняла пианистка Елизавета Лойтер. Когда Яхонтов сошел с эстрады, выздоравливающие окружили его и забросали вопросами о литературе. Он отвечал остроумно и увлекательно. Прощаясь, мы условились, что 12-го он снова приедет в госпиталь, чтобы поговорить со мной о своих ближайших работах.

Он приехал во втором часу дня. Отделение уже свернулось, я оставался один в палате, узкой, как дудочка. В коридоре, забрызганном известкой, стояли козлы. Мы были одни. Я стал расспрашивать его о выступлениях на Урале — мы не виделись почти всю войну, — о сооруженном на его средства танке «Владимир Маяковский», о его новых работах. Я не слышал последней — «Горе от ума». Он стал играть первый акт, потом сыграл третий. Прочел по моей просьбе «Письмо Онегина к Татьяне», сцену в саду, начало «Казначейши». Я просил еще… Он прочел монолог из «Маскарада», сцену из «Настасьи Филипповны», в которой она сжигает деньги, и другую, когда Рогожин рассказывает Мышкину о ее смерти. Потом мы разговаривали. И снова он читал: «Флейту-позвоночник», «Необычайное приключение…», «Товарнцу Нетте…», «Разговор на рейде…», отрывки из «Хорошо!», из «Ленина», «Люблю», «Сергею Есенину», есенинского «Чорного человека», «Моцарта и Сальери» — вторую сцену, Блока — стихи из «Возмездия». Каждое произнесенное им слово я воспринимал как его собственные признания в любви, его исповеди, его мысли, его огромный творческий мир. Говорили о Гоголе, о Хлебникове, о жанре благородных приключений, о Твене, книжка которого лежала возле кровати. Яхонтов размышлял о будущих работах. Ему виделось стремительное движение событий, подобие увлекательной фабулы, хотелось внести новые конструктивные начала в построение программ. Он увлекался, то вдруг начинал сомневаться. Как это сделать? Станут ли эти работы вровень с прежним Яхонтовым? И верил, и хохотал, что будут не хуже, «прикидывая на себя» описание губернского бала из «Мертвых душ» и автобиографическую прозу Твена. — Нет, я никогда не читал переводной литературы! — говорил он с тревогой. — Как прозвучит Марк Твен? Я понял: ему страстно хотелось заговорить от себя в этих будущих новых работах, впервые создать пояснительный текст, связующий между собой составные части программы, текст ёмкий, который, может быть, вместил бы и собственные его мысли. — А не получится, — спрашивал он, улыбаясь печально, — что «наговорили немые»? Это неплохо: «Немые», которые не закрывают ртов на эстраде. «Немые чтецы». Впрочем, — говорил он, — наверно, стоит попробовать. Веселее было бы обдумывать такую программу вместе. С годами искусство его становилось мужественнее и проще. Блистательный, разнообразный, тонкий, острый и необыкновенно умный актер в «Горе от ума», он прозу и стихи читал экономнее, чем прежде. Спокойнее и выразительнее стал жест, сдержаннее внешняя театральность. И без театральной аргументации все более раскрывалась в его исполнении действенная сила самого слова, произнесенного его голосом, в котором сверкал целый мир переживаний и мыслей, поражали глубина содержания и совершенство поэтической формы. Он читал, облокотившись на изножье больничной койки, глядя через открытое окно в зеленый сад, человек, который имел в жизни одно безошибочно угаданное им предназначение — делиться с другими прочитанным. С какой благородной простотой и трагической силой читал он в тот день! И наступил и прошел вечер, а мы все говорили, и он снова читал, словно заклиная всегда помнить его и это неповторимое исполнение его любимых вещей, которые были его победы, его существо, его жизнь. Но даже и чувствуя, что это неповторимо, мог ли я знать тогда, что ни Пушкина, ни Грибоедова, ни этих вещей Маяковского от пего никто уже не услышит, что воображение его расстроено и жить ему несколько дней?! Он ушел ночью, в третьем часу. «Яхонтов Владимир Николаевич, замечательный советский актер, мастер художественного слова. Родился в 1899 году, умер в 1945». Так будут писать о нем в энциклопедических словарях. Но разве это даст почувствовать силу его искусства! Иногда в радиопередачах мы слышим записанные в исполнении Яхонтова «Стихи о советском паспорте», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», фрагменты поэмы «Ленин», пушкинскую лирику, «Песню о Буревестнике»… Как и прежде, звучит благородный и сильный голос, вызывая волнение неизъяснимо е. Голос такого нужного нам человека, актера такого неповторимого. Но ведь эти радиозаписи — только разрозненные страницы огромного труда, подвига всей его творческой жизни. По счастью, в продолжение нескольких лет Яхонтов работал над книгой. Он писал ее с перерывами и до конца работы не довел, но она создавалась на глазах его режиссера и друга — Е. Е. Поповой. Каждое положение обсуждалось ими совместно по многу раз. Поэтому Попова сумела расшифровать неразборчивые черновики, соотнесла написанное с замышленным и собрала книгу, в которой Яхонтов рассказывает о своих исканиях, размышляет об искусстве чтения, делится мыслями о литературе, о природе театра одного актера. В ней рассказана творческая история почти каждой его программы; читатель узнает, как начинается труд и рождается вдохновение, как отрабатывается слово и десятки выученных наизусть страниц не укладываются в короткие минуты. Мы следим за опытами великого мастера и словно слышим покоренное слово. Книга воскрешает путь замечательного актера и заключает в себе мысли, важные для понимания природы целого жанра. Состояние творческого покоя было неведомо Яхонтову. Он менялся с каждой новой работой, оставаясь верным избранному пути. Выдающееся мастерство его общепризнанно. Он горячо любим теми, кто восхищался им ка эстраде, и множеством новых слушателей, которым его голос знаком только по записям. Но и сейчас еще можно услышать спор о его спектаклях и композициях. Иной готов оборонять исполнителя Яхонтова от новаторского характера и новаторской формы его работ. Это понятно: Яхонтов не подходит под привычные категории. Споры только доказывают, что творчество его оставило неизгладимый след в советском искусстве и не пройдет даром для будущего.В. Яхонтов среди раненых в эвакогоспитале ЛФ 5018
С. М. МИХОЭЛС И ЕГО КНИГА
В 1935 году на сцене Еврейского театра в Москве Соломон Михайлович Михоэлс сыграл роль короля Лира. Это был потрясающий Лир! Образ, который создал Михоэлс, сразу же получил единодушную и восторженную оценку, как одно из высших достижений советского театрального искусства. Эту роль исполняли великие актеры — Сальвини, Росси, Барнай. Но ни один из них не сыграл того Лира, какого увидел Михоэлс: он по-своему вник в шекспировский замысел, точно определил «эпицентр» трагедии и дал ей новое, еще небывалое, толкование. Он создал образ деспота, который уходит от власти потому только, что она потеряла для него всякую ценность. Что для него могущество, сила? Что правда, ложь? Все ничтожно в его глазах, кроме его собственной личности. Единственной реальностью в мире кажется ему собственное сознание. И вдруг сокрушается вся его философия. Он терпит крах всех идей, которыми руководствовался в продолжение жизни. «Король с головы до ног» приходит к мысли, что он такой же человек, как и все. Михоэлс играл трагедию крушения ложных взглядов, ложной мудрости старца и нарождение в ьгм новых представлений о жизни. Не часто случается подобное проникновение в гениальный драматургический замысел! Потому что не часто бывает, чтобы художник, даже и большого таланта, в равной степени обладал интуитивным постижением явлений жизни и такою же силою логического проникновения в их суть; способностью мыслить образно, воспринимать мир, как видит его поэт, и в то же время подходить ко всему строго аналитически. Эта равносильная способность к синтезу и анализу отличала решительно все, чего ни касался в искусстве и жизни этот удивительный актер, блистательный режиссер, мудрый толкователь искусства, один из замечательнейших представителей нашей театральной и общественной жизни 20—40-х годов. Михоэлс был замечательным мастером великой актерской школы, основным достижением которой является человек со всем его душевным миром и опытом. Но в нашем театре — об этом мы как-то не говорим или говорим мало — сосуществуют два типа актеров. Выходит один — и за образом нельзя угадать исполнителя. И другой — мы сразу узнали его: это он! Но какой он сегодня новый! Какой небывалый образ он создает! Вот именно таким был Михоэлс, поражавший разнообразием воплощений и полной независимостью от своих, не очень выгодных, сценических данных. И вместе с тем актер, налагавший на своих героев печать своего ума, своего таланта и художественного стиля. В дружеских беседах Михоэлс часто напоминал, что настоящий актер нашего театра является перед зрителем как бы автором и произведением этого автора. И вот таким актером — автором и произведением одновременно — был прежде всего сам Соломон Михайлович Михоэлс. Как в рассказе или романе большого художника мы все время угадываем его самого, так и Михоэлс — он умел и дойти до самых глубин созданного им образа и вместе с тем воспарить над ним. Скажем, скорбя в образе Сорокера в спектакле «200 000», он умел сообщить нам и свое ласково-ироническое отношение к нему. Вспомним «Путешествие Веньямина III», когда Зускин — Сендерл и Михоэлс — Веньямин ходят по сцене зигзагами, на цыпочках. И Михоэлс за спиною Зускина повторяет зеркально каждое движение его. Все всерьез. И все игра. Жизнь в образах во всем великолепии проникновения в их суть. И при этом — великолепный росчерк искусства: «Играем! Верим, что было именно так! И мы представляем это. Поверьте! И удивитесь тому, что даже и горькая жизнь становится возвышенной, когда переходит в искусство!» Вот что было в этой игре! Какими средствами мог Михоэлс выразить всю эту гамму отношений? Эти вмещенные одна в другую сферы чувств? Эти «авторские ремарки»? Глаза! Глаза Михоэлса, полные мысли, огромные, глядящие и не видящие. Печальные. Озорные. Сощурившиеся от смеха в узенькие, хитрые щелочки. Разные в разных спектаклях — то глаза реб Алтера, то молочника Тевъе, то короля Лира. Безумные. Строгие. Добрые. Но в краешке глаза всегда сам Михоэлс с его отношением к образу… Вот эта способность выражать свое отношение к созданному тобою и поглотившему тебя без остатка образу кажется мне одним из самых великолепных достижений современного театрального искусства. И изумительным мастером этого сверхобразного решения был Соломон Михайлович Михоэлс. Но Соломон Михайлович — это больше, чем замечательный актер и замечательный режиссер Михоэлс. Михоэлс — это явление советской культуры. Он не просто играл. И не просто ставил спектакли. Он искал новые пути. И находил их. Он понимал театр как великое выражение жизненной правды. Но она никогда не превращалась у него ни в копию жизни, ни в копию правды, никогда не бывала у него будничной, обыкновенной, похожей на тысячи других воплощений. Она всегда была новой, открытой вот только что, свежей, сверкающей и заключала в себе ту великую праздничность искусства, которая способна вызвать улыбку сквозь слезы и заставить задуматься посреди безудержного веселья. Да, он умел ставить спектакли, стопроцентно верные жизненной правде. Но какой концентрированной была эта правда! Разве можно забыть его «Фрейлехс» — спектакль, построенный на материале, который в прежние времена называли этнографическим и который в руках Михоэлса обрел настоящую театральность и увлекательность и превратился в истинное событие!
И вот вышла книга: «С. М. Михоэлс. Статьи. Беседы. Речи» (М., «Искусство», 1960). Тем, кто помнит Михоэлса на сцене и на трибуне, за кулисами руководимого им театра, в дружеском кругу литераторов, киноработников, врачей, ученых, среди которых он был всегда свой, самый веселый, менее всего похожий на актера, — тем, может быть, книга эта и покажется в чем-то неполной, ибо она не отражает всех граней его необыкновенного дарования. Тем более что он ее не писал: она составлена из стенограмм и разновременных статей, возникавших по различным поводам.
Нет, опасения напрасны! На основании этой книги мы можем теперь очень полно судить об эстетических взглядах С. М. Михоэлса и многое воспринять в нем совершенно по-новому, удивляясь его прозорливости, тонкости и вновь убеждаясь: Михоэлс чувствует как поэт и говорит как мыслитель.
Выступления Михоэлса не походили на обычные доклады и речи. Он обладал удивительной способностью: говорил очень просто о сложном и умел угадывать мысли аудитории, которые тут же возвращал ей, обогащенные силой собственного мышления. В увлекательной статье, помещенной в приложении к книге, П. А. Марков напоминает, как «высвобождал» Михоэлс мысли аудитории и с какой «поражающей точностью» формулировал их.
Есть ли в этой книге, умело составленной и с большим тактом отредактированной К. Рудницким, есть ли в ней главная тема? Есть. Это мысли о выражении на сцене идеи через образное раскрытие идеи. Вот Михоэлс коснулся образности искусства и в качестве пояснения приводит русскую поговорку: «Утро вечера мудренее». Если, продолжает он, вы захотите эту народную мудрость перевести на немецкий язык дословно, поговорки из этих слов не получится. Но на основе образности своего языка немецкий народ выдумал равноценную: «Утренний час во рту имеет золото». И также по-своему сформулировал эту мысль еврейский народ: «С бедой надо переночевать». Одна из первейших обязанностей художника — вычитывать эту образность в произведениях народного творчества, в произведениях литературы. И в качестве подтверждения мысли Михоэлс приводит блистательные примеры собственного проникновения в суть образной системы Шекспира. Так, он отмечает, что Глостер в «Короле Лире» не был зрячим, обладая глазами. Он был слепым, потому что не мог разобраться в том, что Эдмунд предатель, а Эдгар подлинный рыцарь. Но, лишившись глаз, Глостер прозрел. «Не думаю, — замечает Михоэлс, — что Шекспир стремился убедить людей в необходимости выкалывать глаза, чтобы стать зрячим». Но что он не доверял человеческому зрению, это дли Михоэлса несомненно.
А вот еще пример образной силы Шекспира и одновременно доказательство глубокого понимания Михоэлсом образа короля Лира. Лев Толстой писал, что Шекспир бездарен, что в «Короле Лире» бушуют выдуманные, бутафорские страсти, что отказ Лира от короны и раздел королевства необоснованны. А между тем, достигнув возраста Лира, он сам ушел из дому, от богатства и от довольства, и попытался навсегда порвать со своим прошлым. Так жизнь надсмеялась над толстовским осуждением Шекспира, добавляет Михоэлс. И делает вывод: «Великий художник Толстой не понял образного, скрытого в этой пьесе».
Это образное у Шекспира Михоэлс видит во всем.
Одни актеры пытались сыграть безумие Лира как следствие болезни или простуды, другие — как результат лишений, перенесенных в степи. Нет, заявляет Михоэлс, и гроза и безумие во время грозы — это образ, это катастрофа, крушение веек представлений и переход к новому состоянию.
В образе Лира Михоэлс продолжал тему, которая проходила сквозь все его актерское творчество, — тему судьбы человека мятущегося, вечно ищущего, который платит жизнью за крохи истины. И эта же мысль, что искусство прёдставляет собою выражение самой великой человеческой страсти — страсти познания, проходит теперь сквозь его книгу.
Не может быть познания вне ведущей идеи, размышляет Михоэлс. Вне идеи нет искусства, вне идеи нет образа. Но покуда мир идей не оденется для нас в образную форму, искусство возникнуть не может. Поэтому нельзя утвердить идею в спектакле, в актерской работе вне образного решения. И, подходя к творчеству актера, Михоэлс прежде всего выясняет: может ли этот актер приоткрыть зрителю новое в постижении мира через образное открытие мира? Для него не существует актера, на котором можно было бы «сыграть», как на музыкальном инструменте. Он хочет, чтобы за актером-исполнителем всегда стоял актер-автор, актер-идеолог, способный на сцене не только отражать жизнь, но способный своим искусством продолжать эту жизнь, проникая в тайники внутреннего мира своих героев. «Нужны зарницы, разряды, молнии, — говорит Михоэлс, — чтобы раскрыть этот внутренний мир, чтобы мы могли в него заглянуть… Искусство подобно рентгеновским лучам… Рентген искусства — его образность». А для этого актеру недостаточно превосходно знать свое ремесло. Он должен обладать поэтическим даром. Он должен быть не просто правдив на сцене. Он должен быть правдив, как поэт. «Разве, — спрашивает Михоэлс, обращаясь к аудитории, — Константин Сергеевич Станиславский не поэт?» И приводит свой разговор с ним, относящийся к 1937 году:
«К. С. Станиславскому уже трудно было дышать, он жил с затрудненным дыханием. Как-то он спросил меня: „Как вы думаете, с чего начинается полет птицы?“ Эмпирически рассуждающий человек, я ответил, что птица сначала расправляет крылья. „Ничего подобного, птице для полета прежде всего необходимо свободное дыхание, птица набирает воздух в грудную клетку, становится гордой и начинает летать“. Даже в определении физиологического состояния, — поясняет Михоэлс, — Станиславский размышлял образно. Но, к сожалению, этого образного у него не взяли, потеряли его». «Он был поэтом, он жил в широком мире идей, облеченных в образные формы», — утверждает Михоэлс в другой своей речи. И предлагает изучать спектакли Станиславского, стремясь постигнуть, в чем сила их образного воздействия, а не только выясняя их методологическое обоснование. Он произносит страстное слово в защиту поэтических открытий Станиславского от «страшных рук высушенных догматиков». Он призывает к критическому и, стало быть, к творческому, а не догматическому усвоению его системы. И сетует по поводу того, что в наших театральных школах, в школах изобразительного искусства «не учат образно мыслить». Михоэлс вспоминает, как решал Станиславский сценическое пространство в «Ревизоре». Первое действие — у городничего — разыгрывалось на узкой полосе сцены, потом, по мере развития действия, комната все углублялась, покуда не охватывала всей сцены. «Это прием огромнейшей впечатляющей силы, — говорил Михоэлс, обращаясь к режиссерам, собравшимся со всех концов страны на всесоюзную конференцию, — прием постепенного проникновения в мир, который открывается перед вами… У Станиславского эти искания образного наблюдались на каждом шагу».
Что такое пожар в «Трех сестрах» Чехова?
Это своего рода символ: в эту ночь в жизни героев происходят огромные события, крутые переломы, перевороты в их судьбах, по-новому озаряющие их монотонное, привычное существование. Чебутыкнн впервые рассказывает о своей загубленной жизни. Тузенбах впервые находится в комнате любимой девушки. В непримиримый конфликт с сестрами вступает Прозоров. Если посмотреть на героев «Трех сестер» глазом обычным, пишет Михоэлс, они покажутся сумасшедшими. Один в продолжении всех актов говорит: «через двести — триста лет». Другой в любых обстоятельствах произносит: «А он и ахнуть не успел…», третья в течение четырех актов вздыхает: «В Москву, в Москву!» Четвертый повторяет: «Давайте поедем на кирпичный завод». Пятый разговаривает лишь в том случае, если возле него находится абсолютно глухой Ферапокт. Это как бы лейтмотивы пьесы. Найти же ключ ко взаимоотношениям всех этих лиц, действующих в органической системе чеховской драмы, можно только в том случае, если установлен не только идейный, но и поэтический замысел автора. И Михоэлс призывает поддерживать и развивать тот дух исканий, которым отмечены работы Константина Сергеевича Станиславского, поражавшего умением в каждой пьесе раскрывать ее идейное и ее образное поэтическое начало. Он предлагает учиться угадывать актера, знакомиться с его идейно-образным миром, апеллировать к нему как к источнику идейного творчества, ибо актеру-исполнителю делать в театре нечего. «Михоэлс, — свидетельствует в своей великолепной вступительной статье Ю. А. Завадский, — понимал и ценил Станиславского, как никто».
Поэзии актерского труда, образности актерского творчества, раскрытию внутреннего идейного и поэтического мира актера и на своем замечательном опыте и на примере других актеров Михоэлс и посвящал свои выступления. Это — целые россыпи мыслей. О «театральности» в том смысле, в каком говорят о «музыкальности» исполнения, о «живописности» полотна. О драматургии. О роли режиссера в спектакле. О призвании актера. О его личности. Воображении. Выразительных средствах. Сценическом самочувствии. О теме актера. О его замысле. О пластическом выражении замысла. О слове в театре, О ритме, образе, стиле. Тут и анализ ролей. И размышления о Гоголе, Шолом-Алейхеме, об Улановой, Шостаковиче, Чаплине.
Книга Михоэлса, в которой речь идет о театре, на самом деле гораздо шире затронутых тем — в каждом своем выступлении Михоэлс касается общих законов реалистического искусства нашей эпохи. Так, говоря о нигилистическом отношении к классике, которое иногда проявлялось в 30-х годах, Михоэлс вникает в самое существо творческой этики и делает вывод: своевольное, несерьезное отношение к произведениям классической мировой литературы неэтично. По отношению к кому? По отношению к зрителям, по отношению к театру советскому, ибо актерские эксперименты подобного рода «не служат основному нашему делу».
«Мы призваны быть политиками, — говорил Михоэлс на собрании московских театральных работников. — Многие весьма крупные актеры в Америке пытались мне доказать, что они творят „независимое“ искусство, что они, мол, политикой не занимаются. Но они мне напоминали людей, которые присутствуют при страшном пожарище, спокойно его созерцают, не ударяют палец о палец для того, чтобы погасить человекопожирающее пламя, и болтают в это время о высоком гуманном строе своей души. Мы, советские художники… будем гасить пожары, мы будем разоблачать поджигателей этих пожаров, мы будем воевать с ними, мы, советские бойцы на идеологическом фронте».
Многие мысли, изложенные в книге Михоэлса, и даже примеры отдельные мне приходилось слышать на «семинаре» от самого Соломона Михайловича, А это побуждает меня поделиться здесь некоторыми воспоминаниями. Однако, для того чтобы стало ясно, о каком семинаре я говорю, придется хотя бы вкратце упомянуть о тех обстоятельствах, при которых мы познакомились.
Произошло это в 1935 году в Пименовском переулке, в подвальчике, где тогда помещался Московский клуб мастеров искусств. Соломон Михайлович вместе с женой своей, Анастасией Павловной Потоцкой-Михоэлс, пришел на мой вечер. И воспринимал все с такой живостью, с такой простотой, дружелюбием, непосредственностью, что я, хорошо видя его — зал был маленький! — в тот же час мысленно посвятил ему всю программу и для него главным образом исполнял все свои «устные рассказы».
После этого мы встречались не раз, но в новую фазу знакомство вошло только лет через пять, когда Михоэлс предложил мне, как специалисту по Лермонтову, консультировать постановку лермонтовских «Испанцев», над которой собирался работать Еврейский театр. Тут я увидал его не только на сцене, но за кулисами — в общении с актерами, режиссерами, администраторами, рабочими сцены.
— Ты что? — спрашивал он вошедшего в его кабинет. И при этом клал на стол свою маленькую, властную, плавно-певучую руку…
Живой! Совершенно живой!.. Удивительно! Стоит вспомнить движение этой руки — и видишь, как он закуривает, как наклоняет голову, чтобы точнее сформулировать мысль, подкосит сжатые в кулак пальцы к губам; видишь, в каком месте речи он разжимает их и кладет на стол ладонь, в каком набирает в легкиевоздух и вскинув глаза, обращается к собеседнику… И с необычной ясностью в памяти начинает звучать его речь — неторопливая, чистая, слышишь отчетливое произношение его, самый звук, самый тембр, не похожий ни на один театральный голос, этот голос — влиятельный, утверждающий, способный вместить любое, самое сложное содержание, голос — продолжение мысли!..
— Итак, чего же ты хочешь? — спрашивал он. И, выслушав вопрос или просьбу, несколько секунд думал, подымал и снова возвращал руку на стол. И отвечал. Отвечал, оставаясь самим собой, но в духе того человека, с которым беседовал.
Оставаясь самим собой, он выявлял одни грани таланта при Алексее Толстом, другие — в гостях у академика Капицы, третьи — в присутствии Веньямина Каверина, еще новые — в обществе Акакия Хоравы. Каждый человек, казалось, отпирал в нем ларчик, принадлежавший только ему, и сам открывался навстречу Михоэлсу, обнаруживая всегда самые лучшие свойства своей души и таланта.
Михоэлс охотно бывал с людьми, охотно бывал на людях. Дом его был всегда полон. Если не на чем было сидеть, садились на подоконник. В характере его было что-то студенческое, в прежнем понимании этого слова.
Никого не беспокоило, занят ли Соломон Михайлович, Видеть его можно было всегда. И всякий мог видеть его! Во многих, иногда даже очень хороших, людях можно отыскать хоть капельку важности. Михоэлс был начисто лишен этой краски в характере. Он способен был играть в игры с друзьями, придумывая тут же, на ходу, образ, причем голова повязывалась полотенцем или косынкой, и начинался безудержный смех, остроумные выдумки — без конца.
В мае 1941 года вместе с Александром Александровичем Фадеевым я возвращался «стрелою» из Ленинграда — мы ездили по лермонтовским делам. Проходим сквозь пустой мягкий вагон и вдруг видим Соломона Михайловича. Вошли в купе. И не ложились спать уже до самой Москвы. Боже, как было весело! Из хлебного шарика, который я катал со вчерашнего дня, я приделал себе черные усики. От этих усиков перешли к Чаплину, и Михоэлс стал говорить о том, почему горестное так смешно в воплощении Чаплина и почему Чаплин никогда не бывает сентиментален, хотя ходит по кромке, за которой у других начинаются сантименты. Пошел разговор о Чаплине.
И вдруг Фадеев спрашивает у меня:
— А что бы сказал по этому поводу Алеша Толстой?
Я ответил.
Тогда за дело взялся Михоэлс.
— А ну, Алешенька, — сказал он, — что ты думаешь о нас, собравшихся в этом купе?
И тут они по очереди стали «дразнить» меня, задавая мне… да нет, не мне, а скорее персонажам моим вопросы, на которые я должен был отвечать в образе.
Добрались до Лермонтова. В образе Лермонтова я отвечать не решился. Соломон Михайлович объяснил, что мне мешает ответить. Окружающие знают, что живого Лермонтова я не видал. И поэтому я боюсь, что мне не поверят. Но если бы я думал, что люди поверят, что я с Лермонтовым встречался, я бы рискнул. И поверили бы, наверно. Но я сам убедил всех, что мои изображения фотографичны. И это меня сковывает, ограничивает. Заговорили о том, каков был Лермонтов. Фадеев стал с увлечением читать «Дары Терека», «Дубовый листок…»…После Окуловки мы с Соломоном Михайловичем стали трубить и распевать Вагнера, что на Фадеева, насколько я понял, произвело наисильнейшее впечатление. Заливаясь тонким, фальцетным смехом, стараясь перекрыть наши «оркестры», он восклицал своим громким, слегка натужливым, я бы сказал — матовым, голосом:
— Я бы никогда не поверил, что вы знаете это. Но приходится верить, потому что вы совпадаете!
Вскоре началась война. И шел уже август 1941 года, Москва была в затемнении, стреляли зенитки, падали бомбы, и все мы несли дежурства на крышах, когда я как-то под вечер встретил Соломона Михайловича у Никитских ворот. И он пригласил меня в гости — на ночь, на кофе после бомбежки. От дежурств ПВО я бывал свободен только по средам. И вот в ближайшую среду засветло я ринулся в гости к Михоэлсам.
После отбоя из подъезда, где находился пост Соломона Михайловича, мы вернулись в квартиру. И началось кофепитие.
За столом сидели хозяйка, сам Соломон Михайлович, Зускины и еще какой-то актер, фамилии которого не запомнил. В эту самую ночь Михоэлс изъявил желание услышать все мои «устные рассказы», которые я исполняю, «играя» в них реальных людей, известных и неизвестных зрителю, входя в их образ, в их повадки, манеры — говорить, смеяться, двигаться, мыслить.
Так возник наш «семинар». Я исполнял рассказ (слово «читать» не годится, потому что читать можно только написанное, а это рассказы устные). И тут же начинался анализ. Михоэлс проверял структуру рассказа, логику взаимоотношений (если в рассказе фигурировали двое или несколько персонажей). Выявлялась идея. Я начинал смекать, где недотянуто, где подробности, не идущие к делу, где не хватает в характеристике бликов. Михоэлс как бы продирижировал мною. Части рассказов уравновесились, говоря языком музыкальным — «звучности выровнялись». А в конце, под утро, подводились итоги занятия. И начиналась, великолепнейшая беседа Михоэлса о законах искусства, о слове, о жесте, о пластике, мимике, о разнице между образом, характером и портретом.
Особое внимание Соломон Михайлович направлял на текст моих рассказов. Как уже сказано, текста своих «устных рассказов» я никогда заранее не пишу и наизусть не заучиваю, а воспроизвожу с разной степенью приближенности каждый раз наново. При этом текст, а иногда и характеристика лица, о котором рассказ, раз от разу меняются — их как бы сносит в сторону течением времени.
Эту независимость образа, несвязанность его с заранее сочиненным текстом, придумывание текста на ходу рассказа Соломон Михайлович объяснял тем, что для этого у меня есть предпосылка — поведение образа. Поведение же определяется теми обстоятельствами, которые только что возникли в ходе импровизируемого текста. «А это,™ говорил Михоэлс, — и есть игра. Потому что истинная игра—это есть образ жизни в разных обстановках, жизнь образа в развитии человеческой судьбы».
Таких занятий в ночь со среды на четверг часов до семи утра летом и осенью 1941 года у нас состоялось шесть. Но шутки все равно не прекращались, даже в самых серьезных разговорах.
— Вот так-то, брат Ираклий. — говаривал Михоэлс. — Благословляю тебя. Преисполнись и примени.
А я отвечал:
— Батюшка Михалыч! Спасибо, что просветил, кормилец!
Когда три года спустя я приехал в Москву со своими фронтовыми рассказами, состоялось заключительное занятие «семинара». И Соломон Михайлович согласился произнести свое суждение о жанре устного рассказа в Доме актера и в Доме ученых, где должны были состояться мои вечера. А потом, уже после войны, устроил мой вечер в театре! И снова произнес слово. Как жаль, что эти его выступления не записаны! Как я виноват! Редко вспоминаем мы, что сегодняшний день очень скоро станет историей.
По счастью, в бумагах Соломона Михайловича отыскалось неоконченное письмо ко мне, которое он диктовал жене в 1941 году, очевидно в связи с «семинаром». Не стану приводить здесь того, что касается оценки рассказов. Процитирую только мысли Михоэлса о самом жанре. Он объясняет мне, что такое «судьба образа» и почему устный рассказ независим от задуманного заранее текста. Вот кусочек письма:
«Во время бомбежки, по-видимому, многое становится яснее, точнее и многое переоценивается с других позиций. Мы ведь с, тобой заново „проработали“ все твои работы, и я окончательно понял, вернее, увидел твою полную независимость от текста. Твое поведение в образе, зависящее только от ситуации, от отношения к окружающим, — поведение органическое и сохраняющее при том совершенное внешнее и (я бы сказал) внутреннее сходство. Органичное — это главное, из чего ты исходишь. Вот почему тебя не сковывает никакой „текст“. Ты даешь поведение (это самое главное в том образе, который ты вносишь) в любой, пусть даже неожиданной обстановке…»
И еще:
«Ведь образ не может быть значительным вне поведения и реакции на любое вторжение… Откуда ты берешь эти воображаемые, а частично и не воображаемые обстоятельства? Из самого себя. Ты „входишь в образ“, и ты не изменяешь ему потому, что ты, как и я, знаешь, что истинная игра поведения это есть образ человека в любой обстановке и в его судьбе (не понимай это в смысле рока!)».
В записную книжку 1944 года, очевидно готовясь произнести вступительное слово в Доме актера, Соломон Михайлович вписал:
«Поведение — уже есть предпосылка для рождения текста именно в этих условиях, которые только что возникли… Поведение, как и на сцене. Это надо запомнить».
Драгоценные строки, разъясняющие общие творческие законы рождения образа сценического и рассказывания в образе. Образа, рожденного одним лишь воображением актера, исходящего из текста пьесы. И образа конкретного человека, возникающего в процессе импровизации от его лица характеризующего его текста.
Для чего я привел все это?
Для того только, чтобы напомнить о необыкновенной творческой щедрости Соломона Михайловича, о его удивительной доброжелательности, заинтересованности в судьбах других людей, о жадном интересе его ко всему, что в какой-то степени связано с игрой и с театром. Я привел все это, чтобы напомнить о его постоянном стремлении не только воспринять, но осознать, осмыслить и оценить любой новый опыт. Разобраться. Произнести суждение не только на основании непосредственных впечатлений, но проверить их разумом, объяснить, истолковать. В этом малом факте (как и во всем) сказалось редкостное богатство натуры Михоэлса, соединявшего в одном лице практика и теоретика театра, поэта и аналитика.
Но Соломон Михайлович — это больше, чем замечательный актер и замечательный режиссер Михоэлс. Михоэлс — это явление советской культуры. Он не просто играл. И не просто ставил спектакли. Он искал новые пути. И находил их. Он понимал театр как великое выражение жизненной правды. Но она никогда не превращалась у него ни в копию жизни, ни в копию правды, никогда не бывала у него будничной, обыкновенной, похожей на тысячи других воплощений. Она всегда была новой, открытой вот только что, свежей, сверкающей и заключала в себе ту великую праздничность искусства, которая способна вызвать улыбку сквозь слезы и заставить задуматься посреди безудержного веселья. Да, он умел ставить спектакли, стопроцентно верные жизненной правде. Но какой концентрированной была эта правда! Разве можно забыть его «Фрейлехс» — спектакль, построенный на материале, который в прежние времена называли этнографическим и который в руках Михоэлса обрел настоящую театральность и увлекательность и превратился в истинное событие!
И вот вышла книга: «С. М. Михоэлс. Статьи. Беседы. Речи» (М., «Искусство», 1960). Тем, кто помнит Михоэлса на сцене и на трибуне, за кулисами руководимого им театра, в дружеском кругу литераторов, киноработников, врачей, ученых, среди которых он был всегда свой, самый веселый, менее всего похожий на актера, — тем, может быть, книга эта и покажется в чем-то неполной, ибо она не отражает всех граней его необыкновенного дарования. Тем более что он ее не писал: она составлена из стенограмм и разновременных статей, возникавших по различным поводам.
Нет, опасения напрасны! На основании этой книги мы можем теперь очень полно судить об эстетических взглядах С. М. Михоэлса и многое воспринять в нем совершенно по-новому, удивляясь его прозорливости, тонкости и вновь убеждаясь: Михоэлс чувствует как поэт и говорит как мыслитель.
Выступления Михоэлса не походили на обычные доклады и речи. Он обладал удивительной способностью: говорил очень просто о сложном и умел угадывать мысли аудитории, которые тут же возвращал ей, обогащенные силой собственного мышления. В увлекательной статье, помещенной в приложении к книге, П. А. Марков напоминает, как «высвобождал» Михоэлс мысли аудитории и с какой «поражающей точностью» формулировал их.
Есть ли в этой книге, умело составленной и с большим тактом отредактированной К. Рудницким, есть ли в ней главная тема? Есть. Это мысли о выражении на сцене идеи через образное раскрытие идеи. Вот Михоэлс коснулся образности искусства и в качестве пояснения приводит русскую поговорку: «Утро вечера мудренее». Если, продолжает он, вы захотите эту народную мудрость перевести на немецкий язык дословно, поговорки из этих слов не получится. Но на основе образности своего языка немецкий народ выдумал равноценную: «Утренний час во рту имеет золото». И также по-своему сформулировал эту мысль еврейский народ: «С бедой надо переночевать». Одна из первейших обязанностей художника — вычитывать эту образность в произведениях народного творчества, в произведениях литературы. И в качестве подтверждения мысли Михоэлс приводит блистательные примеры собственного проникновения в суть образной системы Шекспира. Так, он отмечает, что Глостер в «Короле Лире» не был зрячим, обладая глазами. Он был слепым, потому что не мог разобраться в том, что Эдмунд предатель, а Эдгар подлинный рыцарь. Но, лишившись глаз, Глостер прозрел. «Не думаю, — замечает Михоэлс, — что Шекспир стремился убедить людей в необходимости выкалывать глаза, чтобы стать зрячим». Но что он не доверял человеческому зрению, это дли Михоэлса несомненно.
А вот еще пример образной силы Шекспира и одновременно доказательство глубокого понимания Михоэлсом образа короля Лира. Лев Толстой писал, что Шекспир бездарен, что в «Короле Лире» бушуют выдуманные, бутафорские страсти, что отказ Лира от короны и раздел королевства необоснованны. А между тем, достигнув возраста Лира, он сам ушел из дому, от богатства и от довольства, и попытался навсегда порвать со своим прошлым. Так жизнь надсмеялась над толстовским осуждением Шекспира, добавляет Михоэлс. И делает вывод: «Великий художник Толстой не понял образного, скрытого в этой пьесе».
Это образное у Шекспира Михоэлс видит во всем.
Одни актеры пытались сыграть безумие Лира как следствие болезни или простуды, другие — как результат лишений, перенесенных в степи. Нет, заявляет Михоэлс, и гроза и безумие во время грозы — это образ, это катастрофа, крушение веек представлений и переход к новому состоянию.
В образе Лира Михоэлс продолжал тему, которая проходила сквозь все его актерское творчество, — тему судьбы человека мятущегося, вечно ищущего, который платит жизнью за крохи истины. И эта же мысль, что искусство прёдставляет собою выражение самой великой человеческой страсти — страсти познания, проходит теперь сквозь его книгу.
Не может быть познания вне ведущей идеи, размышляет Михоэлс. Вне идеи нет искусства, вне идеи нет образа. Но покуда мир идей не оденется для нас в образную форму, искусство возникнуть не может. Поэтому нельзя утвердить идею в спектакле, в актерской работе вне образного решения. И, подходя к творчеству актера, Михоэлс прежде всего выясняет: может ли этот актер приоткрыть зрителю новое в постижении мира через образное открытие мира? Для него не существует актера, на котором можно было бы «сыграть», как на музыкальном инструменте. Он хочет, чтобы за актером-исполнителем всегда стоял актер-автор, актер-идеолог, способный на сцене не только отражать жизнь, но способный своим искусством продолжать эту жизнь, проникая в тайники внутреннего мира своих героев. «Нужны зарницы, разряды, молнии, — говорит Михоэлс, — чтобы раскрыть этот внутренний мир, чтобы мы могли в него заглянуть… Искусство подобно рентгеновским лучам… Рентген искусства — его образность». А для этого актеру недостаточно превосходно знать свое ремесло. Он должен обладать поэтическим даром. Он должен быть не просто правдив на сцене. Он должен быть правдив, как поэт. «Разве, — спрашивает Михоэлс, обращаясь к аудитории, — Константин Сергеевич Станиславский не поэт?» И приводит свой разговор с ним, относящийся к 1937 году:
«К. С. Станиславскому уже трудно было дышать, он жил с затрудненным дыханием. Как-то он спросил меня: „Как вы думаете, с чего начинается полет птицы?“ Эмпирически рассуждающий человек, я ответил, что птица сначала расправляет крылья. „Ничего подобного, птице для полета прежде всего необходимо свободное дыхание, птица набирает воздух в грудную клетку, становится гордой и начинает летать“. Даже в определении физиологического состояния, — поясняет Михоэлс, — Станиславский размышлял образно. Но, к сожалению, этого образного у него не взяли, потеряли его». «Он был поэтом, он жил в широком мире идей, облеченных в образные формы», — утверждает Михоэлс в другой своей речи. И предлагает изучать спектакли Станиславского, стремясь постигнуть, в чем сила их образного воздействия, а не только выясняя их методологическое обоснование. Он произносит страстное слово в защиту поэтических открытий Станиславского от «страшных рук высушенных догматиков». Он призывает к критическому и, стало быть, к творческому, а не догматическому усвоению его системы. И сетует по поводу того, что в наших театральных школах, в школах изобразительного искусства «не учат образно мыслить». Михоэлс вспоминает, как решал Станиславский сценическое пространство в «Ревизоре». Первое действие — у городничего — разыгрывалось на узкой полосе сцены, потом, по мере развития действия, комната все углублялась, покуда не охватывала всей сцены. «Это прием огромнейшей впечатляющей силы, — говорил Михоэлс, обращаясь к режиссерам, собравшимся со всех концов страны на всесоюзную конференцию, — прием постепенного проникновения в мир, который открывается перед вами… У Станиславского эти искания образного наблюдались на каждом шагу».
Что такое пожар в «Трех сестрах» Чехова?
Это своего рода символ: в эту ночь в жизни героев происходят огромные события, крутые переломы, перевороты в их судьбах, по-новому озаряющие их монотонное, привычное существование. Чебутыкнн впервые рассказывает о своей загубленной жизни. Тузенбах впервые находится в комнате любимой девушки. В непримиримый конфликт с сестрами вступает Прозоров. Если посмотреть на героев «Трех сестер» глазом обычным, пишет Михоэлс, они покажутся сумасшедшими. Один в продолжении всех актов говорит: «через двести — триста лет». Другой в любых обстоятельствах произносит: «А он и ахнуть не успел…», третья в течение четырех актов вздыхает: «В Москву, в Москву!» Четвертый повторяет: «Давайте поедем на кирпичный завод». Пятый разговаривает лишь в том случае, если возле него находится абсолютно глухой Ферапокт. Это как бы лейтмотивы пьесы. Найти же ключ ко взаимоотношениям всех этих лиц, действующих в органической системе чеховской драмы, можно только в том случае, если установлен не только идейный, но и поэтический замысел автора. И Михоэлс призывает поддерживать и развивать тот дух исканий, которым отмечены работы Константина Сергеевича Станиславского, поражавшего умением в каждой пьесе раскрывать ее идейное и ее образное поэтическое начало. Он предлагает учиться угадывать актера, знакомиться с его идейно-образным миром, апеллировать к нему как к источнику идейного творчества, ибо актеру-исполнителю делать в театре нечего. «Михоэлс, — свидетельствует в своей великолепной вступительной статье Ю. А. Завадский, — понимал и ценил Станиславского, как никто».
Поэзии актерского труда, образности актерского творчества, раскрытию внутреннего идейного и поэтического мира актера и на своем замечательном опыте и на примере других актеров Михоэлс и посвящал свои выступления. Это — целые россыпи мыслей. О «театральности» в том смысле, в каком говорят о «музыкальности» исполнения, о «живописности» полотна. О драматургии. О роли режиссера в спектакле. О призвании актера. О его личности. Воображении. Выразительных средствах. Сценическом самочувствии. О теме актера. О его замысле. О пластическом выражении замысла. О слове в театре, О ритме, образе, стиле. Тут и анализ ролей. И размышления о Гоголе, Шолом-Алейхеме, об Улановой, Шостаковиче, Чаплине.
Книга Михоэлса, в которой речь идет о театре, на самом деле гораздо шире затронутых тем — в каждом своем выступлении Михоэлс касается общих законов реалистического искусства нашей эпохи. Так, говоря о нигилистическом отношении к классике, которое иногда проявлялось в 30-х годах, Михоэлс вникает в самое существо творческой этики и делает вывод: своевольное, несерьезное отношение к произведениям классической мировой литературы неэтично. По отношению к кому? По отношению к зрителям, по отношению к театру советскому, ибо актерские эксперименты подобного рода «не служат основному нашему делу».
«Мы призваны быть политиками, — говорил Михоэлс на собрании московских театральных работников. — Многие весьма крупные актеры в Америке пытались мне доказать, что они творят „независимое“ искусство, что они, мол, политикой не занимаются. Но они мне напоминали людей, которые присутствуют при страшном пожарище, спокойно его созерцают, не ударяют палец о палец для того, чтобы погасить человекопожирающее пламя, и болтают в это время о высоком гуманном строе своей души. Мы, советские художники… будем гасить пожары, мы будем разоблачать поджигателей этих пожаров, мы будем воевать с ними, мы, советские бойцы на идеологическом фронте».
Многие мысли, изложенные в книге Михоэлса, и даже примеры отдельные мне приходилось слышать на «семинаре» от самого Соломона Михайловича, А это побуждает меня поделиться здесь некоторыми воспоминаниями. Однако, для того чтобы стало ясно, о каком семинаре я говорю, придется хотя бы вкратце упомянуть о тех обстоятельствах, при которых мы познакомились.
Произошло это в 1935 году в Пименовском переулке, в подвальчике, где тогда помещался Московский клуб мастеров искусств. Соломон Михайлович вместе с женой своей, Анастасией Павловной Потоцкой-Михоэлс, пришел на мой вечер. И воспринимал все с такой живостью, с такой простотой, дружелюбием, непосредственностью, что я, хорошо видя его — зал был маленький! — в тот же час мысленно посвятил ему всю программу и для него главным образом исполнял все свои «устные рассказы».
После этого мы встречались не раз, но в новую фазу знакомство вошло только лет через пять, когда Михоэлс предложил мне, как специалисту по Лермонтову, консультировать постановку лермонтовских «Испанцев», над которой собирался работать Еврейский театр. Тут я увидал его не только на сцене, но за кулисами — в общении с актерами, режиссерами, администраторами, рабочими сцены.
— Ты что? — спрашивал он вошедшего в его кабинет. И при этом клал на стол свою маленькую, властную, плавно-певучую руку…
Живой! Совершенно живой!.. Удивительно! Стоит вспомнить движение этой руки — и видишь, как он закуривает, как наклоняет голову, чтобы точнее сформулировать мысль, подкосит сжатые в кулак пальцы к губам; видишь, в каком месте речи он разжимает их и кладет на стол ладонь, в каком набирает в легкиевоздух и вскинув глаза, обращается к собеседнику… И с необычной ясностью в памяти начинает звучать его речь — неторопливая, чистая, слышишь отчетливое произношение его, самый звук, самый тембр, не похожий ни на один театральный голос, этот голос — влиятельный, утверждающий, способный вместить любое, самое сложное содержание, голос — продолжение мысли!..
— Итак, чего же ты хочешь? — спрашивал он. И, выслушав вопрос или просьбу, несколько секунд думал, подымал и снова возвращал руку на стол. И отвечал. Отвечал, оставаясь самим собой, но в духе того человека, с которым беседовал.
Оставаясь самим собой, он выявлял одни грани таланта при Алексее Толстом, другие — в гостях у академика Капицы, третьи — в присутствии Веньямина Каверина, еще новые — в обществе Акакия Хоравы. Каждый человек, казалось, отпирал в нем ларчик, принадлежавший только ему, и сам открывался навстречу Михоэлсу, обнаруживая всегда самые лучшие свойства своей души и таланта.
Михоэлс охотно бывал с людьми, охотно бывал на людях. Дом его был всегда полон. Если не на чем было сидеть, садились на подоконник. В характере его было что-то студенческое, в прежнем понимании этого слова.
Никого не беспокоило, занят ли Соломон Михайлович, Видеть его можно было всегда. И всякий мог видеть его! Во многих, иногда даже очень хороших, людях можно отыскать хоть капельку важности. Михоэлс был начисто лишен этой краски в характере. Он способен был играть в игры с друзьями, придумывая тут же, на ходу, образ, причем голова повязывалась полотенцем или косынкой, и начинался безудержный смех, остроумные выдумки — без конца.
В мае 1941 года вместе с Александром Александровичем Фадеевым я возвращался «стрелою» из Ленинграда — мы ездили по лермонтовским делам. Проходим сквозь пустой мягкий вагон и вдруг видим Соломона Михайловича. Вошли в купе. И не ложились спать уже до самой Москвы. Боже, как было весело! Из хлебного шарика, который я катал со вчерашнего дня, я приделал себе черные усики. От этих усиков перешли к Чаплину, и Михоэлс стал говорить о том, почему горестное так смешно в воплощении Чаплина и почему Чаплин никогда не бывает сентиментален, хотя ходит по кромке, за которой у других начинаются сантименты. Пошел разговор о Чаплине.
И вдруг Фадеев спрашивает у меня:
— А что бы сказал по этому поводу Алеша Толстой?
Я ответил.
Тогда за дело взялся Михоэлс.
— А ну, Алешенька, — сказал он, — что ты думаешь о нас, собравшихся в этом купе?
И тут они по очереди стали «дразнить» меня, задавая мне… да нет, не мне, а скорее персонажам моим вопросы, на которые я должен был отвечать в образе.
Добрались до Лермонтова. В образе Лермонтова я отвечать не решился. Соломон Михайлович объяснил, что мне мешает ответить. Окружающие знают, что живого Лермонтова я не видал. И поэтому я боюсь, что мне не поверят. Но если бы я думал, что люди поверят, что я с Лермонтовым встречался, я бы рискнул. И поверили бы, наверно. Но я сам убедил всех, что мои изображения фотографичны. И это меня сковывает, ограничивает. Заговорили о том, каков был Лермонтов. Фадеев стал с увлечением читать «Дары Терека», «Дубовый листок…»…После Окуловки мы с Соломоном Михайловичем стали трубить и распевать Вагнера, что на Фадеева, насколько я понял, произвело наисильнейшее впечатление. Заливаясь тонким, фальцетным смехом, стараясь перекрыть наши «оркестры», он восклицал своим громким, слегка натужливым, я бы сказал — матовым, голосом:
— Я бы никогда не поверил, что вы знаете это. Но приходится верить, потому что вы совпадаете!
Вскоре началась война. И шел уже август 1941 года, Москва была в затемнении, стреляли зенитки, падали бомбы, и все мы несли дежурства на крышах, когда я как-то под вечер встретил Соломона Михайловича у Никитских ворот. И он пригласил меня в гости — на ночь, на кофе после бомбежки. От дежурств ПВО я бывал свободен только по средам. И вот в ближайшую среду засветло я ринулся в гости к Михоэлсам.
После отбоя из подъезда, где находился пост Соломона Михайловича, мы вернулись в квартиру. И началось кофепитие.
За столом сидели хозяйка, сам Соломон Михайлович, Зускины и еще какой-то актер, фамилии которого не запомнил. В эту самую ночь Михоэлс изъявил желание услышать все мои «устные рассказы», которые я исполняю, «играя» в них реальных людей, известных и неизвестных зрителю, входя в их образ, в их повадки, манеры — говорить, смеяться, двигаться, мыслить.
Так возник наш «семинар». Я исполнял рассказ (слово «читать» не годится, потому что читать можно только написанное, а это рассказы устные). И тут же начинался анализ. Михоэлс проверял структуру рассказа, логику взаимоотношений (если в рассказе фигурировали двое или несколько персонажей). Выявлялась идея. Я начинал смекать, где недотянуто, где подробности, не идущие к делу, где не хватает в характеристике бликов. Михоэлс как бы продирижировал мною. Части рассказов уравновесились, говоря языком музыкальным — «звучности выровнялись». А в конце, под утро, подводились итоги занятия. И начиналась, великолепнейшая беседа Михоэлса о законах искусства, о слове, о жесте, о пластике, мимике, о разнице между образом, характером и портретом.
Особое внимание Соломон Михайлович направлял на текст моих рассказов. Как уже сказано, текста своих «устных рассказов» я никогда заранее не пишу и наизусть не заучиваю, а воспроизвожу с разной степенью приближенности каждый раз наново. При этом текст, а иногда и характеристика лица, о котором рассказ, раз от разу меняются — их как бы сносит в сторону течением времени.
Эту независимость образа, несвязанность его с заранее сочиненным текстом, придумывание текста на ходу рассказа Соломон Михайлович объяснял тем, что для этого у меня есть предпосылка — поведение образа. Поведение же определяется теми обстоятельствами, которые только что возникли в ходе импровизируемого текста. «А это,™ говорил Михоэлс, — и есть игра. Потому что истинная игра—это есть образ жизни в разных обстановках, жизнь образа в развитии человеческой судьбы».
Таких занятий в ночь со среды на четверг часов до семи утра летом и осенью 1941 года у нас состоялось шесть. Но шутки все равно не прекращались, даже в самых серьезных разговорах.
— Вот так-то, брат Ираклий. — говаривал Михоэлс. — Благословляю тебя. Преисполнись и примени.
А я отвечал:
— Батюшка Михалыч! Спасибо, что просветил, кормилец!
Когда три года спустя я приехал в Москву со своими фронтовыми рассказами, состоялось заключительное занятие «семинара». И Соломон Михайлович согласился произнести свое суждение о жанре устного рассказа в Доме актера и в Доме ученых, где должны были состояться мои вечера. А потом, уже после войны, устроил мой вечер в театре! И снова произнес слово. Как жаль, что эти его выступления не записаны! Как я виноват! Редко вспоминаем мы, что сегодняшний день очень скоро станет историей.
По счастью, в бумагах Соломона Михайловича отыскалось неоконченное письмо ко мне, которое он диктовал жене в 1941 году, очевидно в связи с «семинаром». Не стану приводить здесь того, что касается оценки рассказов. Процитирую только мысли Михоэлса о самом жанре. Он объясняет мне, что такое «судьба образа» и почему устный рассказ независим от задуманного заранее текста. Вот кусочек письма:
«Во время бомбежки, по-видимому, многое становится яснее, точнее и многое переоценивается с других позиций. Мы ведь с, тобой заново „проработали“ все твои работы, и я окончательно понял, вернее, увидел твою полную независимость от текста. Твое поведение в образе, зависящее только от ситуации, от отношения к окружающим, — поведение органическое и сохраняющее при том совершенное внешнее и (я бы сказал) внутреннее сходство. Органичное — это главное, из чего ты исходишь. Вот почему тебя не сковывает никакой „текст“. Ты даешь поведение (это самое главное в том образе, который ты вносишь) в любой, пусть даже неожиданной обстановке…»
И еще:
«Ведь образ не может быть значительным вне поведения и реакции на любое вторжение… Откуда ты берешь эти воображаемые, а частично и не воображаемые обстоятельства? Из самого себя. Ты „входишь в образ“, и ты не изменяешь ему потому, что ты, как и я, знаешь, что истинная игра поведения это есть образ человека в любой обстановке и в его судьбе (не понимай это в смысле рока!)».
В записную книжку 1944 года, очевидно готовясь произнести вступительное слово в Доме актера, Соломон Михайлович вписал:
«Поведение — уже есть предпосылка для рождения текста именно в этих условиях, которые только что возникли… Поведение, как и на сцене. Это надо запомнить».
Драгоценные строки, разъясняющие общие творческие законы рождения образа сценического и рассказывания в образе. Образа, рожденного одним лишь воображением актера, исходящего из текста пьесы. И образа конкретного человека, возникающего в процессе импровизации от его лица характеризующего его текста.
Для чего я привел все это?
Для того только, чтобы напомнить о необыкновенной творческой щедрости Соломона Михайловича, о его удивительной доброжелательности, заинтересованности в судьбах других людей, о жадном интересе его ко всему, что в какой-то степени связано с игрой и с театром. Я привел все это, чтобы напомнить о его постоянном стремлении не только воспринять, но осознать, осмыслить и оценить любой новый опыт. Разобраться. Произнести суждение не только на основании непосредственных впечатлений, но проверить их разумом, объяснить, истолковать. В этом малом факте (как и во всем) сказалось редкостное богатство натуры Михоэлса, соединявшего в одном лице практика и теоретика театра, поэта и аналитика.
СЛОВО О СОЛЛЕРТИНСКОМ
Посвящаю Д. Д. ШостаковичуРаскройте книгу Ивана Ивановича Соллертинского «Музыкально-исторические этюды»! Вы будете читать ее с увлечением, восхищаясь проницательностью анализа, обилием метких сравнений, широтой обобщений, блеском литературного изложения, заставляющими вспоминать имена Стендаля, Берлиоза, Шумана, Серова, Стасова, Ромена Роллана. Эти ассоциации не случайны, ибо Соллертинский продолжает высокие традиции музыкальной художественно-публицистической критики, каждой своей страницей доказывая, что критика — это литература. Книгу хочется цитировать, пересказывать, читать вслух. По существу, это серьезные исследования, по форме — живые, стремительно развивающиеся повествования о важнейших событиях, важнейших проблемах европейской музыкальной культуры XVIII–XX веков. Впрочем, прежде чем говорить о книге Ивана Ивановича Соллертинского, следует сказать хотя бы несколько слов о нем самом. Разнообразие и масштабы его дарований казались непостижимыми. Я повторяю: талантливейший музыковед, театровед, литературовед, историк и теоретик балетного искусства, лингвист, свободно владевший более чем двумя десятками языков, человек широко эрудированный в сфере искусств изобразительных, в области общественных наук, истории, философии, эстетики, великолепный оратор и публицист, блистательный полемист и собеседник, он обладал познаниями поистине энциклопедическими. Но эти обширные познания, непрестанно умножаемые его феноменальной памятью и поразительной трудоспособностью, не обременяли его, не подавляли его собственной творческой инициативы… Наоборот! От этого только обострялась его мысль — быстрая, оригинальная, смелая. Дробь и мелочь биографических изыскании не занимали его. Соллертинского привлекали широкие и принципиальные вопросы музыкальной истории и эстетики, изучение взаимосвязи искусств, проблемы симфонизма, проблемы музыкального театра и музыкальной драматургии, Шекспир, воплощение Шекспира в музыке. Его интересовали Бетховен и Глинка, Берлиоз и Стендаль, Метастазио и Достоевский, Верди и Мусоргский, Чайковский и Малер, Бизе и Танеев, Россини и Шостакович, становление музыкального реализма, этическое содержание музыки, теория оперного либретто. Симфония. Опера. Балет. Трагедия. Комедия. Эпос. Все это связывалось в его выступлениях и статьях с насущными задачами и перспективами развития советской музыки. Он проявлял страстную заинтересованность в судьбах советского музыкального искусства и был подлинным — и потому взыскательным — другом советских музыкантов. Разносторонность интересов и универсальность знаний сочетались у Соллертинского с высоким профессионализмом. Все — в каждой области — изучалось по первоисточникам. Критически пересматривались традиционные точки зрения. В любом вопросе Соллертинский стремился дойти до сути, до глуби и до начала. Если к этому прибавить, что талант исследователя сочетался у него с литературным талантом и огромным общественным темпераментом, что Соллертинскому в высшей степени было присуще чувство современности, что он был великолепным организатором, прирожденным педагогом, увлекательным и авторитетным, вдохновенным и щедрым консультантом и при этом свободно владел пером публициста, — можно будет хотя бы отчасти объяснить размах и результаты его деятельности, оборвавшейся так неожиданно на сорок втором году жизни в Новосибирске, во время войны. До 1941 года Соллертинский, за исключением короткого периода, жил в Ленинграде, в Ленинграде получил образование и в продолжение двух десятилетий вел научную и педагогическую работу в Институте истории искусств, в Педагогическом институте, в Ленинградской консерватории, в хореографическом и театральном училищах. Читал историю театра, историю драмы, балета, историю музыки, историю театральной критики, эстетику, психологию. Заведовал репертуарной частью Театра оперы и балета имени С. М. Кирова, много энергии отдавал Ленинградскому отделению Союза советских композиторов, в коем состоял председателем музыковедческой секции, консультировал отдел музыкального радиовещания, заведовал сектором музыкального театра в Институте истории и теории музыки, систематически выступал на страницах газет и журналов, сотрудничал в энциклопедиях, но главное — в продолжение пятнадцати лет работал в Ленинградской филармонии, последовательно занимая должности лектора, заведующего репертуарной частью, консультанта, главного редактора и, наконец, художественного руководителя. Впрочем, лектором филармонии он оставался до конца жизни. В этом качестве лучше всего знали и очень уважали его те, кого принято называть «публикой» и «аудиторией». …Музыканты оркестра занимают места. Между пюпитрами торопливо пробирается к дирижерскому пульту высокий молодой человек, не очень молодой с виду. Голова слегка откинута назад и словно втянута в плечи, движения несколько угловаты. Поднявшись на дирижерскую подставку, он обращается к залу — лицо без красок, с крупными чертами, пухлые губы, маленькие глаза. Но в них все дело, в серо-зеленых, глубоких, пронзительно умных глазах, полных огня и мысли, в их быстром и чрезвычайно влиятельном взгляде. Голос ломкий, эмоциональная речь тороплива, ускоренна. Но великолепная, утрированно четкая дикция позволяет слышать в огромном концертном зале каждое слово. Ничего, казалось бы, от обычного представления об ораторе — об ораторском жесте, ораторском голосе. А между тем, какой блеск, какой талант, свобода импровизации, какой ум и покоряющее действие слова! Отточенные и емкие грамматические периоды вмещают образную ассоциативно богатую мысль. Логика в построении доказательства, образа, ясность и, я бы сказал, артистизм мышления; факты, примеры, цитаты, остроумные сопоставления убеждают самого требовательного профессионала и в то же время понятны неподготовленному слушателю. Соллертинский говорит о новой симфонии. Об эволюции музыканта. Об идейно-художественной борьбе. О принципах симфонической драматургии… Многие из этих публичных выступлений, — а Соллертинский прочел не менее тысячи лекций и вступительных слов к концертам, — послужили ему потом материалом для очерков и статей, которые появились в периодической печати или в виде отдельных брошюр и небольших монографий. Некоторые выступления сохранились среди стенограмм. Многое так и осталось незаписанным и — увы! — утрачено навсегда… Список опубликованных работ И. И. Соллертинского содержит около трехсот названий. Девятнадцать работ составили книгу «Музыкально-исторические этюды». В нее вошли статьи о творчестве Глюка, Моцарта и Бетховена, Берлиоза, Мейербера и Вагнера, Верди, Визе и Оффенбаха, Брамса, Брукнера и Малера. Мы находим здесь этюды о Стендале и Ромене Роллане, об их роли в развитии музыкальной мысли, об эстетике романтизма, о комической опере, о типах симфонической драматургии. В одних статьях идет речь о творческом пути композитора, о его месте в общей эволюции музыкального искусства (Глюк, Берлиоз, Мейербер, Верди, Оффенбах, Малер). В других — об одной из сторон творчества (симфонии Брамса), об одном цикле («Кольцо Нибелунгов»), об одном произведении («Волшебная флейта», «Фиделио», «Моряк-скиталец», «Кармен», Седьмая симфония Брукнера). В третьих решаются общие — исторические и эстетические — вопросы. Начнем с того, что, говоря о музыке, Соллертинский вызывает в памяти самую музыку. И оттого книга так убедительна и доступна. Достигнуто это не скрупулезным воспроизведением подробностей, а умением отметить только самые значительные особенности, важные для понимания целого, передать характер музыки, ее идейное и эмоциональное содержание, особенности ее движения и художественной конструкции. «Симфония возникает из абсолютного покоя и тишины, — пишет он о Первой симфонии Малера, — шестьдесят два такта вступления на органном пункте ля (флежолеты у всей струнной группы пианиссимо). Время от времени тишина нарушается таинственными ходами по квартам и отдаленными, приглушенными фанфарами (кларнеты, затем засурдиненные трубы). Наконец, из квартового хода рождается тема (излагаемая сначала виолончелями), и симфония переходит в маршеобразное движение пасторального характера, под конец части превращающееся в экстатический дифирамб природе». Это не отдельная удача в книге, не случайная попытка дать симфонии точную и краткую характеристику. Это — метод исследователя. «Он словно опьянен оркестровыми возможностями, — пишет Соллертинский об одном из шедевров Берлиоза — пятой части „Фантастической симфонии“ „Ночь на шабаше ведьм“. — Щедрыми пригоршнями он сыплет инструментальные находки одну за другой. Тут и высокие тремоло скрипок, и шуршащие, стрекочущие скрипки col legno, словно имитирующие пляску скелетов, и пронзительный писк кларнета in Es, излагающего окарикатуренный, „опошленный“ лейтмотив… и колокола, и неистовствующая медь. Дерзкая пародия на католическую обедню, и фуга дают место новым оркестровым эффектам. Замысел этой части, бесспорно, возник под влиянием „Вальпургиевой ночи“ из Гёте, и самое введение пародии на лейтмотив как бы соответствует появлению призрака Гретхен на шабаше в Брокене». Откроем наугад еще одну страницу: «Росо allegretto» Третьей симфонии Брамса… Читаем: «Оно построено на простой — и в то же время утонченной из-за смены и чередования ямбических и хореических ритмов — романсной теме…» Это только первая фраза, а между тем она заключает в себе такие точные признаки, что нотный пример уже не обязателен: смена и чередование ямба и хорея с обозначением темпа и упоминание о «романсности» — признак, достаточный для того, чтобы представить отличительные свойства этой музыки, ее образ. Три симфонии — три абсолютно различных характеристики. В каждой с поразительным лаконизмом рассмотрены стиль и достоинства конкретного музыкального текста. С протокольно-бесстрастными описательными исследованиями, авторы которых приходят к результатам, «звуки умертвив», работы Соллертинского имеют столь же мало общего, как живое лицо с перечнем паспортных примет. Ни на один миг музыка у него не перестает быть прекрасной и живой. Соллертинский рассказывает о ней, широко оперируя фактами смежных искусств, устанавливая в ней проявление общих закономерностей искусства, убедительно сопоставляя ее с произведениями литературы, театра, живописи. «Фантастическая симфония» Берлиоза примерно соответствует, по его словам, месту «Эрнани» Гюго в истории французской литературы и театра. Он напоминает программные декларации романтизма, называет симфонию «первым в истории музыкальным романом с изощренным психологическим анализом в духе Мюссе или даже Стендаля», сближает ее финал с трагической развязкой «Страданий молодого Вертера» Гёте, заставляет читателя ассоциировать эту музыку с широким кругом явлений романтического искусства. «Берлиоз, — пишет Соллертинский, — первый сблизил музыку с литературой, живописью, философией… „Ромео и Джульетта“, „Гарольд в Италии“, „Осуждение Фауста“ — это гениальный перевод Шекспира, Байрона и Гёте на язык инструментальной музыки». Вагнеровского «Моряка-скитальца» он называет «одним из вариантов молодого человека XIX столетия». И незнакомца в черном плаще, с незапамятных времен носящегося по бурному океану под кроваво-красными парусами, окружает целая плеяда байронических героев, одержимых мировой скорбью. «Дон-Кихота» Рихарда Штрауса Соллертинский сравнивает с беллетристическим романом, симфонии Малера — с философской лирикой. И весьма убедительно: Штраус воплощает перипетии романа Сервантеса, двигается вдоль литературного сюжета, отталкивается от литературного образа; в симфониях Малера действие развертывается «на основе симфонической логики». Столь же блестящи в книге сопоставления с живописью и даже кино, когда проводятся параллели, скажем, между Первой симфонией Малера и «Каприччос» Гойи, или полотнами Питера Брейгеля, или когда малеровскую передачу лирической темы через гротеск Соллертинский сближает с трагической иронией Чаплина. В свободной манере, в форме почти художественной, почти с мемуарной достоверностью Соллертинский воссоздает творческий портрет композитора, его характеристику, иногда вплоть до изображения внешнего облика, круг его образов и идей. Вот, скажем, манера, в которой Соллертинский посвящает читателя в замыслы Берлиоза: «Шекспир, Гёте, Байрон, уличные битвы, оргии бандитов, философские монологи одинокого мыслителя, перипетии светского любовного романа, бури и грозы, буйное веселье карнавальной толпы, представления балаганных комедиантов, похороны героев революции, полные пафоса надгробные речи — все это Берлиоз стремится перевести на язык музыки…» Изображение внутреннего мира художника связывается с широким изображением социально-политической атмосферы эпохи, обладающим чаще всего высокими художественными достоинствами — независимо от того, идет ли речь об «Армиде» Глюка, о поэтико-драматических концепциях Вагнера или о «Прекрасной Елене» Оффенбаха. К слову сказать, статью «Жак Оффенбах» следует отнести к числу лучших созданий Соллертинского. Она могла бы служить образцом органического сплава, в котором оперетты Оффенбаха, нравы Второй империи, судьбы театра «Буфф», премьеры, поражения, слава, Парижская выставка, седанская катастрофа, банкротство, «злая ирония, ядовитая улыбка, аристофановская пародия» Оффенбаха, как пишет Соллертинский, — его «разрушающий скептицизм», историческая оценка его дела составляют одно стремительное искрометное повествование, полное остроумных и глубоких суждений. О чем бы ни говорил Соллертинский — о Мейербере и художественной жизни Парижа 1827 года или о полемике, развернувшейся в 1774 году на страницах «Французского Меркурия» между Глюком и либреттистом «Орфея» Раньеро де Кальзабиджи на тему о том, кому из них принадлежала инициатива оперной реформы, вошедшей в историю под именем Глюка, — исторические события под пером Соллертинского то и дело вызывают в памяти восклицание Пушкина по поводу последних томов «Истории государства Российского» Карамзина: «Это животрепещуще, как вчерашняя газета!» Дать описание всех исследовательских и литературных приемов Соллертинского — дело невозможное. Каждый творческий комментарий, каждая характеристика написаны в манере, соответствующей духу самой музыки. Ошеломляющее действие ариеток и ураганных канканов Оффенбаха на общество Второй империи передается в язвительно-ироническом стиле фельетонов Гейне. Величественный покой Седьмой симфонии Брукнера передан в «медленных» словах с торжественной инструментовкой: «НачиНаЕтся мЕдлЕННОЕ вОлНООбразНОЕ приращЕНие звучНОсти…» (так в орг. — ldn-knigi). О языке и стиле Соллертинского можно было бы написать специальную статью. В данном случае хочется обратить внимание хотя бы на несколько приемов, которые определяют великолепные качества его литературного мастерства. Отмечая роль сквозных мотивов в «Кармен», Соллертинский, прежде всего, естественно, обращает внимание на знаменитый роковой мотив из пяти нот с увеличенной секундой, который впервые появляется у виолончелей в конце увертюры и возникает затем во всех решающих моментах действия, вплоть до сцены убийства, «когда он прорывается с трагическим торжеством на мощном фортиссимо всего оркестра». Вчитайтесь! Вспомните последние такты «Кармен»! Это сказано с волнующей точностью, какой обладает только истинная поэзия! Другой пример: мотив тореадора, «звучащий и в увертюре, и в куплетах в таверне Лилас Пастья, и в зловеще настороженной тишине финала III акта, и в триумфальном марше последнего действия…». «Зловеще настороженная тишина» и «триумфальный марш» звучат как антитезы — не только в музыке Бизе, но и в книге Соллертинского. И понятно, что это не внешние атрибуты литературного стиля, а очень точно услышанные и при помощи выразительных эпитетов очень точно переданные особенности музыкальной драматургии Бизе: благодаря эпитетам мы «слышим» мотив в разных качествах. Достоинства научного исследования и умелое применение средств поэтической речи сообщают текстам Соллертинского высокую точность и убедительность. Краткость определений Соллертинского и отточенность языка часто приближают их к афоризмам: «В „Фальстафе“ Верди становится „смеющимся мудрецом“»; «История в операх Мейербера — это апофеоз декоратора, портного, бутафора, машиниста, пиротехника…» Не ограничиваясь собственными формулами, Соллертинский цитирует блистательные оценки Маркса, суждения Гегеля, Гете, Бетховена, афоризмы Гейне и Берлиоза, статьи Жюля Жанена и Шумана, строфы Пушкина и Шекспира, тирады из романов Гюго и «благонамеренные речи» щедринских «ташкентцев», мемуары Жана Жоржа Новерра, письма Чайковского, мелодии испанских песен из сборника Себастьяна Ирадьера… Но разве это цитаты в том обыденном смысле, в котором мы привыкли понимать это слово? Соллертинский цитирует с наслаждением, призывая авторов в свидетели, пересыпая и расцвечивая речь их меткими выражениями, он дополняет их, продолжает их мысль, соглашается или спорит с ними. В тексте статей Соллертинского это стартовые площадки, это фразы-ракеты, спутники его мысли… Могут возразить, что анализ музыкальной ткани, и рассмотрение фактов музыки в ряду других явлений искусства, и способность передать атмосферу эпохи составляет привилегию не Ивана Ивановича Соллертинского, а советского музыковедения в целом. Это будет справедливо, но только отчасти. Как ни велика способность Соллертинского «рассказывать» музыку, дело все же не в удачах, которыми упиваешься чуть ли не на каждой странице, а в замечательном умении раскрыть концепцию автора, проследить возникновение музыкальной идеи и логику ее образного воплощения, передать эмоциональное содержание музыки, обнаружить творческие традиции и связи, сочетая подход музыковедческий с социально-историческим и культурным; кроме познавательного результата, донести представление об эстетических особенностях произведения. Главное достоинство Соллертинского в том, что он дает явлению целостную оценку. И потому так значительны его выводы. Многие из них, надо думать, будут иметь непреходящее значение и останутся образцами тонких, точных и непреложных суждений о музыке. Приведем хотя бы одно обобщающее суждение — о Брамсе: «Брамс с поразительной проницательностью и дальновидностью понимал, что от листо-вагнеровских эротических томлений и экстазов, от шопенгауэровского, буддийского или неокатолического пессимизма, от тристановских гармоний, от мистических озарений, мечтаний о сверхчеловеке — прямой путь ведет к модернизму и декадентству, к распаду классической европейской художественной культуры… Спор шел ни больше, ни меньше как о дальнейших судьбах европейской музыкальной культуры в целом: удержится ли она в лучших классико-романтических традициях, связанных с великим музыкальным прошлым, или неудержимо покатится по декадентскому наклону, ко всяческим „измам“, к разрушению классических жанров, структур и связей, их нигилистическому отрицанию, к формальному гениальничанию, истерии и внутренней безыдейности — ко всему тому, что будет характеризовать этически опустошенное искусство загнивающего капитализма… Задержать распад европейской музыкальной культуры, ориентировать ее на великие классические эпохи прошлого, схватить ее железным обручем строгой классической формы, бороться с рыхлостью, расплывчатостью, дряблостью неоромантических эпигонов — такова была великая историческая задача Брамса. Поверхностным критикам эта задача казалась рожденной в голове упрямого консерватора и архаиста; по существу она была, во всяком случае, не менее дерзновенно-смелой, нежели вулканический замысел „музыки будущего“». Какой блеск и, какой, не утрачивающий своего значения смысл, хотя сказано это почти четыре десятилетия назад! Нет, пожалуй, сейчас эти слова кажутся даже более современными, чем в 30-е годы! Ради тематической стройности сборника в книгу включены очерки и статьи только о западноевропейских композиторах. И почти все о тех, чью музыку Соллертинский пропагандировал с особой настойчивостью и жаром, добиваясь исполнения забытых или не играных произведений и обновления сложившихся репутаций. Правда, может возникнуть вопрос: Брукнер, Малер… это еще более или менее понятно, но Моцарт, Верди, Бетховен, Глюк, Берлиоз?… Разве они нуждаются или нуждались в такой активной защите и пропаганде? Сейчас такой вопрос будет, в общем, законным. Нуждались! И оперы Глюка, и «Волшебная флейта», и «Фиделио», и Брамс, и Брукнер, и Малер, и Берлиоз! Вначале 30-х годов советские слушатели знали Берлиоза главным образом как автора «Фантастической симфонии» и отрывков из «Осуждения Фауста». И если с тех пор были исполнены все крупные симфонические сочинения Берлиоза — «Гарольд в Италии», «Ромео и Джульетта», «Траурно-триумфальная симфония», «Осуждение Фауста», «Лелио», «Реквием», — то выступления Соллертинского сыграли в этом немаловажную роль. Расширение репертуара вердиевских опер — постановки «Луизы Миллер», «Дон-Карлоса», «Сицилийской вечерни», «Фальстафа», концертные исполнения «Силы судьбы», нынешняя популярность «Реквиема» Верди — в большой мере результат инициативы и настойчивости Соллертинского. Много способствовал он утверждению Брамса. Что же касается исполнений Брукнера и особенно Малера, тут роль Соллертинского переоценить невозможно. Опера Бетховена вошла в репертуар Большого театра, несколько лет назад в Ленинграде состоялась премьера «Моряка-скитальца» — Соллертинский мечтал об этом еще в 30-х годах. «Проданная невеста» была впервые поставлена в Ленинграде по его совету еще в 1937 году и с тех пор стала широко популярной. Можно продолжить этот перечень. Но и без того ясно, что книгу Соллертинского составляют не обычные исследования по истории музыки, а боевые статьи. Важное место в сборнике занимают теоретические работы — «Исторические типы симфонической драматургии», «Заметки о комической опере», «Романтизм, его общая и музыкальная эстетика». Если применить слова Соллертинского, сказанные им по поводу симфоний Брамса, эти статьи «охватывают железным обручем» обобщений все содержание сборника и придают ему тематическое единство. Нет, слово «единство», пожалуй, не совсем правильно. Сквозь книгу проходят две основные темы, определяющие направление научных интересов Соллертинского. Это — проблемы музыкального театра и проблемы симфонизма. К исследованиям об «Армиде», «Орфее», «Волшебной флейте», «Фиделио», «Моряке-скитальце», «Кольце Нибелунгов», об оперном творчестве Верди, о «Кармен», об «Аристофане Второй империи» Оффенбахе примыкает статья о комической опере. Изыскания о симфонизме Берлиоза, Брамса, Брукнера, Малера завершаются работой о типах симфонической драматургии. Положения статьи об эстетике романтизма подтверждаются конкретным анализом музыки Мейербера, Берлиоза, Вагнера и Брукнера. В этой связи пять последних статей образуют самостоятельный «романтический» цикл и определяют третью тему сборника. Статья «Исторические типы симфонической драматургии» направлена против «бетховено-центристской» концепции буржуазных музыковедов, согласно которой симфонизм Бетховена — та ось, «вокруг которой могут быть расположены все прочие симфонические проблемы», — пишет И. И. Соллертинский. Он, в свою очередь, утверждает, что при всех своих исключительных возможностях бетховенский симфонизм «не единственный, а лишь один из возможных типов симфонической драматургии». Этому типу — Соллертинский называет его «шекспиризирующим», ибо он исходит из «диалогического принципа», из принципа множественности противоборствующих идей и воль, — в статье противопоставляются иные типы симфонизма. Прежде всего-симфонизм «лирический», или «монологический», истоки которого прослеживаются им уже в субъективных симфониях Моцарта и который превращается в «ряд страстных личных высказываний, в страницу из дневника, в пламенную, порой мучительную, исповедь» в произведениях романтиков. Особо рассматривается в этой статье симфонизм Чайковского и Малера. По мнению Соллертинского, в поисках больших философских обобщений они тяготели к симфонизму бетховенского типа, но в их симфонизме «героическое начало изображения борьбы отступало перед патетическим, т. е. субъективным, переживанием героического».
 В заключение Соллертинский выдвигает важнейшую проблему — симфонизма эпического, для которого, по его словам, характерна лирика «не отдельной творческой личности, а лирика целого народа». На Западе, если не считать попыток Вагнера создать симфонический эпос, единственным образцом такого симфонизма Соллертинскому представляется гениальный «Реквием» Берлиоза. Полное же осуществление получил этот принцип только в русской музыке. Соллертинский доказывает, что Глинка в «Сусанине» вышел на путь бетховенского симфонизма и на путь симфонизма эпического. Упоминая связанные с «Русланом» оперу «Князь Игорь» и «Богатырскую симфонию» Бородина, сказочно-эпические произведения Римского-Корсакова, Соллертинский называет «величайшим эпическим произведением» «Сказание о граде Китеже и деве Февронии». «Русская музыкальная культура, — пишет он в заключение, — не только творчески освоила и развила на новой национальной основе все существующие типы европейского симфонизма, но и создала в целом неведомый Западу тип эпической симфонии».
Невозможно исчислить в этом воспоминании все богатство небольшой по размерам статьи, мысли, ею возбуждаемые, все частные замечания и реплики «a parte», вроде соображения о том, что программная музыка романтиков через поэтический изобразительно-предметный, живописный образ сохраняла внутреннюю связь симфонического монолога с действительностью, с объективной реальностью внешнего мира.
Принципиальный смысл заключает в себе и другая статья — о комической опере. Соллертинский доказывает, что и в XVIII и в XIX веках она часто оказывалась жизнеспособнее «серьезных жанров», и подтверждает это множеством убедительнейших примеров, начиная со «Служанки-госпожи» Перголезе, пережившей гениальные по музыке оперы Люлли, Рамо, Генделя… В статье прослеживается история комической оперы — музыкально-комедийные шедевры Моцарта, «Севильский цирюльник» Россини, «Бенвенуто Челлини» Берлиоза, «Проданная невеста» Сметаны, «Мейстерзингеры» Вагнера, вердиевский «Фальстаф», русские комические оперы; напоминает автор и о комических персонажах в «серьезных» операх, называя в этой связи и Фарлафа, и Скулу с Ерошкой, и Варлаама.
Причины жизнеспособности комической оперы заключались в ее демократизме, она выводила на сцену «не полубогов в кирасах», а живых современников из народа — крестьян, ремесленников, буржуа, аптектарей, солдат и чиновников, строилась на живых музыкальных интонациях, восходящих к крестьянской песне и городскому фольклору. Именно этим объясняется та важная роль, которую комическая опера сыграла в борьбе за музыкально-сценический реализм.
Трудно назвать другого исследователя, который мог бы так просто, так содержательно и широко раскрыть природу романтизма с его стремлением к синтезу искусств, объяснить природу программной музыки, исторические причины, породившие раздвоенность между действительностью и мечтой, связать в единую стройную систему известные читателю факты романтического искусства. То, что Соллертинский не сам открыл это, а переосмыслил обширную литературу предмета, не умаляет достоинства его работы. Жаль только — здесь следует согласиться с редактором, — что тезис автора о прогрессивном романтизме и романтизме реакционном не получил подтверждения в реальных фактах романтической музыки.
Трудно яснее продемонстрировать, как отразилась в музыкально-драматургической концепции «Кольца Нибелунгов» идейная эволюция Вагнера, совершившего за двадцативосьмилетний период создания тетралогии сложный идейный путь от философского материализма Фейербаха к реакционной идеалистической проповеди Шопенгауэра.
Вы не встретите в книге полемики с буржуазными музыковедами и критиками по частным вопросам. Полемична вся книга. Пафос ее — коренной пересмотр оценок и репутаций, переосмысление традиций, борьба за новое, на основе марксистско-ленинского мировоззрения, понимание великих творений, полных героико-философского и морально-этического пафоса, пересмотр оперного и симфонического богатства от симфоний Гайдна и Моцарта до Десятой симфонии Малера, от «Артаксеркса» Глюка до «Фальстафа» Верди, пересмотр, исходящий из глубокого убеждения, что современный капиталистический мир, который живет «урбанистическими ритмами, джазом, механизированной аэмоциональной музыкой, живет всевозможными архаизмами, стилизациями, экзотическими новинками и изысканностью импрессионистических гармоний», не может распоряжаться классическим наследством, не может осмыслить его и продолжить его традиции, что наследниками великих традиций и великого наследства — и русской и европейской музыки — являемся мы.
В этой книге нет статей о советской музыке, но мысль о ней проходит через всю книгу. Здесь каждая страница писана человеком, размышляющим о задачах и об ответственности, которая легла на советских музыкантов и на советское музыкальное искусство, ибо оно «принимает на себя симфоническое представительство во всемирно-историческом масштабе» и ему нужны все жанры — «не только советский „Фиделио“, но и советский „Севильский цирюльник“», необходим опыт всей мировой культуры.
Пересказать книгу Соллертинского невозможно, я пытался передать хотя бы ее характер.
Пробегая мыслью прочитанное, хочется отметить великолепную работу о Глюке. Соллертинский трактует его как предшественника музыкантов Французской буржуазной революции, обнаруживает развитие его принципов в музыке Бетховена и Берлиоза, опровергает легенду о несценичности его опер. Что же касается Берлиоза, то статья о нем принадлежит к числу самых известных и самых блестящих работ Соллертинского.
Большое значение придается в книге музыкальному воплощению морально-этических и философских проблем. В «Волшебной флейте» — это идея всеобщего братства на основе разума, в сочетании с утопической верой просветителей XVIII века «в безболезненное переустройство мира». Это воплощенный Бетховеном в его единственной опере пафос освободительной борьбы, вдохновленный руссоистской верой в доброту человека, историческими лозунгами Декларации прав человека и гражданина, «непреклонной моралью кантовского категорического императива». Это глубокое убеждение Берлиоза в «философском достоинстве» симфонии. Это и трагедия Малера, одержимого воплощением идеи всеобщего братства в эпоху империалистических войн. Хороши сопоставления Бетховен — Шекспир и Моцарт — Шекспир: в последних операх Моцарта — и в «Свадьбе Фигаро», и в «Дон-Жуане», и в «Волшебной флейте» — Моцарт, по наблюдению Соллертинского, владеет шекспировским искусством многоплановой психологической характеристики. Очень верно и тонко. И вообще страницы, посвященные осуществлению шекспировских принципов в музыке, и прежде всего статья «Шекспир и мировая музыка», великолепны. Интересно брошенное на ходу замечание, что комическая струя в русской опере идет от Гоголя, тогда как «серьезная» русская опера ориентируется на Пушкина.
Но если что-то покажется в этой книге уже знакомым, пусть не подумает читатель, что Соллертинский пересказывает старые истины. Пусть лучше думает, что знает это давно… благодаря Соллертинскому. Книга вышла после смерти автора спустя долгое время. Мысли, в ней заключенные, печатались на обороте программ, в «путеводителях по концертам», брошюрах начиная с 1932 года. Устно были заявлены еще раньше. А лекции, доклады, дискуссии!.. Мысли, темы, сравнения!.. Многое из того, что он говорил и писал, давно уже стало своеобразным фольклором. Но — удивительно это свойство мысли талантливой! — даже ставшая общим достоянием, она не становится «общим местом»!
Д. Д. Шостакович написал очень хорошее предисловие. Значение этих страниц не ограничивается тем, что они представляют собой рекомендацию одного из замечательнейших музыкантов столетия. В известной степени это и частица воспоминаний о друге и человеке, который уже на первых концертах достаточно ясно представлял себе истинные масштабы гениального дарования Шостаковича.
Это книга замечательного писателя, и мыслей в ней столько, что хватило бы десятка на два монографий. Но нет среди них ни одной, которая не прошла бы сквозь сердце Ивана Ивановича, не выражалабы его глубочайших убеждений, не имела бы для него принципиального смысла. Соллертинский сказал как-то: «Наши критики бесстрастно говорят о страстности в искусстве». Если он даже и преувеличил, то, закрыв книгу, вы согласитесь, что судить о страстном отношении к искусству он имел полное право.
В любимых своих композиторах Соллертинский ценил сочетание глубокой творческой мысли вдохновенного мастерства с величайшей доступностью музыкальной речи, Эти слова с полным основанием можно отнести к нему самому.
Пройдут годы и еще годы. А Иван Иванович Соллертинский по-прежнему будет жить в памяти — уже других поколений — как интереснейшая фигура и очень значительное явление советской культуры 20-40-х годов нашего века.
В заключение Соллертинский выдвигает важнейшую проблему — симфонизма эпического, для которого, по его словам, характерна лирика «не отдельной творческой личности, а лирика целого народа». На Западе, если не считать попыток Вагнера создать симфонический эпос, единственным образцом такого симфонизма Соллертинскому представляется гениальный «Реквием» Берлиоза. Полное же осуществление получил этот принцип только в русской музыке. Соллертинский доказывает, что Глинка в «Сусанине» вышел на путь бетховенского симфонизма и на путь симфонизма эпического. Упоминая связанные с «Русланом» оперу «Князь Игорь» и «Богатырскую симфонию» Бородина, сказочно-эпические произведения Римского-Корсакова, Соллертинский называет «величайшим эпическим произведением» «Сказание о граде Китеже и деве Февронии». «Русская музыкальная культура, — пишет он в заключение, — не только творчески освоила и развила на новой национальной основе все существующие типы европейского симфонизма, но и создала в целом неведомый Западу тип эпической симфонии».
Невозможно исчислить в этом воспоминании все богатство небольшой по размерам статьи, мысли, ею возбуждаемые, все частные замечания и реплики «a parte», вроде соображения о том, что программная музыка романтиков через поэтический изобразительно-предметный, живописный образ сохраняла внутреннюю связь симфонического монолога с действительностью, с объективной реальностью внешнего мира.
Принципиальный смысл заключает в себе и другая статья — о комической опере. Соллертинский доказывает, что и в XVIII и в XIX веках она часто оказывалась жизнеспособнее «серьезных жанров», и подтверждает это множеством убедительнейших примеров, начиная со «Служанки-госпожи» Перголезе, пережившей гениальные по музыке оперы Люлли, Рамо, Генделя… В статье прослеживается история комической оперы — музыкально-комедийные шедевры Моцарта, «Севильский цирюльник» Россини, «Бенвенуто Челлини» Берлиоза, «Проданная невеста» Сметаны, «Мейстерзингеры» Вагнера, вердиевский «Фальстаф», русские комические оперы; напоминает автор и о комических персонажах в «серьезных» операх, называя в этой связи и Фарлафа, и Скулу с Ерошкой, и Варлаама.
Причины жизнеспособности комической оперы заключались в ее демократизме, она выводила на сцену «не полубогов в кирасах», а живых современников из народа — крестьян, ремесленников, буржуа, аптектарей, солдат и чиновников, строилась на живых музыкальных интонациях, восходящих к крестьянской песне и городскому фольклору. Именно этим объясняется та важная роль, которую комическая опера сыграла в борьбе за музыкально-сценический реализм.
Трудно назвать другого исследователя, который мог бы так просто, так содержательно и широко раскрыть природу романтизма с его стремлением к синтезу искусств, объяснить природу программной музыки, исторические причины, породившие раздвоенность между действительностью и мечтой, связать в единую стройную систему известные читателю факты романтического искусства. То, что Соллертинский не сам открыл это, а переосмыслил обширную литературу предмета, не умаляет достоинства его работы. Жаль только — здесь следует согласиться с редактором, — что тезис автора о прогрессивном романтизме и романтизме реакционном не получил подтверждения в реальных фактах романтической музыки.
Трудно яснее продемонстрировать, как отразилась в музыкально-драматургической концепции «Кольца Нибелунгов» идейная эволюция Вагнера, совершившего за двадцативосьмилетний период создания тетралогии сложный идейный путь от философского материализма Фейербаха к реакционной идеалистической проповеди Шопенгауэра.
Вы не встретите в книге полемики с буржуазными музыковедами и критиками по частным вопросам. Полемична вся книга. Пафос ее — коренной пересмотр оценок и репутаций, переосмысление традиций, борьба за новое, на основе марксистско-ленинского мировоззрения, понимание великих творений, полных героико-философского и морально-этического пафоса, пересмотр оперного и симфонического богатства от симфоний Гайдна и Моцарта до Десятой симфонии Малера, от «Артаксеркса» Глюка до «Фальстафа» Верди, пересмотр, исходящий из глубокого убеждения, что современный капиталистический мир, который живет «урбанистическими ритмами, джазом, механизированной аэмоциональной музыкой, живет всевозможными архаизмами, стилизациями, экзотическими новинками и изысканностью импрессионистических гармоний», не может распоряжаться классическим наследством, не может осмыслить его и продолжить его традиции, что наследниками великих традиций и великого наследства — и русской и европейской музыки — являемся мы.
В этой книге нет статей о советской музыке, но мысль о ней проходит через всю книгу. Здесь каждая страница писана человеком, размышляющим о задачах и об ответственности, которая легла на советских музыкантов и на советское музыкальное искусство, ибо оно «принимает на себя симфоническое представительство во всемирно-историческом масштабе» и ему нужны все жанры — «не только советский „Фиделио“, но и советский „Севильский цирюльник“», необходим опыт всей мировой культуры.
Пересказать книгу Соллертинского невозможно, я пытался передать хотя бы ее характер.
Пробегая мыслью прочитанное, хочется отметить великолепную работу о Глюке. Соллертинский трактует его как предшественника музыкантов Французской буржуазной революции, обнаруживает развитие его принципов в музыке Бетховена и Берлиоза, опровергает легенду о несценичности его опер. Что же касается Берлиоза, то статья о нем принадлежит к числу самых известных и самых блестящих работ Соллертинского.
Большое значение придается в книге музыкальному воплощению морально-этических и философских проблем. В «Волшебной флейте» — это идея всеобщего братства на основе разума, в сочетании с утопической верой просветителей XVIII века «в безболезненное переустройство мира». Это воплощенный Бетховеном в его единственной опере пафос освободительной борьбы, вдохновленный руссоистской верой в доброту человека, историческими лозунгами Декларации прав человека и гражданина, «непреклонной моралью кантовского категорического императива». Это глубокое убеждение Берлиоза в «философском достоинстве» симфонии. Это и трагедия Малера, одержимого воплощением идеи всеобщего братства в эпоху империалистических войн. Хороши сопоставления Бетховен — Шекспир и Моцарт — Шекспир: в последних операх Моцарта — и в «Свадьбе Фигаро», и в «Дон-Жуане», и в «Волшебной флейте» — Моцарт, по наблюдению Соллертинского, владеет шекспировским искусством многоплановой психологической характеристики. Очень верно и тонко. И вообще страницы, посвященные осуществлению шекспировских принципов в музыке, и прежде всего статья «Шекспир и мировая музыка», великолепны. Интересно брошенное на ходу замечание, что комическая струя в русской опере идет от Гоголя, тогда как «серьезная» русская опера ориентируется на Пушкина.
Но если что-то покажется в этой книге уже знакомым, пусть не подумает читатель, что Соллертинский пересказывает старые истины. Пусть лучше думает, что знает это давно… благодаря Соллертинскому. Книга вышла после смерти автора спустя долгое время. Мысли, в ней заключенные, печатались на обороте программ, в «путеводителях по концертам», брошюрах начиная с 1932 года. Устно были заявлены еще раньше. А лекции, доклады, дискуссии!.. Мысли, темы, сравнения!.. Многое из того, что он говорил и писал, давно уже стало своеобразным фольклором. Но — удивительно это свойство мысли талантливой! — даже ставшая общим достоянием, она не становится «общим местом»!
Д. Д. Шостакович написал очень хорошее предисловие. Значение этих страниц не ограничивается тем, что они представляют собой рекомендацию одного из замечательнейших музыкантов столетия. В известной степени это и частица воспоминаний о друге и человеке, который уже на первых концертах достаточно ясно представлял себе истинные масштабы гениального дарования Шостаковича.
Это книга замечательного писателя, и мыслей в ней столько, что хватило бы десятка на два монографий. Но нет среди них ни одной, которая не прошла бы сквозь сердце Ивана Ивановича, не выражалабы его глубочайших убеждений, не имела бы для него принципиального смысла. Соллертинский сказал как-то: «Наши критики бесстрастно говорят о страстности в искусстве». Если он даже и преувеличил, то, закрыв книгу, вы согласитесь, что судить о страстном отношении к искусству он имел полное право.
В любимых своих композиторах Соллертинский ценил сочетание глубокой творческой мысли вдохновенного мастерства с величайшей доступностью музыкальной речи, Эти слова с полным основанием можно отнести к нему самому.
Пройдут годы и еще годы. А Иван Иванович Соллертинский по-прежнему будет жить в памяти — уже других поколений — как интереснейшая фигура и очень значительное явление советской культуры 20-40-х годов нашего века.
ВАЛЬС АРБЕНИНА
1
Этот вальс знают решительно все. Он нравится музыкантам, и просто людям со слухом, и людям даже не музыкальным; и старым, и молодым, и восторженным, и скептикам, не признающим «серьезной» музыки. Звучит ли он с концертной эстрады, по радио или на патефонной пластинке, вальс этот отвечает каждому сердцу, каждой аудитории, в каждом доме и городе и даже в каждой стране, ибо, возникший в 1940 году как музыка к постановке драмы Лермонтова «Маскарад» в московском театре имени Евгения Вахтангова, он давно уже перешагнул пределы драматической сцены и звучит теперь в концертных залах едва ли не всего мира. Уже первые такты этой удивительной музыки, еще до появления темы, когда, словно на качании высокой волны, вздымается суровое, бурное звучание оркестра, — уже начало этого вальса мгновенно захватывает вас. И вот оно уже увлекло вашу мысль, сообщило ритм дыханию, отразилось у вас на лице. Оно уже полюбилось вам. Внезапно. Без подступов. С первого такта. С первого раза. И навсегда. Дважды, словно чтоб лучше взлететь, тема взбегает, и вот уже плавно скользит на волне, опускаясь и поднимаясь на ней, обретая все более страсти, покуда, бурно взметнувшись на торжествующе скорбном повороте мелодии, не рушится, чтобы снова начать восходящее это движение — дать возможность еще раз постигнуть это могучее и скорбное торжество. Безграничный, «сияющий» покой сменяет в «Ноктюрне» эту мрачную бурю чувств, когда, выпевая под оркестр задумчивую тему, скользит певучий смычок засурдиненной скрипки… Разлетелся мотив стремительной, изящной мазурки… Бережно, без слов пересказала труба романс Нины. И резвый, игривый, задорный галоп, обнажающий деланное веселье и нескромные страсти великосветского бала, — галоп, построенный на плавной мелодии, украшенной жесткими гармоническими узорами, — завершает эту сюиту, составленную из музыки к «Маскараду». Все хорошо в ней! Все отмечено той новизной, которая никогда не состарится. Но вальс… Что-то демоническое есть в этом вальсе. Что-то загадочно-прекрасное заключено в этой музыке — властная сила, так отвечающая энергии лермонтовской поэзии, взметенность, взволнованность, ощущение трагедии, которая вызвала его к жизни. Трудно представить себе музыку, более отвечающую характеру романтической драмы Лермонтова. Если б сказать вам, что это музыка к одному из творений Пушкина, вы не поверите. Это Лермонтов! Это его победительная и прекрасная скорбь, торжество его стиха, его мысли. И в то же время хачатуряновский вальс — музыка глубоко современная и по фактуре и по ощущению поэзии Лермонтова, совершенно свободная от какой-либо стилизации, от попытки «подделаться» так, чтобы трудно было отличить эту музыку от подлинного произведения эпохи. В 1917 году «Маскарад» был поставлен на сцене в Петербурге, в Александринском театре. Он шел тогда с прелестной музыкой А. К. Глазунова. Но вальса Глазунов не написал, он использовал «Вальс-фантазию» Глинки — одно из лучших созданий русской и мировой музыки, — с лермонтовским «Маскарадом» никак, однако, не связанный. «Вальс-фантазия» написан Глинкой в 1839 году, четыре года спустя после того, как был создан «Маскарад» Лермонтова. Первоначально он носил название «Меланхолический вальс». Он полон грустных и нежных воспоминаний, изящества, грации и соответствовал бы скорее элегической поэзии Баратынского, нежели бурным страстям романтической драмы Лермонтова. Напротив, вальс из музыки к «Маскараду» Хачатуряна отвечает мятежному духу Арбенина и как бы содержит в себе предсказание трагической развязки событий. Казалось бы, ничего общего между двумя этими вальсами нет. А между тем эта связь несомненна.2
Сколько написано — в прошлом веке и в нашем — вальсов, быстрых и медленных, увлекательных, мечтательно-томных, под которые кружатся пары, которые созданы для того только, чтобы под них танцевать! Никто, однако, не станет играть их в серьезном концерте: это бальная музыка. Есть вальсы другие, — скажем, Иоганна Штрауса. Вот уже больше ста лет они звучат в бальных залах, на танцевальных площадках и просто на площадях. Но звучат и в концертных залах, — так щедра эта звукопись, так изобретательна, разнообразна и мелодична музыка, вдохновленная сценами народной жизни, картинами австрийской природы. Есть вальсы, под которые танцуют только на сцене. Таковы вальсы в балетах Чайковского — в «Лебедином озере», «Спящей красавице», «Щелкунчике», в глазуновской «Раймонде», в балетах Прокофьева, — сложные музыкальные пьесы, бесконечно раздвинувшие выразительные возможности самого танца. И есть, наконец, вальсы такие, под которые никто не танцует, — музыкальные пьесы в форме вальса: «Вальс-фантазия» Глинки, вальс из Третьей сюиты или из Пятой симфонии Чайковского, концертные вальсы Глазунова, вальсы из сюит Шостаковича, вальс из «Фантастической симфонии» Берлиоза, фортепьянные вальсы Шопена, Листа, Брамса-Форму вальса композиторы используют в этих произведениях для того, чтобы передать глубокие чувства, связанные с воспоминаниями о молодости души, о счастье, о радостном и о грустном. Или с тем, чтобы показать эту музыку в драматическом несоответствии с иными — враждебными — силами, с иным — дисгармонирующим — началом. В музыке симфонической (и фортепьянной) становится важной уже не самая танцевальность вальса, а возможность передать через нее богатый душевный мир, богатый душевный опыт, обратившись к известной и доступной форме, способной вместить огромное лирическое содержание. Слушаешь эти музыкальные пьесы и слышишь в них и самый вальс, и как бы поэму о вальсе, воспоминание о нем; словно вальс является здесь сквозь дымку времени, словно он уже когда-то звучал и продолжает звучать, не теряя ничего в своей неповторимой свежести и новизне. И первый в этом ряду в русской музыке «Вальс-фантазия» Глинки — не танец, а скорее опоэтизированный образ русского вальса, обобщение вальсовой музыки, показ безграничного числа тончайших оттенков чувств, которые можно в нем воплотить. Продолжая традиции Глинки, Чайковского, Глазунова, Хачатурян тоже создал не просто вальс, а как бы его «портрет», обобщение романтической вальсовости, ее «квинтэссенцию», схватил здесь самую суть романтической музыки, «изобразил» ее, не боясь ни густоты красок, ни преувеличения страстей. Он словно сказал этим: «Вот какой вальс должен был написать современник, если бы в русской музыке того времени был композитор одного направления с Лермонтовым! Вот каким представляю я себе подлинный романтический вальс, какими видятся мне поэзия Лермонтова и характер его Арбенина! Я пишу их красками XX века!» И вот этой способностью не только написать вальс, но рассказать в нем о времени, передать в нем характер и столкновение страстей — этим-то и напоминает хачатуряновский вальс «Вальс-фантазию» Глинки. И, может быть, самое удивительное, что это проникновение в особенности русского романтизма, в глубины русской поэзии удалось музыканту, рожденному на Кавказе и — это известно всем! — принесшему в советскую музыку ослепительную звуковую палитру, певучие мелодии и четкие танцевальные ритмы Армении. Объяснение этого музыкального перевоплощения следует, мне думается, искать и в биографии Арама Хачатуряна, и в особенностях советской музыкальной культуры.3
Во-первых, не одной Армении! Органически связанный в творчестве с армянским танцем и армянской народной песней, Хачатурян, если можно применить подобное выражение, свободно говорит в музыке на трех языках. Такие примеры бывали именно в Закавказье. В XVIII веке в Тбилиси жил знаменитый ашуг, известный под именем Саят-Нова, слагавший свои песни на трех языках — армянском, грузинском, азербайджанском. Сын армянина-ремесленника, он стал ткачом, но песни его прославили, и одно время он был придворным поэтом грузинского царя Ираклия II. Саят-Нова погиб в 1795 году, при сожжении Тбилиси войсками персидского шаха, но песни его живут поныне; имя Саят-Новы чтят народы всего Закавказья. Песни Саят-Новы — сложный сплав фольклора трех закавказских народов. Арам Ильич Хачатурян тоже родился в Тбилиси (точнее — в Коджори, над городом). Родился в семье армянина-ремесленника. Это было в 1903 году. Первые его музыкальные впечатления — тбилисский фольклор: песни грузинские, армянские, азербайджанские, которые испокон веков звучат в этом городе. Первый виденный им в жизни музыкальный спектакль — «Абесалом и Этери», опера замечательного грузинского композитора Захария Палиашвили. Если внимательно вслушиваться, не одни армянские темы звучат в произведениях Хачатуряна. В них сказался богатый запас мелодии и интонации, бытующих в Закавказье. Так, в балете «Гаянэ» лезгинка определенно грузинская. Азербайджанские мелодии звучат в «Танцевальной сюите», в Трио для кларнета, скрипки и фортепьяно. И это совершенно понятно: до восемнадцати лет Хачатурян прожил в Тбилиси. Из Тбилиси выезжал в Кахетию, в Азербайджан. В Армению же попал зрелым человеком и сформировавшимся музыкантом. Поэтому, говоря об источниках его музыки, следует в ней видеть сплав трех музыкальных культур — армянской, грузинской, азербайджанской. Самое удивительное — до девятнадцати лет Хачатурян не учился музыке и не знал нот. Правда, он играл на трубе-«теноре» в военном оркестре. Однако легко обходился без нот, ибо в популярном в ту пору «Егерском марше» играл на своей трубе только одну ноту — «соль… соль… соль…». Играл на ударных в ансамбле народных инструментов. Впрочем, это тоже не требовало знания нотной грамоты: вся народная музыка, как известно, воспроизводилась и создавалась на слух. Но то, что усвоил Арам Хачатурян, слушая народные песни, звучание инструментов народных, отзывается теперь в его концертах, симфониях и балетах, определяет характер его композиций, их ритмическую и мелодическую основу. В 1921 году он уехал в Москву, к старшему брату, Сурену Хачатуряну, режиссеру первой студии МХАТа, и поступил на биологическое отделение университета. Любовь к музыке взяла, однако, свое, и в следующем году Арам Хачатурян пришел в музыкальное училище Гнесиных. А двенадцать лет спустя имя его было занесено на мраморную доску у входа в Малый зал Московской консерватории, которую он окончил с отличием по классу композиции профессора Н. Я. Мясковского. Все, что создал Хачатурян в последующие четыре десятилетия, отмечено печатью высокого таланта и удивительного своеобразия. Если можно было бы в книге оперировать звуками, следовало процитировать из его музыки то, что живет постоянно в памяти, сливаясь в одно собирательное понятие — Хачатурян. И первую часть Скрипичного концерта, когда оркестр громко, в унисон провозглашает начало — и пошел трудиться смычок, совершая крутое восхождение, весело и легко пританцовывая, перепрыгивая синкопами через препятствия. И мотив грузинской уличной песенки из второй части Концерта для фортепьяно с оркестром, и танцевальные эпизоды третьей, вызывающие в памяти «Танец с саблями» и другие пляски из «Гаянэ», но похожие на них лишь настолько, насколько бывают похожи друг на друга представители одного народа. И великолепные, сочные фрески из музыки к «Спартаку» — упругие ритмы, радующие сердце роскошные, плотные звучания оркестра. И нежно-горькую тему третьей части Второй симфонии, родившуюся из песни, которую певала когда-то в давние годы мать композитора, склоняясь над открытыми ящиками комода, — тему, зачинающую эпическое повествование о пожарах, сражениях и скорбях в предчувствии ослепительной победы… Какое во всем этом разнообразие ритмов, гармонических красок, как богат и пышен оркестровый убор, как свеж и сочен каждый оборот, необходима каждая частность! В музыке Хачатуряна пленяют свобода мысли и свобода импровизации. Кажется, что в его натуре живет непосредственность народных певцов, не стесненных понятием о «правилах». Но стоит присмотреться, вернее — вслушаться, и становится окончательно ясно, что каждый такт соображен и продуман с великим искусством и большой обстоятельностью и заключает в себе множество смелых находок. Хачатурян не боится «жестких» и резких звучаний. Опыт его, да и многих других композиторов — русских, грузинских, азербайджанских, — уже доказал, что любой, даже ненатренированный, слух легко воспринимает сложные и жесткие обороты, когда движение ведет широкая и свободная мелодия, когда слушатель пленен властным ритмом. Все ярко у него, у Хачатуряна, все самобытно, глубоко современно и демократично в самом высоком значении этого слова. «Русский Восток», образ которого в мировой музыке создали русские композиторы, последние пятьдесят лет красноречиво говорит за себя сам — в творчестве композиторов Грузии, Армении, Азербайджана, среднеазиатских республик… И сочинения Арама Хачатуряна — одно из чудес этого нового, социалистического Востока, который теперь сам создает свой образ в мировой музыке и, оставаясь самим собою, способен вдохновляться жизнью, стихом, песней другого народа.4
Передовой русской культуре, к которой приобщился Хачатурян на первых же ступенях своей творческой жизни, свойственна широта интересов и великая способность постигать черты и характер других культур и народов. Национальная ограниченность была чужда ей всегда. Вот почему, создавая русский национальный характер в «Евгении Онегине», в «Борисе Годунове», «Капитанской дочке», «Русалке», Пушкин вводил в то же время в поэзию финна, цыган, татар, грузин, калмыков, черкесов, Испанию (в «Каменном госте»), Италию (в «Анджело»), Англию (в «Пире во время чумы»), Австрию (в «Моцарте и Сальери»), Германию (в «Сценах из рыцарских времен»), Францию (в «Арапе Петра Великого»), эпос славянских народов («Песни западных славян»), Соединенные Штаты Америки (очерк «Джон Теннер»), интересовался Камчаткой, Китаем. Ни одна из культур Запада не проникла в существо других культур и характер других пародов так глубоко, как сумели постигнуть характеры всех народов лучшие люди России — в литературе, в искусстве. Разве не шел по этому же пути Глинка, когда писал «Арагонскую хоту», венецианскую баркаролу, польскую мазурку и краковяк, вводил в «Руслана» мелодии не только народные русские, но и арабские, персидские, татарские, финские и кавказские?! «Восток» в русской музыке — это не условный Восток Верди или Сен-Санса (хотя и они пользовались подлинными восточными мелодиями). Когда оркестр казахских народных инструментов имени Курман-газы исполняет огненные казахские пляски и вы узнаете в них ритмы и обороты «Половецких плясок» Бородина, вы понимаете, как глубоко проник русский композитор в самую суть половецкой степи, если сумел обнаружить сродство между мелодиями половцев и казахов — сродство, которое научно обнаружено было уже после него! Что ж удивительного, что ученик Н. Я. Мясковского и М. Ф. Гнесина — продолжателя традиций Бородина и других «могучих кучкистов», — с первых шагов своей московской жизни оказавшийся в кругу актеров Художественного и Вахтанговского театров, Хачатурян глубоко усвоил широту творческих принципов русских актеров и музыкантов и, оставаясь на почве фольклора Армении и Закавказья, научился «входить в образ», «вживаться» в явления других национальных культур, изображать их не внешне, декоративно, а постигать изнутри. Вот почему, когда художественный руководитель Вахтанговского театра Рубен Николаевич Симонов обратился к Хачатуряну с предложением написать музыку к «Маскараду», Хачатурян, уже зрелый и прославленный мастер, встретился в тот же вечер со своим любимым учителем Николаем Яковлевичем Мясковским. И у них зашел разговор о Лермонтове, о романтической драме, о музыке той поры. И Мясковский положил на диван партитуру «Вальса-фантазии» Глинки, которую захватил с собой. А вскоре родилась та самая музыка, которая, теперь уже кажется, существовала всегда: словно на качании высокой волны начинается суровое, бурное звучание оркестра, которое захватывает вас сразу. Внезапно. Без подступов. С первого такта. С первого раза. И навсегда…ПИСЬМО К ЮРИЮ ПИМЕНОВУ
Дорогой Юрий Иванович, пишу под впечатлением от Вашей выставки. Хотел оставить несколько слов в книге отзывов, но возле стояла такая длинная очередь жаждущих высказаться и почитать, что там пишут, что я решил обратиться к Вам с этим посланием. Во всем, чего бы Вы ни касались, Вы проявляете тончайшее остроумие: не в смысле смешного (хотя и такой аспект остроумия присущ, Вам в высокой степени), а в смысле неожиданной остроты видения, великолепной изобретательности. Как опытный рассказчик развивает повествование, не сразу раскрывая сюжетный секрет, а заставляя читателя вникать в ход событий постепенно, с тем чтобы интерес нарастал, тек и Вы:: деталь за деталью Вы раскрываете существо Вашей вещи, «эшелонируя» рассматривание, давая зрителю возможность, всмотревшись, добраться до сути Вашего—всегда поэтического — секрета. В этом смысле одна из самых показательных вещей — «В день золотой свадьбы», где на первом плане серебряные горлышки бутылок и великолепные гладиолусы, а сзади, на стенке, в полутьме фотографии — словно невзначай изображенная пара, в молодости и в старости. И потому, что они, как можно судить по фото, люди рабочие, прожившие большую и сложную жизнь, праздничный стол символизирует не только их нынешний уровень жизни, но обретает такой глубокий социальный и исторический смысл, что вещь — на первый взгляд натюрморт — оказывается повестью о людях, о времени, о судьбе. И хорошо, что тема запрятана, что до нее нужно добираться, что ока «не торчит», что настоящая тема — метафора: «золотая» потому, что богатая, щедрая. И потому, что ценная, добытая трудами всей жизни. И потому, что прожито вместе пятьдесят лет. Потому, наконец, что зто не просто цветы и бутылки, а нечто очень глубокое по содержанию и по выражению, — все это заставляет долго смотреть и долго думать. И отходишь от стены с тем сложным чувством, с каким закрываешь томик хороших стихов: внешнюю фабулу стихотворения понял, внутренний строй прочувствовал, но не до конца осознал. И уиостиъ его в памяти как богатство, которое не успел исчерпать до конца. А разве для того, чтобы напиться, надобно выкачать из колодца всю влагу? Это вовсе не значит, что «Золотая свадьба» понравилась мне больше всего, — просто очень удобный пример. «Между работой и театром», — где о девушке говорят ее вещи, — сюжет не менее значительный и не менее выразительно воплощенный. И у Вас десятки таких умных, многозначительных и тонких работ. В области натюрморта Вы производите какой-то очень важный, принципиальный, сдвиг. Не потому, что вещи прежде не выражали людей! Выражали. Выражали художника прежде всего! Но Вы вносите в это дело сюжет, динамическое начало, тогда как натюрморт — вещь статическая. Умение передать большое в малом, общее посредством частного, с великолепным умением обобщить каждую частность, составляет одну из наисильиейших сторон Вашего дарования. «Следы шин» — об этом много и пишут и говорят. И все же это волнует каждый раз пронзительным изображением того, что казалось тебе только твоим интимным постижением жизни. Мне нравится Ваше пристрастие к «вариациям». Различные воплощения одной и той же темы, столь великолепные в музыке, почему-то не так ощутительны в других искусствах (я не имею в виду однообразия, которое часто терзает наши глаза и уши!). Эта «вариационность» — излюбленные Ваши темы, образы и даже приемы — прелестна у Вас. Именно благодаря этому Вам удается передать движение времени и черты времени, ибо Вы умеете вызвать в памяти Ваши же собственные образы и нужные Вам ассоциации. Благодаря этому отдельные и совершенно самостоятельные вещи образуют одно, становятся как бы частями огромного целого. Интимные, лирические сами по себе, сложенные вместе, они вызывают ощущения эпические. Вам очень свойственно умение вызвать в памяти, привычные, традиционные представления и тут же опровергнуть, переосмыслить их. Какой знакомой по теме кажется картина «У переправы»! Но всмотришься — самосвал, легковая машина там, где прежде стояла бы лошаденка, запряженная в трясучую телегу. И простор воды, простор неба превращаются в простор времени, ширь истории. Снова вещь говорит больше, нежели сказано в ней. Ока умна, тонка, остроумна, легка и свежа по фактуре и так противостоит всяческой старомодности, что самая мысль о намеренном переосмыслении традиционной темы приходит в голову долго спустя. Движение времени Вы передаете по-разному. И, разумеется, самый очевидный из всех приемов, самый доступный и заметный для всех — это триптих «Новая Москва 1937 года», «Фронтовая дорога» и «Новая Москва 1960 года». Насколько волнуют две первые — и каждая сама по себе и в сопоставлении, — настолько третья оказалась по своим внутренним достоинствам ниже. И вот почему.
В 1937 году Вы показали нам «Новую Москву» — Охотный ряд, впереди Колонный зал Дома союзов, ставший совсем маленьким рядом с новыми зданиями. И затылок девушки за рулем — совсем близко от нас, словно мы едем в одной с ней машине. Благодаря этому мы увидели Москву не ее глазами и даже не Вашими, а своими. И навсегда сохранили за это благодарное чувство по отношению к Вам и к ней, показавшей нам красоту новой Москвы. Когда несколько лет спустя мы увидели «Фронтовую дорогу», повторившую тот же прием, нам показалось, будто в шинели и красноармейской ушанке перед нами явилось знакомое и уже любимое существо (лица которого мы никогда не видели, а только стриженую золотистую голову). Она ли это вела машину по фронтовому асфальту? Или другая? Это не важно. Важно, что мы вспоминали «ту». Задумывались о ее судьбе. И о судьбе новой Москвы, подвергнутой таким испытаниям! Словом, в том сопоставлении был глубочайший смысл. Сюжет раздвигался. Искусство пространственное обретало черты искусства во времени.Ю. Пименов. Новая Москва. 1937

И вот новая «Новая Москва 1960 года». Да, мы узнаем ее — нынешнюю, с виадуком через Садовое кольцо. Видим метро. Видим повторение; приема. И узнаем Пименова. Но «секрета поэзии» в этой картине нет. Нет движения времени. Потому что — одно из двух. Либо за рулем сидит та же — непостаревшая, а следовательно, отвлеченная — девушка. И тогда нет судьбы, есть прием. Или это другая девушка? И тогда ее судьба не связана с той, полюбившейся нам. И тогда в картине нет пименовского остроумия, подхода к теме, тонкого, незаметного. Наверно, надо было рискнуть и состарить эту благородную голову. И смысл перемен был бы добыт ценой ее седины (может быть, очень легкой), если можно применить здесь эти слова — «ценой ее жизни». И снова была бы судьба и третья находка. И третье — вдохновенное — воплощение темы. Простите меня, что я пишу Вам это. Но делаю это я оттого лишь, что кажется, я сам принимал участие в этом. А подобное ощущение вызывают произведения только очень значительные. Никому не придет в голову, что он мог бы сам написать чужие посредственные стихи, но каждому мерещится, что он и сам догадался бы написать «Войну и мир», если б это до него уже не сделал Толстой. Кажется мне, что названия Ваши — это тоже особая и очень тонкая тема. Они всегда не в лоб, всегда сдвигают тему и заставляют обнаружить главное потом, испытав при этом радость открытия. Вы пишете: «Облака». А дело — в людях. Но этот сдвиг дает Вам право выстроить по-новому кадр, сместив смысловые акценты. «Туманное утро»… Да разве дело в тумане? Дело в коровах, которые глядят на купальщицу. И словно удивлены прелестью и новизной человека. А вот эта настороженность стада дает Вам возможность туманное утро — то есть состояние природы — изобразить как событие, внести в эту картину действие. Название «В пригородном поезде» вызывает представление о целом вагоне, о разных людях, о разных позах и настроениях. А у Вас — одна пассажирка. Да и та изображена фрагментарно. И новизна этого с особой остротой ощущается благодаря сдвигу обычных представлений, тем более что и вагона-то почти нет, вагон почти подразумевается. А все эти кинематографические по построению кадры, с урезанным корпусом машины или в кадре только лицо и рука, — вез это очень здорово, очень точно и метко! И все на сдвигах — на осмыслении вторых планов, на значительности деталей. Падает вражеский самолет. Но сначала Вы видите тоненькие березки, фигурки наших солдат, радующую своей, я бы сказал, «патриотической достоверностью» обстановку сражения. А самое падение подбитого самолета — важный сюжетно, важный композиционно, ко эмоционально второстепенный элемент. И понятно: содержание рисунка не падение немецкого самолета (как было бы у многих художников), а радость и азарт победы. В литературе, в театре есть понятие «подтекст». У Вас мощный… не знаю, как назвать, а слово «текст» не годится. Но все это было бы хорошо, было бы многообразно и содержательно и все же не давало бы даже приблизительного представления о Пименове, если бы не артистизм, элегантность, если бы не «краткость», не сжатость, которая кажется иногда даже скупостью средств в сочетании с щедрым изображением фактуры в радостных и всегда новых красках. Удивительно хорошо! В каждой из Ваших вещей есть та непосредственность, которая не боится самоповторений, сопоставлений, ассоциаций, вызывающих в памяти полотна французов, иногда передвижников. Просто Вы говорите, потому что Вы хотите сказать так, не задумываясь, употреблял ли кто-нибудь до Вас эти нужные Вам слова, и потому они оказываются только Вашими, единственно нужными, и ими все сказано. Когда ходишь по Вашей выставке, с уважением думаешь не только о Вас, но и о других сильнейших наших художниках, потому что Ваши удачи не могут не вызывать мыслей о судьбах нашего изобразительного искусства. И мыслей добрых, а не тех раздраженных, когда видишь моря однообразных решений, доставляющих удовольствие только тем, кто эти картины писал, и тем, кому они нужны для отчета. А видя щедрого человека, вспоминаешь и других щедрых. Но чем лучше Вы и другие лучшие, тем хуже те, кто пишет плохо. Не потому, что они не способны. А потому, что они ничего не собирались сказать, кроме того, что уже сказано и к чему они ничего не имеют добавить. Простите меня, дорогой Юрий Иванович, заговорил Вас. Я мог бы, вероятно, еще долго продолжать мысленное путешествие по Вашей выставке, если бы не боялся отвлечь Вас от работы и тем самым отнять у всех нас возможность увидеть еще одну Вашу вещь. Ваш Ираклий АндрониковЮ. Пименов. Фронтовая дорога. 1946
ИЗ ЖИЗНИ ОСТУЖЕВА
ГОРЛО ШАЛЯПИНА
В Боткинской больнице в Москве мне пришлось как-то лежать в одной палате с замечательнейшим актером и замечательным человеком — народным артистом СССР Александром Алексеевичем Остужевым. Если вам не случалось видеть его на сцене, то уж наверно доводилось слышать о его необыкновенной судьбе. Много лет назад, еще до революции, молодой артист московского Малого театра Александр Остужев, наделенный талантом, благородной внешностью, сценическим обаянием, великолепными манерами, поразительной красоты голосом, заболел. И в несколько дней потерял слух. Навсегда. Почти полностью. Планы, надежды, будущность, слава — казалось, все рухнуло! Жить без театра! О нет! Остужев убедил себя в том, что можно дойти до таких степеней совершенства, когда глухота не будет страшна ему. Он знал себя, он рассчитывал на силу воли, на упорство свое, на всепреодолевающий труд. Он верил в дружбу, верил в Малый театр! И остался актером. Чтобы сыграть в спектакле роль, даже самую крохотную, он выучивал наизусть всю пьесу. Чего стоило ему произносить свои реплики вовремя, поддерживая живой диалог, делая вид, что он слышит партнеров! Забудь он свой текст — ни один суфлер мира не помог бы ему, как кривое колесо шел бы такой спектакль до конца акта. Любовь к театру превозмогла все! Фамилия Остужева появлялась на афишах театра в продолжение многих лет. И стояла она не в конце среди лиц без речей, а в начале. Он играл бурных героев Шиллера и Гюго, Скупого рыцаря Пушкина, шекспировского Антония, Чацкого. Незадолго до последней войны, когда ему шел шестьдесят третий год, Остужев сыграл роль Отелло — и так, как уже давно никто не играл ее в русском театре. Два с половиной часа сходился и снова шел занавес. Два с половиной часа театральная Москва стоя приветствовала замечательного актера, который свершил великий художественный и, я бы сказал, великий нравственный подвиг… А потом он сыграл Уриэля Акосту. И опять замечательно! Эти образы в его исполнении вошли в число лучших творений советского драматического искусства. И, конечно, в том заслуга Остужева. Но подумаем: много ли на свете театров, которые решились бы оставить в своей труппе глухого, верили бы в его силы и довели бы его до триумфа? Мне думается, славные строки вписал Малый театр в свою историю, и без того уже славную, в тот самый день, когда второй раз поверил в Остужева! Подолгу рассказывал мне старый актер о былой театральной жизни. А я слушал, опасаясь задать вопрос, вставить слово. Дело в том, что никто в больнице не желал слышать мои громкие возгласы, не слыша тихих ответов Остужева. И как только я открывал рот, в стену стучали. — Не спра-ши-вай-те мэ-ня ни о чем! Ра-ди бо-га! — восклицает Остужев протяжно, скандируя каждое слово, выговаривая каждый звук так отчетливо, что порою кажется — он говорит с каким-то странным акцентом. Действительно, это почти акцент — речь глухого, который произносит все звуки в словах полностью, так, как они пишутся на бумаге. Но удивительно: в этой речи, звучной и плавной, замедленной, есть что-то необычное, приподнято-театральное, праздничное. Как и в манерах его. Остужев привык к широким, красивым жестам, к обдуманным, завершенным движениям. Все это казалось бы позой, если б не детская искренность, если бы не высокая честность мысли и чувства Остужева. II поэтому возвышенная, «романтическая» манера как-то вяжется с обстоятельным, неторопливым рассказом, разукрашенным бытовыми подробностями и даже словечками вроде «хлебал», «дубасил», «ухлюстывал»… Он любит паузы. Они заполнены мыслью, воспоминаниями, соображением, как лучше передать в словах то, что стоит перед его мысленным взором. Пожалуй, паузы в рассказах Остужева не менее значительны, чем слова. И это понятно: он знает цену молчанию. И он никуда не торопится. Вот, сжимая локоть кистью другой руки, сидит он, не утративший юношеских пропорции и легкости, благородный, красивый, светлоглазый старик, изящный даже в больничной пижаме.* * *
— Я поздно родился, — громко и раздельно говорю я, — не видел Ермолову!.. Остужев вскинул брови, поворачивает ухо вполоборота ко мне, приставляет ладонь: — Простите!.. — Мне не посчастливилось видеть Ермолову, — кричу я изо всех сил. — Я слышу: не надо так орать. Там, за стеной, больные. Они страдают. Если вы будете так надрываться, нас с вами отсюда вытряхнут… Вы про кого спросили меня? Про Ермолову?… Не надо его торопить: он собирается с мыслями.
— Тот, кто не видел ее на сцене, — начинает Остужев голосом легким и звучным, который отличишь среди тысячи, — кто не видел ее, никогда не поверил бы, что она способна потрясать души… Она была скромна, молчалива, замкнута — слепое неверие в сноп силы. Надо играть спектакль. Шел уже множество раз. Сама не своя. С утра за кулисами. Чтобы не опоздать к вечеру. И пошла вымеривать шагами доски пола, считать шляпки гвоздей. Сжимает холодные виски ледяными ладонями. В полном отчаянии. Сегодня она поняла окончательно: у нее нет никакого таланта. А когда выйдет на сцену — вдобавок ко всему забудет текст роли. Суфлер ей подскажет, а она не расслышит. И тогда наконец все поймут, что она пользуется незаслуженной славой. Ходит, произносит шепотом монологи, трепещет от любви, идет на казнь, обращает к миру последние слова. Вся в слезах. Так — до вечера… Ничего не ела весь день. Загримирована и одета за час до спектакля. Сжатые руки опущены. Одни зрачки вместо глаз. Какая-то магнетическая сила исходит от ее лица, от всей ее благородной фигуры. Вот встала в кулисе. Режиссер Кондратьев кивает: «Ваш выход, голубушка». Медленно обращает на него взгляд, полный волнения и власти… вышла на сцену… И зал ударяет током!.. Все, что сидело, развалившись и облокотившись, поднимается, как под ветром… Произнесла своим грудным голосом первые фразы — все устремилось вперед, как к источнику света?… Закончила монолог — и на многих лицах блистают слезы!.. Не потому, что она сказала что-нибудь жалкое! Или растрогала! Неееееет!.. — вскрикивает Остужев, словно пронзенный. — Нет! Потому что она приобщала к рождению искусства!.. Я играл с ней Незнамова в пьесе Островского «Без вины виноватые»… Мне трудно бывало произносить текст моей роли: я плакал настоящими слезами… В глазах его появляется отблеск тех слез; он переводит взгляд в окно и молча рассматривает зеленый больничный сад и вечереющее московское небо. — Великая женщина! — произносит он наконец, вернувшись взглядом в палату. Молчим. — Я прожил счастливую жизнь, дорогой!.. (Как люблю я этого человека и эти рассказы! «Счастливую жизнь» — глухой, одинокий старик…) — Более полувека я играл в Малом театре. У меня были замечательные учителя — Александр Иванович Южин-Сумбатов, Александр Павлович Ленский, Владимир Иванович Немирович-Данченко. Люди, которые меня, паровозного машиниста, вывели на сцену моего дорогого театра и дали познать радость творчества!.. У меня были замечательные друзья — Климов Мишка (Михал Михалыч), Коля (Николай Марнусович Радин)… Какие это были удивительные актеры — легкие, умные! Какие веселые и талантливые ребята!.. …В мою пору играли такие титаны, как Степан Кузнецов в нашем Малом, Леонид Миронович Леонидов в Художественном. Мы с ним очень дружили. У меня и во МХАТе были друзья — Грибунин Владимир Федорович, Николай Григорьевич Александров… О, это были актеры прекрасные! И великие мастера на всякие выдумки, таланты, неистощимые в шутках!.. …Мы всегда жили большой актерской семьей, в которую входили и оперные. Я лично очень дружил с Леонидом Витальевичем Собиновым. И сейчас, между прочим, расскажу вам забавную историю. Надо знать, что до революции у московского Большого театра и у московского Малого театра костюмерная была общая. А все находили, что у нас с Леней Собиновым одинаковые фигуры. Поэтому, невзирая на то, что Собинов служил в Большом, а я в Малом, на нас двоих сшили один костюм — для Ромео… Споет Собинов в «Ромео и Джульетте» Гуно — волокут этот костюм в Малый театр. Я его немножечко ушью в поясе (у Лепи талия была пошире моей!) и выхожу играть Ромео в трагедии Шекспира. А в последнем акте меня уже тычут в спину: «Отдавай обратно костюм — завтра Собинов снова поет Ромео…» А потом он встречает меня, и начинается: «Кто тебе позволил ушивать наши портки? Чувствую вчера: не могу опереть голос — не набираю дыхания. В антракте гляжу — портняжничал! Я велел распороть! Только тронь теперь!.. Соскочут? Ничего не соскочут!.. Не мое дело, — надуй пузо и выходи!..» — …В то время, когда я слышал, — Остужев пальцем легонько касается уха, — я очень любил бывать в опере. И мог бывать сравнительно часто. Потому что в молодые годы мне поручали такие большие роли, что через двадцать минут после начала спектакля я уже шел разгримировываться. Закатят мне, например, в первом акте пощечину. И я скрываюсь. На сцену больше не выйду. И мог бы скрыться в Большой театр. Или, скажем, проткнут меня в первом акте шпагой на поединке. И я мертвый. И могу мертвый сидеть в Большом театре. Либо меня разыскивают по ходу пьесы, чтобы вручить мне большое наследство. А я об этом не знаю. И могу не знать тоже в Большом театре. Но на спектакли, в которых пели Алчевский, Нежданова, Собинов, билеты всегда нарасхват. И прежде чем у нас в Малом вывесят репертуар на следующие полмесяца, в Большом — ни одного места. И не достать. H тогда я решил воспользоваться тем, что у Большого и Малого не только костюмерная была общая, но и дирекция была общая. А возглавлял ее очень воспитанный и подтянутый старичок — генерал в отставке фон Бооль. Добился приема, рассказал ему о своих затруднениях. Он при мне приглашает чиновника и главного капельдинера и говорит: «Благоволите пропускать господина Остужева на все спектакли Большого театра, в любое время, кроме дней тезоименитств их императорских величеств…» Отпустил иx и обращается ко мне: «Постоянного места, господин Остужев, я вам не могу предоставить. А разрешаю бывать запросто — за кулисами». — Какое счастье!.. — Остужев смыкает руки и прижимает их к сердцу. — Он лишил меня почетного права задирать башку в заднем ряду артистической ложи, откуда ни черта не увидишь. Вместо этого я получил разрешение прибегать в любой час за кулисы Большого театра и, стоя рядом, следить за игрой величайших мастеров русской оперной сцены. Это было для меня настоящей школой! Видите ли, дорогой!.. Ученый, писатель, композитор — они творят в тиши своего кабинета. Поэт, который хочет создать свои строфы, находит уединение даже на улице. Но актер, — и в том числе великий актер, который готовится выйти на сцену, чтобы создать неповторимый образ, — он перед началом спектакля чувствует себя за кулисами как на базаре! Все лезут к нему, чмокаются, берут под руку, нашептывают жирные анекдоты… И я всегда понимал, какое страдание для такого актера, как, скажем, Федор Шаляпин, ежесекундно отвлекаться перед началом спектакля на пустяки. И хотя я был с ним знаком, если он занят в спектакле, никогда не лез кланяться. Увижу — и отойду в сторонку. Я понимал, что он простит мне эту невежливость. Но я не мог отказать себе в наслаждении наблюдать, как Шаляпин гримируется!.. Оооооооооо!!!!!!!! Мир не видел такого гримера!!! Вообще говоря, каждый актер должен был бы гримироваться сам. Рассчитывать на руку гримера — все равно, что надеяться на то, будто вы можете выразить на моем лице волнующие меня чувства. Попробуйте! Не выходит? То-то!.. Ну, а уж лучше Шаляпина никто не мог знать, как поведет себя его физиономия на предстоящем спектакле. Это же был великолепный художник! Бывало, после спектакля едет с друзьями в ресторан, и, пока лакеи тащат всякую всячину, он вынимает из кармана цветной мелок и начинает рисовать на крахмальной скатерти разные морды — карикатуры, автопортреты, эскизы своих гримов. А каналья ресторатор под видом, что скатерть не чиста, тащит другую, а ту, что с рисунками, загоняет поклонникам. В тот вечер, когда Шаляпин выступает в Большом, — я житель кулис. Встану тихонько у дверей его артистической и наблюдаю, как он работает. А он сидит раздетый до пояса перед тройным зеркалом-складнем, смотрит на себя недовольно, хмыкает и моргает своими белыми ресницами. Перед ним на столике лежит черная курчавая борода — огромный вороной клин с вырезанными треугольниками на щеках: он поет сегодня партию свирепого военачальника Олоферна в опере Серова «Юдифь»… Корпус Остужева чуть подался вперед — и уже не Остужева вижу я, а Шаляпина перед зеркалом: дерзкий вырез ноздрей, крутую шею, обнаженный могучий торс… А голос рассказывает: — Потрогает, помнет свою физиономию, чтобы узнать, из чего она у него сегодня сделана, встряхнет бороду, прикинет к лицу. И щурится… Кончики пальцев Остужева подперли складку под нижней губой — ассирийская борода! Насупилась бровь — сверкнул яростный взгляд Олоферна,… Бровь поднялась, ушли руки — снова Остужев. — Налюбовался, — продолжается неторопливый рассказ, — придвинул карандаши, краски, начал класть смуглый тон, клеить черные — стрелами — брови… Удлинил разрез глаз, вытемнил ямки у переносья… Нахмурился… И опять в ясном взоре Остужева смелое выражение светлых шаляпинских глаз. Руки поднесли к лицу воображаемую бороду — блеснули грозные очи ассирийца. — Кашлянул — прокатил голосом первую фразу: «А… гхм… они тебя скрывают… хгхы… эти соб-баки… черррви…» (Намеком возникла в рассказе фраза, испробованная тогда Шаляпиным!) Не отнимая от лица бороды, Шаляпин опустил голову, поднял бровь, глянул искоса — смотреть страшно!.. Отложил. И большим пальцем от крыла ноздри повел к углу рта жестокую коричневую складку! А в комнате… полно народу! Какие-то субъекты в смокингах и во фраках, с крахмальными пластронами гогочут, сообщают последние театральные сплетни, демонстрируют друг другу циферблаты своих часов… Только не курят ему в лицо! А он иногда обернется к ним, бросит реплику… И снова занимается своей бородой. Подклеит. Повертит головой во все стороны. Оторвет. И вот здесь, под глазами, нарисует большие синие треугольники. Вдруг к нему подходит ларинголог — горловой врач. Испрашивает: «Феденька! Мальчик! Как твое горлышко?» «Ничего, в порядке!» «Ну, не ленись, детка! Покажи мне свою глоточку!» «На, смотри! Ахааааааа…» И тогда все, кто был в комнате, перестали брехать, подошли к Шаляпину и, оттесняя друг друга, стали заглядывать ему в рот. И выражали при этом бурные одобрения. А он очень спокойно показывал: «Кто еще не видал?… Ты? На, гляди!» Наконец он прогнал их. Они отошли в свой угол, встали в кружок, как оперные заговорщики, и начали обсуждать виденное. О,горе!.. Из тех слов, которые я мог расслышать за порогом, я понял, что пропустил нечто сверхъестественное, чего уже, может быть, никогда не увижу. И тогда я оторвался от косяка, вступил в комнату, робко приблизился к Шаляпину и сказал: «Федор Иванович! А мне нельзя? Посмотреть?» Он повернулся: «А ты где был-то?… У дверей стоял?… А чего ж не подходил?… Побоялся?… Маленький!.. Гляди не заплачь! Ты что, один остался непросвещенный? Жаль мне тебя, темнота горькая!.. Так уж и быть — посмотри!» Раскрыл рот… Остужев делает долгую паузу. Потом выкрикивает, с жаром: Вы не знаете, что — я — увидел!!! Выставив руки, словно предлагая наматывать на них шерстяные нитки, он округляет ладони, соединил кончики пальцев — руки встретились; оглядел образовавшееся внутри пространство, дал мне налюбоваться, глядя в глаза мне, крикнул звонко, отрывисто: — КРАТЕР!!! Полная напряжения пауза — и снова яростный возглас: — Нёбо?!. Из ладоней образуется круглый свод: — КУПОЛ!!! Он уходит под самые глаза!.. И вот под этим куполом рождается неповторимый тембр шаляпинского баса!.. Язык, как морская волна в знойный полдень, едва зыблется за ожерельем нижних зубов… И ВО ВСЕЙ ГЛОТКЕ НИ ОДНОЙ ЛИШНЕЙ ДЕТАЛИ!.. Она рассматривается как сооружение великого мастера! И я не могу оторвать глаз от этого необыкновенного зрелища!.. Наконец Шаляпин закрыл рот и спросил: «Ты что? Не нагляделся еще?… А чего ты так выпучился? Не бойсь! Не проглочу! А теперь ступайте отсюда все! Работать не даете! Осточертели! Дьяволы!..» И все, толпясь, вышли. И я выскочил из артистической, пристроился в кулисе, видел, как мимо, шумно дыша, прошел Шаляпин в сандалиях, с золотыми браслетами на голых руках, в золотой диадеме, в шелках и в парче — словно отделился от вавилонского барельефа. Потом услышал, как в зал, расширяясь и нарастая, полетел раскаленный шаляпинский звук… Слушал, смотрел… И не мог отделаться от представления об этом огромном поющем раструбе. Особенно в те мгновения, когда Шаляпин брал верхние ноты и язык дрожал у него во рту. …Кончился спектакль. Приезжаю домой. Первое, что я делаю, — беру зеркальце, чтобы посмотреть, какая у меня глотка!.. ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО — Я УВИДЕЛ!!! Остужев складывает два указательных пальца и чуть раздвигает их: — ГОРДО ПИВНОЙ БУТЫЛКИ!.. Нёбо?! ПОТОЛОК В ПОДВАЛЕ!.. Язык?… Как КУЛАК торчит во рту. А дальше — потемки дремучие!.. На другой день встречаю в Камергерском приятеля — очень культурный человек, окончил консерваторию, много писал о певцах. Рассказываю: «Был за кулисами у Шаляпина — непостижимое чудо природы!.. Гортань, — показываю, — во!.. Нёбо — во!..» Никакого эффекта! Не ахнул, не улыбнулся… Потом говорит: «Тебе, дураку, это внове. А нас, людей сведущих, этим не удивишь. Я горло Шаляпина знаю. Согласен с тобой — это чудо! Но не природы! Это — чудо работы, систематической тренировки… У Шаляпина от природы — великолепный бас, — редчайшие связки! И обыкновенная глотка. Но его первый учитель пения, Усатов, специальными упражнениями сумел поднять ему мягкое нёбо, расширил стенки гортани, он выучил Шаляпина — ну как бы тебе объяснить? — полоскать горло звуками… Я когда-нибудь покажу тебе принцип упражнений, которые помогли Шаляпину отшлифовать дар природы… Слушай, Шаляпин — человек — шекспировского таланта, тончайшей интуиции, глубокой художественной культуры, высочайшей требовательности к себе и к другим… Шаляпин — вокалист, для которого технических пределов не существует. Это великий труженик, при этом вечно собой недовольный… Бросьте вы все болтать про чудо природы, выдумывать, будто Шаляпин сразу родился великим певцом, что он ничего толком не знает и ничего не умеет, что на него во время спектакля нисходит непонятное озарение… Все разговоры: „Шаляпин прогнал“, „Шаляпин скандалит“, „Шаляпина беспокоит, „зазвучит“ или не „зазвучит“ вечером“ — это толки ничтожных сплетников, пошляков, которым хотелось бы разменять его золотой талант на медные пятаки в искусство… Брал бы лучше пример — с Шаляпина! Голос, которым владеешь в совершенстве, — сокровище не только в опере, но и в драме… Почаще вспоминай Федора Иваныча! Нам многому следует у него поучиться!..» — Разговор происходил… — Остужев припоминает, — в тысяча девятьсот… девятом году, дорогой. Около сорока лет назад… Я использовал этот совет и с тех пор систематически упражнял горло. Вы сами часто выступаете с эстрады — для вас это должно представлять интерес. Взгляните!.. Остужев разинул рот… Гляжу: нёбо — высокая арка. Как подъемный мост, опустился язык, открыв вход в огромный тоннель. Горло? О нет! Не горло вижу я — сооружение великого мастера! И не могу отвести глаза от этого необыкновенного зрелища! Закрыв рот и видя, что я сижу удивленный — и этим рассказом, и видом этой гортани, Остужев победоносно, но скромно перекинул через руку мохнатое полотенце, взял мыльницу и, прикрывая отсутствующий на больничной пижаме галстук ладонью, отправился умываться на ночь. Как только он вышел, я поспешно выдвинул ящик из тумбочки возле кровати, достал зеркальце, открыл рот… Вы не знаете, что увидел я!.. Бугор языка, сзади — потемки. И никаких перспектив! С того времени я тоже стал упражнять горло. Недавно смотрел — пока демонстрировать нечего. Ну что ж!.. Не все пропало еще. Посмотрю через сорок лет!..А. А. Остужев (справа) с автором этой книги. Фото А. Леса. 1949
ОШИБКА САЛЬВИНИ
Вы, конечно, уже догадались: мне было интересно узнать, как Остужев — замечательный исполнитель роли Отелло — расценивал других исполнителей этой же роли. А из истории театра я знал, что в конце прошлого века на сцепе московского Малого театра гастролировал знаменитый итальянский трагик Томазо Сальвини. Я собираюсь спросить Остужева, как трактовал Сальвини роль мавра, памятуя и ту молву, что дошла до нашего времени, и главу о Сальвини из книги К. С. Станиславского. Но Остужев понял уже, что я интересуюсь Сальвини, и поднимает ладонь. — Я слышу, — говорит он очень тихо, невнятно, как большинство глухих, когда отвечают на ваш вопрос или произносят фразы делового характера (когда он рассказывает, он говорит безо всякого напряжения, так звучно, что его можно было бы слушать на стадионе!). — Вы хотите, чтоб я рассказал о Сальвини? Мне нетрудно. Я играл вместе с ним в одном спектакле — в «Отелло»… Да-да! — утвердительный наклон головы. — Сальвини играл Отелло. А мне незадолго до этого поручили роль Кассио… Сальвини играл по-итальянски. А мы, Малый театр, — по-русски. Это не мешало нам хорошо понимать друг друга… Вы, наверно, хотите узнать, каково мое отношение к Сальвини? «Понравился?» «Не понравился?»… Скажите: я угадал?… Вы не последний и нe были первым, задавая этот вопрос! Ответить на него коротко — «да» или «нет» — очень трудно. Но поскольку времени у нас с вами вдоволь и сегодня к нам никто уже не придет, кроме дежурной сестры, которая потушит свет и запретит нам болтать, я постараюсь дать о нем более полное представление. Видите ли, дорогой! Когда я был тринадцатилетним мальчишкой в Воронеже и обучался в железнодорожных мастерских размахивать кузнечным молотом и ездить на паровозе, у меня не было возможности прочесть сочинения Шекспира. Но у меня был знакомый, очень влиятельное лицо в Воронеже (по сравнению со мной). Потому что ему уже исполнилось в то время четырнадцать и он обучался в гимназии, а, кроме того, был сыном состоятельного нотариуса. Вот этот парнишка прочел где-то «Отелло» Шекспира и при встрече пересказал мне содержание этой пьесы своими словами в продолжение каких-нибудь десяти минут, из чего вы легко можете сделать вывод, что это не был дословный перевод прославленной трагедии… И, тем не менее, выслушав его, я пошел под железнодорожный мост — и заплакал. Так жалко мне стало этого благородного Отелло. С тех пор это мой любимый герой… Слушайте! Он — самый искренний, самый умный, самый человечный во всей пьесе! А его чаще всего играют тупым ревнивцем. Пошел, начиная с третьего акта, рычать страшным голосом и ломать вокруг себя мебель!.. Я никогда не мог постигнуть смысла такой трактовки. Ведь ревность — не трагедия в высоком смысле слова. Страдания ревности никогда, никого и ничему еще не научили, никого не обогатили душевно. Ревность — это каждый раз частное чувство. Это чувство низменное, зависть, причиной которой является живое лицо. Не мог Шекспир, поэт Возрождения, проповедник свободы человеческих чувств, воспеть и возвысить темную страсть. Не поверю! А вот наш Пушкин — он не был театральным режиссером, а в нескольких строчках сумел объяснить весь шекспировский замысел: «Отелло — не ревнив. Он — доверчив…» Какая это правда! Какая тонкая и умная правда! Какой молодец наш Пушкин! Какой это талантливый человек. В любой области, даже в той, которая не являлась его специальностью, он сумел сказать новое и оставить глубокий след. Конечно, доверчив! Как все сразу становится ясным!.. Человек по своей человеческой сути должен быть доверчив. Но как часто от излишней доверчивости погибали — не отдельные люди, а целые народы и государства! Вот это трагедия! Человек должен быть доверчив — и не может быть доверчив до конца, пока в мире существуют зло и обман, желание одних людей попрать и уничтожить других. Вот это настоящая трагедия!.. Доверчивость трагична, если ты наивен или беспечен, если не понимаешь, с кем ты имеешь дело. И вот этой способности — понимать людей — был лишен несчастный Отелло! Бедный человек!.. — На глазах Остужева выступают слезы. — Он ничего не понимал в людях! Ну как можно было поверить этому негодяю Яго? Ведь тут сказалось легковерие Отелло, если хотите, — даже какая-то ограниченность, которая делает его похожим на младенца. А это заставляет еще больше жалеть его! — А те, — помолчав, продолжает Остужев, — кто играет Отелло-ревнивца, не обращают внимания на другую очень важную особенность пьесы. У Шекспира сказано: «венецианский мавр». Мавр — это человек великой древней культуры, которая может спорить с культурой Венеции. А им это слово ничего не говорит. Для них это синоним первобытности. Для них важно: «мавр»? «ревнив»? — значит, он черный дикарь. Значит, можно играть не мавра, а готтентота, бушмена — первобытного человека среди цивилизованных европейцев. А это разрешает надеть курчавый парик, намазать физиономию сажей — будут лучше сверкать белые зубы и устрашающие белки… Я лично никогда не разделял такого толкования Отелло. И поэтому Сальвини, густо вымазанный черной краской, с большими усами, которые он не сбривал и не заклеивал, не вяжется с моим представлением о том, каким должен быть этот благородный герой. Но голос!!! — По лицу Остужева пробегает усмешка, полная сожаления по отношению к собеседнику. — Вы никогда не слышали такого голоса и, я боюсь, не услышите!.. Когда Сальвини в первый раз вышел для репетиции на сцену Малого театра, почтительно поклонился нам и бросил первую реплику топом спокойным и удивленным, деревянный пол сцены начал вибрировать. Можно было подумать, что заиграл орган… Он говорил вполголоса. Но это «вполголоса» в каждой груди вызывало сладкую дрожь, звучало, казалось, даже в мягких складках бархатных драпировок, переполняло театр… Вообще он играл великолепно, очень темпераментно, очень умно, неожиданно, тонко. Казалось, что он впервые во время спектакля узнал об утрате платка и, бросив текст роли, говорит уже от себя. Публика с ума сходила, вызывала его неистово. Многие кидались за билетами, чтобы снова видеть его!.. Аааа!.. Следующий спектакль многих разочаровывая: это было полное повторение прежнего — до малейших деталей. То, что в первый раз казалось такой удивительной находкой, такой неожиданностью, раскрывалось как рассчитанное и закрепленное вдохновение. Все отточено, тысячу раз проверено перед зеркалом… Ни малейшего отступления — ни в чем! Никакой импровизации — ни в жестах, ни в интонациях… И — при этом поразительная простота, естественность поведения на сцене!.. В первый раз я видел такое!.. Потому что актер лепит образ каждый раз как бы заново! Пусть эти слепки будут похожи один на другой, как близнецы. Но ведь нельзя же каждый раз рождать одного и того же ребенка! Тут у Сальвини был какой-то просчет! Непосредственное переживание на сцене у него не рождалось. И тем не менее даже рентгеновский глаз Константина Сергеича (Станиславского!) принял это великое изображение страсти за самую страсть! Нарисованный огонь — за настоящее пламя! Он обжегся, прикоснувшись к пожару, бушующему на полотне!.. Это величайшее искусство — то, что дал нам Сальвини! Но второй раз опытный зритель не ошибется. А слезы, каждый раз порождаемые на сцене непосредственным душевным волнением, будут трогать всегда! В смысле непосредственности был очень интересен Таманьо — итальянец, который приезжал на гастроли в Россию и пел на сцене Большого театра партию Отелло в опере Верди. О, это был превосходный Отелло! Надо вам сказать, что Таманьо обладал великолепным героическим тенором и настоящим артистическим темпераментом. Но он пришел на сцену, не владея актерской техникой, без которой Отелло не вытянешь ни в драме, ни в опере. А вокальную партию проходил с ним сам Верди — в ту пору уже глубокий старик. Наблюдая на репетиции, как Таманьо в последней сцене пытается изобразить самоубийство Отелло и не может освободиться от ходульных приемов, Верди обратился к нему и сказал: «Синьор Таманьо, одолжите мне на минуту кинжал». Взяв клинок в правую руку, он дал знак дирижеру, слабым голосом пропел последнюю фразу и коротким ударом поразил себя в грудь. Все выкрикнули беззвучно: «Ааа!..» — всем показалось, что клинок вышел у него под лопаткой. Никто не мог шевельнуться… Верди побелел, выдернул кинжал, сделал глубокий вздох и, протягивая руку к Дездемоне, а другою захватив рану, стал подниматься по ступенькам алькова, не дотянулся, стал оседать, оседать — рухнул, раскинув руки… и покатился с возвышения на авансцену! Все кинулись, чтобы поднять прославленного маэстро, убежденные, что видели смерть. Верди встал, отклонив помощь, поднял кинжал и, возвращая его Таманьо, сказал: «Я думаю, что вам будет удобнее умирать так». Не удивительно, что он сумел научить его! Когда Таманьо в третьем акте оперы начинал комкать и разрывать занавеску, из-за которой наблюдал беседу Кассио с Дездемоной, публика инстинктивно приподнималась от ужаса! Все верили, что сейчас совершится убийство! И что такой Отелло может задушить — и не только Дездемону, но и сидящих в партере! По всем правилам опытного рассказчика, Остужев делает паузу, чтобы я мог издать несколько восторженных восклицаний, потом продолжает: — Когда Таманьо выступал на сцене Большого театра, московские студенты, которые всегда знали все лучше всех, никогда не приобретали билетов на галерею. Они слушали его задаром — с Петровки. У этого молодчаги был такой голосина, что ему приходилось перед спектаклем шнуровать на голом теле специальный корсет, чтобы не вздохнуть полной грудью. Как вы знаете, на улице никогда не слышно ни оркестра, ни хора… но голос Таманьо проникал сквозь слуховые окна на чердаке. Если бы он не шнуровался, то, пожалуй, стены дали бы трещины, а какой-нибудь театр поменьше нашего Большого, того и гляди, загудел бы в тартарары! Остужев умолк. Может быть, я больше ничего и не услышу сегодня: ведь это же не рассказ, а припоминания… Нет, вижу но взгляду, что он вернулся к началу. — А про Сальвини я должен рассказать вам замечательную историю. Это было во Флоренции, где его страшно любили. По городу расклеены афиши: «Томазо Сальвини выступит в роли Отелло». Билеты расхватаны в тот же час, нельзя достать ни за какие в мире блага, потому что мальчики-перекупщики сегодня сами будут смотреть Сальвини. Театр переполнен за час до начала. В сущности, он мог бы уже не играть: в зале атмосфера триумфа. Наконец пошел занавес. Никому не интересно, кто и что там болтает: все ждут появления Сальвини. И не успел мелькнуть в кулисе край плаща Отелло, как публика устроила ему бешеную овацию. Сверкая белками, весь черный, Сальвини стремительно вышел и остановился посреди сцены, положив руки на эфес сабли… Аплодисменты как срезало! И сразу: топот! крики! мяуканье! Пронзительный свист в дверные ключи! Всё повскакало с мест! Всё ревет!!! Он понимает: случилось нечто ужасное!.. Что???!!! Неторопливо обводит взглядом сцену… актеров… рукава своего камзола… Аа!! У него белые руки!.. Он забыл их нагримировать!.. Другой бежал бы со сцены!.. Из города!.. Из Италии!.. Но этот?… Авторитет этого актера был так велик, что могучим жестом, исполненным какой-то сверхъестественной гипнотической власти, он сумел бросить публику на места, придавил, приковал ее к креслам! И в тишине, в которой можно было слышать дыхание, обратился к Сенату и начал свой монолог!.. Никогда еще он не играл так просто и вместе с тем так возвышенно! Он рассказывал о том, как узнал Дездемону и впервые был одарен чистым счастьем… Он поправлял диадему на ее льняных волосах. Он склонял перед нею колено. Он пламенел к ней любовью. И при этом нарочно касался белой рукой черного бархата ее платья. Кончился первый акт. Второй, как вы знаете, происходит на острове Кипр. Первые явления: Яго, Родриго, Монтано. Сейчас должен выйти Отелло. Все, что сидело в зале, разинуло глаза и вытянуло шеи вперед, чтобы быть ближе к месту происшествия хотя бы на несколько сантиметров. Каждый боится пропустить его выход. И едва Сальвини появился на сцене, как в зале раздались невообразимые вопли! Публика ринулась к рампе, и кто-то уже швырнул в прославленного актера огрызок яблока! У него опять белые руки!.. Тогда совершенно спокойно — под рев толпы — Сальвини — одну — за другой — снял — с рук — белые — перчатки — и отдал солдату!.. У него — черные руки!.. Оказывается: когда он в первом акте заметил, какой совершил промах, как только окончилась сцена, вышел за кулисы и тотчас послал в отель за парой белых перчаток. Тем временем намазал руки морилкой, подгримировал черным и, надев перчатки, вышел на сцену, сделав вид, будто он и тогда, в первом акте, тоже был в белых перчатках! Буря аплодисментов вознаградила его находчивость. Театр буквально ревел от восторга, скандировал: «Браво!..», «Саль-ви-ни!..», «Ви-ва!..». Все поняли, что он ошибся и ловко вышел из положения. И радостно простили ему эту ошибку. Но тем не менее каждый раз, приезжая во Флоренцию, Сальвини выходил в первом акте «Отелло» в белых перчатках. В других городах — с черными руками. А во Флоренции — только в белых перчатках. И мало-помалу все уверились, что и тогда было так! Что он и тогда вышел в белых перчатках. И ошибся тогда не он, Сальвини, а она, публика. Вот это самое поразительное, дорогой, из того, что может случиться в театре! Вы понимаете, конечно, что убедить публику могут многие актеры, — без этого не существовало бы сценическое искусство! Но переубедить публику — очень трудно. А чаще всего — невозможно. Один раз поверив во что-нибудь, она уже не захочет верить в другое. Она не хочет знать многих Гамлетов и многих Отелло. Она хочет знать одного Отелло и одного Гамлета в исполнении разных актеров. Вот почему так трудно переменить даже внешность, а тем более характер героя, которого зритель уже знает и любит. Вот почему так трудно ломать театральные традиции и предлагать свое понимание знаменитой пьесы. Это под силу только очень большому мастеру. И я рассказал вам эту историю, дорогой, чтобы вы правильно меня поняли. Сальвини был гениальный актер! Он поражал своей властью над публикой и своей сценической техникой. Это — тоже великое дело!..ДОКТОР СОЙНОВ
Как в любом деле мастер вернее всех может судить об искусстве другого мастера — будь то художник, агроном, сталевар, — так и подвиг лучше всех ценит тот, кто способен свершить его сам. Потому-то в нашей стране в таком почете геройство. …В соседней с нами палате лежал Аркадий Фадеевич Сойнов, депутат Верховного Совета СССР, старый, заслуженный врач, хирург одной из районных больниц Пензенской области. За долгие годы работы — начинал он еще земским врачом — Аркадий Фадеевич сделал свыше тридцати тысяч хирургических операций. А теперь заболел сам и, совершенно ослепший (вследствие какого-то осложнения), был доставлен в Москву и помещен в Боткинскую больницу. О том, как популярен и любим Сойнов в Пензенской области, можно судить уже по тому, что одной из пензенских районных больниц облисполком присвоил имя доктора Сойнова при его жизни. Еще прежде чем стать хирургом, Сойнов занимался филологией — изучал древние языки, и с тех пор у него сохранился интерес к отысканию в русских словах греческих и латинских корней и к объяснению смысла имен. — «Люблю» — по-гречески «филео», — говаривал Аркадий Фадеевич. — Отсюда имена: Филимон — любимый, Филарет — добролюб, Филофей — боголюб, Филипп — любитель коней, ибо «иппос»—конь; корень «фил» заключают в себе также слова: «библиофил» — книголюб, «филолог» — словолюб, «философ» — любитель мудрости, потому что «софия» — по-гречески мудрость… Каждое имя имеет значение на каком-нибудь языке: Марина — по-латыни «морская», Мавра и Мавр — по-гречески — «темные», поэтому темнокожих в средние века звали маврами. Меланья — черная. Это же слово встречается в названии болезни «меланхолия», что по-гречески значит «черная желчь». А что желчь «холео», это я могу подтвердить вам как врач… Такие разговоры происходили у нас постоянно. Пока меня не перевели в палату к Остужеву, я лежал с Сойновым. И когда получил разрешение бродить, постоянно заходил к нему в гости — побеседовать, почитать ему газеты и книги. Чаще всего мы выбирали рассказы: Горького или Алексея Толстого, Антонова, Казакевича, а из поэзии — Твардовского, Маршака. — Я очень просил бы вас знакомить меня с советской литературой, — говорил Сойнов, — мне бы хотелось использовать пребывание здесь, чтобы получить о ней более полное представление. Все больше я убеждаюсь, что нам есть что сказать миру и есть что оставить потомству — и не только в делах, но и в литературных творениях… Еще мне бы хотелось прочесть роман о старых большевиках. Я вышел из крестьянской среды, с юности разделял воззрения большевистской партии и стремился ей помогать. Но в ряды я вступил только недавно. Несмотря на мои годы, я, как принято говорить, молодой коммунист. И меня очень волнует, что деятельным членом партии я теперь уже быть не смогу… Как умел, я старался его убедить, что с него могут брать пример многие коммунисты со стажем, что у него необыкновенная репутация, что он принадлежит к самым уважаемым людям в стране, что он правильно жил и живет и партия гордится такими. — Но я же должен приносить пользу! — возражал он, — И сейчас все думаю: как это сделать? Коммунист — это не созерцатель, друг мой, но человек действия. Он лежит поверх одеяла, в теплом халате, большой, благообразный, с темной, коротко остриженной головой, устремив в потолок думающее, умное лицо и невидящий взгляд, и, волнуясь, теребит короткую седеющую щетинку усов. Первое время, когда меня от него взяли, Сойнов оставался один. Потом на бывшей моей кровати поселился новый больной — седоволосый, с розовой лысиной и розовым лицом, еще не остывший от дел и полный городской торопливости. Сидя на постели, он деловито листает переплетенную диссертацию, делает на бумажке пометы, реплики подает, не отрываясь от рукописи. Еще не втянулся в больничную жизнь и пока еще к ней равнодушен. Я только что познакомился с ним в кабинете физиотерапии, хотя «познакомился» — слово не совсем в данном случае точное: он подошел, узнав, что я лежу с Остужевым, выспросил, о каком театре он служит и сколько лет, какое имеет звание, похмыкал и вышел, не попрощавшись, засунув руки в карманы пижамы. Иду навестить Сойнова. Он, как всегда, интересуется самочувствием, процедурами, медицинские советы подает в деликатно-вопросительной форме: — Вы бы не узнали у вашего лечащего врача, почему не применяют сейчас средство, эффективность которого не оспорена? Я знаю многие случаи… В тот раз он нашел возможным воспользоваться моей рекомендацией… Он очень доволен соседом: — Мне повезло! Игнатий Константинович очень интересно рассказывал мне вчера о гравиметрических съемках. Изменение силы тяжести позволяет, оказывается, посредством маятника обнаруживать под землей залежи железной руды, каменного угля, нефти и даже соли. По существу — это раздел астрономии, поставленный на службу социалистическому хозяйству. До сего дня мне не приходилось слышать о чисто практических результатах подобных научных экспериментов… Много интересного узнал я еще об интрузиях. Это вулканические породы, которые рвались, но не смогли вырваться на поверхность и застыли в земной коре. Наши представления о рудных богатствах расширяются благодаря изучению интрузий. Между прочим, «интрузис» — слово латинское и значит «выталкивать». Я объяснил это вчера моему собеседнику. Его рассказы поразили меня. Хотя я утратил способность не только читать, но и видеть, я начинаю убеждаться, что и в моем положении многое можно узнать. И если мне не суждено восстановить зрение (как врач, я лично решаю этот вопрос отрицательно), я охотно поделился бы подобными впечатлениями в нашем райцентре Белинском. Я хотел бы побеседовать с молодежью и рассказать ей о моих встречах в больнице. Здесь много интересных людей. Я рассчитываю, когда буду чувствовать себя несколько лучше, познакомиться с нашим соседом Остужевым. Было бы жаль пропустить такую возможность. Я слышал, что это знаменитый артист, но, к стыду своему, мне не пришлось видеть его игру. — А мне Остужев ваш не понравился, — решительно объявляет Игнатий Константинович, сосед, откладывая рукопись и принимаясь приглаживать гребешком желтовато-седые зачесы. — Заносчив! — Вот как?! А в чем это выразилось? — встревоженно спрашивает Сойнов. — Вы, может быть, слишком поспешны? — А я объясню. Он стар. И я не молод. Пошел мыться. Встретились. Я его на сцене не видел. Но знаю — народный СССР. Поздороваться с ним неловко — мы не знакомы. Но внимательный и воспитанный человек всегда угадает ваше желание познакомиться с ним. Тем более видит: я напруживаю шею, голову наклонил и стою… Поклонись! Нет! — вытаращил глаза и начал начищать зубы… — Да что вы! — говорю я. — Он просто не понял вас, это недоразумение. Если бы вы поклонились, он, конечно, ответил бы вам! — Не буду я первый кланяться! Вместе, одновременно — пожалуйста. А мне гнуть перед ним голову нечего. Не хочешь — не надо!.. К аплодисментам привык! — Он их, кстати, не слышит, — тороплюсь сообщить я. — Вы же знаете, что он глухой! — Уши здесь ни при чем. А глаза у него в полном порядке — газеты без очков читает, поздороваться может!.. Тут стал я подробно рассказывать все, что мне было известно, — о редкой Остужева скромности, о доброте, жизнелюбии этого необыкновенного человека, о тех невероятных усилиях, которых стоил ему его творческий труд и о которых не догадывался зритель. Наконец я иссяк. — Друг мой, — обратился Сойнов ко мне, — я просил бы вас сегодня ничего не рассказывать больше. Биография Остужева очень взволновала меня. Это поразительная судьба. Мне думается, что этот человек мог бы поспорить с великим Бетховеном. Бетховен из-за своей глухоты мог надеяться только на самого себя, на свои силы. Он прожил прекрасную жизнь, но очень трагическую, потому что впал в одиночество. А товарищ Остужев сумел найти свою судьбу в коллективе. Болезнь оказалась бессильной выбросить его из общественной жизни. И уже в старости он сумел доказать, что и глухой он не отстал от других и что советский театр может у него поучиться… Вот лежишь тут и по ночам малодушно раздумываешь, сожалея, что дожил до старости и теперь, потеряв зрение, не сможешь приносить пользы. Насколько же большая трагедия была для Остужева — молодого и при этом актера: потерять слух. Я прошу передать ему мой привет. Я очень уважаю его. И преклоняюсь перед его мужеством… А вам, дорогой сосед, я должен сказать, — Сойнов приподымается на локте, — вы прекрасный специалист и увлекательный собеседник. Но вы не разбираетесь в людях и позволяете себе дурно думать о них. Я прошу вас не возражать мне сейчас. Я взволнован и несколько слабо себя чувствую. Я сейчас не смогу вам ответить. Я вернулся к себе. — Где вы шля-э-тесь?.. — Остужев читал, сидя в кресле, и теперь откладывает книгу. — Если вы будете без разрешения шнырять по палатам, я наябедничаю, и у вас отберут тапочки… Где вы были? — В соседней палате, у Сойнова! — Простите, если можно — чуть громче!.. — Доктор Сойнов, — выкрикиваю я, — просил — передать вам — привет. Он — сказал, что — глубоко — уважает вас. И — восхищен — вами. Просил — кланяться — вам… — A-а, спасибо!.. Я так и думал, что вы с утра играете в домино! Ужасающее занятие! И название дикое: «пошел забивать козла». Тут же не городские бойни!.. Муки ада я испытываю, когда вижу, что квартет ходячих рассаживается вокруг стола: растопырят пятерни — и пошли лупить костяшками по доске за здоровье болящей братии… За это время можно было бы прочесть целую библиотеку! А кто же мне кланялся? — Сойнов кланялся! Сойнов!.. — A-а! Я не понял! Сосед?.. — Остужев прикрывает глаза ладонями. — Темная ночь?.. Что врачи думают? Он говорит не спеша и негромко. Но мой-то крик слышит все отделение. Поэтому лучше соврать: — Пошло на поправку!.. Остужев вопросительно вскидывает брови: — Видит?.. О-о!.. Это — счастье!.. Грустно было думать, что человек, который всю жизнь делал тончайшие операции, не может теперь прочесть строчку в газете. И что ему самому медицина бессильна помочь. Невесело лишиться слуха, но потеря зрения, по-моему, еще хуже! Глаза важнее!.. Когда имеешь возможность наблюдать такого человека, как этот доктор, — говорит он, поразмыслив и помолчав, — хандра улетучивается к черту!.. Прекрасно держится! Поглядите, как посторонние люди наперебой стремятся проявить внимание к нему. Персонал бегает в его палату, по-моему, без особенной надобности. Он не так часто нуждается в них. Они в нем нуждаются больше. Похвала и внимание этого человека ободряют и возвышают людей. Кроме того, мне говорили — он замечательный доктор. Я хотел бы с ним познакомиться. Но в его палату поместили субъекта, который вчера в умывальной комнате буквально обнюхивал меня, очень странно держался: таращил глаза, предлагал моему вниманию лысину, кашлял на меня!.. Сумасшедшего привезли в терапевтическую больницу!.. Я абсолютным молчанием игнорировал эти непостижимые ужимки и выходки. И покинул ванную комнату, сделав вид, что я не вижу его. Но теперь, как только он встречает меня в коридоре, немедленно показывает мне свой профиль, демонстративно отворачивает от меня свой «медальон»! Словно я оскорбил его и теперь он не желает знаться со мной! Между тем я не знаком с ним! Клянусь вам, я не сказал тогда ни одного слова!.. Я не могу пойти в палату, где поселился этот неуравновешенный тип! Поэтому мне придется передать товарищу Сойнову несколько слов через вас… Куда же вы укладываетесь? Раз уж целый день бегали, наденьте, пожалуйста, тапки и зайдите в соседнюю комнату — это отнимет у вас четверть часа… Он делается задумчивым: — Трудная тема—человеческое достоинство. Тут нужно быть очень кратким и сдержанным. Дайте понять доктору Сойнову, что такие, как он, украшают жизнь и вызывают огромное уважение. Поклонитесь ему до земли!..ЗЕМЛЯК ЛЕРМОНТОВА
В июне 1948 года, в дни чествования памяти Виссариона Григорьевича Белинского, большая делегация писателей и ученых выезжала из Москвы в те места, где прошли его юные годы, — в Пензу и Пензенскую область. Никогда и нигде не бывало, — это бывает только у нас! — чтобы чествования памяти великих людей превращались в события такой огромной важности для каждого, кто принимает участие в осуществлении этих торжеств. И хотя меня никто не уполномочил на ото, я решаюсь заявить от лица всей нашей делегации, от имени тех, кто присутствовал при закладке памятника Белинскому в Пензе, кто находился на торжественном заседании в Пензенском областном театре, и, наконец, от собственного своего имени, — я решаюсь заявить, что эти дни навсегда останутся для нас одним из самых сильных и благородных воспоминаний. Из Пензы мы поехали в город Чембар, которому как раз в те дни было присвоено имя Белинского. А в семнадцати километрах от Чембара находятся Тарханы — ныне село Лермонтове, где Лермонтов провел первые тринадцать лет — почти половину своей короткой жизни — и где похоронен. А я, к стыду своему, долгие годы занимаясь изучением жизни и творчества Лермонтова, никогда не бывал в Тарханах. Прежде туда было довольно трудно добраться: от Москвы по железной дороге часов восемнадцать; на станцию Каменка поезд приходил ночью, а от станции — пятьдесят километров проселка… Потом от людей бывалых узнал, что все это не так уж и трудно. Но тут как раз приблизилась лермонтовская дата: в июле 1941 года делегация от лермонтовского юбилейного комитета должна была ехать в Лермонтово и возложить венки на могилу поэта. В составе этой делегации собирался побывать и я в селе Лермонтове. Все эти планы отменила война. Теперь же, едучи на торжества Белинского, я был уже совершенно уверен в том, что так или иначе побываю в эти дни и у Лермонтова. И вот мчатся машины делегации по холмистым пензенским степям, и вдруг через левое стекло, чуть в стороне, вижу старый ветряк, зеленую крышу двухэтажного дома среди зелени старого парка, белую церковь и село, так хорошо известное мне по картинкам. Лермонтове! Чувствую, не могу мимо проехать, не имею на это права. Стал я тут уговаривать моих спутников повернуть ненадолго в Лермонтово. — Нет, — говорят, — сегодня не стоит. Заскочим на обратном пути. А если не «заскочим»? Все же съехали на обочину. Вышел я на дорогу, поднял руку. Одна за другой стали выруливать на сторону остальные машины нашего каравана. Захлопали дверцы. Выходят наши делегаты размяться, узнать, за чем остановка. Начал я просить, чтобы отпустили меня в село Лермонтове. Руководитель нашей делегации Фадеев Александр Александрович подумал-подумал… и не разрешил. Сказал, что не один я такой — особенный, не одному мне хочется в Лермонтове. — Всем хочется в Лермонтове! И повернули все машины в село Лермонтове. Проехали по сельской улице, обогнули большой пруд, остановились во дворе дома-музея. А там, оказывается, и без нас много машин. Делегации из соседних районов и областей, ехавшие чествовать Белинского, тоже догадались по дороге завернуть к Лермонтову. Входим в небольшие комнатки мемориального дома — в каждой толпа приезжих, слышны голоса невидимых экскурсоводов — объяснения дают в разных углах директор, работники музея, учителя… Вытягиваю шею, приподымаюсь на носках, стараюсь рассмотреть, что показывают, — ничего не разглядеть толком. Понимаю, что минут через двадцать уедем отсюда, и, конечно, можно будет сказать, что в Лермонтове я побывал, но ничего не видал.
Тут я стал хлопотать, чтобы разрешили мне остаться в Лермонтове до следующего утра. Мотивировал свою просьбу тем, что все мои обязанности в Белинском исчерпываются правом посидеть в президиуме торжественного собрания. Александр Александрович Фадеев послушал-послушал… и разрешил. Но тут же порекомендовал мне условиться с кем-нибудь из делегатов: — Чтобы все-таки завтра сюда завернули, не забыли бы о тебе второпях! Я подошел к писателям и каждого попросил заехать за мной на обратном пути. Застраховался! И, не подозревая того, на следующий день нечаянно повернул тем самым всю делегацию в село Лермонтове. Однако, как я потом выяснил, никто на меня за это не рассердился. Наконец все уехали: наша делегация, гости из соседних районов и областей, делегация лермонтовских колхозников, директор музея, экскурсоводы, учителя… Уехал даже сельский милиционер. Все отправились на торжественное заседание в город Белинский. Я же был оставлен на попечение сторожихи и получил, наконец, полную возможность подробно все рассмотреть. Обошел все комнаты, погулял в парке по всем аллейкам, посидел на всех скамейках и часа через три отправился не торопясь к выезду из села, где возле белой церкви в небольшой часовне покоится прах Лермонтова. Над часовней этой растет довольно высокий дуб, который посажен там, очевидно, из уважения к желанию Лермонтова, чтобы над ним темный дуб склонялся и шумел. Сторожит часовню и водит по ней экскурсии сторож-колхозник лет примерно семидесяти. Никогда и нигде еще не доводилось мне видеть и слышать такого экскурсовода! Он рассказывает о Лермонтове так живо, так подробно и достоверно, что кажется, он был командирован в ту эпоху и только недавно вернулся. Но при этом он не упивается знанием прошлого, не живет им. Нет! Лермонтов в его рассказе словно выдвинут из той эпохи, приближен к нам и будто стоит как живой рядом со сторожем. Прежде всего старик поинтересовался, отстал я от делегации случайно или нарочно остался осмотреть лермонтовские места. Когда узнал, что «нарочно», видимо, был доволен и стал заключать условие с ребятишками, которые стояли за оградой и просили присоединить их к этой малолюдной экскурсии. Сказал им: — Вы, ребята, мои условия знаете! Если кто из вас одно слово скажет, не стану разбирать, кто сказал: всех отправляю. Понятно? Будете находиться здесь до первого слова. И шапку оставляйте на улице. Идем к Михаилу Юричу. Слова «к Михаилу Юричу» произнес, многозначительно понизив голос. Входим. Посередине часовни благородный памятник из черного мрамора с золотыми словами: «Михаил Юрьевич Лермонтов». На левой грани памятника — дата рождения. На правой — дата смерти. А позади, слегка из-за него выдвигаясь влево и вправо, — памятники: матери Лермонтова — Марии Михайловне и деду — Михаилу Васильевичу Арсеньеву. — Эти памятники, — поясняет мой вожатый, — ставила бабушка, Елизавета Алексеевна. Всех похоронила по очереди: мужа, дочь и внука. Сама померла последняя. Над ней памятника никто уж не ставил. Наследники больше интересовались имение к рукам прибрать, ограничились дощечкой на стене: «Елизавета Алексеевна Арсеньева… скончалась в 1845 году 85 лет…» Неправильно это! Хотя она и старая была, а все же не восемьдесят пять ей было, а по новейшим изысканиям и сведениям семьдесят два… Вы посмотрите пока памятники, — говорит он мне, — а я вниз спущусь, свет зажечь… А вы, — оборачивается он к ребятам, — ступайте!.. Возле самого памятника — разговоры! Неладно так! Давайте… Ребята оправдываются: — Мы тихо будем… По условию… — Вы уж много слов сказали поверх условия, — возражает старик. — Идите на улицу шептаться. Или уж точно: ни одного слова. Тогда оставайтесь… Он спускается по винтовой кирпичной лесенке вниз. Вскоре оттуда показывается его голова, и он приглашает последовать за ним. И вот — низкий свод склепа, и впереди — огромный черный металлический ящик на шести могучих дубовых подкладках, отделенный от пас черной оградой. Металлический черный венок висит в белой нише над гробом, и несколько зажженных свечей прилеплено под сводами в разных местах. И этот теплый свет в прохладном подземелье, и наше мерное дыхание среди могильной тишины еще сильнее заставляют чувствовать величие этой минуты. — В этом свинцовом ящике, — произносит старик, — запаян другой гроб — с телом Михаил Юрича, и все это находится в таком самом виде, как было доставлено сюда с Кавказа, из города Пятигорска, весною 1842 года… — Когда Лермонтова убили, — продолжает он, помолчав, — бабушка очень убивалася, плакала. Так плакала, что даже ослепла. Не то чтоб совсем ослепла — глаза-то у ней видели, только веки сами не подымалися: приходилось поддерживать пальцем… Пишет она брату Афанасию: «Желаю похоронить внука Мишеньку возле могилы его матери, в родной земле». Отвечает: «Подавай на „высочайшее“». Подала она. Вышло разрешение: «Доставить с наблюдением необходимых осторожностей». Ну, чтоб шуму не было никакого и перевозить чтоб в свинцовом гробу. Прислал ей Афанасий этот ящик. Вызывает она слугу Лермонтова — Андрея Соколова, другого — Ивана Вертюкова и еще одного нашего тархановского — Болотина. «Он, говорит, вас любил. И вы тоже уважали его, ходили за ним, провожали в Петербург и на Кавказ, разделяли с ним опасности битвы. Я вам его доверяла живого. Теперь возьмите этот черный гроб, лошадей две тройки и денег сколько пожелаете. Ступайте в город Пятигорск, доставьте мне сюда моего внука Михаил Юрича…» Отправила она их. Сколько времени проездили, не скажу точно, не знаю: возможно предполагать, что месяца два-три ездили, поскольку она их на распутицу глядя пустила. Дороги-то, сами знаете, какие были. Это теперь везде асфальт поналожен… С Кавказа в ту пору на Пензу не ездили — она в стороне, а больше на Воронеж, Тамбов, Кирсанов, Чембар. Потом слышно — едут. Вышли мы все тут — глядим… — Он запнулся, потом поправляется: — Ну, мы — не мы! Нас-то в ту пору не было… Но все одно наши, тархановские. Те же мы — народ!.. Вышли. И видать — едет к нам гроб черный на двух тройках и народу за гробом идет мгла. И все плачут! Как подъехали ближе, бабушку навстречу выводят. Она: «Доставили?» Андрей Соколов вышел вперед: «Доставили». Она веки пальцами подняла: «Это что ж, говорит, Мишенька?» И отпустила. Бабушка глаза выплакала, а что у нас на селе слез было — не сказать! А всех больше убивалась Кузнецова Лукерья, кузнеца Шубенина жена — мамушка Михаил Юрича… ну, сказать так еще: кормилица. Она так плакала, как родная мать. Жалели ее, что дитя родное хоронит. Он ее очень уважал, Михаил Юрич-то. Бывало, едет в Тарханы — не к бабушке в усадьбу, а наперед к Шубениным. Кинется к Лукерье на шею и целует: «Ты, говорит, моя мамушка!» А бабка-то услыхала и серчать: «Какая, говорит, она тебе мамушка! Чего ее целуешь-то? Это твоя крепостная мужичка. Была мамушка, а выкормила — и ладно!» Так, знаете, Михаил Юрич ей прямо так строго ответил: «А вы, говорит, не учите меня, бабушка, такой мысли. Вы меня плохо знаете. Она как мать меня воскормила, и яее навсегда уважать буду». Ну, бабка, конечно, — молчок! Она его опасалася сердить. А то в другой раз приезжает он к нам, а мужики наши к нему с подарком: подводят к крыльцу серого конька. Он покатался на нем день, к вечеру и говорит: «Хочу, бабушка, отблагодарить их. Они мне живого конька подарили, а я подарю им по новой избе с коньком. Лес пусть даром берут из нашей Долгой рощи. Вот и будет мой подарок народу». Елизавета вся затряслась, а спорить не решилась: «Все, говорит, твое, что хочешь, то и дари». Он ей и бить никого не позволял. «Если, говорит, увижу еще в конторе розги, в другой раз не стану приезжать в побывку». И землю крестьянам отдать наказывал бабушке. Она обещала. Но по смерти его не отдала. Не подчинилась его желанию… Предания народные почти всегда заключают в себе элементы поэзии. Это не мешает им быть достоверными. Неточные в частностях, они, зато правдиво передают характер события, характер человека, выражая самую его суть, самую глубь, как может выразить только поэзия. — Да, — говорит сторож, подумав, — Михаил Юрич с народом замечательно обходился: уважительно, со вниманием. Бывало, услышит, что у нас на селе песни заиграют или хоровод водить зачнут, бежит через плотину, куртку в рукава не успеет вдеть, кричит: «Постойте песни-то играть без меня, а то я чего, может, недовижу или недослышу…» Вы походите по колхозу, посоветуйтесь с народом, — продолжает он. — В четвертом, в пятом поколении вспоминают его. Вам, пожалуй, того расскажут, чего еще и в книгах нет. Замечательно вспоминают Михаил Юрича… Про бабушку не скажу. Про бабушку плохо говорят, про Елизавету. А чего ее хорошо вспоминать? Кто она такая? Крепостница, властелинка и самодурка!.. А вот тут лектор один приезжал, лекцию в музее читал… Лекция интересная. Но — неправильная! Послушаешь — выходит: и Михаил Юрич хороший, и бабушка хорошая, и бабушкин брат Афанасий не дурной, и вся родня замечательная. А стихи-то все же не бабушка писала, а Михаил Юрич: надо бы его отличать… Да я вам откровенно скажу, если не по-научному! — он машет рукой, — я эту бабушку ненавижу. Муж ее — Михаил Васильевич — так от жизни с ней предпочел принять отраву. Это уж она потом ему памятник поставила, а то и хоронить его не хотела. От нее хорошего никто не видал. Дочери тоже жизнь загубила — Марье Михайловне. Эта не плохая была — Марья. Про нее тоже народ хорошо вспоминает: обходительная с людьми, деликатная, хорошенькая, хорошая. Михаил Юрич в нее, в мать, видно, и был понятное дело — не в бабку! Так вот: полюбила Марья Михайловна Юрия Петровича Лермонтова, отца нашего Михаила Юрича. Хороший был — вот и полюбила. А бабка не залюбила: «Плохой». И знаете, до сих пор повторяют: «Плохой, плохой». А надо бы разобраться сперва, чем он плохой. Для бабушки он, верно, плохой был: имение бедное, неисправное, служебное положение — отставной. По ней он был неровня. А для нас он очень хороший! Потому что родину в 1812 году защищал и Михаила Юрича воспородил. С него хватит! Так нет! Довела их Елизавета, что Марья здесь живет, а Юрий Петрович — в Москве. Родила Марья мальчонку — нашего Михаила Юрича, — пожила два года, а как ему третий годок пошел — померла. Считается — туберкулез легких, чахотка. Очень может быть, что чахотка, но чтобы одна эта причина была — не доверяю… Вы хорошо поглядели, что там на памятнике у ней?.. — Якорь. А с чего у ней якорь? Что она — матрос, что ли?… То-то, что нет! По-моему, якорь на памятнике означает символ разбитых надежд… Остался на руках у Елизаветы Михаил Юрич… Ну, его-то она очень любила. Как говорится, души не чаяла. А все же скажу: она и его больше для себя любила. Он ей пишет: «Бабушка! Я желаю выйти в отставку. Желаю посвятить себя литературе». — «Ладно, говорит, я скажу, когда выходить». Вот и сказала! Правда, он не потому погиб, что на военной находился. Он бы и в гражданке погиб. Потому что царь Николай его преследовал, он его ненавидел люто. Он бы его все равно погубил. А все же, знаете, не по Михаил Юричеву вышло, а по-бабушкину… Да что про нее долго объяснять! Он оборачивается: — Давайте, ребята!.. Возле самого гроба диспут… Условие нарушаете опять. Ступайте… Ребятишки смущенно улыбаются, но не уходят. — Мы пошептали, дядь Андрей… учти впечатления. — Новое дело: «Учти впечатления»! А в школе-то как же? Тоже впечатления! А сидите тихо, дожидаетеся, когда вызовут, соблюдаете дисциплину. А тут возле самого гроба… Притом еще человек посторонний… Ну, да уж… ладно, оставайтесь!.. Надобно согласиться, — поворачивается он ко мне, — впечатления очень большие. Я сам сколько лет экскурсии вожу… Сколько народу сюда идет! Вереница, можно сказать. А все же каждый раз, как подойду ко гробу, не могу спокойно говорить: волнуюся. Очень жалею Михаил Юрича!.. Я, конечно, понимаю, что Пушкин-Пушкин. Тут ничего не возразишь: Пушкин и есть Пушкин. Но все же, если допустить, что наш Михаил Юрич пожил бы, как Пушкин, до тридцати семи лет, то еще неизвестно, кто бы из них был Пушкин! С другой стороны сказать: если бы Пушкин, как наш Михаил Юрич, не дожил бы даже и до двадцати семи годов, опасаешься думать: «Евгений Онегин» не был бы закончен, не было бы даже возможности издать полное собрание сочинений! Он умолкает, потом говорит: — Там, наверху, жарко, а здесь как бы не прохватило вас. Лучше подымемся. Пожелаете — можно второй раз спуститься. Мы выходим наверх, в часовню. На подоконнике лежит книга записей. — Распишитесь, — предлагает «дядя Андрей». — Делегация ваша проехала, осмотрели, а расписались неправильно. Тут разделено, на этой стороне листа указать фамилию, имя, отчество, от какой организации, город. А здесь вот — подпись. А они не заполнили ничего, а подписи иные даже не поймешь. Вы мне подскажите… Он берется за карандаш. — Это кто? — Это Фадеев. — «Молодая гвардия»? — спрашивает он, встрепенувшись. — Да, этой книгой у нас очень увлекаются! Жалко, я не знал, что товарищ Фадеев сюда заходил. Тем более что у меня до товарища Фадеева дело… А это чья роспись? — Эренбург. — Илья? Этот нам тоже знакомый… Эх, — вздыхает он, закончив изучение подписей, — выходит, тут писатели московские были, и я всех видел, но никого не повидал. А дело у меня к товарищу Фадееву вот какое. Ходит сюда народ. Оставляет возле памятника знаки своего уважения к Михаилу Юричу. Вот знамена стоят… Это вот от районного комитета: «Поэту — борцу за свободную человеческую личность». То знамя — от областной комсомольской организации. От наших колхозников: «Поэту-земляку… любимому Михаилу Юрьевичу Лермонтову… от колхозников села Лермонтова…» Пионеры приходили с барабаном — возложили цветы к подножию. До войны мы слыхали, что предполагается прибытие делегации от Союза советских писателей для возложения венков. Теперь бы неплохо опять про это дело напомнить товарищу Фадееву: прислать бы, знаете, небольшую делегацию — человека два, больше не надо, потому что ассигнований на это дело у него не отпущено в этом году, поскольку нет юбилея. И так подобрать писателей, чтобы один стихи почитал, а другой речь сказал. И возложили бы. А случай подыскать можно: скажите, что годовщина, мол, бывает каждый год. Так и передайте товарищу Фадееву, что сторож при могиле Михал Юрича вносит свое предложение в Союз советских писателей… Я обещаю передать его просьбу. Стоя уже на пороге часовни, он раздумывает, что бы еще показать. — Всё! — объявляет он. — Больше нечего объяснять! Вот разве взойти вам на колокольню. Оттуда вид замечательный. Я-то не могу вас проводить — у меня нога плохая… А вот ребятки проводят… Давайте, ребята, только осторожно: там одной ступеньки не хватает. Глядите, оступится гражданин — я с вас взыщу… — Михаил Юрич, — говорит он, прощаясь, — бывало, как приедет, первым долгом на колокольню. «Мне вольней дышать там. Простор, говорит, вокруг далекой». Передают, он там и стихи написал, на колокольне. Вот эти… Нет, не эти!.. Вот эти вот:Делегация Союза писателей в селе Лермонтове (в первом ряди слева направо): А. Жаров, И. Андроников, А, Фадеев, Ф. Гладков, П. Замойский. Фото П. П. Вершигоры
Дайте волю, волю, волю,
И не надо счастья мне…
ОТКРЫТИЕ ПОДВИГА
Теперь, когда Сергей Сергеевич Смирнов за книгу «Брестская крепость» удостоен Ленинской премии, когда он постоянно обращается к нам с телевизионных экранов и его рассказы о подвигах советских людей звучат по радио, печатаются в газетах, становятся великолепными документальными кинофильмами — «Его звали Федор», «Катюша», когда он стал видной и очень популярной фигурой в нашей общественной жизни и созданное им сливается уже в целостное представление «С. С. Смирнов», мне хочется вспомнить, с чего это все началось, и как нашел он свой материал, свою особую тему — поиски подвига — и особую форму для своих выступлений в печати и на телевизионном экране. И как написал первый вариант своей книги. Объясняется это прежде всего тем, на мой взгляд, что, обнаружив необыкновенный, не тронутый никем материал, превосходящий все, что может породить не фантазия, а реальное человеческое воображение, он сел писать не роман и не повесть, а книгу документальную. И уже будучи писателем, публицистом, имея за плечами немалый стаж литературной работы в армейской печати во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы, он не стал беллетристом (что было соблазнительнее и в некотором смысле проще) — он решил стать историком, документалистом, следовать фактам, ничего не прибавляя к ним «от себя», хотя в нашей литературной среде, как он сам говорит, как-то повелось, что роман или повесть считаются уже сами по себе первым сортом, а документальная или очерковая книга — вторым. Но его повел за собой материал. И то, что Смирнов почувствовал, какая перед ним раскрывается перспектива, какой идет в руки документальный «поисковый» сюжет, составляет одну из его главных удач. Впрочем, это пришло не сразу. О событиях Отечественной войны С. С. Смирнов писал уже несколько лет. В 1954 году он Закончил книгу о Корсунь-Шевченковской битве и уже собирался было работать над новой книгой, посвященной обороне Одессы и Севастополя, как вдруг случайный разговор заставил его изменить планы. Еще в первые недели войны сквозь линию фронта стали доходить слухи о том, что на самой границе, в глубоком тылу противника, продолжает героически сопротивляться Брестская крепость, что летчики наши, пролетая ночами над этим районом, видят вспышки разрывов и пунктиры трассирующих пуль, а это доказывает, что там все еще сражаются наши части. Слухи подтвердились: в марте 1942 года в захваченном нашими войсками архиве разгромленной дивизии противника было обнаружено донесение о стойком, многодневном сопротивлении, которое оказал фашистским войскам гарнизон Брестской крепости. А когда, после освобождения Белоруссии, наши части вошли в развалины крепости, то самые развалины эти и надписи на стенах, оставленные погибшими, рассказали о том, какую отважную, какую стойкую борьбу вели в крепости ее героические защитники. О подвиге заговорила вся страна. Появились первые статьи. Но конкретных фактов у журналистов было не много, и неизбежно возникли неточности и ошибки. Обратившись к этому эпизоду войны, С. С. Смирнов обнаружил в Центральном музее Советской Армии письма бывшего участника обороны Александра Митрофановича Филя, который до войны служил в Брестской крепости писарем в штабе полка, а после войны работал в Якутии, на золотых приисках. Смирнов написал ему. Филь не ответил. Оборвалась первая и, казалось, единственная нить поисков. По счастью, в одном из писем упоминалось имя другого участника обороны—Самвела Матезосяна. Смирнов выяснил, что он жив и работает в Армении инженером-геологом. Писатель поехал к нему в Ереван, а оттуда с ним вместе — в Брестскую крепость. Так начались поиски, восстановившие день за днем историю подвига защитников крепости — красноармейцев, командиров, их жен и детей, подвига, по силе духа и несокрушимой стойкости беспримерного даже и в истории Великой Отечественной войны. Изучая немецкое донесение, из которого стало известно о подвиге брестского гарнизона, Смирнов обратил внимание на строки, где говорилось про оборону Восточного форта. Там в продолжение многих дней оборонялись 20 командиров и 370 бойцов, обеспеченных продовольствием и боеприпасами. Душою этого сопротивления был какой-то майор. Но когда после ожесточенной бомбежки гитлеровцы ворвались в Восточный форт, руководителя обороны они не нашли — ни живого, ни мертвого. Во время одной из поездок в район Бреста Смирнов познакомился с Яковом Коломийцем. Он сражался в Восточном форту под командованием майора, являвшего пример воли и мужества. Оказавшись в плену, Коломиец услышал, что майор застрелился. Фамилию его Коломиец забыл. Тогда Смирнов достал список защитников крепости. Среди ста с лишним имен, установленных им к тому времени, были майоры. Услышав фамилии, Коломиец вскрикнул: «Гаврилов!» Это он руководил обороной Восточного форта. Потом Смирнов познакомился с доктором Вороновичем. Попав в начале войны в плен, доктор лечил в лагерном госпитале советских военнопленных. На тридцать второй день войны к ним, на окраину Бреста, доставили захваченного в крепости раненого майора. Он находился в беспамятстве и был так слаб, что не мог сделать глотательного движения. Но когда его окружила и крепости, отстреливался, бросал гранаты, убил нескольких гитлеровских солдат. Об этом рассказывали сами фашистские офицеры. Воронович спас ему жизнь. Рассказывая, Воронович вспомнил фамилию: его звали майор Гаврилов. Так Смирнов выяснил, что Гаврилов в 1941 году был жив и находился в плену. В Генеральном штабе Советской Армии удалось отыскать краткие сведения. Гаврилов, Петр Михайлович, служил в Красной Армии с 1918-го, сражался на многих фронтах гражданской войны, в 1922 году вступил в партию. Окончив в Москве военную академию, был назначен командиром стрелкового полка, который перед войной перевели в Брестскую крепость. С 1945 года живет в Краснодаре. Сергей Смирнов поехал к нему в Краснодар. И Гаврилов — олицетворение легенды — сам рассказал ему историю беспримерной обороны Восточного форта и о том, как после падения форта он оказался отрезанным от всех в подземном убежище, как, пробыв несколько дней без воды и пищи, вышел наружу и вместе с 11 бойцами снова организовал оборону на валах Восточного форта. Потом их осталось трое. Потом он один. Питался комбикормом для лошадей — соломой, мякиной, по ночам выползал, чтобы напиться гнилой воды из канала. Тяжело больной, он выдал себя невольными стонами. Остальное мы знаем… С каждым днем работа Смирнова все более выходила за рамки задуманной книги и превратилась в событие общественной жизни еще прежде, чем книга была написана. Устанавливались адреса; защитники крепости, попавшие в фашистский плен, потерявшие между собой связь, снова находили друг друга, вступали в переписку, получали возможность встретиться и восстановить ход событий. Это в свою очередь позволило организовать встречи с героями и, наконец, многолюдные митинги. Весь этот человеческий материал не укладывался в план исследования, темой ксторого была оборона крепости. Тогда у Смирнова возник замысел героико-драматической эпопеи — «Крепость над Бугом». Однако вскоре он понял, что и драматическая форма не сможет вместить всей проблемы. Написать о защите Брестской крепости — значило отказаться от изображения дальнейших судеб тех, кто остался в живых. Пьеса не объясняла причин, почему подвиг остался неосвещенным. В ней не было места поискам, которые связали эти первые дни войны с настоящими днями. Весь масштаб моральной проблемы не могла решить ии деловая книга, ни форма трагедии. Тем более что зритель не понял бы, ке ощутил бы в театре, что эпопея написана на основании новых подлинных материалов, еще никому не известных. Он сравнил бы пьесу с другими подобными ей — о Великой Отечественной войне, где факты истории, давно уже ставшие общеизвестными, связаны с вымышленными героями. Если б Смирнов качал с пьесы, зритель не выделил бы «Крепость над Бугом» из аналогичного ряда военно-драматических представлений, ибо не смог бы определить в ней соотношение правды и вымысла. Тем более что на экранах уже прошел фильм о защитниках Брестской крепости, основанный на фактах, известных ранее, в ту пору еще, когда Смирное не приступал к своим поискам, и смело домысленных драматургом. Поэтому и эпопею и книгу «Брестская крепость» пришлось отложить. А пока следовало рассказать о ходе работы по радио — это могло открыть новые имена, установить еще не известные факты. И вот, еще не написав ничего и даже не определив точно жанра своей новой работы, Смирнов выступил по Всесоюзному радио. Это было 23 июля 1956 года. В продолжение часа рассказывал писатель о ходе поисков и о том, как оживал перед ним один из самых беспримерных подвигов, совершенных во время Великой Отечественной войны. За первой передачей последовала целая серия. Потом их пришлось повторить. Имя С. С. Смирнова, известное дотоле сравнительно мало, стало сразу широко популярным. А текст передач составил основу той книги, которая вышла летом 1957 года и называется «В поисках героев Брестской крепости». Так материал внес свои коррективы в планы писателя. И он написал другую книгу — не ту, что собрался писать. И даже не написал, а сперва произнес ее перед многомиллионной аудиторией. Радиопередачи вызвали отклик необычайный. Достаточно сказать, что в Радиокомитет, в редакцию журнала «Юность», где были напечатаны эти рассказы, в Союз писателей на имя Смирнова сразу пришло более пяти тысяч писем. Во многих из них содержались новые, весьма важные, сведения и во всех — восхищение стойкостью, несокрушимой духовной силой героев и благодарность автору за его инициативу и труд. Тысячи благодарных откликов на радиопередачи и на журнальную публикацию — оценка очень высокая. И это понятно. Смирнов рассказал о людях, которые сражались отрезанные от внешнего мира. О них не писали в газетах, не сообщали по радио. Родина даже не знала, что они продолжают свое героическое сопротивление. Перенося тяжкие страдания, ведя неравную, ожесточенную борьбу, они были лишены того, что поддерживало других защитников родины, — связи со всем народом, со nceii страной. Подвиг оставался безымянным. Те же немногие, кто уцелел в развалинах крепости, считали, что они только выполнили свой долг, как выполнял его каждый советский солдат. В самом начале войны почти все они оказались в плену, в дальнейшем ходе событий участия не принимали и воротились домой угнетенные и подавленные ужасами неволи и своей незадачливой судьбой. Великую скромность советских людей, считающих свой подвиг делом почти что обыкновенным, Смирнов раскрывает чуть ли не на каждой странице. И в этом еще одно драгоценное качество его книги. Участница героической обороны военфельдшер Раиса Абакумова в 1952 году прочла в «Огоньке» статью, в которой говорилось о ее гибели. Она не стала опровергать ошибку, а, усмехнувшись про себя, сказала: «Ну, и вечная память тебе, Рая». Характеры в книге Смирнова не развернуты — они каждый раз вырастают из описания подвига и из отношения человека к нему. Но такая достоверная н, я бы сказал, «пронзительная» подробность, о которой мы сейчас говорили: «Вечная память тебе. Рая», — это сочетание скромности, гордости и доли иронии по отношению к себе стоит развернутой характеристики. Автор рассказывает, как с самого начала работы ему помогали и райвоенком из города Запорожье, и Главное управление кадров Советской Армии, директор сельской школы в Великолукской области и следователи военной прокуратуры, колхозный пчеловод из далекой деревни Марийской республики и работники Приемной Председателя Президиума Верховного Совета СССР. В течение полутора лет шел Смирнов от одного человека к другому, пока отыскал уже упоминавшуюся Раису Абакумову. «Сначала медицинская сестра Людмила Михальчук, работающая в Бресте, дала мне адрес врача Ю. В. Петрова в Ленинграде, — пишет Смирнов. — Доктор Петров сообщил местожительство фельдшера И. Г. Бондаря в Днепропетровской области. Бондарь прислал московский адрес доктора В. С. Занина, а тот в свою очередь помог мне установить связь с подругой Абакумовой — В. С. Раевской, которая тоже участвовала в обороне Брестской крепости, а сейчас живет в г. Мценске Орловской области. Она-то к сообщила мне наконец адрес Р. И. Абакумовой, уехавшей после войны к себе на родину, в Орловскую область, где она работала медсестрой в районной больнице поселка Кромы». Смирнов писал десятки писем в разные города, разыскивал новых участников обороны, Приходилось и помогать некоторым из этих людей, вмешиваться в их судьбу. А. М. Филь после войны был несправедливо обвинен в том, что он, будучи в плену, якобы служил во власовской армии. Смирнов обратился в Главную военную прокуратуру, и проверка закончилась полной моральной реабилитацией Филя, которому писатель выслал вскоре рекомендацию для вступления в ряды КПСС. Майор П. М. Гаврилов утратил в те годы свой партийный билет. После войны ему было предложено вступать в партию снова. По ходатайству С. С. Смирнова дело Гаврилова было пересмотрено, и он восстановлен в партии. Благодаря работе Смирнова люди получали возможность восстановить свою незапятнанную репутацию, свои боевые заслуги, а советское правительство — возможность вознаградить их подвиг. Указом Президиума Верховного Совета П. М. Гаврилов, возглавлявший в те дни оборону Восточного форта крепости, удостоен звания Героя Советского Союза. Другой руководитель обороны, один из ее главных героев и вдохновителей, полковой комиссар Ефим Фомин посмертно награжден орденом Ленина. А всего орденами и медалями по материалам, представленным С. С, Смирновым, награждено более семидесяти участников обороны крепости. Счастливая перемена произошла в судьбе Петра Клыпы — четырнадцатилетнего трубача из музыкантского взвода 333-го полка, оборонявшего Брестскую крепость. Участники обороны вспоминали этого мальчика как одного из самых отважных героев. Он не погиб тогда, но, став уже после войны нечаянным свидетелем уголовного преступления и не сообщив о нем, отбывал по закону наказание как соучастник. Данные, собранные Смирновым, позволили возбудить вопрос о помиловании Клыпы. Читая книгу, мы следим за тем, как исправляются допущенные в прошлом ошибки, радуемся торжеству справедливости. Те же чувства испытываешь, читая главу «Дочери капитана Шабловского», в которой рассказаны судьбы четырех девочек — дочерей героя, который тогда, в 1941 году, предпочел смерть жизни в плену! Сколько заботы проявило о них государство, как превосходно показаны в книге великие достоинства нашего общества! В новой связи все эти факты и воспринимаешь по-новому, с какой-то особенной остротой доходит до тебя их высокий смысл. Многие страницы трогают до слез. Это слезы возвышенные, укрепляющие дух. Это слезы восторга перед величием подпита советских людей, слезы благодарности героям. История и современность, героика подвига и поэзия человеческих чувств раскрываются на страницах этой небольшой книги.Над крепостью Брестской на подвиг зовет
Свидетель бессмертия — камень:
— Товарищ, товарищ, за мною, вперед!
На стены, на стены! Под знамя!
О НОВОМ ЖАНРЕ
1
Летом 1937 года мы ехали с Беном Ивантером, с его женой и двенадцатилетней дочкой в Грузию. Я поселил семью возле Сурами — в Квишхетах. Они решили ехать со мной. Для всех, кто его знал, имя Беньямина Абрамовича, Бена, или Боба Ивантера, будет всегда ассоциироваться с «Пионером», который он создал и редактировал более десяти лет. Этот журнал пользовался в те годы необыкновенным успехом. Цветную обложку его переворачивали торопливо и дети и взрослые и, пробежав оглавление, принимались просматривать, а потом читать повести, рассказы и очерки — про школу, про события в Испании, про большевиков на Северном полюсе, про летчиков и танкистов, про легендарные походы гражданской войны, про подвиги мифического Геракла, про путешествия вокруг света, про «университет неотложных дел», вплоть до задач, кроссвордов, фокусов и загадок. Было в этом журнале что-то заразительно интересное, увлекательное, масса выдумки, изобретательности, простых и умных решений, острое чувство времени, понимание величия совершающихся вокруг тебя дел, педагогический и журналистский талант людей, выпускавших этот журнал. Ивантер работал в «Пионере» с увлечением, с азартом. В 1941 году вышла книжка его рассказов, которую он озаглавил «Моя знакомая». В ней, в этой книжке, чувствуется та героическая романтика, которая бушует в рассказах друга Ивантера — Аркадия Гайдара. Война унесла обоих. Гайдар погиб четыре месяца спустя после начала войны, Ивантер был убит 5 июля 1942 года на Калининском фронте, где он работал специальным корреспондентом в армейской газете. Он погиб, не достигнув тридцативосьмилетнего возраста. И хотя курчавая голова его давно уже стала седой, во всем его облике — в светлых, ясных глазах, в его смуглом славном лице, в заразительной и застенчивой, словно удивленной, улыбке, во всей его складной и сильной фигуре, в громком и бодром разговоре — было очень много шумной, неугомонной юности. И ходил он быстро и легко. И с ним легко было говорить о самом веселом и о самом серьезном. О серьезном и о веселом говорили мы с ним и тогда, в вагоне, уносившем нас из Москвы в Закавказье. На лице Ивантера то и дело вспыхивало изумление — таким новым, необычным и увлекательным было для него все, что можно было придумать для журнала, рассказать, исследовать, найти. В конце 1936 года я принес в журнал несколько фотографий с вещей, стоявших на письменном столе Пушкина, — каждая была снабжена небольшой подписью. Картинки напечатали. После этого мы познакомились с Ивантером ближе. И вот теперь, на досуге, в купе, он пристрастно расспрашивал меня, что я делаю. Занятия мои отношения к «Пионеру» иметь не могли. Я, начинающий в ту пору историк литературы, мечтал об академической репутации, принимал участие в подготовке нового издания Лермонтова и только что закончил расшифровку таинственных инициалов некоей Н. Ф. И., которые Лермонтов выставил в заглавии нескольких юношеских своих стихотворений. Я с увлечением рассказывал Ивантеру, с каким трудом удалось выяснить мне, что под этими буквами влюбленный Лермонтов скрыл, следуя романтической традиции, имя юной московской красавицы Наталии Федоровны Ивановой, как мне удалось отыскать в Москве внучку Ивановой, у которой хранился портрет Н. Ф. И., как напал я на след старинного семейного альбома, а в альбоме оказались еще не известные лермонтовские стихи, и-о счастье! — обращенные к той же самой… Н. Ф. Ивановой… На эту тему я уже написал статью. — Все эти подробности, разумеется, в статью не вошли, — горделиво заявил я Ивантеру. — В ней сообщаются одни результаты поисков. — Ты с ума сошел! — вскричал Ивантер. — Ты академическим стилем задурил себе голову! Это же детективная повесть! Если ты не можешь ее написать так, как ты ее рассказал, мы пригласим в редакцию ребят и посадим стенографистку. А потом ты обработаешь запись, и мы дадим ее в февральский номер. Назвать это надо как-нибудь вроде «Одна из загадок Лермонтова»… Нет! Лучше — «Лермонтовская загадка»… Или… постой: «Тайна Н. Ф. Ивановой». Или, может быть, лучше — «Загадка Н. Ф. И.»?… Да ты не спорь, ты сперва напиши… Когда мы возвратились в Москву, Ивантер сдержал обещание, пригласил в редакцию стенографистку и посадил передо мною ребят. А потом выкорчевывал из текста рассказа наукообразные рассуждения и обороты. В одной из ближайших книжек журнала «Загадка Н. Ф. И.» была напечатана. На заглавие я согласился не без некоторых колебаний. Очень уж оно казалось мне ненаучным, я боялся, что это скомпрометирует меня в академических сферах. Хотелось назвать построже, что-нибудь похожее на обычное «К биографии Лермонтова». — От этого можно лопнуть! — выкрикивал Ивантер с хохотом. — Ну и что из того, что ты уже писал на эту тему статью? История поисков и статья — вещи совершенно различные… Тогда мне хотелось, чтобы различие это ощущалось не очень. Теперь я согласен: между статьей и описанием истории поисков существует принципиальная разница.2
Статья, даже самая увлекательная, излагает итоги исследования. Ход мысли ученого, его догадки, сомнения, поиски, заблуждения, находки, неукротимое стремление добыть неопровержимые доказательства своей правоты, распаляемое часами, месяцами, а иногда и годами напряженного систематического труда, горение ума и сердца — все это обычно не находит отражения в статье. А между тем какой исследователь не знал этих мучительно-сладостных ощущений: поэзия научного поиска, «романтика» научной работы известны даже самым спокойным, самым бесстрастным. Не говорю уже о творцах новых направлений в науке. Один из величайших ученых нашего века, основоположник ядерно-экспериментальной физики Эрнест Резерфорд, считал, что «истинная побудительная причина», заставляющая экспериментатора с величайшей настойчивостью вести свои поиски, «связана с захватывающей увлекательностью проникновения в одну из глубочайших тайн природы». Но именно эти захватывающие и побудительные причины чаще всего и не находят отражения в ученых трудах. В нашей литературе мало-помалу утверждается жанр, материал которому дают поиски исследователей, ведущие к разгадкам исторических или научных тайн. Речь идет о книгах, в которых показаны не только результаты исследования, но самая последовательность научного труда и научного мышления. Появление у нас этого жанра предвидел Алексей Максимович Горький. Еще в 1933 году он писал: «Прежде всего наша книга о достижениях науки и техники должна не только давать конечные результаты человеческой мысли и опыта, но вводить читателя в самый процесс исследовательской работы, показывая постепенно преодоление трудностей и поиски верного метода». С каждым годом мы все более убеждаемся в прозорливости Горького и видим, как возникает жанр, как велика потребность в подобных книгах, в которых писатель-исследователь, распутывая тайну, повторяя ход своей мысли, вслух анализируя факты, делает читателя соучастником в раскрытии исторических и научных загадок. И тот успех, которым пользуются у самых разных читателей труд академика И. Ю. Крачковского, увлекательнейшие книги по геологии академика А. Е. Ферсмана, — доказательство жизнеспособности этого жанра, его ёмкости, значительности его перспектив. С детских лет мир казался Ферсману полным загадок и тайн, а среди них самой большой, самой интересной была тайна камня. Страсть к открытиям сделала Ферсмана ученым мирового класса, выдающимся геологом и геохимиком, географом-путешественником, организатором крупнейших промышленных предприятий в СССР по переработке химического сырья. Его книги — это воспоминания о том, как ему приходилось решать минералогические загадки, как раскрывались перед ним постепенно тайны природных богатств. Ферсмана читаешь с интересом, с необыкновенным волнением, — поле деятельности ученого становится все Шире и шире, разгадка одной тайны ведет к разгадке других. А в итоге эти разгадки внесли огромный вклад в наше социалистическое строительство. Первая книга А. Е. Ферсмана в этом жанре — «Занимательная минералогия». Потом появились «Воспоминания о камне», «Занимательная геохимия», «Путешествия за камнем». Не много написано книг, которые с таким блеском служили бы пропаганде науки, вызывали бы у читателя такое же страстное желание приобщиться к науке — к труду, полному романтики, сулящему множество еще не открытых тайн. В мыслях академика И. Ю. Крачковского, когда он приступал к своей книге, вместо камней всегда стояли рукописи. Это его собственные слова. И мы видим, как загадка, возникшая перед замечательным востоковедом в 1910 году в библиотеке аль-Азхара в Каире, проясняется несколько лет спустя в зале университетской библиотеки в Лейдене, а решение ее приходит в результате упорных трудов только в 1932 году на Васильевском острове в Ленинграде. Таких историй в книге Крачковского множество. В предисловии он поясняет, что «писал воспоминания не о себе, а… о рукописях» и что прежде всего «хотел показать, что переживает ученый в своей работе над рукописями, немного приоткрыть те чувства, которые его волнуют и о которых он никогда не говорит в своих специальных трудах, излагая добытые научные выводы». Надо ли напоминать «Путешествие на „Кон-Тики“» Тура Хейердала, предпринявшего это полное опасностей, увлекательнейшее само по себе путешествие на плоту через просторы Тихого океана с одной целью — доказать связь между памятниками материальной культуры на островах Полинезии и культурой древнего племени, жившего на территории Перу! В памяти у читателей сюжет и второй его книги — «Аку-Аку»: ход мыслей исследователя, которому предстоит постигнуть тайну — каким образом жители острова Пасхи без всяких технических приспособлений переправляли на десятки километров и устанавливали гигантские памятники из каменных глыб величиною в железнодорожный вагон? И все же это книги, обращенные учеными не к специалисту, а к массовому читателю. Но с не меньшим напряжением читаются строго научные статьи, в которых сохраняется «история мысли» исследователя. Академик И. Э. Грабарь в специальном сборнике «Вопросы реставрации» напечатал работу, в которой доказывает, что обнаруженная в Нижнем Тагиле «Мадонна» принадлежит Рафаэлю.
От этой статьи нельзя оторваться! Это роман, в котором действуют папы и кардиналы, императоры, короли, шарлатаны, знатоки искусства, спекулянты, а героиней является прекрасная женщина, созданная кистью художника. Шаг за шагом движется исследователь, решая один за другим вопросы: когда, через кого и откуда попала картина в Нижний Тагил? Каковы основания считать, что она писана в XVI веке? Где доказательства, что она принадлежит кисти самого Рафаэля, а не ученику его школы? Какие изменения претерпела фактура картины в связи с реставрациями, которым она не раз подвергалась на протяжении четырехсот с лишним лет? Грабарь пришел к выводу, что это подлинный Рафаэль. У других искусствоведов на этот счет возникают сомнения. Я говорю сейчас не об этом. Специальная статья читается как «роман тайн». Другой пример подобного рода — сообщение профессора М. А. Гуковского о «Джоконде» Леонардо да Винчи. С незапамятных времен хранящийся в Лувре портрет немолодой флорентинки с лицом, исполненным глубокой значительности, с загадочной усмешкой на устах считался изображением Моны Лизы, жены Франческо дель Джокондо. В 1911 году эта картина исчезла из Лувра. Через два года ее нашли. Дважды ее пытались сознательно уничтожить. Сотни авторов стремились разгадать тайну улыбки, изображенной на полотне. Не много картин на свете, которые могли бы оспаривать славу «Джоконды». Но вот в последнее время возникли сомнения. Мона Лиза Джоконда, когда ее писал Леонардо да Винчи, было около двадцати лет, муж ее благополучно здравствовал, а на луврском полотне изображена не очень молодая вдова. Сохранились сведения, что луврский портрет был заказан не мужем Моны Лизы, а человеком, который ее никогда не видел. На основании целого ряда соображений современные итальянские искусствоведы пришли к заключению, что находящийся в Лувре портрет изображает не Мону Лизу, а какую-то другую модель Леонардо да Винчи. Но существовал ли вообще портрет Моны Лизы? Да, отвечает профессор Гуковский, существовал! Со слов ближайшего друга и любимого ученика Леонардо — Франческо Мельци — известно, что великий художник писал Мону Лизу, изобразив ее в костюме Весны. И Гуковский обращает внимание на полотно, приписываемое кисти Леонардо да Винчи, уже более ста лет составляющее собственность ленинградского Эрмитажа, — на портрет юной женщины, одетой в костюм Весны, украшенной цветами и зеленью. Слегка улыбаясь, она держит в руке полевой цветок «коломбину», от которого пошло и название картины, ставшее как бы именем неизвестной красавицы. В тетрадях Леонардо сохранились наброски головы «Коломбины»… Высказывается предположение, что произведение докопчено учеником великого мастера — Мельци. Биограф художников Возрождения, знаменитый Джордже Вазари писал в середине XVI столетия, что Леонардо да Винчи создал «для Франческо дель Джоконде портрет Моны Лизы, жены его, и, потрудившись над ним четыре года, оставил его недовершенным».«Тагильская мадонна»

Исследователь бросил новый и сильный свет на малоизвестное полотно Эрмитажа. Отныне искусствоведы и художники всего мира будут решать вопрос: Коломбина или Джоконда? Но творческая история парижской картины окутывается отныне покровом тайны. Кто же та женщина, которую более четырехсот лет считали Джокондой? Нет никаких сомнений, что творческая история этих двух картин Леонардо да Винчи уже и сейчас составляет один из самых заманчивых и увлекательных сюжетов в жанре научного поиска. И что сюжет этот в равной степени интересен и специалисту-искусствоведу и рядовому читателю. Загадки, гипотезы, поиски доказательств, неожиданные препятствия, пафос открытия — все это может составить увлекательный сюжет независимо от того, в какой области науки ведется исследование: ищет ли ученый ключ к азбуке вымершего народа, обнаруживает ли образцы ценных горных пород, выясняет ли автора старинной картины, адресата пушкинских или некрасовских стихов, идет ли дело об открытии нового лекарства или загадках космоса — история работы будет все равно интересной. Доктор геологических наук Р. Ф. Геккер рассказал на страницах академического сборника, как он искал в Ленинграде коллекцию А. Ф. Фольберта — палеонтолога прошлого века. Что ж! Еще одно доказательство, что дело не в исследуемой проблеме, а в приобщении читателя к поискам. Академик М. П. Алексеев два летних месяца 1961 года провел во Франции. Он знакомился с тем, как изучают русский язык и литературу в высших и средних школах, беседовал с выдающимися лингвистами, а кроме того, использовал свое пребывание для розысков затерянных рукописей И. С. Тургенева, выявление которых превратилось в неотложную задачу советских текстологов, особенно после того, как Академия наук СССР предприняла издание нового многотомного собрания тургеневских сочинений и писем. Вернувшись в Ленинград, ученый напечатал отчет о поездке под заглавием «По следам рукописей И. С. Тургенева во Франции», в котором рассказал о посещении библиотек и архивов и о визитах своих к потомкам тех лиц, с которыми был связан Тургенев. Повествование ведется очень свободно. Является необходимость вспомнить предшественников в деле изучения тургеневских рукописей — следует экскурс в историю публикации текстов. Живо, легко рисует автор портреты друзей и знакомых Тургенева, тут же, в тексте статьи, публикует и комментирует обнаруженные новыезаписки и письма… Статья напечатана в «Русской литературе» (1963, № 2) — журнале сугубо научном, выходящем под грифом Академии наук СССР. И, естественно, вполне отвечает требованиям самым строгим, которые предъявляются к научным отчетам. Но тон повествования непринужденный, естественный, приближенный к разговорной речи, рассказано все очень просто, словно за круглым столом, и адресовано, кажется, не только специалистам, по весьма широкому кругу людей, заинтересованных в судьбах культурных ценностей. Как достигнуто это? Способом довольно простым! Рукописи существуют во Франции не вообще и не вообще должны быть обнаружены для науки кем-то: их ищет автор. В его распоряжении два месяца. Работы — край непочатый. Получение рукописей связано с трудностями. И факты, имеющие интерес главным образом чисто академический, обретают другой интерес: речь идет уже не просто о документах, а о судьбе документов; речь идет об успехе дела. А это уже увлекательно и равно интересно и литературоведу, и человеку, не связанному с наукой. Ученый приходит к внучке Полины Виардо — женщины, которую Тургенев любил и в семье которой прожил долгие годы. Ей, Виардо, достался архив Тургенева. А после смерти ее, в 1910 году, он перешел к потомкам великой певицы. Их много, — генеалогия семьи Виардо русским исследователям известна еще недостаточно. М. П. Алексеев решает обратиться к прямым наследникам. И вот получает приглашение от родной внучки П. Виардо, г-жи Анри Болье, посетить ее на ее парижской квартире.«Коломбина» или «Джоконда»?
«В назначенный день я явился к ней с визитом, — пишет ученый. — Г-жа Болье живет на авеню Моцарта, в одном из тихих и живописных кварталов Парижа, где многие улицы носят имена прославленных музыкантов, а дома, скрытые за большими деревьями, растущими на затемненных тротуарах, сохранили все признаки давности своей постройки. Поместительная, красивая квартира, в которой г-жа Белье живет вместе с дочерью м-llе Мишель Болье, научной сотрудницей Лувра, находится на первом этаже, с выходом непосредственно из столовой в небольшой сад, окруженный высокой стеной, густо заросшей плющом…»Хозяйка показывает гостю портреты, украшающие стены ее гостиной, вручает ему для просмотра большой альбом, начатый в 1847 году и наполненный большей частью рисунками Полины Виардо: среди них портреты композиторов Гуно и Сен-Санса, три карандашных портрета Тургенева, из которых опубликован покуда только один… Разговор многократно возвращается к Тургеневу. Г-жа Болье помнит его только по семейным преданиям, хотя великий писатель стоял у ее колыбели и был ее восприемником. Но когда он скончался, г-же Болье исполнился от роду только год… Наконец разговор коснулся того, что привело академика на авеню Моцарта: нет ли среди семейных реликвий писем Тургенева?
«— О, вы спрашиваете меня о том, что не заслуживает вашего внимания, — тотчас же ответила мне г-жа Болье, и я, — говорит М. П. Алексеев, — почувствовал в ее голосе ту жесткость и непреклонность, которую трудно было ожидать после веселых и радостных интонаций, сопровождавших ее рассказы о житье-бытье семьи Виардо в те годы, когда заполнялся рисунками лежавший перед нами альбом. — У нас есть кое-какие письма Тургенева и к моей бабушке и к моей матери, — продолжала г-жа Болье, — но это короткие деловые записки или письма, посвященные личным делам; они не заключают в себе ничего такого, что представляло бы общественный интерес, и никогда изданы не будут». «Грустно было услышать этот решительный ответ, — пишет М. П. Алексеев, — бесполезно было излагать напрашивавшуюся просьбу — предоставить их для печати для полного собрания писем Тургенева…»Мне кажется, что достаточно этих строк, чтобы воспринять как нечто весьма увлекательное все, что связано с поисками писем Тургенева во французских частных архивах, в библиотеках Парижа, Понтарлье, Безансона. Искусное перо академика М. П. Алексеева уничтожает переборку между «академическим» изложением и жанром, популяризирующим науку. Его статья — это и та и даугое. Это увлекательно и серьезно, строго и объективно. Каждый раз, когда ученый — арабист, геолог, искусствовед, историк литературы — приоткрывает кулисы своей работы, она становится для неподготовленного читателя и увлекательной и доступной. Число примеров растет. Поэт Ираклий Абашидзе, действительный член Академии наук Грузии, вместе с академиками А. Шаттидзе и Г. Церетели побывал в научной командировке в Иерусалиме. Цель путешествия заключалась в проверке легенды, согласно которой на одном из столбов, поддерживающих своды древнего грузинского храма св. Креста, сохранилось изображение Шота Руставели. По возвращении на родину Ираклий Абашидзе напечатал свой «Палестинский дневник», где рассказал о политических сложностях, которые возникли перед учеными, и о том, что храм был обновлен и никакого изображения Шота они не нашли. Не добившись помощи реставраторов, ученые сами размыли краску и обнаружили под ней древнюю фреску: коленопреклоненного седобородого старца в пурпурном одеянии и грузинскую надпись: Шота Руставели. На основе замечательного открытия грузинских ученых появилась не только проза — «Палестинский дневник»; родился цикл стихов Ираклия Абашидзе «Палестина, Палестина», написанных от лица Руставели. Великолепный исследователь творчества Пушкина Илья Фейнберг рассказал о пушкинском дневнике. Он считает, что дошедшие до нас дневниковые записи за 1833–1835 годы-тетрадь, на которой стоит цифра «2», — это рукопись беловая, заключающая только часть того дневника, который Пушкин вел в Петербурге с 1831 года по 1837-й. Фейнберг уверен, что существовал большой дневник, по некоторым сведениям объемом в 1100 страниц, который в настоящее время, скорее всего, находится в руках зарубежных потомков Пушкина. Возникает вопрос: чем можно было бы объяснить, что эти потомки до сих пор скрывают драгоценнейший документ, который должен пролить новый свет на последние годы жизни. Пушкина и на причины, приведшие его к трагической гибели? Исследователь видит причину в том, что поскольку внучка Пушкина вышла замуж за внука императора Николая I, то нынешние потомки поэта одновременно являются и потомками русских царей. И если обнародование дневника было бы вкладом в наши представления о Пушкине, то, с другой стороны, появление его в печати может дискредитировать гонителя Пушкина — Николая. А интересы последнего, рассуждает исследователь, ближе аристократической зарубежной родне поэта, чем интересы русской, да и не только русской, культуры, не говоря уж о том, что, по аристократическим представлениям, публикация личных писем и дневников даже и поминовении полутора веков представляется не только нежелательной — невозможной. …Дневник был. Исчез. Местонахождение в точности неизвестно. Цел ли он? Верить ли тем, кто говорил о существовании его, или это выдумка неуравновешенной женщины — одной из внучек поэта? Нет! И помимо нее факты заставляют ученого предполагать, что дневник существует. Фейнберг призывает искать. Надо ли удивляться тому, что это сообщение читается, как детективный рассказ?! Как отыскалась глава «Мертвых душ» — подлинный текст знаменитой «Повести о капитане Копейкине»? Как был расшифрован рисунок Лермонтова на полях черновой рукописи «Смерти Поэта»? Сжег ли Пушкин свои «Записки» после декабрьского восстания или нашел способ их сохранить, включив куски их в другие произведения, и мы частично их знаем? Как отыскался, был разгадан как пушкинское произведение и ныне осмыслен неизвестный труд Пушкина о Петре? И хотя в своей книге «История одной рукописи» Илья Фейнберг описывает не приключения свои, а излагает лишь историю рукописей — это все равно увлекательно. Здесь снова идет речь о судьбе, именно о судьбе творений гениев русской литературы — творений запрещенных, затерянных, неразгаданных. А раз есть загадка, исчезновение, находка, выяснение тайны, о которых говорит нам ученый, — читатель не просто следит за его рассуждениями, он соучаствует в этой работе, а ученый при нем как бы вслух мыслит, как бы ведет с ним доверительную беседу. И даже такой капитальный труд И. Л. Фейнберга, как «Незавершенные работы Пушкина» — исследование глубокое и более специальное, коль скоро речь в нем идет о новонайденном манускрипте, а в новонайденном манускрипте неизвестного пушкинского творения, — об «отточенных кусках высокой пушкинской прозы», — этот труд обретает острую занимательность. Что ж удивляться тому, что перед нами пятое за короткий срок издание литературоведческого труда, случай едва ли не исключительный! В 1860 году в майской книжке журнала «Библиотека для чтения» появились «Записки черкеса», три рассказа, подписанные псевдонимом «Каламбий» — «Владеющий пером». Великолепным русским языком, в лучших традициях русской реалистической прозы, с тончайшим знанием истории, нравов, обычаев адыгских народов, решительно отказавшись от романтически приподнятого изображения Кавказа, автор описывал молодого горца, получившего образование в России и вернувшегося на родину, чтобы нести просвещение черкесам. Кто был автором этих рассказов, оставалось неизвестным более ста лет, покуда в 1963 году в журнале «Дружба народов» не появилась статья молодого литературоведа из Майкопа Людмилы Голубевой, заявившей, что их написал Адиль Гирей Кешев. В ставропольском архиве, затем в ленинградских архивах, в Москве, в Орджоникидзе Голубева обнаружила никому не известные документы и выяснила, что Кешев — «сын абазинского князя» — учился в ставропольской гимназии, по окончании уехал в столицу и полтора года учился в петербургском университете на факультете восточных языков. За участие в студенческом движении был выслан на родину, а затем в продолжение четырех лет редактировал выходившую во Владикавказе газету «Терские ведомости», которая ставила в те годы острые вопросы, касавшиеся общественной и экономической жизни горцев, печатала обзоры литературы о Кавказе и многие статьи своих авторов сопровождала обстоятельными комментариями от редакции, но без подписи. Путем остроумного анализа Л. Голубева установила, что эти обзоры и комментарии мог написать только образованный человек, абазин по рождению, знавший языки абазинский, русский, татарский и различные диалекты адыгского языка — кабардинский, абадзехский, шапсугский, знаток жизненного уклада и терминологии адыгов, постоянно проводивший в анонимных статьях адыгские параллели. Таким человеком был во Владикавказе в то время только Адиль Гирей Кешев. Так Голубевой удалось обнаружить неизвестные произведения открытого ею писателя, воссоздать биографию выдающегося адыгского просветителя (он умер в 1872 году, в возрасте тридцати двух лет). Дело, однако, не в том, что работа Голубевой составила вклад в историю литературы народов Северного Кавказа: не меньшее значение имеет тот факт, что изложенная на восьми журнальных страницах статья читается с увлечением даже теми, кто ничего ровно не знает об истории адыгской литературы и ошибочно отождествляет понятие «черкес» с понятием «горец». В статье Л. Голубевой отразился весь ход ее упорных и увлекательных поисков. Факт за фактом строится биография. Голубева сводит воедино все то, что сумела собрать об этом талантливом человеке, и, можно сказать, воскрешает его на наших глазах. На гладкой странице истории все отчетливее начинают проступать контуры забытых людей, отошедших событий, и, наконец, мы знакомимся с драматической судьбой одного из тех, кто в прошлом веке в неимоверно трудных условиях созидал основу культур угнетенных, а ныне братских народов. Драматическую судьбу… Все дело в этом! Располагая материал в том порядке, в котором он был обнаружен или изучен, — другими словами, восстанавливая ход своей мысли (если только значительна самая тема и автор столкнулся с трудноразрешимой загадкой), исследователь строит собственную драматургию. И тут вступают в силу законы жанра: читатель, захваченный интересом к тому, как было открыто, без труда постигает, что было открыто. Представлением о ходе работы, знаниями, понадобившимися для того, чтобы осуществить ее, и добытыми результатами он овладевает как бы шутя, невзначай. И, поставленный в положение, равноправное с автором, он может судить о его работе, может сомневаться, может верить, советовать, обнаруживать изъяны в цепи доказательств. И помогать. И неправ, по-моему, Георгий Пантелеймонович Макогоненко, когда в статье «Романтическое литературоведение» говорит о жанре научного поиска иронически. Он выступает против новой концепции, изложенной в книге «Потаённый Радищев» писателя-историка Георгия Петровича Шторма. Шторм утверждает, что четыре строфы оды «Вольность» Радищева и поэма «Творение мира» не вошли в первое издание «Путешествия из Петербурга в Москву» (1790) не потому, что Радищев отбросил их, а потому, что они были написаны им долгое время спустя, уже по возвращении из ссылки. Концепция действительно новая: перед нами не сломленный ссылкой писатель, а прежний Радищев, — но Радищев, прибегнувший к конспирации. Макогоненко держится прежнего взгляда, Шторм развивает новую точку зрения. Но при чем же тут жанр? Жанр научного поиска, к которому относится новая (и строго научная) работа Георгия Шторма, позволяет читателю, даже не занимавшемуся изучением Радищева, следить за ходом исследования — автор излагает весь путь умозаключений своих, все материалы, все доводы, в том числе и гипотезы, без которых истинная наука не может существовать. Если бы Шторм написал сухой, архиакадемический труд, Макогоненко все равно не согласился бы с ним — они разошлись в истолковании, в оценке фактов. И в данном случае от того, к какому жанру относится книга Шторма, ровно ничего не меняется. А для читателя вопрос о жанре немаловажный. От этого зависит, возьмет ли он книгу в руки и не отложит ли после третьей страницы. Нисколько не желая умалить высокий авторитет Г. П. Макогоненко, считаю, что достоинства жанра доказаны еще раз появлением великолепной книги. И если я не берусь пересказать здесь ее содержание, то потому лишь, чтобы не огрубить тончайшей обработки научных деталей, не упростить пройденный автором путь сложнейших умозаключений, догадок и многолетних — изо дня в день — просмотров никем никогда не читанных архивных источников, сотен и тысяч дел, хранящихся и в помещениях старых церквей, и в новых архивных зданиях, чтобы не потерять важных доказательных звеньев, рассказывая о путешествиях Шторма из архива в архив, из города в город. Скажу только: началось все с надписи на списке «Путешествия из Петербурга в Москву» — это список, давно известный, хранящийся в Пушкинском доме Академии наук СССР в Ленинграде. И румынская надпись на нем тоже давно известна: прежние исследователи объявили ее «малограмотной» и «по содержанию своему не представляющей интереса». А Шторм, прочтя эту надпись, разгадал сокращенные слова, заключавшие в себе особый — тайный, опасный в ту пору — смысл, с этого все и пошло. В записи упомянут Саровский монастырь. Но так как надпись румынская, то все, кто прежде держал в руках список, предполагали, что надо искать этот Саровский монастырь в Бессарабии. А в Бессарабии его нет. Есть знаменитая Саровская пустынь в Темниковском уезде Тамбовской губернии. Один из ученых даже подумал о ней и тут же отверг эту мысль. Она показалась невероятной: при чем тут Румыния? А Шторм не отверг. И выяснил — Саровскую пустынь посещал отец Радищева, Николай Афанасьевич. И пошла распутываться нить, раскрываться то, что великий писатель хотел утаить от внимания царских соглядатаев, но сохранить для нас, — «для будущих веков дар». Не буду рассказывать, как связывались в одно целое разрозненные и, казалось, не имеющие между собой ничего общего названия, имена, факты. Как от Клинского уезда, Московской губернии, откуда список попал в Москву, к известному собирателю М. Н. Лонгинову, от Саровской пустыни нить потянулась в Арзамасский уезд, Нижегородской губернии, потом в Москву — на Пречистенку, оттуда в Саранск — нынешнюю столицу Мордовской республики, снова в Москву — в «приход Георгия Победоносца на Всполье», в Дорогобужский уезд, на Смоленщину, в сельцо Котлино, где находилась штаб-квартира заговорщиков, готовивших покушение на императора Павла I. Великая страсть научного следопытства привела Шторма к таким открытиям, выявила такое количество фактов, нам не известных, продемонстрировала такую филигранную технику исторических разысканий, что — я уверен — книга его еще удостоится самых высоких похвал и будет служить примером. Блестящий сплав науки с литературой — исследование читается как увлекательнейший роман, и при этом автор в своих разысканиях предельно терпелив, скрупулезен и обстоятелен! Приобретает или теряет наука от развития этого жанра? Не компрометирует ли такое соседство «строгий» научный стиль? Иные исследователи не видят особого прока в подобной литературе и относятся к ней снисходительно, другие, как мы уже видели, говорят о ней иронически. Нет! Наука приобретает не только читателей. Беру в свидетели автора великолепной книги «Стекло» — члена-корреспондента Академии наук СССР, ныне покойного Н. Н. Качалова. «Студенты не проиграют, — пишет он, — если вместо описания какой-нибудь реакции, которое можно найти в любом учебнике, рассказать им о полных вдохновения творческих переживаниях, которые их ожидают… когда они будут преследовать ускользающую от них истину и окружать ее по всем правилам научной стратегии… Когда же они наконец поймают эту истину… когда разоблаченная ими тайна уже не будет тайной, а станет новым знанием… они испытают… чувство такого глубокого удовлетворения, перед которым поблекнет все…» Силу воздействия такого рассказа ученый знает по своему, опыту: такой рассказ вербует в науку новых людей, способных зажигаться и проявлять чудеса настойчивости. Всякий раз, когда научное исследование переплетается с поисками «клада» и с приключениями, книге, даже академической по изложению, обеспечен самый широкий успех. Хороший пример — выпущенная Издательством Академии наук СССР книга И. Д. Амусина «Рукописи Мертвого моря». Если бы речь в этом труде шла только о том, что некоторые важные постулаты христианского вероучения были сформулированы за много лет до н. э. отшельниками так называемой Кумранской общины, то, несмотря на всю важность этих фактов, в новой связи опровергающих оригинальность известных положений христианства, а следовательно и их «божественное» происхождение, книгу прочли бы главным образом те, кто интересуется историей социальных и религиозпо-философских течений. Что же касается читателей более широкого круга, эти сведения дошли бы до них при посредстве популярных журналов или в устных, часто очень убедительных, пересказах. Но погодите!.. Книга «Рукописи Мертвого моря» начинается с рассказа о том, как в 1945 году молодой пастух-бедуин из племени таамире Мухаммед эд-Диб обнаружил в пустынной пещере в двух километрах от берега Мертвого моря глиняный сосуд, а в этом сосуде — кусок свернутой кожи. Как благодаря счастливой случайности этот кусок уцелел, а впоследствии выяснилось, что это — свиток, покрытый древнееврейскими письменами, возраст которого превышает две тысячи лет. Когда в соседних пещерах обнаружились новые свитки, весь мир заговорил о находках. Начались поиски и археологические раскопки. И в результате в гористой пустыне Вади-Кумран открылись новые тайники, где хранились рукописи на коже, пергаменте, папирусе, на медных таблицах, писанные на разных языках и представляющие, как сейчас уже выяснено, остатки шестисот книг, созданных в период с III века до н. э. по VIII век н. э. Это — огромное событие в науке. Но особый интерес к себе читающей публики оно привлекло именно потому, что связано с кладоискательством, потому, что в силу напряженной политической ситуации, разделившей Иерусалим границей между двумя государствами, профессор-эксперт знакомится с древними свитками на нейтральной территории, ночью, при свете карманного фонаря; потому, что возраст свитков проверяется потом по распаду радиоактивного углерода; хранятся свитки в сейфе нью-йоркского банка, публикацию об их продаже помещает «Уолл-стрит джорнэл», а в поиски новых включается наряду с учеными разных стран римский папа. Особый интерес вызывает эта книга и потому, что ореол тайны окружает не только историю открытия, но и содержание свитков, в которых трактуются и хозяйственные дела общины, и ее идеологические основы; потому, что читателя не оставляет надежда на новые находки, которые внесут ясность в загадки, возникающие в процессе осмысления найденных манускриптов. Потому, наконец, что он, так называемый широкий читатель, вовлечен в сферу исследования и разделяет страсть ученого, быть может не подозревавшего даже, что его книга вызовет такой гулкий отзыв. Интересно, легко написанная, но адресованная специалисту, книга академика Б. А. Рыбакова «Древняя Русь», казалось бы, никакого отношения к жанру приключений и поисков не имеет. Ученый сопоставляет известные всем былины с летописными текстами. Мало-помалу становится ясным, что многие из былин, в которых авторитетные фольклористы не видят ничего, кроме воплощения народной фантазии, измыслившей и сюжетную канву и героев, на самом деле основаны на конкретных событиях, а многие из былинных имен восходят к именам историческим. Всех догадок Б. А. Рыбакова, тончайших сопоставлений, бесспорных и убедительных доказательств не перечислить. Поэтому остановлюсь на одной — знаменитой — былине: про Вольгу и Микулу. Историческую подоплеку ее пытались разгадывать и раньше, но связывали при этом имя Вольги с именем Вещего Олега, а то и с именем Волха, как именовали полоцкого князя Всеслава. Однако в былинах Вольга называется Святославичем. И Б. А. Рыбаков предлагает учесть эту устойчивую и существенную деталь, которую сохранила народная память, — отчество. Такое отчество носил Олег Святославич Черниговский. Но тот Олег не имел отношения к древлянской земле. Между тем в былине о Вольге упоминаются, по мнению Б. А. Рыбакова, древлянские города-Вруч, или Овруч, Искоростень и Олевск, за тысячу лет в устно-поэтическом бытовании превратившиеся в Гурчевец, Крестьяновец в Ореховец. Подтверждение этой своей догадки ученый видит в названиях городов, соседних с древлянской землей, которые упоминаются в былинах о Вольге Святославиче; былинный Туринск, говорит он, — это исторический Туров, былинный Вольгагород — исторический «Ольгин город», или Вышгород. Все это позволяет связать былину о Вольге с древлянской землей. Б. А. Рыбаков напоминает, что когда-то на древлянское происхождение былины о Вольге и Микуле указывал академик А. А. Шахматов, но его замечание забыто. В древлянской земле с 970 по 977 год — об этом говорит летописец — княжил Олег, по отцу Святославич, внук Игоря и Ольги, получивший удел в 10–12 лет. А в былине действует и распоряжается «хороброй дружинушкой» десятилетний Вольга. В 975 году Олег убил на охоте Люта Свенапдича — сына врага своего, варяжского воеводы Свеналда. А в былине описана волшебная охота десятилетнего Вольги, и княгиня видит сон, что Вольга обернулся соколом и побил «черного ворона», который именуется здесь Санталом. После охоты исторический Олег Святославич два года готовится к борьбе со Свеналдом и пополняет дружину выходцами из народа. В былине Вольга после охоты тоже набирает дружину и приглашает на службу оратая, пахаря-богатыря Микулу Соляниновича с войском его, которое прозывается «Микулушкина силушка». Исторический Олег Святославич утонул вместе с дружиной своей во Вруче: Свеналд уговорил киевского князя Ярополка пойти войной на родного брата Олега. Вражеское войско подрубило мост через Вруч, и он обломился. О гибели «силушки» князя Вольги Святославича на подрубленном мосту в Гурчевце рассказывается и в былине… Разве не убедительно? А былины о киевском восстании 1068 года и о половецком хане Шарукане, который фигурирует в былинах под именем царя Кудревана или Шарк-великана! Или былина о Ставре Годиновиче, чье имя, по мнению Б. А. Рыбакова, обнаружено недавно на стене Софийского киевского собора! Но и одного примера, кажется мне, довольно, чтобы понять, как читает академик Б. А. Рыбаков творения древнерусского народного творчества, нащупывая под сказочными образами реальные исторические факты. Великолепное историческое и вместе с тем литературное исследование. Остается понять, почему эта книга читается с увлечением, — в ней нет ни истории поисков, ни приключений ученого… То же самое! Мы следим за разгадкой исторической тайны! Вы можете возразить: «В принципе всякое научное исследование открывает непознанное, следовательно, разгадывает тайну». Нет, если к известным фактам прибавляется новый факт, — мы можем отметить поступательное движение в науке, но еще не раскрытие тайны. Здесь — не то! Академик Б. А. Рыбаков как бы «просвечивает» былину, обнаруживая ее «каркас» — изначальное жизненное событие. Поэтическая гипербола часто выражает дух времени лучше, чем лежащий в ее основе реальный факт. Но, утратив внешнее правдоподобие, она кажется нам уже нереальной. Внимательно сопоставляя былины и летописи, автор книги «Древняя Русь» разгадывает реальную подоснову былинных событий. И в данном случае работа его принципиально не отличается от стремления раскрыть тайну свитка, покрытого древними письменами, или попыток разгадать модель портрета неизвестной красавицы, изображенной на полотне Эрмитажа. В принципе сюжетом повествования о поисках может стать разгадка любой тайны — научной, исторической, биографической, но при двух непременных условиях. Если разгадка сопряжена с преодолением действительных трудностей. И второе: если в основе интересной и напряженной фабулы лежит общественно значимая проблема. Академик M. H. Тихомиров, выступая в «Новом мире» со статьей о библиотеке московских царей, может быть, и не думал о том, что пишет первую главу увлекательного повествования. Тем не менее статья его читается залпом. Каждому хочется знать: лежат ли еще в подземельях Кремля сокровища царской библиотеки? Может ли смелая рука отыскать их? Прошло около четырехсот лет!.. Ученый верит в эту возможность. Он пишет: «Попытка не пытка, спрос не беда». И кончает статью словами: «Поиски этих сокровищ в древней кремлевской земле будут стоить сравнительно недорого, а находка возможно сохранившейся библиотеки, — подчеркиваем: возможно, так как нет уверенности, что она еще существует, — имела бы грандиозное значение». Так существует она или не существует? Эта загадка уже распалила воображение читателя. И он уже ждет этих поисков, с волнением станет наблюдать за их ходом и с интересом ждать результатов независимо от исхода. Будем надеяться, что эта работа начнется. От музыковеда Б. В. Доброхотова мне однажды пришлось услышать рассказ, как он искал потомков композитора А. П. Верстовского, как, войдя в их квартиру, увидел в передней над дверью его неизвестный портрет. Как нашлись утраченные сочинения А. А. Алябьева, которые прозвучали впервые сто лет спустя после смерти этого превосходного композитора. По значению находки Б. В. Доброхотова — первоклассная диссертация, по сюжету — авантюрная повесть: садись и пиши! Леонид Большаков, в ту пору сотрудник газеты, издающейся в Орске (Оренбургская область), читая полное собрание сочинений Л. Н. Толстого, обратил внимание на его письмо к уральской крестьянке А. Скутиной, относящееся к 1906 году. Обучившись грамоте и пристрастившись к чтению, она прочла сочинения Толстого. И написала ему большое письмо в надежде, что великий писатель посоветует ей, как выбиться из темноты, освободиться от рабства, найти в жизни большое, нужное людям дело. Увы, Толстой не знал этих путей. Он посоветовал Скутиной не осуждать других, жить чище — ответил ей в духе своей философии «непротивления злу». Но Скутина не согласилась с Толстым! Сохранились еще два ее письма, обнаруженные Большаковым в Толстовском музее. Характер этой женщины заинтересовал журналиста. И он решил выяснить, как сложилась в дальнейшем ее судьба. Разыскания эти необыкновенны и увлекательны. Ведь прошло более полувека. Не много было надежды найти в живых эту женщину. В уральском селе Хайдук, где она жила в пору, когда переписывалась с Толстым, никто ничего точно не знал. Но орский следопыт настойчив, изобретателен. И документы, которые наконец обнаружились в Ленинграде, раскрыли ему удивительную судьбу Скутиной. Это судьба человека, которого заново создала революция! Большевистский агитатор, первая красная делегатка, в 1918 году она вступает в Красную Армию. Становится отважной разведчицей. Попадает в плен к белым. Приговорена к казни. Спаслась. Изувечена. С 1919 года в рядах РКП (б). А потом-всю жизнь впереди: в борьбе за колхозы, за радиофикацию деревни, за новый быт, за самодеятельность на селе… Она умерла в 1945 году, когда наши войска, в которых сражались ее сыновья и внук, подходили к Берлину. Такова оказалась судьба корреспондентки Толстого, не поверившей в его философию! С каждым годом растет число этих увлекательно построенных научных повествований, в которых раскрыт «механизм исследования» и которые в обиходной речи ученых уже получили название «детективно-исторический жанр». Молодой историк Натан Эйдельман задался целью выявить русских корреспондентов «Колокола» — людей, с которыми был связан Герцен. Отчет о ходе своих поисков автор сплавил с изложением результатов своих — сплавил с превосходным искусством. На основе жандармских донесений и следственных дел он скрупулезно прослеживает конспиративные связи Герцена и наконец обнаруживает тех, кто сообщил издателю «Колокола» важнейшие секретные сведения из недр Государственного Совета — братьев Перцовых, Владимира и Эраста Павловичей. Один из них — высокопоставленный сановник, второй — автор стихотворных «шалостей», другими словами — стихов политических, человек, коего «решительный талант» в свое время отметил Пушкин. Эту исследовательскую повесть Н. Эйдельмана «Случай ненадежен, но щедр», напечатанную в двух номерах журнала «Наука и жизнь» (1965, №№ 1 и 2), нужно признать одной из самых увлекательных и самых результативных из написанных в этом жанре. Не менее интересен очерк его «Иду по следу» — о человеке из круга Н. Г. Чернышевского Павле Бахметеве, послужившем автору романа «Что делать?» прототипом Рахметова. Этот очерк напечатан в журнале «Знание — сила» (1962, № 12) — лишнее свидетельство широкого признания нового жанра. Но еще лучше было бы все эти «детективно-исторические» и «детективно-литературоведческие» работы собрать и выпустить в виде специальной библиотечки! А с каким интересом встречали читатели печатавшиеся в «Огоньке» очерки Евгении Таратута, в которых выяснялась загадочная биография автора прославленного романа «Овод»! Сопоставляя этот роман с произведениями русского писателя-революционера G. M. Степняка-Кравчинского, который в 80-х годах находился в эмиграции в Лондоне, Таратута обнаружила внутреннее родство «Овода» с его книгами. Далее выяснилось, что Войнич, в ту пору еще Лилия Буль, приезжала в Россию, жила в Петербурге, была связана с русской революционной средой. Вернувшись на родину, она вышла замуж за польского революционера M. Войнича и решила испробовать силы в литературе. Первым ее созданием был «Овод» — роман, как предположила исследовательница, вдохновленный революционной борьбой, с которой она соприкоснулась в России. Через три месяца после выхода в свет книга Войнич была переведена на русский язык. Е. А. Таратута обнаружила переписку Войнич с русскими литераторами. И всё! Остальное оставалось неясным. Сведения обрывались. Неизвестно было: как добывать их? Никто точно не знал, жива ли писательница. В печати ее часто называли «покойной». На вопросы, которые ставила в журнале Е. Таратута, ответ пришел из Нью-Йорка. Сотрудник ООН П. П. Борисов, прочитав статью в «Огоньке», первым получил новые сведения об Этель Лилиан Войнич, и притом самые достоверные. Это неудивительно, потому что получил он их… от нее самой. От него узнали, что Войнич жива. Ей десятый десяток. Более тридцати лет она прожила в Нью-Йорке. Адрес: 450 Вест, 24-я улица. Как выяснилось, в Соединенных Штатах писательница была совершенно забыта, она вела более чем скромную жизнь и даже не представляла себе, что в Советской стране за это время книга ее издана 116 раз, что она вышла на 23 языках, тиражом в 3 миллиона. Казалось, известие из Нью-Йорка обрывало почти детективный сюжет, слагавшийся в ходе поисков… Нет! Потому-то я пересказываю эту историю, что жанр, о котором мы говорим и к которому следует отнести очерки Е. Таратута, должен был привести к такому концу. Это закономерно. В этом же сила жанра! Благодаря своей доступности, занимательности он привлекает к науке читателей всех возрастов и профессий. И оказывается очень демократичным, потому что читатель может принять участие в работе ученого, сообщить ему новый факт, важное наблюдение, восполнить звено, отсутствующее в цепи доказательств. И лучший, мне кажется, способ вести в наше время подобные поиски — это обращаться к читателям, телезрителям, радиослушателям. И ждать от них помощи. Работа Е. А. Таратута — хороший тому пример. И, конечно, работа Сергея Сергеевича Смирнова, который восстановил историю обороны героической Брестской крепости. Смирнов поведал по радио, как искал участников обороны, устанавливал имена погибших. И тысячи писем, пришедших в ответ на радиопередачу, дали ему новые нити, новые адреса, новые имена, рассказали ему о еще неизвестных судьбах… Радио!.. Не так давно мне пришлось поработать над составлением граммофонной пластинки, представляющей собою как бы «антологию голосов», в которую вошли отрывки из выступлений и речей Льва Толстого, Горького, Маяковского, Есенина, Луначарского, Алексея Толстого… Не хватало голоса Бунина. Старую пластинку с записью прочитанных им стихов искали в звукоархивах, у коллекционеров, давали объявления в газетах. Безрезультатно. Обратились на радио с просьбой сообщить, не сохранилась ли она у кого-нибудь — в ответ позвонили по телефону — «Зайдите». Ее нашла у себя москвичка А. И. Кувшинникова. Но вернемся к вопросу о жанре.
3
Размышляя о статьях и о книгах, в которых раскрываются, если можно так их назвать, «приключения ученого», может быть, следовало вспомнить великолепные книги Поля де Крюи «Охотники за микробами», «Борцы с голодом», «Стоит ли им жить?». Или, скажем, назвать «Разгаданную надпись» Б. В. Казанского-повесть о тех, кто расшифровывал клинописные знаки, изданную в 30-х годах и несправедливо забытую. Или книгу, которую тоже необходимо переиздать, — М. Мейеровича «Шлиман», о замечательных раскопках гомеровской Трои. Можно было бы вспомнить о талантливой книге Михаила Ценципера «Человек будет жить» (М., 1958), где прослежена история хирургии на легких — целой отрасли медицинской науки, начало которой было положено еще в конце прошлого века опытами русских хирургов и земских врачей. Кстати, автор — врач, журналист, историк медицины — увлекательно изложил факты, которые добывал сам в результате упорных поисков. Во всех названных книгах ведется рассказ о научных открытиях, о поисках верного метода, о первых достижениях и неудачах, о разгадках непонятных явлений, возникающих в процессе исследования, об эстафете в науке, о совместной победе нескольких поколений ученых. Но… Давайте сравним увлекательный научно-художественный рассказ о находках ученого, написанный талантливым литератором, с рассказом самого ученого о той же работе — рассказом, кстати сказать, не претендующим на особую занимательность. Материал для сравнения есть; это очень хорошо принятая у нас книга К. Керама «Боги, гробницы, ученые», в которой между прочим рассказывается о том, как английский археолог Говард Картер открыл гробницу египетского фараона Тутанхамона, и книга самого Говарда Картера «Гробница Тутанхамона», послужившая для Керама «строительным материалом». Нет спору, в своем «романе археологии» Керам показал великолепное искусство научного повествования, собранного, напряженного, увлекательного. Во многом материал ученого выигрывает в книге Керама. Сам Говард Картер не экономен, книга его не роман, а научный отчет о раскопках, обстоятельный и неторопливый, изобилующий тысячами мельчайших деталей, тормозящих развитие «фабулы». И тем не менее этот отчет производит огромное впечатление и «захватывает дух» не меньше, нежели «фактологический роман» К. Керама. Читая Керама, наблюдая вместе с ним сначала за неудачами, а затем за величайшей победой знаменитого археолога, все время помнишь, что речь идет об открытии уже совершенном, которое уже отодвинуто временем. Читая Г. Картера, сопереживаешь каждый момент работы, словно все совершается на наших глазах; время прошлое — находка Картера относится к 20-м годам нашего века — воспринимается как настоящее время. Более того, когда открывается запечатанный вход в гробницу Тутанхамона и Картер видит у порога погребальный венок из цветов, еще сохраняющих блеклые краски, видит погасшую лампу, отпечатки пальцев на белой стене, наполовину заполненный известью ящик у самых дверей, заметенные в угол стружки, — он понимает, что самый воздух, которым он дышит, сохранялся здесь в продолжение тридцати трех столетий, что это воздух, которым дышали те, кто нес мумию к месту ее последнего упокоения. И, не будучи литератором, он передает движение истории с такой поэтической силой, что мы вместе с ним погружаемся во второе тысячелетие до нашей эры и воспринимаем древний Египет в дни смерти юного фараона, с которым угасла XVIII династия, как совершенно живую реальность. Этого третьего «слоя времени» (современный читатель-Картер-Тутанхамон), этого оживления древнего мира, которое позволяет почувствовать, что три тысячи триста лет истории — это только вчера и завтра, соединяющие древние цивилизации с будущим, этого аспекта в повествовании Керама нет. Говорю это не для того, чтобы умалить достоинства его талантливой и увлекательной книги, но с тем, чтобы показать иную природу жанра: Керам действует «по доверенности», Картер говорит с читателем сам. И эта подлинность, или, как еще говорят, «самоличность», сообщает его рассказу ту высокую убедительность, превзойти которую не может никто. Если хотите, разницу между его рассказом о том, как он открыл гробницу Тутанхамона и что он в ней обнаружил, и пересказом Керама можно сравнить с признанием в любви и сообщением вашего друга о том, что вас любят. Вот почему я сознательно не касаюсь здесь многих великолепных произведений так называемой научно-популярной и научно-художественной литературы (а на самом деле просто великолепных книг о науке). Не касаюсь их здесь потому, что герой в этих книгах объективирован, читатель наблюдает за ходом его работы как бы со стороны и между ученым, ведущим поиски, и читателем, наблюдающим за ходом его работы, возникает посредник — автор. Не касаюсь этих книг потому, что в них ведется рассказ скорее о судьбах идей, чем о «приключениях ученого». И потому, что описание чужих достижений, пусть даже самое увлекательное, и ведущийся от первого лица рассказ о событиях, пережитых исследователем, — вещи совершенно различные. В этом смысле разница между жанром, о котором мы говорим, и «научно-популярной» литературой примерно такая же, как, скажем, между лирическим стихотворением и эпосом. Не касаюсь этой области также и потому, что если определения «поэзия научной работы» и «пафос научного поиска» вполне применимы к «Охотникам за микробами» Поля де Крюи или к «Эваристу Галуа» Леопольда Инфельда, то сблизить эти книги с детективным жанром нельзя. Между тем сопоставление таких книг, как, например, «Аку-Аку», с детективной литературой было бы вполне допустимым, если б не самое слово, скомпрометированное низкопробной бульварной литературой, полной преступлений, ужасов и убийств и совершенно подорвавшей первоначальный авторитет, который завоевали этому жанру Эдгар По в таких рассказах, как «Золотой жук» и «Убийство на улице Морг», и Конан Дойль в «Записках о Шерлоке Холмсе». Кстати, несколько слов о Холмсе, о котором так хорошо написал К. И. Чуковский. Рассказы о нем в высшей степени отвечали своему времени: они прославляли частную инициативу, энергию предприимчивого человека буржуазного общества, укрепляли в сознании читателей незыблемость частной собственности и буржуазного права. Но в то же время в них заключалось то ценное, что позволяет наряду с рассказами Эдгара По лучшие рассказы о приключениях этого сыщика относить к настоящей литературе. Я имею в виду умение героя связывать отдельные тончайшие наблюдения цепью неопровержимых логических умозаключений, имею в виду «торжество логики», аналитический подход к явлениям жизни, увлекательные поиски доказательств, умение строить гипотезы — именно то, что составляет подлинные достоинства рассказов о Шерлоке Холмсе и побуждает нас систематически переиздавать их. Однако чего бы ни касался западный детектив, в основе даже и лучших рассказов его лежит принцип прямо противоположный тому, который развивает литература «научного поиска». Принцесса потеряла кольцо. Украли шкатулку, в которой лежало завещание банкира. Вследствие происков акционер теряет все свое состояние. Детектив находит кольцо, обнаруживает похитителей, пресекает шантаж. Но кольцо, шкатулка, миллионное состояние принадлежат не читателю, а принцессе, банкиру, миллионеру. А рукопись Пушкина или Байрона, полотна Рафаэля и Ренуара, расшифрованный алфавит — это общая собственность. Она принадлежит всем читателям, потому что раздвигает границы наших познаний. И еще одно существенное отличие. В силу своей документальности книги о поисках свободны от литературного шаблона, потому что автор-исследователь каждый раз имеет дело с новым реальным материалом, из которого каждый раз возникает и новый сюжет. Вообще этот жанр представляет собою сплав очень сложный. Прежде всего эти книги научны, ибо содержат научные наблюдения и выводы. В то же время они сродни приключениям. Вторгающийся в них широкий жизненный материал сближает их с очерком, характер повествования — с рассказом, а воспоминания о людях и обстоятельствах — с мемуарами. И никто, конечно, не возразит,если сказать, что они содействуют популяризации науки и тем самым примыкают и к научно-популярному жанру. Конечно, здесь, как и в других жанрах, уже появляются авторы, которых привлекает не существо, а внешняя занимательность фабулы, построенной в жанре научного поиска. Иной уже готов рассказать со всеми подробностями, как он нашел свою рукопись в ящике собственного стола. Возникают мнимые тайны, преодолеваются мнимые трудности. В одной из газет был напечатан рассказ о том, как была найдена рукопись Гоголя. Автор пришел в рукописное отделение музея, заглянул в каталог, нашел искомую рукопись. И эту рукопись ему выдали. Между тем подробно описывался путь в музей, и самый музей, и разговоры с сотрудниками, и трепет ожидания. Но не было в этом рассказе поиска, не было движения сюжета, хода логических умозаключений, работы мысли, умения извлечь данные из, казалось бы, ничтожных фактов, не было правильных и значительных рассуждений, благодаря которым читатель может принять участие в работе и усвоить самый метод работы. А без этого все «вошел», «посмотрел», «попросил», «поблагодарил», «стал спешно спускаться с лестницы» — все эти не идущие к делу подробности выглядят как пародия на жанр, как стремление к ложной занимательности. Другое дело, если автор имеет в предмете создание еще одного аспекта повествования — создание образа и характера самого рассказчика. Тогда подробности, определяющие состояние «героя» и его отношения с людьми, будут к месту. В ином случае они должны быть беспощадно сокращены. В любом сочинении подобного рода важно движение от частного наблюдения, от частного положения к выводу, от малого факта к ощутимому результату. Движение от малого к малому в лучшем случае оставляет читателя равнодушным, а чаще вызывает его раздражение: «Игра не стоила свеч». Итог каждый раз должен стоить не только усилий ученого, но и усилий читателя. Он уже возник, жанр научного поиска. Все шире становится материал и исторический и современный, который воплощают «искатели». Поскольку мы заинтересованы не только в том, чтобы давать читателю знания, сообщая ему итоги исследования, но и в том, чтобы вводить его в процесс, — учить настойчивости, сообщать ему верный метод работы, — будущее за этим жанром. И основные удачи его еще впереди!О НОВОЙ ОТРАСЛИ ФИЛОЛОГИИ
1
В 1872 году в журнале «Русская старина» появились неизвестные отрывки и варианты первых глав второго тома «Мертвых душ» Гоголя, в которых идет речь о Тентетникове, о приезде Чичикова к Петру Петровичу Петуху и к генералу Бетрищеву. Находка вызвала огромный общественный интерес. Появились статьи о значении опубликованных материалов, важных для понимания идейной позиции Гоголя. И вдруг редакция «Русской старины» узнает, что опубликованные ею отрывки не что иное, как подделка полковника Н. Ястржембского, который решил, наконец, публично сознаться в этом. Оказалось, что, благоговея всю жизнь перед Гоголем, полковник вознегодовал на него за второй том «Мертвых душ» и за «Переписку с друзьями», в которых сказались реакционные взгляды писателя, и, побуждаемый самыми лучшими чувствами — желанием восстановить репутацию Гоголя, решил переделать начало второго тома «Мертвых душ» в духе идей Белинского, высказанных в его знаменитом письме. Копию этой подделки Ястржембский подарил одному из своих друзей, который, поверив в подлинность рукописи, ввел в заблуждение редакцию, а вместе с ней и читателей. Саморазоблачение мистификатора послужило поводом для шумной полемики. Возникло предположение, что это не подделка, а плагиат, что Ястржембский приписал себе подлинный текст Гоголя. Анализируя язык этих отрывков, замечательный советский филолог академик В. В. Виноградов подтверждает поддельность текста и показывает на этом примере, как тесно связаны стилистические изменения текста с его идейно-смысловым содержанием. В полемике по поводу этой мистификации принял участие журнал «Гражданин». Автор редакционной и безымянной статей, помещенных на эту тему, не установлен. На основе стиля статей Виноградов доказывает — их писал редактор журнала Ф. М. Достоевский. Но прежде чем пояснить, из какой книги взяты эти примеры, следует сказать хотя бы несколько слов о самом авторе.2
В 1923 году в научном сборнике «Русская речь» появилась статья молодого ученого Виктора Владимировича Виноградова о задачах стилистики. В статье рассматривался язык известного литературного памятника XVII столетия «Житие протопопа Аввакума». Уже здесь, в этой работе, автор, продолжатель школы выдающихся русских лингвистов А. А. Шахматова и Л. В. Щербы, высказал мысль, что лингвист должен видеть в художественном произведении, прежде всего выражение индивидуального «языка» писателя — его стиля: стиль индивидуальный определяет иногда стиль целой литературной школы. Через несколько лет вышла книга Виноградова «О художественной прозе», построенная на сравнительном изучении речи знаменитого адвоката В. Д. Спасовича по делу Кронберга (привлеченного к суду за истязание малолетней дочери) и откликов на это дело в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского и в «Недоконченных беседах» M. E. Салтыкова-Щедрина. Здесь показывалась разница между публицистическим и художественным воплощением действительности и — одновременно — своеобразие приемов, характеризующих стиль Достоевского и стиль Щедрина. В пору, когда Виноградов приступал к изучению языка художественных произведений, литературоведы, писатели высказывали немало суждений на эту тему. Однако их «стилистические» замечания носили субъективный характер, не были связаны с историей языка и потому научной ценности не имели. С иных позиций подходили к языку художественной литературы лингвисты: их, как правило, интересовали грамматические формы, отражение в языке писателей диалектов. Художественная литература служила им материалом для истории литературного языка. Но ведь язык художественной литературы и литературный язык совсем не одно и то же. Литературный язык — это норма разговорной речи, и деловой и публицистической. Виноградов считал, что язык художественного произведения — средство словесного искусства — надобно изучать иначе. И вот прошло около сорока лет. Мы читаем монументальное исследование академика Виноградова «О языке художественной литературы», которое свидетельствует о том, что в Советской стране на стыке языкознания и литературоведения возникла новая отрасль филологии — наука о стилях художественной литературы. Как будет она называться, эта наука, пока неизвестно. Название придет. И, наверно, станет таким же привычным, какими стали для нас термины «агробиология», «астрофизика», «геохимия». В разработке основ этой новой науки академику Виноградову принадлежит огромная роль. Не только потому, что он первый подошел к изучению языка писателей с новых позиций. Но также и потому, что в его лице соединились крупнейший советский языковед, ученый с мировым именем и выдающийся историк литературы. Не только время пролегло между первой статьей и нынешним капитальным исследованием. За эти годы академик Виноградов обогатил филологическую науку множеством ценнейших трудов в области грамматики и стилистики, семасиологии и лексикологии (учения о значении слов и словарном составе языка), фразеологии, истории русского литературного языка, общих вопросов языкознания. Далеко за пределами нашей страны известны книги Виноградова «Русский язык» и «Современный русский язык». Не менее известны и не менее важны для науки такие его монографии, как «Язык Пушкина», «Стиль Пушкина», работы о языке и стиле Крылова, Лермонтова, Гоголя, Льва Толстого, Достоевского, Щедрина… Вот на какой основе возник историко-теоретический труд «О языке художественной литературы», который представляет собою итог сорокалетних трудов Виноградова, трудов его школы, результат жарких дискуссий и высокого научного мастерства.3
Можно ли изучать язык писателя, не зная общественной жизни эпохи, не представляя себе его творческого метода, отношения его к языку народному и к литературному языку? Можно ли осмыслить стиль отдельно от формы произведения, от его композиции? От образа автора, каким он является в книге, от образов героев его? Или изучать язык вне связи с культурой эпохи, с господствующими в литературе стилями? С общей историей языка, наконец! Вот, например, слова — родина и отчизна. В нашем понимании они значат одно и то же. Не то было во времена Пушкина. «Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным, — говорит Пушкин о Дубровском, въехавшем во двор своей усадьбы. — Двенадцать лет не видал он своей родины». Между тем Дубровский не покидал России, а все двенадцать лет жил в Петербурге. Стало быть, родина для него не отечество, а только место, где он родился. «Он возвращается на родину уже в старости», — пишет Пушкин о рекруте («Путешествие из Москвы в Петербург»). «На тройке пронесенный || Из родины смиренной || B великий град Петра…», — читаем в стихотворении «Городок». Родина выступает здесь в ином значении, нежели слово «отчизна» — «отечество»: «Для берегов отчизны дальней || Ты покидала край чужой…», «Мой друг, отчизне посвятим || Души высокие порывы…». Но уже Лермонтов, добавим мы от себя, употребил оба слова как однозначные — в стихотворении «Родина», которое начал словами: «Люблю отчизну я…» Все эти многообразные аспекты изучения языка художественной литературы раскрываются в книге Виноградова на материале очень обширном, с большой обстоятельностью, последовательно и стройно. Для примера коснусь только одного из многих важных вопросов. «Во всяком художественном произведении, — говорил Лев Толстой, — важнее, ценнее и всего убедительнее для читателя собственное отношение к жизни автора и все то в произведении, что написано на это отношение». Этот «образ автора», воплощенный в языке произведений разных направлений и школ, составляет одну из центральных проблем исследования. Остро ощущал взаимоотношения с читателем при построении образа автора советский писатель Михаил Пришвин. В подтверждение своих наблюдений Виноградов приводит его слова: «…газетный корреспондент, — говорит Пришвин, — начинает описание словами: „Рано утром, отправляясь на место побоища, мы сели в автомобиль…“, хотя сел он один… Но я, — продолжает писатель, — до сих пор с трудом могу перейти от первого лица к третьему… Зато когда говорю „я“, то, конечно, это „я“ уже сотворенное, это „мы“». Очень важное свидетельство того, что дело тут не в словах. Нет! В прозе, как и в стихах, авторское «я» не сам автор, а образ, который, как и другие, возникает вместе с замыслом вещи. Анализ этого образа позволяет, скажем, отвергнуть приписываемые Пушкину заключительные строки стихотворения «Отрывок»; «образ автора» там другой. Это частность. Гораздо важнее, что изучение «образа автора» помогает Виноградову установить важные закономерности развития реалистического стиля в русской литературе.4
Попытки изучить стиль вне его конкретного воплощения в языке художественной литературы приводят к определениям расплывчатым и неточным. «Идейная близость к декабрьскому движению, — пишет один из современных исследователей, — позволила Грибоедову дать действительно реалистическое произведение — гениальную комедию „Горе от ума“». «А Рылееву не позволила?» — задает вопрос академик Виноградов. Действительно, поэт Кондратий Рылеев — один из руководителей декабристского движения. И тем не менее это не делает его романтические «Думы» реалистическими. В книге Виноградова проводится мысль, что реализм возникает и развивается «после того, как сформировался национальный литературный язык», после того, как язык художественной литературы сблизился с народно-разговорной речью. Только при этих условиях литература способна создать национальные типы и характеры. Доказывая, что образцом этого нового стиля является «Капитанская дочка» Пушкина, исследователь подчеркивает, что здесь «автор как бы сам становится персонажем своего романа, сливается со своими героями и иногда говорит их языком, а не своим собственным». Эта проблема — органической взаимосвязи стиля автора и речей действующих лиц — принадлежит к числу главных тезисов книги Виноградова, ибо в этой взаимосвязи он видит один из важнейших признаков утверждения реалистического стиля. Великолепен разбор языковых средств русской исторической прозы в сопоставлении с прозою Пушкина, с гоголевским «Тарасом Бульбой», который назван в книге «романтико-реалистической народной эпопеей», анализ образа рассказчика в повестях Тургенева и Достоевского и «образа автора» в романе Толстого «Война и мир» — анализ убедительный, тонкий. Помимо нового понимания стиля этих вещей, он доставляет наслаждение эстетическое. Он показывает, как развивались, становясь все более ёмкими, все более гибкими, выразительные средства русской реалистической прозы. Вникая в словесную ткань, ученый прослеживает закономерности могучего развития русского реализма. Реализма, с которым он настоятельно связывает понятие «историзм» — умение писателя постигать суть явлений в их историческом развитии. В том числе и развитие языка. Художественное произведение исследователь рассматривает теперь как бы с двух точек: «вблизи» и в исторической перспективе. Оно «может и должно изучаться, — пишет Виноградов, — с одной стороны, как процесс воплощения и становления идейно-творческого замысла автора и — с другой — как конкретно-исторический факт, как закономерное звено в общем развитии словесно-художественного искусства народа». Новое направление, избранное В. В. Виноградовым, ведет от субъективных предположений и оценок к точным критериям, к научно обоснованной системе определения индивидуальных и общелитературных стилей. Ученый разрабатывает стройную теорию, которая, в частности, позволит поставить на твердое основание такую важную для филологической науки проблему, как определение авторства в безымянных произведениях. Этому посвятил В. В. Виноградов вторую книгу — «Проблема авторства и теория стилей».5
Если не каждый историк литературы, то, во всяком случае, многие могут вспомнить, как приходилось им выяснять принадлежность литературного текста — автору, которого они изучают, текста анонимного, или приписанного ему без достаточных оснований, или приписанного другому. Многим филологам приходилось решать вопрос о предпочтении текста, дошедшего до нас в разных редакциях, в недостоверных списках. В. В. Виноградов приводит в книге немало примеров того, как, полагаясь на собственный вкус, на субъективные представления о стиле эпохи и автора, исследователь (иной раз крупный ученый) решает вопрос ошибочно. Так, в свое время Дмитрию Веневитинову, поэту-философу 20-х годов прошлого века, было приписано стихотворение «Родина». В. В. Виноградов подверг стихотворение анализу. Нет, для Веневитинова не характерны ни стиль предметных перечислений, ни вульгарные образы, ни резкие бытовые эпитеты, ни бытовое просторечие, перемежающееся с книжной фразеологией. Стилю Веневитинова чужды слова «мерзость», «дрянной», применение предлога «с» — «с домов господских вид мизерный». Да и самое слово «мизерный» не употреблялось в лирической поэзии 20-30-х годов прошлого века. Не встречается оно и у Пушкина. И Виноградов приводит множество примеров из литературы и публицистики, доказывающих, что слово это было характерно для разговорно-бытовой речи с чиновничьей окраской, притом в более позднее время. Оперируя фактами литературного языка XIX столетия и языка художественной литературы, ученый доказывает: стихотворение не могло быть сочинено Веневитиновым. Более того: оно не могло быть сочинено в 20-х годах. Оно написано не раньше 40-50-х годов прошлого века. Это утверждение В. В. Виноградова было опубликовано в 1962 году. Три года спустя в «Проблемах современной филологии» — сборнике, выпущенном к его 70-летию, литературоведы А. Гришунин и В. Черных обнародовали подарок ко дню рождения В. В. Виноградова — три неизвестных списка стихотворения «Родина», из которых два, более ранние, относятся к середине 50-х годов. По всему судя, незадолго до этого возникло и самое стихотворение. Таким образом, анализ признаков литературного стиля, осуществленный В. В. Виноградовым, подтвердился с высокой точностью.6
Почти сто лет решают текстологи вопрос: как печатать лермонтовское восьмистишие «Прощай, немытая Россия»? До нас дошли четыре различающихся между собой текста. Подлинник стихотворения отсутствует. Авторитетного списка нет. Дошедшие до нас варианты записаны в 70-80-х годах. Расхождения между ними довольно значительны. Четвертый стих читается так:И ты, им преданный народ,
И ты, послушный им народ,
И ты, покорный им народ.
И ты, им преданный народ.
И новым преданный страстям,
Я разлюбить его не мог…
7
Какие статьи и заметки могли принадлежать Пушкину в «Литературной газете», которую в 1830–1831 годах издавали А. Дельвиг и О. Сомов? Участие Пушкина в этом органе было очень значительным, а в продолжение двух месяцев, в отсутствие Дельвига, он даже исполнял обязанности редактора. В «Литературной газете» постоянно выступал Вяземский. Что принадлежит Сомову, Дельвигу, Вяземскому и что — Пушкину? Вопрос существенный не только для литературной науки, но и — непосредственно — для читателей. Мы стремимся знать каждую строчку Пушкина, но не согласны видеть в собрании его сочинений писанное другими! Как быть? Под заметками «Литературной газеты» подписей нет: они анонимны. Пушкинисты уже не раз пытались выяснить этот вопрос. Но одному авторство Пушкина кажется совершенно бесспорным, другой в том же тексте не видит ничего пушкинского. Решить это может только анализ. За дело берется В. В. Виноградов. И, сопоставляя анонимные статьи «Литературной газеты» с бесспорными текстами Пушкина, Дельвига, Вяземского и Сомова, выявляет неповторимые черты их индивидуального литературного стиля: эта заметка принадлежит Пушкину, в этой видны следы его соавторства, в этой — редакторской правки. Каждый раз при этом производится всестороннее рассмотрение содержащихся в тексте элементов смыслового, идеологического, исторического, литературного, эстетического и, разумеется, стилистического порядка. Изучаются речевые особенности, словарь, способы выражения, стилистические конструкции, индивидуальные осмысления и сочетания слов. В той же «Литературной газете» напечатаны две статьи на украинские темы. Их мог сочинить Пушкин. Мог — Сомов. Мог написать и Гоголь. На основе очень убедительного анализа В. В. Виноградов определяет: Сомов. В «Московском журнале» 1792 года помещены «Разные отрывки (из записок одного молодого Россианина)». Виноградов исследует жанр сочинения. Общественный идеал автора. Его философские и политические взгляды. Словарь статьи. Лексику. Фразеологию. Синтаксис. И на основании всех слагаемых доказывает: «Отрывки» написал Карамзин. И что это произведение программное, чрезвычайно важное для понимания этого большого писателя, но не попавшее в собрания его сочинений. Неизвестное стихотворение Карамзина… Неизвестная статья Карамзина… Одно за другим определяются сочинения писателей, затерянные в старых журналах. Анонимные фельетоны Достоевского в журнале «Гражданин». Анонимная рецензия на «Соборян» Лескова. Неизвестные рассказы Достоевского — «Попрошайка» и «Родиоша»… Эти главы книги В. В. Виноградова могут служить высоким образцом тончайшего историко-филологического и историко-стилистического анализа текста. Это ценнейший вклад в историю нашей литературы. Но, прежде всего, важнейший вклад в теорию пашой литературы, в обоснование нового раздела литературной науки, основоположником которой является В. В. Виноградов.8
Поскольку литературный стиль заключает в себе черты пишущего, он может помочь определению его личности и характера. Так, знаменитый А. Ф. Кони в книге «На жизненном пути» рассказывает эпизод из своей прокурорской практики (Виноградов приводит его) — об убийстве помещика Петина и подозрениях, которые пали на жену и ее любовника, харьковского студента Анисимова. Для уличения его следовало доказать, что анонимное письмо с угрозой, посланное еще до убийства, написал именно он. Сравнили почерк — бумага, чернила, начертания букв разные. Тогда у Кони возникла мысль проанализировать стиль. В качестве экспертов были приглашены академик П. С. Тихоправов и профессор Р. Ф. Брандт. Признали, что автор обоих писем — Анисимов, который, послав анонимную записку, хотел отклонить от себя подозрение в убийства Петина. А стиль выдал! В обеих записках встретилось выражение «отвратительный подонок мошенничества», повторялись излюбленные выражения Анисимова: «сказать еще несколько слов», «послушать к чему-нибудь», «змеиный шипучий яд». Вместо предлога «из» в обоих письмах фигурировало «с» — «Мне известно с телеграммы», «с его рассказа стало ясно». Кроме того, обнаружился ряд других признаков. Впрочем, этот пример взят из третьей книги В. В. Виноградова — «Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика» (1963), частично связанной с двумя предыдущими. Из этих трех трудов выросла четвертая книга — «Сюжет и стиль. Сравнительно-историческое исследование» (1963). Ученый рассматривает произведения, написанные на один и тот же сюжет, — о девушке (купеческой дочери, поповне), о задохнувшемся в сундуке любовнике и вымогателе слуге (дворнике, кучере, солдате). Сперва читатель знакомится с бытовой легендой, затем начинает следить за трансформацией сюжета и стиля в различных фольклорных отражениях — русских и украинских, в сентиментальной повести XVIII столетия «Несчастная Маргарита», в романтической повести «Мария и граф М-в», в повестях 30-х годов, в разбойничьей мещанской повести, в драме из купеческой жизни, в историческом романе графа Салиаса из времен московской чумы 1771 года и, наконец, в психологическом рассказе А. С. Суворина. Трудно представить себе более убедительный пример того, как видоизменяется сюжет и — соответственно — стиль этой истории применительно к характеру времени и понятиям читателей. Целый курс лекций вряд ли представил бы с такою наглядностью эту эволюцию стилей, это постепенное переосмысление сюжета. Я убежден, что книги академика В. В. Виноградова, хотя они рассчитаны на филологов, должны заинтересовать широкий круг культурных людей. В. В. Виноградов пишет о языке художественной литературы, опираясь не только на исторические примеры, но и на целую библиотеку советской литературы. И заняться вслед за ним языком Алексея Толстого, Федина, Шолохова, Леонова, Катаева, Пришвина, Светлова, Житкова, Бабеля, Гайдара, Пастернака, Пановой, Твардовского, Щипачева, Тендрякова очень, по-моему, интересно и очень полезно. Но дело даже не в современных примерах. Дело в пафосе этих книг — острых, талантливых, насыщенных новыми мыслями, призывающих перейти от случайных и субъективных оценок стиля и, прежде всего, языка советской литературы к его глубокому изучению.ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПУШКИНИСТ
В дни Пушкинских торжеств 1937 года был выпущен удивительный фильм. Шел он всего шестнадцать минут, назывался «Рукописи Пушкина». Зритель видел густо исчерканные, многократно переправленные пушкинские черновики, вглядывался в первую страницу «Медного всадника», на которой он не смог бы разобрать ни одной цельной строчки. И вслед за тем начинался рассказ о том, как шла работа над этой страницей: невидимая рука почерком Пушкина писала на экране слова, зачеркивала, заменяла другими, рассеянно рисовала профили на полях, переделывала готовые строки. А в конце мы видели ту же страницу, что и вначале. Только теперь она выглядела как поле битвы, на котором была одержана одна из величайших побед. Мы понимали, что вдохновение — это подвиг, это отважное стремление к еще не известному, упорный труд, приближающий поэта к новым открытиям в напряженных поисках точной мысли, через поиски точного образа, точного слова. Не было зрителя, которому картина показалась бы специальною, трудною. Каждый уходил обогащенный новым представлением о Пушкине, о его поэтической работе, и о литературной работе вообще, и о труде текстолога-пушкиниста. Снимал картину Сергей Владимирский. Владимир Яхонтов великолепно читал пояснения и пушкинский текст. Но в основе лежала работа замечательного советского пушкиниста Сергея Михайловича Бонди. Когда произносится это имя, у всех, кто слышал его, мгновенно возникает представление об ученом блистательного таланта. «Самый талантливый пушкинист за всю историю пушкиноведения», — говаривал о С. М. Бонди покойный биограф Пушкина профессор М. А. Цявловский. Если попытаться коротко объяснить, в чем заключается сущность дарования Бонди, надо сказать: в сочетании аналитического ума и артистического воображения, в умении глубоко понимать не только результат творчества, но и постигать самый его процесс в умении следовать за мыслями Пушкина. Именно это помогло Бонди разобрать множество не поддававшихся расшифровке пушкинских черновых рукописей, ибо каждый раз, читая почерк Пушкина, Бонди восстанавливал для себя всю картину его работы. Это помогло ему впервые прочесть гениальное пушкинское стихотворение «Все тихо, на Кавказ идет ночная мгла…», «Я возмужал среди печальных бурь…», стихи об актрисе Семеновой и многие, многие другие. Книга его «Новые страницы Пушкина», из которой читатель узнал про эти текстологические находки, принадлежит к числу лучших трудов о Пушкине. Не одно поколение пушкинистов пыталось прочесть пушкинские черновики. Но под силу это оказалось только советским текстологам: они не ограничивались вычитыванием отдельных, наиболее разборчивых, слов, а понимали рукопись как результат творческого процесса. В утверждении этого взгляда на рукопись и на задачи текстолога Сергею Михайловичу Бонди принадлежит первейшая роль. В чем особенность его подхода к черновику? Он начинает с того, что вникает в содержание написанного. А поняв целое, понимает и не поддающееся прочтению слово. А разве мы в жизни действуем иначе? Получив неразборчиво написанное письмо, мы прежде всего стараемся схватить общий смысл. И как только уловим его, чаще всего тут же прочитываем слово. Иногда говорят, что, действуя таким образом, текстолог подменяет авторский текст своими догадками. Нет! Бонди идет по следу поэта и до некоторой степени, несоизмеримо малой степени (как пишет он сам), наталкивается на те же ассоциации, которые возникали у Пушкина. И, конечно, это единственно правильный метод. Так поступает судебный следователь. Так же поступает и шахматист, когда изучает приемы игры своего партнера. Эта, казалось бы, данная от природы, способность Бонди читать рукопись, которую теперь, спустя столько времени, может быть, не разобрал бы сам Пушкин, имеет свои объяснения: не много было людей за истекшие полтора столетия, которые так глубоко понимали особенности поэзии Пушкина, его языка, его стиля, его работы, его характера, его эпохи. Заговорите с Бонди о «Борисе Годунове», и он расскажет вам, как он поставил бы эту драму, как понимать в ней каждый характер, каждую реплику. Можете знать: это был бы великолепный спектакль, потому что Бонди, в свое время близко стоявший к театру, человек высокой театральной культуры. Спросите его, как читать «Моцарта и Сальери», и вы поймете, что до встречи с Бонди не подозревали о том, какие богатства таятся под этим текстом, какую глубокую проблему воплотил Пушкин, как тонко понимал он взаимоотношения этих двух музыкантов, как знал музыкальную жизнь Вены последней четверти XVIII столетия. И все это будет особо убедительно оттого, что Бонди — талантливейший, высокообразованный музыкант. «Евгений Онегин»… Смело можно сказать, что никто еще не рассказывал об этом романе так увлекательно, как это сделал в своих статьях С. М. Бонди. В них выясняются характеры героев, оживает эпоха — театр времен Пушкина, книги, которые читал Онегин, которыми увлекалась Татьяна, раскрывается история десятой главы, особенности «онегинской строфы». Стих Пушкина. Но Бонди знаток не только пушкинского стиха: вряд ли в настоящее время в нашей стране есть другой такой же глубокий теоретик русского стихосложения, как Бонди. Лекции профессора С. М. Бонди в Московском университете проходят в переполненных аудиториях. И привлекают не только филологов. Это особые лекции, ибо он не только сообщает важные сведения: он учит постигать в стихах и в прозе поэзию, увлеченно любить литературу, воспринимать художественное произведение во всем богатстве его смысла, его воплощения, его отделки. Спросите писателей, слушавших лекции С. М. Бонди о Пушкине в Литературном институте имени А. М. Горького, — Поженяна, Бондарева, Бакланова, Винокурова, Тендрякова, Ваншенкина, Солоухина, — они скажут: это был целый мир, целая эстетическая система! Однажды на ежегодной пушкинской конференции С. М. Бонди читал доклад о беседе Пушкина с Николаем I в 1826 году. Подвергнув анализу дошедшие до нас разноречивые сведения и последующие отношения Пушкина с двором, Бонди восстановил содержание беседы. Он сделал это основательно, как историк, увлекательно, как романист. Долголетнее изучение Пушкина не ограничило его интересов. Наоборот, это ведет его к широким обобщениям и выводам. Последнее время С. М. Бонди не оставляет мысль, что историю литературы можно и должно складывать не из творческих результатов отдельных писателей, а надо научиться рассматривать ее частные и общие явления во взаимосвязи, как единый процесс. По возрасту, по опыту, по заслугам Сергей Михайлович Бонди принадлежит к старшему поколению ученых. Но по ощущению жизни, литературы, науки он моложе всех молодых: о чем бы ни говорил он — для него все впереди, все интересно, он продолжает круто набирать высоту, и ему еще предстоит работа над книгами, которых никогда и никто не напишет, кроме него.СЛОВО НАПИСАННОЕ И СЛОВО СКАЗАННОЕ
1
Если человек выйдет на любовное свидание и прочтет своей любимой объяснение по бумажке, она его засмеет. Между тем та же записка, посланная по почте, может ее растрогать. Если учитель читает текст своего урока по книге, авторитета у этого учителя нет. Если агитатор пользуется все время шпаргалкой, можете заранее знать — такой никого не сагитирует. Если человек в суде начнет давать показания по бумажке, этим показаниям никто не поверит. Плохим лектором считается тот, кто читает, уткнувшись носом в принесенную из дому рукопись. Но если напечатать текст этой лекции, она может оказаться весьма интересной. И выяснится, что она скучна не потому, что бессодержательна, а потому, что письменная речь заменила на кафедре живую устную речь. В чем же тут дело? Дело, мне кажется, в том, что написанный текст является посредником между людьми, когда между ними невозможно живое общение. В таких случаях текст выступает как представитель автора. Но если автор здесь и может говорить сам, написанный текст становится при общении помехой. В свое время, очень давно, литература была только устной. Поэт, писатель был сказителем, был певцом. И даже когда люди стали грамотными и выучились читать, книг было мало, переписчики стоили дорого и литература распространялась устным путем. Затем изобрели печатный станок, и в течение почти пятисот лет человечество училось передавать на бумаге свою речь, лишенную звучания живой речи. Возникли великие литературы, великая публицистика, были созданы великие научные труды, но при всем том ничто не могло заменить достоинств устной речи. И люди во все времена продолжали ценить ораторов, лекторов, педагогов, проповедников, агитаторов, сказителей, рассказчиков, собеседников. Возникли великие письменные жанры литературы, однако живая речь не утратила своего первородства. Но, увы! Время шло, люди все более привыкали к письменной речи. II уже стремятся писать и читать во всех случаях. И вот теперь, когда радио и телевидение навсегда вошли в нашу жизнь, литература и публицистика оказываются в положении довольно сложном. Благодаря новой технике слову возвращается его прежнее значение, увеличенное в миллионы раз звучанием в эфире, а литература и публицистика продолжают выступать по шпаргалке. Я не хочу сказать, что живая речь отменяет речь письменную. Дипломатическую ноту, телеграмму или доклад, обильно насыщенный цифрами, произносить наизусть не надо. Если автор вышел на сцену читать роман, никто не ждет, что он его станет рассказывать. И естественно, что он сядет и станет читать его. И перед живой аудиторией и перед воображаемой — по радио, по телевидению. Но все дело в том, что текст, прочитанный или заученный, а затем произнесенный наизусть, — это не тот текст, не те слова, не та структура речи, которые рождаются в непосредственной живой речи одновременно с мыслью. Ибо писать — это не значит «говорить при помощи бумаги». А говорить — не то же самое, что произносить вслух написанное. Это процессы, глубоко различные между собой. Статью, роман, пьесу можно сочинять, запершись ото всех. Но разговор без собеседника не получится. И речь в пустой комнате не произнесешь. А если и будешь репетировать ее, то воображая при этом слушателей, ту конкретную аудиторию, перед которой собрался говорить. И все же в момент выступления явятся другие краски, другие слова, иначе построятся фразы — начнется импровизация, без чего живая речь невозможна и что так сильно отличает ее от письменной речи. Но что же все-таки отличает эту устную импровизацию, в которой воплощены ваши мысли, от речи, вами написанной, излагающей эти же мысли? Прежде всего — интонация, которая не только ярко выражает отношение говорящего к тому, о чем идет речь, но одним и тем же словам может придать совершенно различные оттенки, бесконечно расширить их смысловую емкость. Вплоть до того, что слово обретет прямо обратный смысл. Скажем, разбил человек что-нибудь, пролил, запачкал, а ему говорят: «Молодец!» Опоздал, а его встречают словами: «Ты бы позже пришел!». Но раздраженно-ироническая интонация или насмешливо-добродушная переосмысляют эти слова. Почему люди стремятся передавать свои разговоры с другими людьми пространно, дословно, в форме диалога? Да потому, что этот диалог содержит и себе богатейший подтекст, подспудный смысл речи, выражаемый посредством интонаций. Недаром мы так часто слышим дословные передачи того, кто и как поздоровался. Ибо простое слово «здравствуйте» можно сказать ехидно, отрывисто, приветливо, сухо, мрачно, ласково, равнодушно, заискивающе, высокомерно. Это простое слово можно произнести на тысячу разных ладов. А написать? Для этого понадобится на одно «здравствуйте» несколько слов комментария, как именно было произнесено это слово. Диапазон интонаций, расширяющих смысловое значение речи, можно считать беспредельным. Не будет ошибкой сказать, что истинный смысл сказанного заключается постоянно не в самих словах, а в интонациях, с какими они произнесены. «Тут, — написал Лермонтов про любовное объяснение Печорина с Верой, — начался один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, которых повторить нельзя и нельзя даже запомнить: значение звуков заменяет и дополняет значение слов, как в итальянской опере». Эту же мысль Лермонтов выразил в одном из самых своих гениальных стихотворений:Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.
Как полны их звуки
Безумством желанья!
В них слезы разлуки,
В них трепет свиданья.
Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово;
Но в храме, средь боя
И где я ни буду,
Услышав, его я
Узнаю повсюду.
Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу.
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.
Но я ему —
На самовар
Но я ему…
(на самовар)
(указывая на самовар).
Последние комментарии
11 часов 47 минут назад
20 часов 39 минут назад
20 часов 42 минут назад
3 дней 3 часов назад
3 дней 7 часов назад
3 дней 9 часов назад