Будни прокурора
Глава первая
I
…Юрий Никифорович вспомнил сейчас эту сцену и мысленно улыбнулся. Ах, Верочка, Вера! Как хочется тебе иной раз поворчать, посетовать, устроить из случайной Сашкиной двойки настоящее семейное происшествие. И как быстро ты отходишь, вновь становишься ровной и веселой, такой же, какой была тогда, в ту далекую и близкую первую осень. В вагоне было тихо. Соседи по купе улеглись, одни читали, другие дремали. Улегся и Юрий Никифорович. Дома ему казалось, что вот войдет в вагон, ляжет и проспит все время пути — напряжение последних дней давало себя чувствовать. Но спать он не мог. Вглядываясь в причудливый узор светло-серого линкруста на вагонной переборке, Лавров вспоминал все, что говорили ему товарищи о городе, в который он ехал. Заместители прокурора и начальники отделов не раз бывали в этом городе и хорошо его знали. Все считали, что объем работы на новом месте будет шире, чем в районной прокуратуре. — И не думайте, что с вашим приездом все уладится, как по мановению волшебного жезла, — предупреждал краевой прокурор Иван Дмитриевич Щадилов, хотя Лавров вовсе этого и не думал, — не настраивайте себя так. Работы там — непочатый край, сумейте прежде всего отделить главное от второстепенного. У нас еще есть, к сожалению, прокуроры, невидящие главного за житейскими мелочами. И еще одно прошу вас твердо усвоить, Юрий Никифорович: главное теперь не только в борьбе с преступностью, но в предупреждении преступлений. Наша святая обязанность — разъяснять советские законы. Как это делать? — спросил Иван Дмитриевич и сам же ответил: — Надо чаще бывать у рабочих на заводах, на стройках, пристальнее всматриваться в жизнь и, расследуя преступление, проверять прежде всего, как, почему оно возникло и как можно было его избежать. Ясно? — спрашивал Щадилов, заглядывая в большие серые глаза Лаврова. — Впрочем, «америк» я вам и не собирался открывать. Так, — напутствие, — улыбнулся он. — А теперь — прощайте… Он крепко пожал Лаврову руку и, провожая его до дверей кабинета, добавил: — Не забывайте… Звоните, пишите. А я недельки через три-четыре наведаюсь к вам… Лаврову приятно было вспоминать этот разговор со Щадиловым. Хоть «америк» тот ему и впрямь не открыл, но не в этом дело. Сам тон беседы был таким дружеским, а пожелания такими искренними, что, казалось, все будет хорошо и непривычное станет привычным, а незнакомые люди непременно окажутся — пускай не сразу! — хорошими, верными товарищами и помощниками. …Юрий Никифорович проснулся от громкого и назойливого жужжания. Не сразу поняв, в чем дело, он отворил дверь и увидел, что неугомонный проводник, путаясь в черном шнуре, тащит по коридору тяжелый пылесос. Значит, скоро город…
II
Гостиница находилась вблизи вокзала. Дежурный администратор дремал, сидя в глубоком кресле. Лавров подошел к окошечку, предъявил паспорт. — Вам должны были позвонить относительно номера, — сказал он. — Да, номер для вас заказан. Вы надолго к нам? Лавров и сам этого не знал. Все зависит от того, когда ему дадут квартиру. — В город надолго, а сколько проживу в гостинице — пока не знаю. Если можно, устройте меня в отдельном номере, — попросил Лавров. Возвратив заполненную анкетку, он получил пропуск и поднялся на третий этаж. Дежурная, полная женщина с заспанным лицом, мельком взглянув на листочек, сказала: — Пройдите. — И повела Лаврова по коридору. Открыв дверь комнаты, она включила свет. — Отдыхайте. Комната, небольшая, но уютно обставленная, Лаврову понравилась. В ней имелось все необходимое. Было около четырех часов утра. Юрий Никифорович разделся, тщательно вымылся и лег в постель, решив, что завтра, пожалуй, прежде всего зайдет к секретарю горкома партии — кто-кто, а уже он-то сумеет рассказать о городе самое главное, дать почувствовать его атмосферу… Утром, позавтракав в ресторане, Лавров возвратился в свой номер. Шел десятый час. Взяв телефонную трубку, Юрий Никифорович попросил соединить его с первым секретарем горкома партии. И тут же в трубке послышался сочный мужской бас. — Товарищ Давыдов? Здравствуйте. Говорит Лавров. Вам сообщили о моем назначении? Я хотел бы с вами встретиться. — Пожалуйста, заходите, товарищ Лавров, — ответил секретарь горкома. У меня сейчас два товарища с завода. Думаю, через полчаса освобожусь. …В приемной Давыдова посетителей не было. За столом сидела худенькая белокурая девушка, технический секретарь. Стоявший у нее на столе телефон то и дело звонил. Лавров осмотрелся. Приемная небольшая, на одной двери табличка с надписью «А. С. Давыдов», на другой — «Я. П. Дымов». «Вероятно, второй секретарь», — подумал Лавров и развернул предложенную ему белокурой девушкой газету. Вскоре открылась дверь кабинета первого секретаря, оттуда вышли два человека. — Пожалуйста, заходите, — сказала девушка. На вид секретарю горкома можно было дать лет сорок пять. Это был мужчина среднего роста, с аккуратно причесанными, уже седеющими волосами, в темном строгом костюме. Лаврова он встретил приветливой улыбкой. — Прошу садиться… — и протянул руку. — Мы недавно разговаривали с Щадиловым, он мне сказал, что на днях к нам должен приехать новый товарищ. Да и в крайкоме у нас был разговор на эту тему. Вам раньше приходилось бывать в нашем городе? — спросил секретарь, усаживаясь в кресло напротив Лаврова. — Нет, не было случая… — Вы не кубанец? — спросил Давыдов. — Нет, сибиряк. Из Иркутска я. В сорок первом окончил юридический факультет МГУ, в начале войны был призван в армию, служил следователем прокуратуры одной из дивизий на Калининском фронте. После ранения и госпиталя был направлен в распоряжение прокурора края. И вот уже десять лет я на Кубани. Вначале был следователем, затем помощником прокурора района, а последние годы — прокурором. Теперь уж привык к Кубани, освоился… — Я тоже не кубанец, — сказал Давыдов, — но после освобождения Кубани от фашистов был командирован сюда на партийную работу. Правда, потом три года учился в Москве, в Высшей партийной школе, но по окончании снова вернулся сюда. Секретарь рассказал Лаврову о городе. — Полного представления о состоянии законности в городе я, признаться, сейчас не имею, — продолжал Давыдов. — Но надо сказать, что преступность у нас есть. И что хуже всего — не все преступления раскрываются. В торговых организациях бывают растраты, хищения; на заводах иной раз нарушают трудовое законодательство. В некоторых колхозах не соблюдается устав сельхозартели. Надеюсь, вы со временем разберетесь со всем этим, — а тогда и нас проинформируете. — Попытаемся, товарищ Давыдов, — скупо, в свойственной ему манере, отозвался Лавров. — Время покажет. Я ведь еще и в прокуратуре-то не был, не знаю, какие у них там дела. — Ну, а город как? Каково первое впечатление? — видимо, желая «разговорить» нового прокурора, спросил Давыдов и протянул Лаврову только что надорванную пачку «Беломора». — Курите? — Спасибо… — Лавров чиркнул спичкой, поднес огонек Давыдову, прикурил сам и, затянувшись, сказал: — Мало я еще видел, но город, знаете, есть город. Шумновато. А я больше к тишине привык. Сегодня чуть свет как загрохочут под окнами машины с пустыми бидонами — тут и мертвый проснется. — Это где же? — улыбнулся Давыдов. — Где вы остановились? — В гостинице, — сказал Лавров, — против вокзала. И подумал: «Не заговорить ли о квартире? Я же обещал Вере не откладывать… Нет, уж это было бы слишком! Не успел приехать, не познакомился еще толком, и сразу с просьбами. Отложим…» Но откладывать не пришлось. — Семья с вами? — спросил секретарь горкома. — Нет, товарищ Давыдов, пока еще в районе. — Что так? — Да ведь, видите ли, надо сначала осмотреться, устроиться как следует. Подождем… — Скоро устроитесь, — сказал Давыдов. — У нас как раз один дом почти готов, отделка осталась. Я поговорю в исполкоме. Две комнаты устроят? Лавров был явно смущен и не мог этого скрыть. — Вполне, товарищ Давыдов, — нас всего трое: я, жена да сынишка, — каким-то даже виноватым голосом сказал он. Зазвонил телефон. Давыдов снял трубку и, скороговоркой сказав: «еду, еду», встал с места. — Ладно, к этому делу мы еще вернемся. А пока не подвести ли вас до прокуратуры, товарищ Лавров? Я как раз в ту сторону еду. — Нет, спасибо, — отказался Юрий Никифорович. — Пройдусь по городу, осмотрю его достопримечательности. Секретарь широко распахнул обитую темной клеенкой дверь и, пропустив Лаврова вперед, на ходу обратился к белокурой девушке: — Я, Варенька, часа через два вернусь. А вы можете пока хоть Офелией быть, хоть дояркой Феней. Заметив удивление в серых глазах нового прокурора, секретарь уже на лестнице пояснил: — Варенька у нас — восходящая звезда на подмостках городской самодеятельности. Славная девушка, только как войдет в этот самый свой образ, так уж ее из него хоть за уши тащи. И он весело, раскатисто рассмеялся. У машины Лавров протянул Давыдову руку. — Заходите, Юрий Никифорович, звоните, — держась за открытую дверцу, сказал секретарь горкома. — Надеюсь, скоро увидимся. Машина мягко взяла с места, а Лавров неторопливо побрел по незнакомой улице, вдыхая влажную прохладу серого январского дня. Вдоль тротуара четким строем стояли развесистые каштаны. Их ветки были унизаны хрупкими, слезящимися сосульками. Студеные капли гулко падали на кожаную шапку Лаврова, но он шел вперед, не замечая этого. По левую сторону железнодорожного полотна раскинулся парк, окаймленный солидной каменной оградой. «Летом здесь, наверное, зелено и солнечно, — подумал Лавров. — Будем с Сашкой в парк ходить, а то, может, и за город ездить, к речке…» Мысль о сыне вернула его к беседе с Давыдовым. Хорошо, что так вот, просто, а главное не по его, Лаврова, инициативе, возник разговор о квартире. Давыдов, видимо, умеет сочетать большие дела с так называемыми «мелочами». А ведь нередко бывает и так, что работники его масштаба вольно или невольно устраняются от разрешения вопросов, которые касаются личной жизни человека. И как это неверно! Что значит «личное»? Неужели не ясно, что от этого личного зависит общее! Взять хоть его, Лаврова. Конечно же, когда Вера и Сашка будут при нем, здесь же, рядом, ему будет спокойнее, лучше, а это не сможет не сказаться и на работе. Нет, нет, мало еще думают у нас о душевном спокойствии человека, о его удобствах. И как приятно, что Давыдов не принадлежит к категории таких людей. Конечно, не принадлежит! Иначе разве было бы ему дело до того, где остановился новый прокурор? И разве помнил бы он о том, что этой белокурой девушке Вареньке надо разучивать какую-то роль?.. Лавров пересек улицу и, ускорив шаг, направился к домику, на который указал ему, неловко откозыряв, молоденький постовой милиционер.III
В первой комнате за столом сидела круглолицая молодая женщина. — Товарищ Прохоров у себя? — спросил ее Юрий Никифорович, и женщина, не отрывая взгляда от папки с бумагами, кивнула головой в сторону двери за ее спиной. В кабинете, склонившись над столом, следователь что-то показывал прокурору Прохорову. Отвлеченные скрипом отворившейся двери, они вопросительно взглянули на вошедшего. — Лавров, — коротко представился Юрий Никифорович. — А я с утра вас ждал. Вы что, не поездом? — спросил прокурор, протягивая Лаврову большую жилистую руку. — Поездом, — ответил Лавров. — Вчера ночью приехал. — В гостинице остановились? Мы вам номер забронировали. — Да, спасибо! Все в порядке. — Потом закончим. Позже, — сказал Прохоров, обращаясь к следователю, все еще стоявшему у стола с бумагами. — Нет, зачем же! — вмешался Лавров. — Продолжайте, а я посижу, если не возражаете. — Хорошо! Да что же я не предложил вам раздеться? Пожалуйста, товарищ Лавров, — спохватился Прохоров. — Прошу! — И он показал на стоявшую в углу вешалку. Следователь продолжал доклад о законченном уголовном деле. Сидя на диване, Лавров внимательно слушал. — А в суде оно пройдет? — после минутной паузы спросил прокурор. — Конечно! — с уверенностью ответил следователь. — Все честь по чести. Прочитав обвинительное заключение и сделав две какие-то мелкие поправки, Прохоров его утвердил. — Посылай в суд, — сказал он. Следователь направился к выходу, но по дороге бросил на Лаврова довольно внимательный, оценивающий взгляд. Когда они остались вдвоем, Прохоров, выждав, не скажет ли чего Лавров, заговорил первым. — Приказ я получил позавчера. Предупредил работников, чтобы готовили материалы для акта. — Работники прокуратуры у вас сейчас все на месте? — спросил Лавров. — Да, — ответил Прохоров и повторил: — Они знают, что вы должны приехать. Приказ я им объявил. — Так, может быть, вы, Петр Петрович, познакомите меня с сотрудниками? А после этого мы продолжили бы разговор и условились о нашей совместной работе на ближайшие дни. Прохоров встал. На вид это был совсем еще крепкий человек, с движениями сильными и четкими, с широкими плечами и молодым, зорким взглядом. Пожалуй, только цвет лица — нездоровый, серый — говорил о солидном возрасте и об усталости. Вместе с Прохоровым Лавров прошел по кабинетам. Петр Петрович представлял работникам нового прокурора и делал это спокойно, словно ничего не менялось в его жизни с появлением Лаврова. А Юрий Никифорович немного волновался, чувствовал себя скованно. — Ну, как? — спросил Прохоров, едва они вернулись в кабинет. — Каково впечатление? — Воздержусь, Петр Петрович, — сказал Лавров. — Рановато говорить о впечатлении. — Конечно, конечно! — согласился Прохоров и деловым тоном спросил: — С чего же мы начнем? — Хотелось бы прежде всего познакомиться с вашей отчетностью. Это поможет мне представить себе объем работы прокуратуры, — сказал Лавров. — А вы, Петр Петрович, возьмите на себя, пожалуйста, подготовку проекта акта. Что бы я хотел в нем видеть? Ну, во-первых, основные сведения о ваших работниках — кто чем занимается, у кого к каким делам интерес, — это ведь очень важно. Затем надо подготовить список незаконченных расследованием дел, указав сроки, содержание каждого дела; есть, вероятно, и такие материалы, по которым еще не приняты решения, разные жалобы… Хорошо бы, конечно, в этом же акте сказать о том, что мешает работе прокуратуры, как прокуратура боролась за укрепление законности, уменьшение преступности… Кроме того, Петр Петрович… — Но позвольте, — прервал Прохоров. — Это же получится слишком большой акт! Придется оторвать людей от основной работы, и не на день или два. Не знаю, не знаю… — Поверьте, Петр Петрович, что для людей это будет только полезно, — заверил Лавров. — Они серьезно проанализируют свою деятельность за прошлый год — ведь сейчас январь! — многое увидят заново. — Да нет, я же не возражаю, — вздохнув, произнес Прохоров, — но помнится, пять лет назад я принимал дела совсем иначе: в акте значилось лишь то, что было в производстве. К тому же вчера я звонил в прокуратуру края, и мне предложили пятнадцатого января быть в районе. А сегодня десятое. Как видите, времени осталось мало. — Тем более, надо поторопиться, — улыбнувшись, сказал Юрий Никифорович. — Но кто будет давать указания? — не удержался от вопроса Прохоров. — Конечно, вы! — сразу поняв, как важно это для честолюбия старого прокурора, сказал Лавров. — Хорошо. — И вызвав секретаря, Петр Петрович распорядился: — Пригласите сюда оперативных и технических работников. Через несколько минут все собрались в кабинете. Прохоров оставался за своим столом. Лавров сел чуть сбоку на диване, и собравшиеся могли незаметно рассматривать нового прокурора, строя различные предположения о том, каким же начальником окажется этот человек с непроницаемым лицом, с густой каштановой шевелюрой и серыми глазами, внимательно глядящими на Петра Петровича. К Прохорову все давно привыкли, давно узнали его хорошие и плохие черты, поняли, как делать то, что считаешь необходимым, даже если Петр Петрович запретил это делать. Привыкли и к забывчивости своего прокурора, и к тому, что вовсе не всегда он проверял, выполняются ли его поручения. В общем, что говорить: со стариком можно было ладить, если, конечно, не лезть на рожон. А вот с этим?.. — Как вам известно, — начал Петр Петрович, — Юрий Никифорович Лавров назначен к нам прокурором города. Я еду в район. Мы с Юрием Никифоровичем пригласили вас, чтобы поговорить о том, как должен выглядеть акт приема и сдачи дел, кто из вас и что будет делать… И Петр Петрович повторил все, о чем они договорились с Лавровым. Прощаясь с Петром Петровичем, Лавров сказал, что сегодня уже не вернется в прокуратуру, так как вечером хочет познакомиться с начальником городского отдела милиции. — Хорошо, — сказал Прохоров. — Машина у подъезда. — Не нужно, — отказался Лавров. — Хочу походить по городу, я ведь здесь впервые. После ухода Лаврова Прохоров почувствовал себя в этих знакомых стенах странно. Не нужно было думать о том, что предстоит сделать завтра. Завтра — это уже не его забота. Все дела будет решать Лавров… Петр Петрович внимательно осмотрел ящики своего стола. Он вынул недавно начатую синюю пачку сахара, большую чашку с аляповатым лиловым цветком и чуть-чуть отбитым краем, чайную ложечку и жестяную коробочку от зубного порошка «С добрым утром», в которой он хранил чай. Потом Петр Петрович открыл сейф, хотел было разобрать бумаги, но раздумал и, захлопывая тяжелую дверцу, подумал: «Завтра вот передам Лаврову и ключи от сейфа, и свой стол, и кабинет…» Он вздохнул, а мысль уже перенесла его в район, куда предстояло ехать. «Очевидно, это будет уже последняя пристань, как-никак — пятьдесят четыре года!..» Бережно уложив в портфель чашку с лиловым цветком и бросив вслед за нею глухо звякнувшую ложечку, Петр Петрович медленной, тяжелой походкой вышел из кабинета.IV
Знакомясь с работой прокуратуры по документам, Лавров уже в первые дни решал возникающие вопросы и дела, беседовал с сотрудниками, разъяснял им, что для него сейчас наиболее важно и почему. Он решил, что прежде всего надо ознакомиться с делами, которые находятся у следователей. Работа следователей несколько огорчила его: он столкнулся с вялостью, медлительностью, равнодушием, кустарщиной, которые были проявлены в некоторых случаях. Два дела оказались уже побывавшими в суде и были возвращены для дополнительного расследования: одно — из-за недостатка доказательств, другое — из-за пренебрежения к процессуальной форме. И Лавров решил, что, как только акт будет подписан, он проведет со следователями специальное совещание, выслушает их, предъявит им свои обязательные требования. «Есть вещи, которые надо ломать круто. Полумерами здесь не обойтись, — думал он. — А раз так, то и тянуть незачем…» Приостановленные уголовные дела Юрий Никифорович обнаружил в шкафу, где хранились разрешенные жалобы этого года. «Да… — подумал Юрий Никифорович, рассматривая покрытые пылью бумаги, — к этим делам, видать, давно не прикасалась человеческая рука… Но ведь приостановленные дела — это ненаказанные преступники! Принимаются ли меры к их розыску?». Одно за другим Лавров просмотрел все дела и вызвал к себе следователя Жабина — пожилого человека, страдающего одышкой. — Вот это дело, товарищ Жабин, приостановлено еще четыре года тому назад, — сказал Юрий Никифорович, показывая на раскрытую папку с желтоватыми неопрятного вида листами. — Учетчик свинотоварной фермы колхоза обвинялся в присвоении двух поросят. Оба оценены в 490 рублей. Зачем же держать лишнее неоконченное дело? Согласитесь, что оно потеряло всякую актуальность, и если даже обвиняемый сам явится к нам, судить его будет просто нелепо: четыре года прошло с момента совершения преступления! Жабин слушал молча, не перебивая, и лишь изредка кивал в знак согласия своей крупной лысеющей головой. — И совсем иное — это дело, — продолжал Юрий Никифорович, откладывая в сторону первую папку и раскрывая другую. — Смотрите: в архиве оказалось дело опасного преступника. Несколько лет он уходил от ответственности, а кто знает, остановился ли он на ограблении той колхозницы или продолжает действовать? Я бы, например, не стал успокаиваться на одном лишь поручении милиции разыскать скрывшегося Николаева, но и сам бы активно занялся совместно с милицией отысканием преступника. Тем более — есть же какие-то нити, известен адрес женщины, с которой этот Николаев был связан: Хоперск… Как хотите, Дмитрий Владимирович, но это дело надо доводить до конца. Думаю, вам придется съездить в Хоперск и начать действовать, искать Николаева. Когда бы вы могли приступить к этому? Следователь, тяжело дыша, ответил: — Дня через три могу поехать, Юрий Никифорович… — И глухим голосом добавил: — Вообще-то вы правы, мы с Николаевым здорово просчитались. Но текущие дела, знаете, захлестывают, прямо вам скажу. Вскоре Лавров занялся данными о преступности, работой милиции, народных судов. Факты говорили о том, что количество преступлений, совершаемых в городе за последнее время, не снизилось. В чем же дело? И почему это ни у кого не вызывает тревоги? Или, может быть, он, Лавров, еще просто плохо знает людей и ему еще рано обвинять их в равнодушии, терпимом отношении к тому, чего нельзя терпеть? В прокуратуре народ, кажется, совсем неплохой, но как-то не чувствуется инициативы, не видно увлеченности своим делом, творческого отношения к нему. Стиль что ли такой?.. И Лавров постепенно приходил к выводу, что опытный и, наверное, даже совсем неплохой прокурор Прохоров в сущности мало интересовался результатами своей работы. — С утра до вечера ни минуты свободной, — жаловался однажды Петр Петрович, — одной только почты столько, что полдня тратишь. Целый день жалобщики, работники милиции приходят за санкциями, за консультациями. Свои следователи и помощники, осаждают, множество телефонных звонков с предприятий, учреждений. Смотришь — и день прошел… Тогда Лавров как-то не придал особого значения этим словам, но сейчас он, кажется, начал понимать ошибку старшего товарища. Прокурор сидел в кабинете и решал текущие вопросы, а работники прокуратуры выполняли его поручения, причем были и такие, которые не чувствовали своей, личной ответственности за порученное дело, — видимо, Прохоров просто не спрашивал с них этого. «Конечно, вовсе не все здесь плохо, есть и хорошее, — размышлял Юрий Никифорович. — Но кое-что придется постепенно непременно ломать…» И, взвесив все, что ему удалось для себя уяснить за столь короткий срок, Лавров решил в первую очередь внимательно изучить характер жалоб. Именно они помогут понять состояние законности, и, с другой стороны, — нужды, требования, запросы людей. Количество жалоб, как показал анализ, из месяца в месяц не уменьшалось. И большинство из них говорило о нарушении трудового законодательства, устава сельскохозяйственной артели, об ущемлении жилищных прав граждан. Многие жалобы казались вполне обоснованными. «Надо определить, с каких предприятий поступает наибольшее количество жалоб», — решил Юрий Никифорович и пригласил к себе Корзинкину. Эта женщина, еще молодая, лет тридцати с лишним, всегда подтянутая, с хорошим умным лицом, сразу понравилась Лаврову. В ней чувствовались деловитость, стремление к самостоятельности анализа и выводов, живой интерес к своей профессии. Иной раз, правда, Юрию Никифоровичу казалось, что Александра Мироновна излишне самоуверенна, и даже тогда, когда ей следовало бы посоветоваться с более опытными прокурорами, не делает этого, ищет своего решения. Но Лавров не считал нужным говорить с ней на эту тему, решив, что при случае она сама на деле убедится в этом своем недостатке. Корзинкина вошла в кабинет. Южное солнце ярко светило в широкое окно, и женщина, как под прожектором, оказалась в ярком снопе лучей. Отчетливей, чем обычно, сверкнула седая прядь в темных гладких волосах — «военный трофей», как, шутя, говорила Александра Мироновна, когда ее спрашивали о причине столь ранней седины. Действительно, буквально через несколько недель после окончания десятилетки Шура Корзинкина добровольно ушла на фронт. Домой она вернулась в сентябре сорок пятого года повзрослевшей, возмужавшей, двадцатитрехлетней девушкой в солдатской гимнастерке, в повидавших виды солдатских сапогах и в выцветшей солдатской пилотке, оставлявшей открытый высокий лоб с первыми тонкими морщинками да седину, особенно заметную потому, что лицо Саши было опалено южным солнцем. Александра Мироновна подошла к столу Лаврова, села и выжидающе заглянула в озабоченные серые глаза начальника. — Скажите, пожалуйста, — начал он, — с каких предприятий к нам поступает наибольшее количество жалоб? Очень важно установить это, чтобы сразу взяться за самое главное. — Из стройтреста много жалоб идет, — сказала Корзинкина. — Часто жалуются на руководителей промышленной страховой кассы. Вообще же, Юрий Никифорович, я не готова к этому разговору, я просто не занималась таким анализом. Если нужно… — Да, да, Александра Мироновна, по-моему, даже очень нужно, — перебил ее Лавров. — К кое-каким выводам я уже пришел, разбирая жалобы, но полной картины пока нет. Подготовьте, прошу вас, эти данные. Как вы думаете, сколько времени вам на это нужно? — К среде, наверное, сделаю. — И наиболее характерные жалобы отложите, пожалуйста, я их просмотрю. После ухода Корзинкиной Лавров просмотрел почту и занялся уголовным делом, по которому милицией привлекался к ответственности за хулиганство рабочий городского строительного треста Константин Можайко.«Выйдя из автобуса, — гласил протокол, — Можайко допустил нецензурную брань и ударил гражданина. Несмотря на предупреждение, сделанное работником милиции, Можайко продолжал выражаться…»«Но достаточно ли данных для предания Можайко суду?» — думал Лавров. Продолжая читать материалы дела, Юрий Никифорович обратил внимание на характеристику Можайко, присланную в милицию начальником строительного участка.
«Можайко плохо относился к работе, совершал прогулы, неоднократно появлялся на работе в нетрезвом виде, дезорганизатор производства, в обращении с сослуживцами груб, плохо поддается воспитанию, в общественной работе никакого участия не принимает, производственную программу не выполняет…»Другие документы говорили о том, что ранее Можайко не судился. Служил в Советской Армии. Образование у него — семь классов, женат… «Нет, надо бы еще проверить, насколько верна эта характеристика? Если все подтвердится, тогда и пошлем дело в суд. Пока еще мы слишком мало знаем об этом парне…» — решил Лавров. И, сняв трубку, Юрий Никифорович позвонил секретарю партийной организации городского строительного треста. — Ах, это тот Можайко, который привлекается к уголовной ответственности? — сразу вспомнил секретарь. — Как же, как же, слышал… Скверная история, товарищ прокурор! Я и сам собирался к вам завтра с утра заехать. Представьте себе, — толковый работник, быстро освоил профессию, ежемесячно перевыполняет производственные нормы, ни в чем дурном не замечен, — и вдруг такая история! А мы, было, хотели его бригадиром сделать. И квартиру ему дали. Что случилось — сам не пойму, ко жалко мне парня, прямо вам скажу. — Дело в том, товарищ Пудалов, — сказал Лавров, — что ваши товарищи расписали этого Можайко совсем иначе. Вот послушайте… И Юрий Никифорович прочитал характеристику. — Что вы! Это недоразумение! — воскликнул Пудалов. — Это они что-то напутали, не на того написали, что ли… — Тем лучше. Тогда я попрошу вас вот о чем: передайте, пожалуйста, чтобы начальник участка и председатель постройкома сегодня же представили мне на Можайко другую характеристику, я буду ждать. — Да, да, конечно, — сказал Пудалов. — Я прослежу… Характеристику привезли через час с лишним. Лавров возвратил дело Можайко в милицию, предложив проверить обе характеристики и в зависимости от результатов проверки решить вопрос об ответственности Можайко. На другой день с утра Лавров пригласил к себе всех работников. Сейчас ему уже более отчетливо, чем в первые дни, были видны и положительные стороны работы прокуратуры, и ее недостатки. Пора было поделиться с товарищами своими выводами и размышлениями. Лавров мыслил себе этот разговор, как простую беседу, обмен мнениями, и сам не заметил того, что получилось нечто вроде доклада, в котором он говорил и об усилении общего надзора и надзора за милицией, и о том, что судебную трибуну надо чаще использовать для разоблачения преступников, — это будет иметь большое воспитательное значение. Лавров отметил, что следователям надо самим чаще возбуждать дела, а не ждать, пока материал поступит в прокуратуру из милиции. — Пассивность, — говорил Лавров, — нам не к лицу. — Однако важно не только бороться с преступностью, но и предупреждать ее. А это возможно лишь тогда, когда все мы ближе познакомимся с людьми, будем ходить к ним, а не ждать, пока они придут к нам. Разве лекции о социалистической законности, живое общение с народом, показательные открытые процессы мало дадут людям? — спросил собравшихся Юрий Никифорович. — Я думаю, что очень много. И потому я просил бы вас продумать темы лекций, с которыми многие из вас могли бы выступить на заводе, на стройке или в колхозе… После совещания Лавров решил поговорить с начальником городского отдела милиции Орешкиным. Что-то он упорно не информирует прокуратуру о происшествиях в городе. Или, может быть, все спокойно? С Орешкиным отношения пока не клеились, Лавров понял это с первой встречи, но решил терпеливо ждать, не призывая начальника милиции к порядку, не обостряя конфликта, не возражая даже против неуважительного «ты», с каким Орешкин обращался к Юрию Никифоровичу. «Что ж, — думал Лавров, — «ты» так «ты», лишь бы дело делалось. Это, видимо, манера такая. Меня от нее не убудет». Однако с каждым разом Орешкин разговаривал с новым прокурором все более вызывающе, а главное отказывался выполнять прямые указания прокуратуры. «Постараюсь постепенно «приручить» его, — решил Лавров. — На таких людей спокойная реакция действует лучше, нежели попреки и выговора. Трудный характер, что и говорить…» — Здравствуйте, товарищ Орешкин, — соединившись по телефону с милицией, сказал Лавров. — Вы что-то нас совсем забыли. Кто? Да, Лавров, прокурор Лавров говорит. Я не имею данных о происшествиях. Спокойно в городе или нет? — Да, конечно, — сказал Орешкин, — не скучаем. Два дня назад от одной гражданки поступило заявление, что в магазине у нее из хозяйственной сумки похитили 150 рублей, вчера у заводского клуба один юнец в пьяном виде хулиганил. Мы его задержали. Сегодня — завтра придут к тебе за санкцией. — Но почему же вы ничего нам не сообщили? — спросил Лавров, стараясь ничем не выдать своего раздражения. — Я сообщаю в горком партии, — сухо ответил начальник милиции. — Не понимаю. Причем здесь горком? — удивился Лавров. — Сводки о происшествиях должны поступать в прокуратуру, мы же с вами условились. — Ты, может, и уславливался, да я-то тебе ничего не обещал, — ленивым голосом, так, будто весь этот разговор давно ему надоел, отозвался начальник милиции. В первое мгновение. Юрий Никифорович чуть было не вспылил, так возмутил его этот высокомерный, небрежный тон. Но, оставаясь верным себе, прокурор попробовал все же спокойно урезонить Орешкина. — Я ведь не об одолжении вас прошу, — сказал он. — Существует положение, и вы, мне кажется, должны с ним считаться. Законного требования прокурора никакое должностное лицо не вправе отвергать. — Требования — требованиями, а у нас такого порядка не было, — заявил Орешкин, — и вводить его я не буду. Новая метла чисто метет, это, брат, известно. Завтра другой прокурор придет — опять что-нибудь придумает, а мы и вертись туда-сюда. Нет уж!.. Орешкин явно распоясался, в голосе его слышалось раздражение, тем большее, что начальник милиции понимал правоту прокурора — понимал, а вот подчиниться никак не хотел, не в его это было характере — упрямом, властном, а иной раз и вздорном. Воцарилось молчание, лишь тяжелое, неровное дыхание Орешкина доносилось по проводу до Лаврова. — Сравнение с метлой, — совершенно ровным голосом сказал Лавров, — не показалось мне особенно остроумным. Грубовато, товарищ начальник. Впрочем, не в этом дело. Надеюсь, что вы поняли, о чем я вас прошу, и нам не придется возвращаться к этой теме. До свидания… И Лавров положил трубку. «Неужели же Петр Петрович не спрашивал с милиции никаких сведений о происшествиях в городе? — подумал он. — Или Орешкин просто пытается ввести меня в заблуждение? Нет, не может быть, чтобы прокуратура и милиция были настолько разобщены». Лавров вызвал секретаря. — Мария Ивановна, если товарищ Рябинин у себя, попросите его ко мне. Вскоре заместитель прокурора города Рябинин вошел в кабинет. — Садитесь, пожалуйста, Степан Николаевич. Скажите, вы действительно не получаете сводок о происшествиях? — Да, к сожалению, именно так. У нас уж так повелось: милиция сама по себе, прокуратура тоже. — Но ведь это, по меньшей мере, странно. — Конечно, — согласился Рябинин, — но так уж получилось. Вначале я и сам говорил Петру Петровичу, что это — непорядок, но тот не реагировал. Он вообще в последние два года как-то избегал беспокойства — то ли болезнь, то ли усталость, сам не знаю. Но в результате получалось так: если дело было возбуждено прокуратурой, работники милиции говорили: «Мы на вас работать не будем. Дело у вас, вы и раскрывайте». — Вот ведь ерунда какая! — искренне удивился Лавров. — Теперь мне понятно, почему раскрываются далеко не все преступления. Это же получается «лебедь, рак и щука», а не нормальная, совместная работа по раскрытию преступлений. Видимо, вы, Степан Николаевич, рано сложили оружие. Придется призвать милицию к порядку… — Пробовали, да не получалось у нас контакта, — невесело сказал Рябинин. — Я уж давно хотел вас просить, Юрий Никифорович, освободить меня от обязанностей надзора за милицией. Дайте мне, если можно, другой раздел, скажем, судебный или общий надзор. Не могу я работать с этим Орешкиным, одна нервотрепка получается. Уж очень у него характер упрямый. — Ну, характер Орешкина, я думаю, не должен нас беспокоить. От нас с вами, Степан Николаевич, требуется одно: чтобы наши требования к милиции были законными. Вы давно проводили проверку деятельности милиции? — По какому вопросу? — Вообще, по основным вопросам. — Такой проверки в комплексе мы не проводили, — ответил Рябинин. — Она нужна. Разработайте план этой проверки и покажите мне. Мы его вместе окончательно продумаем и будем действовать. Надо же знать, что и как делается в милиции. Рябинин вышел из кабинета. Едва Лавров углубился в материалы о недостаче ценностей у заведующего складом горпромторга, как на пороге кабинета неслышно появилась секретарь — Мария Ивановна. — Юрий Никифорович, к вам жалобщица. Очень просит, чтобы приняли. Ее выселяют… — Пусть заходит. В кабинет вошла пожилая женщина. Поздоровавшись, сразу начала свой торопливый рассказ, словно боялась, что ее не дослушают. — Пятьдесят пять лет прожила, и за всю свою жизнь не только к прокурору не ходила, но и свидетелем не была. А сейчас вот всюду бегаю, и никто не хочет помочь… — Что же у вас произошло? — отложив в сторону папку и ручку и внимательно глядя на женщину, спросил Лавров. — Вы не спешите, говорите все по порядку. — Я одинокая, у меня нет ни детей, ни мужа, — уже более спокойно заговорила посетительница. — Два года назад перебралась я в комнату к своей знакомой Глаголевой. Она тоже была одинокой и просила меня жить с нею вместе, потому что в последнее время болела и нуждалась в уходе. Три месяца назад Глаголева умерла — ей уже больше восьмидесяти было. Я осталась в этой комнатке. До этого я жила на частных квартирах, но платить за это мне было тяжело. Я ведь сторожем работаю в детском саду…. Платить так дорого никак не могу. А суд присудил выселить меня из комнаты Глаголевой. Адвокат писал жалобу в краевой суд — там подтвердили. Вот вчера принесли предупреждение, — она протянула Лаврову бумажку. — Грозятся выселить через пять дней, если сама не освобожу. А куда я пойду? Два года ухаживала за больной, дружила с ней сорок лет. Как же это получается? — А вы обращались в горжилуправление? — Как же! Не только я, но и заведующий детским садом и из собеса просили жилищное управление оставить меня в этой комнате, но товарищ Веселков никак не хочет, хотя я у них на очереди четвертый год стою. Помогите мне, товарищ прокурор, на вас теперь вся надежда. Ведь некуда мне идти… — Какой суд рассматривал ваше дело? — Да вот здесь, от вас через два дома. Судья такаямолоденькая, фамилию ее забыла. Вызвала она меня и нашего управдома, толком и не выслушала, а минут через десять возвратилась и объявила решение: выселить. Я же ее просила — обождите, не рассматривайте дело, я еще похлопочу, а она — ни в какую. Лавров попросил жалобщицу посидеть в приемной, а сам позвонил в народный суд. — Товарищ Логинова? Здравствуйте, Лавров говорит. Вы не помните гражданское дело о выселении Миловановой? Судья Логинова ответила, что помнит: решение вступило в законную силу, и дело уже находится в архиве. — Нельзя ли мне его посмотреть? — Пожалуйста, — ответила Логинова, — но изменить тут ничего нельзя. Иск горжилуправления к Миловановой вполне законный. — Понимаю. Но и у Миловановой тяжелое положение. Сейчас я пришлю к вам секретаря. Он вызвал Марию Ивановну и попросил ее сходить в суд, а сам тем временем, отыскав в справочнике телефон детского сада, в котором работала Милованова, позвонил заведующей. Та подтвердила, что просила горжилуправление закрепить комнату за Миловановой, потому что жить ей совершенно негде. Но начальник горжилуправления Веселков отказал. А работник Милованова хороший, очень честный, и в детском саду все ее уважают. Потом Лавров позвонил заведующему городским отделом социального обеспечения. Тот сказал, что тоже просил горжилуправление оставить комнату за Миловановой, и когда Лавров сообщил, что ее все же выселяют по суду, — возмутился: — Как же так можно! Одинокую пожилую женщину гнать из дома? Помогите ей, товарищ прокурор, прошу вас… Вошла Марья Ивановна, положила перед Лавровым дело. Лавров просмотрел его, закрыл и задумался. «Да, решение суда действительно законно, — сказал он себе раздумчиво. — Но разве не основательно требование Миловановой?» И он решил поговорить с начальником горжилуправления — может быть, тот согласится отозвать исполнительный лист. Разговор с Веселковым был трудным. Лавров убедился, что это черствый человек, формалист. Заладил одно: «квартиросъемщица умерла, значит площадь наша». «Нет, придется говорить с председателем исполкома горсовета Лесновым», — решил Юрий Никифорович и снова снял телефонную трубку. Терпеливо выслушав прокурора, Леснов сказал: — Вы мне, Юрий Никифорович, коротко напишите свое мнение. У нас завтра заседание исполкома. Я внесу этот вопрос в повестку и думаю, что мы обяжем Веселкова выдать Миловановой ордер. Вы доложите, а я поддержу. Полагаю, что члены исполкома согласятся, — слишком уж ясное дело… Лавров пригласил Милованову и сказал, что сейчас окончательного ответа на ее жалобу дать не сможет. Милованова со скорбным лицом медленно вышла из кабинета…
Из сообщения Корзинкиной стало ясно, что особенно много жалоб поступает в прокуратуру от рабочих городского строительного треста, литейного завода и зерносовхоза. — Вот с них мы и начнем, — сказал Юрий Никифорович и решил на следующее же утро встретиться с Давыдовым. Беседуя с первым секретарем, Лавров высказал ему это свое намерение. — Кстати, — сказал Давыдов, — нельзя ли попутно проверить, как на этих предприятиях соблюдается техника безопасности. И еще одна просьба: посмотрите, чем там занимаются молодые специалисты, не сидят ли они в конторах, не оторваны ли от производства. Это, конечно, не прокурорские функции, — оговорился секретарь, — но ведь в сущности наши с вами функции на этой земле едины, — верно? — и он широко улыбнулся. — Почему не прокурорские? — возразил Юрий Никифорович. — Раз на этот счет есть закон, значит и прокурорский надзор вполне уместен. Кроме того, товарищ Давыдов, меня интересует еще один вопрос: кто из работников этих предприятий был в последнее время осужден и за что. — Хорошее дело, — поддержал Давыдов. — Мы все еще слабо спрашиваем с руководителей предприятий за аморальные поступки их подчиненных — это, мол, дело судов и прокуратур. Мало того, под видом заботы о рабочих некоторые начальники критикуют работников милиции, суда и прокуратуры за слабую борьбу с преступностью, не желая понять, что прокурор или следователь вмешиваются уже тогда, когда преступление совершено. Впрочем, — прервал себя Давыдов, — вы-то уж в этих вопросах лучше меня разбираетесь, не мне вам подсказывать. Лавров понял это как желание Давыдова закончить затянувшийся разговор, но секретарь, видимо, не собирался прощаться. Он расспрашивал Юрия Никифоровича о том, как складываются у него отношения с работниками прокуратуры, как работается, с кем удалось познакомиться из городских руководителей, что пишут из дома. — В конце марта, видимо, сумеете въехать в новую квартиру, — сказал он. — Не ходили смотреть дом? — Нет, так только, снаружи видел. Неудобно как-то заходить, объяснять, кто да зачем… — Ну, уж раз вы такой стеснительный — вместе пойдем, — предложил Давыдов. — Я туда на днях собираюсь. А на заседания исполкома не ходите? — Как раз сегодня должен быть, — сказал Лавров. — Имею, как говорят, личный интерес. — Даже личный? — рассмеялся Давыдов. — Секрет? — Да нет… Надо вступиться за одну пожилую женщину, а то как бы не осталась она на «птичьих» правах. Сторож из детского сада… — Ну, если жилье детсадовской старушки — это уже ваш «личный интерес», значит дело у вас пойдет, — с удовлетворением, полушутя, полусерьезно заметил секретарь. — Не прощаюсь с вами: на исполкоме встретимся.
На заседание Лавров пришел, когда члены исполкома, уже входили в кабинет председателя. Какой-то товарищ, поздоровавшись с Лавровым, показал ему место за большим столом — видимо, здесь обычно сидел прокурор города. Председательствующий Леснов окинул взглядом присутствующих и открыл заседание. Сначала обсуждалась работа некоторых городских организаций. Лавров слушал и невольно вспоминал заседания исполкома Совета того района, где еще так недавно работал прокурором. Сможет ли он и здесь так же подмечать неточности в проектах решений, вносить свои поправки? Ведь круг вопросов, обсуждаемых исполкомом городского Совета, несколько иной. Пятым на повестке дня стоял вопрос о выполнении правительственного постановления «О всеобщем обязательном обучении». Знакомясь с проектом решения, Лавров подчеркнул последний его пункт. — У кого-нибудь есть замечания по проекту? — спросил Леснов после обсуждения. Юрий Никифорович ожидал, что сами члены исполкома обратят внимание на неправильность последнего пункта, — не хотелось на первом же заседании выступать с замечанием. Но среди поправок, которых внесли немало, именно этой не было. — Больше нет замечаний? — спросил Леснов. Лавров встал: — Разрешите мне… — Пожалуйста, товарищ прокурор! — подчеркнул Леснов последнее слово, представляя этим Лаврова членам исполкома. — В последнем пункте проекта решения записано: «Запретить органам милиции производить прописку граждан, имеющих детей, без справок гороно о зачислении их детей в школу». Но, видите ли, такое решение противоречило бы закону. Кроме того, этот пункт вызовет множество обоснованных жалоб. Мы не вправе связывать эти два вопроса, а значит не вправе и оставлять этот пункт в решении. Лавров сел. Слово взял член исполкома, заведующий отделом народного образования. — Такой пункт в решении необходим, — возразил он прокурору. — Он гарантирует нам то, что каждый ребенок, прибывающий в город, сразу идет учиться. А иначе что получается? Есть случаи, когда граждане приезжают в город, но не торопятся вести детей в школу. Те отстают от программы, а отсюда — второгодничество. Лично я настаиваю на оставлении этого пункта в решении. Лавров внимательно слушал говорившего и понимал, что тот по-своему, быть может, и прав. Но закон есть закон… — Закон есть закон, — вдруг услышал он слова, которые только что произнес мысленно. — Товарищ Лавров верно подметил, — говорил Леснов. — И закон мы нарушать не станем. Придется вам, уважаемые деятели народного просвещения, подыскивать иные пути воздействия на несознательных родителей. Заседание подходило к концу, когда Леснов обратился к Лаврову: — Вы хотели рассказать исполкому о жалобе Миловановой? — Да, если можно. Едва Лавров закончил свое сообщение, как встал Веселков. — Вы, товарищ прокурор, сами же говорите, что решение о выселении Миловановой законное. Какая же необходимость выносить этот вопрос на заседание исполкома? Милованова не является квартиросъемщицей и должна быть выселена из этой комнаты. Лавров не успел возразить, это сделал за него Леснов. — Вы, товарищ Веселков, формально подошли к решению судьбы человека. Человека пожилого, одинокого. Кто, как не мы с вами, должны обеспечить ее жильем? Я предлагаю выдать гражданке Миловановой ордер. Есть возражения? Веселков снова привстал, собрался было возразить, но тут послышались голоса: — Правильно, согласны… Решение было принято.
V
В приемной прокуратуры Лаврова ожидал работник милиции. — Я к вам за санкцией, — сказал он. — Проходите, пожалуйста! В течение сорока минут Лавров внимательно читал материал. — Видите ли, товарищ Герасимов, прежде чем арестовать Казанцева… — начал он, подняв глаза. — Я не Герасимов, — прервал его работник милиции. — Моя фамилия Кравцов. — Как Кравцов? Почему же вы пришли за санкцией? Ведь дело вел Герасимов? — Да, — спокойно ответил работник милиции. — Но меня послали только за санкцией — сходи и принеси, больше ничего. — Вот как?! — не удержался Юрий Никифорович. — Нет, так дело не пойдет. С вами мне сейчас говорить не о чем. Возьмите материал и скажите товарищу Орешкину, что я могу разговаривать лишь с тем работником, который занимался расследованием. Попрощавшись, Кравцов вышел из кабинета, а Лавров стал разбирать почту. Но вскоре раздался телефонный звонок. — Лавров? Привет! Орешкин. Как тебя понимать? Ты что, отказал в санкции? Какая разница, кто принесет тебе материал? — Разница есть, товарищ Орешкин, — твердо сказал Лавров. — Я должен дать указание работнику, который занимался расследованием этого дела, и больше никому. — Так что ж нам теперь — выпускать преступника? — Сами решайте. — Я пожалуюсь в горком партии! — закричал Орешкин. — Пожалуйста. Думаю, что по этому поводу горком не потребует от меня объяснений. Разговор закончился, а спустя несколько минут Герасимов уже сидел в кабинете Лаврова… Вернувшись к почте, Юрий Никифорович обратил внимание на пересланный с прежнего места его работы конверт с надписью: «Прокурору Лаврову Ю. Н. (лично в руки)». Почерк показался незнакомым, обратного адреса не было. Лавров вскрыл конверт и увидел подпись «Леонидов». «Кто же это?..» И он начал читать.«Здравствуйте, Юрий Никифорович! Через ваши руки проходит не один преступник и вам, конечно, трудно нас всех запомнить. Я не раз совершал преступления и поэтому не раз подвергался пытливым взглядам следователей. Шесть лет тому назад вы занимались моим делом и, когда закончили следствие, как я помню, беседовали со мной очень долго, рассказывали о Сергее Лазо, о Павке Корчагине и многих других действительных и книжных героях. Я считал, что все это вы мне говорили в силу своей служебной обязанности, и хотя выслушивал ваши наставления, но до сердца они тогда не дошли. Я не знаю, смогу ли я в этом письме объяснить, или, вернее, доказать вам, что у меня не только взгляды на жизнь изменились, но мне хочется выбросить из своей души все свое позорное прошлое. Конечно, если бы я тогда же, во время расследования дела, сказал вам, что жажду настоящей жизни, вы первый не поверили бы мне, и я не сделал этого. Напомню вам о себе. Мне двадцать семь лет, вся моя жизнь — мрачный калейдоскоп: преступления, тюрьма, снова преступления, снова тюрьма… А ведь все началось, кажется, с простого. По роду работы отца переводили с одного места на другое. Я побывал с родителями в разных областях — Ленинградской, Смоленской и многих других. Частая перемена места жительства и то, что отец все время находился на работе, не обращал внимания на наше воспитание (у меня есть еще сестренка Нина), привело к тому, что я в 1937 году впервые убежал из дома, но вскоре был задержан и возвращен обратно. В 1939 году я опять убежал и с тех пор больше не жил с родными. Скитаться и быть бродягой мне довелось очень мало. Опытные преступники взяли меня под свое «покровительство». Попав в среду воров, я довольно быстро перенял навыки и секреты их ремесла. В 1940 году в Средней Азии я стал самостоятельно совершать карманные и квартирные кражи, неоднократно судился, много раз бежал из мест заключения и считал себя своеобразным героем. Азия, Восток, Сибирь, Центральная Россия — вот места, которые я исколесил вдоль и поперек, а затем Кубань и Кавказ. Потом получил последний срок по делу, которое расследовали вы. Может быть, с возрастом, а больше оттого, что я начал пристальней вглядываться в жизнь на свободе, я понял, что я совсем не герой, а ничтожество. И мне стало жаль бездарно проведенных лет, растраченной энергии, захотелось встать в ряды честных советских людей и искупить свое прошлое. Но как это сделать? Примет ли меня общество честных людей в свои ряды? Юрий Никифорович! Если только вы согласитесь указать мне правильный путь в жизни, я твердо пойду по нему и доверие ваше оправдаю.Ниже был написан адрес. Лавров и ранее получал письма от своих подследственных, но такое письмо получил впервые. Да-да, сейчас-то он припомнил этого Леонидова, смутно припоминал и дело, по которому проходил этот молодой, но опытный преступник… Лавров взял лист бумаги и, не откладывая, написал Леонидову письмо.С уважением Леонидов».
«Что же, если вы все продумали и все решили, — рад за вас. Приезжайте. Я постараюсь помочь вам найти подходящую работу — возможности здесь большие. И всегда помогу советом, если вы будете в нем нуждаться…»В течение вечера Юрий Никифорович безотчетно чему-то радовался, будто произошло что-то хорошее. «Ах, да, письмо от Леонидова!» — снова вспоминал он и снова отвлекался от мысли об этом письме, берясь то за газету, то за книгу. Спать лег поздно, но сразу заснуть почему-то не мог. За тонкой стеной сосед-командировочный включил радио. До слуха донеслись переливчато-мягкие звуки кремлевских курантов. «Эге, — подумал Юрий Никифорович, — времени-то уже вон сколько». И, окончательно решив заснуть, он погасил лампу и отвернулся к стенке. Мысль о письме сменилась представлением серой папки с надписью: «Дело об ограблении универмага». Эти слова были аккуратно зачеркнуты, а ниже следовало шесть фамилий и наименование статьи. Это тогда удивило Лаврова. Он знал, что универмаг ограбили двое. «Разве еще сообщников нашли?» Но оказалось, что преступников по этому делу привлекалось действительно двое, а вот фамилий у одного из них было пять: Леонидов Борис Андреевич, он же Волков Иван Иванович, он же Шабров Алексей Ильич и так далее. «Ну и деятель», — подумал Лавров. — Под пятью «псевдонимами» работал, значит привлекался и судился, по меньшей мере, раз пять и каждый раз скрывал настоящее имя. Наверное, старый рецидивист…» Медленно переворачивался в сознании лист за листом, вызывая в памяти мельчайшие подробности дела, которым Юрий Никифорович Лавров занимался шесть лет назад. Первые же сведения из протокола допроса обладателя пяти «псевдонимов» подтвердили тогдашнюю догадку Лаврова: старому рецидивисту оказалось всего 21 год. За короткую жизнь он успел пять раз побывать в тюрьме, совершить три побега из мест заключения и быть, наконец, арестованным в шестой раз, но не один, а с напарником, тоже рецидивистом, только возрастом постарше. Пропилив в чердаке двухэтажного здания отверстие, они проникли в универмаг и похитили на много тысяч рублей разных товаров. Таким же образом они совершили в разных городах еще несколько краж и были, наконец, задержаны. Дело было почти полностью расследовано, оставалось лишь предъявить арестованным обвинение и ознакомить их с материалами следствия. Срок расследования истекал. Надо было торопиться. Перед мысленным взором Лаврова отчетливо возникла картина: Милиция. Ввели Леонидова. Как ни странно, преступная жизнь не наложила на лицо парня своей характерной печати — нет, у Леонидова открытое лицо, прямой взгляд и одет он аккуратно, чисто. Ни отталкивающей блатной походочки, ни наглой развязности — ничего того, что можно было ожидать, ознакомившись с «богатой» биографией этого преступника. Он вошел в кабинет непринужденно, просто и улыбнулся Лаврову такой подкупающе веселой улыбкой, словно был его лучшим приятелем. — Здравствуйте, гражданин прокурор. — И остановился у стола в ожидании, когда ему предложат сесть. Серый коверкотовый костюм сидел на нем ладно, а шелковая рубашка с расстегнутой верхней пуговичкой слегка открывала смуглую шею, и мягкая голубизна шелка перекликалась с голубыми белками больших и блестящих черных глаз. Лавров осознал только теперь, что разглядывал этого парня тогда с чувством какой-то подсознательной симпатии. — Садитесь, — с некоторым опозданием предложил он. — Значит, вы и есть Леонидов? — Именно. Впрочем, если угодно, у меня есть еще четыре фамилии, и ни одна из них не вызывает с моей стороны возражений. — Да, да, я знаю, — сказал Лавров. — Откуда же они у вас, и зачем так много? Леонидов невесело усмехнулся. — Мне бы, гражданин прокурор, и одной за глаза хватило, да вот судьи… Видите ли, они — вернее вышестоящие инстанции — ни разу не пожелали удовлетворить мои просьбы о сокращении сроков, и потому я вынужден был заниматься этим вопросом сам. А когда сам себя амнистируешь, — одной фамилией не обойтись, это и ребенку ясно. Этот парень был, кажется, еще и остряком. И говорил он гладко, грамотно — вероятно, когда-то учился, жил в более или менее культурной семье. Так что же с ним произошло?.. И Лаврову, несмотря на отсутствие времени, захотелось допросить Леонидова так, как обычно он допрашивал обвиняемых, когда был следователем, — обстоятельно, спокойно, ни в чем не ограничивая собеседника… Да, именно собеседника, потому что со стороны это вовсе не походило на допрос. Лавров обладал счастливым для следователя даром: он умел разговаривать с людьми, терпеливо выслушивать их, умел расположить к себе, вызвать на откровенный рассказ о жизни, о пути, который привел человека в кабинет следователя. Он старался глубоко понять не только суть преступления, но и его природу: как и почему оно было совершено и мог ли тот, кто его совершил, избежать своей позорной участи — устоять перед искушением. Леонидов рассказывал о себе охотно. Он, как и предполагал Лавров, оказался сыном обеспеченных и культурных родителей, в детстве прекрасно учился, много читал. Родители баловали его, но занимались им очень мало: оба работали, были еще молоды, увлекались театром, ходили к друзьям… В одном из клубов, куда молодежь ходила на танцы, пятнадцатилетний Борис подружился с ворами, выучившими его своему «ремеслу». Сначала это была просто бравада, нежелание отстать от новых друзей. Потом это стало для Бориса тайной, первой настоящей тайной, с которой уже трудно было расстаться. Ему даже нравилось сознание того, что вот он, отличник, любимец учителей и болельщиков волейбола, совершает по ночам тайные дела, в которых никому и в голову бы не пришло его заподозрить. Но вскоре, боясь разоблачения, Борис сбежал из дома. Здесь-то его и засосала окончательно преступная среда. Тюрьма, опять тюрьма, опять, опять. Связь с родителями давно порвалась — он скрывался от них, не мог сообщить им о себе, не хватало мужества. Со временем пришла уверенность, что ничего уже нельзя изменить, что воровство — его призвание и что эта жизнь ему «вполне подходит». Юрий Никифорович слушал Леонидова, не перебивая, почти не задавая вопросов, и только когда тот умолк, осторожно возразил ему: — Ну, в двадцать один год рано говорить о том, что все решено и ничего уже не переменишь. Вся жизнь впереди. А уж какой она будет — это вопрос другой. Но Леонидов не хотел развивать эту тему. Он весело отшучивался, хотя глаза его вовсе не были веселыми, И Юрий Никифорович решил, что для начала — хватит. Он отпустил Леонидова и, провожая взглядом крепкую, спортивную фигуру парня, подумал: «И все-таки он еще не безнадежен… Ухмылки, идея «призвания» — все это наносное. А настоящее где-то гораздо глубже…»
В зале судебных заседаний и в узком коридоре было полно народу. Лавров боком протолкался вперед и занял свое место за столом. Сидевший за барьером Леонидов улыбнулся ему, как старому знакомому, а его напарник исподлобья скользнул по лицу прокурора злобным взглядом и снова уставился в пол. Процесс продолжался. Свидетельница — кассир универмага Глотова, молодящаяся дамочка с крупными серьгами в больших ушах, с чувством рассказывала суду о том, как она упала в обморок, узнав об ограблении магазина, так как решила, что украдено 30 000 рублей выручки, оставленных ею в ящике прилавка. Эта женщина жила именно в том дворе, где остановились Леонидов и Козлов. И они как раз были свидетелями ее обморока наутро после ограбления магазина. Выслушав показания, судья спросил Леонидова, имеет ли он вопросы к свидетельнице Глотовой. Леонидов поднялся со скамьи, непринужденно облокотился на барьер и сокрушенно вздохнул: — Какие могут быть вопросы, граждане судьи? Я прекрасно понимаю состояние свидетельницы, но я и сам был в тот момент близок к обмороку: 30 000 рублей лежало у нас под носом, а мы возились с какими-то тряпками! Председательствующий прервал Леонидова и, стараясь погасить веселое оживление в зале, спросил, почему найдены не все украденные отрезы шелка? Где остальные? — А завмаги? — искренне удивился подсудимый. — Вы и не подумали о завмагах? Для них же эти кражи, как манна небесная, как пасхальное яичко! Взрыв смеха в зале заставил судью постучать по столу карандашом. Когда процесс закончился и подсудимым был объявлен приговор — по десяти лет лишения свободы каждому, Лавров вышел из зала суда недовольный собою и проведенным процессом. Обвинительная речь получилась какой-то ходульной, собранной из прописных истин и сухой юридической характеристики фактов. Ни на публику, ни на подсудимых она, естественно, не могла произвести хорошего впечатления. Лавров поморщился, вспомнив брошенный на него иронический взгляд Леонидова — эх, ты, мол, прокурор, от тебя я ждал других слов… Вечером, в милиции, Лавров встретился с Леонидовым в коридоре. Его вели в камеру предварительного заключения. — Дайте закурить, гражданин прокурор, — попросил Леонидов. Лавров велел конвоиру провести осужденного в свободный кабинет. Закурили. — Ничего, гражданин прокурор, вы за меня не беспокойтесь. Я долго сидеть не буду, — первым начал Леонидов, отвечая как бы на вопрос собеседника. — Опять сбежишь? — А как же?! — Ну, а что дальше? Опять поймают, опять тюрьма. И так всю жизнь? — Мораль читать собираетесь? — спросил Леонидов. Лавров поморщился. — Причем тут мораль! Просто не могу спокойно смотреть, как из-за собственной глупости пропадает человек. Ну что ты сегодня в суде разыгрывал комедию, к чему это? — Нравится людей смешить. Разве плохо, когда им весело? — Весело! Да ты же над своим несчастьем смеяться заставляешь! Артистический талант у тебя есть, это сразу видно, да не к месту он там, в суде… — Уж и талант! — Леонидов несколько смущенно отвел глаза. И Лавров понял, что случайно задел нужную струнку. — Ты ведь и поешь, наверное? — Пою… Когда очень тяжко или когда очень весело, или когда пьян, — попытался Леонидов пошутить, но шутка не получилась — голос был грустный, глухой. Лавров снова заговорил, снова стал расспрашивать Леонидова о родителях, о школьных годах, о товарищах… Теперь, в неофициальной обстановке, Леонидов разговорился. А когда пришло время прервать разговор, он вдруг сказал, глядя на Лаврова задумчивыми, невеселыми глазами: — Нравитесь вы мне, гражданин прокурор. — Да и ты ведь мне нравишься, Борис, — едва не рассмеялся Лавров. — Да, да, — подтвердил он, отвечая на недоуменный взгляд Леонидова. — Вся эта грязь и мерзость, в которой ты живешь, еще не разъела тебе душу. Вполне мог бы вернуться к настоящей жизни. Ну, да дело твое. Ты ведь морали не любишь. Леонидов печально улыбнулся. — Спасибо, гражданин прокурор, за такие слова. Может это вы просто так агитировать хорошо можете, но словно бы от души все у вас получается. — От души, Борис, — искренне подтвердил Лавров. — Ты подумай обо всем, серьезно подумай. Рано или поздно, но тебе же станет противно так жить. Тогда зачем тянуть? Для того, чтобы потом осталось лишь жалеть о прошлом? Нет, сейчас еще ты можешь успеть все начать сначала и все нагнать. А уж потом, спустя годы, — совсем иное дело будет. Так-то вот… И уже у дверей неожиданно для самого себя Юрий Никифорович протянул окончательно растерявшемуся Леонидову руку. Долго еще воспоминания мешали Лаврову заснуть… Утром у Юрия Никифоровича болела голова. Пирамидон не помогал. Не помог и черный кофе, который он выпил в закусочной по дороге в прокуратуру. Сегодня Давыдов обещал «прихватить» Лаврова с собою на прием нового жилого дома и просил после двенадцати ждать его телефонного звонка. Время было раннее, и Юрий Никифорович рассчитывал до двенадцати успеть принять посетителей с жалобами и поинтересоваться планами расследования по уголовным делам, поступившим в последние дни. В прокуратуре уже ждали посетители. Внимание Лаврова привлекла скромно стоявшая в углу коридора пара: мужчина лет тридцати и совсем молоденькая женщина с ребенком на руках. Открытое и простое лицо мужчины было обветрено и, несмотря на раннюю весну, покрыто темным загаром: очевидно, он работал на открытом воздухе. Женщина была светловолосая, маленькая, тоненькая, как девушка, и только глаза ее с тревогой и нежностью глядевшие на ребенка, говорили о том, что она — мать. «Какая-нибудь семейная драма», — почувствовал Лавров, проходя в кабинет. — Разрешите, товарищ прокурор? — вслед за ним заглянул в дверь смуглолицый парень. — Да, пожалуйста. Садитесь. — Лавров внимательно посмотрел на вошедшего и вдруг ему показалось, что он уже видел где-то это лицо. Когда посетитель назвал свою фамилию, Лавров припомнил: недавно в газете был напечатан портрет лучшего каменщика городской строительной организации. Кажется, это он… — Я вас немного знаю, по портрету, — улыбнувшись, сказал Лавров, — только вот фамилии не запомнил. — Лазарев. Такое дело у нас, товарищ прокурор… Семейное… Живем три года, сын есть, а вроде как все это незаконно… Главное, сын… На лбу Лазарева выступил пот, загорелое лицо покраснело, видно было, что он волнуется и ему трудно говорить. — Можно, я жену позову? — неожиданно спросил он. — Мы вдвоем пришли. Может, я что забуду или не так скажу, так она добавит. Серьезный разговор у нас. — Пожалуйста… Лазарев быстро подошел к двери и, открыв ее, сказал: — Галя, зайди. Когда оба они сели, Лазарев, все так же волнуясь, рассказал историю своих семейных отношений. Еще в конце отечественной войны он «заочно», по письмам, познакомился с девушкой Надей. Она, судя по фотографиям, была хороша собой, умела писать ласковые и красивые письма. Этого оказалось достаточно, чтобы сержант Лазарев счел себя бесповоротно влюбленным. А десятидневный отпуск, во время которого Лазарев успел съездить к своей любимой, окончательно укрепил его чувство. Вскоре закончилась война, Лазарев демобилизовался и поехал к Наде, а через десять дней они уже сыграли свадьбу. Именно «сыграли», потому что к тому времени невеста была уже больше двух месяцев беременна… Обман открылся только через два года, когда Николай случайно обнаружил у своей жены письма настоящего отца ребенка. До сих пор он знал, что девочка родилась на седьмом месяце, — это внушила ему жена. Но письма раскрыли Николаю глаза на ее поведение. Николай не стал даже объясняться. В тот же вечер он ушел из дома, оставив на столе прочитанные письма и нежно расцеловав девочку, которую очень любил. А через полтора года Николай женился на учительнице соседней школы, милой и скромной девушке. Но не успела утихнуть старая боль, как в семейной жизни Николая вновь разыгралась трагедия. Когда родился сын, Николай пытался усыновить его через райисполком, однако получил отказ, так как для усыновления необходимо было согласие законной жены. — Посудите сами, товарищ прокурор, неужели это справедливо? Неужели я не имею права усыновить собственное дитя, если я ему отец? Вы только поймите: мой родной сын, а ему в метриках прочерк вместо моей фамилии поставили… Ну как это, а? — взволнованно говорил Лазарев. — Как же можно лишать дите родного отца? Неужели такие законы есть? И ей, опять же, — Лазарев кивнул на жену, — как это сносить? Разве не обидно? Она его не прижила неизвестно от кого, ведь мы же настоящей семьей живем, не хуже других, расписанных… Маленькая женщина за все время разговора не проронила ни слова, но ее молчание говорило о многом, и Лаврову неловко было смотреть на нее. — Но почему же вы до сих пор не оформили развод? — спросил он Лазарева. — Не пришлось бы усыновлять собственного сына. Николай безнадежно махнул рукой. — Три раза пытались, да ничего не вышло. Первый раз, когда она здесь еще была, не развели. Я, дурак, те письма у нее оставил, а она отказывается. Не догадался я и попросить суд, чтоб документы из роддома истребовали, а она уверяет, мол, ребенок родился в нормальный срок. Да и вообще тяжело мне было тогда. А потом она в Петропавловск уехала. Искал ее сколько — ведь без адреса даже объявление в газете не печатают и суд дела не принимает. Когда нашел, переслали дело туда и прекратили «за неявкой истца». Я просил без меня рассмотреть, разве мыслимо ехать туда? А суд прекратил. А теперь она опять уехала, куда не знаю, ищем ее. Так вот все и крутится по кругу. Это было самое скверное: знать, что люди несправедливо обижены, и не иметь возможности помочь. Но что мог сказать им Лавров? Прочитать мораль о том, что следовало бы сначала оформить брак, а потом иметь ребенка? Нет, не то… Лавров решил помочь молодым супругам, попытаться опротестовать несправедливый отказ исполкома в усыновлении Лазаревым его собственного сына. Это же просто нелепо! У людей есть все для того, чтобы быть счастливыми: молодость, здоровье, любовь, труд, ребенок. А они глубоко несчастны. Именно несчастны — это сразу видно. — Попытаемся вам помочь, — сказал он. — Напишем протест на решение исполкома. Зайдите примерно через неделю, я сообщу вам, когда будет заседание, и хорошо, если бы вы присутствовали. — Спасибо, товарищ прокурор, — сказал, поднимаясь, Лазарев. — Пока еще не за что, — ответил Лавров. — Ждите вызова на заседание исполкома. А свой адрес оставьте секретарю.
VI
Во втором часу пополудни раздался телефонный звонок: — Юрий Никифорович? Готовы? Я сейчас за вами заеду, — торопливо говорил Давыдов. — Минуты через три выходите… Новый дом под лучами южного мартовского солнца казался розовым. Только что протертые стекла больших окон сверкали и переливались. Так же чисто и празднично было внутри, в квартирах: светлые стены, белые с легкой голубизной потолки, еще некрашенный и ненатертый, бледно-желтый паркет… Даже страшно было ступать по нему подошвами, к которым прилипли строительный мусор, сырой песок, глина… После осмотра квартир — однокомнатной, двухкомнатной и трехкомнатной — Давыдов сказал, обращаясь к Юрию Никифоровичу: — А как вы относитесь к числу тринадцать, товарищ прокурор? — Прекрасно! — воскликнул Лавров, сразу поняв, на что намекает секретарь горкома, и громко рассмеялся. — Тогда — все в порядке, — с шутливой серьезностью проговорил Давыдов и стал спускаться по лестнице. На третьем этаже он остановился у двери с табличкой «13», постучал. Молодой маляр в треуголке из газеты открыл дверь и посторонился. Парень был весь как бы в горошину: его лицо и руки, и спецовка — все было забрызгано белилами. В первой комнате сидели на перевернутых вверх дном ведрах еще два точно таких же закапанных белилами паренька, а пожилой маляр катал по свежевыкрашенной стене свернутую жгутом мокрую тряпку, и непонятно было, как это, обыкновенная скрученная тряпка оставляет за собою такой приятный оттиск, словно иней на окне. Поздоровавшись с вошедшими, старик продолжал свое дело, но, заметив, что молодые маляры отвлеклись, снова оглянулся и сурово проговорил: — Чего рты пораззевали? Вторую стену сами будете накатывать, значит смотреть надо, а не ворон считать. — Мешаем мы, Юрий Никифорович… Посмотрим вторую комнату и поедем. У меня, кстати, есть к вам серьезный разговор. Квартира очень понравилась Лаврову, но ведь Давыдов так и не сказал, действительно ли есть решение предоставить ее новому городскому прокурору. «Спросить прямо? Да нет, неудобно… К тому же, зачем бы Давыдову намекать и заводить этот разговор о числе тринадцать? Конечно, это неспроста. Но, с другой стороны, имеет ли он, Лавров, право уже сегодня написать жене о том, что был в новой квартире, видел ее. А вдруг потом сорвется? Мало ли какие неожиданности случаются, особенно в этих, квартирных, делах… Лучше все же спросить, — решил Юрий Никифорович. — Ведь Вере надо дать время собраться, забрать из школы Сашку, ликвидировать ненужные вещи… На все это нужно время. Да и она в каждом письме спрашивает: когда? когда? Спрошу!» — окончательно сказал самому себе Лавров. Но, как и в день их первого знакомства, Давыдов словно почувствовал нерешительность Юрия Никифоровича. — Итак, в первых числах апреля — новоселье? — спросил он все в том же шутливом тоне и добавил: — Надеюсь, пригласите? Из всех торжеств больше всего люблю новоселье, честное слово! — Очень рад буду, Семен Сергеевич, — чего-то смутившись, сказал Лавров. — Искренне буду рад… Машина приближалась к прокуратуре, и Юрий Никифорович, совершенно позабыв о том, что Давыдов хотел с ним о чем-то поговорить, начал было прощаться. — Может, зайдете ко мне? — напомнил ему секретарь. — Есть одно старое дело. Хотелось бы посоветоваться с вами… — Конечно, — спохватился Лавров и пояснил, словно извиняясь за свою забывчивость. — Это меня квартира номер тринадцать с толку сбила. Все из головы вылетело…Глава вторая
I
II
Отстояв вахту на элеваторе, Николай Иванович Дронов возвратился домой. В доме царило праздничное веселье. Собрались знакомые, друзья. Молодежь танцевала, гости постарше собрались на веранде, где был накрыт стол. Все ожидали хозяина и встретили его довольно шумно, весело, кое-кто уже успел приложиться к рюмочке. Накануне 1 мая, на праздничном торжественном собрании, директор элеватора Майков объявил Дронову благодарность за бдительную охрану государственного зерна и вручил денежную премию. Вот и решили Дроновы пригласить к себе гостей. Веселье продолжалось часов до двенадцати. Когда же гости разошлись, помогая жене убрать со стола, Николай Иванович еще долго шутил, пел песни, а потом лег и быстро заснул. Вскоре во дворе громко залаяла собака, послышался скрип калитки. Взглянув на спящего мужа, Анна Петровна накинула платок и сама вышла во двор. — Дронов дома? — послышался незнакомый мужской голос. — А кто это? — Его на элеватор срочно вызывают, — вместо ответа сказал незнакомец, темный силуэт которого едва можно было различить у калитки. — А вы кто? — снова спросила Анна Петровна. — Дежурный. Вернувшись в комнату, Анна Петровна разбудила мужа. — Коля, дежурный приходил, на элеватор зовут. Ироды, и в праздник-то отдохнуть не дадут, — ворчливо добавила она. — Вот пойду сама к Ивану Ивановичу! Что это за порядки! — Мать, брось ворчать, — примирительно сказал Дронов и начал одеваться. — Может, заболел кто или еще чего. Не оставлять же объект без охраны! — Эй, кто здесь? — крикнул Николай Иванович, выйдя из дома. Но ему никто не ответил. Пройдя до угла Привокзальной улицы, Дронов повернул на площадь и пошел напрямик. Было темно, и только впереди, на вокзале, светились огни. Неожиданно сзади послышались торопливые шаги, и почти в тот же миг раздался выстрел… В городе заканчивалось праздничное гулянье. Натанцевавшись в одном месте, два друга, Вася Ревень и Валерий Волков, решили, что им необходимо еще зайти в городской парк. Праздничные афиши гласили, что там всю ночь будет весенний карнавал молодежи. Однако побывать на карнавале им так и не пришлось: на площади они едва не споткнулись о смертельно раненного человека. Пока один из парней находился около раненого, второй — побежал в милицию. На место происшествия приехали врач и оперативный уполномоченный уголовного розыска. Дронов был доставлен в больницу. Извлечь пулю, застрявшую в спинномозговом канале, врачам не удалось. Состояние Дронова все ухудшалось, и через несколько часов он скончался. Расследование длилось около четырех месяцев, но не дало никаких результатов. Преступление осталось не раскрытым. Придется начинать все сначала, — думал Лавров, в который уж раз перелистывая материалы дела, тщетно отыскивая ответ на основной вопрос — кто убил Дронова, зачем, кому он мешал. В деле много лишнего материала. Например, к чему все эти показания о случайных пожарах, происшедших якобы от неосторожного обращения с огнем? За два месяца в городе было четыре пожара: у начальника охраны элеватора Мокшина, старого коммуниста и друга Дронова; затем вскоре после убийства Дронова сгорела его хата; сгорели дома у жителей города Ивана Ивановича Мельника и у стариков Волошенко; и, наконец, пожар возник на самом элеваторе. И еще, в деле фигурируют несколько анонимных писем, адресованных опять случайно к тем же — Мокшину, Мельнику, Волошенко и… Дронову. «Да, многовато случайностей», — уже более уверенно подумал Лавров и решил, прежде чем вплотную подойти к следствию, еще раз поговорить с Давыдовым, тем более, что тот очень настойчиво предлагал свою помощь. — Всем, чем смогу, помогу вам, — сказал Семен Сергеевич, когда они расставались. — Я это дело вдоль и поперек изучал, с людьми разговаривал, может, и сумею что-либо посоветовать вам… В этот вечер Лавров и Давыдов засиделись допоздна. Склонившись над столом, они в который уже раз перелистывали обтрепавшиеся по краям листы. — Я убежден, что пожары в домах Мокшина, Мельника и Волошенко и поджоги на элеваторе — дело рук убийц Дронова, — говорил Давыдов. — Обратите внимание на эти анонимки. Они написаны в стиле кулацких угроз двадцатых годов. Я-то это еще помню… В одной из анонимок, адресованной покойному Дронову, на листке из тетради в клетку было написано со множеством грамматических ошибок:«Жук навозный рыжый пес, ты думаеш что я все позабыл. Нет я низабыл и буду дотех пор помнить покуда встречус и разделаюс с тобой ты от миня ниспрячишся разве только збигишь неизвестно куда. Твой грех неискупимый ниодна больница тебя невыличит ниодин мусор ниспасет псам всюду грозит опасность».Три другие записки, адресованные Мокшину, Волошенко и Мельнику, мало чем отличались от первой и по содержанию, и по стилю. — Обратите внимание, Юрий Никифорович, — продолжал Давыдов, — что ни в одной из анонимок не указано, за что преступники собирались мстить этим людям. Сначала следствие склонно было предположить, что это — месть воров за разоблачение. Так, между прочим, и рабочие элеватора объясняют убийство Дронова — я со многими говорил. Но, поразмыслив, мы пришли к выводу, что едва ли это — единственный мотив. Ведь Мельник и Волошенко — не охранники и никого не уличали в воровстве, за что же им мстили? Семен Сергеевич, заложив за спину руки, прошелся по кабинету. — Я думаю, что здесь какие-то другие, более серьезные мотивы, — вновь заговорил он. — Какие — это сказать трудно. Бытьможет, следовало бы пойти по такому пути: ознакомиться с биографиями всех четырех потерпевших и сопоставить эти биографии. Узнав, кто эти люди, какими интересами они жили, кто их окружал, вы сумеете представить себе, кто же и за что мог им мстить. Вам ясна моя мысль? Конечно, я не следователь, но мне кажется, что кое-что на этом пути мы могли бы найти. — Согласен, Семен Сергеевич. — Будем искать. …Утром, снова просматривая анонимки, Лавров заметил, что буква «г» в них несколько раз была написана необычно: верхний штрих ее глядел не вправо, а влево. Эта деталь навела Юрия Никифоровича на мысль, что дело, быть может, удастся раскрыть более простым путем. «Все-таки, вероятнее всего, Дронова убил кто-то из работников элеватора, уличенных в краже зерна. Это характерное написание буквы «г» может помочь обнаружить преступника. Надо просмотреть автобиографии и анкеты старых работников элеватора…» Начальника кадров не оказалось на месте, и Лавров решил просмотреть на всякий случай материалы о пожарах. В «срочных донесениях» и актах о пожарах не было ничего интересного: то кто-то обронил спичку, то папиросу… «Детские» причины! Причем ни один потерпевший акта о пожаре не подписал, а имелись лишь подписи уполномоченного милиции Куркина, начальника местной пожарной команды Белого и депутата сельсовета Самохвалова. Вызванный в прокуратуру Самохвалов рассказал Лаврову, что ни на одном месте происшествия он не был, а акты подписывал лишь «для формы». Белый же, оказавшийся молодым, энергичным человеком, влюбленным в свое «пожарное» дело, заявил Лаврову: — Сам знаю, что ерунду мы в тех актах писали, да разве старика нашего переспоришь? Страсть как боялся он нераскрытых пожаров. Вот и выискивал случайные причины. Допрос потерпевших также ничего не дал. Все они были убеждены, что пожары возникали от поджогов, но кто и почему поджигал — этого никто не знал и не мог даже предположить чего-либо более или менее определенного. Работа с личными делами заняла у Лаврова три дня, но оказалась бесплодной: почерка, похожего на почерк автора анонимок, не оказалось, а печатных букв вообще ни в одном деле не было. «Придется начинать с «путешествия в прошлое», — подумал он, — так, как советовал Семен Сергеевич…»
III
Через три месяца Лавров подводил итоги следствия по делу об убийстве Дронова. Собственно, он давно имел возможность передать это дело кому-либо из следователей, но сделать этого не захотел: слишком втянулся в него, полюбил его. Да, именно полюбил — иначе не скажешь о чувстве, которое связывает настоящего следователя с серьезным, сложным, запутанным делом. Столько труда, душевной энергии, нервного напряжения вкладываешь в него, что оно невольно становится чем-то близким, за него тревожишься, о нем думаешь, как о чем-то своем, личном. Лавров не впервые испытывал это чувство, но сейчас ему казалось, что еще ни одно дело не интересовало его так глубоко. Это было совершенно особое дело, работа над ним велась не обычными методами. Совет Давыдова поначалу показался Юрию Никифоровичу слишком сложным, но вскоре он понял, что «путешествие в прошлое» — необходимый этап следствия. И, пустившись в это «путешествие», так увлекся, что сделал неизмеримо больше, чем это требовалось для полноты доказательств. День за днем разговаривал Лавров с людьми, копался в старых архивах, делал запросы. Старые и давно забытые всеми документы словно оживали перед ним, одушевленные воспоминаниями тех, кто помнил Дронова еще с далеких лет гражданской войны. И прошлое принимало все более отчетливые и реальные очертания. Однако ответа на основной вопрос все еще не было. Одни только намеки, предположения, версии… И вот, наконец, преступление раскрыто! Двухтомное дело, аккуратно подшитое и пронумерованное, лежит перед Лавровым. Еще два-три последних процессуальных усилия и эти папки уйдут в суд. Следователь навсегда расстанется с ним. Снова, в который уж раз, он перелистывает страницы. Мелькают знакомые протоколы допросов, фотографии, аккуратно подклеенные старые документы. Одна за другой возникают картины прошлого.…Тридцатые годы на Кубани. Кулацкий саботаж, борьба за хлеб, бурные станичные сходки — собрания. Бывший батрак, недавно вступивший в партячейку и в колхоз, Николай Иванович Дронов оглашает список кулаков, которых утром следующего дня предстоит раскулачить и затем выслать за пределы Северного Кавказа. Список утвержден в станице единогласно. Члены актива разбились на несколько взводов. Старшим первого взвода назначили Дронова. Ему было поручено раскулачить Савелия Божко — известного кулака, с именем которого люди связывали участившиеся в станице поджоги. В этом же взводе — сосед и друг Дронова, Иван Мокшин, тоже бывший батрак. С рассветом группа Дронова подошла к дому Божко. За высоким сплошным забором был виден большой, крытый цинком дом, деревянный амбар, конюшня и другие хозяйственные постройки. Не успел Дронов постучать в калитку, как к забору с лаем бросился огромный цепной пес — волкодав. Послышался мужской голос: «Кого там лыха годына нэсэ спозаранку?» Дронов отозвался. За забором некоторое время был слышен только лай пса, затем звякнул запор калитки и появился хозяин дома: саженного роста казак, с черными усами, в каракулевой шапке-кубанке, в хромовых сапогах. Черная сатиновая рубаха подпоясана щегольским казачьим поясом с серебряным набором. — Идите, грабьте, — обронил злобные слова он, пропуская незваных гостей во двор. Не обращая внимания на голосившую хозяйку и выбежавшего за нею сына-подростка, взвод под командой Дронова вошел в дом. Четыре просторных комнаты были заставлены шкафами, комодами и сундуками. Дронов объявил хозяину, что имущество его конфискуется, а сам он будет выслан из станицы. — Как бы не так, босяцкая власть, — ответил Божко, — ишь что хочет. Но, дай бог, прыйде время — мы з вами ще побалакаемо. Дронов с Мокшиным подошли к окованному железом сундуку. На металлической пластинке у замка они прочли витиеватую надпись:
«Лейбгвардии его императорского величества личного конвоя, урядника Божко. С.-Петербург, 1905 год».Дронов и Мокшин переглянулись: ясно, за какие «заслуги» получил Божко этот подарок! Несмотря на яростное сопротивление хозяйки, сундук открыли. В нем оказались черкески с погонами урядника, кинжал в серебряной оправе и на дне лежал портрет императора. Только к вечеру переписали члены комиссии движимое и недвижимое имущество Божко, и весь день вслед за отцом, неотступно, из комнаты в комнату, из постройки в постройку ходил пятнадцатилетний сын Божко, ненавидящими глазами глядя на людей, которые его и не замечали. Дронов вспомнил об этом парне лишь ночью, когда, возвращаясь домой, получил из-за угла сильный удар камнем в спину. Оглянувшись, Николай Иванович узнал в убегающем долговязом подростке кулацкого сына — Василия Божко. Прошло одиннадцать лет. Колхозы окрепли, колхозники зажили новой жизнью и стали уже забывать о пережитом тревожном времени и о высланных из станицы кулаках. Но 22 июня 1941 г. мирная жизнь снова оборвалась. В августе 1942 года Кубань оккупировали фашисты. Вскоре в станице стали появляться кое-кто из высланных кулаков. Одним из первых вернулся Божко. События одиннадцатилетней давности были свежи в его памяти — все эти годы он только и жил прошлым. И теперь, став станичным старостой, Божко мстил, мстил жестоко, зверски, захлебываясь злобой и упиваясь вновь вернувшейся к нему властью. Нет, он никому не желал уступать удовольствия мучить и убивать своих врагов! Он сам, лично, расстрелял трех скрывавшихся в станице коммунистов-партизан, сам глумился, над стариками, женщинами и детьми из семей известных ему ранее активистов, ныне партизан; сам передавал их фашистам для отправки в Германию. Дронов, работавший до войны членом исполкома стансовета, вместе с женой и восемнадцатилетним сыном тоже ушел с партизанами. И Божко не раз вспоминал о нем, жалея, что не может отомстить своему самому заклятому врагу. Но случай снова свел их. В конце ноября 1942 г. Дронов вместе с семью другими партизанами был послан в станицу на разведку. Все они очень устали, так как не спали несколько суток, и, забравшись в какой-то заброшенный сарай, неподалеку от станицы, уснули крепким сном измученных и обессилевших людей. Группа полицейских обнаружила их и привела в станицу. Божко сразу узнал Дронова. — Ось як прийшлось встретиться! — с торжеством в голосе сказал он и, подойдя к Дронову, с размаха ударил его палкой по голове. — В подвал его! — приказал он полицейским. Двое из задержанных партизан были повешены здесь же, на площади. Божко сам одел им на шеи петли. Часа через два Дронова вывели из подвала и вместе с пятью его товарищами посадили в общую камеру. Там сидело еще человек двадцать арестованных — коммунистов и партизан из других районов. Это была камера обреченных. Отсюда арестованных группами вывозили на аэродром и там расстреливали. Наутро расстреляли двенадцать человек. Днем, когда арестованных выводили на оправку, Дронов успел заметить, что караульное помещение находилось от камеры не менее, чем в ста с лишним метрах. А камеру ночью охранял только один часовой, который, провожая арестованных из уборной, цинично предлагал им: — Вам теперь вещи не нужны. Отдайте их мне, а я вам за это ведро чистой воды принесу. «С этим мародером, кажется, можно сделать дело», — решил Дронов и поделился с товарищами планом бегства. Часа в два ночи он подошел к двери и, приложив губы к смотровому отверстию, тихо подозвал часового. — Гимнастерку и полушубок хочешь? — спросил он. — А мне хоть кружечку воды принеси — жар у меня. Как только часовой открыл дверь, Дронов схватил его за отвороты шинели и с силой ударил о стенку узкого коридора. Двое других арестованных набросили на голову часовому полушубок, схватили его винтовку, и все обитатели камеры врассыпную бросились бежать. Очнувшийся часовой отчаянно кричал, звал дежурного. Он словно обезумел от животного страха перед своими хозяевами. Но было поздно: «важных преступников» и след простыл. И вскоре для Божко снова наступил час расплаты — последний в его жизни. За несколько часов до возвращения в станицу Красной Армии Дронов с партизанами пробрались на ближайший к дороге хутор и захватили группу полицейских, пытавшихся бежать вслед за немцами. Среди них был Божко. Военный трибунал по заслугам оценил злодеяния, о которых рассказывали на суде свидетели — бывшие партизаны, Дронов и Мокшин, Пелагея Мельник и другие. Оставаясь в станице, они были свидетелями его зверств. Военный трибунал приговорил Божко к смертной казни. Дронов же вскоре ушел в действующую армию. В 1943 году в боях на Орловско-Курском направлении он был тяжело ранен… Возвратился домой инвалидом и с тех пор работал в охране элеватора. Все эти события, о которых Дронов не раз вспоминал в кругу своих друзей и близких, стали известны Лаврову из рассказов Мокшина, жены Дронова, его сына и других свидетелей. Были они записаны скупо — простое перечисление событий, дат, имен. Да, у Дронова были враги, которые могли убить его из мести. Но как связать прошлое с настоящим? Ведь самого Божко давно не было в живых, «полицаи», против которых Дронов давал показания на суде, либо расстреляны, либо сосланы, либо ушли с немцами. Никто из них не появлялся в станице…
Лавров работал по нескольким версиям одновременно. Он не исключал и того, что Дронова убил кто-то из разоблаченных им воров, и интересовался всеми, кто когда-либо был замечен в кражах на элеваторе. Эта тропинка привела Юрия Никифоровича к бывшему охраннику элеватора Алексею Базаренко. В свое время Дронов уличил Базаренко в кражах, и того перевели в грузчики. А через полтора месяца после убийства Дронова Базаренко бесследно исчез из станицы. Установив, что он жил на квартире вдовы Марфы Берещенко, один из сотрудников милиции по заданию Лаврова явился на эту квартиру и под видом инспектора отдела кадров строительства сахарного завода осведомился, не сдаст ли она комнаты для рабочих. Показывая «инспектору» сдающиеся в наем комнаты, словоохотливая хозяйка разговорилась. Она рассказывала о своих прежних постояльцах, в том числе и об Алексее Базаренко. — Не поладил он с кем-то из начальства, — говорила она неторопливым певучим голосом, — вот и решил уехать. Вообще горяч был характером. Чуть что не по нем — аж зубами заскрипит. «Ты, говорит, Марфа, мне не перечь. Мне что человека, что муху убить — все едино». Натерпелась я с ним страху. — Не угодили вы ему, наверное, — вот и ушел… Живет, поди, теперь где-нибудь неподалеку, у молоденькой, — пошутил «инспектор». — Да ну вас, скажете! — смутилась Марфа. — Чего мне угождать ему? И не ушел он никуда, а уехал. Вот Волощенчиха к родственникам на Украину ездила — встречала его. В Ливнах он теперь живет. Получив эти сведения, Лавров решил заняться личностью Базаренко, и результаты оказались поразительными. Прошлое и настоящее неожиданно слились воедино: Алексей Базаренко оказался сыном кулака Божко, тем самым Васькой, который мальчишкой из-за угла бросил в Дронова камень. С начала войны Василий Божко был мобилизован в Красную Армию и зачислен в рабочий батальон. На оборонительных сооружениях под Сталинградом он попал под вражескую бомбежку, несколько месяцев пролежал в госпитале, а по дороге на фронт дезертировал. Вскоре его задержали. Он был осужден с отправкой в штрафную роту. Но к этому времени окончилась война, и Василия Божко направили отбывать наказание в колонию. После освобождения он подделал паспорт и под именем Алексея Базаренко возвратился в родные места, надеясь, что годы и следы ранения на лице изменили его достаточно, чтобы остаться неузнанным. Здесь он узнал о судьбе отца и, затаив злобу, выжидал удобного случая отомстить Дронову. Увольнение из охраны по докладной Дронова ускорило развязку. Когда, отбросив до десятка не подтвердившихся версий, Лавров пришел к убеждению, что убийцей Дронова является Базаренко, он стал искать его сообщников. Установить связи Базаренко оказалось несложно: опасаясь разоблачения, тот имел весьма ограниченный круг знакомых. Приехав в город, он поселился у вдовы Берещенко, сблизился с ней и не встречался почти ни с кем, кроме Василия Горобца, сведения о котором вполне объясняли эту «дружбу». Горобец был сыном кулака. Старший его брат при немцах служил в полиции, а сам Василий был не чист на руку, неоднократно подозревался в кражах, но всякий раз умел избежать ответственности. В городе он появился после войны. Отправляясь в милицию проверить листки прибытия Горобца в город (они заполняются печатным текстом), Лавров волновался, и это было понятно. Анонимные записки Дронову и потерпевшим от пожаров были написаны печатными буквами и исполнены одним и тем же лицом, но не Базаренко, как категорически утверждали эксперты. Значит, записки писал сообщник Базаренко. Не мог ли Василий Горобец быть таким сообщником Базаренко — иных подозреваемых ведь не было, а предположить, что Базаренко не имел сообщников, было трудно. Лаврову подали четыре бланка — два листка прибытия, заявление Горобца об обмене паспорта и такое же заявление от имени его матери. Все документы были заполнены довольно четкими печатными буквами. Рассматривая белые и синие квадраты листков, Лавров почувствовал, как сильно забилось его сердце. На одном из бланков прибытия в графе «время рождения» он увидел перевернутую букву «г»! Словно боясь поверить себе, Юрий Никифорович несколько раз перечитал: «рождения 1920 ┐ода». Да, буква «г» в слове «года» была написана точно так же, как в анонимке на имя Дронова «┐». Автор угрожающих анонимок был найден! Версия о мести, наконец, получила веское подтверждение.
Через десять дней Лавров получил акт графической экспертизы и одновременно — ответ от прокурора города Ливны, куда посылал требование об аресте Базаренко. Ливненский прокурор сообщил об аресте и этапировании Базаренко. Спецсвязью был выслан и пистолет «ТТ», обнаруженный на квартире арестованного. В тот же день, захватив с собою давно заготовленное постановление на арест и обыск, Лавров вместе с работниками милиции отправился к дому Горобца. Горобец, которого Юрий Никифорович увидел теперь впервые, сидя на стуле, жадно курил, молчал и глядел в пол. Лавров долго и тщательно готовился к допросу Горобца, но приготовленные вопросы не пригодились, Горобец упорно молчал, вел себя нервно, как и при обыске, отводил глаза в сторону. По нескольку раз в день вызывал Лавров Горобца на допрос, надеясь, что он в конце концов заговорит, но тот продолжал молчать. Тогда Лавров изменил тактику. «Попробую доказать ему, что это молчание бесполезно», — решил он. И когда однажды Горобца снова ввели в кабинет, взгляд его сразу упал на разложенные на столе документы: анонимки, листки прибытия, заключение экспертизы… Горобец медленно поднял взгляд и впервые посмотрел в глаза Лаврову.
Показания Горобца дополнили картину преступлений Базаренко. Разговорившись, он с какой-то самоотверженной откровенностью, с мельчайшими подробностями рассказывал о тягчайших преступлениях, совершенных им вместе с Алексеем Базаренко. — Да, — рассказывал Горобец, — Базаренко воровал на элеваторе зерно, которое я у него по дешевке покупал и сбывал на рынке. Потом я стал приходить ночью прямо к нему на пост. Он насыпал в мешки столько, сколько я мог донести. Раза три-четыре за ночь я к нему приходил. Однажды заметил меня Дронов, когда посты с Мокшиным обходил. Я как раз с мешком семечек от поста Алексея пробирался. «Стой», — кричит. Я мешок бросил — и бежать. А утром Базаренко рассказывал, что Дронов у него все допытывался, кто с его поста кражу совершил и как он этого не заметил» Скоро перевели Алексея в грузчики. Здорово он разбушевался тогда. Я его раньше таким не видал. Пришел к нему, а он пьяный за столом сидит. Марфу избил и выгнал, а сам водку хлещет. «Жечь, — говорит, — их гадов, убивать надо, как наши отцы делали». А сам аж зубами скрипит. Я говорю: «Брось, проживешь и без охраны». А он мне: «Разве в охране дело? У меня этот Дронов вот где сидит! — и на загривок показывает. — Я его, — говорит, — еще мальчишкой убить думал, да не смог, а теперь уж не дам уйти…» В тот вечер пьяный Базаренко рассказал Горобцу всю историю своего родителя и свою собственную. — Схожие у нас жизни с ним были. Растравил он и мне душу, злобу расшевелил во мне. Да еще сказал — не знаю уж, правда это или нет, — будто Дронов ему сказал, что он знает, как мы вместе зерно воруем. Поверил я ему, и решили мы оба Дронова убить. Оружия у нас еще не было, а ножом Алексей не хотел действовать. Не убьешь еще, говорит, недорежешь его сразу, быка здорового. Решили купить пистолет или ружье, а пока угрозу ему написали. Я и писал. Потом у одного проезжего на вокзале пистолет «ТТ» купил. В апреле это было. Только убивать не стали сразу — Алексей решил дождаться 1 мая. В праздник и убил его Алексей; я из дому вызвал, а Алексей стрелял в спину… Но и на этом не успокоился Базаренко. Собравшись уезжать, он решил отомстить за отца и всем остальным его врагам. По его требованию Горобец, который теперь уже был крепко с ним связан, написал угрожающие анонимки Мокшину, Мельнику и Волошенко, которых Базаренко считал виновными в том, что отца приговорили к смертной казни. Поджигал хаты сам Базаренко, а потом в числе первых прибегал на пожар, чтобы не было на него подозрений. — Один раз вместе мы с ним на пожаре были, — говорил Горобец. — Это когда Мельника спалили. Здорово Алексей радовался, когда хата горела, аж в глазах у него злорадство и бешенство были. Испугался я тогда, как взглянул на него. Когда уходили, он распрощался со мной и говорит: уеду завтра. И правда уехал. А ночью элеватор загорелся. Он, конечно, поджег, злоба его душила. …Перед столом Лаврова сидит Базаренко — высокий худощавый мужчина неопределенного возраста, с подвижным лицом, настороженным взглядом. Лавров спокоен. Кольцо неопровержимых доказательств сомкнулось вокруг преступника раньше, чем он успел это понять. Он еще ничего не знает, надеется спастись от настигающей его кары, неестественной улыбкой, чрезмерной подвижностью и словоохотливостью старается скрыть охвативший его животный страх. — Да, пистолет действительно хранил, нашел в Ливнах и хранил, допустил такую непростительную ошибку. Такую глупость совершить, такую глупость! И ведь хотел сдать его в милицию, и сдал бы, конечно, сдал бы, да вот все дела… Откладывал все, а тут — обыск. И почему-то даже сюда привезли — зачем, почему? Мухи не обидел — и вот такая история! Ну, конечно, разберутся, разберутся!.. Лавров холодным взглядом в упор смотрит на преступника, поражаясь чудовищной фальши его поведения. — В постановлении упоминается какое-то убийство, — с суетливым удивлением говорит Базаренко. — Какое убийство? Это же явная ошибка! Абсурд какой-то, честное слово… — Замолчите, — произносит Лавров раздельно, четко. — Довольно… Достаточно! Посмотрите лучше это — заключение экспертизы. Видите? Из вашего пистолета убит Дронов. Его убили вы и Горобец, которому вы обязаны приобретением этого пистолета. Улыбка сползает с лица Базаренко, и оно сразу становится злым и отталкивающим. — Докопались, — произносит он с ненавистью. И Лаврову кажется, что голос его шипит от бешеной злобы. — Да, докопались! А вы что же думали — можно убить человека и остаться безнаказанным? И, вызвав конвоира, Лавров коротко говорит: — Уведите арестованного!
Глава третья
I
«Мы живем в общежитии, давно зима, а у нас еще печей не топят, до сих пор в окнах двойных рам нет. В комнате семь человек, а табуреток только две. На производстве частые простои: то кирпича нет, то цемент вышел. Значит, сиди и жди, а в итоге заработок 150—180 рублей. Просим вмешаться».Юрия Никифоровича жалоба встревожила, но вида он не подал, а только записал на листке календаря:
«Двенадцатого в строительном тресте проверить причины простоев, соблюдение законов о труде, жилищные условия рабочих. Проверку произвести совместное профсоюзной организацией».После всех посетителей Лавров пригласил Миронову. — Вот теперь я слушаю вас… Женщина начала свой рассказ: — В 1922 году я вышла замуж за Сергея Васильевича Миронова. В 1924 году, когда мы жили на Урале, у нас родился сын Володя. В 1928 году муж умер. Я осталась одна с четырехлетним сыном и переехала в Грозный к своей матери и сестре. Они помогали мне воспитывать мальчика, а я пошла работать бурильщицей. Володя окончил семилетку, стал учеником слесаря. В начале Отечественной войны мы переехали на Волгу, в Куйбышев. Здесь сын поступил работать в автобронетанковую ремонтную базу слесарем. Потом его направили в длительную командировку в прифронтовую полосу. Там он был ранен и оказался в госпитале в Лазаревке. Я поехала в Лазаревку, и мне разрешили перевезти Владимира в госпиталь города Грозного. По выздоровлении Владимир был зачислен в танковую школу. В 1943 году он снова ушел на фронт. Сама я стала работать в госпитале, находилась почти все время на фронте. За два месяца до окончания войны я заболела, и меня отправили домой. Едва добралась до квартиры, как получаю извещение, что сын мой погиб смертью храбрых при форсировании реки Одер и похоронен на территории Германии… Поверьте мне, товарищ прокурор, я в те годы пролила реки слез… Миронова вытерла носовым платком бегущие по щекам крупные слезы и глубоко вздохнула. — Ну что ж, осталась одна… Немножко пришла в себя, опять устроилась на работе. Встретился мне человек, присмотрелась, вижу — не плохой. Я вышла за него замуж, переехали мы сюда. Но горе мое меня и здесь никогда не оставляло. Помолчав, она заговорила горячее, но не сбивалась, не повторялась — видно было, что не раз уже рассказывала свою историю. — Года полтора тому назад иду я по улице Восточной, вижу, возле водонапорной колонки стоит молодой мужчина с ведрами. Я случайно взглянула на него, и, знаете, товарищ прокурор, меня как током ударило. До того родным и знакомым показалось его лицо, что захотелось крикнуть: «Володя, сынок!» Но что-то будто сковало меня, и я не смогла выговорить ни слова… Тем временем парень ушел с ведрами во двор, захлопнул калитку. Я думаю, дай хоть примечу, какая калитка. Смотрю — возле щеколды зеленой краской намазано. Постояла я, постояла, собралась с духом, да в эту калитку. А там домов много. Смотрю, стоит женщина, чистит половички. Я спросила: «Володя Миронов здесь живет?» Женщина безучастно глянула на меня и ответила: «Нет здесь такого». Я ее еще раз спрашиваю: «Ну как же, неужели вы не знаете Володю?» Женщина, не переставая трясти половики, сердито сказала: «Я здесь знаю всех жильцов. Говорю, нет у нас никакого Миронова. Что еще надо?» Вышла я за калитку, постояла возле нее еще немного, да так и ушла. С того дня я как завороженная хожу. Несколько раз к той калитке подходила, стояла подолгу, но его не видела. Иду по улице, вглядываюсь в лица прохожих — нет его. Я уж думала, может, это мне показалось? Но нет, я же помню! Своими глазами видела… Миронова умолкла. Затем с горечью в голосе продолжала: — Недели через полторы на базаре я вновь увидела то же лицо… Лавров посмотрел на женщину. Глаза ее болезненно расширились, между бровями легла глубокая складка. Казалось, вот-вот она скажет что-то страшное. — Да, да! Это же лицо. Он стоял с протянутой рукой и просил подаяния. На нем была старая шинель. Я стала против него и решила: пока не узнаю всего до конца, не уйду отсюда! Смотрю: серые большие глаза, сам еще молодой, а в глазах, во всем выражении лица какая-то пустота, усталость. Думаю про себя: «Нет, ошибаюсь я, у моего Володи был такой стремительный, такой живой взгляд!..» Отошла немного подальше, встала сбоку — нет, вижу, Володя! И нос его, и ухо, и волосы… Постояла я, постояла, а потом подошла и спросила: «Вы Миронов?» Он повернул ко мне голову, убрал протянутую руку, но ничего не ответил. Я еще раз его спрашиваю: «Миронов?» Он молчит, а глаза сделались какими-то задумчивыми. Почему он меня не признает? Он же не маленький был, когда мы расстались. Нет, наверное, ошибаюсь. Сорвать бы, думаю, с этого лица пустоту — вот тогда и был бы мой Володя. «Где вы живете?» — спрашиваю. Он опять молчит. Ничего я не добилась. А так хотелось хоть голос его услышать! Постояла еще, не помню сколько времени, а потом пошла с базара, душа у меня страшно заныла. От переживаний я заболела. Прихожу домой, рассказываю мужу, а он мне говорит: «Брось ты все это! Что ты цепляешься к каждому прохожему, ты же получила извещение, что сын твой погиб!» И все же я жила мыслью, что сын мой нашелся. Что-то неладное с ним произошло, но это — он. И я должна все выяснить, вернуть его к жизни. С тех пор я ежедневно ходила на тот базар и каждый раз видела его. И чем больше всматривалась, тем все роднее он мне становился. Однажды, не выдержав, я подошла к нему со слезами на глазах и сказала: «Володя! Что же ты, не признаешь? Ведь я твоя мама!» А он опять молчит. Потом ответил мне таким хриплым, чужим голосом: «Если хотите знать, кто я, приходите на квартиру: Восточная, 19». В тот же вечер я отправилась по этому адресу. Зашла в ту самую калитку, что находилась против водонапорной колонки. Владимир стоял во дворе. Увидев меня, весь задрожал, заплакал, жестом показал на дверь одного дома. Я подошла к двери и зову его, а он не идет. Тогда я вернулась к нему, хотела с ним поговорить, а он — в сторону от меня. Думаю, если он живет не один, хоть что-нибудь узнаю от людей. На мой стук в дверь послышалось: «можно». Я вошла. В комнате сидела женщина и перебирала какую-то старую обувь. Я ее спросила: «Разрешите с вами поговорить?» А она на меня уставилась темными неподвижными глазами и жестко ответила: «О чем нам говорить?» Вы понимаете, товарищ прокурор, мое состояние в тот момент? Я уже не помню подробностей разговора, только помню, что я ей сказала: «Володя — мой сын, и я не допущу, чтобы он ходил и побирался по миру!» Эта женщина на меня накричала, старалась оскорбить. «Никакого Володи здесь нет, — кричала, — а есть Глазырин Игорь — мой муж! Он из Ростовской области. Мы давно живем! Я и мать его знаю! А ты еще тут какая-то самозванка объявилась. Уходи отсюда!» Я вышла из комнаты, хотела с Володей все-таки поговорить, но его на дворе не оказалось. Так и ушла ни с чем. На другой день утром я попросила свою знакомую пойти вместе со мной на базар. Я хотела, чтобы она с ним поговорила, рассчитывала на то, что она — человек посторонний, сумеет спокойнее, без волнений выяснить подробности его жизни, а главное узнать, кто же он? Женщина охотно согласилась помочь мне. Застали мы его прямо у ворот базара и едва увидели, как моя знакомая оттащила меня в сторону и говорит: «Так это он? Господи, — говорит, — я его уже давно приметила: молодой, а милостыню просит! Странно все-таки… Но люди мне рассказывали, что это жена его посылает. А когда он приносит мало — она его бьет. Вы отойдите куда-нибудь, я подам ему рублик и попробую что-нибудь выведать». Спряталась я за продовольственную палатку, сижу на каком-то ящике, жду. Минут через двадцать она подходит и рассказывает, что фамилия его Глазырин. Во время войны был контужен, находился в госпитале. Долгое время ничего не слышал и даже не мог разговаривать. В таком состоянии он в 1945 году бежал из госпиталя, скитался, где попало, а в начале 1947 года на одной из станций Ростовской области был снят с поезда, как безбилетный. На вокзале милиционер потребовал от него документы, их не оказалось. Неподалеку стояла неизвестная женщина. Она сказала милиционеру, что документы этого инвалида находятся у нее в доме, и повела его в пристанционный поселок. В доме гражданки Глазыриной ему дали свидетельство о рождении на имя Глазырина Игоря Ильича, 1924 года рождения, забрали у него все деньги, какие он имел. В этом же доме ему сказали, что паспорт он сможет получить в другом районе. Так он и сделал. Затем женщина, с которой он сейчас проживает, привезла его сюда в 1950 году, зарегистрировала с ним брак, приняла тоже фамилию Глазыриной. Сама она нигде не работает, а он то в городе, то по поездам нищенствует. Получает пенсию, как инвалид. Миронова умолкла. — Что же произошло дальше? — задал Юрий Никифорович первый за все время беседы вопрос. — После этого я решила обратиться в советские органы. Просила помочь мне разобраться во всей этой запутанной истории, тщательно проверить, кто этот человек, в котором я признаю своего сына. Меня многие убеждали, что я обозналась, но сердце говорит другое. И пока я не буду твердо знать, кто этот человек, я не успокоюсь. — Правильно, — поддержал прокурор. — За время проверки моего заявления в горисполкоме и милиции эта женщина, жена его, подала на меня заявление, что якобы я, имея корыстную цель получать повышенную пенсию на него от военкомата, отбираю у нее законного мужа. Милиция очень быстро провела проверку ее заявления, и в деле оказались показания другой матери, его сестер и даже двух соседей, опознавших по фотографии Владимира как дефективного Игоря Глазырина. Более того, прокуратура провела дополнительное опознание Владимира мужчиной и женщиной, проживающими в совхозе соседнего района. Женщина, которая опознала Владимира как Глазырина, заявила, что он ее племянник, сын сестры, проживающей в Ростовской области, дефективный от рождения. Ее муж подтвердил такое заявление. Владимир заявил тогда, что я ему не мать, а в них признал тетю и дядю. — Я не могла на этом успокоиться, — со слезами на глазах говорила Миронова. — И сейчас продолжаю настаивать на том, что он — мой родной сын. Но как избавить его от страха перед этими людьми? Мне не удалось этого добиться. Однажды Владимир даже признался, что узнает меня, но сказал, что боится своей жены, так как она угрожает ему убийством. Товарищ прокурор, как восстановить Володины документы? Ведь он действительно Владимир Сергеевич Миронов, а милиция вынесла такое заключение… — и с этими словами Миронова положила на стол документ. Лавров прочитал вслух:
«Опознание гражданкой Мироновой Дарьей Васильевной гражданина Глазырина Игоря Ильича родным сыном своим Мироновым Владимиром Сергеевичем является неправдоподобным, а поэтому считать его Глазыриным Игорем Ильичом, 1924 года рождения, уроженцем Ростовской области, дефективным с детства. Материал проверки производством прекратить и сдать в архив».Под документом стояли три подписи работников милиции. — Это заключение вынесено на основании ложных показаний заинтересованных лиц, оно не соответствует действительности, — продолжала Миронова. — Эта женщина будет и дальше издеваться над ним. И я, родная мать Владимира, обязана вырвать сына из этого ада, поместить его в госпиталь, лечить. Я верю, что его еще можно вылечить. Женщина беззвучно зарыдала. Наступила долгая пауза. Юрий Никифорович собирался с мыслями. Рассказ Мироновой произвел на него сильное впечатление. Когда женщина несколько успокоилась, Лавров сдержанно, но успокаивающе заговорил: — Вы, конечно, понимаете, сейчас я вам не могу сказать что-либо определенное. Дело трудное и очень необычное. Вот у меня на столе лежат материалы проверки вашего заявления, множество заявлений гражданки Глазыриной, жены человека, о котором идет речь. Мне необходимо все это тщательно проверить. Ведь для того, чтобы сказать, что это действительно ваш сын, я должен иметь неопровержимые доказательства. Поэтому сегодня я обещаю вам лишь одно — провести всестороннюю проверку, такую проверку, чтобы у меня самого не осталось никаких сомнений в правильности вывода. Но на это нужно время… — Если вы объективно, вдумчиво подойдете к этому делу, не сомневаюсь, что вы признаете Владимира моим сыном, — уверенно сказала Миронова. — Окончательное решение таких вопросов принадлежит народному суду, — возразил Лавров. — Почему же милиция дала такое заключение? — Очевидно, по ошибке. В данном случае милиция превысила свои права и подменила собою суд. Но не в этом дело. Условимся так: я ознакомлюсь со всеми материалами, затребую из милиции все, что у них есть, и вызову вас. У меня наверняка будут к вам вопросы. Зазвонил телефон. — Юра? Что же ты не идешь? — Иду, иду, Верочка… Звонила жена. Вот уже около месяца Лавров с семьей жил в новой квартире и чувствовал себя счастливым, как всегда вблизи семьи. Правда, Сашку он видел очень мало: мальчик рано убегал в школу, а когда Юрий Никифорович возвращался, — чаще всего или спал, или же собирался спать. Зато по воскресеньям они не расставались, вместе бродили, ездили за город. «Ничего, Сашка, — обещал Юрий Никифорович сыну, — вот отпустят вас на каникулы, тогда мы с тобой вволю нагуляемся…» — Как же, нагуляешься с тобой! — недоверчиво и недовольно бурчал Сашка. — В кино и то сводить не можешь, а там про Тимура идет… — Вот в воскресенье и сходим, — обещал отец. — Да ведь воскресенье-то вчера было, — говорил Сашка. — Жди теперь…
…Уходя из прокуратуры обедать, Юрий Никифорович сказал секретарю: — Мария Ивановна, попросите Корзинкину, чтобы она запросила из милиции все, что там есть по заявлениям Мироновой и Глазыриной, и, когда я вернусь, зашла ко мне. Во второй половине дня Александра Мироновна Корзинкина появилась в кабинете Лаврова. — Вот материалы, — сказала она, кладя на стол увесистую папку. — Только не знаю, Юрий Никифорович, что вы с ними будете делать. Ведь решение по делу принято совершенно правильное. Иного и быть не могло. Одних прямых показаний восемь: родной матери Глазырина, его сестер, соседей. Тетка с мужем тоже подтверждают. Кстати, опознание Глазырина его теткой и ее мужем я проводила лично. Они категорически утверждают, что Гора Глазырин действительно их родной племянник. В материалах есть веские доказательства, а у Мироновой одни слова: «Верните сына, верните сына!..» Что-то нехорошее тут кроется, Юрий Никифорович. И зачем нам копаться в делах, давно решенных? И так-то едва управляемся… — Александра Мироновна, — начал Лавров, терпеливо выслушав своего помощника. — Я ведь вам не высказал своей точки зрения по поводу того, правильное или неправильное решение приняли милиция и прокуратура. А ведь если говорить о форме, то вопрос решался неверно: нужно было, не принимая никаких решений, рекомендовать гражданке Мироновой обратиться в суд. Впрочем, это и сейчас еще не поздно. Вот проверим… — Вы и в самом деле хотите заниматься проверкой этих материалов? — перебила Лаврова Александра Мироновна. — Обязательно! Причем не я один, а мы с вами, — улыбнулся Лавров. — Разработаем вместе план и приступим к проверке. Только сначала я хотел бы, чтобы вы отказались от прежних выводов. Я не знаю, верны они или нет, но прошу вас: внушите себе, что вы никогда не знакомились с этими материалами и начинаете проверку по вновь поступившему заявлению. — Я бы, Юрий Никифорович, все-таки попросила вас не поручать мне проверку этого заявления. Я уже им занималась, и у меня сложилось определенное мнение. Есть же другие помощники. Если моей проверке вы не доверяете, пусть кто-то еще возьмется… — Так вы что, обиделись? — прервал Корзинкину Лавров. — Вот уж совершенно напрасно! Поймите, Александра Мироновна, что если бы я вам не доверял, то не настаивал бы именно на вас. А лишняя проверка не помешает. Ну, допустите хоть на секунду, что Миронова права… — Не допускаю, — в свою очередь прервала Корзинкина Лаврова. — Однако — дело ваше, и я, конечно, выполню ваше указание. Онавышла из кабинета, а Лавров задумался: «У Корзинкиной, конечно, аргументы веские, это так… А у Мироновой? Ведь, кроме заявления о том, что это ее сын, у нее действительно ничего нет! С другой стороны — зачем он ей? Подозрение в корысти слишком мало вероятно — какая уж тут корысть брать в дом больного человека, ухаживать за ним? Если сын — одно дело, а так брать на себя такую обузу не каждый станет…» Лавров вспомнил просьбу Корзинкиной передать проверку этого заявления другому работнику. «Что ж, может, она и права? Может, поручить эту работу кому-то еще?» Но тут же Юрий Никифорович возразил себе: «Нет, если есть хоть один шанс за то, что первая проверка была неверной, — это послужит Корзинкиной хорошим уроком, собьет с нее излишнюю веру в собственные выводы и заключения. Работник она еще молодой, ей такой урок пригодится». Был четвертый час дня. Лавров отложил в сторону материалы по заявлению Мироновой и, пригласив следователя, выслушал, как идет следствие по делу о недавнем хищении из магазина. Раздался телефонный звонок. Лавров взял трубку: — Слушаю вас. — Говорит Орешкин, — донеслось из трубки. — Здравствуй! — Здравствуйте, товарищ Орешкин, — ответил Лавров. — Я вот только что пришел в горотдел и мне доложили, что ты истребовал от нас материал по жалобам Мироновой и Глазыриной? — Да, этот материал у меня, — сказал Лавров. — Любопытно, зачем он тебе? Все настолько проверено, что там больше нечего делать. В горком партии доложено. Тут все ясно. Миронова просто польстилась на пенсию за этого инвалида. Но мы ее раскусили! Нас не проведешь! Кстати сказать, материал был и в краевом управлении милиции, так что наше решение везде признано правильным. Она уже жаловалась. Жалоба даже поступила из министерства внутренних дел. Краевое управление составило обстоятельную справку и послало ее в министерство. Там тоже согласились с нами. Если ты намерен заниматься проверкой — это будет напрасный труд. Лавров терпеливо все выслушал и сказал: — Я еще не ознакомился с материалом, не знаю, как и в какой мере буду проверять эту жалобу. Но ясно одно: жалоба заслуживает того, чтобы ею заняться, тем более, что по форме она разрешена неправильно… — То есть как? — не понял Орешкин. — Только суд мог окончательно разрешить жалобу Мироновой. — От этого ничего не изменится! Материалы одни и те же, а кто решал — не суть важно, формалистика! — заявил Орешкин. — Не формалистика, а процессуальная форма, которая, кстати сказать, для соблюдения законности имеет иногда решающее значение, — возразил Лавров. Этот разговор произвел на него неприятное впечатление. Тщательно изучая все материалы дела, Юрий Никифорович поставил перед собой задачу: проверить версию, что Глазырин Игорь — сын Мироновой Владимир. Если она не подтвердится, останется в силе первое решение, и тогда необходимо будет убедить Миронову в ее ошибке. В деле действительно оказались все те документы, о которых говорила Корзинкина. И Лавров подумал, что, если бы не беседа с Мироновой, он и сам, пожалуй, безоговорочно поверил бы этим документам. Но нет… Она работает, муж работает, зачем им его пенсия? И зачем брать в одну комнату больного человека, да еще чужого?.. Лавров вчитывался в официальное извещение командира воинской части о гибели танкиста Владимира Миронова. Как опровергнешь этот факт? Правда, кое-что Глазырин все-таки о себе рассказал. Может, удастся создать такую обстановку, которая расположила бы его к искренней беседе? И, может, в такой беседе выявится какой-либо нужный штрих или он вспомнит какое-нибудь событие из своей прошлой жизни… Снова и снова вчитываясь в документы, Лавров обнаруживал в них некоторые сомнительные моменты. Почему, например, этот самый Глазырин получал паспорт не в своем районе?.. А вот копия письма Мироновой гражданам деревни, где проживает семья Глазыриных:
«Люди добрые, матери, отцы! Простите, я не знаю ваших фамилий, но хочу просить вас, помогите мне! Мой сын Владимир Миронов был в армии и получил тяжелое ранение. Больной он попал в вашу деревню, в семью Глазыриных, которая отдала ему документы своего сына Игоря. Сын мой все рассказал моей знакомой, и вот я хочу спросить: вы же видели его, когда он приезжал к вам в деревню. Похож он на их Игоря или нет? Может быть, вы слыхали, где их Игорь и в каком году его не стало. А я вот, несчастная мать, теперь переживаю и не знаю, как помочь своему сыну. Прошу вас ответить мне. Люди добрые, не посчитайте за труд, ответьте!Лавров откинулся на спинку кресла. «Да-а, в письме нет фальши, в нем звучит голос матери… Миронова обращается к людям, она верит в их честность и порядочность, она просит у них помощи». Но вот и другое письмо, в нем категорически утверждается, что человек, о котором идет речь, действительно Глазырин, родом из такой-то деревни. Автор письма сообщает о себе:Миронова Дарья».
«Я житель деревни, где родился Глазырин Игорь. Я работаю все время на ответственных должностях исполкома райсовета. Игорь приезжал с женой, заходил к нам. А ту гражданку, которая якобы опознает его за своего сына, давно бы следовало привлечь к ответственности. Она следственные органы вводит в заблуждение…»Лавров колебался: с чего же начать? Все, что угодно, но Миронова честна в своем поведении, это ясно. Остается другое: женщина впала в глубокое заблуждение, внушила себе, что Глазырин — ее сын, и не может расстаться с этой навязчивой идеей. Значит, тем более необходимо тщательнейшим образом все проверить, и если она действительно ошибается — самой неопровержимостью фактов доказать ей ее ошибку. «Может попытаться всесторонне исследовать Глазырина, установить природу его психического расстройства? Хороший, вдумчивый врач, пожалуй, сумеет определить, врожденный это психоз или последствие контузий? В этом последнем случае больного надо пытаться лечить. Кто знает, возможно, что удастся хоть сколько-нибудь восстановить его память, наладить речь. Врачей — невропатолога и психиатра — надо, конечно, посвятить в суть дела. Случай настолько необычный, что может их заинтересовать…» «Но как положить Глазырина в больницу? Ведь он еще должен этого захотеть! Надо через участкового врача постараться убедить его в необходимости лечения. А пока он будет лежать, мы пошлем ряд запросов, в частности, в справочное бюро Министерства обороны: находился ли этот человек на излечении в госпиталях? Нужно будет спросить Глазырину и Миронову относительно индивидуальных примет на теле их сына — мать не может не помнить их, если они есть. А врач потом, при осмотре, сумеет убедиться в истинности показаний». На другой день Лавров сказал Александре Мироновне: — Теперь, когда я не раз и не два прочитал материалы по заявлению Мироновой и взвесил все обстоятельства, могу сказать, что нам с вами предстоит кропотливая работа. Я хотел бы, чтобы и вы, Александра Мироновна, еще раз посидели над этими материалами, подумали. Он поделился с Корзинкиной своим планом. — Но как бы нам уложить его в больницу? — спросил Юрий Никифорович. — Не попробовать ли через собес? Мы можем ввести их в курс дела, собес обратится за путевкой для своего подопечного больного, и тогда уже дело будет только за самим Глазыриным. Ему предложат подлечиться — зачем бы он стал отказываться? — Хорошо, я попробую, — ответила Корзинкина. — С врачами поговорите, Александра Мироновна, Объясните им, что нам нужно иметь не только диагноз, — это само собой. Не менее важно другое: создать больному такую обстановку, такие условия, чтобы он хорошо себя чувствовал, не спешил выписаться. Надо, чтобы с ним терпеливо и мягко беседовали, вызывали его на разговоры, рассказы о себе, о своем прошлом. Не навязчиво, конечно, а деликатно, с необходимым чувством такта. Если такой ход окажется реальным, если Глазырин «разговорится», врачи и сестры после бесед с ним должны записывать хотя бы главное… Уже к концу этого дня Корзинкина доложила Лаврову, что с заведующим горсобеса, психиатром и невропатологом она договорилась. Все трое очень заинтересовались материалом и обещали отнестись к поручению со всей серьезностью. Если не завтра, то послезавтра Глазырин будет помещен в больницу, это сделать совсем просто, так как оказалось, что участковый врач уже не раз хотел положить его на исследование, да все не было места. — Подпишите, пожалуйста, запрос в справочное бюро Министерства обороны, — попросила Александра Мироновна и положила перед Лавровым бумагу. Подписав документ, Лавров снова обратился к Корзинкиной: — Сегодня я просил Миронову зайти к вам. Вы спросите у нее, пожалуйста, не помнит ли она каких-либо характерных индивидуальных примет на теле ее сына? А вторую мать, Глазырину, мы, пожалуй, не будем запрашивать об этом — бессмысленно: она расспросит об этом свою невестку и чужие показания выдаст за свои. Это только собьет нас с толку. Если какие-то приметы есть и если Миронова верно назовет их, это будет уже кое-что, не правда ли, Александра Мироновна?..
II
Проверку положения в тресте нельзя было откладывать. Лавров позвонил в горком партии. — Здравствуйте, товарищ Туманов. Мы хотим приступить к проверке того, как соблюдается законность в городском строительном тресте. Я хотел узнать, не поступали ли к вам какие-либо тревожные сигналы от рабочих этой организации? — Положение в тресте мы знаем, — ответил заведующий промышленным отделом Туманов. — Недостатков там хватает. Вот займитесь проверкой, а потом посоветуемся. Надо предпринять что-то радикальное. — В таком случае, у меня к вам, товарищ Туманов, будет просьба. Я хотел бы привлечь к этому делу и профсоюзных работников, причем не только из строительного треста, а и с других предприятий. Так, я полагаю, мы большего сумеем добиться. — Пожалуй, — поддержал Туманов. — Так не порекомендуете ли вы нам таких товарищей? Это дня на три, не больше. Туманов немного подумал и назвал Лаврову фамилии нескольких профсоюзных активистов. Договорившись с ними, Юрий Никифорович занялся составлением плана предстоящей проверки. Он перечитал имеющиеся в прокуратуре жалобы, дела, восстановил в памяти ряд положений из законодательства. «Остальное подскажут товарищи из профсоюза, — решил он. — Им многое виднее…» В десятом часу утра он был уже в строительном тресте и, познакомившись с управляющим, объяснил ему цель своего прихода. — Очень приятно, — ответил Бессонов. — Садитесь, пожалуйста. — Много жалоб на нарушение законности поступает к нам от ваших рабочих, — сразу начал Лавров. — Жалобы? На нарушение законности? Какой законности? — недоумевал управляющий треста. — Советской законности, — ответил Юрий Никифорович. — Не-ет, таких фактов вы у меня не установите! — Был бы очень рад, — заметил Лавров. — А как и что будете проверять? — снова спросил Бессонов. — Очевидно, товарищи скоро подойдут, вот мы вместе и обсудим план действий. Кабинет у управляющего трестом был чрезвычайно просторен, с лепным потолком, стенами под дуб. На письменном столе красовался «антикварный» чернильный прибор с фигурками, позолоченными рапирами, теннисными ракетками и веслами. Бронзовые подсвечники, стаканчики и подносики являлись, видимо, приложением к уникальному прибору. Вскоре подошли члены комиссий. — Вы не знаете, — обратился Лавров к Бессонову, — секретарь парткома и председатель постройкома сейчас у себя? — Должны быть у себя, — ответил Бессонов. — Я их вызову. — Не стоит. Мы, пожалуй, сами пройдем к секретарю парткома Шевцову и там поговорим. — Да, не-ет! Там очень маленькая комнатка, — возразил Бессонов. — Заседания партбюро мы обыкновенно проводим здесь… Но Лавров уже встал. Встали и остальные. Только Бессонов продолжал сидеть. — Хотелось бы и вас, товарищ Бессонов, видеть на этом маленьком совещании. Бессонов вышел из-за стола и направился впереди группы.В течение трех дней участники бригады, созданной по инициативе прокурора города, проверяли положение дел в строительном тресте. Разговаривали с людьми, проверяли условия их работы, жилищно-бытовые условия, соблюдение законодательства о труде. Когда проверка подходила к завершению, были осмотрены все общежития, столовые, клуб. Юрий Никифорович интересовался тем, соответствуют ли законам приказы по тресту, в каком состоянии техника безопасности, как охраняется социалистическая собственность. В эти дни он бывал в прокуратуре не более полутора-двух часов. Проверка подходила к концу. По инициативе Лаврова члены бригады периодически собирались, советовались. По окончании работы они обсудили все материалы и сообщили руководителю треста о замеченных недостатках. — У вас, товарищ Бессонов, есть возражения? — спросил Лавров. — Очевидно, будут. Но для этого мне надо покопаться в документах. — Документы — дело хорошее, — согласился Лавров, — но они не заменяют общения с людьми. Оно дает больше. Я, например, пришел к твердому убеждению, что многое у вас в тресте делается в обход законов. Об этом говорят люди и факты. Как вы, товарищи, считаете? — обратился Лавров к членам бригады. Все подтвердили справедливость этих выводов. — Мы ознакомили вас, товарищ Бессонов, с результатами проверки, — продолжал Лавров. — Выводы будем делать не мы, но одно могу сказать: объяснение предстоит серьезное. И я думаю, что вам не стоит дожидаться этих выводов, а гораздо полезнее будет сейчас же принимать меры к устранению тех недостатков и нарушений законности, с какими мы здесь столкнулись.
Через три дня прокурор Лавров в присутствии всех членов его бригады и Туманова информировал секретаря горкома партии Давыдова о результатах проведенной проверки. — …В тресте грубо нарушается трудовое законодательство, — говорил он. — Управляющий позволяет себе незаконно увольнять рабочих и служащих. В прошлом году Бессонов незаконно уволил одиннадцать человек, а суд их всех восстановил на работе. В этом году он незаконно уволил еще шесть человек. Бессонов делает все, что хочет. Работницу Никулочкину, например, он уволил только за то, что, будучи беременной, она отказалась от перехода на другую, более тяжелую работу. Народный суд восстановил Никулочкину, но, вместо того, чтобы сделать из этого факта правильные выводы, Бессонов завел судебную тяжбу, обжаловал решение в краевой суд, а когда и краевой суд подтвердил — в течение двух месяцев не допускал Никулочкину к работе. — В тресте игнорируются правила техники безопасности, — продолжал прокурор. — Мы установили, что количество травм на производстве увеличилось: в прошлом году было двенадцать случаев, в этом году уже пятнадцать. И не во всех случаях материалы передаются в следственные органы. Отсутствует охрана труда подростков. Они работают столько же, сколько взрослые. За шесть месяцев этого года не было случая, чтобы зарплата выдавалась своевременно, ее задерживают иногда на восемь-десять дней. Спецодеждой рабочие не обеспечены. Бессонов систематически допускает сверхурочные работы без ведома профсоюзных органов. А когда мы разобрались, то оказалось, что вообще никакой необходимости в сверхурочной работе нет. Рабочие очень часто простаивают из-за неорганизованности и необеспеченности строительными материалами. Двадцать пять процентов простоев! Понятно, как сказывается это на заработках рабочих. Наряды на работы выписываются, как правило, после выполнения работ, что тоже ненормально. Профсоюзная и партийная организации мало и плохо работают с народом. Только в этом году трое рабочих треста привлечены к суду за хулиганство, четверо — за хищение социалистической собственности, двое — за другие преступления. Причем случаи эти проходят мимо администрации и общественности, на них никак не реагируют… Лавров рассказал и о том, что в тресте допущены растраты. У заведующего складом Медведева, например, обнаружена была недостача на сумму 18 тысяч рублей. А материалы ревизии лежат в тресте шестой месяц и не передаются в следственные органы. — Установлена система приписок к выполненному объему работ, — говорил далее прокурор. — Молодежные общежития в плохом состоянии: не во всех окнах есть стекла, в комнатах холодно, жилая площадь распределяется неправильно. Например, личный шофер товарища Бессонова, одинокий, холостой парень, получил двухкомнатную квартиру со всеми удобствами, а начальник участка, инженер-строитель, имеющий жену и двух детей, живет в пятнадцатиметровой комнатке. Сам Бессонов плохо заботится о культуре и быте коллектива строителей, а профсоюзная организация да и партком занимают позицию созерцателей. — Да-а, ничего себе обстановка в тресте! — выслушав Лаврова, заметил Давыдов. — О каком же выполнении плана строительства может идти речь, если в тресте такое ненормальное положение? Придется нам ставить этот вопрос на очередном заседании бюро. Вы, товарищ Лавров, оставьте нам, пожалуйста, материалы проверки. — Видите ли, Семен Сергеевич, у меня был несколько иной план, — сказал Лавров. — Не целесообразнее ли вначале выступить на открытом партийном собрании строителей? Мы доложим народу результаты, рабочие сами оценят деятельность их руководителей. Я уверен, что такое собрание даст нам дополнительный материал. А уж потом, все вместе, можно будет вынести на заседание бюро горкома. Да и Бессонова полезно послушать. Пусть сначала отчитается перед своим коллективом, а уж потом перед бюро… Давыдов посмотрел на Туманова, как бы спрашивая его мнения, и Туманов тут же встал. — По-моему, Юрий Никифорович прав, — сказал он. — Ведь такое собрание много нам даст, мы будем прежде всего знать, как оценивает положение дел в тресте сам коллектив строителей. — Верно, — согласился и Давыдов. — Мы приедем на это собрание, а товарища Лаврова попросим доложить о работе бригады. Условились? И, обращаясь к Туманову, Давыдов попросил его согласовать с секретарем парткома Шевцовым день и час собрания.
III
Через четыре дня Корзинкина сообщила Лаврову, что Глазырин в больнице. — Знаю, — ответил Лавров, — ко мне час назад приходила его жена, возмущалась. Она, видимо, догадывается, что проверка жалобы Мироновой возобновлена. Говорила, что они должны были поехать к нему на родину, а тут вдруг является участковый врач с путевкой. В общем, жаловалась мне, кричала, грозила… — И что же вы ей ответили? — Да ничего! Сказал, что когда больного человека кладут в больницу, надо благодарить, а не жаловаться на врачей. Но ее это не удовлетворило, и, уходя, она заявила: «Я буду писать дальше. Вы хотите загубить человека. Вы издеваетесь над ним» — и тому подобное. Миронову «помоями» обливала. Вообще она производит тяжелое впечатление. Вам не кажется? — Да, как говорится, «у злой Натальи все люди канальи». Ведет она себя действительно странно, работать не хочет, ссылаясь на больного мужа, а фактически сидит на его шее. Но это все — субъективные ощущения и впечатления. На них мы не можем строить свои выводы: нужны доказательства. — Да я и не собираюсь, — сказал Лавров. — Но иной раз и интуиция приходит на помощь. Документ можно и подделать, мы с вами это знаем. А вот личного впечатления о человеке искусственно не создашь, хотя проверять это впечатление, конечно, необходимо. Александра Мироновна достала из кармана кителя какую-то бумагу, положила перед Лавровым. — «Диагноз — хронический энцефалит, — вслух начал читать он. — На наружной поверхности правой голени рубец 5 на 3 и на наружной поверхности левой стопы рубец 2 на 2, по-видимому, после слепых осколочных ранений». В справке было приписано, что «причинной связи инвалидности с пребыванием на фронте не установлено ввиду отсутствия документов, определяющих личность». — Все это пока предположительно, неопределенно, — пояснила Корзинкина. — Слишком мало времени прошло. Но одну новость я вам уже сейчас могу сообщить: под левой лопаткой у Глазырина есть родимое пятно, о котором мне говорила и Миронова. Правда, она никак не могла вспомнить под левой или под правой, но, что пятно есть, сказала и просила меня записать. — Ну, это уже кое-что, — задумчиво сказал Юрий Никифорович… — Что ж, будем действовать дальше. Только не следует торопиться…Прошло еще две недели. Утром к Лаврову зашла Корзинкина. Она заметно волновалась. — Я была в больнице. Говорила с врачами. Позавчера вечером Глазырин рассказал дежурной сестре то, о чем он говорил приятельнице Мироновой. В его рассказе была одна новая и, кажется, интересная деталь. Оказывается, когда он служил в армии, его часть отдыхала в Курской области, — у меня записано название этого городка. Там он женился на какой-то Зинаиде Солдатовой. Отчества ее не помнит. Надо бы сейчас же получить от нее объяснение, послать туда две-три его фотографии, одну из них — последнего периода. — Да, это может многое нам дать, — обрадовался Лавров. — Давайте запросим адресное бюро этого города. Или нет. Лучше попросим прокурора, пусть сам все выяснит и обстоятельно нам напишет. — А фотографии? Где нам взять последнюю его фотографию? — спросила Александра Мироновна и, не дожидаясь ответа, воскликнула: — Придумала! Сейчас я побегу в редакцию газеты, вызову фотокорреспондента и попрошу его сходить в больницу. Пусть скажет, что готовит фотоочерк, и, чтобы этот Глазырин, ничего не заподозрил, снимет пять-шесть больных, в том числе и его. — Ну вот как вы изобретательны! — улыбнулся Лавров. — А как он себя чувствует? Не лучше? — Врачи говорят, что ему можно помочь. Уже сейчас он более активно реагирует на окружающее, выправляется речь. Я-то к нему, конечно, не заходила, но беседовала с сестрами и палатным врачом. В первые дни вообще не хотел лечиться, а сейчас уже слушается, принимает лекарства, дает делать себе уколы…
IV
Оставшись один, Юрий Никифорович занялся изучением уголовного дела, по которому должен был выступить в качестве обвинителя. Он делал заметки на листках бумаги. «В течение двух лет гражданка Белоконь спекулировала дефицитными товарами. Как могло случиться, что совершенно здоровая тридцатипятилетняя женщина длительное время не работала и безнаказанно занималась спекуляцией? Почему ни соседи, ни домоуправление, ни, наконец, участковый уполномоченный милиции не обращали на это внимания? — думал Лавров. — Ну, хорошо. Некоторые сорта шерсти, шелка — это у нас пока в дефиците. Но синька? Белоконь получит свое, но почему руководители торгующих организаций искусственно создают условия для спекуляции? Это далеко не второстепенный вопрос…» — Мария Ивановна, попросите ко мне Гончарова, — обратился Лавров к секретарю. Через несколько минут вошел помощник прокурора по судебному надзору Гончаров. — Здравствуйте, Юрий Никифорович! Я вам нужен? — Присаживайтесь, Николай Николаевич. Я ознакомился с делом Белоконь, обвиняемой по 107 статье УК. Мне кажется, что следовало бы вообще проанализировать дела о спекуляции, рассмотренные судами в прошлом году и за прошедшие месяцы текущего года. Надо выяснить, чем спекулируют? Вот Белоконь спекулировала синькой и шерстяными отрезами. Но я сомневаюсь, что синька у нас в дефиците. Работники, торгующих организаций могут сделать так, что и спички, и соль будут дефицитными, — это в их руках. А спекулянты ориентируются быстро, уж они-то следят, за «конъюнктурой». В общем, Николай Николаевич, изучите, пожалуйста, эту категорию дел, подберите материалы, и тогда мы сумеем предотвратить те искусственные трудности в снабжении, которые на руку спекулянтам и разного рода махинаторам от торговли.В день, когда было назначено к слушанию дело Белоконь, судья Логинова, увидев Лаврова в суде, спросила: — Вы, Юрий Никифорович, сами будете поддерживать обвинение по делу Белоконь? — Да, я. — По такому несложному делу? Разве больше некому? — В этом деле есть интересные для меня обстоятельства, — сказал Лавров и спросил: — А у вас сегодня одно дело? — Уголовное? Да. Но есть еще два гражданских: одно трудовое — о восстановлении на работе, другое — бракоразводное. Вошла секретарь суда. — В зале все готово, — сказала она. — Начнем, — встала Логинова и вслед за народными заседателями — пожилым мужчиной в рабочем комбинезоне и женщиной лет сорока — прошла в зал. Лавров последовал за ними и занял свое место. В ходе процесса Юрий Никифорович заявил ходатайство о вызове в суд соседей Белоконь. На вопросы прокурора, почему Белоконь в течение двух лет не работала и на какие средства существовала, подсудимая ответила: — Раньше я работала в магазине продавцом, меня уволили по пункту «в»[1]. — Ввиду утраты доверия? — уточнил прокурор. — Как вам сказать… так записали. А потом никуда на работу не брали, хотя я и обошла все торговые точки, столовые, буфеты… — На заводы, на стройки вы не обращались? — спросил Лавров. — Нет, я ведь до этого работала в торговле. — При каких обстоятельствах вы были задержаны? — Я была на рынке. Ко мне подошли три женщины и спросили синьку, а затем одна из них куда-то исчезла. Я на это не обратила внимания. Возвратилась она уже с работником милиции, и все четверо увели меня в милицию. При мне было килограмма два синьки и дома, кажется, тридцать пять килограммов. Меня арестовали, и вот я сижу уже второй месяц. — Вы систематически спекулировали синькой? Где вы ее приобретали? — продолжал спрашивать прокурор. — Нет, синьку я продавала не каждый день. Я ее выносила только тогда, когда ее не было в магазинах. Пожилая скромно одетая женщина, соседка подсудимой, на вопрос судьи ответила: — Белоконь давно не работает, живет, не нуждаясь, периодически уезжает куда-то. Мы подозревали, что она спекулирует. — Почему же, подозревая это, вы молчали? — спросил Лавров. — Да мы как-то говорили своему участковому уполномоченному Горбань. Он отвечал, что «проверяет». А потом мы видели, что Горбань ходил к Белоконь, подолгу у нее засиживался, выходил навеселе. Что ж ему говорить?.. Лавров спросил у подсудимой, подтверждает ли она показания свидетеля? — Да, раза два или три он приходил, но только водки не пил, — ответила подсудимая. Судебное следствие заканчивалось. Наконец, слово для поддержания обвинения было предоставлено Лаврову.
V
Собрание парторганизации строительного треста назначили в клубе на шесть часов вечера. Лавров и Корзинкина приехали минут за десять. Вскоре появились Давыдов и Туманов. Лавров заметил их, когда они беседовали с секретарем парткома Шевцовым, и подошел. Давыдов интересовался, хорошо ли подготовлено открытое партийное собрание, извещен ли народ о повестке дня. Зал клуба строителей был рассчитан человек на двести. Большинство мест было уже занято. Бессонов явился перед самым открытием собрания с папкой, набитой какими-то бумагами. Собрание открыл Шевцов. Избрали президиум. — Слово для доклада имеет прокурор города товарищ Лавров, — объявил Шевцов. В зале наступила полная тишина. Лавров направился к трибуне. — Товарищи! — начал он. — На днях с группой профсоюзных активистов мы провели в вашем тресте проверку соблюдения социалистической законности и о результатах информировали городской комитет партии. Руководство горкома поручило мне доложить вам о том, что мы вскрыли и заметили за дни проверки. Думаю, что сегодняшнее собрание будет полезно и вам, и нам и в результате обмена мнениями и откровенного, прямого разговора перед нами возникнет правдивая и ясная картина деятельности вашего треста, его руководителей и рядовых рабочих… Прежде чем рассказать о том, как в вашем тресте соблюдается законность, я хотел бы напомнить вам один знаменательный эпизод. Однажды управляющий делами СНК отказал в приеме на работу в секретариат новой сотрудницы, так как это противоречило декрету «Об ограничении совместной службы родственников в советских учреждениях». Секретарь СНК обратился к Владимиру Ильичу с письменным ходатайством о приеме указанного лица, как ценного работника, причем обращение заканчивалось словами: «нельзя ли обойти декрет». Владимир Ильич ответил секретарю СНК, что за одно только предложение обойти декрет отдают под суд… Этот случай, имевший место в 1919 году, говорит о том, с каким уважением относился Ленин к социалистической законности, как охранял ее от малейших посягательств… Лавров говорил просто, доступно, и слушали его с большим вниманием. Он приводил факты нарушения законности, допущенные в строительном тресте, делал выводы из этих фактов, называл должностных лиц, повинных в нарушении законов. Бессонов, сидя в президиуме, ни разу не поднял головы и торопливо записывал что-то в своем блокноте. Первым в прениях выступил высокий худощавый человек, заместитель главного бухгалтера Клепочкин. Опершись правой рукой на трибуну, он обвел взглядом зал, чему-то улыбнулся и начал: — Я так скажу. Первое: кто есть уважаемый нами товарищ Бессонов? И вкрадчивым голосом ответил самому себе: — Товарищ Бессонов есть человек большой души и, как писал товарищ Максим Горький, — человек с большой буквы. Это я вот к чему. Кто несет на себе груз руководства трестом? Товарищ Бессонов. Кто за все в ответе? Опять же он. А теперь скажите: кто больше всех о нас беспокоится, может, ночами не спит?.. — Да брось ты! — послышалось из зала. И смешок прокатился по рядам. — А чего бросать? — взмахнул рукой Клепочкин. — Я дело говорю. Забыли, как он столовую построил, двухэтажный дом для рабочих отгрохал? — И тещу твою туда поселил, — добавили из зала. — Факт? Клепочкин кашлянул, отпил из стакана глоток воды. — Вот я и говорю. Ошибки, конечно, есть. Но, товарищи, мы же коллектив! Мы и должны за все отвечать. Нас много, а товарищ Бессонов-то один! Он старается для нашей же пользы… Для общего дела. Он способный человек, талантливый, он руководитель треста! Это же не шутка! Если его снимут, что же с трестом будет? Подумайте об этом! В зале поднялся такой шум, что Клепочкину пришлось умолкнуть. Бессонов совсем опустил голову, лицо его налилось краской, на лбу выступили крупные капли пота. «Идиот! — раздраженно думал он о Клепочкине. — Подлая душонка, подхалим!.. И как это я его раньше не раскусил?» Собрание продолжалось. Почти все выступавшие говорили, что в методах работы Бессонова много бюрократизма, к рабочим он относится невнимательно, перестал считаться с коллективом… В своем выступлении Бессонов пытался смягчить краски. — Нарушения действительно допускались, — говорил он, — но прокурор представил все в слишком мрачном свете… От фактов трудно было уйти, но Бессонов приводил все новые и новые аргументы в свое оправдание и в заключение заявил: — Многие уволенные нами рабочие действительно судом восстановлены. Ну что же, если суд и прокуратура занялись расстановкой кадров в нашем тресте, пусть они и отвечают за выполнение плана строительства. Чувствовалось, что это было венцом его аргументации. И действительно, захлопнув блокнот, Бессонов сошел с трибуны. В заключение выступил Давыдов, упрекнувший руководителей в том, что они плохо охраняют права рабочих и служащих. — Да и партийное бюро тоже мало делало в этом направлении, — говорил секретарь горкома. — Чем иначе можно объяснить поведение управляющего трестом товарища Бессонова? Ведь он показал себя каким-то удельным князьком! А выступление товарища Бессонова показало, что он не понял своих ошибок, не разобрался еще в своей собственной позиции. Полагаю, что к моменту, когда мы будем слушать начальника треста на заседании бюро горкома, он сумеет стать на более объективную позицию и правильно оценить деятельность стройтреста. Если же не сумеет, мы постараемся ему помочь…VI
Вскоре в прокуратуру поступили материалы из Ростовской области и от городской прокуратуры Курской области. Городской прокурор писал:«Сообщаю, что гражданка Солдатова Зинаида в городе проживающей не значится, прилагаю справку адресного бюро. В числе ранее прописанных в городе и выбывших также не значится, в этих целях проведена проверка архива с 1943 года моим помощником и работником адресного бюро».Лавров был удивлен. «Выходит, за нос водит нас этот Игорь-Владимир? Или, может, коллега что-то напутал? Да, были паутинные нити и те обрываются. Но зачем он говорил, что забыл отчество жены? Или это выдумка?..» Он вызвал Александру Мироновну, протянул ей документ. — Подождите… То есть как не проживала? — не поверила она прочитанному. — Может, он город перепутал? Нет, он дважды назвал медсестре Наде именно Курск. Зачем бы ему врать? А вот почему эта гражданка не значится у них проживающей — это другой вопрос. Может быть, просто плохо проверили. Кому хочется рыться в архивах десятилетней давности! — Да, но что можно сделать еще? — пожал плечами Лавров. — Не станем же мы на этом успокаиваться! Оба задумались. — Давайте запросим областной адресный стол. Хотя запрос могут не выполнить без отчества и точной даты рождения… — Все-таки попробуем, — поддержал Лавров. — Если мать получила извещение о его гибели, а, насколько я знаю, такие извещения шли всегда через военкоматы, то такое же извещение должны были послать и жене. Подготовьте одновременно запросы в областной адресный стол и горвоенкому. А, может, что-нибудь есть и в военкомате. Попросите побыстрей ответить. Корзинкина собралась уходить, но в дверях остановилась и спросила у Лаврова: — Может быть, копию письма, посланного в адрес военкома, послать прокурору города? — Нет, не нужно. Он еще позвонит военкому, скажет, что уже проверял, и дезориентирует его. Только военкому! И отдельно — в областной адресный стол. В течение последующих пяти дней ничего нового установить не удалось. Корзинкина опять пошла в больницу. Оказалось, что два дня назад, поздно вечером, Глазырин попросил у палатного врача снотворное. Врач, женщина умная и чуткая, сказала больному, что не советует ему злоупотреблять наркотиками. И между ними состоялся примерно такой разговор: — Лучше постарайтесь так заснуть, а то по утрам вы жалуетесь на головную боль. Это — от снотворного, — сказала невропатолог Анна Борисовна. — Не спится, — ответил больной. Он был взволнован, и врач не могла не заметить этого. — Хотите я посижу около вас? — предложила она. — Поговорим тихонько. Я все равно дежурю. Глазырин заметно обрадовался. Он устроился поудобнее и, опершись щекой на ладонь, стал, медленно припоминая, рассказывать о городах, которые повидал, занимаясь нищенством. Иногда он надолго умолкал, закрывал глаза, и Анна Борисовна, решив, что больной заснул, порывалась встать я уйти. Но он удерживал ее за руку и продолжал свой рассказ. — А года четыре назад, — говорил он, — в Краснодаре, в трамвае, один мужчина сказал, что знает меня, и рассказал, что мы лежали в одном госпитале в 1945 году. Спрашивал, почему я убежал из госпиталя… — Как же его фамилия, вы помните? — спросила Анна Борисовна, быстро сообразив, что это может понадобиться следствию. — Не знаю фамилии, не спросил. Только помню, что на нем была какая-то форма, то ли железнодорожная, то ли связи. — Это было именно в Краснодаре? — Да. Выслушав рассказ врача, Александра Мироновна поспешила в прокуратуру: «Как же установить в Краснодаре этого человека в форме железнодорожника или связиста? — думала она. — Посоветуюсь с Юрием Никифоровичем…» У Лаврова сидел заместитель, Степан Николаевич Рябинин. Разговор шел о предстоящей проверке работы милиции. Увидев Корзинкину, Юрий Никифорович сказал: — Заходите, Александра Мироновна, у нас как раз дело подошло к концу. Корзинкина присела на краешек дивана и, дождавшись, когда Рябинин вышел, начала: — Я была сейчас в больнице. Понимаете, Глазырин сказал, что года четыре назад встретил в трамвае… — Знакомого по госпиталю? — перебил Лавров. — А вы из каких источников это узнали? — По радио, Александра Мироновна, — пошутил Лавров. — Я ведь не знал, что вы туда идете, и только что звонил в больницу, говорил с невропатологом. Она мне сказала главное, а остальное надеюсь услышать от вас. — Да, — подтвердила Александра Мироновна, — но сведения об этом человеке очень скудные: встретились в Краснодаре, и на том человеке была форма — железнодорожная или связи. Но их же там, железнодорожников и связистов, сотни, если не тысячи! Как искать? — И все-таки искать надо, — твердо сказал Лавров. — Если мы его найдем, многое будет ясно. Но как искать? Давать поручение местной прокуратуре? Это может оказаться бессмысленным. Знаете что, Александра Мироновна, поезжайте-ка в Краснодар и начинайте розыск с отдела кадров железной дороги, — предложил Юрий Никифорович. — Установите, кто из железнодорожников был на фронте ранен, поговорите с этими людьми. Конечно, возьмите с собой фотографию Глазырина. — Но там же не один отдел кадров? — Что ж, сколько есть! — вздохнул Лавров. — Если на железной дороге не установите, переходите в связь. Иного пути я, к сожалению, не вижу. Можете вы поехать? Справится ваша свекровь с девочкой? — Да, думаю, что справится. Я ведь, к сожалению, очень мало помогаю по хозяйству, не успеваю. Так что у нас весь дом на бабушке держится. — Вот и хорошо. Оформляйте командировку и езжайте. — Послезавтра я выеду, — сказала Александра Мироновна и вышла. Зазвонил телефон. — Слушаю вас. — Здравствуйте, товарищ Лавров. Говорит Шевцов. — А-а, здравствуйте, товарищ Шевцов! — Вас устроит вторник и среда для лекций? — Вполне. Только пригласите, пожалуйста, побольше людей. Мне кажется, что темы лекций могут заинтересовать народ. Лавров положил телефонную трубку, закурил и углубился в чтение очередного дела.
Приехав в Краснодар, Корзинкина зашла к участковому прокурору и уточнила, где и какие отделы кадров имеются. Их оказалось пять. В первом отделе кадров выяснилось, что два железнодорожника действительно во время войны служили в армии, но, когда Александра Мироновна поговорила с ними, оказалось, что они не знают Глазырина. Ни к чему не привело и ознакомление с личными делами других отделов кадров, и беседы с двадцатью тремя работниками транспорта. Затратив на это три дня, разочарованная Корзинкина покинула станцию Краснодар. Приехав в краевую прокуратуру, Александра Мироновна зашла в отдел общего надзора, рассказала о цели приезда и встретила очень сочувственное отношение. — Надо найти во что бы то ни стало! — сказали ей. — Позвоним в управление связи, пусть и они дадут вам все личные дела сотрудников, бывших в этот период на фронте. Но там оказалось всего лишь три дела, хоть сколько-то заслуживающих внимания. С двумя работниками Александре Мироновне удалось побеседовать в тот же день, а беседу с третьим пришлось отложить, так как его на работе не оказалось. Но разговор с ним на второй день оказался столь же безрезультатным. Больше здесь оставаться не имело смысла. Утомленная кропотливым трудом Александра Мироновна проверяла себя: «Все ли я сделала? Не упустила ли еще какой-нибудь возможности?» Большие часы на центральной улице города показывали шестой час. В краевую прокуратуру возвращаться было поздно. Корзинкина заглянула в магазин, купила дочке игрушку и несколько новых книжек. Потом взяла билет на девятичасовой сеанс в кинотеатр и направилась в гостиницу. Пообедав, она решила почитать, но сосредоточиться не смогла, вышла, больше часа бродила по городу, мучительно изобретая путь к розыску, неизвестного человека, затем рассеянно глядела какой-то неинтересный фильм и, пожалев об убитом времени, вернулась в свой номер. Весь этот день Александра Мироновна ловила себя на мысли, что она не может спокойно проходить мимо людей, одетых в форму железнодорожников или работников связи, так и тянет подойти, заговорить… И только сейчас, по дороге из кино, она подумала: «Но почему, собственно, он должен быть в форме? Это же просто глупо! Во-первых, по городу ему вовсе не обязательно ходить в форме, а во-вторых… И как это я раньше не подумала? Ведь я проверила личные дела только тех, кто работает! А встреча состоялась четыре года назад! За это время человек мог и уволиться, и быть переведенным в другой город, тем более, если он железнодорожник. Как же я сразу не сообразила?» В девять часов утра она снова была на вокзале, в отделе кадров, и попросила личные дела на уволенных и переведенных сотрудников. Затем пересмотрела дела еще в одном отделе кадров, но тщетно. И вот, наконец, в третьем отделе кадров ее внимание привлекло личное дело бывшего помощника дежурного по станции Бурмистрова, который действительно был на фронте, имел ранения, лежал в госпитале и именно в то время, какое называл Глазырин. — А где сейчас работает Бурмистров? Начальник отдела кадров ответил, что Бурмистрова вообще не знает, так как работает здесь всего лишь год, а тот уволился раньше. — А кто может сказать, где он работает? Есть здесь товарищи, которые его знают? — Надо обратиться к дежурному по станции, может, он помнит. Начальник отдела кадров позвонил по телефону дежурному по станции. Тот сообщил, что вообще такого товарища помнит, но где он сейчас, не знает. В адресном столе Бурмистров значился выбывшим, куда — неизвестно. Но теперь уже Александра Мироновна не отчаивалась. Разыскать-то она разыщет, но вот что он ейскажет — это другое дело! В райкоме партии удалось установить район, куда направлена учетная карточка члена КПСС Бурмистрова. Район этот находился от краевого центра в семидесяти километрах. Получив эти сведения и сличив их со своими записями, Александра Мироновна убедилась в том, что Бурмистров уехал на родину. «Пожалуй, подожду туда ехать, — подумала она. — Попытаюсь через крайпрокуратуру связаться по телефону с прокурором района и попрошу его найти Бурмистрова, поговорить с ним. Тогда будет ясно, нужно ли ехать». Она вошла в приемную краевого прокурора и обратилась к референту: — Елена Порфирьевна, мне очень нужно поговорить по телефону с прокурором района. Помогите мне в этом. — Срочный разговор? — спросила Елена Порфирьевна. — Проверяю очень запутанную жалобу и нужно разыскать одного человека, который, по предварительным данным, проживает в том районе. — Сейчас сделаю заявку. Садитесь. Елена Порфирьевна позвонила на междугороднюю станцию, и вскоре уже Корзинкина беседовала с прокурором Телегиным. Рассказав ему суть дела, она попросила: — Только, пожалуйста, сделайте это сегодня же. Я буду ждать вашего звонка здесь, у Елены Порфирьевны. Видимо, мне придется приехать к вам: у меня есть фотография этого парня. В общем, жду звонка.
Телегин позвонил в шестом часу вечера. Взяв телефонную трубку, Корзинкина почувствовала, что ее рука дрожит от волнения. — Бурмистрова я разыскал, — донесся до нее голос прокурора. — Он подтверждает все, что вас интересует. — Неужели?! — воскликнула Александра Мироновна. — Ох, как я вам благодарна, товарищ Телегин. Очень прошу — пригласите его завтра в прокуратуру, часам к одиннадцати утра. А я у вас буду часов в десять. Ведь до вас добраться несложно? — Автобусом. — Чудесно! Еще раз — большое вам спасибо! Завтра увидимся. До свидания! Она положила трубку. — Ну, как? — поинтересовалась Елена Порфирьевна. — Теперь все уже будет ясно по этой жалобе? — Как знать? Мне давно казалось, что все ясно, а оказывается — я ошибалась. Да еще как! Так что боюсь сказать. Все зависит от того, что сообщит Бурмистров.
В двенадцать часов дня Корзинкина сидела за столом в районной прокуратуре. Дежурный по станции Бурмистров охотно и обстоятельно отвечал на ее вопросы, рассказывал о себе. — Госпиталь, в котором я лежал после тяжелой контузии, находился в лесу, между деревнями Петухи и Сосновка Курской области. В начале 1945 года, примерно в феврале, к нам привезли тяжело раненного и сильно контуженного Владимира Миронова. Отчества его я не знаю, ни к чему было. Мы лежали в одной палате. И еще с ними было четверо раненых. С двумя из них я и сейчас изредка переписываюсь. Хорошие товарищи. Один был ефрейтором, а другой — лейтенантом. А Володя Миронов тогда находился в тяжелейшем состоянии. Он часто терял сознание, а иногда был сильно возбужден, забивался порой под кровать, прятался за тумбочку. Мы с товарищами часто вытаскивали его, вообще помогали сестрам ухаживать за ним, очень был трудный больной. В армии он был сержантом, контузию получил, как я слышал, подрывая немецкий танк. Пролежал он с нами месяц с небольшим и однажды сбежал из госпиталя. Больше я его так и не видел. А лечили нас, как сейчас помню, врачи Наталья Сергеевна — вот только фамилию ее забыл — и Виктор Иванович Величко… — Но как же вы говорите, что больше не видели Владимира? — испугавшись, прервала Александра Мироновна. — Да нет, это я говорю — тогда не видел, не нашли его… А года три или, может, четыре назад у остановки трамвая я совершенно случайно заметил мужчину. Одежда на нем была совсем плохонькая, никудышная. Смотрю я на него и думаю: «Да это же Володя!» Подошел ближе и говорю: «Володя!» А он молчит. Я ему опять: «Володя! Ты что, не узнаешь? Здравствуй! Как живешь? Мы же с тобой вместе, помнишь, в госпитале были?» — «А-а, помню, помню», — ответил он. Я ему опять: «Ты ж Миронов, Володя?», а он мне: «Ну, я…» А сам грустный такой стоит, потерянный. Корзинкина положила перед Бурмистровым три фотографии разных людей. Тот надел очки и в то же мгновенье указал на одну фотографию. — Вот он! Как же не узнать! А что он, товарищ прокурор, бед что ли каких натворил? Больной же человек, что с него возьмешь… Корзинкина коротко объяснила в чем дело. Бурмистров подписал свое объяснение и хотел было уходить, но Александра Мироновна, поблагодарив его и извинившись за беспокойство, сказала: — Возможно, что вас попросят приехать в суд в качестве свидетеля. Ваши показания очень важны. Они помогут объективно разобраться в этом запутанном деле. — Приеду! — твердо пообещал Бурмистров и, вздохнув, добавил: — Да, история у Володи Миронова вышла тяжелая. И чего только эта проклятая война не наделала!.. Через полчаса Александра Мироновна говорила по телефону с Лавровым. — Как вы попали в этот район? — кричал Юрий Никифорович. — Говорите громче, я плохо вас слышу! — Этот человек оказался здесь!.. Слышите? Он здесь! — повторяла Александра Мироновна. — Что? Вы установили? — Да! — Теперь все ясно? В трубке что-то отчаянно затрещало, и вдруг все помехи куда-то исчезли. До Корзинкиной донесся ясный и спокойный голос Лаврова: — Говорите, я хорошо вас слышу… Она рассказала, как вела поиски Бурмистрова и чего добилась. — Очень хорошо! А я вчера получил письмо горвоенкома. Он сообщает, что Зинаиде Солдатовой вручалось извещение о гибели Миронова Владимира Сергеевича. Теперь все в полном порядке. Возвращайтесь поскорее. — А никаких дополнительных поручений у вас ко мне нет? — спросила Корзинкина. — Нет, нет, приезжайте!.. На другой день, сидя в кабинете Юрия Никифоровича, Корзинкина читала два новых документа, поступивших в ее отсутствие: письмо от горвоенкома и заключение специальной экспертизы, о которой Лавров сказал: — Пока вы ездили, я привлек в качестве экспертов одного полковника и работника отдела народного образования. Они беседовали с Мироновым и вот, как видите, пишут: «Глазырин-Миронов имеет познания в воинском уставе, в устройстве танка и его действий, имеет некоторые знания по арифметике, географии, литературе, а также немецкому языку. Правдоподобно рассказывает о боевых действиях…» Слышите? — удовлетворенно воскликнул Лавров. — А ведь настоящий Глазырин был дефективным от рождения, нигде не учился и ничего из того, о чем сказано в этой бумаге, не мог бы знать. Заключение этой экспертизы подкрепляют показания граждан и другие материалы, имеющиеся у нас с вами… — Что же, пусть Миронова подает заявление в суд? — спросила Александра Мироновна. — Почему Миронова? Нет! Вы сегодня вызовите ее к себе, а предварительно сходите в больницу и уже сами, не через врачей, поговорите с ним, сейчас он чувствует себя гораздо лучше. Скажите ему, что мы располагаем всеми доказательствами того, что он — Миронов. Интересно, как он на это будет реагировать? Мироновой можете сказать, что мы, мол, установили истину, а если ей нужно, чтобы Миронова юридически признали ее сыном, — подготовьте исковое заявление в суд. Суд должен признать Миронова Владимира Сергеевича, 1924 года рождения, и Глазырина Игоря Ильича, 1924 года рождения, одним и тем же лицом, Мироновым Владимиром Сергеевичем, и признать его сыном Мироновой Дарьи Васильевны. На судебное заседание порекомендуйте вызвать обеих матерей, а также свидетелей. Весь материал с исковым заявлением направьте в суд. Попросите судью, чтобы он сообщил нам, когда будет рассматривать дело, а вы дадите заключение в суде. К концу рабочего дня Александра Мироновна показала Лаврову проект искового заявления и заодно рассказала: — Владимир хочет, чтобы мать его приняла, а сама Миронова, когда я ей все рассказала, опять заплакала, так что я даже и поговорить с ней толком не смогла. Но, конечно, она хочет, чтобы еще суд признал Владимира ее сыном. Она хотела уже выйти, но в дверях остановилась и спросила: — Юрий Никифорович, а как дела у Бессонова? Рассматривало бюро горкома его вопрос? — Позавчера, — ответил Лавров. — Строгий выговор получил. Но вы бы его просто не узнали! Все признал и даже заявил, что на партийном собрании вел себя неправильно. Я убежден, что теперь из стройтреста жалоб будет куда меньше! Такие встряски даром не проходят. И потом — хотите верьте, хотите нет, но лекции о советских законах очень много дают народу. Я прочитал на участках восемь лекций и вижу, как люди слушают, как живо реагируют, какие вопросы задают… Думаю, что и вам бы надо включиться в эту работу. Я даже пообещал рабочим, что вы прочитаете им лекцию о трудовом законодательстве. Это — для начала… — Да, да, я уже договорилась с председателем постройкома. На той неделе пойду к ним…
VII
Через несколько дней состоялся суд. Корзинкина приехала в прокуратуру и рассказала Юрию Никифоровичу о том, что исковое заявление Мироновой полностью удовлетворено. — А как вели себя ростовская мать и жена Владимира? — Обе не явились. — Вот как! Что ж, когда решение суда войдет в законную силу, пусть Владимир получает новый паспорт. — Судья все разъяснил. Между прочим, на всех, кто был в зале, процесс произвел сильное впечатление. Некоторые женщины даже плакали. — Да, дело, конечно, необычное, в нем имелись психологически очень сильные моменты, — сказал Лавров и, с улыбкой глядя в глаза Александры Мироновны, спросил: — А вы как? Не плакали случайно? — Я? — не поняла Корзинкина. — Да, да, вы! Ведь и вам, вероятно, грустно было расставаться со своей прежней версией, с твердым убеждением в том, что иск Мироновой необоснованный? Корзинкина смутилась. Тяжело вздохнув, она все же постаралась выдержать слегка шутливый тон. — Да, Юрий Никифорович, я тоже плакала, — сказала она с мягкой улыбкой. — Только оплакивала не свою версию, а самоуверенность, с которой я сегодня рассталась. Лавров и Лукин сосредоточенно и тщательно разрабатывали дополнительный план расследования дела о хищении на швейной фабрике, когда Лаврову позвонил Орешкин. — Здравствуй. Орешкин говорит. — Здравствуйте, товарищ Орешкин. — Вот мне сейчас докладывает начальник паспортного стола, что Глазырин пришел с этой гражданкой и требует сменить ему в паспорте фамилию на Миронова, причем у них на руках документ из суда. Ты в курсе дела? — Да, конечно. — И не опротестовал такое нелепое решение? — Да в нем нет ничего нелепого. — Куда же смотрел судья? Он, очевидно, не видел наших материалов? — Каких ваших? — Да тех, которые вы у нас брали. — Насколько мне известно, все материалы находятся в гражданском деле, и я не сомневаюсь в том, что судья с ними детально ознакомился. Но он их оценил иначе. — Знаем мы эту судейскую оценку! Вот так они оценивают доказательства и по другим делам. Как ни дело, так оценка, оценка… Так ты что, действительно, не будешь опротестовывать? — Да зачем же приносить протест по совершенно правильному решению? Тем более, что этот материал был направлен в суд мною вместе с иском о признании этого человека сыном Мироновой. — Тогда вы оба допустили серьезную ошибку. А я не разрешу менять паспорт и сегодня же напишу в горком партии. Там этот материал прекрасно знают и разберутся объективно. Вас с судьей поправят!.. — Можете писать, если вам не жаль напрасно отнимать время у работников горкома. Что же касается паспорта, то вы обязаны его выдать. Никому не позволено игнорировать решение суда. Того, кто задержит выдачу паспорта, я буду вынужден привлечь к ответственности. — Ничего, решение суда еще будет отменено! Мы располагаем по этому делу кое-какими материалами, о которых вы и не подозреваете. — Ну, если у вас и есть какие-то материалы, то только фальшивые, — смею вас уверить. — Я защищаю интересы государства! — закричал в трубку Орешкин. — Но у государства нет иных интересов, как интересы советских людей, — спокойно заметил Лавров. — Не упорствуйте, товарищ Орешкин. Лучше признать свою ошибку, чем усугублять ее. — В горкоме нам скажут, кто допустил ошибку. — Дело ваше, но заранее предупреждаю, что в данном случае вы в горкоме поддержки не получите. — Еще посмотрим! — донеслись последние слова Орешкина.…На второй день после этого разговора Лавров получил пакет с письмом Орешкина. В письме начальник милиции подчеркивал, что определение суда является клеветой на родную мать Глазырина — Марию Ивановну. И далее говорилось:
«Мое личное мнение: весь замысел гражданки Мироновой — это узаконить гражданина Глазырина своим сыном, а отсюда, как вывод, он будет признан офицером и инвалидом отечественной войны, и она станет получать за него от государства крупные суммы денег. С материалом, находящимся в милиции, ознакомились ответственные работники горкома КПСС, горсовета, Генпрокуратуры, и везде Мироновой отказывали. Весь материал находится в горпрокуратуре, и на наш запрос о возврате материала прокурор Лавров отказал».На письме была резолюция Дымова:
«Товарищ Лавров, прошу лично разобраться, опротестовать решение суда и доложить».Это была резолюция второго секретаря горкома партии. Лавров не удивился упорству Орешкина, но, прочитав резолюцию секретаря горкома, подумал: «Почему товарищ Дымов так безапелляционно пишет: «опротестовать». Значит, начальник милиции убедил его? Надо поговорить с Дымовым…» Обстоятельно доложив Дымову дело, Юрий Никифорович сказал: — Таким образом, в силе остается только личное мнение товарища Орешкина по этому делу. Документы и факты говорят совсем другое. — В таком случае товарища Орешкина, видимо, подвели его работники, — заметил Дымов. — Возможно, — согласился Лавров и, попрощавшись, вышел из кабинета секретаря.
Глава четвертая
I
II
Следователь Глебов действительно впервые самостоятельно выезжал на место происшествия по делу об убийстве. Он тщательно проверил следственный чемодан, вложил в него папку с чистой бумагой и бланками протоколов и, придерживая рукой открытую крышку чемодана, задумался. Им овладело чувство беспокойства и некоторой растерянности, которую он испытывал каждый раз, когда надо было выезжать на расследование какого-либо происшествия. Глебов работал в прокуратуре всего год. Университет он закончил с отличием, и полученные знания были еще свежи в его памяти. Однако для практической работы их оказалось далеко недостаточно. И Глебов постоянно стремился к расширению своих знаний: он перечитал всю имеющуюся в прокуратуре юридическую литературу, регулярно просматривал периодические издания по своей специальности, внимательно следил за работой старших товарищей, стараясь перенять их опыт. Пособие по применению следственного чемодана он знал почти наизусть, а судебной фотографией владел в совершенстве. И все же каждый раз, когда он самостоятельно выезжал на происшествие, у него что-нибудь да не ладилось. Собственно, ошибки, которые допускал Глебов, были в большинстве случаев незначительными и для начинающего следователя вполне допустимыми. Его считали способным и добросовестным работником и даже аттестовали раньше положенного срока: два месяца назад он начал самостоятельно работать следователем. Но то ли Глебов был необычайно требователен к себе, то ли страдал излишней мнительностью, но он весьма болезненно переживал малейшие свои просчеты, явно преувеличивая их значение. Захлопнув крышку чемодана, Глебов снял со стены новенькую, недавно полученную форменную фуражку и вышел из кабинета. В канцелярии он положил на стол секретарю ключ от кабинета и сказал: — Мария Ивановна, я поехал на Проезжую, на осмотр места происшествия. Если позвонят, скажите, что меня сегодня не будет. Выйдя на улицу, следователь направился, было, к троллейбусу, но, заметив стоящую около соседнего здания «Победу», подошел к ней. Шофер — молодой, щеголеватый парень, — сидя в машине, читал книгу. Глебов показал ему раскрытое удостоверение. — Мне надо срочно попасть на Проезжую. Подвезете? — Конечно! — с готовностью ответил шофер и открыл дверцу машины. — Садитесь. Я только сбегаю наверх, предупрежу начальника. Он ловко выскочил из машины и скрылся в здании райфинотдела. Через несколько минут Глебов, судебномедицинский эксперт и два работника милиции, за которыми он заезжал, были уже на месте происшествия. Возле дома, где произошло убийство, собралась толпа. Следователь первым вышел из машины. Люди молча расступились, пропуская его к калитке. За ним прошли работники милиции, эксперт и шофер, который еще в машине изъявил желание быть понятым при осмотре места происшествия. Bo дворе находились еще два работника милиции и три пожилые женщины — соседки убитой. Глебов коротко расспросил об обстоятельствах, при которых обнаружили труп. Лукерья Федоровна Гармаш жила со своей дочерью Анной, которая была известна в городе как хорошая портниха. Два дня назад Анна получила отпуск и уехала к сестре в другой город. Сегодня утром одна из соседок зашла к Лукерье Федоровне взять таз для варки варенья и обнаружила ее мертвой. Выслушав взволнованный рассказ женщин, Глебов попросил одну из них присутствовать в качестве понятой при осмотре места происшествия. Поднимаясь на крыльцо, он старался побороть в себе неоставлявшее его чувства неуверенности и от этого еще больше нервничал. Чистая, аккуратно прибранная веранда почти ничем не выдавала трагедии, разыгравшейся в доме. Лишь на тщательно выскобленном некрашеном полу были заметны слабые красно-бурые следы обуви, которые вели от комнатной двери к выходу. «Кровь!» — подумал Глебов и, открыв дверь, невольно остановился, загородив дорогу остальным. В лицо ударил тяжелый запах. Прямо перед входом, в луже крови, на полу лежал труп пожилой женщины. Она лежала навзничь, лицом сверх, широко раскинув полные, дряблые руки. Выцветший ситцевый платок, завязанный узлом на затылке, насквозь пропитался кровью и сполз с головы. Выбившиеся из-под него темные с сильной сединой окровавленные волосы слиплись, и слева открывалась неровная глубокая рана. Позади трупа — опрокинутый стул и круглый стол, накрытый белой, чуть сдвинутой и сильно забрызганной кровью скатертью. Кругом беспорядок. Вещи сдвинуты со своих мест. Постель перевернута. Шифоньер раскрыт, прямо перед ним на полу разбросана одежда. В другой комнате, куда дверь была распахнута настежь, виднелась кровать, с которой тоже все было сброшено на пол. Глебов прошел в комнату. Следом за ним вошли остальные, и в небольшой комнате сразу стало тесно. Поставив следственный чемодан на пол, Глебов вместе с экспертом стал осматривать труп. Участковый уполномоченный Карпенко, огромный пожилой и добродушный детина, присел около трупа на форточки и, разглядывая рану на голове убитой, сказал: — Скажи на милость, изверг какой! Весь череп рассадил. Чем же это он ее так? — Да, видать, этой штукой, — отозвался милиционер Морозов, который стоя у стены, разглядывал какой-то ржавый железный предмет, обернутый клочками окровавленной газеты. Глянув в сторону милиционера, Глебов встал и торопливо, почти испуганно выкрикнул: — Вы, пожалуйста, ничего не трогайте! Надо же записать в протоколе все так, как было. Павлов и Сердюк, работники уголовного розыска, вместе с Глебовым осматривавшие труп, переглянулись. Сердюк, маленький, юркий, в сдвинутой на лоб кепке, заметил: — Не волнуйтесь, товарищ следователь, все будет в полном порядке. Глебов смутился. Он и сам понял, что как-то по-мальчишески, несолидно повел себя, а после слов Сердюка почувствовал себя совсем неловко. Вспотевший и красный от смущения, он снова наклонился над трупом, но сейчас же, спохватившись, сказал: — Да! Одну минутку! Надо же сфотографировать труп и всю обстановку в квартире. «Конечно, с этого и следовало начинать. И как это я мог забыть?» — огорченно подумал Глебов, приступая к фотографированию. Железный предмет, который Морозов положил на прежнее место, брызги на стене и на скатерти стола, а также труп он сфотографировал по несколько раз крупным планом. «Если что забуду записать — фотографии выручат…» — Можно, пожалуй, приступать к составлению протокола осмотра трупа, — сказал эксперт. Вскрытие я сделаю после, когда вы полностью закончите осмотр помещения. — Сейчас начнем, — сказал Глебов. Вложив аппарат в футляр, он подозвал Павлова и сказал: — Иван Федорович, вот вам бланки и бумага. Я буду производить осмотр, а вы под мою диктовку сразу пишите протокол. Так мы быстрее закончим. А план к протоколу я набросаю сам. Взяв планшет, Глебов встал посреди комнаты и начал делать наброски плана квартиры, а Павлов сел за стол и в ожидании, пока следователь приступит к осмотру, писал:«Я, следователь прокуратуры города, младший юрист Глебов, с участием старшего оперуполномоченного лейтенанта милиции Сердюка и оперуполномоченного лейтенанта Павлова, в присутствии судмедэксперта Крайнева и понятых Рябова Василия Ивановича, проживающего по улице Ленина, 40, и Усьевой Анны Ивановны, проживающей по улице Проезжей, 15, произвел осмотр квартиры в доме № 13 по улице Проезжей, где неизвестным преступником была убита проживающая в этой квартире гражданка Гармаш Лукерья Федоровна…»Когда в протоколе были записаны все данные внешнего осмотра трупа, следователь приступил к детальному осмотру помещения и вскоре так увлекся работой, что чувство неловкости и скованности совершенно исчезло. Легко и свободно Глебов подыскивал нужные формулировки для занесения их в протокол осмотра, обращая внимание понятых и работников милиции на интересующие его детали и стараясь определить, что именно из данных осмотра может ему в дальнейшем больше всего пригодиться. Осматривая лежавший у стены железный предмет, Глебов задумался: как его назвать? Павлов, положив на стол ручку, присоединился к следователю и также стал разглядывать железину, затрудняясь определить ее назначение. — Да это же полуось от ходка! — выручил, подойдя к столу, Карпенко. Полуось оказалась сплошь покрытой ржавчиной. Кое-где на ее поверхности виднелись мелкие кусочки каменного угля, а с одной стороны была ясно видна уже подсохшая кровь. Окровавленные обрывки газеты клочьями свисали с полуоси. Глебов осторожно снял их, переложил чистыми листами бумаги и спрятал в большой конверт. Потом он соскоблил с поверхности полуоси немного присохшей крови, несколько волосков и кусочки каменного угля и все это завернул отдельно одно от другого. Около стены, где лежала полуось, Глебов заметил осыпавшуюся штукатурку, а в самой стене — небольшую вмятину. «Наверное, от удара полуосью», — подумал Глебов и вдруг с поразительной ясностью представил себе картину преступления: …женщина, с криком ужаса бросившись к выходу, пробегает мимо стола и, настигнутая около дверей тяжелым, смертельным ударом, падает навзничь, а преступник, отшвырнув к стене железину, лихорадочно шарит по комнате, отыскивая ценности. Да, да!… Только вот почему рана с левой стороны головы? Вся обстановка в квартире говорит о том, что женщина бежала к выходу от преступника, находящегося в комнате. Она была совсем близко к двери и к восточной стене. Преступник не мог находиться впереди или слева от нее, а удар нанесен именно слева… «Левша! — неожиданно решил Глебов. — Убийца — левша. Ну, конечно, он мог ее ударить только сзади левой рукой». Глебову очень хотелось тут же поделиться своей догадкой с присутствующими. Ведь такая редкая индивидуальная примета могла бы значительно облегчить оперативным работникам милиции поиски преступника. Да и для следователя это веская улика. И эксперт мог бы высказать об этом свое мнение… Но Глебов промолчал. В этот момент милиционер Морозов, глянув в окно, воскликнул: — Прокурор приехал! Лавров, хмурый и озабоченный, поднимался по ступенькам крыльца. Войдя в комнату, он увидел Глебова, который, стоя на одном колене в нескольких шагах от трупа, старательно измерял расстояние между брызгами крови на стене. Придерживая пальцем отмерянное на линейке деление, он поднял к Лаврову вспотевшее лицо и, вставая, обрадованно сказал: — Наконец-то, Юрий Никифорович! А мы уже заканчиваем. Вот посмотрите, может, упустили что? — он подал Лаврову первые три листа протокола осмотра. Прокурор взял протокол из рук Глебова и сухо спросил: — Обстановка в комнате не изменена? — Нет, — ответил Глебов. — Вот только стул мы подняли и поставили к столу. А так все по-прежнему. Я старался сохранить обстановку до вашего приезда, — добавил он и покраснел, предполагая, что прокурор чем-то недоволен, и заведомо отнеся это на свой счет. Закончив осмотр квартиры, Глебов вместе с понятыми вышел. Во дворе, обнесенном высоким забором, было удивительно спокойно и тихо. Эта тишина казалась неправдоподобной, она не вязалась с обстановкой только что оставленной квартиры. Тщательно, но уже без прежнего увлечения Глебов осмотрел дом с наружной стороны, двор, постройки. Прогнав с забора забравшихся на него любопытных мальчишек, устало опустился на скамейку под развесистым орешником, где с протоколом в руках уже сидел Павлов. — Пишите, — сказал Глебов, сняв фуражку и вытирая платком пот со лба. — «При осмотре дома с наружной стороны, а также во дворе и надворных постройках никаких следов не обнаружено…» На крыльце показался Лавров. — Олег Николаевич, вы закончили? Зайдите сюда и пригласите понятых. Глебов встал и вместе с Павловым и понятыми пошел в дом. — Что вы там нашли? — спросил Лавров. — Ничего, Юрий Никифорович. — Давайте вот тут кое-что добавим. Лавров только что закончил читать протокол и остался доволен. Протокол был составлен полно и четко отражал все подробности осмотра. Упущены были только две детали: на плите Лавров обнаружил стакан с отпечатками пальцев, а на обрывках газеты, в которую была завернута полуось, название ее — «Известия» — и дату. Глебов внес в протокол дополнение, прочел его вслух и дал подписать всем присутствующим. «Черт возьми!.. Я же осматривал стакан!.. Ослеп я, что ли?» — мысленно корил себя молодой следователь, доставая из чемодана бечевку и два кусочка картона. Растянув бечевку на плите, он положил на нее кусочек картона, осторожно взял двумя пальцами за края стакан и поставил его на картон. Потом таким же кусочком картона накрыл стакан сверху, связал все это бечевкой, залил узелок расплавленным сургучом и поставил на нем оттиск своей металлической печати. Окончив, он отнес стакан на окно, где уже лежали упакованные и подготовленные им для изъятия вещественные доказательства: крошечная пробирка с кровью потерпевшей, окурок, волосы, кровь, кусочки угля, снятые с полуоси, и пустая пачка от папирос «Беломорканал». — Полуось можно брать, Юрий Никифорович? — спросил он Лаврова. — Да, я уже все осмотрел, — ответил тот, дымя папиросой и, видимо, что-то усиленно обдумывая. Потом швырнул папиросу в открытое окно и подошел к эксперту, который натягивал резиновые перчатки, готовясь вскрывать труп, уже перенесенный на стол и раздетый с помощью двух приглашенных участковым уполномоченным женщин-соседок. — Вы знаете, Петр Иванович, ведь удар был нанесен левой рукой! — решительно сказал Лавров. Глебов встрепенулся и, быстро обернувшись к Лаврову, хотел было сказать, что это безусловно так и что сам он пришел к такому же выводу. Но он промолчал: вдруг не поверят и подумают, что он, стараясь казаться умнее, присваивает себе чужие мысли? Ругая себя за нерешительность, помешавшую ему раньше высказать эту мысль, Глебов молча слушал Лаврова, который излагал эксперту свои соображения, в точности совпадающие с гипотезой Глебова. «Ко мне далее и не обращается», — с горечью подумал Глебов. Эксперт согласился с Лавровым и сказал, что отметит эту мысль как предположительную в акте. Поставив полуось к окну, где лежали вещественные доказательства, Глебов подошел к столу и молча стал наблюдать за работой медика. Лавров снова закурил и, расхаживая по комнате, о чем-то думал. Присутствовавшие в комнате женщины следили за работой эксперта со смешанным выражением страха и любопытства на лицах. Щеголеватый шофер не выдержал: — Я вам больше не нужен? — спросил он Глебова. — Нет, нет! — ответил следователь. — Можете ехать. Спасибо вам… Лавров подошел к женщинам. — Вы знали убитую? — Соседи мы, — ответила одна из них и повторила Лаврову все то, что уже говорила Глебову. — Дочь потерпевшей вызвали? — спросил Лавров, обращаясь к Павлову. — Да. Телеграмму отправили еще с утра. — Петр Иванович, мы, пожалуй, поедем, — обратился Лавров к эксперту, когда тот уже заканчивал свою работу. — Кажется, все ясно. — Да, конечно. Акт вскрытия я вам завтра пришлю, — ответил тот, не отрываясь от дела. — Товарищ Павлов, организуйте, пожалуйста, охрану квартиры до приезда дочери убитой. У вас есть какие-нибудь данные? — Пока ничего существенного, товарищ прокурор, — ответил за Павлова Сердюк. — Весь день заняла «официальная часть» (так Сердюк иронически именовал составление протокола осмотра и вообще всяких бумаг, которые он, «оперативник», сильно недолюбливал). — Но завтра к утру что-нибудь раздобудем. — Во всяком случае, дочь убитой, вероятно, к утру будет? — спросил Лавров. — А что с вашим начальством? Ни Орешкина нет, ни начальника уголовного розыска? — Вы наше начальство еще плохо знаете, товарищ прокурор, — ответил Сердюк. — Полковник вообще не имеет привычки на происшествия выезжать, а сегодня и Романову ехать запретил. «Пусть, — говорит, — сами попробуют убийство раскрыть». «Нет, голубчик, так у нас дальше дело не пойдет, — подумал Лавров. — Завтра же вместе со спецдонесением об убийстве отправлю представление прокурору края». Попрощавшись с экспертом и понятыми, Лавров вышел на крыльцо и спросил Сердюка: — Кто здесь участковый? — Я, товарищ прокурор, — отозвался идущий сзади Карпенко. — Где можно поработать, чтобы не возвращаться в прокуратуру? Поздно уже. Пока доберешься туда, будет часов восемь. — Да вот тут недалеко контора… Пойдемте, я вас проведу. Глебов вышел на крыльцо последним. — Юрий Никифорович! — крикнул он. — Вещественные доказательства отвезти в прокуратуру? — Нет, кое-что нам может понадобиться, — ответил Лавров и, дождавшись Глебова, взял у него следственный чемодан. — Там еще полуось, — сказал следователь, придерживая рукой сверток с вещественными доказательствами и собираясь за нею вернуться. — Да идите, я возьму ту железяку, — произнес Карпенко и пошел к дому. Глебов облегченно вздохнул. Он боялся, что не сможет преодолеть дурноту, если еще раз войдет в комнату. Он был очень утомлен. Длительное нервное напряжение, духота и, наконец, просто физическая усталость сделали свое. К тому же он с утра ничего не ел, как, впрочем, и все другие. Но «все другие», видимо, чувствовали себя нормально. Во всяком случае, ни у Лаврова, ни у работников милиции Глебов не заметил признаков особого утомления. И уж, конечно, ни одного из них не мутило во время вскрытия трупа — в этом Глебов был убежден. Сознание своей слабости подавляло его. Шагая по дороге рядом с Лавровым и слушая мягкий с украинским акцентом говор Карпенко, Глебов устало думал о том, что, несмотря на призвание и любовь к своей профессии, он, наверное, никогда не сможет стать хорошим следователем: на каждом шагу дает себя знать излишняя впечатлительность, неуверенность, на каждом шагу подстерегает паническая мысль: «Не смогу…» — Вот что, товарищ Карпенко, — сказал Лавров, — пригласите к нам для начала трех-четырех соседей убитой и близких приятельниц ее дочери, если такие окажутся поблизости. Вы сами-то знаете эту семью? — Да я всех тут знаю, — ответил Карпенко. — Бабка Гармашиха, вы ж сами видели, старая совсем, а дочка одна живет, муж ее во время войны бродил. Работает в швейной мастерской, да еще и дома шьет. Бабы говорят, что она такая портниха, что со всего города до ней идут. Фининспектор два раза наведывался, да все попусту, не нашел ничего. Ловкая бабенка! А так, по семейному, за ней плохого не замечалось, соблюдала себя.Вот только месяца три как с кузнецом стала знаться, жинка его ей тут недавно разгон учинила. — А что за человек этот кузнец? — поинтересовался Лавров. — Недавно из заключения пришел. Восемь лет отсидел за убийство. Я думаю, не его ли это работа? — показав головой на дом убитой, добавил Карпенко и поднялся с дивана. — Ну, я пошел. — Да, вот еще что, — остановил его Лавров, — может быть, вам удастся узнать, кому принадлежит эта вещь? — и он указал на лежавшую на столе полуось. — Добре, попытаюсь, — ответил Карпенко и вышел. — Та-ак! — сказал Лавров. — Чем же мы с вами, Олег Николаевич, располагаем и что в первую очередь предстоит сделать? Надо бы, конечно, составить план, — продолжил он свою мысль, — но у нас так мало данных, что планировать пока трудно. Во всяком случае, необходимо установить круг знакомых убитой и ее дочери. И, взглянув на Глебова, встревоженно спросил: — Вы что, Олег Николаевич, устали? Плохо себя чувствуете? — Нет… то есть да… — смутился Глебов. — И вообще, Юрий Никифорович, по-моему, надо позвонить в прокуратуру края и попросить, чтобы к нам командировали старшего следователя для расследования этого дела, — неожиданно для самого себя выпалил он. — Это почему же? — крайне удивленный таким неожиданным поворотом разговора, спросил Лавров. — Понимаете, я совсем не уверен, что мы, то есть я, в частности… Не уверен, что смогу раскрыть это преступление. Вы не думайте, Юрий Никифорович, что я не хочу работать по делу, я буду все делать для старшего следователя, всю работу. Но я хочу, как лучше, а то ведь время упустим, тогда вообще может быть невозможно будет раскрыть… — Пожалуйста, не ударяйтесь в панику, Олег Николаевич, — мягко и в то же время строго сказал Лавров. — Во-первых, расследовать дело вы будете не один, я вам помогу. И не только помогу, а приму в этом участие. Вместе с нами будут работать товарищи из уголовного розыска. А во-вторых, я, простите, вообще не понимаю, как это можно просить о помощи, если мы сами еще ровным счетом ничего не сделали? Я понимаю, если, бы мы провели расследование, сделали все возможное и зашли в тупик, — другое дело. Но сейчас?.. Заведомо признать свое бессилие? Нет уж, Олег Николаевич, давайте договоримся, что, как бы сложна и ответственна ни была работа, мы обязаны выполнять ее сами. Краевая прокуратура существует не для того, чтобы работать на нас, когда нам трудно, а для того, чтобы направлять нашу работу и контролировать ее. Ясно? Глебов не успел ответить: в дверь постучали. В комнату вошел средних лет мужчина. Поздоровавшись, спросил: — Вы будете из прокуратуры? — Да. Садитесь, пожалуйста, — сказал Лавров. — Наверно, насчет Гармаш вызвали? — осведомился свидетель, усаживаясь. — Да, — подтвердил Лавров. — Что вы можете рассказать о ней? Свидетель Михеев, проживающий по соседству с домом погибшей, рассказал о семье Гармаш примерно то же, что Лавров и Глебов уже слышали от Карпенко, только несколько подробнее. — А вчера, — продолжал свидетель, — мы с женой были в кино на последнем сеансе и пришли домой в двенадцать ночи, как раз гимн играли по радио. У Гармашей свет горел. Мы еще удивились, что старуха не спит. Только зашли домой, слышим — крик женский, вроде бы у них. Жена ставню открыла, выглянула — ничего не слыхать. А через несколько минут свет у них погас. Мы и легли. А утром — вот тебе! Соседка прибегает и говорит: «Старуха Гармашиха убитая в луже крови лежит…» Записав показания свидетеля, Лавров обратил его внимание на полуось и спросил, не замечал ли он ее во дворе Гармаш или у кого-либо из соседей. — Нет, такой вещи не видел, — сказал Михеев. К десяти часам вечера Глебов и Лавров допросили пять человек. Показания их в общем совпадали, но из них было ясно лишь одно: убийство произошло в самом начале первого часа ночи. И только один свидетель — Родин дал более существенные показания. В эту ночь он собирался на рыбную ловлю и, выйдя со двора около двенадцати часов ночи, уселся у кювета в ожидании машины своего приятеля. Вскоре со стороны дома Гармаш донесся протяжный крик. Родину стало жутко. Он огляделся и увидел, как через забор соседнего двора перепрыгнул мужчина. Отойдя от забора, человек зажег спичку, прикурил, а потом, освещая спичкой свою одежду, осмотрел ее. — По-моему, это был кузнец Семен. Он часто бывал у Анны Гармаш, — закончил свои показания Родин. Позднее было установлено, что Родин рассказывал об этой истории своим приятелям на рыбалке, еще ничего не зная об убийстве старухи Гармаш. Когда Лавров и Глебов заканчивали допрос последнего свидетеля, вошел начальник уголовного розыска Романов. — Насилу разыскал вас, — сказал он, подавая руку Лаврову. «Опомнился Орешкин, прислал-таки!» — подумал Лавров. Отпустив свидетеля, Лавров обратился к Романову: — Что-то поздновато вы… Я полагал, что начальника уголовного розыска дела об убийствах больше интересуют. — Я, товарищ прокурор, был бы здесь действительно раньше вас, если б мог поступать по своему усмотрению. А вот наш начальник по-другому думает. Он считает, что, если на происшествие выехал следователь, нам там делать нечего. «Незачем работать на прокуратуру», и все тут. — То есть как это на прокуратуру? — не понял Лавров. — Да так. Он говорит, что если дело ведет прокуратура, пускай ведет и не пользуется нашими трудами. Так и говорит. А о том не думает, что и с нас за раскрываемость преступлений спрашивают, да и вообще мы с вами одно дело делаем. — Да-а, — произнес Лавров. — С вашим начальником, видно, придется серьезно поговорить. А с вами условимся так: по всем серьезным делам будем работать вместе. И ответственность за каждое дело будем нести одинаковую, независимо от того, как будет вести себя ваш начальник. Согласны? — Конечно, товарищ прокурор. — Вот и хорошо. Начнем с этого дела. Знакомьтесь с тем, что мы собрали, и завтра же начинайте действовать. С нами поддерживайте постоянную связь. Во втором часу ночи Лавров, Глебов и Романов возвращались пешком, обсуждая уже созревший план расследования. Прощаясь с Глебовым около прокуратуры, куда он должен был зайти, чтобы оставить следственный чемодан и вещественные доказательства, Лавров спросил: — Можно считать наш разговор там, в конторе, оконченным? — Да, Юрий Никифорович. А если можно, прошу вас считать, что этого разговора вообще не было, — ответил Глебов. Добравшись до дома, он быстро разделся и сейчас же заснул тяжелым, беспокойным сном. В девять часов утра Глебов уже сидел за столом в своем кабинете. Он подготовил к отправке на исследование вещественные доказательства, написал постановление о назначении биологической и дактилоскопической экспертиз и теперь перечитывал собранные вчера материалы. Вошел Лавров. — Звонил Романов. Дочь потерпевшей уже здесь. Сейчас она будет у нас. Вы помните, по каким вопросам мы вчера решили допросить ее? — Да, у меня записано. — После допроса зайдите ко мне с протоколом. Минут через пятнадцать, постучавшись, в кабинет Глебова вошла молодая полная женщина с расстроенным, заплаканным лицом, удивительно похожим на лицо убитой. Усевшись, она взглянула на обложку лежавшей перед следователем папки с крупной надписью: «Дело об убийстве Гармаш Лукерьи» и зарыдала, прижимая к глазам платок. Глебов встал из-за стола, взял с тумбочки графин. — Постарайтесь успокоиться, — сказал он, подавая женщине стакан с водой. — Я понимаю, как вам тяжело, но ведь слезами горю не поможешь. Мысленно он тут же выругал себя за стереотипную фразу, которая не могла служить утешением в несчастье. Вчера они с прокурором разработали подробный план допроса Анны Гармаш, показания которой, по их замыслу, должны были послужить канвой для дальнейшего расследования дела. Но слезы и горе этой женщины, вполне естественные в ее положении, как это ни странно, явились для следователя полной неожиданностью, и он почти растерялся. Что сказать ей? Как перейти от утешений к вопросам, которые он еще раз тщательно обдумал перед ее приходом? — Я предчувствовала несчастье, — говорила, между тем, сквозь слезы женщина. — Мне так не хотелось ехать! Я просто не знаю, зачем я поехала? Ведь столько лет никуда не ездила, и вот… Беспрестанно утирая глаза уже совершенно мокрым, скомканным носовым платком, Анна Гармаш, не переставая плакать и повинуясь естественному желанию высказать кому-либо наболевшее горе, рассказала Глебову все, что передумала, и перечувствовала с момента получения телеграммы: и мучившее ее раскаяние в том, что она «разбила чужую семейную жизнь и связалась с кузнецом Семеном, который оказался извергом», и свои страшные подозрения, что именно он и явился убийцей ее матери. — Он знал, что у нас есть деньги. Я шила, зарабатывала прилично, говорила ему, что отложила кое-что на черный день, — всхлипывая, продолжала Анна. — И об отрезах он знал, даже видел, куда я прятала их, когда при нем фининспектор пришел: ящик у меня в стол вделан снизу, никто другой этого знать не мог. Глебов вспомнил обстановку в комнате: перевернутые постели, открытый шифоньер и стол, накрытый белой, накрахмаленной, забрызганной кровью скатертью. «Да, она права, — подумал он, — ведь стол не тронут, на нем даже ваза с цветами стоит. Значит, преступник хорошо знал, как взять отрезы. Но искал он деньги. Знал, что деньги есть, и искал по всей комнате. Похоже, что это он», — решил Глебов и, положив перед собой форму протокола, стал записывать показания свидетельницы. Вскоре Анна успокоилась и тихим голосом отвечала на вопросы следователя. Окончив допрос, Глебов позвонил Романову. — Я допросил Анну Гармаш. Теперь, Илья Павлович, надо вещи искать. Романов ответил, что еще утром беседовал с дочерью убитой Гармаш, записал приметы похищенных вещей и уже сообщил о них в милицию соседних районов. — Все вещи записаны? — спросил Глебов и перечислил похищенное: два шелковых отреза, один отрез шерсти, 5 тысяч рублей сторублевыми купюрами и два золотых кольца. Романов подтвердил, что записал все, и осторожно спросил: — Олег Николаевич, а ты этого «друга» не думаешь задерживать? Мы уже все подготовили. — Об этом поговорим лично, — сказал следователь. — Я сейчас буду у тебя, ты никуда не уйдешь? — Нет, сейчас прокурору буду докладывать, — сказал Глебов и положил трубку. Лаврова он не застал. Тот уехал на заседание исполкома. «Теперь до вечера не будет», — с досадой подумал Глебов. Ему надо было срочно решить вопрос о задержании кузнеца Путоева и обыске у него. Конечно, это можно было решить и без Лаврова. Но Глебов все еще не избавился от своей «стажерской» привычки — спрашивать совета, когда в чем-либо затруднялся. Однако сейчас терять время было нельзя. Небольшое двухэтажное здание милиции, расположенное неподалеку от прокуратуры, было видно из окна кабинета следователя. «Если Романов уже вышел, я встречу его», — подумал он и пошел в милицию. С Романовым Глебов столкнулся в коридоре милиции. — Прокурор уехал на заседание исполкома, вернется, наверное, не скоро. Путоева же надо задержать немедленно и обыск у него произвести как можно быстрее. — У нас уже все готово. Карпенко сидит и ждет моей команды, за квартирой кузнеца тоже наблюдают, а на обыск я с тобой поеду. Сердюк еще с задания не вернулся, а Павлов сегодня в отпуск ушел. Связавшись по телефону с Карпенко, Романов коротко сказал: — Хорошо, давай, действуй! Доставишь его в отделение сам, лично, и обыщешь тоже сам. Смотри, чтоб одежду не переменил или не выбросил что-нибудь. Понял? Положив трубку, он повернулся к Глебову. Тот о чем-то сосредоточенно думал. Затем тихо сказал: — Сначала в прокуратуру зайдем. Бланки надо захватить, да и фотоаппарат. Пригодится. И, уже выходя из кабинета, добавил: — Жаль, что у нас в городе нет криминалистической лаборатории. Изволь ожидать, когда придет из краевого центра заключение об отпечатках пальцев. А так уже сегодня можно было бы знать, он или не он держал стакан. Это ж такая улика! Запирая кабинет, Романов успокоил товарища: — Ничего. Это мы быстро организуем. Сегодня вечером наши хлопцы в краевой центр за обмундированием едут. Мы им это дело и поручим. Завтра будет результат. У нас в научно-техническом отделе заключения быстро дают. Когда Глебов с Романовым зашли в прокуратуру, Мария Ивановна сказала: — Олег Николаевич, вас прокурор искал. — Так он же на заседание исполкома поехал. Неужели так быстро закончилось? — удивился Глебов. — Да нет, вы меня не так поняли: просто по какому-то вопросу в исполком ездил. — Он у себя? — Обедать пошел. Спрашивал, куда вы ушли, а я не знала, вы не сказали… — Забыл. Мария Ивановна, если приедет Юрий Никифорович, передайте ему, что я поехал на обыск. Поздно вечером, не заходя в прокуратуру, Глебов возвратился домой усталый, но довольный. Теперь он уже не сомневался в том, что убийство будет раскрыто. Из показаний Анны Гармаш и свидетеля Родина все яснее становилось, что убийца — кузнец Путоев. При обыске обнаружили окровавленную верхнюю рубашку Путоева, которая, по показаниям свидетелей, была на нем в день убийства. Рубашку, отпечатки пальцев Путоева и вещественные доказательства Глебов передал вместе со своими постановлениями работникам милиции, уезжавшим в краевой центр. Раздевшись, Глебов с наслаждением растянулся на постели. Засыпая, подумал: «А все-таки жаль, что так просто все получилось. Ну что за заслуга — раскрыть убийство, если все ясно почти с самого начала?» Так он и уснул с чувством легкого разочарования. Утром Глебов сразу же пошел в прокуратуру. По оживленному лицу следователя Лавров понял, что расследование идет успешно. — Кажется, я, действительно, преждевременно струсил, Юрий Никифорович, — улыбаясь, сказал Глебов. — Убийство почти раскрыто. Лавров удивленно поднял брови. — Вот как? Рад за вас. Рассказывайте… — и, закуривая папиросу, удобнее уселся в своем кресле. Глебов коротко рассказал обо всем, что ему удалось вчера установить, и закончил: — Заключение биологической и криминалистической экспертиз будет сегодня. Не сомневаюсь, что они окажутся положительными. Лавров докурил папиросу, потушил ее, прижав к пепельнице. — Да-а, — задумчиво произнес он. — Все как будто бы идет гладко. Не нравятся мне только два обстоятельства: во-первых, то, что не найдены вещи, а во-вторых, то, что вы, Олег Николаевич, работаете только по одной версии. Это очень рискованно, особенно в делах об убийстве. — Но, Юрий Никифорович, какие же могут быть версии, если все ясно, как божий день? — обиженно сказал Глебов. — Зачем разбрасываться? А вещи найдутся, я дал задание милиции и уверен, что скоро все будет у нас. — Может быть, в данном случае вы и правы, — все так же задумчиво продолжал Лавров, — но вообще-то одной версией никогда не следует увлекаться. В этом случае легко скатиться на обвинительный уклон. А я знаю немало случаев, когда дела об убийствах принимали самый неожиданный оборот. Когда думаете допрашивать Путоева? — Хочу дождаться заключения экспертизы, тогда легче будет заставить его разговаривать. — Пожалуй… Я хотел бы посмотреть план допроса. Глебов недоуменно посмотрел на Лаврова. — Какой план? Я ничего не записывал, Юрий Никифорович, я и так помню, о чем его надо допросить. — Нет, нет, Олег Николаевич, — возразил Лавров. — Допрашивать подозреваемого в убийстве без предварительного плана — это несерьезно. Даже опытный следователь не должен себе этого позволять. Почему-то в иных случаях вы проявляете излишнюю робость, неуверенность, а сейчас — наоборот, чрезмерно надеетесь на себя. — Хорошо, я пойду и составлю план, — сказал Глебов, однако весь его вид говорил о том, что он считает это напрасной тратой времени. Приступив к составлению плана, Глебов вскоре понял, что Лавров был прав. Многое можно было бы упустить, допрашивая Путоева без предварительной подготовки к допросу. Он просидел над составлением плана около двух часов, вновь перечитал некоторые свидетельские показания, чтобы восстановить в памяти подробности дела. И, зайдя по окончании этой работы к Лаврову, честно признал, что едва не допустил ошибку. В четвертом часу дня Глебову позвонил Романов. — Ты у себя? Сейчас тебе материалы экспертизы понесли. Отпечатки на стакане — его. А кровь на рубашке — второй группы, как у бабуси. Да оно и без заключения ясно было. Ты допрашивать к нам придешь? — Да, скоро буду, — сказал Глебов. Минут через пять принесли материалы экспертизы. Глебов прочел их, вложил в дело и отправился в милицию. — Желаю вам удачи! — сказал Лавров, к которому он зашел сообщить о результатах исследования вещественных доказательств. — Но глядите в оба: Путоев, кажется, не так прост.
III
В кабинет ввели задержанного Путоева. Широкоплечий, загорелый, с развитой мускулатурой, он казался очень сильным и по-кошачьи гибким. Старая выцветшая майка с глубоким вырезом спереди открывала грудь с ярко вытатуированным летящим орлом. На левом плече — традиционная надпись всей «блатной братии»: «Не забуду мать родную», а на четырех пальцах правой руки — женское имя «Леля». Глебова не удивила эта «живопись». Он знал, что Путоев был вором-домушником, неоднократно судился за кражи и большую часть жизни провел в тюрьме. Последний раз он судился за убийство: в приступе злобы ударил ножом своего напарника, не поделив с ним награбленное. Неизвестно, что произошло после этого случая в душе Путоева, но, выйдя через восемь лет из заключения, он не вернулся в свою воровскую компанию, уехал на Кубань и два с половиной года работал в кузнице. Затем женился. Вскоре у него родился сын. Ребенка Путоев любил, но с женой не ладил. Все это Глебов знал из показаний свидетелей и жены Путоева. Заполнив в протоколе допроса анкетные данные, Глебов предложил Путоеву расписаться. Тот подвинул к себе протокол, расписался в низу страницы и небрежно оттолкнул от себя бланк. — Курить можно? — спросил он, доставая из кармана пачку папирос. — Курите, — разрешил Глебов и про себя заметил: «Тот же «Беломор», что и на месте преступления…» Путоев прикурил, швырнул обгоревшую спичку в пепельницу, щурясь от дыма, зло спросил: — Дело шьете? Глебов пожал плечами. — Почему шьем? Просто стараемся разобраться. Путоев презрительно скривил губы: — Видно, что «стараетесь»! Хватаете первого попавшегося. Крайнего нашли. Думаете, если семь раз судим, так восьмой раз нахально засадить можно? Возмущенный развязным тоном Путоева Глебов, не отвечая на его вопрос, строго сказал: — Собственно, почему вы со мной так разговариваете? Не забывайте, что ваша обязанность отвечать, а не задавать мне вопросы. Но, встретившись глазами с Путоевым, понял, что это замечание не произвело на допрашиваемого ни малейшего впечатления. Взгляд Путоева показался Глебову острым и неприятным. Небольшие черные глаза на тронутом оспой, коричневом от загара лице смотрели на следователя в упор, с выражением презрения и ненависти. Глебов понял, что допрос будет трудным. Этот человек видел за свою жизнь немало следователей и прокуроров, и ему, Глебову, молодому, неопытному работнику, едва ли будет просто заставить его сказать правду. Глебов знал, что квалифицированные преступники сознаются в совершении преступления только в случае, если полностью изобличены доказательствами. И, зная это, он верил, что, если не на первом, то на последующих допросах, Путоев сознается в убийстве Лукерьи Гармаш, — ведь доказательств собрано более, чем достаточно. Но первые же ответы Путоева поколебали в Глебове эту уверенность. Допрашиваемый упорно утверждал, что в день, когда была убита Гармаш, он после работы, переодевшись, ушел на центральную усадьбу совхоза к своему приятелю Петру Грешняку, от которого возвратился домой в одиннадцатом часу вечера и лег спать в присутствии жены и ее подруги Лидии Ковалевой. Свидетель Родин, по словам Путоева, «нахально врет», утверждая, что видел его в двенадцать часов ночи у дома Гармаш, Путоев не отрицал, что в течение последних трех месяцев имел связь с Анной Гармаш, часто бывал в ее доме и знал, что у нее есть деньги. Подтвердил он и то, что в его присутствии Анна прятала отрезы и недошитую работу, когда к ним неожиданно явился фининспектор. — Значит, вы знали, где Анна Гармаш хранила отрезы, принятые в работу? — спросил Глебов. — Знал! — вызывающе ответил Путоев. — Так что, по-вашему, если знал, так обязательно убивать должен? Стал бы я трогать эту старую рухлядь, — уже спокойнее, глядя куда-то мимо Глебова, сказал Путоев и, помолчав, добавил: — Я за свою жизнь столько квартир обобрал, сколько вы на земле лет не прожили. И всегда без «мокрых» дел обходился. А уж эту хату я мог так взять, что и муху б не спугнул. И, между прочим, не сидел бы после этого здесь и не ждал, пока меня попутают… — Когда вы в последний раз были в квартире Гармаш? — спросил Глебов. — Во вторник, когда Анна уезжала к сестре. Прощаться приходил, — не то всерьез, не то иронически добавил Путоев. — В какое время дня это было? — Весь вечер я у нее был. Часов с семи и пока она к поезду не ушла. — Ужинали вместе? — Нет, они до меня поели. Я пришел, старуха как раз посуду мыла. — Может быть, вас угощали чем-либо? Вином, водкой, квасом? — Нет, не угощали. Да на что вам это нужно-то? — снова впав в раздражение, спросил Путоев. — И воду не пили? — Воду? — словно припоминая, задумался Путоев. — Воду, может, и пил. Ну, и что? — А не вспомните ли, из какой посуды вы пили воду? — продолжал Глебов. — Э, да вы, небось, отпечатки мои нашли! — сообразил Путоев. — Да их там сколько хочешь! И на кружках, и на стаканах — на чем хотите! И что из того следует? Факт, что старуху-то я не трогал, вещей не брал… Поняв, что дактилоскопия не произвела ожидаемого эффекта, Глебов прервал Путоева, уверенный в том, что уж сейчас-то собьет его с толку: — Но, может быть, вы объясните, почему оказалась в крови рубашка, которая была на вас в день убийства? Путоев медленно повернулся к Глебову, сверлящими глазами посмотрел ему в лицо и, бледный от сдерживаемой ярости, вдруг порывисто поднялся со стула. — Ничего я вам объяснять не буду — понятно? — угрожающе выкрикнул он. — И показаний давать больше не буду! Пишите, что хотите! На моей одежде крови быть не могло, а где вы взяли эту рубаху и чья она — вам лучше знать. И, резко повернувшись, он кивнул сидевшему у дверей конвоиру: — Давай, веди меня в камеру! Не вставая из-за стола и стараясь говорить внушительно и спокойно, Глебов произнес: — Сядьте, Путоев. Вас никуда не поведут, пока я не закончу допроса. А если вы не желаете давать показаний — это тоже надо оформить протоколом. И вам придется подождать, пока мы пригласим понятых. — Приглашайте, кого угодно! — зло выдохнул Путоев и, отойдя от преградившего ему дорогу конвоира, сел на стул боком к Глебову, заложил ногу за ногу и стал разглядывать голенища своих сапог. — Вы поймите, Путоев, — снова заговорил Глебов, втайне надеясь, что ему удастся продолжить допрос. — Поймите, что если вы не виновны, вам тем более необходимо дать показания. Вы ведь понимаете, какие против вас серьезные улики? Надо же их как-то опровергнуть… — Я сказал, что никаких показаний больше давать не буду! — решительно заявил Путоев. — И кончайте эту волынку. Глебов понял, что говорить с Путоевым, по крайней мере сейчас, когда он так возбужден и озлоблен, бесполезно. Путоева увели. Вошел Лавров. — Ну, как? — спросил он. Глебов подал ему пять мелко исписанных листков протокола допроса. — Допросил, — сказал он. — Но протокола Путоев не подписал. Заартачился неизвестно отчего, когда допрос по существу был уже закончен. Лавров покачал головой и стал внимательно читать протокол. Потом вызвал по телефону дежурного и попросил привести Путоева. Минут через пять дежурный доложил, что Путоев отказался выходить из камеры. — Ладно, пусть остынет немного, — сказал Лавров и, оставшись вдвоем с Глебовым, спросил: — Когда истекает срок его задержания? — Через тридцать шесть часов. — За это время вы должны успеть тщательно проверить, его показания. Допросите жену, ее подругу и этого Грешняка, на которого он ссылается. Дайте Путоеву очную ставку со свидетелем Родиным. И обязательно проведите следственный эксперимент — я забыл вчера сказать вам об этом. Надо проверить показания свидетеля Родина: можно ли в темноте на указанном расстоянии опознать человека? Постарайтесь с участием Родина как можно полнее воспроизвести обстановку. Узнайте на метеостанции, какая была ночь — лунная или нет. — Ага, вот как раз кстати! — сказал Лавров, заметив вошедшего в кабинет Романова. — У вас есть что-нибудь? — Пока ничего, товарищ прокурор. Но Олег Николаевич кажется уже крепко держит Путоева, — и он одобрительно поглядел на молодого следователя.Оставшись один, Глебов задумался. Перебирая в памяти подробности разговора с Путоевым, он старался понять, почему этот допрос вызвал в нем чувство какого-то неосознанного беспокойства? Поведение Путоева было обычным для преступников, не признающих вину: голословное отрицание свидетельских показаний, утверждение своей невиновности и ссылка на родственников и знакомых… И все же в поведении Путоева было что-то такое, что заставляло Глебова вновь и вновь мысленно возвращаться к нему. Глебову было всего двадцать шесть лет. В этом возрасте не так-то просто понять чужой характер, почувствовать его. А ведь от этого зависит и умение правильно подойти к человеку. Да, жизненный опыт Глебова был небогат. И все же, будучи от природы человеком впечатлительным и наблюдательным, Глебов сейчас интуитивно чувствовал, что Путоев вел себя не так, как вел бы себя преступник. Его ожесточенность, озлобленность поразили Глебова с самого начала допроса, но он объяснял это недоверием подследственного к нему, молодому следователю. «Может быть, он думает, что я просто не смогу или не намерен объективно во всем разобраться? Что я обязательно хочу «списать» на него, семь раз судимого, это убийство? — думал Глебов, вглядываясь в сгущающиеся за окном сумерки. — И почему он так тяжело посмотрел на меня, когда я спросил про кровь на одежде? Непохоже, чтобы он был уличен этим вопросом. Неужели он все-таки не виновен и действительно считает, что мы просто «подгоняем» доказательства?» Глебов встал из-за стола и, подойдя к двери, щелкнул выключателем. Яркий электрический свет залил кабинет. Чтобы рассеяться и отогнать мучившие его сомнения, следователь вышел, спустился на первый этаж, в дежурку. Вскоре туда пришла жена Путоева, затем Григорий Грешняк. Ковалева явилась немного позже, когда Глебов, вернувшись в кабинет, уже допрашивал жену задержанного.
IV
В кабинет к начальнику горотдела милиции вошли Лавров и Рябинин. Начальник уголовного розыска Романов докладывал о каком-то деле. — Продолжайте, мы подождем, — сказал Лавров. — Ничего. Сделаем перерыв, — ответил Орешкин и обратился к Романову: — Зайди позднее, а я пока займусь с прокурорами. Романов вышел. Лавров начал разговор: — Мы со Степаном Николаевичем решили проверить, как горотдел милиции борется с преступностью. — А как вы это будете проверять? — спросил Орешкин, прищурившись. Лавров перечислил разделы работы, которые в данном случае интересуют прокуратуру. — А как проверять будем? По конкретным делам, конечно, — чуть улыбаясь, сказал он. — Надо полагать, вы нам поможете?.. — Представление в горком на меня решили написать! — заявил Орешкин. — Ясно! — Да разве в этом дело, товарищ Орешкин? — удивился Лавров. — Мы ж не о том думаем! Хочется наладить работу, нашу с вами работу, поймите вы это! Посмотрим ваши дела, заявления граждан, организаций; проверим, как работники горотдела реагируют на эти заявления. Иначе говоря, поинтересуемся вашей работой со всех сторон. Начнем с камеры предварительного заключения. Правда, я недавно побывал там, но это не повредит. Может быть, пройдете вместе с нами? — спросил Лавров, явно пытаясь сбить с Орешкина взятый им враждебный тон. — Там есть дежурный, — сухо возразил Орешкин. — Он и проведет вас. Я ему сейчас позвоню. — Нет, нет, звонить не надо, — сказал Лавров. — Мы сами пойдем… Лавров и Рябинин просматривали заявления граждан, проверяли обоснованность возбуждения уголовных дел, качество дознания… Прокуроры указали оперативным работникам милиции на серьезные недостатки в их работе, на случаи нарушения законности. Большинство работников милиции внимательно отнеслось к замечаниям прокуроров. Лишь Орешкин просто уклонялся от разговоров. Поняв это, Лавров перестал беспокоить начальника милиции. А тот, выждав несколько дней, явился в горком к Дымову и заявил: — Прокурор Лавров мешает милиции нормально работать, бороться с преступностью. У нас накопилось много фактов! Я не могу молчать! Мы задерживаем преступников, а прокурор их освобождает. Мы заканчиваем следствие по делам и посылаем к прокурору, чтобы затем судить преступников, а Лавров эти дела либо прекращает, либо возвращает обратно в милицию, создавая тем самым волокиту. От этого теряется эффективность борьбы с преступностью. Я написал письмо. Прошу ознакомиться и принять меры. Если горком не вмешается, мы не сумеем нормально работать… Выслушав Орешкина, Дымов взял письмо, прочитал его и произнес: — А почему вы раньше ничего нам не сообщали? Надо было о первых двух-трех фактах проинформировать горком, и мы бы сразу приняли меры… — Я думал, что Лавров поймет. Но из моих замечаний он не делает для себя никаких выводов. Поэтому-то я и решил обратиться к вам. — Хорошо, — сказал Дымов. — Будем ставить вопрос на бюро. Из кабинета секретаря горкома Орешкин вышел довольным. «Молод еще, чтобы меня провести! За меня не такие брались — и то не получалось!» — думал начальник милиции. А Дымов, оставшись один, вновь прочитал письмо Орешкина и пошел к первому секретарю. — У меня только что был Орешкин, — сказал Дымов, входя в кабинет первого секретаря. — Оказывается, наш прокурор плохо разбирается в делах. Орешкин сообщил такие факты, на которые мы не можем не реагировать. Мы допустили оплошность, что ни разу не проверили работу прокурора, а тот черт знает что творит! У Орешкина с прокурором ненормальные отношения, это тоже мешает их работе. Нам, пожалуй, надо их обоих заслушать на бюро, обоим всыпать и заставить работать, а не спорить. — Подождите, Яков Петрович! — заговорил Давыдов.. — Прежде чем «всыпать», как вы выразились, мы должны во всем разобраться. Разрешите ознакомиться с письмом? Прочитав письмо Орешкина, Семен Сергеевич сказал: — Это только сигнал. Покажите это письмо товарищу Лаврову. Пусть он обязательно даст объяснение. Тогда-то мы и решим, что делать дальше. — Мы Орешкина больше знаем! Он у нас работает давно, — начал было Дымов. Но Давыдов перебил его: — Согласен, Орешкина мы знаем больше. И должен признаться, что я вовсе не в восторге от его работы. Что же касается его письма, то и здесь есть над чем задуматься. Как оно появилось? Почему? Понятно, что работники милиции, пренебрегающие законностью, вряд ли будут довольны деятельностью прокурора, указывающего им на это. Теперь остается понять, чего не поделил Орешкин с Лавровым. А чтобы понять это, надо выслушать обе стороны и как следует разобраться в конфликте, прежде чем делать выводы. — Да, но ведь Орешкин в письме сообщает конкретные факты! — стоял на своем Дымов. — Против этих фактов прокурор вряд ли сумеет возразить! — А вдруг сумеет? — сказал Давыдов. — И потом: ведь оценка того или иного факта начальником милиции может не совпасть с оценкой прокурора? На то прокурор и является представителем центральной власти, чтобы быть свободным от местных влияний, если они наносят ущерб делу укрепления законности. Дымов взял письмо и, сказав, что обязательно пригласит к себе Лаврова, вышел из кабинета.Юрий Никифорович внимательно просмотрел записи, которые делал при проверке милиции, взял у Рябинина дополнительные материалы, и оба они направились к Орешкину. — Мы со Степаном Николаевичем проверили работу в вашем горотделе, — с места в карьер взял Лавров. — Надо сказать, что картина выявилась печальная. Очень много серьезных ошибок. Взять хоть дело об убийстве новорожденного ребенка. Вместо того чтобы по получении сведений об этом поднять на ноги оперативный состав и немедленно связаться со следователем прокуратуры, вы отдали все материалы участковому уполномоченному, который продержал их у себя 16 дней, а затем вынес постановление о прекращении дела за неустановлением виновных. Разве это серьезно, товарищ Орешкин? Или дело о краже вещей из квартиры Кашеваровой. Преступники взломали замки, забрали у женщины все ценные вещи. Она их трудом наживала. И вместо того чтобы изобличить преступников, вы пишете постановление о прекращении дела и обвиняете потерпевшую Кашеварову в том, что она часто отлучалась из дома, оставляя квартиру без присмотра. Кроме того, вы не выполняете предложений прокурора. Мы за последнее время не раз проверяли камеру предварительного заключения и каждый раз сталкивались с фактами незаконного задержания граждан. Только в последние шесть месяцев было пять таких случаев. И сейчас мы обнаружили двух задержанных, не совершивших никакого преступления. Конечно, мы их освободили, но дело, товарищ Орешкин, не только в них. Вы вообще не считаетесь с требованиями прокурора, нарушаете законность, ущемляете права граждан, а это уже посерьезнее. Орешкин, насупившись, молчал. Он ни разу не прервал Лаврова и, только когда тот кончил, надменно заявил. — Прокурора интересует только закон, — заявил он. — А меня в первую очередь интересует борьба с преступностью и наведение порядка в городе. Если я буду делать так, как мне говорит прокурор, я никогда не наведу порядка в городе, не выполню требования партийных органов. — Это, товарищ Орешкин, простите меня, — демагогия, — не удержался Лавров. — Пока что мы убедились в том, что порядками вам хвастаться не приходится. Достаточно сказать, что по трем заявлениям граждан о квартирных кражах вы не только не провели расследования, а даже нигде не зарегистрировали эти заявления. За последние шесть месяцев горотдел не разыскал ни одного скрывшегося преступника. Бывший работник сельпо, Гребнев, растратив 7 тысяч рублей, скрылся, а при проверке выяснилось, что он уже четыре месяца работает милиционером в станице, в тридцати пяти километрах от горотдела. Известно вам это? Растратчик в роли блюстителя порядка! Орешкин вспыхнул и раздраженно произнес: — Этого не может быть! Кто-то подтасовал факты! — Зачем подтасовывать факты, тем более, что их и без того, к сожалению, хватает! Мы со Степаном Николаевичем убедились в том, что руководство горотдела милиции не заботится о раскрытии преступлений. Вспомним хоть убийство Гармаш. Почему никто из работников уголовного розыска не прибыл на место происшествия? Почему бы и вам лично не поинтересоваться столь вопиющим случаем? — Но туда же поехал ваш следователь! Вы же начали следствие по этому делу! Сами начали, сами и раскрывайте… — Вот видите! — разочарованно развел руками Лавров. — С вами и говорить-то трудно. А ведь у меня к вам было еще много вопросов. Я хотел, в частности, совместно с вами обсудить вопрос о привлечении комсомольцев и общественности к борьбе с преступностью. Но Орешкин не собирался ничего обсуждать. — Я вижу вы не только не верите в мои способности навести порядок в городе, но и вообще не доверяете работникам милиции! — вспылил он. — В борьбе с хулиганами я уже двадцать пятый год обхожусь своими силами и не нуждаюсь ни в чьей помощи… — Но пока что это у вас получается неважно, — заметил Лавров. — Кстати сказать, ваш лейтенант Петренко с двумя молодыми парнями — комсомольцами не уходит домой из опытного участка вот уже третьи сутки! Все втроем они работают над разоблачением взломщиков кассы. А вы, начальник горотдела, даже не знаете об этом. Не знаете, чем занимаются ваши подчиненные, и тут же заявляете, что ни в чьей помощи не нуждаетесь. Не могу с этим согласиться, — сказал Лавров и, считая дальнейший разговор с Орешкиным бесполезным, попрощался. Весь день Лавров и Рябинин готовили обстоятельное представление в городской комитет партии о неудовлетворительной работе горотдела милиции по борьбе с преступностью и о грубейших случаях нарушения советской законности персонально Орешкиным. Когда представление было написано и отпечатано, Лавров направился к Давыдову. Через полчаса он докладывал секретарю горкома партии о результатах проверки. — Создавшуюся тяжелую обстановку можно было бы изменить, если бы товарищ Орешкин осознал недостатки. Но у Орешкина больше гонора, чем знаний, и это очень сказывается. Заучил несколько демагогических, громких фраз и пытается прикрыть ими свою малограмотность. К требованию соблюдать законность относится, как к чьему-то капризу, свое личное усмотрение ставит выше законов. Я пытался с ним говорить, несколько раз серьезно с ним беседовал, но он отмахивается от меня, как от назойливого комара, и делает свое. Я попросил бы, Семен Сергеевич, чтобы горком партии принял какие-то меры, потому что заносчивость начальника горотдела и его беспечность серьезно мешают нам бороться за укрепление законности… Ознакомившись с представлением, Давыдов спросил: — Все эти факты хорошо проверены? — Да, все, о чем здесь говорится, к сожалению, полностью соответствует действительности. Но ведь здесь речь идет лишь о наиболее серьезных фактах, в действительности же их значительно больше. — Вы когда начали проверку? — Десять дней назад, и занимались ею в течение восьми дней. — Хорошо! Я посоветуюсь с членами бюро горкома. Очевидно, вопрос о работе милиции вынесем на обсуждение бюро. А вы, Юрий Никифорович, зайдите к товарищу Дымову, познакомьтесь с письмом Орешкина. Едва Лавров успел войти в кабинет, как Дымов начал: — Я располагаю данными, что у вас с Орешкиным ненормальные взаимоотношения. Вы больше ругаетесь между собой, чем работаете. — Это — не совсем точные данные, Яков Петрович, — совершенно спокойно ответил Лавров. — Я с Орешкиным вовсе не ругаюсь, хотя имею для этого достаточно оснований. Ругаться с ним бессмысленно, да и времени для этого нет. Но работать нам с ним трудно, мы не находим общего языка. — Вот почитайте, что сообщает в горком партии товарищ Орешкин. Мы понимаем, любой руководитель не гарантирован от ошибок, но прокурору такие грубые ошибки непростительны. Лавров прочитал письмо Орешкина и, возвращая его Дымову, так же невозмутимо произнес: — Ну, что ж… Это письмо — результат того, что товарищ Орешкин не читает уголовных дел. Ни в один из сообщаемых фактов он как следует не вник. Я могу доказать, что по всем делам решения мною принимались после тщательного изучения всех материалов дела. А вот у Орешкина доказательств нет. Он исказил факты, да еще и доказал, что у него заведена на прокурора так называемая черная папка. Сомнительные методы!.. Я полагал, что они давно сданы в архив… Ведь это же донос! — не сдержав себя, уже с возмущением сказал Лавров. — Не рано ли вы называете это письмо доносом, товарищ Лавров? Ведь мы будем проверять факты. — Тем лучше для меня. Вот тогда-то вы и убедитесь в этом. И хорошо, если вы пригласите нас обоих, товарищ Дымов. Орешкин окончательно запутался, и горкому партии действительно необходимо вмешаться в наши с ним ненормальные взаимоотношения. — Объективны ли вы, товарищ Лавров? Ведь у Орешкина большой практический опыт. Он у нас уже шесть лет работает, а вы… — Я строю свои выводы на конкретных фактах, — прервал Дымова Лавров. — И не все определяется стажем, это — не единственный критерий. — И все же я попрошу вас написать официальное объяснение по заявлению Орешкина, — предложил Дымов. — Не пожалейте времени. — Напишу, — ответил Лавров, — хотя тратить на это время действительно жалко.
V
Сомнения Глебова оказались не напрасными. Допрос Григория Грешняка, жены Путоева и ее приятельницы Ковалевой окончательно убедили молодого следователя в том, что его единственная версия, в которую он так слепо верил, оказалась ложной. Все трое допрошенных свидетелей подтвердили показания Путоева. Нашлась и четвертая свидетельница — Анна Приходько, которая в двенадцатом часу ночи зашла к Путоевым за термометром для заболевшего ребенка и видела кузнеца спящим. Можно было допустить, что первые три свидетеля подготовлены Путоевым и дают ложные показания. Но последняя, судя по всему, говорила правду. В ту же ночь ее вместе с тяжело заболевшим ребенком доставили в больницу. Романов установил, что в больницу к Анне Приходько в эти дни приходил только ее муж — управляющий отделением совхоза, коммунист, человек всеми уважаемый, которого было бы просто нелепо заподозрить в пособничестве убийце. Что касается пятен крови на рубашке Путоева, то и они оказались иного происхождения, чем предполагал Глебов. Жена Путоева, не задумываясь, ответила на этот вопрос: — У меня из носа вдруг пошла кровь, вот я и схватила первую попавшуюся под руки вещь — его рубаху. Глебов склонен был поверить женщине, но все же дал ей направление к эксперту и в тот же день направил на исследование взятую у нее кровь. Во второй половине дня Лавров вместе со следователем Багровым выехали в детскую трудовую колонию,где загорелся главный корпус, и Глебов не успел доложить прокурору о последних результатах следствия. На следующий день он пришел на работу рано утром, дождался работника милиции, который привез из города заключение экспертизы, и, убедившись, что группа крови Путоевой совпадает с группой крови убитой, пошел к прокурору. — Юрий Никифорович, вы не беседовали с Путоевым? — Нет. Вчера возвратился поздно. Собираюсь зайти в милицию после обеда. А как ваши успехи? — Никаких успехов, Юрий Никифорович, — хмуро ответил Глебов. — От тех доказательств, какие были, почти ничего не осталось. И он доложил прокурору обо всех новых данных. — Таким образом, остаются отпечатки пальцев на стакане и показания свидетеля Родина, — закончив докладывать, сказал Глебов. — Но ведь Путоев и сам не отрицает, что в тот вечер пил у них воду, только не помнит, из чего именно. Что же касается показаний Родина, то следственный эксперимент говорит одно: при данных обстоятельствах можно было с одинаковой вероятностью и опознать человека, и ошибиться. Собственно, Родин ведь и не утверждает, что видел именно Путоева. Он и на первом допросе сказал: «По-моему, это был кузнец Семен, потому что он часто выходил по ночам из дома Гармаш». — Ну, а что же милиция? Что слышно о вещах? — Ничего. Ждут пока эти вещи появятся на рынке. Но кто понесет их на рынок, когда, в городе только и разговоров, что об убийстве? — Да… — неопределенно протянул Лавров и после долгой, напряженной паузы тихо, но решительно сказал: — Путоева надо освобождать, Олег Николаевич. А нам с вами это — наука. Вот что значит работать по одной версии! — Да ведь вы, Юрий Никифорович, предупреждали меня. — Здесь — целиком моя вина… Помните… — Все помню! — прервал Глебова Лавров. — Но я не предупреждать должен был, а доказать вам, что это недопустимо. Я просто не должен был позволить вам работать по одной версии! Освободив Путоева из камеры предварительного заключения, Глебов еще раз допросил его. Теперь Путоев был оживлен, охотно отвечал на вопросы. — Вы, извините, гражданин следователь, погорячился я в прошлый раз. Думал, нахально дело пришить хотите, обидно стало. Я ж два с лишним года уже на воле живу, спички ни у кого не взял, мозоли вот на руках от работы. И вдруг ни за что за решетку. Вам этого не понять, конечно, — добавил он, безнадежно махнув рукой. Но Глебов понял. Еще тогда, на первом допросе, впервые встретившись с взглядом Путоева, он подсознательно почувствовал, что жгучая ненависть и презрение в глазах задержанного говорят о большой, тяжелой обиде. Глебов спросил Путоева, не рассказывал ли он кому-нибудь из своих приятелей о том, что у Анны имеются деньги и к ней на квартиру часто приносят дорогие отрезы. — Нет, никому я об этом не говорил, — сказал Путоев. — Ни к чему было… Остаток дня Глебов потратил на составление обвинительного заключения по делу, которое он закончил несколько дней назад. Потом просмотрел еще два дела. По ним тоже надо было работать, но убийство Гармаш выбило следователя из обычного графика. Приведя все в порядок и сложив дела в сейф, Олег Николаевич вышел из кабинета. Впервые за все эти дни он вовремя лег спать, порадовав этим и свою хозяйку-старушку, которую постоянно беспокоил, возвращаясь поздним вечером. Утром Глебов и Лавров поехали к дому Гармаш, еще раз осмотрели двор, квартиру, побеседовали с дочерью убитой. Женщина была явно рада тому, что Путоев не является убийцей. Видимо, это снимало с ее души тяжелый груз вины перед покойной матерью. Дополнительный осмотр места происшествия ничего не дал. — Придется, Олег Николаевич, еще раз тщательно изучить дело и вещественные доказательства, — сказал Лавров. — Может быть, станет яснее, с чего начинать. Именно начинать! — подчеркнул он, — ибо все, что мы проделали, не подвинуло нас ни на шаг ближе к цели. Глебов добросовестно просидел полдня за изучением дела, еще раз осмотрел вещественные доказательства, но ничего нового не нашел. Убийство произошло в двенадцать часов ночи, в самом начале первого. Это было ясно из показаний всех свидетелей, которые слышали предсмертный крик потерпевшей. Женщина была убита железной полуосью, об этом говорили немые свидетели — вещественные доказательства: прилипшие к полуоси волосы принадлежали убитой, кровь на полуоси совладала по группе с ее кровью. «Что еще можно сделать? Что?» — мучительно думал следователь, в который уж раз перелистывая аккуратно подшитый том, и, окончательно отчаявшись, решил зайти к прокурору. — Я ничего не могу придумать, Юрий Никифорович, — признался он, дождавшись, когда следователь Багров закончил докладывать и вышел из кабинета. — Я знаю дело буквально наизусть, но совершенно не представляю себе, что же теперь предпринять? — Вы, кажется, опять впадаете в панику, Олег Николаевич, — заметил Лавров, уловив в голосе Глебова нотки отчаяния. — Но ведь наша работа почти сплошь состоит из ребусов и загадок, которые нам задают преступники. Пора бы вам к этому привыкнуть. Достав из сейфа какие-то бумаги и раскладывая их на столе, Лавров продолжал: — Запомните одну простую истину: никакой самый хитрый и опасный преступник не может замести все следы преступления. И настоящий следователь обязательно найдет эти следы, если проявит необходимое терпение, настойчивость, проницательность… Лавров говорил спокойно и убедительно. Глебов слушал его молча и с грустью думал о том, что сам он, со своим неуравновешенным характером, наверное, никогда не сможет стать «настоящим» следователем. Сколько дней он переживает, не спит по ночам, суетится, а что толку? Поверил в одну версию и завел дело в тупик. Сорвалась эта версия — размяк, как какой-то хлюпик. А Лавров?.. Он ведет себя так, будто ничего особенного не случилось. Все эти дни он, как обычно, занимался своей разносторонней работой: принимал участие в расследовании дела, успевал бывать на заседании исполкома, в горкоме партии, на предприятиях, беседовать с посетителями, разрешать текущие вопросы. Вот и теперь, разговаривая с Глебовым, он подбирает и аккуратно раскладывает печатные странички. Кажется, это лекция. Глебов слышал, как Лавров по телефону обещал кому-то, что в воскресенье в парке прочтет для молодежи лекцию о моральном облике советского человека. — Вы меня слушаете, Олег Николаевич? — спросил Лавров, заметив, что Глебов, опустив голову, уставился отсутствующим взглядом в одну точку. — Да, Юрий Никифорович. Глебов поднял глаза, встретил внимательный, изучающий взгляд Лаврова и снова опустил голову. Он чувствовал себя, как мальчишка, не выучивший урока. Но Лавров не понял Глебова, по-своему истолковал его состояние. — Вы, кажется, думаете, что я пичкаю вас прописными истинами? — сказал он. — Но я попытаюсь убедить вас в том, что и они нужны. Оставьте мне дело и вещественные доказательства. А утром в понедельник зайдите. Вместе подумаем, что можно сделать. Оставив все материалы у прокурора, Глебов вернулся к себе в кабинет. Развернув большой лист бумаги с общим планом расследования других дел, вяло просмотрел его. Затем стал выписывать повестки свидетелям. Работа отвлекла его от мысли о неудаче. Прошел день. Покинув под вечер прокуратуру, Глебов направился в кино, надеясь рассеяться и избавиться от своей хандры. Лавров же в конце рабочего дня вызвал секретаря и сказал: — Мария Ивановна; отпустите машину. Я задержусь. И, убрав со стола бумаги, положил перед собою принесенное Глебовым дело. Зазвонил телефон, и Юрий Никифорович услышал обычное: — Юра, ты скоро? — Нет, Верочка! Часа через три, не раньше, — ответил он чуть виноватым голосом. — Неужели даже в субботу нельзя прийти домой вовремя?! — голос жены дрожал от обиды. Лавров представил себе, как она обиженная, сдвинув брови, стоит у телефона… — Не сердись, маленькая, — ласково заговорил он. — У меня совсем неожиданная и срочная работа. Ты ведь тоже иногда уезжаешь к больным по ночам, я я жду. Не виновата же ты, что люди заболевают… Лавров любил жену. На десятом году супружеской жизни он сохранил к ней юношескую нежность. Вера Андреевна была хирургом и, переехав на новое место, быстро нашла работу. Работала она много и с мужем виделась фактически только по субботам и воскресеньям, а в остальные дни — урывками. Оба чувствовали, что им не достает друг друга. Скучал по отцу и Сашка. «Ох, да я ж обещал его завтра в цирк сводить!» — вспомнил Лавров, положив трубку. Но на шесть часов вечера в городском парке была объявлена лекция. Впрочем, не страшно, в парк они могут пойти все вместе, а потом — в цирк… Лавров углубился в чтение дела. Закончив последний протокол, закурил. «М-да… Трудное дело. Материал сырой, — подумал он. — И какое все-таки счастье для этого Путоева, да и для нас, что посторонние люди видели его в это время дома! А вдруг задержался бы где-нибудь? Ведь столько улик было против него!..» Юрий Никифорович взялся за вещественные доказательства. Ржавая железная полуось с едва заметными теперь следами крови и приставшими к поверхности мелкими кусочками каменного угля ни о чем ему не сказала. «Узнать бы, кому она принадлежала, — подумал Лавров. — Глебов, кажется, не задавал себе этого вопроса…» И он сделал для себя пометку на листке бумаги. Отложив полуось, Лавров взял большой конверт, в который были аккуратно уложены окровавленные куски газеты. Рассматривая их через лупу, он увидел на одном обрывке, залитом кровью, едва заметный карандашный штрих. «Что это может быть? — размышлял он, всматриваясь в маленькую серую черточку между кровяным пятном и оборванным краем газеты. — Может быть фамилия подписчика? Ведь это верхний угол первой страницы. Вот только сохранились ли буквы под пятном крови? Хоть несколько букв!» Низко наклонившись над столом, Лавров то плотно прикладывал лупу к газетным листкам, то снова отводил ее, напряженно вглядываясь в каждое пятнышко на потемневшей, запачканной ржавчиной, кровью и углем газетной бумаге. Но найти ему больше ничего не удалось. Окончив осмотр, он устало откинулся на спинку стула. На сегодня хватит!VI
В понедельник с утра Лавров вызвал Глебова. — Видите ли, Олег Николаевич, как это ни неприятно, но я вынужден указать вам на некоторые ваши просчеты. Я понимаю, что у вас еще нет достаточного опыта для расследования сложных дел, и именно поэтому всегда готов помочь вам. Но внимательность при осмотре вещественных доказательств — это не то качество, которое надо вырабатывать годами. Здесь нужно просто дисциплинированность, умение заставить себя работать тщательно. А вы кое-что проглядели. Вот посмотрите! — Лавров достал из пакета обрывок листа газеты. — Здесь ясно, даже без лупы, виден карандашный штрих. Видите? — Вижу! — ответил Глебов. — Быть может, он так и останется штрихом и не будет нам ничем полезен, — продолжал Лавров. — Но не обратить на него внимание нельзя. Ведь даже из теории нам известно, что в уголовном деле нет мелочей, которыми следователь может пренебречь. Вы понимаете меня? — Да, Юрий Никифорович, — неуверенно ответил Глебов. — Конечно. Ведь здесь обычно пишут фамилию подписчика или, во всяком случае, его адрес. Он густо покраснел. Ему действительно было стыдно за свою беспомощность. Лавров сделал вид, что не заметил смущения следователя. — И потом — полуось, — продолжал он. — Вы пытались установить, кому она принадлежит? — Нет, я считал это невозможным, — ответил Глебов, не поднимая головы. — Сегодня же дайте задание милиции. Невозможным вы будете вправе считать это не раньше, чем исчерпаете все возможности, которыми еще не воспользовались. Из кабинета прокурора Глебов вышел красный и злой на самого себя. Извинившись перед ожидавшим его свидетелем и попросив его прийти через час, он осторожно положил аккуратно завернутые Лавровым в газету вещественные доказательства и достал из следственного чемодана лупу. Долго и сосредоточенно всматривался Олег Николаевич в хорошо знакомые предметы. Он не чувствовал сейчас той противной вялости в движениях и в мыслях, которая овладевала им временами после неудач, превращала способного и умного человека в безвольное существо, лишенное работоспособности и смекалки. Разговор с Лавровым как бы встряхнул Глебова. Он почувствовал прилив здоровой энергии. «Шерлок Холмс, конечно, из меня не получится, но видеть и понимать такие простые вещи, о которых говорил прокурор, я могу и обязан. Это доступно каждому, — размышлял он, внимательно разглядывая в лупу кусочки каменного угля на железной полуоси. — Надо будет сказать Романову, что обладателя этой железки следует искать прежде всего в тех дворах, где есть каменный уголь…» Сложив вещественные доказательства в шкаф, Глебов оставил на столе лишь куски газеты, которые решил сегодня же направить на экспертизу, и полуось.VII
Когда Орешкина пригласили в горком партии и ознакомили с представлением прокурора, он заявил: — Вот видите, стоило мне написать на прокурора письмо в горком, как он тут же написал представление на меня. Это со стороны Лаврова ни больше, ни меньше, как зажим критики. Я думаю, горком поймет, что за человек этот прокурор. Он все время ко мне придирается, его придирки мешают работать. Я двадцать пятый год работаю, со многими прокурорами работал, но таких взаимоотношений у меня не было ни с одним. Я отрицаю факты, указанные в представлении Лаврова, — продолжал Орешкин. — Он необъективно оценил нашу работу. Если эти факты в действительности имели место, то почему он мне о них ничего не говорил при проверке? Я настаиваю на вторичной, объективной проверке и не прокурорами, а работниками горкома. Меня тут знают ие меньше, чем Лаврова. — Вы полностью опровергаете представление прокурора или, может быть, не согласны лишь с отдельными фактами? — спросил Орешкина заведующий отделом горкома. — Я категорически отрицаю все эти факты! Комиссия горкома может легко убедиться в том, что я прав. — Хорошо. Я поддержу вашу просьбу, но должен вас предупредить, что предложу ввести в состав комиссии горкома и товарища Лаврова, и других работников прокуратуры. Орешкин, красный от негодования, заявил: — Тогда какой смысл в перепроверке? Они, конечно, будут всячески изворачиваться, лишь бы не признать, что написали чепуху. — Вы немного подождите, я зайду к товарищу Давыдову. Заведующий отделом ушел. Орешкин остался в кабинете, затем вышел в коридор, нервничая, расхаживал по нему и обдумывал, какие ему принять меры, чтобы опровергнуть материалы, представленные прокурором. Свой гнев он перенес с прокурора на подчиненных, которые, как он считал, оказались разинями и дали возможность прокурору рыться, где не следует. И Орешкин твердо решил, что, когда кончится проверка, он разберется, кто из его работников вошел в контакт с прокурором. Таким работникам не будет места в горотделе!.. Вернувшись, заведующий отделом сообщил Орешкину: — Завтра комиссия горкома займется проверкой фактов, изложенных в представлении прокурора. Она проверит и состояние воспитательной работы в горотделе. В комиссию войдут пять товарищей: два работника горкома партии и трое из прокуратуры. — Опять из прокуратуры? Я же говорил… — начал было Орешкин, но заведующий отделом перебил его: — У горкома нет оснований не доверять работникам прокуратуры. — А я не доверяю Лаврову! — Но ведь в комиссии будут и работники горкома. Вместе с вами и с прокурорами они сумеют во всем объективно разобраться. Орешкин вышел из кабинета недовольный. В течение нескольких дней комиссия горкома партии проверяла работу милиции и убедилась в объективности и правильности выводов прокурора. На очередном заседании бюро рассматривался вопрос о работе товарища Орешкина. Члены бюро говорили о том, что Орешкин плохо руководит горотделом милиции, допускает нарушения законности. Орешкин сидел красный, потный. — Мне осталось четырнадцать месяцев до получения пенсии, — сказал он. — Я прошу дать мне возможность уйти на пенсию с этой должности. Я хочу… — Нет, товарищ Орешкин, мы не можем в данном случае исходить только из ваших личных интересов, — сказал Давыдов. — Работу милиции необходимо налаживать немедленно, а вы, как это показало обследование, не сумеете с этим справиться. Бюро горкома единодушно приняло решение об освобождении товарища Орешкина от должности начальника городского отдела милиции, так как он не обеспечивал руководства горотдела милиции и нарушал советскую законность. Через несколько дней Давыдов позвонил Лаврову и пригласил его к себе. В кабинете секретарь был не один. Поздоровавшись с прокурором, секретарь горкома партии, улыбаясь, произнес: — Познакомьтесь, новый начальник горотдела милиции, товарищ Туманов. — Я пригласил вас, чтобы мы здесь вместе обсудили, с чего бы товарищу Туманову следовало начать свою деятельность на новом поприще. Недостатки в работе милиции ему известны, но, чтобы устранить их, потребуется ваша помощь… — В организации дознания — пожалуйста, мы поможем, — сказал Лавров. — Я попрошу Рябинина поработать в горотделе, пока товарищ Туманов освоится. Что же касается оперативной работы, то в горотделе есть хорошие, добросовестные работники, коммунисты. Они, безусловно, помогут товарищу Туманову. Да и ничего там непостижимого нет. Но первое, с чего нам надо бы с вами начать, — обратился Лавров к Туманову, — это подумать, как привлечь комсомол и общественность к борьбе с преступностью, к наведению общественного порядка в городе. — Правильно, — подтвердил Давыдов. — Надо навести в горотделе настоящий порядок, обзавестись широким и надежным активом.VIII
Сидя за своим столом, Глебов разбирал утреннюю почту: требования, справки адресного бюро, характеристики на обвиняемых… Последним ему попался акт криминалистической экспертизы с четкой резолюцией Лаврова в левом углу: «Тов. Глебову». Не читая описательной части акта, Глебов нетерпеливо открыл вторую страничку и прочел заключение:«Представленные на экспертизу куски бумаги различной формы и величины являются обрывками газеты «Известия» с печатным текстом. Исследуемый карандашный штрих расположен на свободной от печатного текста верхней полоске первой страницы и является продолжением штриха, образующего цифру «5», написанную от руки химическим карандашом. Каких-либо других надписей, сделанных от руки карандашом или чернилами, не обнаружено».Из конверта, подклеенного к заключению, Глебов извлек в несколько раз сложенный лист тонкой прозрачной бумаги, соответствующей по формату газетному листу, с аккуратно наклеенными на него обрывками газеты. Пятна крови были сведены с них, и на верхней белой полоске Глебов действительно увидел голубовато-серую, размашисто написанную цифру «5». Оторванным оказался верхний правый угол газеты. Цифра «5» находилась у самой границы разрыва. «Что означает цифра пять? — растерянно подумал Глебов. — Номер дома или номер квартиры?.. Скорее всего, это дом, а квартира и фамилия подписчика, вероятно, остались на оторванном куске…» Через несколько секунд, сияющий, он стоял в кабинете прокурора. — Юрий Никифорович! Заключение экспертизы пришло. Вот посмотрите — цифра пять — это, наверное, номер дома, а остальное оторвано… — Так, так, — сказал Лавров, рассматривая развернутый на столе лист. — Допустим… Что же дальше? — Дальше я буду искать этот самый дом номер пять. — Как искать? В городе таких домов немало. — Я еще не думал над этим, Юрий Никифорович. — Я ведь только что прочел акт экспертизы и… — И решили со мной поделиться, — улыбаясь, договорил за него Лавров. — Хорошо. А теперь подумайте о том, как организовать поиски дома номер пять с наименьшей затратой времени и с наибольшим эффектом. И зайдите ко мне минут через сорок. Я как раз закончу статью для газеты — просили сегодня сдать.
Два дня потратил Глебов на поиски нужного ему дома номер пять. В городе оказалось четыре почтовых отделения. В первый же день Глебов побывал в них, попросил сделать ему выборку подписчиков газеты «Известия», проживающих в домах под номером пять по всем улицам. К радости следователя, таких оказалось сравнительно немного: Глебову дали всего семь адресов. Затем следователь выяснил, кто доставляет газеты в эти адреса, и на другой день вызвал к себе пять почтальонов. Первые четверо категорически заявили, что это — не их пятерка. А пятый почтальон, молодая, смешливая девушка Тамара Лукашко, едва взглянув, уверенно сказала: — Я писала! А что, вам не нравится? Нам ведь выводить не приходится, некогда… — Да не в красоте дело, Тамара! — радостным голосом воскликнул Глебов. — Вы только скажите, точно ли это ваш почерк? — Мой, мой же, говорю вам! — подтвердила ничего не понимавшая девушка. — Дальше-то что? — А дальше вот что, — стараясь говорить как можно спокойнее, продолжал Глебов. — Сейчас мы с вами пройдем на почту и посмотрим, много ли ваших подписчиков живет в домах под номером пять. Не вообще подписчиков, а на «Известия», конечно… — Чудно, честное слово! — вставая, сказала Тамара и, смеясь, добавила: — Что ж, давайте пройдемся!.. Из всех пятых домов, которые обслуживала Тамара Лукашко, «Известия» доставлялись лишь в дом № 5 по улице Кирпичной, Зое Павловне Рубовой.
Глебов доложил прокурору обо всем, что удалось установить, и о своем намерении завтра же допросить Рубову. Выслушав его, Лавров поинтересовался: — О чем вы думаете ее спрашивать? — Да, собственно, вопрос один: каким образом газета из ее дома попала на место преступления. — А если она скажет, что не знает, как это произошло? Глебов помолчал: ему не хотелось признаваться в том, что он еще не продумал предстоящей беседы, не подготовился к ней. — Тогда я выясню, кто у нее бывал в эти дни, и допрошу этих людей, — сказал он. — Может быть, это и придется сделать, — заметил Лавров, — но прежде, чем задавать Рубовой какие-либо вопросы, постарайтесь выяснить, что она за человек, чем занимается, кто ее родственники, с кем она встречается, кто бывает у нее. Зная образ жизни свидетеля, всегда легче его допрашивать. — Понял, Юрий Никифорович. — Завтра дайте задание милиции, а сами тем временем официально допросите соседей Рубовой. — Хорошо, я начну эту работу завтра же.
На другой день Глебов поехал на Кирпичную. Он решил допросить соседей Рубовой в домашней обстановке, был уверен, что так проще будет вызвать их на откровенный разговор. Правда, предварительно следовало бы зайти в милицию. Быть может, там уже успели получить более или менее полные сведения о семье Рубовых. «Нет, все равно свидетелей допрашивать надо. Начну с них», — решил Глебов. Под номером пять оказался маленький одноэтажный особнячок, обнесенный камышовым забором. Несколько минут Глебов ходил по противоположной стороне улицы, размышляя над тем, в какой из соседних домов зайти. Перейдя улицу, он решительно направился к соседнему дому справа, где застал старушку лет семидесяти, Пелагею Ивановну, женщину, к счастью, очень разговорчивую и прекрасно осведомленную об образе жизни своих соседей. Старушка искренне обрадовалась возможности поговорить с новым человеком, и уже минут через двадцать Глебов знал о семье Рубовых больше, чем надеялся узнать, опросив всех соседей. Зоя Павловна Рубова работает на швейной фабрике, а муж ее, по специальности штукатур, хорошо зарабатывает, считается одним из лучших рабочих. У них двое взрослых детей: сын и дочь. Сын служит в армии, дочь живет с мужем в другом городе. Недавно к Рубовым приезжал брат жены — Григорий Беляков, освободившийся из заключения. — Ограбил кого-то. Зоя говорила, пятнадцать лет дали ему, а он уже вернулся! И восемь годов не прошло, как вернулся, бисова душа, — неодобрительно сказала старушка и, понизив голос, продолжала: — Ужо как убийство было на Проезжей, так Зоя места себе найти не могла и до сих пор переживает. Я, говорит, Ивановна, так волновалась, так волновалась… — Чего же она так волновалась? — как бы между прочим, сочувственно спросил Глебов. — Лукерья-то Гармаш совсем на другом конце города живет, этот Григорий, небось, и слыхом-то о ней не слыхал. — О Гармашихе-то? — переспросила Пелагея Ивановна. — Да он же ходил до них! Они раньше но соседству жили, так он с той, как ее, ну с дочкой Гармашихи, росли вместе, в одной школе, кажись, учились, а после говорят гуляли вместе. И еще я скажу, пропал он в ту самую ночь. Больше мы его и не видели. — А скажите, Пелагая Ивановна, — снова спросил Глебов, чувствуя, как от волнения у него вдруг стало горячо в груди, — вы не знаете, не левша он, Гришка этот? — Кто же его знает, сынок, только у его правой руки вовсе нет. А на что это тебе? Стараясь скрыть охватившее его волнение, Глебов ответил по возможности спокойным тоном: — Да так, Пелагея Ивановна. Мы вообще-то любопытный народ, — пошутил он и встал со скамейки. — Ну, спасибо вам за рассказ. Мне бы теперь записать его… — Да я ж неграмотна, сынок, — перебила старуха. — Расписаться и то не могу, да еще, может быть, что лишнее набалакала… — Ничего, ничего, Пелагея Ивановна. Зато я грамотный, а расписаться попросим кого-нибудь за вас. Когда Пелагея Ивановна сказала, что у Белякова нет правой руки, Глебов обрадованно подумал, что преступник, наконец, найден и теперь остается лишь изобличить его. Но тут же упрекнул себя в том, что опять, как в начале расследования этого дела, считает доказанной еще не проверенную версию. «В сущности у меня еще нет никаких доказательств, одни предположения. Я даже Рубовых не допросил», — думал Глебов, направляясь к дому № 7. Навстречу, откуда-то из-под камышового забора, выскочила маленькая черная собачонка и, бросаясь под ноги, тонко и заливисто залаяла. Толкнув сбитую из ящичных досок калитку, Глебов вошел во двор, замахнулся на собачонку папкой с бумагами. Собачонка залаяла еще звонче. В это время из саманного домика-времянки вышла заспанная пожилая женщина, видимо, разбуженная лаем. На ходу повязывая платок, она прикрикнула на собаку, привязала ее и, кивнув на дверь, сказала Глебову: — Проходите в хату. Беспорядок у нас, вы уж извините, с ночной я, заспалась. — Давайте познакомимся, — сказал Глебов. — Я следователь городской прокуратуры. Женщина настороженно переспросила: — Следователь? А я думала с почты. — И она вопросительно взглянула на Глебова, не решаясь спросить его о цели прихода. Глебов поспешил успокоить хозяйку. Он сказал, что пришел побеседовать с нею о соседях Рубовых, извинился за неожиданное вторжение. Ольга Федоровна Зайцева отвечала на вопросы Глебова скупо и неохотно, и он невольно подумал, что не будь у Рубовых такой словоохотливой соседки, как Пелагея Ивановна, ему пришлось бы немало поработать, чтобы получить столь важные сведения. — А каких-либо разговоров о семье Рубовых вы не слыхали в связи с убийством женщины на Проезжей улице? — спросил под конец следователь. — Разное болтают, — уклончиво ответила Зайцева. — Да что зря говорить, когда не знаешь? И, стряхнув со стола несколько крошек, добавила, глядя в окно: — Люди чего хочешь наговорят… Глебов проследил за ее взглядом и увидел, что во двор дома номер 5 вошли мужчина и женщина. — Это Рубовы? — спросил он. Зайцева кивнула головой. Коротко записав ее показания, Глебов попрощался и вышел, не обращая внимания на рвавшуюся с цепи собачонку. Ему хотелось как можно скорее допросить Рубовых. Если отложить их допрос до завтра, Пелагея Ивановна Воронько, конечно, расскажет им о его посещении. В этом можно было не сомневаться. Подойдя к дому Рубовых, Глебов заколебался. Он вспомнил, что Лавров велел ему обязательно доложить о результатах допроса соседей Рубовых и обо всем, что удастся добыть милиции, и только после этого приступать к допросу Рубовой. «Но ведь это будет просто неразумно — имея такие сведения, ждать до завтра, — подумал Глебов. — Юрий Никифорович и сам не одобрил бы этого…» Поравнявшись с калиткой Рубовых, Глебов остановился и решительно взялся за скобу. «В конце концов, должен я когда-нибудь работать самостоятельно! Не может же меня прокурор всю жизнь за ручку водить!..» На стук из дома вышел высокий мужчина лет пятидесяти. — Можно к вам? — спросил Глебов и следом за хозяином вошел в сени. — Кто там, Миша? — донесся из комнаты женский голос. Входя в открытую дверь, следователь столкнулся с худощавой пожилой женщиной. Увидев его, она отступила, страдальчески сморщилась, схватилась за сердце и тяжело опустилась на стоявший у стены стул. — Ох, должно, Григорий опять что-нибудь натворил, — слабым голосом произнесла она. — Да ты-то чего из-за него, идиота, убиваешься? Заработал и пусть сидит! — с сердцем сказал Рубов. — На, выпей водички, — уже успокаивающе произнес он, наливая в стакан воду из стоявшего на столе графина. — Сердечница она, — объяснил он Глебову, — нервничать ей вовсе нельзя… Следователь как можно осторожнее и тактичнее допросил супругов. Он чувствовал, оба они тяжело переживают, что на их семью падает такое страшное подозрение. Рубовы ничего не скрыли от следователя. Они рассказали, что Григорий Беляков давно занимается нехорошими делами, два раза сидел в тюрьме за грабежи и, освободившись из заключения, снова не работает, «не живет на месте, а все по родственникам ездит…» — К нам он явился незваным гостем и прожил около месяца, где-то пропадая по ночам. Правда, у него тут женщина одна есть, Гавришина Любовь, на Водовозной она живет, недалеко отсюда, — говорила Рубова. — Да только и она мне сказывала, что он у нее редко бывает. Кто его знает, чем он занимался по ночам, а у меня вся душа изболелась за это время, такая я сделалась, что стуку каждого боюсь. Стану спрашивать — зубоскалит только: «У меня, — говорит, — тут баб полный город, надо у всех переспать». Такой охальник, аж слушать тошно! — А Лукерью Федоровну Гармаш вы знали? — спросил Глебов. — Знаем, а как же! Из Воронежа вместе на Кубань приехали и двадцать лет соседями прожили, — ответила Рубова и снова, сморщившись, прижала руку к груди. — В гостях мы у них были незадолго как несчастье-то с ней случилось. А потом Григорий еще сам к Анне два раза заходил. Друзья они были с детства, а потом ухаживал он за ней, пока не уехал от нас. Только не приветила она его, сказывал он мне, не велела часто ходить, боится — разговор пойдет. — Григорий знал, что Анна — портниха? — снова спросил Глебов. — Конечно, знал, она девчонкой шить-то училась. А когда приходили мы к ней, она еще нам отрезы показывала, из стола вынула и говорит: «Вот люди какие платья носят. А я только шью. И деньги есть, а купить негде. В Москву собираюсь». — Где ж он сейчас, Григорий-то? — поинтересовался Глебов. — А кто его знает! Уехал и до свиданья не сказал, как в воду канул. Может, в другой город поехал, он туда к приятелю собирался, вместе в заключении они были. Не знаю, что за приятель, знаю только — Михаилом звать. — А какого числа уехал, не помните? — Как не помнить? — вздохнула женщина. — В ту ночь это было, как… Федоровну загубили. С вечера мешок зачем-то взял у соседки Дарьи Шустовой, сказал ей, будто для картошки, когда у нас своей девать некуда. Ушел и не вернулся больше. Записывая эти показания, следователь вдруг вспомнил, что ничего не спросил про газету: разговор с самого начала принял такой оборот, что он забыл об этом. На его вопрос Рубова ответила, что «Известию» они получают, муж выписывает на работе. Окончив допрос, Глебов попросил хозяев пригласить в качестве понятых соседок Зайцеву и Воронько. — Простите, но я должен сделать у вас обыск, — произнес он извиняющимся тоном. — Я обязан это сделать по долгу службы, хотя и понимаю, что вы ничего не скрываете и ни в чем не виноваты. Но могло же случиться, что Григорий что-нибудь принес и оставил у вас, не сказав вам. Хозяева согласились, хотя видно было, что они подавлены этой неприятностью. Пока Рубов ходил за соседями, следователь достал из папки бланки, написал постановление на обыск… Обыск ничего не дал. Глебов изъял только фотографию Белякова и два его старых письма с конвертами. Впрочем, хозяйка сама предложила их следователю еще до обыска. Домой Глебов возвращался уже в одиннадцатом часу ночи. «Почему Анна Гармаш не сказала мне о разговоре с Рубовыми, об отрезах, о посещении Белякова? — размышлял он, шагая по темной улице. — Забыла? Нет, наверное, ей просто в голову не пришло, что убийство может совершить человек, давно и близко знавший их семью, друг ее детства и юности… Какой мерзавец!» — подумал Олег Николаевич, вспомнив, как зверски расправился убийца со старой женщиной, знавшей его еще ребенком.
IX
Лавров слушал доклад Глебова о вчерашнем расследовании. — Рубовых я пригласил сегодня к десяти, — сказал следователь. — Может быть, вы сами побеседуете с ними? — Нет, я прочел протокол, вы допросили их хорошо. Только нужно предъявить им полуось. Может, опознают? — предложил Лавров. — Совсем забыл! — спохватился Глебов. — Хорошо, что напомнили, Юрий Никифорович. Это я сейчас же сделаю. А потом допрошу Шустову, о которой говорили Рубовы, я ее тоже вызвал, и пойду к Гавришиной, посмотрю, может, обыск придется сделать. Забрав со стола прокурора дело, следователь вышел. Когда из милиции принесли полуось, он показал ее Рубовым и Шустовой, но они не опознали. Шустова на допросе подтвердила показания Рубовой и описала приметы мешка, который взял и не возвратил ей Беляков.Любовь Петровна Гавришина вдвоем с одиннадцатилетним сыном жила на окраине города, на Водовозной улице. Глебов уже подходил к ее дому, когда заметил на противоположной стороне узенькой зеленой улицы разгороженный широкий двор, в углу которого около большой кучи каменного угля был свален всякий железный хлам. Мелькнувшая у следователя догадка заставила его остановиться. «Что если?..» Боясь поверить своей мысли, он перешел дорогу и, войдя во двор, подумал: «Ведь это рядом с домом Гавришиной, а Беляков часто бывал здесь…» Двор примыкал к конюшне колхоза «Заря». Старый дед — сторож с лохматыми седыми бровями — приветливо встретил Глебова и охотно уселся рядом с ним на скамью «погутарить». Поговорив о колхозных делах, Глебов как бы между прочим кивнул на сложенный в углу хлам и спросил: — Дедушка, у вас тут случайно полуось не найдется? — Полуось? Кажись, была. А на что она тебе сынок? — Да нужно. Для одной вещи… — Глебов никак не мог придумать, для чего бы ему могла понадобиться эта штука. Обернувшись, старик взглянул в ту сторону, где был сложен уголь, потом, кряхтя, поднялся со скамейки и зашел с другой стороны угольной кучи. — Туточки вона, кажись, валялась, — сказал он. — Да вот нет… Тю-ю! — хлопнул себя по лбу дед. — Да ее ж Сашка Гавришин кому-то отдал. — Какой Сашка? Гавришиной Любы сын? — спросил Глебов. — Ну да. Он у меня здесь крутился чего-то, а тут проходил человек, по дороге шел, да и попросил: «Сашка, подай цю железяку». Он ему и отдал. Еще, правда, спросил у меня, можно ли? А я говорю: «Та хай бере, меньше хламу на дворе будэ». — А когда это было? — Что? — Да вот то, что вы рассказали. — Об этом?.. Да дней пятнадцать, двадцать, может быть, — ответил старик, недоумевая, почему это человек интересуется таким пустяковым делом. — А в какое время дня? — продолжал опрашивать Глебов. — Кажись, часов в шесть. Видно еще было. — Вы не запомнили этого человека в лицо? — Да я его как облупленного знаю. Он у Любови Гавришиной месяца три жил… — Интересную вы мне, дедушка, историю рассказали, придется записать… У вас тут стола нигде нет? — Имеется. В сторожке у меня. Только не понимаю, что же вы тут интересного нашли… Записав показания старика и попросив его прийти завтра в прокуратуру, Глебов отправился к Гавришиным, проживающим через два двора от колхозной конюшни. Сашка Гавришин, одиннадцатилетний, бойкий мальчуган, был дома один. Он с восхищением оглядел Глебова и с явным удовольствием узнал, что имеет дело со следователем. — Мамки нет, она с работы не пришла, — ответил он на вопрос Глебова. — А на что она вам, а, дядь? Следователь улыбнулся. — Нужно, Саша. А ты в какой школе учишься? — спросил он, прикидывая в уме, сможет ли допросить мальчика в присутствии преподавателя здесь, не вызывая его в прокуратуру. — В шестнадцатой, в четвертом «А». На пятерки и четверки, — добавил он, явно желая поднять в глазах следователя свой собственный авторитет. — Молодец! — похвалил Глебов. — А далеко твоя школа? — Нет, близко, вон там за углом. — Это мимо колхозной конюшни идти, что ли? — Ага. — Погоди, — сказал Глебов таким тоном, будто внезапно что-то вспомнил. — Это не ты на конюшне старую полуось брал? — Я. Только мне дед разрешил. И я не для себя вовсе, — вдруг встревожился Сашка. — Да ты не бойся, — успокоил его Глебов. — Я только хотел узнать, кому ты отдал ее? — Дяде Грише Белякову. Он мамкин знакомый. Сашка слегка смутился: знакомство с Беляковым было не особенно по душе мальчику. — А ты не помнишь, когда это было? Сашка задумался. — Наверное, дней пятнадцать — двадцать назад, а может и больше. — Куда же дядя Гриша эту железку дел? — К нам принес. Вон там, в сарай положил, — ответил Сашка, порываясь встать из-за стола и показать Глебову, где именно лежала полуось. — Да ты погоди, — положив ему на плечо руку, сказал следователь. — Мне учительница ваша нужна. Мы ее найдем в школе? — Если в школе нет, так дома найдем, я знаю, где она живет. — Тогда пошли. Из школы, где Глебов допросил Сашку с участием преподавателя, они вдвоем возвратились домой и стали ожидать Сашину мать. Она должна была прийти с минуты на минуту. Когда она появилась, следователь допросил ее. Отвечая на вопросы, женщина сказала, что Беляков был у нее последний раз в день убийства. Пришел со свертком. Уходя от нее около одиннадцати часов ночи, он взял из сарая старую железину («Я даже не знаю, откуда она взялась», — сказала Гавришина), завернул ее в газету, а сверху обернул мешком, который оказался у него в свертке. Я спросила: «Зачем тебе это?» Он ответил: «Зойкин муж просил достать где-нибудь, в хозяйстве понадобилась…» Глебов не стал делать обыск у Гавришиной. Было очевидно, что она говорит правду и что Беляков после убийства у нее не появлялся. Наутро, сидя у себя в кабинете, следователь поочередно предъявлял полуось деду Приходько, Гавришиной Любови и ее сыну. Все они опознали полуось, только Гавришина сказала неуверенно: — Кажется, она. Не приметила я хорошо впотьмах. Да и ни к чему мне было. Если б знать, что спрашивать будут… Но дед Приходько и Сашка сразу же заявили, что именно эта полуось валялась во дворе, а потом — отдана Белякову. К девяти часам утра Глебов подшил все протоколы вчерашних допросов и протоколы опознания полуоси уже в новый, второй том и пошел с ним к прокурору. — Надо ехать, — сказал Лавров, выслушав доклад следователя. — И немедленно! Если вы готовы, берите нашу машину и поезжайте в город сегодня же. Очень возможно, что Беляков и сейчас еще кутит там с этим своим Михаилом, пропивает награбленное. — Я так и думал, Юрий Никифорович, — ответил Глебов. — Даже с Романовым договорился. Он со мной едет. — Очень хорошо! Дела от вас примет Багров. Глебов и Романов приехали на место в шестом часу вечера и сразу же направились в горотдел милиции: надо было установить, сколько в городе проживает Михаилов, отбывших наказание в Воркуте (Рубова сказала, что Беляков именно там отбывал срок лишения свободы). Такой Михаил оказался один. На завтра Михаил Островнов был вызван в милицию. Он и впрямь оказался знакомым Белякова, подтвердил, что на днях Беляков заезжал к нему, имея с собой большую сумму денег и отрезы, два или три, один из которых он продал сестре Островнова — Вале…
Девушка мыла в квартире пол. Увидев старшего брата, сопровождаемого работниками милиции и человеком в форменной одежде, она уронила на пол тряпку и, стоя посреди комнаты с подоткнутой юбкой, растерянно переводила взгляд с одного на другого. — Мы вас отвлечем ненадолго, любезная, — весело сказал Романов и, подбадривая хозяйку, добавил: — Не волнуйтесь, девушка… — Заканчивай, Валя, быстрей, с тобой разговаривать будут, — сказал сестре Островнов. Девушка прямо с крыльца выплеснула на улицу воду и, ополоснув руки, вернулась в комнату. Она подтвердила показания брата и сказала, что отрез уже отдала в ателье. Глебов записал показания, попросил девушку взять с собою квитанцию и предложил ей поехать вместе с ним в ателье. Когда из пошивочной вынесли и положили на, стол материал, следователь облегченно вздохнул: отрез шерсти, уже раскроенный, в точности соответствовал тем приметам, которые указала дочь потерпевшей: приятный темно-голубой цвет, легкая ворсистость с одной стороны и на одном конце полотнища синий фабричный штамп. К великому огорчению Валентины Островновой Глебов изъял раскрой для приобщения его к делу в качестве вещественного доказательства. Теперь оставалось лишь разыскать преступника. Однако в городе Белякова обнаружить не удалось. Настойчивые поиски убийцы продолжались и, наконец, увенчались успехом. Получив данные уголовногорозыска, Глебов срочно вылетел самолетом в прокуратуру города Каменска. Здесь, глядя в пол, сидел задержанный Беляков: его нетрудно было узнать по безжизненно болтавшемуся пустому правому рукаву его пиджака. При обыске Глебов обнаружил в холостяцкой грязной квартире Белякова два золотых кольца, шелковые отрезы и 2700 рублей сторублевыми купюрами, об исчезновении которых говорила дочь убитой… На первом же допросе, понимая бессмысленность запирательства, Беляков сознался в убийстве Лукерьи Гармаш.
Возвратившись из командировки, следователь прошел прямо в кабинет Лаврова. Юрий Никифорович поднялся из-за стола и, крепко пожимая руку Глебова, сказал: — Поздравляю вас, Олег Николаевич! Можно считать, что вы с честью выдержали свое «боевое крещение!»
Глава пятая
I
II
На другой день Лавров пришел на работу раньше обычного. Все эти дни он был занят подготовкой к докладу и отложил некоторые дела. Когда появилась Мария Ивановна, Лавров предупредил ее, что будет занят до обеда, и попросил всех посетителей направлять к заместителю и помощникам. Но не прошло и пяти минут, как Мария Ивановна вновь вошла в кабинет. — Юрий Никифорович, там пришел какой-то гражданин, говорит, что ему нужны именно вы. Я ему сказала, что вы сегодня не принимаете, а он опять свое. Что с ним делать? Говорит, что приезжий. Лавров готовился к выступлению в качестве государственного обвинителя. На его столе лежали выписки из показаний свидетелей, экспертов, какие-то записи на длинных полосках бумаги. — Приезжий, говорите? — оторвавшись от дела, переспросил он. Мария Ивановна утвердительно кивнула головой. — Просите. Вошедший появился в дверях и, исподлобья глянув на прокурора, нерешительно остановился у двери. Низкорослый, плечистый, с продолговатым лицом, он смущенно стоял у порога и рассматривал свою кепку так, будто видел ее впервые. Большие черные глаза глядели настороженно, на щеках проступил румянец. Мысли и ощущения как-то странно путались у него в голове. То казалось, что большого разговора с прокурором не получится, не будет того, что он вынашивал в душе; то вдруг все становилось ясным, простым и хотелось откровенно поведать Лаврову свои затаенные мысли. В вагоне поезда он часами неподвижно лежал на полке, мысленно беседуя с прокурором. Как все тогда было просто! А вот сейчас, когда наступила эта решительная минута, он растерялся, не находил нужных слов и, казалось, не знал, зачем пришел. Злясь на свое смущение, он деланно кашлянул и от этого еще больше покраснел, почувствовал, как горят щеки, а лоб покрывается липким, холодным потом. Лавров поднял голову. — Вы ко мне? Проходите, пожалуйста… Приезжий вытер тыльной стороной ладони лоб, шагнул к столу прокурора и, молча, протянул ему замусоленный конверт. Лавров читал внимательно, долго. Это было письмо, которое он написал заключенному Леонидову. И странно, сейчас он перечитывал его с каким-то новым, непонятным чувством. Ему хотелось собраться с мыслями, продумать предстоящий разговор, но Леонидов стоял и ждал, терпеливо ждал, что же скажет прокурор. И его внутреннее волнение, видимо, передалось Лаврову. Он встал, протянул руку, улыбнулся. — Так вот ты какой стал! Ну, здравствуй, — он крепко пожал его руку, кивнул головой. — Садись… Леонидов опустился на стул. — Освободился, значит? Теперь берись за ум. Думай… а то тюрьма, да тюрьма, она тебе, верно, домом родным стала. Лавров, казалось, не знал, с чего начать разговор. — Как дорога? — Да так себе… Довезли, — пожал плечами Леонидов. — С жильем устроился? — Найду, — протянул Леонидов и шумно вздохнул. — Я освободился совсем… Вы не думайте… вот документы. — Голос его слегка дрожал. Торопливо сунув руку в карман, он вытащил бумажник. — Читайте. Все законно. Лавров с минуту молча смотрел на Леонидова, затем сел и занялся его документами. В кабинете стало тихо. Леонидов кусал нижнюю губу, нервничал. А когда прокурор возвратил ему документы, Леонидов неторопливо уложил их в бумажник и поднялся. — Я пойду, — глухо сказал он. Лавров удивленно посмотрел на него, нахмурился. — Как это «пойду»? — Да так, ногами… — Погоди. Садись, нам нужно поговорить. — Не о чем! — грубо отрезал Леонидов и пошел к выходу. У двери он остановился, глянул на Лаврова и твердо, спокойно произнес: — Прощайте, гражданин прокурор. Гулко хлопнула дверь. Лавров стоял у окна и задумчиво барабанил пальцами по подоконнику. «Психолог, черт бы тебя побрал! — мысленно издевался он над собой. — Обидеть, так обидеть человека!..»Леонидов медленно шел по улице. На душе у него было тоскливо. Обидно, до боли было обидно, что вот так просто, как мальчишка, поверил письму Лаврова, приехал. Зачем, к кому приехал? К Лаврову! К тому самому Лаврову, что когда-то отдал его под суд! Сколько у него таких, как он, Леонидов! И почему он должен был встретить его иначе? Почему? Занятый этими мыслями, Леонидов не заметил, как оказался у пивного ларька. Прищурившись, долго и зло читал вывеску «Пиво — воды», затем махнул рукой и побрел в сквер. В тени дерева, на скамейке сидела девушка. Он заметил лишь ее розовые щеки и длинные косы. Она, видимо, так увлеклась книгой, что взглянула на Леонидова только тогда, когда он, усевшись рядом, кашлянул. Метнув на него взгляд, девушка вновь погрузилась в чтение книги. Мимо, лениво позвякивая, тащился трамвай. Он был пустой, и Леонидов с тоской подумал: «Вечером нагрузится… Люди с работы будут ехать… Домой… а я?» Он скрипнул зубами и мысленно выругался. Повернув голову, вдруг заметил девочку, которая, размахивая руками, ловила на мостовой большой красный мяч. Ей было не более четырех лет. Мяч выскользнул у нее из рук, она со смехом погналась за ним. Из переулка вынырнула груженая пятитонка. Девочка оказалась между машиной и трамваем. Леонидов замер, но уже в следующее мгновение бросился к девочке, выхватил ее почти из-под колес машины. Что-то острое кольнуло в плечо, ударило в ногу. Леонидов качнулся, но удержался. Девочка была у него в руках. Прижимая ее к груди, он медленно шел к скамейке. Девушка подбежала к нему, схватила за руку. — Ой, да что же это! Голос ее дрожал, лицо было бледное, широко раскрытые глаза, не мигая, смотрели на Леонидова. Он молча опустился на скамейку и, все еще не понимая, что произошло, прижимал ребенка к груди. Вокруг собралась толпа, все зашумели: — Безобразие!.. — Что, что такое? — Водитель пьян что ли, ребенка задавил. — Милиция! Где милиция? Сквозь толпу протиснулся водитель — высокий человек лет сорока. — Что ребенок?.. — выдохнул он хриплым срывающимся голосом. Со всех сторон посыпалось: — Он еще спрашивает! — Хулиган! — Подлец! — Да где же милиция? Водитель повернул бледное, осунувшееся лицо к толпе. — Товарищи, да я… Его прервали, не дали говорить. «Но он же не при чем», — подумал Леонидов и крикнул: — Граждане, ну чего вы пристали к человеку! Он не виноват… Это я виноват! Не уследил за девочкой, а она на дорогу побежала… И ничего ей… Она даже не ушиблась. А водитель не при чем. Чего зря шуметь-то? Его слушали, а когда он умолк, поднялся шум. — Тоже отец… — Да вон и жена с ним… — Оштрафовать бы надо, чтоб знали, как следить за детьми! Интерес к происшествию у людей ослабевал, толпа начала редеть и вскоре рассеялась. Леонидов повернулся к водителю. — А ты езжай, все в порядке. Тот с благодарностью смотрел на Леонидова и ладонью стирал пот с лица. — Вот же чертовщина!.. Как же это? Спасибо… — бормотал он. — Вы простите… черт знает что… Запишите мой номер… — Да ладно! — махнул рукой Леонидов. — Запишите на всякий случай, — повторил водитель. И потом скажите ваш адрес и фамилию. А то будут проверять… я должен сообщить в инспекцию… да и люди сообщат. Леонидов растерянно взглянул на девушку и, опустив ребенка на землю, глухо проговорил. — Вот — она скажет. — Давыдова Люся, Дербентская 16, — сказала девушка и вдруг добавила… Мы не женатые… то есть… простите, мы просто незнакомые… Это так люди подумали… — Она умолкла, густо покраснев. Когда водитель ушел, Люся тихо, как бы про себя, сказала: — Вы… спасли девочку. — Ваша? — спросил Леонидов. — Нет. Я ее не знаю. Леонидов усмехнулся. — Вот и замужем побывали! Она звонко засмеялась. Леонидов поднялся. — До свидания. — И, круто повернувшись, пошел. Люся долго смотрела ему вслед. Потом встала, взяла девочку за руку. — Ну, где ты живешь? …Леонидов шел быстро. Он и сам не знал, почему вдруг захотелось уйти от этой розовощекой девушки. Может быть, потому, что он боялся знакомства с нею, не знал, что же сказать о себе: кто он? откуда? где живет? А, может быть, в этом виноват Лавров? Разве не он сегодня так сухо, так резко напомнил ему о том, кто он?! Прямо впился в документы! Может, и эта девушка отшатнулась бы, узнав, откуда он приехал. От этих мыслей в голове гудело, к горлу подступал жесткий ком. Небо помрачнело. С севера наползали тяжелые свинцовые тучи. Подул ветер, резкий, порывистый. Леонидов ускорил шаг. Над городом зарокотал гром, и первые крупные капли ударили по мостовой. Едва Леонидов вбежал в вокзал, как начался ливень. Присев на скамейку, Леонидов с тоской вспомнил вопрос Лаврова: «С жильем устроился?» Он горько усмехнулся, обвел взглядом зал и, опустив голову, тяжело задумался.
После заседания бюро горкома Давыдов предложил Лаврову остаться. — Ты что, заболел? Вопрос был настолько неожиданный, что Лавров вначале даже растерялся. — Да вроде нет, — полушутя-полусерьезно ответил он. — Вро-оде, — протянул Давыдов и пристально посмотрел на него. — Ты какой-то сумрачный. Может, ревизор к тебе едет, а? С внезапной ревизией! — он рассмеялся и потянулся к трубке. Набивая ее табаком, заметил: — Да брат, какой-то ты нынче не такой… Лавров подумал: «Он поймет… Скажу, ведь это не пустяк». — Есть одна неприятность, — начал он. — Личного порядка. — Может, поделишься? — серьезно спросил Давыдов. — Конечно, Семен Сергеевич, — сказал Лавров и тут же спросил: — Случалось вам когда-нибудь незаслуженно, просто так обидеть человека? — Было такое, — признался Давыдов. — Но важно другое — исправить ошибку. Я, брат, иногда горяч не в меру… Вот хоть вчера… Приехал на строительный участок. Вижу бригада каменщиков не работает, Я спрашиваю, в чем дело? А они хмурятся, раствора, говорят, нет, и так почти каждый день. Иванов, прораб, тоже жалуется, не дают, говорит, цемента. Я и накинулся на него с руганью… А уж потом разобрался — беда не в Иванове. Трест оставил ему один самосвал, вот и не управляются с подвозом. Иванов обивает пороги треста, просит, требует второй самосвал, а ему не дают. А в тресте, на других участках, самосвалы простаивают. Ну вот… Выходит, Иванова-то я зря обидел. Кстати, присмотрелся бы ты к начальнику транспорта треста. Уж больно много на него жалоб идет. Лавров кивнул головой, помолчал. Потом, не подымая на Давыдова глаз, тихо и каким-то глухим голосом начал: — Пришел ко мне человек… Издалека приехал, а я… в общем глупо получилось… Давыдов слушал, не перебивая. А когда Лавров умолк, спросил: — Что же, он специально к тебе ехал? — Да. Сотни километров ехал с надеждой… И черт же дернул меня с этими документами! Признаться, я вообще не был готов к такой встрече, не знал, с чего начать… Он верил в меня, ехал ко мне с открытой душой, а я с первых же минут напомнил ему о прошлом, о тюрьме, а потом стал разбираться в его документах. Разве это не бестактно? Давыдов откинулся на спинку стула, нахмурился. — Говоришь, не был готов к встрече? — Да… Он явился как-то неожиданно, хотя вообще я знал, что он приедет. — А приходилось тебе когда-нибудь раньше заниматься таким делом? — Каким? — не понял Лавров. — Ну, чтобы преступник… вернее бывший преступник приходил бы с открытой душой, просто так, просил помочь начать новую жизнь? — Нет, первый случай. Давыдов задумался. — Видишь ли, иногда нам кажется, что мы все знаем, все умеем, — через минуту заговорил он. — Знаем мы, что к человеку надо относиться чутко? Знаем. И нам кажется, что этого достаточно. Больше того, на совещаниях, конференциях иные щеголяют хорошими, красивыми словами, а возьми такого человека на поверку, — он дальше этих самых слов и не идет. Почему? Да потому, что все это у него показное, не от души, не прочувствовал он всего этого, а просто зазубрил, как школьник. Давыдов говорил тихо, спокойно и задумчиво, и Лаврову казалось, что обращается он скорее к себе, нежели к нему. В сущности, ничего нового Давыдов не открыл Лаврову, да и не собирался открывать. Но Юрий Никифорович был взволнован этой короткой беседой. — Вот это и есть тот самый формализм, с которым борется наша партия, — продолжал Давыдов. И, знаешь, самое страшное в том, что этот самый формализм сидит где-то в человеке, а он его и не замечает. А потом какой-нибудь сам по себе незначительный случай вдруг его и обнаруживает. Человек с удивлением видит, что он натворил глупостей, был неправ, обидел кого-то. Но настоящий, сильный человек, обнаружив в себе этот вот самый формализм, найдет силы избавиться от него, вытравить его из души. А другой поддается ему, и это доводит его черт знает до чего. Ведь вот какая история!.. — Давыдов вздохнул, запыхтел трубкой. — Присматриваться к себе, уметь правильно, холодным рассудком, а не горячим сердцем оценивать свои поступки — это большое дело, Юрий Никифорович. Приходит ко мне как-то женщина, ей в пенсии отказали, и давай почем зря поносить меня — и такой-то я, и эдакий, и бюрократ, и черт знает что я такое! А сама плачет, понимаешь, плачет! Слушаю, а у самого злость кипит — чего ради оскорбляет, думаю! Сдержался, а когда она ушла, чуть не полграфина воды выпил. Разобрался, и оказывается — неправильно ей отказали в пенсии. Я это вот к чему, Юрий Никифорович. Иногда мы слишком легко обижаемся на тех, кто приходит к нам с жалобами, просьбами. А ведь, если разобраться, у этой женщины горе было, несчастье, оттого она и шумела! Что же ей улыбаться было, если не на что жить? Потом она опять пришла, уже с улыбкой, рада, извинялась… Другая, может, и не нашумела бы на меня, но что поделаешь! Не у всех же одинаковые характеры. На столе резко задребезжал телефон. Давыдов поднял трубку. — Да. Слушаю, доченька… Как? Подумай только! Кто же он? Ушел? М-да. Так… Хорошо, я тоже задержусь… Он положил трубку и повернулся к Лаврову. — Дочь. Говорит какой-то парень спас девочку — бросился чуть не под машину. — А сам? — Все в порядке… Так вот, Юрий Никифорович… Леонидову надо бы помочь. — Но я же не знаю, где он! — Найди через адресный стол. — Боюсь, что он тут же уехал из города. — Чего ради? — спросил Давыдов. — Да мало ли чего! Давыдов поднялся, открыл окно. — Ты вот что, Юрий Никифорович, помоги Леонидову, но так, чтобы он не знал, что это твоих рук дело. Так будет лучше. — Догадываюсь. Думаете, он откажется от моей помощи? — Как знать… Ты же все-таки обидел его, а парень, видать, гордый. Расставшись с Давыдовым, Лавров поехал в прокуратуру. Всю дорогу он думал о беседе с секретарем горкома партии. «Выходит, Леонидов прав… Он действительно прав! Но как исправить ошибку. Как. Вдруг парень со злости натворит глупостей, пойдет на преступление». Лавров понимал, что такое может случиться и что прежде всего в этом будет повинен он.
III
…Глубоко засунув руки в карманы брюк, Леонидов стоял у заводских ворот и с интересом разглядывал лица юношей и девушек, идущих на работу. Он и сам не знал, почему эти веселые, оживленно болтающие и смеющиеся люди так занимают его, но его неудержимо влекло к ним. Заметив у заводских ворот объявление: «Заводу требуются плотники», он решительно направился к дверям с табличкой «Отдел кадров». За столом, заваленным бумагами, сидел пожилой человек. Не поднимая головы, он спросил: — В чем дело. Леонидов подошел к столу. — Есть у вас работа. — Специальность. — Плотник. — Разряд. — Пятый. — Документы. Начальник отдела кадров, все так же, не глядя на Леонидова, протянул руку. Леонидов подал ему справку об освобождении и паспорт. Надев очки, тот развернул справку. — Хм! — промычал он и впервые взглянул на Леонидова. — Из тюрьмы, значит. — Из тюрьмы, — спокойно ответил Леонидов. — Так, так… а по какой статье судился. — Там написано. — Хм… так. За воровство… И сколько же ты раз судился, голубчик. — Мне нужна работа, — изо всех сил стараясь сохранить спокойствие, проговорил Леонидов. — Понимаю, понимаю… — начальник отдела кадров откинулся на спинку стула. — Ты что, по квартиркам шастал или государственное добро тащил. А? Ты отвечай! Должен же я знать! Я заведую кадрами. Ну? — Я отбыл срок и… — Э, брось! — махнул рукой начальник. — А если ты вздумаешь совершить кражу на нашем заводе, кто будет в ответе? Я! Понял? Откуда я знаю, зачем ты хочешь к нам устроиться. — Вы примете меня на работу? — прервал его Леонидов. — Нет. — Почему? — Работы нет. — Но в объявлении написано, что заводу требуются плотники. — Ну и что же? — Я плотник и… — Работы нет! — Неправда! — почти крикнул Леонидов, сжимая кулаки. — Ты потише, а то знаешь… В общем не ори. Работы нет! Зайди завтра. Начальник протянул документы. — До свидания! Леонидов положил документы в карман и, хлопнув дверью, вышел. В коридоре он столкнулся со своей вчерашней знакомой — Люсей Давыдовой. Лицо девушки сейчас было бледным, взволнованным. Она все слышала. И, подойдя к столу начальника кадров, Люся в упор спросила: — Иван Петрович, почему вы не приняли его на работу? — Кого? — Да этого парня. — Ах, этого? — Иван Петрович усмехнулся, снял очки. — У нас завод, а не исправительная колония. — Причем тут колония? — А при том, что он вернулся из тюрьмы и его надо еще перевоспитывать. Нам нужны рабочие, а не уголовники. Ясно? — Нет! — упрямо тряхнула головой Люся. — Он имеет право работать, как и все советские люди. — А я и не возражаю. — Но ведь вы его не приняли. — Пусть идет на другой завод. — Почему? — А почему именно на нашем заводе он должен работать? — Так он же имеет право!.. — Пусть идет на другой завод, — перебил ее Иван Петрович. — А если и там откажут? — Не знаю. — Но вы же член партии! — возмутилась девушка. — Как же так можно? — Да, я член партии и не тебе меня учить! — оборвал ее Иван Петрович. — И вообще, какое тебе дело? Почему ты лезешь в мои дела? — Я член комитета комсомола. — Вот и занимайся комсомольцами, а я вышел из этого возраста. Все! — Нет, не все — зло сказала Люся. — Мы поставим этот вопрос на комитете. Это издевательство… бюрократизм… — Но, но… потише. — Потише не выйдет, товарищ начальник отдела кадров, — с иронией в голосе сказала Люся и почти выбежала из комнаты. Дома она рассказала отцу о случае в отделе кадров. Люся была так взволнована, что весь вечер только об этом и говорила. — Ты пойми, папа, это же бесчеловечно! — возмущалась она. — Если на всех заводах будут сидеть такие кадровики, как наш Иван Петрович, так что же получится? Те, кто вернулся из тюрьмы, никогда не получат работы? Что же им, с голоду умирать? Или снова идти воровать? Давыдов задумчиво посмотрел на дочь. — Таких, как Иван Петрович, у нас единицы, — сказал он. — Но они есть. Вот ты возмущаешься, это правильно. Но что дальше? Пошумишь и успокоишься?.. — Ну уж нет! — решительно прервала отца Люся. — Сегодня я была в комитете. Мы решили обсудить это. Пригласим из завкома, партбюро. А потом еще напишем об этом случае в нашей заводской газете. Давыдов слушал внимательно. На следующий день он позвонил Лаврову, рассказал ему о разговоре с дочерью и попросил проверить соблюдение законов о труде на заводе.IV
Сырое, ненастное утро. Сеет мелкий, но частый дождь. Лавров сидит в машине и с досадой думает о том, что до сих пор не был на заводе, окунулся с головой в текущие дела, а вот о главном — о встречах с людьми на производстве — забыл. «Нет, так дальше не пойдет, — решает он. — Роюсь в бумажках, а жизни не вижу». Машина остановилась у здания заводоуправления. Начальник отдела кадров Иван Петрович Иванов встретил прокурора с излишней суетливостью, но любезно. Предложив ему стул, он приветливо улыбнулся. — Какие прикажете подготовить сведения? — осведомился он. — Сведения? — задумчиво повторил Лавров. — А для чего они? Иванов усмехнулся, покачал головой: — Статистика — это главное. Наш бывший прокурор очень ее любил. И правильно! Это же зеркало работы!.. — Зеркала бывают и кривыми, — заметил Лавров. — Что? — не понял Иванов. — Так, ничего… В дверях показался парень в рабочем костюме. Иванов замахал на него руками. — Позже зайдешь! Видишь, я занят, у меня прокурор города. От этого последнего замечания, произнесенного Ивановым как-то подчеркнуто, Лаврова передернуло. Он жестом остановил паренька, собирающегося выйти, и повернулся к Иванову. — Я подожду, работайте, товарищ Иванов. Лицо Иванова выразило недоумение и досаду. Водрузив на нос очки, он строго глянул на паренька. — В чем дело? Лавров встал, подошел к другому столу и взял газету. — Я насчет отпуска, товарищ начальник, — проговорил парень. — Фамилия? — Сидоров. — Цех? — Инструментальный. Иванов порылся в ящике, достал учетную карточку Сидорова. — Ты же был в отпуске? — Я хочу без содержания, на три дня… — Хм… А для чего. — Так я… понимаете… жениться решил, — тихо и смущенно проговорил Сидоров. — Ну вот… свадьба, значит… — Понятно! — перебил его Иванов. — А тебе известно, что сейчас инструментальный цех находится в прорыве. Вы не выполнили месячный план. — Я даю 185 процентов… — А можешь 285. Ведь можешь, верно? Сидоров молча пожал плечами. — Можешь! — убежденно заявил Иванов. — Значит так: цех не вытянул плана, а тебе дай три дня на свадьбу. Один попросит три дня для того, чтобы выйти замуж, другой возьмет да и заболеет, а у третьего с матерью что-нибудь приключится, и всем надо по три дня отпуска! А план как? Кто будет выполнять? Ты же сознательный человек, Сидоров. Цех может недодать государству на сотни тысяч рублей продукции, а тебя это не волнует. Тебе, видите ли, жениться надо. Ты что, не успеешь оформить это дело в следующем месяце? — Вы же и в прошлом месяце отказали, — угрюмо пробормотал Сидоров. — Вот и начальник цеха подписал заявление. Директор тоже написал «отдать приказ». Иванов усмехнулся. — Чудак ты, Сидоров. Я же с тобой говорю, как с сознательным производственником, передовиком. Совесть у тебя есть? Давай сюда заявление и иди подумай. Не подводи коллектив цеха. Ну, иди, иди, завтра решим. Парень вышел, а Иванов, широко разведя руками, воскликнул: — Молодость! Все куда-то спешат! Интересы государства у них на втором плане… Лавров не стал дожидаться конца этой тирады. — Скажите, товарищ Иванов, сколько вы приняли на работу освобожденных из мест заключения? — спросил он. Иванов снял очки, протер их платочком и загадочно усмехнулся. — Я пять лет служу в отделе кадров, товарищ прокурор, и работу, слава богу, знаю, — уверенно проговорил он. — Будьте покойны! Пока я здесь, ни один из них не пролезет на завод. — Почему? «Ловит, — подумал Иванов. — С хитрецой прокурор, но и я не лыком шит. Ишь, хмурится, будто ему хотелось бы, чтоб эти типы работали на заводе. А сам, небось, выписал бы их фамилии и представление на меня состряпал. Вот, мол, смотрите, Иванов потерял бдительность, наводнил завод преступниками…» Думая так, Иванов рылся в бумагах, искал список принятых на работу за квартал. Наконец, он нашел его и, развернув, сказал: — Вот список принятых на работу. Можете проверить — ни одного уголовника! — А обращались к вам освобожденные? — Да после амнистии отбоя от них не было. — Но почему все-таки вы отказываете им в приеме на работу? Иванов понимающе прищурился — мол, не возьмешь нас так просто. — и сказал: — Ненадежный народ! Наберешь таких, и пойдут кражи, хулиганство, прочая чертовщина. Лавров встал, плотно сжав губы, прошелся по кабинету, успокоился и через минуту твердо, чеканя каждое слово, заговорил: — Закон обязывает обеспечить работой лиц, освободившихся из мест заключения. Лавров старался произносить сухие, короткие фразы, так как считал, что они скорее дойдут до такого «казенного» человека, как Иванов. — Право на труд гарантировано нашей Конституцией. Отказывая в приеме на работу освобожденным по амнистии или по отбытии ими наказания, вы грубо нарушаете советский закон. Как прокурор, я обязан поставить вопрос о привлечении вас к ответственности и я это сделаю. До свидания. Иванов поднялся. Лицо его стало бледным, растерянным. Он молча смотрел на дверь и часто мигал глазами. В коридоре Лавров увидел Леонидова. Оба смутились, настолько неожиданной была эта встреча. Но, быстро овладев собою, Лавров положил руку на плечо Леонидова. — Ты правильно сделал, Борис. — Что? — Да что выбрал этот завод. Здесь есть курсы повышения квалификации. Будешь учиться… — Нет… меня не приняли, — смущенно улыбаясь, проговорил Леонидов. — Все завтраками кормит этот кадровик, да я то знаю, что он меня не возьмет… — Возьмет! — уверенно сказал Лавров. — Иди!.. — и он мягко подтолкнул парня в дверь отдела кадров.На следующей неделе происходило расширенное заседание комитета комсомола завода. Узнав об этом от Давыдова, Лавров решил поехать, послушать молодежь. В зале было душно и шумно. Лавров прошел в третий ряд, где сидели директор завода, парторг и начальник отдела кадров Иванов. — Товарищи! — звонко выкрикнула с трибуны Люся Давыдова, но голос ее потонул в шуме. — Тихо! Кончай разговоры! Да тихо же! — подняв руки, крикнул секретарь комитета, высокий парень с веснушчатым лицом. И когда зал притих, кивнул Давыдовой: — Давай, Люся! Люся перевела дыхание, кашлянула. — Товарищи! То, что я видела своими глазами… это просто дико. С каких это пор у нас так обращаются с молодежью? И где? В отделе кадров! Представляете? Там позволяют себе оскорбить человека, унизить и, если хотите, растоптать в грязи честь нашего завода! Как же это получается? Первенство держим, а к людям по-человечески относиться не научились. — Ты поконкретнее, — послышалось из зала. — Пожалуйста. Начальник отдела кадров Иванов — это бюрократ, формалист, это… У него нет души, совести. Это сухарь! В зале зашумели. Снова поднялся секретарь. — Так же нельзя, товарищи. Вы мешаете говорить человеку. Когда наступила тишина, Люся продолжала: — Я сама слышала, как Иванов разговаривал с Леонидовым. Сейчас он в четвертом цехе работает. Ошибся когда-то парень, поскользнулся, а потом понял, осознал ошибку. Ну, вот… Пришел он устраиваться на работу, а Иванов: «Не возьму, — говорит, — на работу, иди на другой завод». А почему? Кто дал ему такое право? У человека нет квартиры, жить не на что, а он его выгнал, да еще и оскорбил. Это как называется? Иванов сидел рядом с прокурором. Сейчас лицо его выражало притворное спокойствие. Он с иронической улыбкой смотрел на Люсю и слегка покачивал головой в знак осуждения ее резкости в суждениях. На трибуну поднялся фрезеровщик Ильин, низкорослый парень. Он поискал глазами Иванова и, найдя его, поднял руку, как бы призывая к тишине. — Я вот что скажу, — начал он громким, звенящим голосом. — Вон сидит Иванов. Он улыбается — чепуха, мол, поболтают и разойдутся. Нет, товарищ Иванов, так не будет! Как я поступал на завод? Приехали мы с матерью из станицы. Прихожу я в отдел кадров раз, другой, третий — все отказ. Нет работы и баста. Тогда пошла мама одна. И что вы думаете — меня приняли! Я очень удивился, а мать говорит: «Ох сынок, не знаешь ты жизни», и больше ни слова. Я ничего тогда не понял. А через неделю узнал. Купил я как-то билет в театр себе и матери. А идти не в чем. Спрашиваю, где мой костюм? Мать в слезы. Продала, говорит, я твой костюм и свое новое платье, все продала, только бы тебя на работу взяли. Понятно, товарищи? Возгласы возмущения прокатились по залу. Иванов побледнел, съежился. Лавров глянул на него, но, стиснув зубы, смолчал. — А с меня он содрал 300 рублей, — крикнул кто-то из зала. Иванов втянул голову в плечи, заерзал на стуле. А на трибуне, сменяя один другого, комсомольцы гневно клеймили бюрократа и взяточника. Заседание комитета закончилось в десятом часу вечера, а через неделю Иванов был арестован и предан суду за взятки.
Как-то Леонидов и Люся Давыдова возвращались с завода после дневной смены. Вечер был тихий, безветренный. Шли медленно. — Я хочу тебя спросить… — Люся посмотрела на него и улыбнулась. — Спрашивай. — Почему ты такой грустный? Леонидов пожал плечами и ничего не ответил. — Ну что же ты молчишь? — не унималась Люся. — О чем ты думаешь? — О тебе… — Что? — Я думаю, если б все были такие, как ты, — прямые, честные… — неожиданно для себя выпалил они покраснел. — Что бы тогда? — спросила Люся. — Меньше было бы гадостей на свете, — пробормотал он. — И это все? — Нет. — Так я слушаю тебя. — Знаешь что, Люся? — Леонидов остановился и взял ее за руку. — Когда-нибудь я тебе все скажу, понимаешь? Все. Но сейчас не надо. Не спрашивай. Ладно? Она понимающе кивнула головой. Вскоре они расстались. Люся уехала на трамвае, а Леонидов пешком направился к общежитию. На душе у него стало весело, легко…
V
В кабинет Лаврова вошел следователь Лукин. — Юрий Никифорович! На хуторе Зеленом ограблен магазин. Я сейчас еду туда. Машина вам не нужна? — Поезжайте. А когда был совершен грабеж? — Вчера вечером, но сообщили только сейчас. Лавров уже в который раз с одобрением отметил про себя: обо всех происшествиях на участке Лукина раньше всех сообщает сам Лукин. «Опытный работник, — думал он, глядя на бритую голову следователя. — На такого можно положиться». Лукин был действительно старым и опытным следователем. Из своих пятидесяти лет двадцать семь он отдал работе в прокуратуре. Именно отдал, потому что работал самозабвенно, с увлечением. Участок у Лукина был самый большой и беспокойный, и следователь иногда сутками не являлся домой. На каждое происшествие непременно выезжал вместе с работниками милиции, всегда был в курсе всех событий. — Когда возвратитесь? — спросил Лавров. Лукин пожал плечами: — Трудно сказать, Юрий Никифорович. Случаи серьезный. Вооруженное нападение, может быть, бандитский налет. Дня два придется там посидеть. Но машину я вам отправлю сразу же, как доберусь до места, — добавил он. — Да нет, Иван Георгиевич, машина мне не нужна. В ближайшие два-три дня выезжать я никуда не думаю, а по городу вообще хожу пешком. Я о другом хотел предупредить вас: в четверг будет оперативное совещание совместно с милицией, хотим поговорить об усилении борьбы с хищениями и спекуляцией. Хорошо, если бы вы к этому времени успели вернуться. — Ладно, буду, — ответил Лукин и попрощался.VI
На металлическом заводе предстояло отчетно-выборное партийное собрание. Лавров решил не только побывать на нем, но если представится случай, то и выступить. В клубе завода Лавров появился за несколько минут до открытия партийного собрания. Сел в четвертом ряду. Неподалеку оказался Давыдов, который поздоровавшись, спросил: — Будешь говорить? Юрий Никифорович ответил: — Да, хотелось бы… Отчетный доклад делал секретарь организации Федоров. Вначале он говорил об успехах, достигнутых партийной организацией за отчетный период, о производственных показателях, которых добился коллектив завода, затем перешел к недостаткам в работе партийного бюро: слишком мало прочитано лекций, проведено бесед, слабо ведется политическая работа. После трех первых ораторов председатель собрания объявил: — Слово имеет товарищ Лавров — прокурор города. Юрий Никифорович поднялся на сцену, окинул взглядом зал и спокойно начал: — Товарищи! Я не член вашей партийной организации и не знаю всей ее работы. Но, как известно, всякое дело оценивается по результатам. И, зная некоторые результаты, я не могу не согласиться с докладчиком: уровень воспитательной работы в вашем коллективе еще невысок. За тот период, за который отчитывается партбюро, осуждены четыре работника вашего завода: бухгалтер Агапов за присвоение 6 тысяч рублей и трое рабочих — за хулиганство, среди них комсомолец Грошев. Что же выяснилось в процессе расследования этого дела? Оказалось, что Грошев лишь формально числился членом ВЛКСМ. Он неучаствовал в комсомольском жизни, не занимался вообще никакой общественной работой, а четыре месяца до привлечения к уголовной ответственности даже не посещал комсомольских собраний. Почему же товарищи забыли о существовании Грошева? Комсомольская организация потеряла его из виду, зато другая среда подхватила и «воспитала» по-своему. Если партийное бюро не обсуждало проступки членов вашего коллектива, то прокуратура и милиция о каждом отдельном случае привлечения к уголовной ответственности работника вашего завода не только информировали партбюро, в частности товарища Федорова, но и просили принимать меры. Но к нашим сигналам, по-видимому, не прислушивались. Товарищи! Привлечение к уголовной ответственности надо рассматривать, как чрезвычайное происшествие, как явление, позорящее коллектив. Вы это сами прекрасно понимаете. И я хотел бы призвать партийную, комсомольскую и профсоюзную организации завода к тому, чтобы борьбу за выполнение и перевыполнение производственной программы они сочетали с воспитательной работой. Было бы очень хорошо, если бы партийная организация поставила перед собой задачу: ни один работающий на заводе не имеет права допускать аморальные проступки ни на производстве, ни дома, ни в других общественных местах. Ваш коллектив — один из крупнейших в городе, и если вы проявите такую инициативу, за вами последуют другие коллективы. Прения продолжались. На трибуну поднялся кадровый рабочий завода, старый коммунист Рязанов. Вначале он говорил о неполадках в инструментальной, где работал. Затем сказал: — Не могу не выразить своего отношения к справедливому заявлению прокурора. Я согласен с прокурором, что мы должны поднять всю общественность завода на борьбу с позорными фактами поведения наших рабочих и всеми мерами отстаивать, честь нашего коллектива… Самим прежде всего надо воспитывать своих рабочих.VII
Следователь Лукин прибыл на хутор Зеленый вместе с начальником отдела борьбы с хищениями социалистической собственности Архангеловым около двенадцати часов дня. Лукин отправился в магазин, а Архангелову поручил добраться до станицы и привезти из сельпо членов ревизионной комиссии, чтобы сразу же определить количество похищенных товаров и их стоимость. У дверей магазина стояли заведующий магазином Быков, сторож Новак и участковый уполномоченный Рунов, а немного поодаль собралась кучка любопытных, оживленно обсуждающих вчерашнее событие, уже ставшее известным до мельчайших подробностей всем жителям хутора. — Вот и я скажу, что это он, не обошлось без него, — услышал Лукин, подходя к собравшимся. Говорила какая-то женщина, оживленно жестикулируя и, видимо, что-то доказывая окружающим. Один из ее собеседников махнул рукой: — Да ну, Трофимовна, так тоже рассуждать нельзя: ежели сидел, так обязательно он. — Мало их тут шастает, — вступил в разговор пожилой мужчина в выцветшем морском кителе. — Дочка моя говорила: вчера на танцах в клубе были двое каких-то подозрительных парней, неизвестно чьи и откуда. Может, они и ограбили? Стоявший рядом с ним мужчина заметил Лукина и вполголоса произнес: — Следователь идет. Собравшиеся, как по команде, обернулись к Лукину, который, поравнявшись с ними, на ходу сказал: — Здравствуйте, товарищи! И еще издали кивнув идущему ему навстречу Рунову, приблизился к нему и шепнул: — Возьми в понятые мужчину, что в кителе, и женщину в цветной косынке, — видишь, вот там стоят? Когда заведующий открыл дверь магазина, Лукин вошел туда вместе с Руновым и понятыми. Осмотр места происшествия занял немного времени. Магазин был расположен в небольшом саманном доме. На полках слева лежали продукты, справа — промтовары. Три полки в углу были пусты, а на полу около них валялись несколько пар мужских брюк и пиджаки. А на высоте двух с половиной метров Лукин обнаружил в стене отверстие и осторожно извлек из него пулю. Каких-либо других следов преступники не оставили. Пристроившись за маленьким столиком в конторке магазина, Лукин приступил к допросу заведующего магазином Быкова. Тот рассказал, что накануне вечером он попросил сторожа Новака и члена лавочной комиссии Ильева помочь ему упаковать в ящик яйца. Когда они втроем работали в магазине, кто-то постучал в дверь. На вопрос «что надо» послышался мужской голос. Неизвестный просил «на минутку» открыть дверь, продать ему пачку папирос. — Так просил, проклятый, — рассказывал Быков, — что не смог я ему отказать. Сам курящий, знаю, как иной раз без курева человек мучается. Ну и пожалел, велел Новаку открыть. Тот только успел засов отодвинуть, как они двое заскочили и прямо к нам. У одного револьвер в руке, у другого — финка. Конечно, нас тоже было трое, и у Новака ружье, оно там стояло, — указал он в угол за продуктовым прилавком. — Но только все так неожиданно получилось, что мы как-то сразу растерялись. Я и подумать ничего не успел, как мне один из них к затылку дуло револьвера приставил и говорит: «Повернись к стене лицом, а то сейчас всех уложу на месте!» И встали мы все лицом к стене. Тот, что с револьвером, сзади нас стоит, а другой товары в мешки складывает. Пять мешков наложил и говорит: «Ну, давай выносить!» Который нас стерег, выстрелил в стену над нашими головами. «Вот, — говорит, — видите? Сейчас мешки понесете к машине, она за углом стоит, а если сопротивляться вздумаете, стрелять буду уже не в стенку, а в вас». А нам уже не до сопротивления. Отнесли мешки на машину, заперлись в магазине и до утра выйти боялись. Вот так и ограбили нас, — закончил завмаг и, вытащив из кармана большой клетчатый платок, отер с лица пот. Он заметно волновался. Не лучше чувствовал себя и сторож Новак. Дрожащими руками скручивая из клочка газеты цыгарку, он то и дело тяжело вздыхал, пока Лукин записывал его показания. — Что же ты, дед, так плохо народное добро охраняешь? — спросил Лукин, закончив писать и подавая сторожу ручку, чтобы он расписался. — И ружье у тебя было, и двое мужчин с тобой! Старик безнадежно махнул рукой: — Эх! Сомлел я совсем, как оружие у них увидал, — плачущим голосом объяснял он Лукину, надевая очки и придвигая к себе бланк протокола допроса. — И коленки дрожать начинают, как вспомню их, окаянных. «Ну, и охрана!» — подумал про себя Лукин. Каждый раз, когда он сталкивался с подобными фактами, его удивляло одно противоречие: в большинстве случаев охранники — это либо старики, либо инвалиды, менее всего способные выполнять при нападении преступников свои функции. С другой же стороны, ограбления магазинов и складов случаются довольно редко, и здоровому, сильному мужчине нет никакого смысла годами сиднем сидеть возле магазина, дожидаясь преступников. Впрочем, сейчас Лукина занимало не столько это, сколько то, что в магазине были, кроме старика-сторожа, двое молодых мужчин. Они вполне могли бы оказать преступникам сопротивление, но не сделали этого. Показания Быкова, Новака и Ильева ничем не отличались одно от другого и не содержали почти ничего, что следователь мог бы использовать в предстоящих поисках преступников. Разглядеть бандитов они не успели, номера автомашины не заметили, так как были сильно напуганы. Только общие, ничего, в сущности, не говорящие данные были записаны в протоколах допроса: преступники были среднего роста, в темной одежде, а машина грузовая, полуторка, в кабине ее они никого не видели. Вот и все, что получил, чем располагал Лукин после допроса. Было очевидно также, что преступники — приезжие: хутор Зеленый — небольшое селение, и сторож Новак хорошо знал всех местных жителей. Оставив Рунова с членами ревизионной комиссии, которых привез Архангелов, Лукин вместе с ним и двумя бригадмильцами отправились в участок. — Я тут случайно один разговор подслушал, когда тебя не было, — сказал он по дороге Архангелову и передал ему содержание разговора. — И женщину, и мужчину мы взяли понятыми, чтобы сразу узнать их фамилии и адреса, — продолжал он. — Теперь надо допросить эту женщину — Варавину — и узнать, кого она подозревает в ограблении. А главное надо установить, кто эти два подозрительных парня, о которых говорил Глотов. Я подожду в участке, пока ко мне подойдет дочь Глотова. Я сам допрошу ее, а ты иди прямо на квартиру к Варавиной. Вот ее адрес. Он вырвал из записной книжки листок и отдал его Архангелову. — Выясни, о ком она говорила, и потом постарайся установить, где этот человек был вчера вечером. Ну, и дай задание своим людям, может, еще что-нибудь удастся выяснить. — Ладно, — ответил Архангелов. — Сейчас только на почту забегу, надо позвонить в горотдел, пусть хоть предварительные телефонограммы разошлют, может, с промтоварами кого-нибудь задержат. — Ну, беги, а я пошел в участок. На перекрестке Лукин и Архангелов расстались. Один из бригадмильцев отправился за Глотовой.Лукин и Архангелов встретились поздно ночью. Результаты их напряженного дневного труда были неутешительными. Аркадий Волин, которого подозревала Варавина, не имел к ограблению решительно никакого отношения. В этот вечер он был на свадьбе в соседнем хуторе, что подтвердило семь свидетелей. Изрядно выпив, Волин заночевал у хозяев и, проспавшись, пробыл у них весь следующий день. Однако двое неизвестных, о которых говорил Глотов, так и остались неизвестными. Никто не знал, кто они, откуда появились накануне вечером на танцплощадке колхозного клуба. Лукин допросил одиннадцать человек, но смог получить лишь описание внешности этих двух молодых людей, да многочисленные догадки о том, откуда они могли приехать на хутор. Вероятнее всего, из ближайшей станицы. Оттуда частенько являются на хутор парни, чтобы повеселиться в кругу хуторских девчат. Каких-либо других, хотя бы предположительных данных, найти не удалось. Никто не видел даже, откуда приехала и куда направилась грузовая машина. А дождь, прошедший той ночью, смыл следы на дороге. Собрав эти, более чем скудные данные, Лукин и Архангелов вышли из милиции и направились на квартиру Рунова, где решили переночевать. Было новолуние. Узенькая полоска месяца и яркие звезды выделялись на темной, бархатной синеве неба, не рассеивая густой темноты южной ночи. Архангелов закурил, не предложив Лукину папиросы. Он знал, что следователь не курит и не берет в рот ничего спиртного «по независящим ох него обстоятельствам», как, шутя, он говорил о себе. На фронте Лукин был тяжело контужен, и врачи лишили его этих двух удовольствий. Шагая рядом с Архангеловым и напряженно вглядываясь в темноту, Лукин размышлял вслух: — Тяжелое дело. Почти никаких следов, а раскрыть надо, иначе эти мерзавцы совсем обнаглеют, прямо днем грабить начнут. Надо искать товары и оружие. Без вещей, даже если найдем преступников, трудно будет что-либо доказать: следов они почти не оставили, потерпевшие их опознать не смогут. Какая там сумма недостачи, интересно? Ты не заходил в магазин? — Заходил, — ответил Архангелов. — Промтовары уже проверили. По предварительным подсчетам тысяч 35—40 недостает. Я взял на учет украденные товары. Теперь мы имеем точные данные. Да и приметы этих двух хлопцев следует описать. Может быть, все-таки это они были в магазине прошлой ночью. — Да, надо. И пулю возьми. Постановление о назначении экспертизы вынесешь и в научно-технический отдел сдашь. Нужно узнать, какой системы револьвер. Ты во сколько завтра едешь? — спросил Лукин. — С рассветом, как первые машины пойдут в город. Рунов меня подвезет на своей до перекрестка, а там на попутной доберусь. Не надо было тебе отсылать машину, теперь бы уже в городе были. И когда только наша милиция и прокуратура свой транспорт заимеют, — спотыкаясь в темноте, говорил Архангелов. — Вам-то скоро дадут, — успокоил Лукин. — А вот нам — пока не слышно. Ну, хоть бы вам дали, уж как-нибудь помиримся. Тут, кажется? — остановившись у невысокой хаты под черепичной крышей, спросил он Архангелова. — Здесь, — ответил тот и, не обращая внимания на громкий лай овчарки, вошел во двор.
На другой день с утра Лукин с помощью Рунова и бригадмильцев предпринял еще несколько попыток найти следы преступников, но безуспешно. В обед он зашел в магазин. Когда была готова сличительная ведомость и выведены итоги инвентаризации, Лукин долго и старательно изучал эти документы. Оказалось, что преступники унесли товаров на 50 тысяч рублей. Не поднимаясь из-за стола, следователь тщательно оглядел помещение магазина и, поджав губы, неопределенно хмыкнул. Потом подозвал Быкова: — Ну-ка, покажите мне еще раз полки, с которых взяли товары. Быков недоуменно взглянул на Лукина. — Вот здесь, я же вам говорил, товарищ следователь. И он указал на пустые полки в углу. — Здесь, говорите? — переспросил Лукин. Быков уже с явным беспокойством взглянул на следователя. — Да, а что? — Какие товары тут лежали? — не отвечая завмагу, снова спросил Лукин. — Пальто, костюмы, — ответил Быков, не понимая, к чему клонит следователь. — А вот тут, на нижней полке, отрезы лежали: трико, драп. — Так, так. Отрезы, значит, — по привычке склонив немного набок голову и внимательно разглядывая Быкова, повторил Лукин. — А стоимость этих вещей и сколько их тут лежало не помните? — Цены вон в сличительной ведомости есть и количество тоже, — обиженно отворачиваясь от следователя, сказал завмаг. Лукин переглянулся с подошедшим Руновым и снова посмотрел на Быкова. — Верно! В сличительной ведомости все изложено довольно ясно. Ну, что ж, поедем, пожалуй, в сельпо, — обратился Лукин к Рунову. Когда они вышли, Быков подошел к окну и долго смотрел им вслед, нервно покусывая папиросу. В сельпо Лукин снова взялся за изучение испещренных цифрами, мелко разграфленных листков торговых документов. Это были товарные отчеты завмага Быкова и акты предыдущих инвентаризаций его магазина. Результаты изучения оказались весьма любопытными. В акте предыдущей инвентаризации Лукин обнаружил несколько исправлений, не оговоренных инвентаризационной комиссией. Подсчет первоначальных сумм и сличение их с исправленными показал, что еще за месяц до ограбления в магазине была недостача на 24 тысячи рублей. «Немедленно сделать у него обыск», — подумал Лукин и, распрощавшись с работниками сельпо, отправился на квартиру к Быкову.
Наутро третьего дня Лукин привез все собранные им материалы прокурору. — Вот почитайте, Юрий Никифорович, — сказал он, вынимая из папки протокол допроса Быкова. — Тут подробно описаны обстоятельства ограбления. Сам потерпевший излагал. «Наверное, что-нибудь интересное», — подумал Лавров, удивленный тем, что следователь, не докладывая дела, сразу предлагает ему прочесть протокол. Пока Лавров читал, Лукин с интересом следил за выражением его лица. Потом спросил: — Какое впечатление? — Странно, — отозвался Лавров, задумчиво глядя в окно. — С одной стороны, чрезвычайная наглость, свойственная бывалым преступникам: ведь в магазине было трое мужчин, которые могли оказаться и не трусами! С другой стороны, полное отсутствие навыков, как у начинающих воришек. И этот «глупый» выстрел в стену в магазине, где им никто даже не пытался оказать сопротивление, — зачем он понадобился? — уже обращаясь к Лукину, спросил Лавров. Лукин, слегка поджав губы, как обычно делал, собираясь сказать что-нибудь смешное, ответил: — Для устрашения. Веселая ирония в глазах следователя навела Лаврова на нужную мысль. — Вы думаете… — медленно произнес он, догадываясь в чем дело. — Вы думаете?.. — Самая настоящая симуляция, — ответил Лукин на его мысль. — Вот, посмотрите! Он развернул сличительную ведомость и указал Лаврову на итоговые цифры. — Общий остаток товаров в магазине на день ограбления на 78 тысяч рублей. Недостача почти в 50 тысяч рублей. Если бы преступники все это взяли, магазин оказался бы пустым больше чем наполовину. Даже почти на две трети. А завмаг и оба свидетеля утверждают, что преступники освободили лишь три полки, в одном углу. Дальше: в магазине не было мелких ценных товаров, а в пять мешков на 50 тысяч рублей костюмов и пальто стоимостью по 600—800 рублей не набьешь. И плюс к тому, в магазине была недостача на 24 тысячи рублей еще месяц назад, но завмаг ее скрыл. И Лукин показал Лаврову исправления в ведомости предыдущей инвентаризации и общий итог. — Но только ли это симуляция? — усомнился Лавров. — Может быть, ограбление все-таки было, а завмаг просто хочет воспользоваться «счастливой случайностью» и списать на грабителей всю недостачу? — Эту версию я тоже имею в виду, Юрий Никифорович, — ответил Лукин, складывая в папку просмотренные прокурором ведомости. — Она еще не опровергнута, но, откровенно говоря, я мало в нее верю. Слишком много «счастливых случайностей» для Быкова. Из них можно сколотить целое чудо, а я в чудеса не верю. — Что же за чудеса вы там открыли? — спросил Лавров, заранее улыбаясь. Он знал, что следователь Лукин — большой мастер рассказывать всякие смешные истории. Многочисленные «случаи из практики» и обычные ежедневные происшествия он умел изложить, как самый забавный анекдот, неизменно сохраняя при этом на лице невозмутимую серьезность и поджимая узкие губы всякий раз, когда собравшиеся в его кабинете сотрудники буквально покатывались со смеху. Но сейчас Лукин ответил Лаврову совершенно серьезно: — Во время последней инвентаризации, как вы сами только что убедились, Быков скрыл крупную недостачу. Два дня назад его предупредили, что в магазине будет ревизия. В день ограбления магазин не работал, завмаг вполне мог бы упаковать яйца днем. Но он дождался темноты и только тогда, при слабом керосиновом освещении, занялся этим делом. И еще пригласил сторожа и члена лавочной комиссии, чего уж вовсе не было за все три года его работы. И вдруг именно в этот вечер — ограбление, да еще с ненужным выстрелом в стену… Немного помолчав, Лукин добавил: — Вообще-то на свете, конечно, всякое бывает. Но это маловероятно. Во всяком случае, я проверю обе версии, Юрий Никифорович, посмотрим, что будет дальше. А сейчас пойду к Архангелову, узнаю, какие у него новости. Лукин встал. Складывая бумаги, спросил: — Оперативное совещание будет? — Да, да, — ответил Лавров, взглянув на часы. — В двенадцать. Когда следователь вышел, Лавров позвал Марию Ивановну и сказал: — Пригласите ко мне Жабина, пожалуйста.
Жабин сидел в кабинете Лаврова с опущенной головой. — Как могло случиться, что в колхозе вы пытались допрашивать свидетелей, находясь в нетрезвом состоянии? — спросил после долгого молчания Лавров. — Я не был пьян. За обедом в чайной я выпил всего сто грамм. — Вы так объясняете, будто жалеете, что не выпили больше. Но дело не в том, сколько вы выпили. Вы вообще не имели права пить при исполнении служебных обязанностей. И совершенно правильно поступили свидетели, что не стали давать вам показаний. О вашем поведении я доложил краевому прокурору и, имея в виду, что это — не первый случай, полагаю, что вы не можете остаться работать в органах прокуратуры. Есть вещи несовместимые, товарищ Жабин… — Нет, Юрий Никифорович, я прошу вас — оставьте меня на работе! Обещаю, что это не повторится. — Но вы уже обещали. — Прошу вас поверить мне в последний раз. — Нет, больше не могу. Я предупреждал вас, не раз предупреждал, а вы продолжали позорить своим поведением не только себя, но и всю нашу прокуратуру. Прошу вас сегодня же сдать дела. Жабин еще и еще раз просил Лаврова оставить его на работе, но тот не уступил. Поникший, ссутулившийся следователь вышел из кабинета, а Лавров, с сожалением глядя ему вслед, подумал: «Хороший работник, толковый, а вести себя не может. И пытались же мы образумить его, говорили, выговаривали, предупреждали — все напрасно. Вот и спился человек. Скверно, черт возьми!..» И, испытывая неприятное, тревожное чувство, он машинально потянулся за папиросами.
В течение нескольких дней Лукин и Архангелов напряженно вели следствие по делу об ограблении магазина на хуторе Зеленом. В работу включился весь состав отдела борьбы с хищениями социалистической собственности, но похищенные товары словно канули в воду. Решительно никаких следов! За это время Лукин допросил многих свидетелей, выяснил образ жизни Быкова, установил, какие вещи приобрел он за истекший год, и пришел к твердому выводу, что завмаг жил явно не по средствам. Исправления в ведомости не были случайностью, Быков скрывал растрату. Лукин по-прежнему был уверен в симуляции ограбления и подозревал, что завмаг информирует сообщников о ходе следствия и помогает им заметать следы. Посоветовавшись с прокурором, он арестовал Быкова. Тот направил поток жалоб во все инстанции. Он обвинял следователя в нарушении прав честного человека, в необъективном ведении следствия, возмущался тем, что следователь, не разобравшись, поставил его в положение обвиняемого, а настоящих преступников найти либо не может, либо не желает. Первую же его жалобу Лукин внимательно перечитал два раза. Его не беспокоили ее последствия. На арест Быкова он имел достаточно оснований, так как растрату тот совершил во всяком случае. Но Лукин знал: сколько ни соверши, человек больших, тяжких преступлений, но достаточно обвинить его еще в одном, пусть в самом мелком и незначительном, но в котором он не виноват, как сейчас же последуют взрыв негодования, глубокая обида, возмущение несправедливостью. И теперь, вчитываясь в размашистые, уверенным почерком написанные строки, следователь пытался разгадать их истинный смысл: может быть, Быков действительно возмущен именно обвинением в симуляции? Но может быть, ограбление было для него действительно «приятной неожиданностью»?
«…Я — советский человек, труженик, а меня, не проверив факты, изолировали от общества и семьи, бросили в тюрьму и стряпают, что хотят, — писал Быков. — Я требую немедленно прекратить это издевательство, дать мне возможность вернуться в семью и снова стать полезным членом нашего общества, каким я всегда был и остаюсь в душе».— С чувством написано, ничего не скажешь, — оценил Лукин жалобу. Многолетний опыт следственной работы научил его быть осторожным. Он старался не подчинять своих действий только внутреннему убеждению (хотя оно почти никогда не обманывало его), а критически оценивать собственные выводы. «Маловероятно, но все-таки возможно, что я ошибаюсь и никакой симуляции не было, — резюмировал он свои размышления. — Ну, что ж, поживем — увидим». На девятый день, наконец, было получено долгожданное сообщение. Поздно вечером Лукину позвонил Архангелов: — Иван Георгиевич! В городе Сталино задержаны двое преступников без документов с промтоварами, В одном из чемоданов — револьвер системы «Наган». Что ты думаешь дальше делать? — Думаю, что нам с тобой завтра же туда надо выезжать вместе с завмагом и Ильевым. — Я тоже такого мнения. Давай с утра согласуй со своим руководством, а я своему скажу. Будь здоров! — Пока.
Утром, после разговора с Лавровым, Лукин встретился в коридоре со следователем Багровым. Тот был чем-то заметно расстроен. — Ты чего такой? — спросил его Лукин, подавая руку. — Да, неприятность! Необоснованный арест, — нахмурившись, ответил Багров. — Первый раз за все время работы. — Скверная штука, — с сочувствием проговорил Лукин. — Но, как говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает. И он ободряюще улыбнулся. Багров вошел в кабинет прокурора, поздоровался, сел около стола и, положив перед собой дело, сказал: — Юрий Никифорович! Арестованного Лерина нужно немедленно освобождать из тюрьмы. — Как освобождать? — с удивлением спросил Лавров, — он же совершил разбойное нападение на молодого парня, на этого… как его?.. — Ефимова, — подсказал следователь. — Да, да, на Ефимова. Он ведь ограбил Ефимова? — Так выглядело дело, когда вы решали вопрос о санкции на арест Лерина. Когда я принял дело к производству, у меня тоже не было никаких сомнений в обоснованности его ареста, но… — Но что могло измениться? — уже волнуясь, перебил Лавров. — У Лерина же в милиции были обнаружены облигации и деньги, насильно отобранные у Ефимова, причем на облигациях были пометки, о которых говорил потерпевший Ефимов. Более того, насколько я помню, в деле были показания очевидца того, как Лерин избил Ефимова и отобрал у него облигации и деньги. Только одних облигаций обнаружено более чем на 6 тысяч рублей. — Все это действительно в деле было, — заметил Багров, — но сейчас это выглядит совсем иначе. — Как? — с недоумением спросил прокурор. — Вы хорошо разобрались в деле? — Да, я разобрался, и его надо прекращать, а Лерина сегодня же освобождать из тюрьмы. — Не понимаю. — Сейчас я вам подробно доложу. Свидетель, очевидец преступления, — начал Лукин, — назвался Трошкиным Борисом Федоровичем, проживающим в соседнем районе. Имея этот адрес, я вызвал Трошкина для очной ставки с Лериным. Когда я объяснил ему причину вызова, он оторопел и заявил мне, что не только не был свидетелем этого преступления, но никогда не допрашивался милицией, и что вообще он не был в городе уже в течение последних полутора лет. А так называемый «потерпевший» Ефимов действительно существует, и он эти облигации и деньги украл совместно с Агафоновым из квартиры гражданина Беспалова. За эту кражу они сейчас оба арестованы милицией соседнего района. — В таком случае, как же деньги и облигации оказались в кармане у Лерина? — спросил Лавров. — Вечером, когда Ефимов, Агафонов и Лерин были задержаны за кражу, Ефимов, боясь разоблачения в краже облигаций и денег, незаметно для Лерина сунул пачку в карман его расстегнутого, широкого плаща, а на допросе заявил, что Лерин избил его и ограбил. Лерин в то время был сильно пьян, ничего не чувствовал, чем и воспользовался Ефимов. Вот письмо начальника райотдела милиции. Он сообщает, что Ефимов и Агафонов арестованы, признались в квартирной краже, Ефимов рассказал, что ему удалось ускользнуть от нашей милиции благодаря тому, что он обвинил Лерина в разбойном нападении. — Вы допросили Лерина? Что он сейчас говорит? — Он говорит, что был сильно пьян, ничего не помнит, а как оказались у него в кармане облигации и деньги, сказать не может. Взяв дело, прокурор стал внимательно его читать. Когда он отложил папку в сторону, Багров неуверенным голосом, словно прощупывая прокурора, сказал: — Если прекращать дело Лерина не очень удобно — что же, можно предать его суду за обоюдную драку с Ефимовым… Несколько секунд Лавров молча смотрел на Багрова, словно не веря тому, что правильно его понял. — Заменить статью?.. — тихо переспросил он. Полагая, что прокурор молчал, обдумывая его предложение, Багров осмелел: — Конечно! Ведь так-то получится, что человек вовсе зря сидел, а если переквалифицировать… — Знаете ли, товарищ Багров, это вы бросьте! — жестко сказал Лавров и нервно потянулся за папиросой. — Чтобы за наши с вами грехи другой расплачивался, не получится! Прошли те времена, и настоятельно советую вам забыть о них. Можете идти. Сейчас же подготовьте постановление о прекращении дела и немедленном освобождении Лерина. А когда объявите ему это, попросите его ко мне зайти. До свидания… Багров вышел. Впервые за все время работы он видел Лаврова таким суровым, колючим, даже грубым. «Хотел как лучше, — размышлял он, так и не поняв своей ошибки, — а он взъерепенился. Вот ведь незадача какая!..» А Лавров, оставшись один, встал и несколько минут ходил по кабинету возмущенный, опечаленный и раздосадованный. Ведь это он сам, своей рукой, дал санкцию на арест человека, не совершившего никакого преступления!
В город Сталино Лукин и Архангелов прибыли рано утром. Узнав в справочном бюро вокзала адрес нужного им отделения милиции, они вместе с Быковым и Ильевым явились туда. Быкову и Ильеву предъявили для опознания сначала задержанных, а потом вещи. Как и предполагал Лукин, они ничего и никого не опознали. — Кто их знает, — разводил руками Быков, перебирая мужские костюмы и пальто. — Может, и в нашем магазине взяты, а только как их угадаешь? Такими товарами по всему Советскому Союзу торгуют. А парней тех я не запомнил, я вам уже говорил. Сами задержанные заявили, что изъятые у них промтовары вместе с чемоданом они купили на ростовском рынке у цыган, а револьвер лежал на дне чемодана, под вещами, и о нем они ничего не знали. Оба не имели документов и утверждали, что являются жителями Ростова, а в Сталино поехали разыскивать проживающих там родственников. Однако Лукин и Архангелов, убедившись, что приметы задержанных полностью совпадают с описанными портретами неизвестных, которых видели свидетели в день ограбления на танцплощадке, решили везти их с собою. Упаковывая в чемоданы изъятые у задержанных промтовары, Лукин заметил на одном из пиджаков этикетку с надписью чернилами. Внимательно вглядевшись в надпись, он узнал роспись Быкова. — Ого! Смотри-ка, Степан Ильич, — сказал он, подавая Архангелову пиджак, — а товары-то определенно наши! — Ну, конечно, факсимиле Быкова! — разглядывая этикетку, пошутил Архангелов. — Допросим его еще раз. — Обязательно! Успеем еще, — взглянув на часы, ответил Лукин. — Веди его сюда. Когда Архангелов из камеры привел Быкова, на столе уже лежали четыре пиджака с его росписями, бланк протокола допроса и уголовное дело, раскрытое на той странице, где была подшита сличительная ведомость последней ревизии. — Садитесь сюда, — кивнул Лукин Быкову. — Вот эта ведомость вам знакома? Быков посмотрел. — Конечно, знакома. Я же подписал ее. — Значит, ваша подпись? — Моя. — А вот это чья? — снова спросил он, подвигая Быкову один из пиджаков и показывая на этикетку. Тот несколько секунд молча рассматривал этикетку, затем ответил: — Кажется, моя. — Точнее: ваша или нет? Осмотрев все этикетки, Быков поднял голову и оживленно заговорил: — Ну, конечно, это мой росписи! И как это я сразу не узнал? Значит, товары из моего магазина? Наконец-то нашли! И, облегченно вздохнув, с укором добавил: — Вот видите! А вы меня ни за что в тюрьму бросили. — Теперь-то уж разберемся, — ответил Лукин, а про себя подумал: «Хитер же ты, мошенник! Но и мы не лыком шиты». От проницательного взгляда следователя не укрылись ни разлившаяся по лицу Быкова бледность, ни чрезмерное его оживление.
Через несколько дней Лукин предъявил Быкову обвинение. Взяв из рук следователя отпечатанное на машинке постановление, Быков, беззвучно шевеля губами, прочел:
«Обвиняется в том, что он, работая завмагом рабкоопа на хуторе Зеленом, допустил растрату государственных средств в сумме 24 тысячи рублей, которую скрыл путем внесения исправлений в инвентаризационную ведомость, а впоследствии, вступив в преступную сделку с Краевым и Игнатьевым, симулировал с их помощью вооруженное ограбление магазина, снабдив преступников принадлежащим ему револьвером и предоставив им возможность похитить товаров еще на 26 тысяч рублей».Пытаясь скрыть овладевшее им волнение, Быков криво усмехнулся и с деланной иронией произнес: — Вот как! Даже револьвером снабдил. А где ж я мог его взять, по-вашему? — Как где? На трофейном складе, — как о чем-то само собой разумеющемся, сказал Лукин. — Вы же работали на трофейном складе в Узбекистане. Забыли?.. Быков растерянно взглянул на следователя, но сейчас же взял себя в руки. — Положим, работал. Там много всякого оружия было. Так что ж я по-вашему весь склад вывез с собой? — Зачем же весь? Вот только это, — ответил Лукин и поднявшись из-за стола, открыл сейф. — Вот только это… — многозначительно повторил он, кладя на стол старый, видавший виды револьвер системы «Наган». Черная краска почти вся облезла с него, одна щечка рукоятки была изготовлена из дерева. — Узнаете? — спросил Лукин, постукивая по ней пальцем и внимательно наблюдая за выражением лица завмага. Было заметно, что Быков колеблется: «Сознаться или нет? Может быть, еще не все потеряно». И, сделав над собой усилие, он ответил небрежно-спокойным тоном: — Чего мне узнавать, если я эту вещь первый раз вижу. Лукин, взяв револьвер, положил его в стол и, медленно закрывая ящик, произнес: — Смотрите, какой негодяй оказался! Быков резко обернулся: — Кто негодяй? — Да вот этот Власов, сосед ваш. Уверял, будто у вас был револьвер и он даже видел, как вы деревянную щечку к нему приделали. А оказывается… Что ж, придется вам очную ставку с ним давать, — сочувственно вздохнув, сказал Лукин. Быков молча смотрел в сторону. На лбу его проступали крупные капли пота и медленно сползали к широким черным бровям. — А вот заключение баллистической экспертизы, — услужливо пододвинул ему Лукин вдвое сложенный лист плотного картона с фотографиями револьвера и пули. — Утверждают, что пуля-то в стену магазина попала из этого самого «Нагана». Быков ладонью смахнул нависшие на бровях капли пота. Он понимал, что дальнейшее запирательство бесполезно, и, ссутулившись, глухо проговорил: — Пишите. — Давно бы так, — удовлетворенно заметил Лукин. — Только писать сами будете, как на первом допросе. Он подал Быкову ручку, бланк протокола допроса и, облокотившись на стол, стал взглядом следить за пером Быкова, из-под которого выбегали неровные строчки, блестящие от необсохших чернил.
«…Когда я узнал, что в магазине снова будет ревизия, я стал думать, как скрыть недостачу? В станице за шестьдесят километров от нас жил один мой дальний родственник Краев Леонид. Я знал, что он был судим за кражу, поехал к нему и попросил его выручить меня. В тот же вечер я был в чайной вместе с ним и его приятелем шофером Игнатьевым Николаем и отдал им револьвер и 700 рублей. Они обещали помочь. Машину Игнатьев должен был взять в колхозном гараже с разрешения завгара, как будто для поездки в город. На этот вечер я пригласил в магазин Ильева якобы для того, чтобы помочь мне упаковать яйца, а на самом деле затем, чтобы он и сторож Новак были свидетелями нападения…»Как только Лукин вошел в кабинет, Лавров сразу же спросил, точно ждал его появления: — Как чувствует себя ваш симулянт? — Замечательно, Юрий Никифорович! Облегчил душу признанием, — не удержавшись от искушения сострить, ответил Лукин. — Через два дня, не позже, дело будет закончено.
Лавров спешил на заводское профсоюзное собрание. По дороге он старался обдумать свое выступление, но никак не мог сосредоточиться. Юрий Никифорович знал, что на собрании встретится с Леонидовым, с человеком, который когда-то сам себя считал погибшим, а сейчас?.. Через тяжелые годы, проведенные в тюрьмах, пробился ли этот парень, наконец, к большой, настоящей жизни? И Лаврову хотелось верить в счастливое перерождение Леонидова. Как знать, может, и он, Лавров, тоже сыграл какую-то маленькую, но благородную роль, посеял в душе Леонидова смятение, протест против грязной жизни? Хотелось верить, что даже те минуты, когда он так жестко и прямо сказал Леонидову, как низко тот пал, не прошли даром, они помогли человеку вырваться из преступной среды, потянуться к настоящей жизни. Обо всем этом думал Лавров, подходя к заводскому клубу. На перекрестке двух улиц Юрий Никифорович увидел Леонидова. Тот шел под руку с Люсей и о чем-то говорил ей счастливым, срывающимся голосом. Девушка громко смеялась. И Лаврову вдруг стало весело, так же весело, как им — Люсе и Леонидову… На душе словно посветлело. «Пусть впереди у вас еще много будет таких же теплых, звездных, хороших вечеров», — подумал Юрий Никифорович…
Глава шестая
I
Закончив читать, следователь Глебов устало прикрыл глаза. Увлекшись делом, он и не заметил, что на дворе наступили сумерки. Включив свет, Олег Николаевич еще раз перебрал поступившую за день почту, отложил несколько бумаг, требующих первоочередного рассмотрения. Взгляд его задержался на письме прокурора, уехавшего в отпуск. «Тревожится Юрий Никифорович», — подумал он, вспоминая отдельные места уже прочитанного письма. Мысли его прервал телефонный звонок. Говорил начальник поселкового отделения милиции. — Товарищ Глебов! Часа два назад в районе подсобного хозяйства обнаружен полуразложившийся труп женщины. Наши работники выехали на место происшествия. — Погодите, — перебил его следователь. — Я запишу ваше сообщение. Кто обнаружил труп? — Местные ребята. — Где? — На десятом километре между железнодорожной будкой и зерносовхозом, в зарослях лесопосадки. — Кто из ваших работников побывал на месте происшествия? — Лейтенант Барыкин и сержант милиции Акимов. Глебов посмотрел в окно. — Уже темнеет, — сказал он, — выезжать сейчас на место происшествия едва ли есть смысл. Обеспечьте охрану трупа. Я приеду на рассвете. Ожидайте возле железнодорожной будки. Кстати, прошу к моему приезду подобрать двух понятых. Закончив разговор с начальником поселкового отделения, Глебов позвонил начальнику горотдела милиции. — Товарищ Туманов, вам известно, что в районе подсобного хозяйства обнаружен труп? — Да. Мне только что звонил начальник отделения. — Я думаю, — продолжал Глебов, — что сейчас выезжать на место происшествия не стоит, уже темно. Поедем утром. Позвоните в краевое управление милиции, пусть присылают эксперта-криминалиста. Буду на месте часов в семь утра. — Хорошо, товарищ Глебов, — ответил Туманов. — Эксперта я вызову. Я тоже поеду. — Тогда давайте к шести в прокуратуру. Да, чуть было не забыл! Не в службу, а в дружбу, пошлите предупредить судмедэксперта о выезде. Я бы и сам это сделал, да в прокуратуре никого из работников не осталось. Сложив дела в сейф, Глебов отправился домой. Весь вечер он думал о предстоящем расследовании. Это были обычные размышления следователя. Думал Олег Николаевич и о том, что выбрал тяжелую и вместе с тем благородную профессию. Тяжелую — из-за трудностей, с которыми связано раскрытие преступлений; благородную потому, что это была борьба с преступностью, борьба за спокойную жизнь советского человека. Особенно тяжело приходилось в первое время, когда, кроме теоретических знаний, ничего за душой не было. Глебов преодолевал эти трудности, остро переживая свои неудачи. Он вспоминал сейчас случаи, когда становился в тупик, сталкивался с противоречиями, которые, по его мнению, были вообще неразрешимы. Только с помощью опытных товарищей он находил выход из трудных положений. Со временем работать становилось все легче, накапливаемый опыт подсказывал верные ходы. Теперь Глебов уже не только просил советов, но и сам давал их товарищам. Он был пытливым, вдумчивым и трудолюбивым человеком, и эти качества постепенно, но верно вели его к овладению избранной им действительно трудной и действительно благородной профессией.
Автомашина остановилась на десятом километре, у железнодорожной будки. Переезда не было. Глебов, эксперт и работники милиции вышли из машины. Здесь их ждали начальник поселкового отдела милиции и понятые. Будка стояла вдали от проезжей дороги, и только редкие путники проходили мимо нее извилистой, мало-протоптанной тропинкой, едва заметной в густой траве. Тропинка хотя и связывала подсобное хозяйство механического завода с большим рабочим поселком, однако удобнее была другая дорога, пролегающая примерно в километре отсюда. До зерносовхоза было четыре километра, и на всем протяжении справа от тропинки раскинулись густые кустарники терновника, шиповника, дикого хмеля. Этот уголок сохранил всю свою первозданность благодаря тому, что земли между зерносовхозом и железной дорогой десятки лет были залежными. Лейтенант милиции шел впереди. Пройдя метров четыреста, он свернул в густой пырей. Остальные тянулись за ним цепочкой, боясь помять траву и цветы. Вскоре лейтенант остановился и, указав на кусты, сказал: — Здесь… В глубине кустарника Глебов заметил пожелтевшие листья — немые свидетели того, что в зарослях кто-то побывал. Разъяснив понятым их обязанности, следователь приступил к осмотру. Не подходя к трупу, он вместе с экспертом-криминалистом исследовал каждый сантиметр почвы, каждую ветку кустарника, стремясь найти следы, которые хоть что-то сказали бы о происшедшей здесь трагедии. Постепенно приближаясь к кустарникам, укрывающим труп, Глебов невольно-вздрогнул: у его ног лежала узкая полоска материи. Подняв ее и внимательно осмотрев, следователь сказал: — Пояс от женского платья. Шерстяного…Глядите, — обратился он к понятым, — пояс светло-зеленый на сатиновой подкладке коричневого цвета. На одном конце — согнутая английская булавка, на другом — подкладка порвана. Это говорит о том, что пояс был не просто снят, а сорван с силой. Понятые, затаив дыхание, слушали объяснение следователя. Зайдя в глубь кустарника, Глебов увидел, что труп прикрыт сломанными и уже пожелтевшими ветками. Когда удалили прикрытие, все увидели труп голой женщины, лежавшей на спине с полусогнутыми ногами.. Судебномедицинский эксперт обмыл лицо мертвой женщины. Глазницы были пусты, череп почти обнажен. Рядом валялся клок каштановых волос, скрепленных металлической заколкой. Кто она? За что и когда ее убили? Кто убийца? Рядом с трупом, с левой стороны, сохранились следы ног. Тщательно осмотрев их, Глебов пришел к выводу, что это были следы мужской обуви, примерно 42 размера. Расположение следов около трупа позволяло следователю мысленно представить себе такую картину: мужчина нес тяжесть, потом положил ее на землю, оставив на влажной почве отпечатки ног. Других следов Глебов не обнаружил, так как только здесь, под кустом не было растительности. Вокруг же сплошным ковром росла густая, не примятая трава. Заканчивая осмотр, следователь взял несколько засохших веточек, которыми был прикрыт труп. Эти веточки и заключение судебномедицинского эксперта должны были помочь установить время убийства. Биологическая экспертиза скажет, когда были сломаны ветки. Хотя Глебов тщательно обследовал место происшествия, но располагал он весьма скупыми, разрозненными данными: зеленый пояс из шерстяной ткани, следы мужской обуви, сухие ветви… Неутешительные и явно недостаточные данные. Глебов обратился к судебномедицинскому эксперту: — От вас требуется заключение по двум вопросам: о причине смерти женщины и времени ее наступления. Работники милиции вынесли труп из полумрака кустов на освещенную солнцем поляну. Судмедэксперт надел резиновые перчатки, подготовил инструменты и приступил к делу. Пока он занимался осмотром трупа, работники милиции, расположившись в стороне, горячо обсуждали различные версии убийства. При осмотре трупа эксперт нашел три проникающих во внутреннюю область грудной клетки ранения: два слева и одно справа. На ладони правой руки и фалангах левой руки убитой виднелись порезы каким-то острым предметом, причем на указательном пальце был срезан ноготь и повреждена мякоть тела. Результаты наружного осмотра убедили Глебова в том, что женщина все же пыталась оказать убийце сопротивление. Пока еще трудно было сказать, когда именно были нанесены эти раны — при жизни или посмертно. Женщина могла быть отравлена, удушена, а затем преступник специально, чтобы запутать следствие, мог нанести трупу ножевые ранения. Так тоже бывает… Медик приступил к вскрытию. Первые разрезы скальпелем подтвердили, что один удар был нанесен в правое легкое, два других — в сердце. Вскрывая труп, эксперт говорил Глебову, что он устанавливает, и тот делал соответствующие записи в своем блокноте. Вдруг эксперт умолк, покачал головой и, обращаясь к следователю, оказал: — Олег Николаевич, посмотрите внимательно. Глебов нагнулся и увидел в гортани рану, нанесенную, судя по ее форме ножом. Затем эксперт занялся исследованием шейных позвонков. Повидавший за свою жизнь немало, он не удержался от восклицания: — Зверь! — В чем дело. — Вы гляньте, какой удар в гортань! Он пробил даже позвоночник. Осмотр и вскрытие были окончены. К имеющимся данным следователь подключил другие звенья, которые впоследствии должны будут цепью замкнуться вокруг преступника. Эксперт дал заключение:
«Раны в области груди, шеи и пальцев — прижизненные, нанесены колюще-режущим орудием. Смерть наступила от ран, нанесенных в сердце. Рана в области гортани нанесена с большой силой. Раны нанесены примерно за двенадцать-пятнадцать дней до обнаружения трупа. Возраст убитой двадцать четыре-двадцать шесть лет».Таких разрозненных данных было уже немало, но они не давали ответа на основные вопросы. Самое трудное заключалось в том, что следователь не знал не только того, кто и почему убил женщину, а главное — кто она. И это, конечно, осложняло раскрытие преступления. Анализируя имеющиеся данные, Глебов пришел к выводу, что убитая была не из местных, так как двенадцать-пятнадцать дней ее отсутствия не могли остаться незамеченными родственниками или близкими ей людьми. А за это время ни в милицию, ни в прокуратуру заявлений об исчезновении женщины не поступало. «Впрочем, этот вывод может быть и ошибочным, — подумал Глебов. — Ведь женщина могла куда-нибудь уехать и ее считали временно отсутствующей. Наконец, она могла не иметь здесь родственников, а проживать где-то в общежитии — в районе и городе их много». Судебномедицинский эксперт мыл руки. Эксперт-криминалист заряжал фотоаппарат новой пленкой. Глебов, начальник горотдела милиции Туманов и начальник поселкового отделения милиции стояли, задумавшись. Первым нарушил молчание Глебов. — Ну что ж, — как бы подытоживая собственные размышления, сказал он. — Посмотрим, какими же данными мы располагаем, приступая к розыску убийц. Первое, в чем все уже убедились, это то, что убийство совершено не здесь, а где-то в другом месте. Кто убийца? Скорее всего, он местный человек, иначе зачем бы ему снимать с трупа все, вплоть до белья и чулок. Очевидно, он боялся оставить труп в приметной одежде. Убийца высокого роста, не менее 180—190 сантиметров, о чем говорят оставленные им следы ног. Ведь рост человека, как правило, определяется длиной его ступни. Убийца обладает значительной силой — об этом можно судить по весу тела его жертвы и по силе нанесенных им ударов ножом. Кто же он? Убитая женщина вряд ли была ему человеком посторонним, потому что посторонняя, пожалуй, не согласилась бы забраться с чужим человеком в эти глухие дебри. Внешние приметы женщины нам известны. Известен и цвет ее платья. Это немного, новее же кое-что значит. — А не было ли в данном случае ограбления? — высказал предположение Туманов. — Нет, — ответил Глебов. — Какой грабитель унесет с собою окровавленные вещи, не представляющие особой ценности? А ведь с убитой снято даже белье, а оно, несомненно, было окровавленным. Следователь снова задумался, а затем произнес: — Мне кажется, что убийство совершил человек, желавший избавиться от этой женщины, ненавидевший ее. Иначе чем объяснить зверство убийцы, продолжавшего наносить убитой все новые удары ножом уже после того, как она была смертельно ранена? Присутствующие внимательно слушали следователя. Его быстрый и четкий анализ, логика его рассуждений позволяли думать, что дело попало в надежные руки. Из всех преступлений наиболее тяжким является убийство. Поэтому к следователю, ведущему дело об убийстве, предъявляются особые требования. «Ни одно убийство не должно остаться нераскрытым!», — вспомнил Глебов наставление своего руководителя — Юрия Никифоровича. И со свойственной ему энергией Олег Николаевич взялся за расследование. В первую очередь нужно было установить личность убитой. По заданию следователя работники милиции и милицейский актив оповестили о случившемся жителей совхоза и других ближайших населенных пунктов. Однако и после этого никто не заявил об исчезновении женщины, никто из местных жителей не опознал трупа. Это утвердило Глебов а в предположении, что труп откуда-то завезен. Однако ограничиваться надеждой на то, что розыски в пределах района могут дать окончательные результаты, было бы неправильным. Поэтому были посланы письма и во многие прилегающие районы. В письмах сообщалось все известное следователю: примерный возраст убитой женщины, цвет волос, рост и прочее. Такие, письма, кроме прокуратур и отделений милиции, Глебов разослал в сельсоветы этих районов. Время уходило, а принятые меры результатов не давали. В Глебове начала просыпаться его давняя неуверенность. По-видимому, дело будет прекращено, и не только потому, что не найден убийца, но, что досаднее всего, — из-за неустановления личности убитой. К счастью, вскоре начали поступать письма. Каждое из них Глебов вскрывал с надеждой получить хотя бы отдаленный намек на то, что впоследствии прольет свет на загадочное убийство. Но, к сожалению, письма приносили только разочарование. Шли дни. Уже были получены десятки писем, а дело не двинулось с места. Это огорчало следователя. Вместе с тем Глебов с удовлетворением думал о том, как отзывчивы наши люди. За множеством писем он видел советских людей, готовых помочь ему делом, добрым словом, пожеланием успеха в работе, и это придавало Олегу Николаевичу силы, повышало настроение. Как-то явившись, на работу, он нашел на столе письмо, присланное из соседней области. Автор сообщал об исчезновении своей дочери, указывал ее возраст, приметы, делился подозрениями об убийстве. Сначала Глебову показалось, что в письме есть обстоятельства, совпадающие с теми данными, какими располагал он. Ведь из города, из которого пришло письмо, автострада идет именно через этот район, автобусы делают остановку в поселке совхоза, то есть примерно там, где нашли труп. Женщина могла ехать на попутной машине… Глебов вторично прочел письмо и тут же разочаровался. «Это не она. Ведь при наружном осмотре трупа на нем не найдено никаких индивидуальных примет, а у женщины, о которой пишет отец, на левой руке были вытатуированы две буквы «Е. А.». И все же Глебов не оставил письмо отца без проверки, принял по нему необходимые меры. Еще через несколько дней пришло письмо от гражданки Пановой. В письме высказывалось подозрение, не является ли убитая женщина ее дочерью Верой? Панова сообщала, что в марте дочь уехала с мужем в Кустанайскую область, до конца апреля присылала письма, а потом писем не стало. В начале мая Панова неожиданно встретила зятя и на вопрос «где дочь?» получила ответ, что Вера ему изменила, он с нею разошелся, а за измену отомстил. Это заявление насторожило Глебова, однако когда вопрос коснулся описания примет Веры, то оказалось, что они совершенно не совпадали с приметами убитой женщины. Вера была кудрявой, смуглой, маленького роста… Глебов написал прокурору Кустанайской области и вскоре получил ответ, что Вера, дочь Пановой, жива, здорова и работает в совхозе, а матери не пишет, боясь огорчить ее своей семейной неприятностью. Двадцать дней прошло с момента обнаружения трупа, но никаких результатов добиться не удалось. Глебов понимал, что каждый новый день все более и более осложняет возможность раскрытия преступления. Нужно было принимать какие-то другие меры. Сидя за столом в своем кабинете, следователь внимательно осматривал зеленый пояс. А не начать ли с него? Не попытаться ли установить, кому принадлежало платье из такой ткани? Найти по поясу платье, а потом узнать, кто его хозяйка, — это казалось Глебову труднее, нежели обнаружить иголку в большой скирде сена. Но Олег Николаевич знал, что искать надо, а раз иных нитей нет, остается цепляться за эту. Положив пояс в портфель, следователь направился в контору, объединявшую все пошивочные мастерские города, а затем в течение двух дней ходил по пошивочным мастерским, говорил с закройщиками. Однако ни один из них не принимал в работу платья из такой шерсти. «Но ведь в городе есть портнихи, работающие на дому, — подумал Глебов. — Может быть, это платье шила частная портниха? Только как ее разыскать?» Следователь проконсультировался у специалиста-товароведа. Тот определил, что материал, из которого пошит поясок, импортный. — Так, может, и платье сшито не у нас? — чувствуя, что утрачивает и эту тоненькую нить, спросил Глебов. — Не думаю, — сказал товаровед. — Судя по поясу — наша работа. У импортных платьев пояса, как правило, настрачиваются на жесткую прокладку, чтобы не мялись. И не ставили бы там на подкладку сатин другого цвета. Да и сатин-то наш, тринадцатирублевый, уж я его знаю. Мое мнение таково: материал привозной, а пошив наш, — заключил товаровед. Утром с поясом от платья Глебов обошел все комиссионные магазины, но ни приемщики, ни продавцы ничего полезного ему не сообщили. Никто не помнил платья из такого приметного, редкого материала. Возвратившись в прокуратуру во второй половине дня, Олег Николаевич решил посоветоваться со своими товарищами по прокуратуре. Они собрались у него в кабинете и стали обсуждать, что же делать дальше. Кто-то высказал мысль, что на территории города Глебов сделал уже все. Но Александра Мироновна Корзинкина возразила: — Надо бы еще на почте взять сведения, в какие адреса поступали посылки из-за границы, — сказала она. — А потом провести такую же проверку по этим адресам. Не проверив этого, мы не можем сказать, что в городе сделали все. — Верно! — обрадовался Глебов. — Дам такое задание милиции. Там теперь к нашим поручениям относятся добросовестно. Туманов навел порядок… И с минуту подумав, продолжил: — А я завтра же выеду в краевой центр, там поищу среди военнослужащих, побывавших за границей. Зная, что в краевом центре предстоит большая работа, Олег Николаевич позвонил начальнику горотдела милиции и попросил его выделить для поездки о ним двух опытных оперативных работников. В половине седьмого утра Глебов был уже на автобусной остановке, а через две-три минуты подошли и работники милиции, одетые в гражданские костюмы. Через три часа автобус прибыл в краевой центр. Следователь сразу же пошел к начальнику следственного отдела краевой прокуратуры, доложил ему, в каком положении находится дело, рассказал о том, что намерен проделать здесь… Глебов уже собирался уходить, когда начальник следственного отдела жестом задержал его и, набрав номер телефона начальника уголовного розыска, произнес: — Здравствуйте, Сергей Фролович! Говорит Обухов. Мне сейчас следователь Глебов доложил дело об обнаружении трупа. Глебов прибыл сюда с двумя работниками милиции. План его необходимо реализовать. Но потребуется ваше участие. Сейчас Глебов к вам зайдет, выделите ему товарищей в помощь. Его будут интересовать и некоторые данные, которыми располагает краевое управление милиции. Глебов встал. Обухов попросил его зайти к нему вечером сообщить о результатах поисков. — Хорошо, обязательно. Когда следователь вышел, Обухов вспомнил: «Эх, забыл, надо же ему номер заказать в гостинице». Он позвонил начальнику административно-хозяйственного отдела крайпрокуратуры и попросил, чтобы тот позаботился об устройстве следователя. Сидя у начальника уголовного розыска, Олег Николаевич и работники милиции распределяли между собой предстоящую работу. Сергей Фролович пообещал дать и своих людей. А пока он внимательно осматривал зеленый поясок. — Да, вещь приметная, — задумчиво сказал он. — Во что бы то ни стало надо установить, кому принадлежало такое платье. — За этим, собственно, я и приехал сюда. Все хорошенько запомните цвет и материал, из которого поясок пошит, — обратился Глебов к работникам милиции. — Перед вами будет стоять задача — проверить, нет ли среди граждан, побывавших за границей, и тех, кто получал из-за границы посылки, таких, которые бы имели такую материю или хотя бы знали о ней что-нибудь… — Мы поможем вам в этом деле, — пообещал начальник уголовного розыска, — и работу поведем сразу в нескольких направлениях. — Ну что ж, а я пока запрошу военкоматы и узнаю адреса военнослужащих, которые недавно вернулись из-за границы, — подытожил Глебов как бы программу предстоящих оперативных действий. В первом же военкомате райвоенком обещал подготовить список примерно через час. Пристроившись на лавочке в скверике, Олег Николаевич пытался было прочесть газету, но сосредоточиться не мог. Его мучила мысль: «Неужели и здесь, после того, как им и милицией будет проведена такая сложная работа, ничего не удастся обнаружить?» Час спустя следователь получил нужный ему список лиц с указанием адресов. Был уже полдень. Олег Николаевич торопился, чтобы успеть в этот день сделать как можно больше. До десяти часов вечера он ходил по городу, беседовал со многими людьми, но безрезультатно. «А где же я буду ночевать?» — вспомнил он вдруг и пошел в прокуратуру. Здесь он вновь увидел начальника следственного отдела Обухова, рассказал ему, чем занимался. — Вы, я вижу, очень устали, — сказал Обухов. — Идите в гостиницу отдыхать. Номер вам заказан. — Спасибо. Вам из уголовного розыска не звонили? — спросил Глебов. — Нет. Слишком мало времени прошло. — А с материалами следствия ваши товарищи ознакомились? — Видимо, нет, так как мне еще не докладывали. Но вы не волнуйтесь. Идите отдыхать, — повторил Обухов. — Вы сегодня на самого себя не похожи. — Не так работа утомляет, товарищ Обухов, как ее безрезультатность, — признался Глебов. — Очень уж сложное оказалось дело. — Ничего, не падайте духом, — сказал Обухов. — Вот увидите — все будет в порядке. Глебов встал. — До свидания! Завтра к вечеру я загляну к вам. — Если особой нужды не будет, можете и не заходить. Лучше сходите в театр, в кино. — Нет уж, не до театра мне сейчас. Глебов ушел, а Обухов подумал: «Да, дело действительно тяжелое, но работает он изо всех сил. Такого подгонять не придется. Молодец! Парень думающий, надо к нему получше присмотреться». Утром снова начались встречи с людьми. Разговаривал Глебов с ними осторожно, более всего опасаясь поставить честного человека в положение подозреваемого. Работа по тем данным, которые были получены в райвоенкоматах, подходила к концу. На нее ушло более недели. Оставалось проверить еще трех военнослужащих. В десятом часу вечера следователь подошел к дому, расположенному на окраине города. Увидев в окне свет, остановился и подумал: «Может, поздно заходить и беспокоить?» Но ему хотелось быстрее закончить эту проверку. Восемь дней ищет, а толку никакого! Дверь открыла средних лет женщина. — Простите, — сказал Глебов, — мне нужно видеть товарища Рубика. — Он у нас уже не живет. Выехал дней пятнадцать назад, — ответила женщина. — Не скажете куда? — Точно не знаю, кажется, к своим родителям, в совхоз. Хотел там устроиться на работу. — А его семья? — Жена уехала вместе с ним. А детей у них нет. — Разрешите зайти? — спросил Глебов. — Мне необходимо поговорить с вами более обстоятельно. Я мог бы придти и завтра, но если можно… — Что ж, ежели к спеху, то заходите, — нехотя согласилась женщина. Глебов вошел в квартиру. — Садитесь, пожалуйста. Глебов сел на стул у обеденного стола, напротив хозяйки. — Как ваше имя и отчество? — Варвара Ивановна. — Я следователь прокуратуры. Хозяйка смутилась… — Расскажите, пожалуйста, что вы знаете о супругах Рубик. — Что же вам рассказывать? Я ведь так мало их знала, — начала Варвара Ивановна. — В конце прошлого года Василий Леонидович Рубик зашел ко мне со своим дядей, местным жителем, попросил сдать комнату. Он тогда только что вернулся из-за границы, где проходил военную службу. Там и женился. Ну, я впустила их, квартира позволяет, а лишние деньги — не помеха. Вещей у них, верно, многовато было, да мне-то что?.. Три чемодана привезли и большой тюк. А обстановки вовсе не было, я дала свою кровать, столик и два стула. В тюке была верхняя одежда и новый хороший ковер, который Валентина прибила возле кровати. А уж потом-то она так, по-женски, похвасталась мне своими платьями, отрезами. Женщина молодая, ей ведь это все интересно. Отрезы, конечно, дорогие, хорошей материи, это он ей там купил, в Вене или в Венгрии, уже не упомнила я. — А вы не помните, Варвара Ивановна, не было ли у Валентины зеленого платья? Из шерсти… Варвара Ивановна задумалась, но тут же, видимо, вспомнив, уверенно сказала: — Было и зеленое, как же… Она его уже здесь пошила. Хороший отрез был, только, по правде сказать, неинтересно ей его пошили. Прямо жалко, ей богу… Берутся шить, а того не понимают, что… Глебов не вытерпел и, достав из портфеля зеленый пояс, прервал словоохотливую хозяйку: — Такой материал? Не помните? Варвара Ивановна внимательно рассмотрела пояс, долго щупала его своими узловатыми пальцами и только после этого сказала: — Вроде бы тот материал. Похоже… А как же он к вам попал, этот пояс? Глебов вместо ответа спросил: — Кто ж это ей так испортил платье? Неужели некому было сшить как следует? — Да я не знаю, кому она отдала. Ни к чему мне было. — А как бы это узнать, Варвара Ивановна? — голосом, в котором слышались и волнение, и просьба, спросил Олег Николаевич. — Мне это так важно! — Да узнать-то просто, — сказала хозяйка. — Ольга с Валентиной на примерку ходила. Только ведь портниха-то, может, без патента работает… Не хочется мне подводить человека, не люблю я этого. — Что вы! — воскликнул Глебов. — Зачем мне ее патент. Я могу дать вам слово, что ничем не обижу эту портниху, только поговорю с ней… — Ну, что ж, — согласилась Варвара Ивановна. — Ольга спит, но сейчас я ее разбужу. — Может, неудобно? — спросил из вежливости Глебов, но более всего опасаясь, что хозяйка и впрямь не захочет будить дочь. Однако хозяйка, не ответив, вышла из комнаты. …Вскоре вошла девушка лет восемнадцати, заспанная, в наспех наброшенном ситцевом халатике и в тапочках на босу ногу. Усевшись за стол, она с удивлением уставилась на незнакомца, из-за которого ее подняли с постели. Протягивая Ольге зеленый пояс, Олег Николаевич спросил: — Скажите, вам приходилось когда-либо его видеть? С лица девушки мгновенно исчезли следы недавнего сна. Она тщательно осмотрела сначала зеленое сукно пояса, потом подкладку, потом английскую булавку… — Это пояс от платья Валентины, — уверенно сказала Ольга. Сердце следователя учащенно заколотилось. «Неужели нашел?» — ликуя думал он. Налив из графина, стоявшего на столе, полный стакан воды, он с жадностью выпил его. — Вы в этом уверены? — Конечно! Я же помню этот отрез! Такого у нас не встретишь. А на подкладку для пояса материи не хватило, портниха этот сатин и поставила. Я еще помню, Вале не понравилось, что подкладка коричневая… — А вы можете мне показать, где живет эта портниха? — Могу, но только… — Что?.. — Она просила никому не говорить, что шьет… — Почему же? — Ну уж этого я не знаю. — А почему вместо пряжки булавка, знаете? — улыбнулся Глебов, боясь спугнуть девушку. — Нет, сама удивляюсь. Валентина аккуратная, ни за что бы не стала ходить с булавкой. Здесь же крючок есть и петелька… Видите. По просьбе Глебова хозяйка квартиры показала ему комнату, в которой жили супруги Рубик. Это была небольшая комнатка с двумя окнами, выходящими во двор.. — Вот эта дверь, — объяснила Варвара Ивановна, — когда жили Рубики, была закрыта изнутри на замок. Заходили они в комнату через черный ход. Так им было удобнее, получалась изолированная комната. — А как это вы, Варвара Ивановна, сразу согласились сдать комнату неизвестному человеку? Вы же его совсем не знали. — Да ведь его привел дядя, сослуживец моего покойного мужа. Они вместе много лет работали в горфинотделе. Этот Иван Андреевич — фамилию его я забыла — и сейчас там работает старшим бухгалтером. — Варвара Ивановна, — помолчав, сказал Глебов. — Я пришел к вам по очень серьезному делу. Мне нужно знать более подробно, все, что касается личной жизни Рубика и Валентины. — Что я вам могу сказать? — ответила хозяйка. — Жили они уединенно, видите, даже комнату свою изолировали. Если я и заходила к ним, то раза два-три за все время, да и то в отсутствие Рубика. Первое время я ничего особенного не замечала. Рубик искал работу, Валентина устроилась кондуктором. Как-то зайдя к нам, она пожаловалась мне и Ольге, что муж начал пить, поздно приходит домой, скандалит, грозит с ней разойтись, найти себе другую. Она, конечно, сильно переживала все это. Мне казалось, что Валя любит Василия. В другой раз, зайдя в комнату Валентины, — продолжала хозяйка, — я застала ее в слезах. Она пожаловалась мне, что у нее с Василием снова произошла крупная ссора. «Так жить нельзя, — плача, говорила она. — Лучше разойтись». — Когда это было? — перебил Варвару Ивановну Глебов. Хозяйка задумалась. — Если не ошибаюсь, дня за два — за три до ухода их с нашей квартиры. После я с Валентиной уже не встречалась. Рубик неожиданно заявил мне, что уходит, рассчитался за комнату и увез свои вещи. Я хотела было спросить его, а как же Валя. Но не решилась. Подумала, что лучше не вмешиваться не в свое дело. Вот и все. Когда следователь окончил записывать показания Варвары Ивановны и Ольги, на дворе была уже ночь. Спрятав протокол в портфель, Олег Николаевич обратился к Ольге: — А с вами нам еще необходимо встретиться. Я буду ждать вас в девять утра у здания краевой прокуратуры. Хорошо? — Я приду, — коротко ответила девушка. Выйдя из дома Варвары Ивановны, Глебов отправился в гостиницу. Настроение у него было приподнятое, за целый день напряженной работы он даже не чувствовал усталости. «Неужели? — думал он. — Неужели я на правильном пути?» Глебов пришел в дом Варвары Ивановны в тот момент, когда, казалось, следствие зашло в тупик. И как раз в тот момент, когда он готов был поверить в тщетность поисков, он получает данные, проливающие свет на личность убитой женщины. «Да. Убитой могла быть Валентина Рубик, а убийцей ее муж, Василий», — казалось, возникала сама собой версия. Сопоставляя данные и намечая план дальнейшей работы, Глебов пришел в гостиницу и, укладываясь спать, попросил дежурную разбудить его в семь часов утра. Ровно в восемь он был в управлении трамвайного парка, где, как ему было теперь известно, должна была работать Валентина Рубик. В отделе кадров ему дали учетный листок, заявление о приеме на работу, автобиографию Валентины Прохоровны Рубик и приказ об увольнении ее с работы. Из автобиографии Глебов узнал, что девичья фамилия Валентины — Дук и что в городе Изяславле, по улице Народной, проживает ее мать Дарья Петровна. Глебов обратил внимание на мотивировку приказа об увольнении:
«В связи с невыходом на работу Рубик Валентину Прохоровну уволить…»«Дата увольнения, — подумал он, — совпадает с предположительным днем смерти…» Изъяв из личного дела автобиографию Валентины, Глебов вышел из управления трамвайного парка и направился в краевую прокуратуру. Надо было торопиться, так как с минуты на минуту могла прийти Ольга. Он столкнулся с нею у здания прокуратуры. А уже в начале десятого они вместе подходили к небольшому кирпичному домику, расположенному в глубине зеленого двора. Два окна, прикрытые ставнями, создавали впечатление, что обитатели домика спят. — Вот здесь… — сказала Ольга. Глебов постучал в дверь и, не получив ответа, заглянул в замочную скважину. Ключа в замке не было. — Портнихи-то дома нет, — с досадой сказал он. — Давайте подождем, — предложила девушка. — Она могла уйти на базар или в булочную. — А вот и она! — воскликнула Ольга, указывая на идущую по улице пожилую женщину с корзинкой в руке. Когда женщина приблизилась, Глебов обратился к ней. — Простите, я следователь прокуратуры. Мне необходимо с вами поговорить по важному делу. Женщина вздрогнула. Глаза ее с испугом смотрели на Олега Николаевича и с укором — на Ольгу. — Вы не волнуйтесь! — поспешил Глебов успокоить женщину. — Наш разговор будет недолгим и абсолютно ничем вам не угрожает. Нужно только, чтобы вы ответили мне на несколько вопросов. Вслед за женщиной Олег Николаевич и Ольга вошли в дом. — Я не знаю ни вашей фамилии, ни имени, ни отчества, — сказал Глебов. — Рогальская Полина Степановна, — дрожащим голосом проговорила женщина. — Так вот, Полина Степановна, мне хотелось бы убедиться в том, что вы знаете девушку, с которой я к вам зашел. — Что-то не припоминаю, — не взглянув на Ольгу, ответила портниха. — Может, встречались где, но не помню. — Полина Степановна, — вмешалась в разговор Ольга, — я заходила к вам с моей знакомой Валентиной. Вы шили ей платье из… — Постойте! — перебил ее Глебов. — Полина Степановна сама все припомнит и расскажет, из какого материала она шила это платье. Итак, Полина Степановна, мы вас слушаем. Глядя в лицо портнихи, Глебов видел на нем мучительное колебание. — Да, вспоминаю, был такой случай, шила платье для Вали, — тихо ответила она. — А из какого материала? — Из зеленой шерсти. — Расскажите, пожалуйста, подробнее, как все это произошло? — С Валей я познакомилась случайно месяца три назад. Тогда же я узнала, что она приехала с мужем из-за границы, привезла с собой несколько шерстяных отрезов. Валя попросила меня сшить ей платье. Я взялась. Она принесла материал, два раза приходила на примерку, а один раз с этой девушкой. За работу я взяла 100 рублей, так ведь и в ателье дешевле не сошьют, сами знаете… — Да не в этом дело, Полина Степановна, совсем не в этом, — прервал портниху Глебов. От волнения он не знал, как быстрее направить рассуждения свидетельницы в нужном ему направлении: от этого разговора зависело все, весь исход дела!.. Рука его бессознательно неоднократно прикасалась к замку лежащего на коленях портфеля, и он, решившись, достал, наконец, зеленый пояс, положил его на стол перед портнихой. Она взяла пояс в руки и, мельком взглянув на него, сказала: — Это я шила… Это от ее платья… Глебов облегченно вздохнул. — Но не ошибаетесь ли вы, Полина Степановна? — спросил Глебов. — Вы уверены, что этот пояс именно от платья Валентины? — Да ведь моя работа! — ответила Полина Степановна. — Старая портниха свою работу всегда узнает. Да и материал такой, что не спутаешь, — привозной. А вот на подкладку не осталось шерсти, пришлось сатином подшить. У меня как раз был такой сатин… — Простите, — перебил Полину Степановну следователь, — а не осталось ли у вас хоть кусочка той шерсти? Ну, хоть маленького обрезочка. — Может, и есть, — ответила портниха. — Пойду, поищу… Полина Степановна ушла в соседнюю комнату и возвратилась, держа в руках несколько небольших лоскутков материи. — Вот, — сказала она. — А это — остатки подкладки… И протянула Глебову кусок коричневого сатина. Следователь достал из портфеля бланк протокола допроса…
II
…Во втором часу дня Олег Николаевич вернулся в прокуратуру. Не терпелось поделиться своими успехами с начальником следственного отдела, но трезвая мысль подсказывала другое: сначала нужно допросить дядю Василия Рубика. И, сняв телефонную трубку, Глебов позвонил в городской финансовый отдел. …Сидевший против следователя пожилой человек располагал к себе. Добродушное, изрезанное глубокими морщинами лицо, ясные глаза, мягкая улыбка — все внушало доверие. Как и многие старики, Иван Андреевич был словоохотлив, и Глебову оставалось лишь слушать его. — Валентину, жену моего племянника, я видел только один раз вечером, когда она вместе с Василием заходила ко мне знакомиться. Просидели мы за чаем около часу, а потом они ушли. Это было вскоре после того, как я и Василий ходили к Варваре Ивановне договариваться насчет комнаты. Месяца полтора назад, а может, и меньше, Василий пришел ко мне без Валентины, принес два чемодана и узел с вещами и попросил взять эти вещи на хранение. «А где же Валя? — спросил я. — С Валей у меня все кончено, — ответил Василий, — проводил ее вчера к родным. Не захотела жить с безработным. Ну, и черт с ней! — добавил Василий, — не хочет и не нужно, просить не буду, и без нее найдется. У меня в Одессе есть девушка не чета Валентине. Поеду и женюсь», — сказал Василий. — Вот оно какое дело с Валей, — продолжал Иван Андреевич. — На следующий день перед вечером Василий снова пришел ко мне и вынул из чемодана женскую юбку, шелковый платок и еще что-то, не помню. Я спросил его: «Куда ж ты несешь вещи?» — «Продавать, — ответил, — нужно ж чем-то жить». Так продолжалось два дня. Василий приходил ко мне, брал из чемоданов что-либо и уносил. На третий день он пришел в новом костюме и туфлях. «Купил? — спросил я». «Продал ковер и купил, — ответил Василий. — Уезжаю в Одессу». Проводил я его на вокзал, он взял билет до Одессы и уехал. — А вещи? — спросил Глебов. — Забрал с собой. — Родители Василия живут в совхозе? — Да, живут старики — отец и мать — Трофим Игнатьевич и Степанида Яковлевна. Отец работает ветеринарным фельдшером… После разговора с Иваном Андреевичем Глебов пошел к Обухову. — Где же вы пропадали? — спросил тот. — Работал, — ответил Олег Николаевич, не умея скрыть улыбки. — Ну и что же? Кажется, настроение у вас неплохое. — Кое-что удалось, товарищ Обухов. Во всяком случае, почти установлена личность убитой женщины, то есть то, над чем мы безрезультатно бились вот уже сколько времени. И, кроме того, есть данные, позволяющие думать, что убийцей является ее муж. Глебов подробно доложил Обухову, что ему удалось установить за прошедшие дни. Обухов взял у следователя протоколы последних допросов, прочитал их и, возвращая, сказал: — Да, не зря вы сюда приехали. Что думаете делать дальше? — Надо срочно выехать в совхоз, допросить родителей Василия Рубика, может быть придется произвести у них обыск. — На чем вы намерены ехать в совхоз? — спросил Обухов. — На автобусе. — Погодите: я узнаю, если наша машина здесь, садитесь и поезжайте. Обухов позвонил. Машина оказалась на месте. — А следственные материалы можно взять? — Конечно. У прокурора, изучавшего их, был целый ряд предложений, но теперь они, видимо, отпадут. — Да. Чуть было не забыл! — спохватился Глебов. — У меня к вам большая просьба. Нельзя ли позвонить прокурору Изяславля и поручить ему проверить, проживает ли там мать Валентины и приехала ли к ней дочь? Допрашивать, конечно, надо осторожно, чтобы мать не поняла, что случилось с дочерью. — Хорошо. Сегодня же позвоню. Кто знает, а вдруг эта Валентина жива и здорова? Следственная практика знает много чудес. Обухов подал следователю руку: — Желаю успеха! — До свидания, — ответил Глебов и вышел. Машина стояла у подъезда, работники милиции ждали Глебова. — Садитесь, — сказал он, открывая дверцу. По пути в совхоз Глебов продолжал думать о Валентине. Слова Обухова заронили в его душу мимолетное сомнение: а вдруг Валентина действительно жива? Что тогда? Искать Василия и устанавливать, кому он продал зеленое платье жены? Нет, не может быть… Таких совпадений не бывает… Откинувшись на спинку сидения, Глебов быстро заснул. — Олег Николаевич! — разбудил его голос одного из спутников. — Приехали… Машина подошла к конторе совхоза. Был восьмой час вечера. Вошли в кабинет директора, поздоровались. Глебов подсел к столу, работники милиции разместились на диване. — Ну как? — поинтересовался директор. — Установили, кто убил? — Кое-что установили, — ответил Глебов, — но еще мало для окончательного решения. А сейчас я просил бы вас послать за родителями Василия Рубика. Я их здесь допрошу. Только не нужно говорить им, что их приглашают на допрос к следователю: зачем стариков волновать. Полчаса спустя старики пришли в контору. Подумав, Олег Николаевич решил допросить сначала отца и попросил мать подождать в коридоре. — Рубик Трофим… Простите, не знаю отчества. — Трофим Игнатьевич, — подсказал старик. — Так вот, Трофим Игнатьевич, — начал следователь. — Меня интересует все, что относится к вашему сыну Василию: его женитьба, служба в армии, работа, возвращение из-за границы. На лице старика отразилось волнение. — Нельзя ли узнать, почему вас интересует Василий? Уж не натворил ли он какой-либо беды? — с тревогой спросил Трофим Игнатьевич. — Я потом вам все объясню, — ответил Олег Николаевич. — А сейчас, пожалуйста, расскажите мне о сыне. — Василий, — начал Трофим Игнатьевич, — мой старший сын. До призыва в армию работал в совхозе и в нашем городе на мясокомбинате. Призвали его в армию в 23 года. Имел отсрочку из-за болезни глаз. Вылечили глаза, ну и призвали. Служил в Воронеже, а через год был направлен за границу. Возвратился с женой Валентиной прямо к ее матери, а от матери уже к нам приехал, в совхоз. — А где живет мать Валентины? — спросил Глебов. — На Украине, в Изяславле. — Вы сказали, что Василий женился на Валентине? — Да, женился, она показывала брачное свидетельство. — Ну, а потом? — спросил Глебов. — Потом оба они уехали в город устраиваться на работу. Зимой Василий приезжал в совхоз за продуктами, рассказывал, что Валентина нашла работу, а он никак подходящей не подберет. Комнату снял в частном доме, помог ему мой двоюродный брат Иван Андреевич. Весной пришлось мне побывать в городе, зашел я к Ивану Андреевичу и узнал, что Василий разошелся с Валентиной, отправил ее к матери на Украину, а сам уехал в Одессу. Мне стало обидно и за себя и за Валентину. Уехал и ничего не написал. — А вы не помните, Трофим Игнатьевич, в каком платье была у вас Валентина, когда приезжала с мужем. — Ну, уж этого-то я не могу помнить, — ворчливо сказал старик. — В платьях толку не понимаю… Закончив допрос старика, Глебов решил, что с женой его говорить, собственно, не обязательно, и без того все ясно, и отпустил супругов домой, попросив их занести ему, если есть, фотографии Василия и Валентины и их письма к родителям. Старик не заставил себя долго ждать. Он скоро вернулся со свертком и протянул его Глебову. — Вот… поглядите. Через тонкую газетную обертку Глебов нащупал конверт. «Письмо Василия», — решил Олег Николаевич и не ошибся. Он развернул сверток, вынул письмо.«Дорогие родители! — прочел он. — Я нахожусь на станции Емца Архангельской области. Устроился работать в леспромхозе. С Валентиной расстался».На конверте имелся почтовый штемпель:
«Станция Емца Плесецкого района».— А почему вы не сказали мне об этом письме, — спросил следователь Трофима Игнатьевича. — Да так, ни к чему вроде было, — ответил старик. Вместе с письмом старик принес и фотографию мужчины и женщины. — Кто это? — снова спросил Глебов. — Василий и Валентина. — Мне придется на время взять у вас эту фотографию, — сказал Глебов. В первом часу ночи он вместе с работниками милиции выехал из совхоза, а в девять утра был уже в прокуратуре. Лавров вернулся из отпуска, и следователь сразу направился к нему. — Говорят, вы хорошо поработали? — поздоровавшись, спросил Юрий Никифорович. — Сложное дело распутали? — Откуда вы знаете? — Я вчера разговаривал с Обуховым, он мне кое-что рассказал. В следственном отделе ваша работа понравилась. Обухов просил сообщить ему, что удалось установить в совхозе. Глебов подробно доложил дело. — А товарищ Обухов дозвонился до Изяславля? — Да, разговаривал с прокурором города. Как только мы получим телеграмму, я думаю, мне необходимо самолетом отправляться в Архангельскую область. Иначе родители могут успеть предупредить Василия и он скроется. — Хорошо, я позвоню прокурору края, договорюсь. …Весь день Глебов листал хорошо знакомое ему дело и составлял план допроса Василия Рубика, а придя в прокуратуру утром следующего, дня, нашел на столе у секретаря прокурора нераспечатанную телеграмму из Изяславля. Быстро вскрыв телеграфный бланк, Олег Николаевич прочел: «Рубик-Дук Валентина Прохоровна проживает Изяславле вместе матерью Дук Дарьей». Глебов вначале ничего не понял. «Валентина проживает в Изяславле вместе с матерью, — механически повторил он. — Но ведь этого не может быть! Валентина убита, несомненно убита своим мужем Василием! Не может же она воскреснуть и жить у матери! В чем же ошибка следствия?» — мучительно думал Глебов. Как же быть дальше; где искать убийцу? Зайдя к Лаврову, следователь молча протянул ему телеграмму. Лавров взглянул на нее, и лицо его выразило искреннее недоумение. — В чем же дело? — спросил он. — Не знаю, не знаю, в чем дело, — ответил Глебов, нервно шагая по кабинету. — Выходит, что все эти дни я устанавливал факт насильственной смерти Валентины, а она жива?! Теперь я уже совершенно ничего не понимаю!.. — Успокойтесь, сядьте, — сказал Лавров. — Постараемся вместе разрешить этот действительно загадочный вопрос. Давайте посмотрим материалы… Глебов вынул из портфеля густо исписанный лист бумаги. — Вот у меня здесь записано все наиболее важное, — начал он. — Уже при осмотре места убийства я пришел к выводу, что это убийство совершено местным жителем. Иначе, какой смысл было убийце раздевать убитую догола? Он сделал это для того, чтобы еще труднее было опознать труп и, следовательно, заподозрить личность убийцы. Так? — Допустим, — сказал Лавров. — Дальше. — Я также пришел к выводу, — продолжал Олег Николаевич, — что убийца и его жертва являются не посторонними друг другу людьми. В такую глухомань едва ли женщина пошла бы с чужим человеком. И, наконец, убийство совершено с целью избавления от женщины, по каким-то причинам ненавистной убийце. Об этом с несомненностью говорит зверский характер ранений. Все эти предварительные выводы я имел в виду, расследуя дело. Я и сейчас от них не отказываюсь. Затем Глебов ознакомил прокурора с протоколами обследования места убийства, с актами экспертиз, показаниями отца и дяди Василия Рубика, свидетельствами его квартирной хозяйки, ее дочери, портнихи… Онвынул из портфеля и передал Лаврову фотографию Валентины и Василия. — После приезда в город отношения между Василием и Валентиной обострились. Василий начал пить, не приходил по ночам домой. Валентина жаловалась на свою жизнь, говорила, что они, вероятно, разойдутся. Исчезновение Валентины совпадает со временем, когда был обнаружен труп неизвестной женщины. Василий увозил вещи из квартиры своей хозяйки без Валентины и временно хранил их у дяди, причем сразу же продал несколько вещей Валентины, а на вопрос дяди, почему он продает именно ее вещи, ответил, что с Валентиной разошелся, оставив у себя вещи, которые сам ей купил… Лавров слушал Глебова, не перебивая, не задавая ему никаких вопросов, и чем отчетливее вырисовывалась перед ними вся картина совершенного преступления, тем большее удивление вызывала телеграмма из Изяславля. Машинально перечитывая ее еще и еще раз, Юрий Никифорович терялся в догадках. Когда Глебов умолк, исчерпав все собранные им доказательства и доводы, прокурор долго молчал и вдруг, словно спохватившись, встал со стула. — Ехать надо… Немедленно ехать! — торопливо проговорил он. — И не в Архангельск, а в Изяславль. Теперь, пожалуй, только Валентина и может вывести нас из этого тупика. Собирайтесь, Олег Николаевич!.. В киевском аэропорту Глебову сказали, что самолет на Хмельницкий пойдет лишь завтра. Олег Николаевич купил билет, но из-за нелетной погоды пришлось просидеть в Киеве два дня. Глебов нервничал. Он уже жалел, что не выехал из Киева поездом. К концу второго дня следователь добрался до Изяславля и, устроившись в гостинице, хотел было сразу же приняться за работу, но, почувствовав сильную усталость, решил отложить разговор с Валентиной, тщательно обдумать его. Именно от показаний Валентины зависит, получит ли он ответ на основные вопросы следствия: имела ли Валентина какое-либо отношение к убийству неизвестной женщины; как оказалось на убитой платье Валентины и чем она сама объяснит столь странное совпадение своего отъезда со смертью женщины. На все эти вопросы Глебов не находил, да и не мог найти ответа без ее помощи. В девять часов утра в одну из комнат районной прокуратуры раздался нерешительный стук в дверь. — Войдите, — сказал Олег Николаевич. В комнату вошла молодая женщина. — Меня вызывал приезжий следователь, — сказала она. — К вам ли я попала? Глебов несколько секунд молчал, вглядываясь в лицо незнакомой женщины и мысленно сопоставляя его с лицом на запомнившейся ему фотографии. «Она, Валентина…» — Садитесь… Женщина села. Взгляд ее тут же упал на лежащую на столе фотографию. — Ваша фамилия, имя и отчество? — задал вопрос Глебов. — Рубик Валентина Прохоровна. — Это ваша фамилия по мужу? — Да, это фамилия мужа. Девичья моя фамилия — Дук. — Где сейчас ваш муж? Она опустила голову и тихо ответила: — Я с ним рассталась. — Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились, когда вышли замуж за Василия Рубика и что заставило вас уйти от него? Валентина молчала. — Поймите, — с чувством сказал Глебов, — не любопытство вынуждает меня задавать вам такие вопросы. Наш разговор вызван очень важным обстоятельством, которое заставило меня приехать сюда. Поймите, что иначе… Она прервала его тихим и грустным голосом: — Не объясняйте… Мне трудно говорить обо все этом, но раз нужно — я расскажу. Глебов приготовился слушать. — В начале прошлого года я работала официанткой в офицерской столовой за границей. Эту столовую посещал военнослужащий Василий Трофимович Рубик, там я с ним и познакомилась. Вскоре Рубик стал за мной ухаживать, неоднократно признавался в своих чувствах, симпатии ко мне и, в конце концов, сделал мне предложение. Мы поженились, зарегистрировав свой брак в советском консульстве. Это была первая моя ошибка. Почти не зная Василия, я поверила его словам, уверениям, что он любит меня, не может без меня жить. Осенью Рубик был демобилизован, и мы возвратились на Родину. Несколько дней прожили в совхозе у родителей Василия, а потом с помощью его дяди нашли квартиру и поселились в городе. Я устроилась кондуктором, а Василий оставался без дела. Вскоре с ним стало твориться что-то неладное. Он начал пить, в пьяном, а иногда и в трезвом состоянии упрекал себя в опрометчивой женитьбе на мне, обвинял меня в том, что я, дескать, «поймала его на удочку», использовав временное увлечение мною. Все это было для меня крайне обидно. Однажды, когда я чистила костюм Василия, я нашла в боковом кармане пиджака письмо, которое открыло мне глаза на многое. Василий был женат и брак со мной зарегистрировал без расторжения первого брака. Его жена писала, что через общего знакомого узнала о его возвращении в Россию со второй женой, грозила в скором времени приехать и «навести порядок». В этот вечер Василий пришел домой трезвый. Между нами состоялось объяснение, подробности которого я не хочу передавать. Василий клялся мне, что с первой женой жить не будет, что эта женщина своим грубым характером отравила его молодые годы, что он любит только меня и к первой жене не вернется… Валентина замолчала, с трудом удерживая слезы. Потом, справившись с собою, продолжала: — Я сказала Василию, что с момента приезда его жены моей ноги не будет в его доме и что вообще он должен развестись либо с первой женой, либо со мной. Так прошел примерно месяц. Как-то в воскресенье мы сидели и завтракали. Кто-то сильно постучал в дверь. Это была жена Василия. Мне трудно передать все, что произошло потом, невозможно повторить оскорбления, которые обрушились на мою голову. Я видела перед собой женщину, потерявшую облик человека. Еще не понимая, что делаю, я начала собирать свои вещи, чтобы уйти, и тут вдруг поняла, что женой Василия владеет не только чувство ревности, но и чувство жадности. Она вырывала из моих рук мои вещи, белье, платья, и все это отбрасывала в сторону. Василий сидел тут же, безучастно наблюдая происходящее. Он явно струсил. К счастью, наши хозяева в этот момент отсутствовали, и я хоть была избавлена от свидетелей моего унижения. С чемоданом в руках и в единственном платье, которое и сейчас на мне, я выбежала на улицу, добралась до вокзала и первым поездом уехала к матери. Хорошо еще, что деньги на дорогу были: за день до этого получила зарплату… Валентина умолкла. — А вам знакома эта вещь? — Глебов положил на стол перед Валентиной зеленый поясок. — Присмотритесь… — Это мой пояс, — с удивлением сказала Валентина. — Как он к вам попал? — А где платье? — не ответив на вопрос, спросил Олег Николаевич. — Платье осталось у нее, — все больше недоумевала Валентина. — Я расскажу вам, Валентина Прохоровна, цель моего приезда в Изяславль. Думаю, что вы поможете нам окончательно разобраться в одном сложном деле. В районе нашего города был обнаружен труп неизвестной женщины. Женщина была зверски убита ножом. У ее трупа я нашел этот пояс. Не стану вдаваться в подробности, но я установил, что это пояс от вашего платья. Ваше внезапное исчезновение из города, поведение Василия Рубика, продававшего оставленные вами вещи, и многое другое — все это заставило предположить, что убитая женщина — вы. Но сейчас, когда, к счастью, это не подтвердилось, необходимо установить, кто же убитая и кто совершил это преступление? Валентина с нескрываемым ужасом слушала следователя, а когда он умолк, тихо, почти шепотом, проговорила: — Это она… его жена… Значит, он решил убить ее… Глебов закончил писать протокол и, отложив в сторону ручку, снова взглянул на женщину. — Вы упомянули о письме, найденном в кармане у мужа. Оно сохранилось? — Да, — ответила Валентина, — я сохранила его как доказательство подлости Василия. Только с собою его у меня нет. Оно дома… Час спустя она принесла письмо. Олег Николаевич поспешил на телеграф, а вечером того же дня на его имя в прокуратуру поступила ответная телеграмма из Воронежа:
«Рубик Надежда Ивановна выехала Кубань тчк обратно не возвратилась».«Теперь как будто все уже ясно, — вздохнув, подумал Глебов. — Надо ехать в Архангельск…» В Архангельском областном управлении милиции к Глебову немедленно прикомандировали двух опытных оперативных работников. Поезд на станцию Емца уходил в десять часов вечера. Впереди была ночь, и не простая ночь, а белая. Глебов долго не мог заснуть. В два часа дня Олег Николаевич и его спутники были уже на станции Емца. Поселок леспромхоза, вернее трех леспромхозов этого района, находился в двухстах метрах от станции. В поселковом Совете имелся адресный стол. Здесь Глебов столкнулся с первой неожиданностью: Рубик Василий Трофимович проживающим в поселке не значился. Сидя в комнате участкового уполномоченного, следователь жестоко корил себя: «Попался на удочку! — думал он. — Этот Рубик — преступник не простой. Теперь-то понятно, что для отвода глаз он попросил кого-то, кто ехал в Архангельскую область, опустить там письмо, а сам уехал в противоположном направлении. Или, может, он переменил фамилию, достал другой паспорт и спокойно проживает в поселке?» Целый день прошел в волнениях. Работники милиции искали Рубика и не находили. «Нужно проверить в отделе кадров леспромхоза…» — решил Глебов. Утром следующего дня в комнату участкового уполномоченного буквально ворвались прибывшие из области работники милиции. — Нашли!.. Спустя полчаса Глебов и работники милиции подошли к дому, в котором должен был проживать Рубик. Дверь оказалась на замке. Решив ждать, все уселись поодаль, на штабеле бревен. Через час томительного ожидания у дома появилась женщина. Открыла дверь, исчезла за нею. Вслед за ней в дом вошли Глебов и его спутники. — Простите, кто здесь живет? — спросил следователь. — Василий Трофимович Рубик, — ответила женщина. — А вы? — Я тоже… Я его… Женщина замялась. — Я — Ирина. Жгула Ирина… — И давно вы здесь живете? — Не особенно… Мы приехали из Одессы… — А где Рубик Василий? — прервал Глебов. — Он скоро вернется с работы. Теперь уже Глебов не сомневался: неизвестную женщину убил Василий Рубик и никто другой. Эта уверенность облегчала задачу следователя. Олег Николаевич понимал, что под натиском неопровержимых доказательств заставит убийцу говорить правду.
Не произнося ни слова, следователь пристально изучал сидевшего перед ним Василия Рубика. Одутловатое лицо Василия не выражало ничего, кроме полнейшего равнодушия ко всему окружающему. — Скажите, Рубик, сколько раз вы были женаты? — начал Глебов. На лице Василия появилось недоумение. — Как это сколько? — переспросил он. — Один раз! — Кто же ваша жена? — Надежда Ивановна Рубик. — А Валентина? — Валентина? — удивился Рубик, — но какая же это жена? Так, случайная связь… Познакомились за границей, демобилизовался, поехала со мной в Россию, пристала… насилу отвязался. В голосе Василия звучало раздражение и даже презрение. — Значит, случайная связь? — переспросил следователь. — Конечно! — подтвердил Рубик. — Мало что бывает!… — Тогда давайте говорить по-другому… Глебов положил перед Рубиком свидетельство о его браке с Валентиной. Загорелое лицо Василия вспыхнуло. — Ну, а если так, то нечего вам и спрашивать! — буркнул он. — Подумаешь!.. Ну, под пьяную руку расписался, так что теперь? — Да не в этом сейчас дело, конечно, — заметил следователь. — Двоеженство — это преступление, но говорить мы будем не о нем. Я хотел бы знать, где находится сейчас ваша первая жена? — А кто ее знает! До отъезда за границу жил с нею в Воронеже, а потом потерял связь, и все из-за этой Валентины. — Но ведь вы имели от нее письмо? — спросил Глебов. — Нет, — уверенно возразил Василий. — Она и адреса-то моего не знала. Глебов положил рядом со свидетельством о браке письмо, переданное ему Валентиной. — Это письмо вы получили примерно месяца два назад от вашей первой жены Надежды Ивановны, из Воронежа. Попав в руки Валентины, оно вызвало семейный скандал, о котором вы не можете не помнить. Таким образом, я вторично изобличаю вас во лжи. Думаю, вам ясно, что полезнее говорить правду. Рубик молчал. Лицо его судорожно подергивалось, губы что-то шептали. — Расскажите о том, как к вам приехала ваша жена Надежда Ивановна и как этот приезд отразился на ваших отношениях с Валентиной. — Жена приехала внезапно, — хриплым голосом заговорил Василий. — Мы не ждали ее приезда. Получился скандал. Валентина ушла… — А ее вещи? — прервал Глебов. — Кое-что она взяла, а то, что я ей покупал, жена не отдала, отобрала у нее. — В том числе и платье из зеленой шерсти? — Да… Но ведь отрез-то мой! — оправдывался Рубик. — Я купил его на свои деньги! — Да, да, конечно… Ну, а потом что? — Потом?… На другой день жена забрала вещи и уехала обратно в Воронеж. Не захотела со мной жить. — Не совсем так, — возразил Глебов. — Ваша жена в Воронеж не возвратилась. Вот телеграмма — прочтите! — А, может, еще куда поехала, почем я знаю, — легко согласился Рубик. — Но и вещей Валентины она с собою не забирала. Вещи остались у вас, вы их начали продавать. Прочтите показания вашего дяди, Ивана Андреевича, у которого вы прятали эти вещи. Рубик снова опустил голову. — Припомните тропинку возле железнодорожной будки на десятом километре. Тропинка ведет в совхоз напрямую. Вы жили в совхозе и много раз ходили этим путем. Когда и с кем вы в последний раз шли по этой тропинке?.. Глебов выждал. — Молчите? Тогда я вам напомню: вы шли со своей женой Надеждой. — А хоть бы и так! — вырвалось у Василия. — Что ж тут такого? В совхозе живут родные… — Нет! До совхоза вы не дошли. Что-то вам помешало. Пройдя от будки метров триста-четыреста, вы остановились. А потом?.. — Глебов бросил на стол перед Василием зеленый пояс. — Молчите? Это пояс от зеленого платья Валентины… Он найден возле трупа убитой вами женщины. Поссорившись, вы ушли от своей второй жены; совершив убийство, вы избавились и от первой, а теперь нашли третью… Глебов замолчал. Он ждал ответа. Он предвидел этот ответ. Рубик уже давно не смотрел в глаза следователю. И так же, не поднимая головы, он тихим, но твердым голосом сказал: — Да, я убил ее… Когда ушла Валентина, у меня явилось желание убить Надежду. Я молча начал одеваться. «Ты куда?» — спросила Надежда. «Одевайся и ты, пойдем в совхоз к родным, там решим, как нам жить дальше», — сказал я. Она послушала. Взяла, как хозяйка, зеленое Валино платье, оглядела его, приложила к себе… Тошно мне было глядеть. Потом оделась. Помню еще пояс ей широк оказался, так она булавкой заколола. Потом мы вышли на улицу, на автомашине доехали до будки на десятом километре, а оттуда пошли пешком. Прошли по тропинке с полкилометра, Я шел сзади. Потом оглянулся, вынул из кармана складной нож и, не раскрывая его, несколько раз ударил ручкой в затылок Надежды. Она упала на спину, я открыл нож и начал бить ее куда попало. Не знаю, что тогда со мною сделалось, просто озверел. Потом понес Надежду по лесополосе и справа от тропинки спрятал в кусты, только сначала раздел. А одежду закопал в землю, туда же бросил и нож. В совхоз я не пошел, вернулся обратно. По дороге вымыл руки… Василий замолчал. Лицо его приняло прежнее, тупое выражение. — Эх! — с горечью закончил он, — сгубил меня этот чертов пояс! А я-то думал!.. Ну, да чего уж теперь говорить… — Да, все, пожалуй, сказано, — согласился Глебов. — Только сгубил вас не зеленый пояс. Сами вы себя погубили… Счастливый, удовлетворенный полученными результатами, Глебов возвращался в прокуратуру. Юрий Никифорович по его возбужденному, сияющему лицу видел, что пришел он, наконец, не с пустыми руками. «Молодец, парень, не зря я с тобой нянчился», — отечески думал о нем Лавров. — Рассказывай, что привез? — обратился он к следователю, приглашая его в свой кабинет… Наконец, когда Глебов уже хотел уходить, Лавров остановил его: — Минуточку, что же ты не рассказал мне, зачем тебя вызывали в краевую прокуратуру, когда я уезжал? — Да видите ли, отдел кадров рекомендовал меня краевому прокурору на должность прокурора района. — Ну? — Я отказался. — Почему? Это же явное повышение! — Не в этом дело, Юрий Никифорович. Я хочу быть только следователем, и никакая другая работа в прокуратуре меня не прельщает. Так я и сказал Ивану Дмитриевичу, и он, кажется, понял меня.
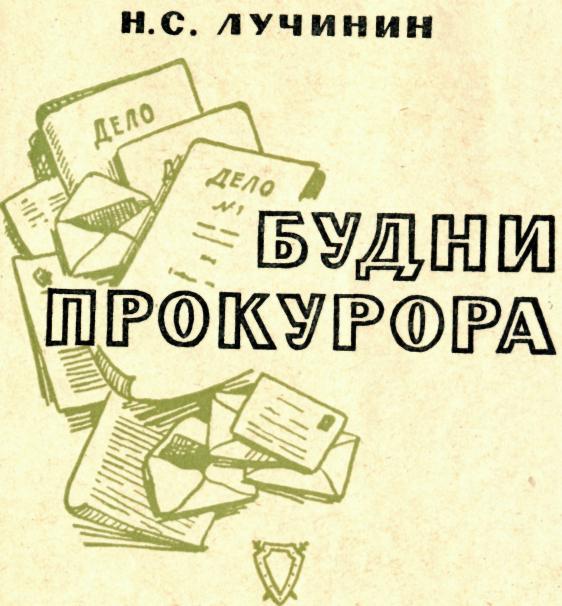






Последние комментарии
9 часов 47 минут назад
1 день 1 час назад
1 день 10 часов назад
1 день 10 часов назад
3 дней 17 часов назад
3 дней 21 часов назад