В. П. ЗИНЧЕНКО Посох Осипа Мандельштама и Трубка Мамардашвили: К началам органической психологии.
Печатное издание ISBN 5-7301-0297-6Автор рассматривает проблематику психологии, в особенности психологии развития сквозь призму поэтического наследия О. Э. Мандельштама и философского наследия М. К. Мамардашвили. Неклассичность и органичность культурно-исторической психологии и ее дочернего направления — психологической теории деятельности усматривается в объективности порождаемых человеком аффективно-смысловых образований и участии продуктов творчества в создании духовной атмосферы. Подробно изложена гипотеза автора о геноме культурного и духовного развития человека. Визуализирована двойная спираль культурно-генетического кода и представления о хронотопе сознательной и бессознательной жизни. Предназначена для преподавателей психологии, аспирантов и студентов старших курсов факультетов и отделений психологии университетов и педагогических вузов ББК 88я73 Рецензенты: академик РАО Донцов А. И. академик РАО Мунипов В. М. Цифровое издание
ИНСТИТУТ • ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО • Учебная литература по гуманитарным и социальным дисциплинам для высшей школы готовится и издается при содействии Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) в рамках программы «Высшее образование» Редакционный совет: В. И. Бахмин, Я. М. Бергер, Е. Ю. Гениева, Г. Г. Дилигенский, В. Д. Шадриков
В. П. ЗИНЧЕНКО Посох Осипа Мандельштама и Трубка Мамардашвили К началам органической психологии
© В. П. Зинченко, 1997 © Н. Ю. Спомиор, компьютерная графика рисунков, 1997 ISBN 5-7301-0297-6 © Издательство “Новая школа”, 1997
Оглавление
К читателю..........................................................................9 Введение............................................................................12 Глава 1. От классической к органической психологии.............18 Глава 2. Пролегомены к поэтической антропологии................40 2.1. "Назад к душе": значение и смысл поэтической антропологии......40 2.2. "Посох мой, моя свобода" (О. Мандельштам)...............58 2.3. "Духовность — это не болезнь" (М. Мамардашвили) ...75 Глава 3. Геном развития человека............................................103 3.1. Проблемы функциональных органов индивида...........103 3.2. О структурном представлении и уровнях анализа деятельности....125 3.3. Внешняя и внутренняя формы действия, переосмысление понятий интериоризации и экстериоризации...........136 3.4. Вертикаль духовного развития.......................................148 3.5. Проблема поступка и свободного действия..................183 3.6. От поступка к личности и Духочеловеку......................205 3.7. Культура как идеальная форма и ее роль в человеческом развитии....226 3.8. Еще раз о внешней и внутренней формах. Проблемы их трансформации и обратимости.............245 Глава 4. Культурно-историческая психология в поисках духовности......264 4.1. Об опыте религиозно-философского исследования духовности.......264 4.2. Медиаторы духовного роста и хронотоп.......................275 4.3. М.К. Мамардашвили открывает Декарта психологам.....................286 4.4. О духовном слое сознания..............................................318 Послесловие..........................................................................326 Литература.............................................................................328Благословляю вас, леса, Долины, нивы, горы, воды, Благословляю я свободу И голубые небеса! И посох мой благославляю, И эту бедную суму, И степь от краю и до краю, И солнца свет, и ночи тьму, И одинокую тропинку, По коей нищий я иду, И в поле каждую былинку, И в небе каждую звезду! А.К. Толстой
Посвящается моим любимым, близким и в счастье и в беде, психологам — жене Наталье Дмитриевне, сестре Татьяне Петровне, сыну Александру, его жене Алле.
К читателю
О названии книги. Почему Посох Осипа Мандельштама и Трубка Мераба Мамардашвили? Это вечный сюжет о свободе и достоинстве человека. Поэт и философ не только ценили свободу, ее ценят многие, но и умели быть свободными, творить свободу, хотя оба понимали, что сама свобода ничего не производит, кроме еще большей свободы. Они обладали редким талантом свободы, за который им приходилось расплачиваться. Читатель на протяжении всей книги будет встречаться не только с поэзией О. Э. Мандельштама, но и с его прозрениями, идеями, равно как и с идеями М. К. Мамардашвили. Я старался усвоить сам и донести до читателя их уроки свободы. Уверен, что богатейшее наследие обоих мыслителей будет содействовать пока еще медленно идущему процессу обретения свободы психологией. Почему “органическая психология”? У меня были колебания. В первом варианте книга называлась “Начала духовной психологии”, потом “Романтическая психология”. Первое мне показалось преждевременным, второе, учитывая мой возраст, несколько запоздалым. Но мотивы духовности и романтики в книге остались. Я остановился на “органической психологии”, потому что человеку неуютно жить в мертвом мире. Он его оживляет, очеловечивает, вочеловечивает, благославляет... Вспомните или перечитайте два места из “Мастера и Маргариты”. Перед встречей с Воландом и его компанией еще живая, но уже измученная горем Маргарита видит мертвый сон. В нем даже воздух мертвый. (Ср. О. Мандельштам: “И мертвый воздух пьем”.) Расставшись с Воландом, уже мертвая Маргарита попадает в тот же сон, где все ожило. Пора и нам, психологам, оживлять (пока мы живы) свою науку, вспоминать уроки, оставленные нашими предшественниками, вносить вслед за ними в психологию “антропный принцип” ее организации. Они это начали делать задолго до того, как астрономы и физики сформулировали антропный принцип организации Вселенной. Еще раньше это делали (и сделали) поэты: Не то, что мните вы, природа! Не слепок, не бездушный лик — В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык... (Ф. Тютчев) И о том же недавно открытый в России И.А. Аргутинский-Долгорукий: Из всех имен твоих, Природа, Одно лишь истинно — свобода! Философу К. А. Кедрову принадлежит удивительная лингвистическая находка: “По-этический Космос”. А мы по-прежнему тщимся найти “живую воду”, “философский камень”, построить остроумные гипотезы о происхождении органических, психологических, сознательных форм жизни из неорганической материи, создаем себе тупики и завалы. Перефразируя известную мысль, можно сказать, что не только в онтологии, но и в гносеологии противопоставление объективного и субъективного является грубой ошибкой. Возможно, философы со мной не согласятся, возможно, они будут правы. Но такое противопоставление слишком дорого обходилось и обходится психологии. Сказанное не означает, что я собираюсь обсуждать или решать психофизическую проблему, искать, например, нейроны сознания или нейрон, отвечающий за слово “мама” (это слово и образ надо хранить в своей душе, а не искать в чужих нейронах). Здесь я уступаю дорогу очередному поколению оптимистов или храбрецов. Я еще раз пройду по пути, намеченному культурно-исторической психологией и ее дочерним ответвлением — психологической теорией деятельности. Этот путь далеко еще не пройден, да и осмысление сделанного Л. С. Выготским, его предшественниками, современниками, последователями (о них речь пойдет в книге) продолжается. На этом пути я попытаюсь обсудить аргументы (в том числе и лучше понять сам) в пользу трактовки объективности субъективного и субъективности объективного. И объективное, и субъективное — это живые формы, которые в исследовательских целях вовсе не обязательно умерщвлять и анатомировать. Отсюда и название “органическая психология”. Живое должно сохраняться живым. Словосочетание “К началам ...” нарочито двусмысленно. Это действительно возврат к началам органической психологии, которые были незамечены, непоняты, забыты или вытеснены унылой и жесткой идеологией. Одновременно с этим “К началам...” следует воспринимать как приглашение, призыв к возможным единомышленникам развивать органическую психологию, создавать ее Начала, а затем и Основы. Можно прочесть “К началам...” и как некокетливое признание автора в скромности его притязаний. Завершу это обращение вполне естественным чувством признательности организациям и лицам, на протяжении последних лет поддерживавших мою работу, которая в конце концов привела к написанию этой книги. К ним относятся Институт “Открытое Общество”, Международный и Российский фонды фундаментальных исследований (грант № 96-06 80262), Российская академия образования, поддержавшая программу исследований “Геном духовного развития”, Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, давший в 1984 г. приют гуманитарию. Надеюсь, что понимание текста будет облегчено серией приведенных иллюстраций. Автор признателен М. С. Белоховской, Н. Д. Гордеевой, В. М. Гордон, Б. Г. Мещерякову, Е. Б. Моргунову, В. М. Мунипову, А. И. Назарову, В. Л. Рабиновичу, Н. Ю. Спомиору, Б. Д. Эльконину за обсуждение и помощь в визуализации ключевых положений, относящихся к проблемам развития, а также редактору книги В. И. Михалевской.ВВЕДЕНИЕ
"Наука не может дать ответа на все вопросы, которыми она занимается, а мировоззрение может дать ответы на все вопросы, которыми оно не занимается. И, конечно, в этом смысле термин "научное мировоззрение" есть чистейший вздор". (А Пятигорский)
Проблема духовного развития, конечно, не чисто академическая и тем более не ситуативная — она вечная и всегда актуальная для индивида и социума в какой бы ситуации они не пребывали: в благополучной, стабильной, в ситуации стагнации или в ситуации шока. Возможно, проблема духовности в шоковой ситуации ощущается и переживается острее. Важно, чтобы в любой ситуации поиск духовности и ее обсуждение не сводилось к разговорам о духовности, от которых мы уже стали задыхаться и которые трудно воспринимать без раздражения. К категории “разговоров о духовности” может быть отнесен и настоящий текст. В свое оправдание могу лишь сказать, что я пытался представить своего рода “материю” духовности, понять ее как практическую и культурную деятельность. Насколько это удалось, судить не мне. Образование в любой ситуации связано с образом человека. К этой этимологической связи нужно относиться в высшей степени осторожно, особенно когда речь идет о будущем человека. Банальный, но, к несчастью, трагический ход мысли состоит в конструировании образа “человека будущего” или “нового человека”. Подобный тип футурологии должен расцениваться как вмешательство в личную жизнь человека будущего, да и подрастающего поколения, которое пытаются образовывать по футурологическим образцам. Программы такой работы не должны рассматриваться в приличном научном сообществе. Как не рассматриваются проекты создания вечного двигателя. Каким быть человеку — это дело его собственного выбора, а не социальной, психолого-педагогической алхимии. Науки о человеке, его развитии, образовании, просвещении нужно решительно отделить от идеологии. Максимум, на что могут претендовать науки о человеке, в их числе и психология, это на исследование путей развития и на демонстрацию пространства выбора, его цены для Человека развивающегося. Развитие — это судьба человека. Представление о развитии и его путях не может навредить человеку, а может быть, и поможет ему стать самим собой. Внутренняя интенция автора состоит в том, чтобы выйти за пределы зоны ближайшего развития как культурно-исторической психологии, так и психологической теории деятельности, конечно, максимально сохраняя все ценное, что в них накоплено. Здесь мне не всегда удается дифференцировать онтологию психологической реальности и ее гносеологию. Это задача дальнейшего исследования. Под онтологией я, к сожалению, вынужден понимать не только психологическую реальность как таковую, но и социальную реальность, в которой формировались и развивались обе эти теории. Эту реальность очень мягко и интеллигентно определил А. М. Пятигорский как “не сезон для мысли”. Но мысли возникали и в это время, к тому же они действительно были несезонными. Тем внимательнее и бережнее к ним нужно относиться. Русское ухо в словах “зона”, “сезон” улавливает общее звучание и, соответственно, близкий смысл, связанный с границами, с ограничением во времени развития, с сензитивным периодом, с особой восприимчивостью к тем или иным явлениям, воздействиям, взаимодействиям и т. п. Это давняя и плодотворная идея, связанная с именами М. Мак-Миллан, М. Монтессори, О. Декроли, до сего времени развивается в педагогике и психологии. Но в русском языке слово “зона” имеет и другой — пространственный, географический — смысл. Оно эквивалентно “лагерю”, “ГУЛАГу”, за пределы которого мы медленно и, хотелось бы надеяться, бесповоротно выходим. Книга посвящена зоне ближайшего и более отдаленного развития культурно-исторической психологии и психологической теории деятельности, точнее, тех вариантов этих теорий, которые развивались в российской психологии. Вместе с тем здесь представлен и другой сюжет, как это ни странно, возникший в распадающейся империи, в ситуации стагнации, дикого капитализма, который почему-то именуется “рыночной экономикой”. Этот сюжет, связанный с замечательной идеей Л. С. Выготского о “зоне ближайшего развития ребенка”, трансформируется в идею о перспективе бесконечного развития человека. Последнюю идею, конечно, можно трактовать как очередную постсоветскую утопию или как девичьи грезы. Но в любом случае возникновение этого сюжета иллюстрирует сомнительность марксистской формулы — “Бытие определяет сознание”. Сознание тем и замечательно, что оно доступными ему средствами всегда ищет выход из бытия, а в данном случае из советского быта, который всеми средствами старался загнать его в угол или уничтожить. Побочным продуктом дальнейшего изложения может оказаться также, если и не решение, то обсуждение классической проблемы свободы и необходимости или свободы воли и детерминизма. Опыт зарубежной и отечественной психологии подтверждает, что без категории развития, без проблемы развития в психологии нечего делать. В этой области все понятое уже проговорено, многое определено, а непонятое оговорено. Есть линейные, поступательные, стадийные, спиральные, синхронные, гетерохронные представления о развитии. Обсуждены и обсуждаются далее основные факторы развития: наследственность и среда, дополненные возможностями спонтанного возникновения новообразований и даже мистических озарений. Установлено соотношение между обучением и развитием. Сформулированы принципы развивающего обучения, или формирующего развития. Указана роль общения, диалога, совместной коллективно-распределенной деятельности в обучении и развитии. Все это выполнено на различном возрастном (от младенчества до старости) материале: предметно-образовательном (знания, умения, навыки), психолого-функциональном (восприятие, память, мышление, мотивы, потребности, эмоции, воля, личность и т. д.), психолого-деятельностном (коммуникативная, игровая, учебная, трудовая и т. д.). Этот перечень явно неполон. Его можно продолжать и далее, говорить о том, что что-то известно более, а что-то — менее детально. Можно было бы попытаться представить в целостном виде теории психического развития Л. С. Выготского и его школы, Ж. Пиаже и его школы. По поводу исследований Ж. Пиаже написаны десятки книг, по поводу исследований Л. С. Выготского — существенно меньше. Однако все это не уменьшает числа исследований, посвященных развитию, как и не уменьшает претензий со стороны культуры в адрес ученых, занятых этой проблемой. Это если и не вдохновляет меня, то оправдывает мою попытку взглянуть на эту проблему сквозь призму поэтического наследия О. Э. Мандельштама и философского наследия М. К. Мамардашвили. К этому меня побуждают два обстоятельства. Первое. Я более чем высоко ценю культурно-историческую теорию развития психики и сознания Л. С. Выготского. Об этом я писал неоднократно. Но мне кажется, что настала пора думать не только о месте культуры в психологии (хотя об этом мы думаем все еще недостаточно), но и месте психологии в культуре. Здесь образцом является психоанализ. Как бы его ни оценивать, место психоанализа в культуре бесспорно. Без него мы имели бы другую культуру. Это же должно было бы относиться и к проблематике развития. Но пока это не так. Конечно, теории Л. С. Выготского и Ж. Пиаже уже заняли свое место в культуре. Они смогли “и в просвещении стать с веком наравне”, и позиции их упрочиваются. Но мне кажется, что их действительный потенциал все еще недостаточно раскрыт и заслуживает большего. Многие психологи мира это понимают, немало делают для раскрытия и популяризации этого потенциала. Хочу попытаться внести в это дело и свою посильную лепту. Второе обстоятельство, возможно, звучит более лично и имеет большее отношение к отечественной психологии. В ней изучалось развитие действительно важных процессов, функций, свойств, деятельностей, появление новообразований в деятельности и т. д. Но все это не складывается в целостную картину, своего рода гештальт. Мне кажется, что причиной этого является исчезновение из психологического лексикона старого доброго слова “человек”. Это слово заменено синкретом “советский человек”, что явно не одно и то же. Последний обозначает не человека, а функцию, социальную роль. Не спасают и словосочетания “новый человек”, “человек будущего”. Если “советский человек” рассматривался как уже нечто ставшее, готовое, то “новый человек” рассматривался как задача, цель агрессивных усилий идеологии, науки, искусства, которые должны быть приложены для его воспитания и формирования. Мало обращалось внимания на то, что эти понятия являются в принципе антигенетичными. Вкладываемое в них содержание в принципе лишено собственных, внутренних сил и источников развития и саморазвития. Здесь наблюдается сходная картина со строительством “нового общества”. И новое общество, и новый человек — это чистая доска для строителей. Необходимость строительства нового общества обосновывала специальная наука “научный коммунизм”, а строительство нового человека — педагогика (“система”) коммунистического воспитания. Уверен, что многие руководствовались при этом добрыми побуждениями. Но как писал О. Мандельштам: “Мало одной готовности, мало доброго желания, чтобы начать историю. Ее вообще немыслимо начать. Не хватает преемственности, единства. Единства не создать, не выдумать, ему не научиться. Где нет его, там в лучшем случае “прогресс”, а не история...” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 152). Н. Я. Мандельштам передает семейную легенду. Когда маленький Ося услышал слово “прогресс”, он заплакал. Мы забыли и слово “дитя”. Слово “ребенок” употребляется чаще, но мы его тоже заменяем функциями: “младенец”, “преддошкольник”, “дошкольник”, “школьник”. Тем не менее именно при изучении младенчества и детства были получены выдающиеся результаты в области психологии развития (А. В. Запорожец, М. И. Лисина, Д. Б. Эльконин и др.). Но и в этих исследованиях утрачивался или оставался в подтексте объект исследования — сам человек, его настоящее, прошлое, его перспектива, т. е. точка приложения усилий в области исследований развития. Понятия “индивид”, “индивидуальность”, “субъект” имеют другой смысловой оттенок, возможно, даже более “онаученный”, но к ним едва ли приложимо все богатство знаний, накопленных в науке о развитии, да и в качестве перспективы исследований развития эти понятия, на мой взгляд, мало пригодны. В них тоже на первый план выступает функция, например, субъект исследования, субъект деятельности. Конкурировать с понятием “человек” могло бы понятие “личность”. Мне второе понятие кажется менее адекватным по двум причинам. Во-первых, понятие “личность” весьма невразумительно истолковывается в нашей литературе. Д. Б. Эльконин как-то сказал, что, просмотрев около двадцати определений личности в нашей литературе, он пришел к заключению, что он не личность. Во-вторых, широко распространен взгляд, что личностью не рождаются, личностью надо выделаться. Теория (и практика) развития должна ответить на вопрос, а как это “выделывание” в личность происходит. (Или, может быть, личностью все же рождаются? Такая точка зрения тоже существует.) Т. е. проблема формирования, становления личности — это часть, конечно, важнейшая, но все же лишь часть более широкой проблемы развития человека. По поводу сказанного можно возразить, что точно так же как Homo sovieticus — это функция, такая же функциональность проглядывает в других определениях-характеристиках человека: Homo sapiens, Homo faber, Homo habilis, Homo politicus и т. д. Это верно, но, во-первых, это не или — или, а и — и, во-вторых, каждый, по крайней мере интуитивно, понимает, что любая из этих характеристик — это аванс, призыв, цель, мечта. Только все вместе они характеризуют человека, хотя некоторые из них, на мой взгляд, не вполне оправданно использовались для обозначения определенных этапов эволюции человека. М. К. Мамардашвили и я как-то писали, что как бы далеко мы не заходили вглубь истории человечества, нигде не найдем человека без труда, сознания и языка. А если найдем, то это будет не человек. Двигаясь же в обратном направлении времени, к современности, мы встречаем поучительные сюрпризы “искусственного интеллекта” — без устали производящие, играющие и говорящие машины. М. Булгаков оказался мудрым провидцем, предупредив нас, что уметь говорить — это еще не значит быть человеком.
ГЛАВА 1 ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ К ОРГАНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ Не так уж много событий, происходивших в психологии XX века, будут волновать ученых в веке XXI. К числу таких событий с минимальным риском ошибиться можно отнести теории Л. С. Выготского, Н. А. Бернштейна и Ж. Пиаже, столетие которых в 1996 году отмечал психологический мир. Когда Выготский формулировал тезис о зоне ближайшего развития, то едва ли предполагал (хотя, кто знает?), что его собственные представления о развитии выйдут далеко за пределы “зоны”, о которой он размышлял и в которой ему выпало жить... Для психологической науки представления Выготского о развитии — это не прошлое, а все еще недостаточно понятное и освоенное настоящее. Говоря словами Выготского, — это для психологии “актуальное будущее поле”. Моя внутренняя задача, которая занимает меня последние годы, состоит в продолжении работы по пониманию идей Выготского. Я иду вслед за моими учителями П. Я. Гальпериным, А. В. Запорожцем, П. И. Зинченко, А. Н. Леонтьевым, А. Р. Лурия, Д. Б. Элькониным — учениками, соратниками, последователями Выготского, которые как бы далеко от него не уходили, все равно возвращались к нему. Естественно, что ответственность за свое понимание несу я сам, а не они. О том, как я решил внешнюю задачу — написание книга, судить не мне. Д. Б. Эльконин первый обратил внимание на то, что Выготский создал основы совершенно новой неклассической психологии. Он усматривал ее истоки в “Психологии искусства” Выготского. Именно эта идея Эльконина заставила меня задуматься о том, как одним словом выразить “неклассичность” (которая сама по себе давно перестала быть комплиментом) культурно-исторической психологии Выготского. Речь идет не о переименовании этого привычного и устоявшегося названия. С языком не поспоришь, да у меня и нет такой претензии. Но поиск нового названия может оказаться эвристически полезным для понимания культурно-исторической психологии в целом и для выделения того специфического ядра, которое отличает это направление от классической психологии. Не знаю, насколько удачно (об этом судить читателю) я выбрал название “органическая психология”. Возможно, кого-то из читателей оно привлечет, кого-то отпугнет своей нестрогостью, даже нелогичностью. Классическому должно противостоять неклассическое, органическому — неорганическое. Но у меня язык не повернулся назвать классическую психологию неорганической. Своя прелесть и своя органика в ней, конечно, имеются. Культурно-историческая психология действительно органична культуре и цивилизации, культурной антропологии, образованию, психологии искусства и искусству, психологии развития, детской и возрастной психологии, психологической педагогике, физиологии активности (психологической физиологии), нейропсихологии, психолингвистике и нейролингвистике, психоанализу, патопсихологии, психотерапии, дефектологии, социальной психологии, инженерной психологии и эргономике и т. д. Даже самонадеянная на первых порах когнитивная психология в последние годы обращается к трудам Выготского и Пиаже. Пожалуй, лишь гуманистическая психология продолжает не замечать культурно-историческую, хотя проблематика свободного действия, о которой речь впереди, непосредственно связана с проблематикой личностного роста человека. Во всех перечисленных и неперечисленных областях психологии и смежных наук используются достижения Выготского, что само по себе беспрецедентно. Не лишен смысла вопрос о том, органично ли вписывается культурно-историческая психология в эти направления или, наоборот, многие из них органично вписываются в имеющую семидесятилетний стаж культурно-историческую психологию? Последняя сегодня начинает занимать место классической общей психологии, хотя несомненно таковой не является, на что обратил внимание проницательный Д. Б. Эльконин. Это внешнее оправдание введения понятия “органическая психология”. К этому оправданию может быть добавлена ссылка на труды Н. О. Лосского, который рассматривал мир как органическое целое и развивал идеи целостного органического миропонимания, противопоставляя его атомистическому, механистическому миропониманию. Лосский приводит хороший пример В. С. Соловьева о том, что целое (линия) способно быть основанием бесконечной множественности (точек), но неспособно возникать из нее (Лосский Н. О., 1991, с. 341). Внутреннее и содержательное оправдание этого понятия представляет проблему и для меня. Новизна неклассической психологии, согласно Эльконину, состоит в том, что первичные формы аффективно-смысловых образований человеческого сознания существуют объективно вне каждого отдельного человека в виде произведений искусства или в каких-либо других материальных творениях людей. Он подчеркивал, что эти формы существуют раньше, чем индивидуальные или субъективные аффективно-смысловые образования (Эльконин Д. Б., 1989, с. 477, 478; см. также: Эльконин Б. Д., 1996). Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, Б. Д. Эльконин называют эти объективные аффективно-смысловые образования, существующие до и вне развивающегося индивида, идеальной формой, которая усваивается и субъективируется в процессе индивидуального развития, т. е. становится реальной формой психики и сознания индивида. В первом приближении процесс развития в культурно-исторической психологии можно охарактеризовать как драму, разыгрывающуюся по поводу соотношения реальной и идеальной форм, их трансформации и взаимопереходов одной в другую. Актером, а порой, и драматургом является субъект развития. Сцена — его жизнь в мире, или мир его жизни. Идеальную форму можно определить как культуру, которую субъект застает при своем рождении. Он либо входит в нее (или она входит в него), либо остается вне ее. Не буду говорить о вандализме, т. е. о прямом разрушении культуры, примеров которого в истории человечества слишком много (большевики вовсе не пионеры в этом деле — только нельзя забывать, что руководил ими, по словам И. Бунина, “планетарный злодей”). Культура весьма чувствительна и неучастие в ней даже отдельного индивида тоже есть форма ее разрушения. Культура — это не просто среда, растящая и питающая личность. Здесь нет автоматизма. Культура это и не движущая сила, не детерминанта развития. Здесь нет (во всяком случае не должно быть) насилия, нередко встречающегося, например, в образовании. Иначе это не культура, а культ насилия. Иное дело, что культура, как заметил М. К. Мамардашвили, это усилие человека быть человеком. Если воспользоваться образом О. Мандельштама, культура — это приглашающая сила, не столько оболочка, сколько вызов, а субъект для нее есть вероятность, желаемость и ожидаемость. Она захватывает человека, но может и оттолкнуть. Субъект волен принять или отвергнуть приглашение, вызов. Вызов состоит в том, что между идеальной и реальной формами есть разность потенциалов. Если субъект принимает вызов, то может случиться акт, событие развития. При этом акте субъект овладевает идеальной формой, присваивает ее себе или превосходит ее. Она становится его собственной субъективной реальной формой. Последняя, в свою очередь, может и должна быть способной к порождению новых форм (в пределе памятников человеческого духа), которые входят в “тело” идеальной формы. Иначе прекратится развитие культуры. Пока остановимся на этом. Объективация аффективно-смысловых образований в “теле” идеальной формы — это, конечно, новый ход по сравнению с классической психологией, для которой объективность эквивалентна материальности. Однако при всей “неклассичности” этого хода не очевидно, что с его помощью устраняется вполне классическая для психологии (и философии) проблема превращения объективного (пусть трижды идеального) в субъективное (пусть трижды реальное). Едва ли следует специально аргументировать, что эта проблема не имеет (и, видимо, не может иметь) решения “классическими” средствами (Зинченко В. П., Мамардашвили М. К., 1977; Мамардашвили М. К., 1984). Значит, признавая тезис Д. Б. Эльконина о неклассичности психологии Выготского, следует продолжить начатую им работу понимания. Она должна состоять в снятии противопоставления объективного и субъективного не только в гносеологии, но и в онтологии человеческой жизни. Попробуем пойти по этому пути. Первый шаг должен состоять в том, чтобы понять, насколько объективна идеальная форма существования аффективно-смысловых образований. Утрачивает ли она, будучи порождением — творением индивида, свою субъективную природу? Обратимся вслед за Выготским к искусству и приведем высказывание его современника В. В. Кандинского: “Истинное произведение возникает таинственным, загадочным, мистическим образом “из художника”. Отделившись от него, оно получает самостоятельную жизнь, становится личностью, самостоятельным, духовно дышащим субъектом, ведущим также и материально реальную жизнь; оно становится существом. Итак, оно не есть безразлично и случайно возникшее явление, пребывающее безразлично в духовной жизни: оно, как каждое существо, обладает дальнейшими созидательными активными силами. Оно живет, действует и участвует в созидании духовной атмосферы” (Кандинский В. В., 1992, с. 99). Для такого участия произведения искусства должны обладать энергийностью, в наличии которой не сомневался Вяч. Иванов: “Энергия, имя которой — Искусство, является нам или собранной и кристаллизованной в устойчивых и готовых формах своей объективации, которые мы эстетически воспринимаем, как бы расплавляя и сызнова воссоздавая их в нашем сознании, — или же текучей и развивающейся перед нами и впервые объективирующейся в нашем восприятии. Полюс статики в искусстве представлен зодчеством, динамики — музыкой” (Иванов Вяч., 1974, с. 92). Далее Иванов замечает, что есть статика в музыке и в пластике — динамика. Трудно удержаться, чтобы не привести потрясающего описания — свидетельства Иванова о живости произведения искусства: “Сикстинская Мадонна идет. Складки ее одежд выдают ритм ее шагов. Мы сопутствуем ей в облаках. Сфера, ее окружающая, — скопление действующих жизней: весь воздух переполнен ангельскими обличьями. Все живет и несет ее; пред нами — гармония небесных сил, и в ней, как движущаяся мелодия, — она сама; а на руках ее — Младенец, с устремленным в мир взором, исполненным воли и гениальной решимости, — Младенец, которого она сама отдает миру, или, скорее, который сам влечет в мир ее, свою плоть, и с нею стремит за собой всю сферу, где она блуждает” (там же). Можно не сомневаться в том, что автор “Психологии искусства” это не только знал, но и чувствовал. (Выготский в 1916—1917 гг. публиковал рецензии на книгу Вяч. Иванова “Борозды и межи”, на книги А. Белого, Д. Мережковского.) Подобными идеями был пропитан воздух серебряного века российской культуры (Давыдов В. В., Зинченко В. П., 1986; Зинченко В. П., 1993, № 4). Полезно попытаться отнестись к словам Кандинского и Иванова не как к художественным метафорам, а как к реальности, вспомнив свой опыт восприятия и общения с искусством, в частности с книгой. Б. Пастернак в те же годы называл книгу “куском дымящейся совести”, “живым существом”. Теперь спустимся с высот искусства на землю и прислушаемся к языку. Утварь (не путать с ширпотребом) — это ведь тоже живое, тварное, поскольку в нее вложены труд и душа ее творца-создателя. Дополнительный аспект раскрывается в понятии органопроекции. П. А. Флоренский заимствовал термин “органопроекция” у Э. Каппа, который предложил его в 1877 г. в книге “Философия техники”: “Суть мысли Каппа уподобить искусственные произведения техники естественно выросшим орудиям. Техника есть сколок с живого тела или, точнее, с жизненного тело-образующего начала; живое тело... есть первообраз всякой техники” (см.: Флоренский П. А., 1992, т. 28, с. 153). Флоренский анализировал с этой точки зрения огромное число орудий труда. Он не ограничился установлением внешнего и очевидного сходства, а рассматривал наши органы и наши орудия в их возникновении: “Глаз, например, есть изнутри ничто иное, как влечение к свету; но это самое влечение, в другом порядке, однако, внешнем, как и самый орган, создает камеру-обскуру, телескоп и микроскоп... И, следовательно, камера-обскура может рассматриваться как символ того внутреннего движения жизни, которое мы имеем при себе, в непрестанном органическом усилии осуществления, как глаз” (там же, с. 171). Впоследствии работы Каппа и Флоренского были забыты. Слабое подобие этих идей можно найти в модной некоторое время тому назад бионике. Особо однако подчеркнем, что П. А. Флоренский, развивая идеи органопроекции, показывал на множестве примеров, что орудия труда созданы по образу и подобию человека, как его телесного, так и духовного организма. Наконец, “живость” орудий усиливается тем, что человек называет их живым словом, дает им имя. Другими словами, орудия имеют не только назначение, но и значение. Выготский в работе “Орудие и знак” отошел от резкого противопоставления орудия и знака, что было характерно для первых этапов развития его взглядов. Он специально обращал внимание на внутреннее сплетение знака и орудия, которое находит материальное символическое выражение в самом начале развития человеческого труда (Выготский Л. С., 1984, т. 6, с. 84). Психологический анализ знаково-символических и собственно орудийных функций первобытной палки для копания, приводимый Выготским, весьма поучителен сегодня для понимания (и проектирования) деятельности человека с компьютерной техникой. Значит аффективно-смысловые, равно как и знаково-символические образования, — идеальная форма, — взятые на полюсе культуры в связке “культура – индивид”, столь же объективны, сколь и субъективны (субъектны, личностны) не только по своему происхождению, но и по способу своего существования и действия, а не только воздействия. Они полноправные участники духовного и материального производства, питают его идеями и энергией. Конечно, для того чтобы понять и принять это, нужно иначе посмотреть на то, что есть живое, жизнь и отказаться от столь же бесспорного, сколь и бессмысленного определения жизни как “способа существования белковых тел”. В советской науке странным образом не замечалась удивительно точная характеристика (не определение) жизни, данная современником Выготского А. А. Ухтомским, который, как и Н. А. Бернштейн, развивал неклассическую физиологию — физиологию активности, нередко называемую психологической физиологией: “Жизнь — асимметрия с постоянным колебанием на острие меча, удерживающаяся более или менее в равновесии лишь при устремлении, при постоянном движении. Энергический химический агент ставит живое существо перед дилеммою: если задержаться на накоплении этого вещества, то — смерть, а если тотчас использовать его активно, то — вовлечение энергии в круговорот жизни, строительство, синтез, сама жизнь” (Ухтомский А. А., 1978, с. 235). Чтобы убедиться в емкости этой характеристики, можно заменить в ней “химический агент” на информацию или — лучше — на знания, опыт, а живое вещество — на живое существо. Тогда мы получим характеристику жизни как асимметрию (а не гомеостаз), с постоянным колебанием на острие меча между мыслью и действием, сознанием и деятельностью, опытом и его использованием, аффектом и интеллектом и т. д. На этом же острие меча странным сюрреалистическим образом пока еще балансируют два других — меч железный и меч духовный. Опыт показывает, что выковать последний значительно труднее... Произведения искусства (не все!) также объемлются этим определением. В них есть энергия, устремление, постоянное движение, строительство, синтез, сама жизнь. Есть и асимметрия между динамикой и статикой, между вечным и временным, между добром и злом, между жизнью и смертью... Приходится констатировать, что в деле превращения неживой материи в живую искусство и культура намного (если не навсегда) опередили науку, которая все еще пытается синтезировать живое вещество. Обратимся к полюсу индивида. Столь ли уж субъективны аффективно-смысловые образования на этом полюсе? Ухтомский говорил, что субъективное не менее объективно, чем так называемое объективное. Это не случайная фраза, так как его волновала анатомия и физиология человеческого Духа. Например, он писал, что “с самого начала формирующийся образ предмета есть некоторый проект реальности, и именно эвристический проект реальности, подвергающийся затем многократной проверке и перестраиванию на основании практического слияния с реальностью” (Ухтомский А. А., 1978, с. 274). Приглашаю читателя вникнуть в то, как Выготский объясняет возникновение эвристического проекта реальности: “Именно включение символических операций делает возможным возникновение совершенно нового по составу психологического поля, не опирающегося на наличное в настоящем, но набрасывающего эскиз будущего и таким образом создающего свободное действие, независимое от непосредственной ситуации” (Выготский Л. С., 1984, т. 6, с. 50). Примерно в те же годы М. М. Бахтин характеризовал мир действия как мир внутреннего предвосхищенного будущего. Напомню, что лишь несколько десятилетий спустя, в психологии и физиологии появились понятия “образа потребного будущего”, “акцептора результатов действия”, “оперативного образа”, “образа-регулятора действия”, “плана поведения”, “образа-манипулятора“, “сенсорного эталона”, “перцептивной модели”, “образно-концептуальной модели”, “перцептивной гипотезы”, близкие по смыслу к понятиям “эвристический проект реальности”, “эскиз будущего”. Для того чтобы проект мог быть реализован или перцептивная гипотеза могла быть верифицирована, образ должен быть объектирован, то есть находиться там, где находится реальность, оригинал. А. А. Ухтомский объективировал субъективное, психическое в “теле” функциональных органов индивида, которые столь же реальны, как морфологически сложившиеся образования. Он определял функциональный орган как “всякое временное сочетание сил, способное осуществить определенное достижение” (Ухтомский А. А., 1978, с. 95), или как распределение активностей в пространстве и времени (хронотоп). Он уподоблял его динамическому подвижному деятелю. Ухтомский к числу функциональных органов относил не только парабиоз, доминанту, но и психологическое воспоминание, желание, интегральный образ мира. Он подчеркивал, что это — новообразования, возникающие во взаимодействии со средой, в активности индивида, который сам деятельно идет навстречу среде. В соответствии с определением органа образ должен обладать силами. Это кажется странным, непривычным. Действительно, о каких силах может идти речь, когда образ — это отражение объективного мира? О правдоподобности подобных банальностей стоит задуматься и вспомнить давние представления об “эйдетической энергии”, т. е. об энергии образа, развивавшиеся, например, А. Ф. Лосевым. Подобное пояснение излишне по отношению к другим видам функциональных органов: живое движение (Н. А. Бернштейн), аффект (А. В. Запорожец), энергетика которых очевидна. Любопытно отметить, что А. А. Ухтомский, аргументируя положение о реальности функциональных органов, в числе прочих ссылался и на работы З. Фрейда. При всей натуралистичности трактовки сознания и бессознательного З. Фрейдом, несомненная его заслуга состоит в признании их объективности. Он уподоблял работу психоаналитика работе хирургического скальпеля, оперирующего подсознание. Вполне возможно, что на А. А. Ухтомского оказали влияние труды П. А. Флоренского, который определял разум как орган человека: “Что бы мы не думали о человеческом разуме, но для нас загодя есть возможность утверждать, что он — орган человека, его живая деятельность, его реальная сила, логос" (Флоренский П. А, 1990, т. 1, с. 73). Далее Флоренский пишет о причастности разума бытию и бытия разумности: “А если — так, то акт познания есть акт не только гносеологический, но и онтологический, не только идеальный, но и реальный” (там же). Понятие функциональных органов — новообразований индивида — затем широко использовали и развивали Н. А. Бернштейн, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия. Они наделяли их телесными свойствами и качествами, например, биодинамической, чувственной, аффективной тканью, исследовали их развитие, инволюцию, реактивность, чувствительность и т. п. Функциональные органы, психологические функциональные системы следует рассматривать как материал (материю), из которого в конце концов конституируется духовный организм. Они действительно могут рассматриваться как анатомия и физиология духа. Более того, система разнообразных связей внутри органа и между органами представляет собой кровеносную систему, которая можетзакупориваться (склеротизироваться), вызывать ступор, шок (Гордеева Н. Д., 1995). (Замечу, что понятие “органическая психология” может рассматриваться и как производное от понятия “функциональный орган”. Это еще один, правда, тоже внешний аргумент, подчеркивающий органичность культурно-исторической психологии. Аналогом понятия “функциональный орган” в теории Выготского является понятие “психологическая функциональная система”.) Можно предположить, что для Ухтомского понятие “функционального органа” было единицей анализа духовного организма, познание анатомии которого было главнейшей целью его жизни. Равным образом, для Выготского понятие “психологическая функциональная система”, эквивалентное понятию способности, было единицей анализа “душевного организма, обладающего деятельностями” (Выготский Л. С., 1982, т. 1, с. 157). Вернемся к идеальной и реальной формам. Приведенные выше размышления дают основания для того, чтобы не проводить границу между ними по линии объективное – субъективное, внешнее – внутреннее, тело – душа. Обе формы объективны и субъективны, хотя, видимо, в разной степени, что дает возможность корректно ставить вопрос о переходе одной формы в другую, об органичности их взаимодействия. В этом Д. Б. Эльконин видел неклассичность подхода Выготского, которому удалось таким образом обойти, снять, преодолеть не имеющую решения психофизическую проблему. Идеальная и реальная формы — это живые формы. Наличие у них общих свойств делает их потенциально и актуально совместимыми. Поэтому, если “неклассичность” подхода Выготского характеризовать не отрицанием, а позитивным термином, то для этого ближе всего подходит выбранный мною термин “органическая психология”. Замечу, что А. Р. Лурия называл иногда психологию Выготского романтической. Однако это верно лишь отчасти. Выготский, несомненно, был романтиком в период создания “Психологии искусства” и в конце жизни, когда писал “Мысль и слово” — заключительную главу к книге “Мышление и речь”. Достойно удивления и восхищения, что органическая психология создавалась в неорганичной для развития науки среде. При всей совместимости реальной и идеальной форм переход одной в другую не может совершаться автоматически. Проблема перехода остается. И на первых порах она разрешалась в парадигме классической психологии, в оппозиционных понятиях внешнего – внутреннего, объективного – субъективного, души – тела, интериоризации – экстериоризации и т. п., о чем я подробнее буду говорить далее. Следующий шаг состоит в том, чтобы понять, как в культурно-исторической психологии оказывается возможным переход от идеальной формы к реальной. Идеальная форма имеет своих вполне реальных носителей, выступающих посредниками-медиаторами развития реальной формы. Выготский в качестве таковых рассматривал роль трех медиаторов: взрослый (в паре интериндивидной деятельности), знак и слово. За рамками его анализа остались символ и миф, роль которых в развитии отмечалась А. Ф. Лосевым. Тем не менее, Выготский достаточно часто говорил о знаково-символической и символической деятельности. К этому ряду медиаторов может быть добавлен и смысл, который в логике Г. Г. Шпета укоренен в бытии, а в логике Л. Витгенштейна смысл существует как бы сам по себе и может быть отождествлен с неким возможным фактом. Другими словами, смысл может рассматриваться как нечто объективное наряду со знаком, символом и т. д. Впрочем, этот ряд медиаторов должен оставаться открытым. Полифонии медиаторов отвечает полифония сознания. На одном знаке или знаковом действии полифоническое сознание не построить. Только рефлекторное. Когда субъект в ходе развития символической деятельности овладевает медиаторами, его реальная (по Выготскому — прежде натуральная) форма становится идеальной, как минимум, идеализированной, культурной. В опосредствовании состоит пафос культурно-исторической психологии. В посредническом акте, который сейчас интенсивно изучает Б. Д. Эльконин с сотрудниками, заключена тайна развития, тайна превращения реальной формы в идеальную и идеальной формы в реальную. Включение в натуральные формы психических функций (сохраним пока это многократно критиковавшееся понятие Выготского) предмета, орудия, знака трансформирует эти формы в идеальные, культурные. Последние приобретают вид предметных, орудийных, знаковых, вербальных, символических — в широком смысле инструментальных психических операций, действий, деятельности. Что означает трансформация? Это и есть строительство, формирование функциональных органов – новообразований, осуществляемое с помощью медиаторов, посредников, средств, которые Выготский называл “психологическими орудиями”, или “психологическими инструментами”. Остановимся на них подробнее. Выготский различал (возможно, нарочито категорично) материальное и психологическое орудие: “Существеннейшим отличием знака от орудия... является различная направленность того или другого. Орудие служит проводником воздействий человека на объект его деятельности, оно направлено вовне, оно должно вызвать те или иные изменения в объекте, оно есть средство внешней деятельности человека, направленной на покорение природы. Знак ничего не изменяет в объекте психологической операции, он есть средство психологического воздействия на поведение — чужое или свое, средство внутренней деятельности, направленной на овладение самим человеком; знак направлен внутрь. Обе деятельности столь различны, что и природа применяемых средств не может быть одной и той же в обоих случаях” (Выготский Л. С., т. 3, с. 90). Сказанное относится не только к знаку, но и к символу, к слову, о чем также писал Выготский: “Слово, направленное на разрешение проблемы, относится не только к объектам, принадлежащим внешнему миру, но также и к собственному поведению ребенка, его действиям и намерениям. С помощью речи ребенок впервые оказывается способным обратиться на самого себя, как бы со стороны рассматривая себя как некоторый объект” (цит. по: Эльконин Б. Д., 1994, с. 14). Вот здесь-то и проявляется замечательная особенность психологических орудий, будь то знак, слово, символ. Они выступают не только в роли стимулов, способных вызвать те или иные ответы, реакции, поведенческие акты. Они вызывают к жизни внутренние формы деятельности, определяющие, помимо всего прочего, непредсказуемость внешнего поведения. Обращение на самого себя, взгляд на себя со стороны — это начало способности или сама способность заглядывания внутрь самого себя, начало формирования образа себя и вынесения его в целом или отдельных свойств вовне. Это объективация самого себя, своей собственной субъективности, формирование самосознания. Хотя сказанного уже достаточно, но это еще не все. В этом тайна и первое условие формирования себя, условие самостроительства человека, культурного формирования личности. Б. Д. Эльконин приводит слова Выготского о том, что направленность знака извне внутрь, во-первых, и связанная с этим реконструкция, объективация, экстериоризация внутреннего, во-вторых, являются центром “работы” знака: “Если вдуматься глубоко в этот факт, что человек в узелке завязанном на память, в сущности контролирует извне процесс воспоминания, заставляет внешний предмет напомнить ему, то есть напоминает сам себе через внешний предмет и как бы выносит, таким образом, процесс запоминания наружу, превращая его во внешнюю деятельность, если вдуматься в сущность того, что здесь происходит, то один этот факт может раскрыть перед нами все глубокое своеобразие высших форм поведения. В одном случае нечто запоминается, в другом — человек запоминает нечто” (Эльконин Б. Д., 1994, с. 14, 15). Действие знака простирается еще более глубоко: “Когда вы изучаете опосредованное запоминание, т. е. то, как человек запоминает, опираясь на известные знаки или приемы, то вы видите, что меняется место памяти в системе психических функций. То, что при непосредственном запоминании берется непосредственно памятью, то при опосредованном запоминании берется с помощью ряда психических операций, которые могут не иметь ничего общего с памятью; происходит, следовательно, как бы замещение одних психических функций другими” (Выготский Л. С., т. 2, с. 392). Таких примеров множество и в ранней работе А. Н. Леонтьева о развитии памяти, и в работах П. И. Зинченко, посвященных динамике непроизвольного и произвольного запоминания (Зинченко П. И., 1961). Что же это за мистические свойства знака, слова, других медиаторов, которые не просто воспринимаются, усваиваются, запоминаются, но и пробуждают дремлющие или содействуют формированию новых психических операций, перестраивают их самих и взаимоотношения между ними? Попробуем ответить на этот вопрос, хотя это и не легко. Причина не в недостатке, а в избытке материала. Обратимся вновь к памяти и посмотрим, как П. И. Зинченко почти полвека тому назад интерпретировал положение об ее опосредованности: “Основным в развитии человеческой памяти с этой точки зрения является овладение употреблением средств-знаков запоминания. Но знак — средство с внутренней, конкретно-психологической стороны — есть значение. Значение же есть не что иное, как обобщение действительности. Это значение — обобщение развивается как со стороны характера тех связей и отношений, которые обобщаются в знаке (в основном в слове, как знаке), так и со стороны изменения структуры, строения этого обобщения, т. е. со стороны характера интеллектуальных операций. Овладение знаком – средством и связано с развитием его внутренней стороны, с развитием обобщения. Таким образом, развитие памяти прежде всего определяется развитием мышления, ибо развитие всякого значения – обобщения предполагает развитие мышления. В этих основных положениях... запоминание впервые в психологии начинает рассматриваться не как содержание сознания, замкнутого в субъекте, являющееся его феноменальным субъективным миром, и не как абстрактная метафизическая способность. Запоминание впервые выступает здесь как активный процесс, как конкретное психическое действие. В связи с этим впервые становится возможным и реальное исследование развития памяти как процесса, исследование строения процессов запоминания на разных этапах их развития” (Зинченко П. И., 1939, т. 1, с. 153). Обращу внимание на слово “впервые”, трижды употребленное в этом отрывке. Согласно Зинченко, — теория опосредствования впервые позволила исследовать память как психическое действие, а развитие памяти как процесс. Здесь отчетливо выступает генетическая, органическая связь между культурно-исторической психологией и еще только зарождающейся психологической теорией деятельности. Последняя в качестве своей онтологии взяла опосредствованное, т. е. культурное действие, отказавшись от изучения натуральных психических функций — главного предмета исследований классической психологии. Я думаю, что приведенный фрагмент из работы Зинченко, написанной между 1936—1937 гг., — это бесспорный аргумент против повторяющихся время от времени попыток оторвать одно психологическое направление от другого, противопоставить их. В более поздней работе Зинченко приводит по этому поводу весьма категорическое высказывание самого Выготского, относящееся к 1926 г.: “...память означает использование и участие предыдущего опыта в настоящем поведении, с этой точки зрения память и в момент закрепления реакции, и в момент ее воспроизведения представляет собой деятельность в точном смысле этого слова” (Зинченко П. И., 1961, с. 117). В этом контексте полезно напомнить положение Выготского о том, что “связь деятельностей — это центральный пункт в изучении всякой системы”. И далее автор разъясняет: “Проблема связи должна быть с самого начала противопоставлена атомистической проблеме. Сознание изначально есть нечто целое — это мы постулируем. Сознание определяет судьбу системы, как организм функции” (Выготский Л. С., 1982, т. 1, с. 157, 158). Выготский не только настаивает на том, что сознание — это связь деятельностей, но и обращает этот постулат в проблему, считая эту связь переменной и делая ее предметом психологического исследования. Напомню, что П. И. Зинченко — ученик А. Н. Леонтьева — был одним из активных участников “леонтьевского деятельностного похода” на психологию. Справедливости ради нужно сказать, что это одновременно был “поход” и на культурно-историческую психологию. П. И. Зинченко так высказывался об ошибочности культурно-исторической психологии в целом: “Неправильно решен основной вопрос о понимании природы психического. Специфическим и самым существенным для характеристики человеческой психики было признано овладение психикой натуральной, естественной, биологической через использование вспомогательных психологических средств. В этом положении заключена основная ошибка учения Выготского. Марксистское понимание исторической, социальной обусловленности развития человеческой психики было извращено и понято идеалистически. Общественно-историческая обусловленность психики человека была сведена к воздействию на субъекта человеческой культуры. Развитие психики, таким образом, рассматривалось не как определяемое развитием реальных отношений субъекта к действительности, а как ограниченное общением сознания субъекта с культурной, идеальной действительностью” (Зинченко П. И., там же). Проще всего по поводу этой критики сказать, что она огульна и несправедлива, приведя при этом “ответ” Выготского, написанный до критики: “За всеми высшими функциями, их отношениями стоят социальные отношения, реальные отношения людей” (Выготский Л. С., т. 3, с. 145). Но все дело в том, что этот ответ был впервые опубликован спустя четверть века после написания статьи П. И. Зинченко. Подобная критика была еще мягкой в сравнении с разнузданной критикой, статьями-доносами в адрес Выготского, появлявшимися еще при его жизни. Следует учитывать, что ко времени написания и публикации статьи Зинченко труды Выготского были уже запрещены, не говоря уже о том, что при его жизни была опубликована лишь их малая часть. До выхода собрания сочинений Выготского в шести томах (и все еще неполного) посчастливилось дожить только П. Я. Гальперину и Д. Б. Эльконину. А. В. Запорожцу и А. Р. Лурия, усилиями которых оно было издано, не довелось его увидеть. Возвращаясь к статье П. И. Зинченко, легче всего предположить, что после приведенного панегирика в адрес Л. С. Выготского эта критика носила “дежурный”, принудительный характер. Ведь панегирик и критика уживаются на одной странице. Однако не будем упрощать дело, тем более, что последующие критики Выготского ссылаются лишь на критический пассаж П. И. Зинченко и не замечают главного. Конечно, с нашей сегодняшней точки зрения в этом пассаже основное достоинство культурно-исторической психологии превращено в ее недостаток. Но следует обратить внимание на то, что здесь наметилась смена, если и не предмета исследования, то его акцентов. Не внутренняя сторона психологического орудия — значение, а опосредованное психическое действие. Напомню, что в 30-е годы участники Харьковской группы (название школа появилось много позже) приступили к изучению разных форм “психических действий”: простейшие орудийные действия у ребенка (П. Я. Гальперин), сенсорные действия (А. В. Запорожец), мнемические действия (П. И. Зинченко), интеллектуальные действия (А. В. Запорожец). Начал складываться действительно деятельностный подход к психике, а затем и психологическая теория деятельности. Значение, которое для Выготского было исходной единицей анализа психики, отступило на второй-третий план (Зинченко В. П., 1981). Значение слишком тесно связано с культурой, с идеальной деятельностью, с сознанием. Последнее вышло из моды, оно стало отражением советского быта. В нашей историко-психологической литературе до сих пор странным образом уживаются адресованные Выготскому упреки в идеализме и адресованные Леонтьеву упреки в отходе от Выготского, т. е. от идеализма(?!). Методологически корректно столкновение культурно-исторически и деятельностно ориентированных психологических концепций осмысливалось Г. П. Щедровицким (Щедровицкий Г. П., 1995), что представляет особый сюжет для историков психологии. Вообще, по поводу критики в адрес культурно-исторической психологии следует сказать, что практически вся критика, опубликованная до 1982—1984 гг., т. е. до выхода в свет собрания сочинений Л. С. Выготского представляет собой с исторической точки зрения недоразумение. Ее авторы просто не могли знать многих фундаментальных работ Выготского, среди которых, например, “Исторический смысл психологического кризиса”, “Орудие и знак в развитии ребенка”, “Учение об эмоциях”. Поэтому многочисленные критики Выготского заслуживают снисхождения, если, конечно, они не настаивают на своих прежних оценках с упорством, достойным лучшего применения, и монотонно не воспроизводят их. Такая критика с культурной точки зрения это больше, чем недоразумение... Последуем за Выготским и попробуем понять, что же такое внутренняя сторона слова, знака. В дальнейшем я буду говорить не о внутренней стороне, а об их внутренней форме. Итак, психологические орудия имеют внешнюю и внутреннюю форму. Внешняя чаще всего чрезвычайно проста, но тем не менее она совершенно непонятна, если неизвестна внутренняя форма. Понятие “внутренняя форма” не должно вводить в заблуждение. Она ведь невидима, как другая сторона Луны. Этот образ использовал Выготский, говоря о той стороне слова, которая осталась неведомой землей для экспериментальной психологии. Сам Выготский не пользовался понятием внутренней формы слова, введенным еще В. фон Гумбольдтом. Причина этого неясна, так как Выготский не мог не знать книги Г. Г. Шпета “Внутренняя форма слова” (1927). Возможно, Выготский хотел избежать путаницы между понятиями “внутренняя форма слова” и “внутренняя речь”. Последняя, как известно, была предметом его специального исследования. Так или иначе, но из исследований Выготского и особенно — Шпета следует, что внутренняя форма этого психологического орудия необычайно богата прежде всего в сравнении с директивным знаком. Внутренняя форма последнего достаточно проста и не допускает альтернативного толкования. “Знак есть такой способ использования предмета, что само предметное содержание, указуемое знаком, полностью исчерпывается актом использования знака”, — писал М. К. Мамардашвили (1996, с. 373). По сравнению со знаком и даже со словом символ вообще допускает множество интерпретаций. Его внешняя, видимая форма может быть крайне элементарной, а внутренняя — бесконечной. Проблема состоит в том, чтобы открыть, увидеть внутреннюю форму, проникнув за внешнюю оболочку символа, научиться ориентироваться во внутренней форме. Здесь не должно быть иллюзий. Ориентация в бездонных глубинах скрытого за символом смысла — дело чрезвычайно трудное. Приведу до боли знакомый пример столкновения двух хорошо известных символов, порождающих неожиданные смыслы: “Ведь в сорок пятом томе Ленина засушен аленький цветок”. (Прошу прощения у автора, имя которого я забыл, но строчку эту забыть нельзя.) По словам Мамардашвили, невидимая вторая половина символа, в отличие от вещественной, видной всем, прорастает в какие-то глубины сознательной жизни. Об этом же говорил П. А. Флоренский: “Вживаясь в символ, мы находим себя самих, а стараясь проникнуть в себя открываем тут символы” (Флоренский П. А., 1992, с. 174). Часто такое прорастание символа или вживание в него происходит помимо воли и желания субъекта, и не он овладевает символом, а символ захватывает его и овладевает им. В последнем случае не символ — орудие человека, а человек становится орудием символа, становится “человекоорудием” (термин Даниила Андреева). Разумеется, такое “прорастание” происходит не в физическое, а в символическое “тело” человека, в его духовный организм, в “тело” его желаний, мотивов, сознания. М. К. Мамардашвили принадлежит довольно жуткая метафора прорастания невидимой части символа в натуральное тело человека. Он приглашал своих слушателей представить себе, что волосы головы растут не наружу, а прорастают внутрь, в мозг человека. Мозг, опутанный проросшими в него волосами, — картинка не для слабонервных. Но если такое прорастание не происходит, человек, по словам Ф. Ницше, оказывается полым. Аналогичные метаморфозы происходят и с языком. И. Бродский настойчиво повторял, что не язык — орудие поэта, а поэт — орудие, “средство существования” языка. Открытие внутренней формы медиаторов, точнее, бесконечное число открытий начинается в совместной деятельности ребенка со взрослым и продолжается самостоятельно всю жизнь. К исследованиям работы психологических орудий – медиаторов психология только прикоснулась во время жизни Выготского. Он сам предупреждал против упрощенного понимания связи между знаком и значением: “Отнести овладение связью между знаком и значением к самому началу культурного развития ребенка значит игнорировать сложнейшую, растянутую более чем на целое десятилетие историю внутреннего построения этой связи” (Выготский Л. С., 1984, т. 6, с. 15). После слишком длительного перерыва эти исследования возобновил Б. Д. Эльконин (Эльконин Б. Д., 1994). Из того немногого, что сказано о психологических орудиях, вытекает, что они сродни, совместимы, внутренне органичны как идеальной форме, так и реальной форме. В них также имеются объективная и субъективная составляющие. Они могут выполнять посредническую функцию между реальной и идеальной формами, так как обнаруживают глубинное сходство с последними. Психологические орудия, средства, инструменты нередко уподобляются органам человека, или органам человеческой деятельности. Поскольку они представляют собой искусственные средства деятельности, их нередко называют артефактами (Верч Дж., 1996). Так же называют и функциональные органы, что иногда создает трудности для понимания. Но это лишний раз подчеркивает потенциальную совместимость и возможность слияния, соединения (единства), установления органической связи между психологическими орудиями и идеальной формой, с одной стороны, и реальной формой — с другой. Психологические орудия: слово, знак, символ — это живые (в пределе — животворящие), деятельные формы. Они, как и все живое, смертны. Есть мертвые символы, мертвые слова, даже мертвые языки. Приведенный выше анализ идеальной, реальной и медиативной форм позволяет сделать еще одно заключение. При всей своей целостности это — гетерогенные формы. Такой ход мысли вполне соответствует идеям Выготского о свойствах единиц анализа психики. Последние представляют собой живые, целостные и гетерогенные образования (Зинченко В. П., 1981; Зинченко В. П., Смирнов С. Д., 1983). Распространенное сейчас описание работы с психологическими орудиями в терминах их усвоения, присвоения, интериоризации сильно упрощает дело. Да и так называемую внутреннюю деятельность трудно свести к оперированию и манипулированию интериоризированными внешними средствами. Об этом разговор впереди. Чтобы показать действительную сложность овладения психологическими орудиями и их роль в формировании, развитии психологических операций, психических действий, функциональных органов-новообразований, обратимся к “элементарным” примерам. Для понимания происходящего при овладении поведением посмотрим, как происходит усвоение движения. Н. А. Бернштейн писал, что обучающийся движению устанавливает, “как будут выглядеть (снаружи) те движения, из которых слагается изучаемый им навык” (Бернштейн Н. А., 1990, с. 172). А. В. Запорожец впоследствии заметил, что движение может рассматриваться как внешний объект и даже как внешний субъект. Этот интересный ход мысли можно обозначить как объективацию или даже персонификацию движения. Нужно понять, как объективация достигается индивидом. Бернштейн выделяет фазу обучения, на которой обучающийся “доходит до того, как должны ощущаться изнутри и сами эти движения, и управляющие ими сензорные коррекции” (там же). Он далее пишет, что эти секреты нельзя растолковать никаким показом. Тем более нельзя их изобразить знаками или описать словами. Но что означает “ощущение изнутри”? Ответ на этот вопрос дан в исследовании М. И. Лисиной, выполненном по замыслу и под руководством А. В. Запорожца. Замысел состоял в том, чтобы показать, что “ощущаемость афферентных импульсов от собственных реакций играет важную роль в превращении последних из непроизвольных в произвольные” (Запорожец А. В., 1960, с. 80). Это положение было доказано в экспериментах с вегетативными функциями, когда испытуемые научились ощущать свои сосудистые реакции и управлять ими. Экспериментальный прием, использованный Лисиной, состоял в том, что она обеспечила испытуемым дополнительную сигнализацию об их сосудистых реакциях, в том числе и визуальное наблюдение за своей плетизмограммой. Плетизмограмма в этом исследовании выполняла знаковые функции психологического орудия. Испытуемые ее видели, но для управления сосудистыми реакциями этого было мало. Нужно было научиться их ощущать, объектировать и соотносить с плетизмограммой. На основе полученных результатов Запорожец сделал вывод о том, что “ощущаемость движений является не только обязательным спутником их произвольности, но и необходимой их предпосылкой. Прежде чем превратиться в произвольно управляемое, движение должно стать ощущаемым” (там же, с. 88). Это исследование выполнено в русле идей Бернштейна и Выготского, в мировоззрении которых несомненно имелись сходные черты (Зинченко В. П., Лебединский В. В., 1981). Выготский писал, что “осознание и овладение идут рука об руку ... Осознать значит в известной мере овладеть” (Выготский Л. С., т. 5, с. 251). В экспериментах Лисиной произошло “ощущение изнутри”, осознание и на этом основании овладение неуправляемыми в обычных условиях сосудистыми реакциями. Благодаря знаковой функции психологического орудия, возникла способность “ощущения изнутри”, сформировался функциональный орган – новообразование. Более того, движение, видимое снаружи и ощущаемое изнутри — это уже не просто движение, а динамический осмысленный образ. Подобная интерпретация возможна и по отношению к более ранним экспериментам по формированию способности к цветоощущению и цветоразличению кожей ладони, выполненных А. Н. Леонтьевым, В. И. Асниным, А. В. Запорожцем (Леонтьев А. Н., 1983, т. 1, с. 143—183), и по отношению к более поздним экспериментам А. Н. Леонтьева, Ю. Б. Гиппенрейтер и О. В. Овчинниковой, посвященным формированию звуковысотного слуха (там же, т. 2, с. 26—30). Примечательно, что в случае цветоразличения испытуемые объективировали свои ощущения в адекватной для осязания форме. Они описывали их как дуновение ветерка, прикосновение пера птицы и т. п. Эти, казалось бы, экзотические, с точки зрения культурно-исторической теории развития психики исследования, к тому же проведенные на психофизиологическом и психофизическом материале, демонстрируют значение механизма опосредования для формирования функциональных органов – новообразований. Эти же эксперименты свидетельствуют и о том, что сами вспомогательные средства, или психологические орудия никуда не “вращиваются”. Они действительно выполняют роль средств, помогающих объективации, экстериоризации тех или иных субъективных состояний, аффективно-смысловых образований и т. п. Последние, будучи вынесены вовне и сохраняя свою субъективность, приобретают черты объективности. Однажды сложившись, они могут воспроизводиться в отсутствии вспомогательных средств. Продолжу в связи с вынесением вовне приводившуюся выше цитату Флоренского: “Познание есть реальное выхождение познающего из себя или, — что то же, — реальное вхождение познаваемого в познающего, — реальное единение познающего и познаваемого” (Флоренский П. А., 1992). Флоренский замечает, что конечный пункт “выхождения” и “вхождения” один и тот же. Обе метафоры означают один и тот же акт внутреннего (или органического) объединения познающего с познаваемым (там же, с. 645). На основании приведенных примеров можно заключить, что сами вспомогательные средства не обладают никакими мистическими свойствами. Их значение открывается субъекту или строится им лишь по мере того, как он, в результате осуществления удачных и неудачных действий, наполняет их биодинамической, чувственной, аффективной тканью, своей субъективностью. Здесь мы сталкиваемся со странной ситуацией. Авторы исследований, выполненных в точном соответствии с концептуальной схемой культурно-исторической психологии, используя “каузально-генетический метод”, интерпретировали результаты в понятиях психологической теории деятельности. Можно предположить, что Выготский предпочел бы интерпретировать их так, как это сделано выше, поставив акцент на открытии, формировании значения. Последователи Выготского видели в то время за понятием значения преимущественно логическое содержание. Лишь постепенно они наполняли его психологическим содержанием, идя к этому через понятия операционального и предметного значения. В 60-е годы Леонтьев придал значению статус одной из важнейших образующих сознания. Затем В. В. Давыдов, изучая психологические функции значения, пришел к классификации видов обобщения (Давыдов В. В., 1972). В контексте настоящего изложения не столь важен способ интерпретации упомянутых результатов. Сейчас очевидно, что они оба равно необходимы и дополняют друг друга. Существенно другое. Запорожец, Лисина, Леонтьев, а затем и многие другие вольно или невольно, осознанно или неосознанно проводили исследования, как будто задуманные Выготским. Они вслед за ним уходили от классических противопоставлений субъективного и объективного, материального и идеального, открывали для психологии новую онтологию. Не только для психологии. Почти через 20 лет после исследования Запорожца – Лисиной физиологии, а за ними и психологи “открыли” эффекты биологической обратной связи и провели сотни подобных исследований. Притягательность культурно-исторической психологии Выготского для гуманитариев, по-видимому, заключается в том, что сам Выготский был в высшей степени гуманитарно-ориентированным психологом. Все его работы демонстрируют жизнеспособность и плодотворность как междисциплинарного подхода к психологическим проблемам, так и психологического подхода к проблемам других гуманитарных наук. В психологии до Выготского, пожалуй, только Вильгельм Вундт и Зигмунд Фрейд столь же эффективно пользовались возможностями междисциплинарного подхода. Вундт, например, без колебаний признавал, что психологическое исследование деятельности человека возможно лишь на основе фактов, доставляемых историками, этнологами, филологами и т. д. В то же время он с сожалением отмечал, что исследователи мифов, будь то историки или филологи, зачастую ничего не хотят знать о психологии, хотя это не мешает им при необходимости “сочинить свою собственную психологию”. Выготский меньше всего сокрушался по последнему поводу, но многое сделал для того, чтобы психологические труды стали интересными и полезными для специалистов в других науках. Разумеется, и Вундт, и Фрейд, и Выготский были широкообразованными психологами. И если сегодня всерьез ставить задачу развития культурно-исторической психологии, то прежде всего следовало бы начать с изменений в системе образования психологов. Кроме того, полезно было бы создать междисциплинарный словарь по культурно-исторической психологии, в котором нашли бы отражение не только идеи и опыт школы Выготского, но и других психологов (скажем, Дж. Брунера, Дж. Верча, М. Коула, П. Тульвисте, тех же В. Вундта и З. Фрейда), а также в некотором роде гуманитарный минимум, необходимый для налаживания междисциплинарного сотрудничества в человекознании. Многие годы спустя после кончины Выготского М. К. Мамардашвили, развивавший философскую проблематику формы превращенной, в поисках иллюстраций для своих размышлений постоянно обращался к психологической реальности, в том числе и к реальности сознания. Он искал адекватные ей наименования и термины: сращения субъективного и объективного, кентаврические образования, артефакты, артеакты, функциональные органы, амплификаторы – усилители наших естественных способностей, новообразования и т. п. Все эти искусственные образования он называл “третьими вещами”, “понимательными вещами”, “интеллигибельной материей”. К этому списку можно добавить и известные психологам понятия установок, доминант, предметных рецепторов, органов чувств теоретиков, акцентуаций и пр. Продолжающийся поиск наименований психологической реальности представляет собой уход от картезианской дихотомии души и тела, в том числе и уход от натуралистической трактовки внешнего (объективного) и внутреннего (субъективного), с которой связана столь же натуралистическая трактовка процессов интериоризации и экстериоризации. На протяжении всей книги я буду неоднократно возвращаться к этой проблематике.
ГЛАВА 2 ПРОЛЕГОМЕНЫ К ПОЭТИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 2.1. “Назад к душе”: значение и смысл поэтической антропологии Сейчас вегетативным способом размножается когда-то скромная, но интересная и полезная наука антропология. Многие науки хотят, чтобы в центре их интересов стоял человек. Легче всего выполнить это желание, не поставив в центр человека, а изменив название науки. Поэтому частично продолжают свое существование, частично восстанавливаются, частично создаются на голом месте, то есть без учета давних традиций, теологическая, философская, историческая, социальная, структурная, педагогическая, психологическая, эргономическая, медицинская, зоологическая антропологии. Эпатирующе звучит (только звучит) замечательная культурная антропология. Впрочем, на Западе она появилась еще в прошлом веке. Выходит на сцену политическая антропология. По-видимому, установившееся в русскоязычной литературе ограничение значения термина “антропология” пределами лишь старой доброй физической, или биологической, антропологии есть немотивированное насилие над языком. Это беда не только русского языка — похожие сожаления мы находим и у знатока, можно сказать, классика английской литературы Г. К. Честертона: “Как жаль, что слово “антропология” связано лишь с изучением антропоидов! Оно безнадежно ассоциируется со спорами доисторических ученых о том, окажется ли какой-нибудь камешек зубом обезьяны или человека (иногда спор кончается тем, что это — зуб свиньи). Несомненно, должна быть чисто естественная наука о таких вещах; но самый термин лучше бы применять к изучению других проблем, не только более важных и глубоких, но и тесно связанных с человеком... Короче говоря, должна существовать антропология, изучающая человека, как изучает Бога теология. В этом смысле святой Фома (быть может, прежде всего) великий антрополог” (Честертон Г. К., 1991, с. 336). Не попробовать ли на этом фоне создать поэтическую антропологию? Ведь существует же “Педагогическая поэма”. Мне кажется, что поэтическая антропология должна быть интереснее, чем классическая педагогическая антропология. Во всяком случае в ней человек не будет выступать лишь в качестве “объекта воспитания”. Правда, К. Д. Ушинский оговаривал, что “если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде всего узнать его тоже во всех отношениях”. Наша педагогика твердо усвоила лишь первую половину этого разумного положения К. Д. Ушинского. Сейчас она начинает усваивать и вторую, приступает к поиску своих человековедческих, антропологических оснований. По мере их нахождения и раскрытия человек в педагогике будет неминуемо из объекта становиться субъектом воспитания. Давно настала пора выводить отечественную педагогику из “хронологической провинции” (С. С. Аверинцев), в которой она пребывала многие десятилетия. Неожиданный, но вполне логичный и необходимый с точки зрения концепции саморазвития, поворот к человеку – субъекту воспитания предлагают Б. Г. Мещеряков и И. А. Мещерякова (1994). В педагогической антропологии нуждаются, в первую очередь, не взрослые педагоги, а сами учащиеся, причем для них такая антропология должна быть написана совершенно заново и иначе, чем для профессиональных педагогов. В таком ракурсе утрачивает смысл классическая оппозиция воспитатели – воспитуемые, позволяющая вторым перекладывать ответственность за свои грехи и недостатки на первых (включая и родителей, школу, общество, государство). Становлению человека в педагогике (и психологии) большую помощь может оказать поэтическая антропология, которая озабочена в первую очередь проблемами духа, души, смысла человеческого бытия. Это соответствует интересу поэзии к “вечному” человеку, к его земной и духовной, божественной судьбе. Конечно, поэзия полна сочувствия к доле “современного” человека, к плачевной юдоли “нового человека”. Поэзии не чужды выраженные, правда, в интеллигентной форме “учительные” (С. С. Аверинцев) мотивы и тенденции. Мало этого, дидактизм в искусстве был, есть и, вероятно, будет. Он имеет право на существование. Но это, так сказать, добровольный (чаще всего наивно-невинный) дидактизм. Беда, когда всю поэзию насильно заставляют быть “учительной”, заставляют “ко всякой всячине приклеивать нравоучения” (А. С. Пушкин). Послушаем Вяч. Иванова: И поэт чему-то учит, Но не мудростью своей: Ею он всего скорей Всех смутит и всем наскучит. Жизнь сладка ль на вкус, горька ли, Сам ты должен распознать, И свои у всех печали: Учит он воспоминать. В 1977 г. я был в Лондоне и, благодаря содействию моего старого друга А. М. Пятигорского, в Центре русской книги мне посчастливилось получить трехтомник Осипа Мандельштама. Тогда же я впервые прочел его “Разговор о Данте”, и меня поразила одна фраза: “Будущее дантовского комментария принадлежит естественным наукам, когда они для этого изощрятся и разовьют свое образное мышление” (Мандельштам О. Э., 1990, т. 2, с. 277). Последнее поэт понимал как борьбу за представимость целого, за наглядность мыслимого, способность решать конкретные задачи построения внутреннего образа структуры (там же, с. 225). Именно в это время я вместе с В. М. Гордон интенсивно занимался проблематикой порождения зрительного образа, визуального мышления и визуальной культуры, увлекался работами Р. Арнхейма, много сделавшего в этой области. Все вместе взятое побудило обратиться меня к декану факультета психологии Московского университета А. Н. Леонтьеву с предложением организовать на факультете вместо созданной и руководимой мною в то время кафедры психологии труда и инженерной психологии кафедру психологии искусства. Я без ложной скромности обещал А. Н. Леонтьеву в течение 5—6 лет с небольшим коллективом написать учебник психологии XXI в. Основание для этого я видел в том, что искусство на десятилетия, а то и столетия опережает науку в познании неживого и особенно живого. Но главное даже не в этом. Искусство порождает иное знание. Наука расчленяет, анатомирует, дробит мир на мелкие осколки, которые не склеиваются и не компонуются в целостную картину. Наука особенно преуспела в своей дезинтегративной деятельности, изучая человека. Искусство сохраняет человеческий мир целостным. Оно если и не образец для подражания, то постоянное напоминание науке о существовании целостного, неосколочного мира. Алексей Николаевич принял это за шутку и не стал серьезно обсуждать мой проект. Но эта мысль так и не выветрилась из моей головы. Лишь в конце 80-х годов я смог вернуться к ней, не порывая, однако, с проблематикой развития психики, с которой началась моя научная работа в Московском университете и в Институте психологии АПН СССР под руководством А. В. Запорожца. Реализовывать эту идею я начал с использования многогранного творческого наследия замечательного русского поэта Осипа Эмильевича Мандельштама для обсуждения фундаментальных проблем психологии развития. Это, конечно, не первый опыт такого рода. Меня вдохновляло замечательное эссе Б. М. Теплова, посвященное пушкинскому “Моцарту и Сальери”, в Предисловии к которому он писал: “Анализ художественной литературы обычно не указывается в числе методов психологического исследования. И фактически психологи этим методом не пользуются. Даже те лаконичные (хотя и не малочисленные) ссылки на литературные образы, которые есть в книге С. Л. Рубинштейна, или те три-четыре литературных примера, которые очень тонко использованы Л. С. Выготским в последней главе книги “Мышление и речь”, производят впечатление чего-то не совсем обычного в “научном” психологическом сочинении”. Поясню, что заметки Б. М. Теплова относятся к 1946—1947 гг., когда еще не была опубликована “Психология искусства” Л. С. Выготского. Далее, Б. М. Теплов продолжает: “Автор нижеследующих страниц глубоко убежден, что художественная литература содержит неисчерпаемые запасы материалов, без которых не может обойтись научная психология на новых путях, открывающихся сейчас перед ней. Развернутое доказательство этого тезиса, так же как и установление принципов научно-психологического использования данных художественной литературы, — задача очень важная. Но в настоящей работе она даже не ставится. Раньше чем сочинять теорию плавания, полезно попробовать поплавать практически. Результаты — пока еще очень несистематические — таких проб составляют содержание настоящих заметок. Вполне возможно, что они еще не имеют значения “научных материалов”. Но автор надеется, что они могут быть полезны психологам хотя бы в качестве “примеров” и “иллюстраций”” (Теплов Б. М., 1985, т. 1, с. 306). Заметки Б. М. Теплова богаты не только иллюстрациями. Их пафос — в преодолении узкой направленности личности (в том числе и ученой личности), в поиске оснований для ее целостного представливания в психологии. Термин “представливание” принадлежит Б. М. Теплову. С его помощью он подчеркивал не только процессуальность, динамичность представления, но и его принципиальную незавершенность, открытость, когда речь идет о личности, да и не только личности. Такая незавершенность сродни “недосказанности” и, соответственно, неисчерпаемости великих произведений искусства. Если же личность досказала себя до конца, завершилась, то это, в лучшем случае, бывшаяличность или вовсе не личность. Меня вдохновляла, конечно, и “Психология искусства” Л. С. Выготского, а потом и очень поздно пришедшие к нам работы Карла Юнга, посвященные “Феномену духа в искусстве и науке” (1992). Попробую пуститься вслед за ними в плаванье. Можно говорить о художественном, историческом, психологическом, педагогическом и философском мышлении поэтов. “Поэзия без философии пуста” (Честертон). Думаю, что вернее характеризовать мышление подлинной поэзии — антропологическим в самом широком и возвышенном смысле слова. Это “живописное соображение” (Н. В. Гоголь) о человеке — его душе и духе, жизни и ее смысле — в мире. Предметом, точнее смысловым центром поэтической антропологии, в отличие от многих других, является весь человек. Прислушаемся к А. Блоку: “...мы ругали “психологию” оттого, что переживали “бесхарактерную” эпоху, как сказал вчера в Академии Вяч. Иванов. Эпоха прошла, и, следовательно, нам опять нужна вся душа, все житейское, весь человек... Назад к душе, не только к человеку, но ко “всему человеку” — с духом, с душой и телом, с житейским — трижды так” (Блок А., 1963, с. 148, 149). Хотя науки о человеке выходят из привычных берегов в физику, математику, мистику, теологию, душа — по-прежнему бездонна, дух, судя о нем по науке — невнятен или непонятен, на тело же наука смотрит преимущественно глазами паталогоанатома. Но все же психология начинает прислушиваться к голосу Блока и к другим голосам Разума. Возможно, психологии поэтическая антропология нужнее, чем какой-либо другой науке, но не в силу ее исключительности, а потому, что по замыслу она должна была стать наукой о душе, а стала — наукой об ее отсутствии. На это еще раньше Блока обратили внимание, например, Ф. А. Ланге и В. О. Ключевский — “наш добрый гений, домашний дух, покровитель русской культуры” (О. Мандельштам). Поэтическая антропология может помочь реализовать первоначальный разумный замысел. То есть может вернуть в психологию живую душу, дополнить так называемый “принцип детерминизма” свободой, естественным хаосом, неопределенностью, преодолеть унылый новояз, оживить язык науки, а тем самым расширить ее сознание. Для иллюстрации попытаемся конспективно сопоставить психологическое и поэтическое представления о памяти. Психология немало знает о памяти, различает ее многочисленные виды: механическая и осмысленная, образная и словесно-логическая, кратковременная и долговременная, оперативная и постоянная, непроизвольная и произвольная и т. д. Психология, конечно, помнит бергсоновскую дихотомию: память материи и память духа. Однако свои основные усилия она направляла не на изучение памяти духа, а на сведение ее к памяти материи. То же происходило с глазом телесным и глазом духовным или оком души, с божественным (не в теологическом смысле) мышлением. Споря в 1920 году с анархическим бунтом М. О. Гершензона против культуры как традиции, как “предания”, Вяч. Иванов назовет память верховной владычицей “культуры” (Аверинцев С. С., 1976, с. 38). Здесь же С. С. Аверинцев приводит интересные психологические особенности памяти, отмеченные Вяч. Ивановым: “Память — начало динамическое; забвение — усталость и перерыв движения, упадок и состояние относительной косности” (там же). Психологии до сего времени неведомо о двоякой памяти Вяч. Иванова — памяти созидающей и разрушающей жизнь. Знаменательно, что это ивановское различие, выраженное в его поэме “Деревья”, понял тоскующий по родине российский философ-эмигрант Ф. Степун. Это “различие между памятью, прохладной усыпальницей наших изъятых из времени и уже вовеки нетленных в своей преображенности переживаний, и тревожащими душу воспоминаниями — привидениями, требующими возвращения в жизнь и тем грозящим ей разрушением” (Степун Ф., 1990, т. 2, с. 404). Он говорит о жившей с ним в эмиграции матери: “Нет, ей вечной, да еще светлой памяти не надо; она хочет воспоминаний живых, горячих, трепетных и даже разрушительных. Разрушения своей души ей бояться не приходится, так как она только тогда и живет, когда умирает от тоски по прошлому” (там же). Такие воспоминания разъедали душу В. Набокова, делали его язвительным, порой несправедливо жестоким, как, например, в “Даре”. У самого Вяч. Иванова слышна пронзительная ностальгия: Густой, пахучий вешний клей Московских смольных тополей Я обоняю в снах разлуки И слышу ласковые звуки Давно умолкших окрест слов, Старинный звон колоколов... Созидающая память представлена в стихотворении А. Белого “Воспоминание”: Мы — ослепленные, пока в душе не вскроем Иных миров знакомое зерно. В моей груди отражено оно. И вот — зажгло знакомым, грозным зноем. И вспыхнула, и осветилась мгла Все вспомнилось — не поднялось вопроса: В какие-то кипящие колеса Душа моя, расплавясь, протекла. Все есть: и душа, и знакомое зерно в ней, и знакомый грозный зной, но надо вскрыть это семя, вспомнить, притом вспомнить все, да так, чтобы не поднялось вопроса. И дать ему вырасти. И тогда: Звени, мой верный стих, витай, воспоминанье. (В. Набоков) А может быть, кое-что есть в душе и простых смертных, но только они не могут вспомнить. Помню, как один из моих учителей — замечательный психолог П. Я. Гальперин, иронизируя над собой, говорил, что самые гениальные идеи ему приходят во сне, но только на утро он никак не может их вспомнить. Не поучиться ли, действительно, у поэтов воспоминанию о том, что мы еще живы и кое-что имеем за душой? Наконец, Вяч. Иванов различал и ценил святую память и воспоминания. Во втором слове слышится “поминание”: Ты, память, муз вскормившая, свята, Тебя зову, но не воспоминанья. Оба вида памяти манифестируют себя в том, что мы в силу языковой ограниченности называем одним словом “воспоминание”, которое, как и память, может быть созидательным и разрушительным, естественно, и утилитарным. Размышления Вяч. Иванова о памяти и их интерпретация — это маленький пример, скорее, указательный жест на то, что можно отнести к поэтической антропологии. Сюда же можно отнести необъясненные, несмотря на обещание, но точные заметки А. А. Ахматовой о забывании. Она писала, что отсутствие — лучшее лекарство от забвения, лучший же способ забыть навек — это видеть ежедневно. Это новое для науки знание о человеке, новое, еще непонятое наукой, не принятое наукой в себя. Это лишь на первый взгляд особое, парадоксальное, а на деле в высшем смысле живое и жизненное знание, полезное не только науке и ученым, но и людям, к науке отношения не имеющим. К сожалению, к этому источнику знания и чувства припадают немногие. Даже Пушкин писал о недостатке внимания читателей к зрелому поэту: “он творит — для себя самого и если изредка еще обнародывает свои произведения, то встречает холодность, невнимание и находит отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он уединенных, затерянных в свете” (Пушкин А. С., т. XI, с. 185). Приведу “вычисления” И. Бродского: “Вообще-то аудитория у поэта всегда в лучшем случае — один процент по отношению ко всему населению. Не более того” (Бродский И., 1992, с. 12). Психология, надеюсь, станет наукой не об отсутствии, а о присутствии духа и души. Именно такой я пытаюсь ее представить (сначала хотя бы представить, а не сделать). Доказательство возможности существования поэтической антропологии силами одного автора невозможно на всем пространстве наук о человеке. Ограничу его науками об образовании человека, в первую очередь психологией. Однако интервенция в другие науки и особенно в философскую антропологию неизбежна. К большому сожалению, мне не удалось остаться равнодушным к идеологии, политике, власти. Здесь я шел за поэтами, которых они задевали за живое, вызывая неизбежно ответную реакцию. Воспользуемся стандартным для науки приемом, когда она начинает определять сферу своих интересов и деятельности с того, чем она — эта сфера — не является. Поэтическая антропология — это не система обучения или педагогика, хотя поэзия содержит в себе огромный потенциал просвещения, обучения, воспитания в их привычном словоупотреблении. Мы плохо представляем себе этот потенциал, но иногда весьма эффективно им пользуемся, а чаще удивляемся, почему этот потенциал не реализуется автоматически. А если он реализуется — не понимаем как и в чем. Поэтическая антропология — это не комментарий к хорошим стихам, хотя он, конечно же, тоже нужен. Язвительный Ю. М. Лотман аргументировал полезность своего комментария к “Евгению Онегину” тем, что современный читатель не знает всех слов, употребляемых А. С. Пушкиным, например, понятия чести. Действительно, трудно без этого понять, что сам Пушкин — “невольник чести”, М. Лермонтов, по словам В. Хлебникова, “любимец чести”, которому небо воздало почести (по-чести): Пушек облаков тяжелый выстрел В горах далече прокатился И отдал честь любимцу чести, Сыну земли с глазами неба. Лотман же говорит о тексте “Евгения Онегина”, как о живом целом, о бесконечном числе реалий, ассоциаций, сцеплений смыслов произведения. Все эти свойства произведения уводят читающего “в глубь строки”. Ю. М. Лотман называет счастливым это выражение специалиста по русскому классицизму А. В. Западова. Проникновение “в глубь строки” вводит читателя в смысловую жизнь текста. А увидев смысл в тексте, мы, может быть, научимся видеть смысл в жизни или, вспомнив, как это делалось раньше, поймем северянинское: Поэма жизни — не поэма, Поэма жизни — жизнь сама. Мне остается попросить извинения у читателей за то, что я слишком часто вырываю стихотворные строчки из контекста. Оправдываться в этом, пожалуй, не стоит, так как и здесь я следую за поэтами, которые вырывают реальные события из их жизненного контекста, порой преображая их до неузнаваемости, или, что то же самое, поднимая их на уровень искусства. Я же, напротив, опускаю поэтические события до уровня науки: так сказать in vitro — в научно-исследовательскую пробирку. Поэты, вырывая события из контекста, подчиняются Музе, ученые — Логике. Когда Муза изменяет поэтам, получаются плохие стихи. Когда Логика изменяет ученым, возможны открытия. Наука ведь по своей природе абсурдна. Она имеет право на любую гипотезу. Ей нужны “иррациональные числа”, “чистые культуры”, “сверхнизкие температуры”, “сверхпроводимость”, “башни молчания”, “абсолютная сенсорная изоляция”, “tabula rasa”, “слепоглухие обязательно от рождения”. Словом, ей нужно все то, что в реальной жизни не встречается или недоказуемо. Уверен, что науке не меньше нужна идеальная правда духа, за которой она не так часто обращается к мифологии, к искусству, в том числе к поэзии. Признаюсь, что мне самому трудно было вырывать поэтические “цитаты” из контекста и трудно останавливаться в цитировании, так как ... может быть поэзия сама — Одна великолепная цитата. (А. Ахматова) Видимо, это так и есть. Поэтический текст — это не просто событие, это со-бытие. Р.-М. Рильке сказал еще более решительно: “Песнь — бытие”. Не только собственное бытие песни, а Бытие: Проходит век. Живу ему под стать, И слышен ветер в книге Бытия. Бог пишет эту книгу, ты и я, Чтобы чужим рукам ее листать. Поблескивают новые страницы. Возникнуть все способно тут. Стихии, постигая их границы, Друг друга смутно узнают. (Р.М. Рильке) Бытие в поэзии, бытие “всего человека”, бытие его чувства, фантазии, мысли, языка, его рождение, развитие, деградация, смерть, возрождение... заслуживают внимания науки. Возможно, это и есть предмет поэтической антропологии, которая несомненно откроет и впишет “новые страницы” в гуманитарное знание. Приведу пример постановки и варианта решения И. В. Гете Фундаментальной проблемы начала или исходной единицы анализа психики — “неразвитого начала развитого целого”: Написано: “Вначале было Слово”. И вот уже одно препятствие готово: Я слово не могу так высоко ценить. Да, в переводе текст я должен изменить, Когда мне верно чувство подсказало. Я напишу, что Мысль всему начало. Стой, не спеши, чтоб первая строка От истины была недалека. Ведь мысль творить и действовать не может! Не Сила ли начало всех начал? Пишу, — и вновь я колебаться стал, И вновь сомненье душу мне тревожит, Но свет блеснул, — и выход вижу я: В Деянии начало бытия. Мимо этой проблемы не прошло ни одно уважающее себя направление психологии. В качестве вариантов использовались и те, которые рассматривал Гете, и ассоциация, гештальт, реакция, рефлекс, установка, переживание и т. д. (см. Зинченко В. П., Смирнов С. Д., 1983). Сейчас психология все ближе и основательнее приближается к решению, предложенному Гете. Нижеследующие примеры относятся к удивительному потенциалу человеческого развития и дерзости Человека развивающегося: Мальчишка-океан встает из речки пресной И чашками воды швыряет в облака. (О. Мандельштам) И там, где сцепились бирюльки, Ребенок молчанье хранит, Большая вселенная в люльке У маленькой вечности спит. (О. Мандельштам) Ребенок — непризнанный гений Средь буднично серых людей. (М. Волошин) Поэтическая антропология — это не наука, во всяком случае пока. Это камертон, настраивающий жизнь на смысл, конечно, в том числе и науку, и все виды антропологии, но лишь в той мере, в какой они сами жизненны и чувствительны к смыслу. Она могла бы оплодотворить высокой культурой и смыслом вес другие виды антропологии. Вообще-то язык науки — это язык прежде всего значений, а не смыслов, хотя в своем жизненном процессе наука также имеет дело со смыслами. В ней имеются замыслы, помыслы, нередки — умыслы. Но все же смыслы в ней вторичны, они порождаются не бытием, а прежде всего значениями. Далеко не прост путь ученого от смысла к значению. Труден, а часто невозможен для непосвященного путь от научного значения к смыслу. Эти трудности естественны и служат поводом для шуток и даже издевательства над наукой и учеными. Это полбеды. Наука к этому привыкла, да и повод сама даст. Беда начинается тогда, когда государственно-чиновничий аппарат десятилетиями измывается над наукой и учеными. Профанам не приходит в голову, что в искусстве, в науке, в религии встречаются непрофанные слова. Сейчас можно было бы с улыбкой вспоминать несовместимые требования к науке. С одной стороны, нужно быть диалектико-материалистическими монистами: “шаг влево, шаг вправо считается побег”. С другой, — нужно было бежать во все стороны в поисках точки приложения своих усилий, ибо внедрение в практику было непременным требованием к любой науке. В отличие от этого, требования к практике относительно внедрения научных достижений всегда были весьма облегченными. Но, посмотрим, к чему приведет смена наукой монистического, а по сути монотеистического взгляда на все шире распространяющийся монетаристский? Думается, что и в этом последнем случае поэзия может послужить, как минимум, не худшим “критерием истины”, чем практика: Все ясно только в мире слова Вся в слове истина дана Все остальное — бред земного, Бесследно тающего сна. (Ф. Сологуб) Поэты тоже не обошли своим ласковым вниманием философию и науку. Приведу пример. В стихотворении “Мой друг” А. Белый описывает прогулку с философом-неокантианцем Б. А. Фохтом по Новодевичьему монастырю: Уж с год таскается за мной Повсюду марбургский философ. Мой ум он топит в мгле ночной Метафизических вопросов ... “Жизнь, — шепчет он, остановясь Средь зеленеющих могилок, — Метафизическая связь Трансцендентальных предпосылок. Рассеется она как дым: Она не жизнь, а тень суждений... Нельзя сказать, что собственные философические построения и упражнения А. Белого понятней, чем у неокантианцев, поэтому “Мой друг” в какой-то мере и автопортрет. Бывало, что поэты вступались в защиту науки. Напомню замечательную “Балладу о дарвинизме”, где А. К. Толстой защищал дарвинизм от цензора и цензуры, которая, по всей вероятности, в России родилась до письменности и, видимо, позже умрет. Проблема означения смыслов и осмысления значений — это, конечно, общая проблема для искусства и науки. В науке, как и в искусстве, она, порой, приобретает багровые тона. Трагизм науки, по словам А. А. Ухтомского, состоит в том, “...что подлинный в своей показательности критерий истины приходит слишком поздно, когда мы чувствуем уже на своей коже, в самый последний момент, ошибочность первоначального пути: то, что мы издали принимали за плачущего ребенка, оказывается вблизи тоскующим крокодилом. Тот путь, на котором мы строили свои проекты и предвидения, так часто оказывается в конце не таким, каким мы его предполагали. Если мы вспомним, что у более сильных из нас глубина хронотопа может быть чрезвычайно обширной, районы проектирования во времени чрезвычайно длинными, то вы поймете, как велики могут быть именно у большого человека ошибки” (Ухтомский А. А., 1978, с. 88). Чтобы понимать это, нужно было быть Ухтомским. Мало кому из ученых дано понимание того, что “у нас нет решительно никаких оснований к тому, чтобы думать, что реальность и истина станут когда-нибудь подушкою для успокоения” (там же). Об этом же не менее определенно, но много короче сказал В. Хлебников: Это на око Ночная гроза, Это наука Легла на глаза. За миром научных значений, конечно, лежит не только эксперимент, но и жизнь. Однако путь от значений к жизни часто сложен и запутан не только для внешнего наблюдателя. Б. Г. Мещеряков и И. А. Мещерякова, говоря о множестве наук, изучающих человека, подчеркивают, “что ныне мы должны поражаться не столько сложностью человека, сколько сложностью наработанного знания о нем” (Мещеряков Б. Г., Мещерякова И. А., 1994, с. 34). Это крик души авторов книги о человекознании, которые по крупицам собирают смысл в сонме наук о нем. И дело даже не в скудости или малости смысла, что, безусловно, для классической науки характерно. Верно и то, что смыслы (переживания) с трудом находят себя в значениях, противоречат друг другу, что естественно, а часто и не узнают друг друга, не резонируют и не откликаются друг другу, что хуже. В результате и человек не узнает себя в науках о человеке. Смыслы упорно сопротивляются концептуализации, научному познанию, но порой робко склоняются перед поэтами, даже перед теми, которые о себе говорили: “Я без тенденций и без особой глубины”: Я — соловей, и, кроме песен, Нет пользы от меня иной. Я так бессмысленно чудесен, Что Смысл склонился предо мной. (И. Северянин) Вглядываться в глубь строки надо потому, что смысл нелегко извлечь из поэтического текста. Это негромкая серьезная эмоционально окрашенная работа, способствующая расширению сознания и повзрослению. Хотелось бы надеяться, что такая работа препятствует старению. Но она трудна: Мои слова печальны, знаю, Но смысла вам их не понять. Я их от сердца отрываю, Чтоб муки с ними оторвать. (М. Лермонтов) Конечно, на читателя действует и этот тревожно непонятный смысл. Поэтическая антропология — это школа не знания (в привычном для философии и науки его понимании), а школа смыслов, содержащихся в “действенном поле поэтической материи” (О. Мандельштам). Такое понимание поэтической антропологии не противоречит тому, что, как нас учили в школе, “Евгений Онегин” — это энциклопедия русской жизни. Правда, если в энциклопедию советской жизни не попадут следующие строчки Б. Пастернака, боюсь, что она (жизнь) будет непонятна потомкам: О жизнь, нам имя вырожденье, Тебе и смыслу вопреки. Смыслы укоренены в бытии, если оно есть. Если его нет, квазисмыслы продуцируются идеологией, к которой настоящая поэзия относится с презрением. Если бытия нет, когда “уровень бреда выше уровня жизни” (М. Цветаева), поэзия порождает его, а вместе с ним и бытийственные смыслы. Бытие поэзии — это и есть “поэтическая материя”, “звучащая и говорящая плоть слова” (О. Мандельштам), “звуко-вещество” слова, представляющего собой “значащую материю” (В. Хлебников). Это точнее, чем общепринятое: “язык — материя сознания”, когда упускается из виду, что слово, как и человеческое действие, это начало и материя как бытия, так и сознания. Может быть, даже точнее будет сказать, что слово — это материя поэтического события, не совпадающего или отделившегося от события изображаемого: “Потому что, когда поэт пишет, то это для него — не меньшее происшествие, чем событие, которое он описывает“ (Бродский И., 1992, с. 32). Автор говорит это, комментируя “Реквием” А. Ахматовой, в котором он видит раскол не сознания, но совести. Раскол на страдающего и пишущего, когда А. Ахматова описывает положение поэта, который на все, что с ним происходит, смотрит как бы со стороны: Уже безумие крылом Души закрыло половину, И поит огненным вином И манит в черную долину. И поняла я, что ему Должна я уступить победу, Прислушиваясь к своему Уже как бы чужому бреду. Раздваивается не только событие, раздваивается душа и личность поэта. Происходит отстранение от трагической жизненной ситуации, трагического события, а событие поэтическое начинает подчиняться требованиям музы, языка: Ты Музами, поэт, наставлен и привык Их мере подчинять свой голос своенравный. Зане ты сердце сжег и дал богам язык... (Вяч. Иванов) Поэтическое событие, вырываясь из реального жизненного контекста, нередко перестает быть похоже на так называемую “жизненную правду”, конечно, вовсе не обязательно для того, чтобы стать еще большей правдой. Но вырываясь из контекста, оно тем самым вырывается и из времени: “Пока не найдешь действительной связи между временным и вневременным, до тех пор не станешь писателем и не только понятным, но и кому-либо и на что-либо кроме баловства нужным” (Блок А., 1963, с. 162). А. Ахматова говорит об этот проще: По мне, в стихах все быть должно некстати, Не так, как у людей. Трагизм поэта, вырвавшегося из времени, состоит в том, что одновременно с этим его произведение, выражаясь бахтинским языком, есть “поступающее мышление”, есть “не-алиби в бытии”. А казалось бы, так просто, если знаешь, как А. Ахматова и И. Бродский, все рифмы русского языка. Но ведь надо “выпасть” и “впасть” в иное: В строфах — рифмы, в рифмах — мысли Созидают новый свет... Над душой твоей повисли Новые миры, поэт. Все лишь символ... Кто ты? Где ты? Мир — Россия — Петербург — Солнце — дальние планеты... Кто ты? где ты, Демиург?.. (А. Белый) В поэзии путь к смыслу не такой легкий, как выразился “гений Игорь Северянин”. Он и сам это понимал, чувствовал и замечательно выражал: Величье мира — в самом малом. Величье песни — в простоте. Душа того не понимала, Нераспятая на кресте. Распятие — это и есть возрождение или второе рождение души, после чего она открывается смыслу и простоте. Это трудная работа. И поэты, порой стенают: Господи! Ты видишь, я устала Воскресать, и умирать, и жить... (А. Ахматова) В. Хлебников использовал “трудную форму” с ее непредсказуемостью и изменением функции стихотворного слова для того, чтобы вернуть поэтическому языку информативность. У Б. Пастернака форма тоже не из самых легких для читателя. И поэту смысл нелегко дастся. Он так пишет о своих поступках: Их тьма, им нет числа и сметы, Их смысл досель еще не полн... Поэт в конечном счете не сомневается в доступности смысла. Его опасения связаны с другим: В родстве со всем, что есть, уверяясь И знаясь с будущим в быту, Нельзя не впасть к концу, как в ересь, В неслыханную простоту. Но мы пощажены не будем, Когда ее не утаим, Она всего нужнее людям, Но сложное понятней им. Опасения не безосновательны. Им вторит О. Мандельштам в “Стихах памяти Андрея Белого”: Часто пишется казнь, а читается правильно — песнь, Может быть простота — уязвимая смертью болезнь? Эти строчки имеют отношение не только к А. Белому, а и к страшной судьбе слишком многих поэтов России, “веком гонимых взашей”: Темен жребий русского поэта: Неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот. Может быть такой же жребий выну, Горькая детоубийца — Русь! (М. Волошин) В том же 1922 г. В. Хлебников недоумевает: Зачем отечество стало людоедом, А родина его женой? “Властители” родины с одинаковой злобностью относились как к простому и понятному, так и к непонятному, порой невнятному и запутанному смыслу, выражаемому властителями дум. По-видимому, действительно нестерпимо чувствовать себя голым под понимающим взором поэта. Однако “властителей” почему-то не жаль. Нужно сказать, что и поэты не жаловали власти, мечтали о разрушении самовластья, кое-что делали для этого. Иногда оно действительно “падало”, но “на обломках самовластья” почему-то писались не имена поэтов, а новых властителей, которым поэты не имели склонности подчиняться: Какое б ни было правительство И что б ни говорил закон, Твое мы ведаем властительство, О светозарный Аполлон! (Ф. Сологуб) Первый Председатель Земного шара и инициатор создания союза Председателей Земного Шара (1917) В. Хлебников, увидев воочию нуворишей — “председателей земного шара шайку” (1922), воскликнул: “Нет, никогда не буду Правителем!”. О. Мандельштам просто, мимоходом обронил фразу: “Власть отвратительна, как руки брадобрея”. Он дал удивительно точный образ “предводителя шайки”, который к тому времени по трупам своих подельников вскарабкался на недосягаемую высоту. Трудно сказать, нужно ли было поэту проникать “во все глубины” этой нечеловеческой души. Он ее овнешнил, явил во внешнем телесном облике и “поведении” ее внутренние движения. Он десакрализировал образ, созданный к тому времени искусством социалистического реализма, обрисовал Сталина, хотя и ярко, но вполне обыденно, показав его омерзительное тело, подлую душу и созданный им антимир. И. Бродский говорил, что стихотворение О. Мандельштама о Сталине гениально: “Быть может эта ода Иосифу Виссарионовичу — самые потрясающие стихи, которые Мандельштамом написаны. Я думаю, что Сталин сообразил, в чем дело. Сталин вдруг сообразил, что это не Мандельштам — его тезка, а он, Сталин — тезка Мандельштама” (Бродский И., 1992, с. 39). Гипотеза И. Бродского о том, что Сталин понял, кто чей современник и почувствовал, что кто-то подошел к нему слишком близко, конечно, интересна, она воспринимается как комплимент “диктатору-выродку”. О. Мандельштам еще в 1923 г. как будто предвидел эту гипотезу Иосифа Бродского и, видимо, на всякий случай написал: Никакой другой Иосиф не есть Осип Мандельштам... У самого О. Мандельштама не было идеи стать Председателем или Правителем, как у В. Хлебникова, но цену он себе знал, знал и то, что уж улица Мандельштама будет наверняка. Она в самом деле появилась в Воронеже. Прелестно и легко о своем отношении к “властвованию” писал “избранный королем поэтов” И. Северянин: На что мне царства и порфиры? На что мне та иль эта роль? За струнной изгородью лиры — Наикорольнейший король! Не буду развивать бесконечный и классический для русской поэзии сюжет “Художник и власть”. Не стоит она того: “Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийств, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними — это легкое имя: Пушкин” (А. Блок). Со времени, когда были сказаны эти слова, к блоковскому перечню добавились кухарки, управляющие государством, добавился и “суд судомоек” (В. Хлебников)... К счастью, Пушкин не остался одинок. Даже О. Мандельштам сказал: “в темнице мира я не одинок”. И все же приведу последний, а точнее, первый пример, когда российский поэт “сделал впервые отказ от государственной службы предметом поэтизации” (Лотман Ю. М., 1983, с. 51): ... в войне добра не видя, В чиновных горницах чины возненавидя, Вложил свой меч в ножны (“Россия, — торжествуй, — Сказал я, — без меня”)... (Н. М. Карамзин) Потом от слишком многих Россия отказывалась сама.
2.2. “Посох мой, моя свобода” (О. Мандельштам) Философы раньше и лучше психологов поняли назначение и сущность человека. Не буду вдаваться в историю их размышлений. Приведу взгляд на человека моего современника и друга М. К. Мамардашвили: "... человек всегда находится в стадии становления, и всякая история должна быть определена как история его усилия стать человеком. Человек не существует — он становится... Фундаментальная страсть человека — дать родиться тому, что находится в зародышевом состоянии, осуществиться. Вам хорошо известно, насколько это трудно. Чаще всего история — это кладбище несостоявшихся рождений, неосуществленных надежд и стремлений к свободе, любви, мысли, чести, достоинству. Опыт подобного “нерождения” я пережил сам, и пережил его глубоко, это мой личный опыт. Но благодаря ему, повторяю, я и понял, что страсть человека в том, чтобы осуществиться... человек — это весьма и весьма напряженное усилие, длительный труд” (Мамардашвили М. К., 1991). Как заметил А. М. Пятигорский, фокусом философии “Практического Разума” М. К. Мамардашвили, одним из основных ее моментов было осознание человеком себя в истории. Такое представление о человеке Л. С. Выготский мог бы отнести к вершинной психологии, которую он противопоставлял (возможно, напрасно) глубинной психологии. Такие люди, как М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорский, — это явный промах, “недосмотр” нашей системы народного образования и коммунистического воспитания, которая, к счастью, и человека-винтика, несмотря на все свои старания, толком сформировать не смогла, хотя и использовала специфический “лагерно-колонистский” опыт А. С. Макаренко. Если М. К. Мамардашвили все с собой сделал сам, самолично, то, может быть, в принципе не нужны усилия в области психологии развития, а необходима ориентация на саморазвитие человека, на его собственные усилия. Не будем отвергать эту мысль с порога, но и не будем упрощать дело ссылками на педагогику сотрудничества, на опыт педагогов-новаторов, которые эту проблему якобы уже решили. Конечно, их опыт — это шаг вперед по сравнению с бездумной и расхожей формулой “личность — продукт коллектива”. Она, как минимум, нуждается в дополнениях: “личность — основа коллектива”; “без личности нет коллектива”, “личность — субъект и создатель коллектива”. Но наша педагогика, а вслед за ней и психология не прислушались в свое время к предупреждению О. Мандельштама, сделанного в 1920 г.: “Организовывая общество, поднимая его из хаоса до стройности органического бытия, мы склонны забывать, что личность должна быть организована прежде всего. Аморфный, бесформенный человек, неорганизованная личность есть величайший враг общества. В сущности наше воспитание, как его понимает наше молодое государство в лице Народного комиссариата по просвещению, есть организация личности. Социальное воспитание подготовляет синтез человека и общества в коллективе. Коллектива еще нет. Он должен родиться. Коллективизм возник раньше коллектива. И если социальное воспитание не придет к нему на помощь, нам угрожает опасность остаться с коллективизмом без коллектива” (Мандельштам О. Э., 1969, с. 123). К сожалению, эта опасность превратилась практически в явь на всех уровнях нашего общества. Разумеется, необходимо осмыслить положительный и отрицательный опыт социального воспитания, накопленный в нашей стране, полезно освободиться от целого ряда социальных мифов, от утилитарно-прогрессистских представлений о человеке и обществе. Справедливости ради нужно сказать, что мы перестаем именовать человека фактором, утихли разговоры о новом человеке. Но былые штампы и клише мешают доверить самому человеку сделать выбор своей судьбы, самому определять свое лицо и, разумеется, самому нести ответственность за сделанный выбор. Происхождение убеждения в поступательности, линейности процесса развития вполне объяснимо. Имеются как неспецифические, так и специфические истоки этого убеждения. О первых хорошо пишет О. Мандельштам: “Прообразом исторического события — в природе служит гроза. Прообразом же отсутствия событий можно считать движение часовой стрелки по циферблату. Было пять минут шестого, стало двадцать минут. Схема изменения как будто есть, на самом деле ничего не произошло. Как история родилась, так может она и умереть; и действительно, что такое, как не умирание истории, при котором улетучивается дух события, прогресс, детище девятнадцатого века. Прогресс — это движение часовой стрелки, и при всей своей бессодержательности это общее место представляет огромную опасность для самого существования истории” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 375). О. Мандельштам также пишет, что история — это священная связь и смена событий. Наука о развитии предпочла вместо незапланированных грозовых событий ввести в развитие регулярные возрастные кризисы и направить свои усилия на поиск путей их преодоления. Представления о прогрессивном управляемом, регулируемом развитии перекочевали в психологию, которая, руководствуясь “безличным идолом прогресса” (выражение С. Н. Булгакова), стала пренебрегать духовным и личностным развитием человека, сконцентрировав свои усилия на его функциональном развитии. Само собой разумеется, что вне духовного развития стало ущербным и функциональное: “Талантов много — духа нет”, — точно охарактеризовал ситуацию Б. Пастернак. Не хватает духа для выбора, риска, поступка... Специфические истоки убеждения в поступательности процесса развития связаны с идеологией, опиравшейся на известную формулу К. Маркса: сущность человека — это совокупность (ансамбль) всех общественных отношений. С ней связаны утопические или демагогические призывы к всестороннему и одновременно гармоническому развитию личности, конечно, с помощью коллектива (или “другого”), вкладывающего в личность все свои “общественные” отношения, хотя коллектив некоторые из них мог бы без ущерба для личности, а возможно, и с пользой для нее оставить при себе. В этой характеристике сущности человека нет места для собственно человеческой самости, о которой К. Маркс пишет в другом месте и без которой нельзя понять, откуда берутся источники и движущие силы для саморазвития, точнее, “самосозданья” (термин Аполлона Григорьева), обеспечивающие самостояние человека. Именно эта марксова формула стала главной не только для идеологов, но и для серьезных ученых. Дело даже не в том, что за бортом оставались другие “факторы” развития человека. Сами общественные отношения толковались превратно. Игнорировалось другое положение Маркса о том, что человек “только в обществе может обособляться” (Маркс К., Энгельс Ф., т. 12, с. 710). Заметим, обособляться, а не подстраиваться, подравниваться. А далее и вовсе интересно, где сущность человека трактуется с точностью до наоборот по сравнению с приведенной выше формулой: “Так как истинной общественной связью людей является их человеческая сущность, то люди в процессе деятельностного осуществления своей сущности творят, производят общественную связь, общественную сущность, которая не есть некая абстрактно всеобщая сила, противостоящая индивиду, а является сущностью каждого отдельного индивида (его собственной деятельностью, его собственной жизнью, его собственным наслаждением, его собственным богатством)” (Маркс К., 1966, с. 119). Другими словами, если ты обездолен, лишен своей человеческой сущности, в том числе перечисленных и не перечисленных форм собственности и богатства, тебе незачем, да и не с чем идти в общество, ты не поможешь произвести общественную связь, общественную сущность. Тебе не с чем будет обособляться. Ты сможешь лишь экспроприировать чужое богатство, как минимум, предлагать поделить его поровну и разрушать общественную сущность, сложившуюся до тебя, предлагать начинать историю общественных отношений с себя. Эти выписки приведены не для того, чтобы со ссылкой на несколько, правда, пошатнувшийся авторитет К. Маркса сказать, что люди действительно обладают своей человеческой сущностью, хотя это нашими идеологами всегда воспринималось с сомнением. Здесь важна мысль, что эта сущность лишь реализовывалась, осуществлялась в деятельности, существуя до нее. В деятельности творилась общественная, а не индивидуальная сущность. Мы же упростили свою исследовательскую задачу, не затрудняя себя превращением “вещи в себе” в “вещь для нас” и не отрицая ее существования. Мы просто видимость человека выдавали за его сущность. Это тем легче было сделать, что наша собственная общественная сущность представляла собой не некую, а вполне определенную, часто персонифицированную, т. е. не абстрактную, а (да простит меня К. Маркс) конкретно-всеобщую силу, не противостоящую индивиду, а стоящую над ним. В этих условиях индивид и был всегда и во всем виноват. Ему за любые попытки обособиться в обществе, вспомнить о своей человеческой сущности, не говоря уже о человеческом достоинстве, вменялось “противопоставление (отрыв) себя коллективу” (ср. “оторвался от коллектива”), а то и всему обществу. В результате наш человек, воспитанный нашим коллективом, лишался этим же коллективом своей человеческой сущности и всех видов собственности, перечисленных Марксом. Напомню бытовавший у нас в 20—30-е гг. термин “лишенец”. О. Мандельштам в 1919 г. в статье “Утро акмеизма” с доброй завистью вспомнил: “Средневековье, определяя по-своему удельный вес человека, чувствовало и признавало его за каждым, совершенно независимо от его заслуг. Титул мэтра применялся охотно и без колебаний. Самый скромный ремесленник, самый последний клерк владел тайной солидной важности, благочестивого достоинства, столь характерного для этой эпохи. Да, Европа прошла сквозь лабиринт ажурно-тонкой культуры, когда абстрактное бытие, ничем не прикрашенное личное существование ценилось как подвиг. Отсюда аристократическая интимность, связующая всех людей, столь чуждая по духу “равенству и братству” Великой Революции. Нет равенства, нет соперничества, есть сообщество сущих в заговоре против пустоты и небытия. Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя — вот высшая заповедь акмеизма” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 144). Что же такое эта таинственная человеческая сущность? Может быть, это точка безумия, Может быть, это совесть твоя: Узел жизни, в котором мы узнаны И развязаны для бытия. Где ее искать? В организме, в природе, в культуре? Можно и в организме, но тогда придется расширить понятие организма: “Своеобразие человека, то, что делает его особью, подразумевается нами и входит в гораздо более значительное понятие организма” (там же, с. 143). И далее О. Мандельштам пишет, что в XIII в. готический собор казался логическим развитием понятия организма. Потом об этом же говорилось в терминах “второй природы” человека, органопроекции и т. д. По существу в этих терминах речь идет об обратимости внешнего и внутреннего, телесного и духовного. Духовное “имеет протяженность, объем, уходящий куда-то в глубины и широты. Это своего рода коллективное “тело” истории и человека, предлагающее нам определенную среду из утвари и инструментов души и являющееся антропогенным пространством, целой сферой. Это среда усилия. Для этого, чтобы что-то создать, — любое, в том числе и в сфере духа, — нужна работа, а работа выполняется мускулами. Можно, если угодно, говорить о мускулах души, ума, гражданственности, историчности и т. д. Поэтому в человеческой и исторической реальности внешнее и есть внутреннее, а внутреннее и есть внешнее” (Мамардашвили М. К., 1990, с. 184, 185). Обращу внимание на слово утварь, использованное М. К. Мамардашвили. Оно здесь не случайно. О. Мандельштам писал, что над нами варварское небо, и все-таки мы эллины. “Эллинизм, — согласно О. Мандельштаму, — это сознательное окружение человека утварью вместо безразличных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечение окружающего мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом ... В эллинистическом понимании символ есть утварь, а потому всякий предмет, втянутый в священный крут человека, может стать утварью, а следовательно и символом” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 182). И наконец, там же: “эллинизм — это тепло очага, ощущаемое как священное, всякая собственность, приобщающая часть внешнего мира к человеку”. Утварь — это действительно живое (тварь), одушевленное, сделанное и “обыгранное” человеком, его собственное и неотъемлемое. Лишение человека этого собственного не проходит бесследно, разрушает в человеке человеческое. Следовательно, границы между внешним и внутренним в человеке действительно весьма условны и относительны. От сближения утвари и символа, которое мы находим у О. Мандельштама, один шаг к сакральному символу о. Павла Флоренского, который соединяет в себе вещь и идею (крест, лавровый венок и т. п.), и не только соединяет, но и служит опосредствующим звеном между ними. Так что потенциально человеческий организм может быть расширен до космоса: человек действительно способен “Взять в руки целый мир, как яблоко простое”. Такое возможно потому, что оно дано с самого начала: Большая вселенная в люльке У маленькой вечности спит. Не отсюда ли мандельштамовский “пространства внутренний избыток”, который ищет, как себя реализовать в реальном пространстве и времени, создавая для этого особое функциональное пространство и историческое время? О. Мандельштам (1990, с. 376) даже персонифицировал подобное расширение, написав о Б. Пастернаке: “Набрал в рот вселенную и молчит. Всегда-всегда молчит. Аж страшно. Набравши море в рот,Да прыскает вселенной”. Как все это участвует в становлении человека? Что это за страсть — дать родиться зародышу, о которой писал М. К. Мамардашвили? Откуда она берется и как появляется зародыш? Возникает ли страсть после переживания “нерождения”, или она может возникнуть и без такого переживания? Переживание “нерождения”, видимо, порождает мысль о смысле жизни, бытия. Для возникновения такой мысли должна существовать почва. Ее можно назвать по-разному: самость, человеческая сущность, зародыш, узел жизни и т. д. Я недостаточно наивен, чтобы думать, а тем более искать единую для всех людей человеческую сущность, своего рода “философский камень”. В том-то и дело, что каждый человек обладает собственной самостью, что и создает неповторимость его развития, которая, конечно, может многократно усиливаться или гаситься природным, национальным, культурно-историческим пейзажем, на фоне которого такое развитие происходит. Заметим, что независимо от фона самость не всегда положительна, не всегда плюс. А. А. Ухтомский, отчетливо переживавший свое второе, духовное рождение, когда, как ему казалось, наступало и устрашало духовное неплодие винил в этом не обстановку, не внешний шум и говор, “а нечто во мне самом, в интимной личности моей. И это в интимной личности есть самость” (Ухтомский А. А., 1996, с. 40, 41). Он был склонен идентифицировать самость с самонадеянностью, гордыней, с духом Антихриста. Но меня сейчас больше интересует, так сказать, не качество самости или ее знак, а ее наличие. Личный опыт выдающихся мыслителей, конечно, интересен, и я к нему еще буду возвращаться, но возникает вопрос: а можно ли этому опыту найти место в логике психологии развития? Должен признаться, что мне неизвестна такая теория развития, которая бы могла уместить такой опыт, хотя мне кажется, что многое необходимое (но, скорее всего, недостаточное) для построения такой теории развития в психологии имеется. Это не значит, что я предложу готовую теорию. Моя задача скромнее. Я хочу на основании опыта психологии развития, накопленного, прежде всего, в школе Л. С. Выготского, предложить гипотезу о возможном пути построения теории развития человека. На эту гипотезу натолкнула меня метафора, использованная О. Мандельштамом в “Разговоре о Данте” для пояснения того, как он понимает развитие и саморазвитие образа в “Божественной комедии”. О. Мандельштам предлагает читателю, вместо того чтобы пересказать так называемое содержание, взглянуть на разбираемое им звено дантовского труда как на непрерывное превращение деятельного поля материально-поэтического субстрата, сохраняющего свое единство и стремящегося проникнуть внутрь себя самого. Смутное чувство подсказывало мне, что, образ, используемый Мандельштамом, имеет отношение и к развитию человека, который в этом развитии не только сохраняет свое единство, но, если он — человек, стремится проникнуть внутрь себя самого, узнать себя, свою сущность, свое Я, развязать свои силы для бытия. Теперь метафора: “Образное мышление у Данта, так же как во всякой истинной поэзии, осуществляется при помощи свойства поэтической материи (я читаю — психологической реальности. — В. З.), которое я предлагаю назвать обращаемостью или обратимостью (ср. с терминологией Ж. Пиаже. — В. З.). Развитие образа только можно назвать развитием. И в самом деле, представьте себе самолет, — отвлекаясь от технической невозможности, — который на полном ходу конструирует и спускает другую машину. Эта летательная машина так же точно, будучи поглощена собственным ходом, все же успевает собрать и выпустить еще третью. Для точности моего наводящего и вспомогательного сравнения я прибавлю, что сборка и спуск этих выбрасываемых во время полета технически немыслимых новых машин является не добавочной и посторонней функцией летящего аэроплана, но составляет необходимейшую принадлежность и часть самого полета и обусловливает его возможность не в меньшей степени, чем исправность руля или бесперебойность мотора. Разумеется, только с большой натяжкой можно назвать развитием эту серию снарядов, конструирующихся на ходу и выпархивающих один из другого во имя сохранения цельности самого движения” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 229, 230). Далее О. Мандельштам на материале семнадцатой песни “Inferno” приводит примеры обратимости поэтической материи в только что упомянутом смысле. И заканчивает: “Не довольствуясь этой воистину чудесной демонстрацией обратимости поэтической материи, оставляющей далеко позади все ассоциативные ходы новейшей европейской поэзии, Дант, как бы в насмешку над недогадливым читателем, уже после того как все разгружено, все выдохнуто, отдано, спускает на землю Гериона и благосклонно снаряжает его в новое странствие, как бородку стрелы, спущенной с тетивы” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 230). Прежде чем перейти к интерпретации этого замечательного образа, хочу обратить внимание читателя, что образ полета для О. Мандельштама не случаен: Будет и мой черед — Чую размах крыла. Так — но куда уйдет Мысли живой стрела? Эти строки были написаны на взлете его поэтического дара (1912). В конце своей трагической биографии (1937) он “заглядывая внутрь себя самого”, осознавая ее, также использовал образ полета: Научи меня, ласточка хилая, Разучившаяся летать, Как мне с этой воздушной могилою Без руля и крыла совладать. Мало того, что эта ракета — многоступенчатая, что ступени конструируются не на земле, а на ходу, в полете. Она еще и многоразового пользования. Б. Пастернак назвал метафору “скорописью духа”. Наше дело такие скорописи расшифровывать, тем более, что метафора имеет самое прямое отношение к жизни: “Искусство реалистично как факт. Оно реалистично тем, что не само выдумало метафору, а нашло ее в жизни и свято воспроизвело” (Пастернак Б. Л., 1985, с. 174). Известный американский ученый в области психологии развития М. Коул, которого я познакомил с этой метафорой О. Мандельштама, обратил мое внимание на то, что я несколько лет тому назад использовал другой образ этого же автора. Приведу его полностью: “Чисто рационалистическая, машинная, электромеханическая, радиоактивная и вообще технологическая поэзия невозможна по одной причине, которая должна быть близка и поэту, и механику: рационалистическая, машинная поэзия не накапливает энергию, не дает ее приращения, как естественная иррациональная поэзия, а только тратит, только расходует ее. Разряд равен заводу. Сколько заверчено, настолько и раскручивается. Пружина не может отдать больше, чем ей об этом заранее известно. Вот почему рационалистическая поэзия Асеева не рациональна, бесплодна и беспола. Машина живет глубокой и одухотворенной жизнью, но семени от машины не существует” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 277). М. Коул поставил вопрос, насколько правомерно использовать “машинную” метафору в контексте психологии развития, тем более, что сам О. Мандельштам резонно замечает, что семени от машины не существует. Конечно, на этот вопрос можно было бы ответить, что вся современная психология переполнена компьютерными метафорами, кстати, менее интересными, чем метафора О. Мандельштама. Скорописи в них, конечно, достаточно, даже с избытком, а вот духа явно недостает. В метафоре Мандельштама присутствуют и скорость, и дух. Во втором случае О. Мандельштам (возможно, несправедливо) называет машинной поэзией поэзию живого поэта — своего современника. В первом случае он использует машинную метафору для характеристики живой поэтической материи, правда, имея в виду процесс творчества гения, породившего эту живую материю. В этом разница. Есть поэты, рождающие живую и рождающие мертвую материю. В последнем случае она едва ли заслуживает названия по-этической. Эта замечательная лингвистическая находка принадлежит К. А. Кедрову. О. Мандельштам говорит: мы облагообразили Данта по типу мертвой науки, в то время как его теология была сосудом динамики. Я использую эту живую метафору О. Мандельштама в контексте психологии развития человека, отчетливо сознавая, что никакая метафора, а особенно машинная, не может быть самодостаточной. Но вся прелесть метафоры О. Мандельштама состоит в том, что она сама развивается и стремится к тому, чтобы стать живым организмом, человеком, личностью. Я попытаюсь помочь ей в этом. Действительно ли есть сходство между действенным полем поэтической материи, где возможно приращение психической или, точнее, духовной энергии, и действенным полем, на котором разыгрываются психологические реалии? Имеется специальное исследование, посвященное структурному изоморфизму природы и поэзии у Мандельштама (Левин Ю., 1972, с. 187—190). Я претендую на меньшее. Мне хотелось бы найти основания, которые бы убедили меня самого и читателя в сходстве (а не структурном изоморфизме) природы человека и поэзии у Мандельштама, а также в сходстве действенных полей поэтической материи и психологической реальности. Одно из оснований для такого заключения приведу сразу. Известно высказывание О. Мандельштама о том, что “поэтическое пространство и поэтическая вещь четырехмерны, — нехорошо, когда в стихи попадают трехмерные вещи внешнего мира, то есть когда стихи описывают” (см. Гинзбург Л. С., 1982, с. 353). Сейчас уже мало кто сомневается в четырехмерности, а то и в N-мерности пространства (поля) психики и сознания. Временная и смысловая координаты присутствуют и действуют в “теле” психики: Немногие для вечности живут, Но если ты мгновеньем озабочен — Твой жребий страшен И твой дом непрочен, — писал О. Мандельштам в 1912 г. Между поэтической материей и психологической реальностью имеется не только внешнее (возможно все же и структурное) сходство, но и содержательное: “Поэтическая материя не имеет голоса. Она не пишет красками и не изъясняется словами. Она не имеет формы точно также, как лишена содержания, по той простой причине, что она существует лишь в исполнении. Готовая вещь есть не что иное, как каллиграфический продукт, неизбежно остающийся в результате исполнительского порыва. Если перо обмакивается в чернильницу, то ставшая, остановленная вещь есть не что иное, как буквенница, вполне соизмеримая с чернильницей” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 254). А теперь, пожалуйста, прочитайте это еще раз, но вместо поэтической материи поставьте психологическую реальность. Ее ведь нет, не пишет, без голоса, без формы, без содержания... Но ведь без нее ничто не происходит. В ней порыв (установка, доминанта, мотив и т. д.) и набор внутренних или собственных средств, необходимых для исполнения. И видна она лишь в исполнении. А когда есть исполненное, то ее нет снова. Но полет ведь продолжается. Куда же девается первая ступень, когда из нее выпорхнула вторая? Наверное, упала. Это, может быть, и есть каллиграфический (на самом деле текст) — в случае Данта — или любой другой — в контексте психологии — продукт. А полет продолжается. Мы любим говорить: деятельность воплотилась или умерла в продукте. Если продукт плохой — это не катастрофа: не жалко, пусть умирает. Но даже если он хороший — тоже не беда, если осталась способность заглядывать внутрь себя самого, тогда родится новый порыв и будет построена, а затем исполнена новая деятельность, создан новый продукт. Не забудем, что, если очень трудно, то можно ведь и приземлиться, набраться сил и взлететь снова даже со скоростью стрелы. Корабль ведь многоразового пользования. Разве такое не случалось? Разве люди не начинали новую жизнь? Что же такое полет? Как он начинается, кем инициируется? О. Мандельштам говорит об этом в черновых набросках к “Разговору о Данте”: “Сам перводвигатель уже не есть начало, а лишь передаточная станция, коммуникатор, проводник. Работа перводвигателя заключается в том, что он переводит силу в качество” (Мандельштам О. Э., 1987, с. 163). Приведенные слова следуют за словами о трансцендентальном приводе. Это удивительное словосочетание, которое я тоже попытаюсь расшифровать, прибегая к текстам О. Мандельштама. Понятие “перводвигателя” он использует в контексте описания небесных сфер Данта: “Следующее небо, к которому пригвождены неподвижные звезды, отличные от своей сферы, но вкрапленные в нее, разливают по этим звездам зарядку бытия, полученную от перводвигателя, то есть от распределителя. Семь прочих подвижных сфер имеют внутри себя уже качественно расчлененное бытие, которое служит стимулом к многообразному происхождению конкретной действительности” (там же). Здесь причудливо переплетаются миф, метафора и научные размышления. Этот отрывок, характеризующий космологию Данта (или Мандельштама?), мне понадобился, так как именно в этом космологическом контексте О. Мандельштам пишет о виталистическом потоке как о само собой разумеющемся: “И подобно тому как единый виталистический поток создает для себя органы: слух, глаз, сердце... конкретизирующие сферы являются рассадниками качеств, внедренных в материю” (там же, с. 163). Оставим небесные сферы астрономам и обратимся к виталистическому потоку — полету — и его порождающим, генеративным возможностям. Здесь же мы находим, что в дантовском понимании человеческого тела виталистический поток не только создает органы (полета, жизни), но сам этот поток “в них и через них буквально протекает, поскольку органы являются соподчиненными потоками в едином потоке и только через них и может осуществиться виталистический порыв...(там же, с. 163). Итак, ключевые слова для дальнейшего: “виталистический поток”, “зарядка бытия”, “качественно расчлененное бытие”, синкретический набор органов “слух, глаз, сердце”, где смешаны функциональные органы (слух) и анатомо-морфологические (глаз, сердце). В органах осуществляется “виталистический порыв”, природа которого, видимо, связана с работой перводвигателя, переводящего силу виталистического потока в качественно иную энергию органов. Эта энергия и реализуется в виталистических порывах. Учитывая свойство обратимости и обращаемости деятельного поля поэтической материи (психологической, а, возможно, шире — жизненной реальности), не слишком смелым будет предположение, что виталистический порыв способен “оседлать” виталистический поток, изменить его течение, направить в другое русло. Это, вероятно, и есть “трансцендентальный привод” (?!), который очень близок к медленно восстанавливаемому в правах гражданства понятию “энтелехия” (П. А. Флоренский и в наше время С. В. Мейен). Попробуем перевести это на язык науки. Имеется ли аналог виталистического порыва в живом организме? Виталистический порыв, несомненно, имеет отношение к координации его движений. Вот что писал о координационном процессе Н. А. Бернштейн: “Координационный процесс не течет ни в составе самого тетанического импульса, ни следом за ним; он течет впереди, прокладывая и организуя ему дорогу и при том течет явно по каким-то другим путям и пользуется какими-то особыми иннервационными процессами” (Бернштейн Н. А., 1940, с. 46). В терминах О. Мандельштама это означает, что порыв не в потоке. Что же он собой представляет в терминах Бернштейна? Это тонус, который “как текучая физиологическая настройка и организация периферии к позе или движению есть не состояние упругости, а состояние готовности”. И далее Бернштейн заключает: тонус “относится к координации как состояние — к действию, как предпосылка — к эффекту” (там же). Это тоническое состояние готовности целого организма можно назвать установкой, доминантой, вниманием, образом потребного будущего, эвристическим проектом не только реальности, но и действия в ней или с ней. Важно не упускать из виду, что состояние готовности, как бы мы его не обозначали и в чем бы оно само не опредмечивалось, несет энергетический заряд, который не рассеивается в действии и в деятельности, а прирастает по мере их осуществления. Трансцендентальность привода — это возможность возникновения свободы выбора, свободного действия, свободной мысли и слова, свободы воли, которые, впрочем, никогда не были бесплатным приложением к жизни. Истинная свобода всегда завоеванная, сделанная, добытая. О. Мандельштам это понимал лучше многих: Посох мой, моя свобода, Сердцевина бытия... Для того чтобы стать свободным, нужно не только сделать “леса” свободы, сконструировать посох, нужно сконструировать субъекта свободы, сконструировать или хотя бы собрать себя: Я земле не поклонился Прежде, чем себя нашел; Посох взял, развеселился И в далекий Рим пошел. Свобода — это не безответственная вольница или ярость толпы. Об этом следует напоминать, поскольку в России воля всегда мешает покою. Поэтому “покой нам только снится”. Свободой обладает лишь тот, у кого на свободу хватит мужества, души, духа: Есть обитаемая духом Свобода — избранных удел. Свобода — это и неосознанная необходимость. Уже во всяком случае не только. Быть свободным нормально и весело: Но от ереси прекрасной Мы спасаться не должны. О. Мандельштам не противопоставляет свободу необходимости. Вторым членом свободы являются любовь и верность. При этом свобода — сама закон: Чтоб свободе как закону Подчинился ты любя,.. а не по осознанной необходимости, даже не в соответствии с принципами разумного эгоизма. Но не во всем стихи молодого поэта оказались пророческими: Я свободе как закону, Обручен, и потому Эту легкую корону Никогда я не сниму. (1915) О. Мандельштам действительно не снял корону свободы, хотя и бывал близок к отчаянию. Эта корона оказалась много тяжелей, чем шапка Мономаха. Его влекла даже “стесненная свобода”. Когда наступил “великий сумеречный год”, настали “сумерки свободы”, он писал: “Мужайтесь мужи...{ ''} и не бросил свой Посох, не отказался от своей свободы, хотя он один из первых понял, что “В жизни слова наступила героическая эра”, когда уничтожалось не только свободное слово, но даже его эхо. Посох свободы — это и паломничество, странничество, в том числе и бездомное, которого в судьбе О. Мандельштама оказалось с избытком. (У С. Есенина в таком странничестве посох это одновременно и светильник.) Чтобы более предметно представить себе размышления поэта о свободе, я вспоминаю мотивы его современника М. Шагала, изображавшего свободное парение. Шагал иронично заметил, что его персонажи оказались в небе раньше космонавтов. Посох у И. Бродского также связан со свободой от эпохи, с осознанием своего места в истории, с уверенностью в себе: Скрипи мое перо, мой коготок, мой посох. Не подгоняй сих строк: забуксовав в отбросах, Эпоха на колесах нас не догонит, босых. Для понимания места и роли свободы в развитии человека полезно задуматься над не очень очевидным парадоксом. Условием построения совершенного, точного движения и действия является избыточное число степеней свободы кинематических цепей человеческого тела. Согласно Н. А. Бернштейну, построение движения — это преодоление избыточных степеней свободы. Построение образа, адекватного реальности, — это преодоление избыточных степеней свободы образа по отношению к оригиналу. Свободна наша память, которая узнает и вспоминает по адресному, ассоциативному, смысловому принципам. Свободно наше мышление, которое может позволить себе помыслить любую чушь. Именно благодаря этому оно иногда приходит к нетривиальным результатам. Свобода нашего сознания приближается к абсолютной. Оно преодолевает даже такие фундаментальные определения бытия, как пространство и время. Перечень примеров может быть продолжен. Свобода входит в качестве составляющей в организацию телесного и духовного организма. Впору даже представить себе эту организацию как семейство свободных систем и ставить вопрос о том, кто же преодолевает этот хаос, что за инстанция наводит порядок на этом пире свободы. Естественно предположить, что такой инстанцией является личность. Но дай Бог ей разобраться в самой себе, в дискуссиях между ее первым и вторым Я (в смысле Ф. Д. Горбова). Сейчас меня больше интересует даже не то, как возникает порядок из хаоса. Это бесконечный сюжет в духе И. Р. Пригожина. Парадокс состоит в том, что сам-то человек, имеющий в фундаменте собственной организации свободу, слишком часто оказывается рабом обстоятельств, других людей (или нелюдей), собственных страстей и т. д. Для понимания и преодоления этого парадокса полезно различать “несотворенную свободу” (выражение Н. А. Бердяева) и сотворенную, построенную, сконструированную человеком как особый функциональный орган его собственной жизни и деятельности. Об этом речь впереди. А сейчас попытаемся сосредоточить свое внимание и понять в более общем виде, что же такое порождаемые виталистическим потоком функциональные органы, которые в свою очередь порождают и осуществляют виталистические порывы. Если дальше следовать за О. Мандельштамом, то виталистический поток выполняет как минимум две функции: формообразование и порывообразование. Последнюю он еще называет исполнительским порывом, который нужно отличать от текста. В поэтической материи Данта текст и порыв являются соподчиненными. Хотя ясно, что без порыва невозможно формообразование, создание текста, попробуем понять, что такое формообразование, отвлекаясь пока от порыва. В качестве материала используем деятельность органов чувств. В ламарковское “понятие природы врывается марсельеза” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 123). Это можно сказать о мандельштамовском представлении о деятельности органов чувств. Он приводит следующий пассаж из К. Линнея: “Творец природы снабдил человека пятью орудиями, известными под именем чувственных и преизящно устроенными” (см. Мандельштам О. Э., 1969, с. 170). Идея орудийности органов чувств является сквозной для поэта. Глаз он рассматривает прежде всего как орудие мысли, средство восприятия будущего. Главное — это особая активная функция органов чувств, которую никак нельзя свести к функциям отражения. Здесь есть прямая аналогия с поэтической материей: “... поэтическая речь не является частью природы — хотя бы самой лучшей, отборной — и еще меньше является ее отображением, что привело бы к издевательству над законом тождества, но с потрясающей независимостью водворяется на новом внепространственном поле действия не столько рассказывая, сколько разыгрывая природу при помощи орудийных средств, в просторечье называемых образами” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 214). И далее: “Внешняя, поясняющая образность несовместима с орудийностью” (там же, с. 215). Подлинный образ, примером которого может служить орнамент (в отличие от узора), всегда говорящ, видящ, деятелен. “Орнамент тем и хорош, что сохраняет следы своего происхождения как разыгранный кусок природы” (там же, с. 215). Это не копия, не снимок, не отражение. И все это написано задолго до того, как была сформулирована А. В. Запорожцем идея о сенсорном действии (1941), до того, как были заложены основы теории перцептивных действий, в которой восприятие рассматривалось как действие (см: Запорожец А. В. и др., 1967; Зинченко В. П., 1961, 1964; Зинченко В. П., Вергилес Н. Ю., 1969; Зинченко В. П., 1988, 1996). Замечательное прозрение О. Мандельштама (1921) связано с тем, что органы чувств – орудия порождают собственные органы: “Данность продуктов нашего сознания сближает их с предметами внешнего мира и позволяет рассматривать их как нечто объективное. Чрезвычайно быстрое очеловечивание науки, включая в себя и теорию познания, наталкивает нас на другой путь. Представления можно рассматривать не только как объективную данность сознания, но и как органы человека, совершенно так же точно, как печень, сердце” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 185). К этой высказанной поэтом идее спустя несколько лет (1927) пришел замечательный мыслитель — физиолог А. А. Ухтомский. Он ввел в физиологию и психологию понятие функционального органа, определив его как временное сочетание сил, способное осуществить определенное достижение. По словам А. А. Ухтомского эти экстрацеребральные функциональные органы столь же реальны, как и анатомо-морфологические. К числу функциональных органов он относил доминанту, парабиоз, интегральный образ, т. е. те же представления, о которых писал О. Мандельштам. В главе 3 мы вновь вернемся к обозначенным здесь поэтическим прозрениям Мандельштама, попытаемся развернуть их в систему концептов и схем органической психологии.
2.3. “Духовность — это не болезнь” (М. Мамардашвили) Духовность — это вечная тема искусства. Ее, как и здоровья, никогда не бывает в избытке. Почти 150 лет тому назад Ф. Тютчев в стихотворении “Наш век” писал: Не плоть, а дух растлился в наши дни, И человек отчаянно тоскует... Он к свету рвется из ночной тени И, свет обретши, ропщет и бунтует. Я вовсе не хочу сказать, что и плоть и дух растлились в наши дни. История говорит, что у человека огромный запас прочности. Но все же взгляд на духовность как на болезнь — это достояние нашего века. Дух, кажется, выстоял и в наши дни, не в последнюю очередь благодаря героям этой книги: Поэтов русских помни и люби, Клади их сны в ночное изголовье,— Они полны духовного здоровья, Как русский лес и лето на Оби. (Б. Чичибабин) Строительным материалом Демиурга служат “творящие слова” (Б. Пастернак). Прислушаемся к мыслям о языке и слове, развивавшимся М. К. Мамардашвили, который под языком понимал “... материальную массу, обладающую определенной динамикой, внутри которой и посредством которой мы впервые устанавливаем то, что хотели бы сказать. Или узнаем то, что мы чувствуем и думаем, а не то, что сначала чувствуем и думаем, а потом находим удачный или неудачный для этого язык выражения” (Мамардашвили, 1993, с. 58). Философ говорит не об обыденной речи (“сначала подумай, хотя бы вспомни, а потом скажи”) и не об абстрактном символическом языке логики, а о языке, обладающем производящей силой, о людях искусства, которые делают что-то по законам языка и мысли. Он говорит о Слове как о неком элементе стихии, “являющейся материей тех самых предметов, о которых мы что-то постигаем и от которых мы можем получать какие-то чувства” (там же). Здесь М. К. Мамардашвили весьма близок к гегелевскому пониманию языка: “Язык вообще есть та воздухообразная стихия, то чувственно-нечувственное, через все расширяющееся знание которого дух ребенка все больше возвышается над чувственным, единичным, поднимаясь к всеобщему, к мышлению” (Гегель Г. В. Ф., 1977, с. 87). М. К. Мамардашвили называет материю языка феноменальной, хотя в отношении к сознанию она относится к онтологическому (антропологическому, в терминах Гегеля) уровню: “Кроме внешних соотносимых его значений, которые мы можем узнать из словаря, у него есть еще материя, предполагающая уже мою включенность в язык и неспособность отступить от моего бытия в представлении к представлению о внешнем объекте. Эту сторону языка нельзя объективировать, отступить от своей жизни в ней и считать ее неким субъективным образом… Следовательно, жизнь этой материи как раз и производит в нашей голове и в наших чувствах, если это организовано искусно (отсюда слово “искусство”), то состояние переживания, волнения, понимания, возвышенности и т. д., которое не случится в нас, когда мы просто располагаем нашими наличными естественными психическими силами”. И далее М. К. Мамардашвили заключает, “что существование в нашей голове каких-то постижений, ориентации, разумных мыслей, эстетических переживаний предполагает как бы предсуществование вот той самой вещи, которую я описывал как некую стихию или феноменальную материю, назвав ее Словом” (там же, с. 59, 60). А. Белый это предсуществующее Слово называет зерном, существующим в душе. У Вяч. Иванова “материальность” Слова выражена еще сильнее: Родная речь певцу земля родная. В ней предков неразменный клад лежит, И нашептом дубравным ворожит Внушенных небом песен мать земная. Как было древле, глубь заповедная Зачатий ждет, и дух над ней кружит... И, силы недр полна, в лозе бежит Словесных гроздий сладость наливная. С. С. Аверинцев, приводящий эти строки, замечает, что поэт действительно ощущал родную речь вещественной и плодоносной. Только он мог бы сказать о пушкинском дубе у лукоморья: Он над пучиною соленой Певцом посажен при луке, Растет в молве укорененный, Укорененный в языке... Укорененность предмета, вещи в языке — это прозрение поэта, которое сродни прозрению Г. Г. Шпета, писавшего об укорененности смысла в бытии. Другими словами, нам не нужно с помощью серии опосредований и переопосредований доказывать предметность языка, предметность смысла. Нам скорее нужно доказывать предметность предмета и предметность мира, если они не укоренены в языке. В языке, кстати, появился и укоренился “беспредметный мир” в смысле К. Малевича. Это относится не только к предмету, но и к человеку: “Ни в филогенетическом, ни в онтогенетическом плане человек не существует до языка. Нам никогда не отыскать точки, где человек был бы отделен от языка и создал бы его, дабы “выразить” свою внутреннюю жизнь: язык учит нас пониманию человека, а не наоборот” (Барт Р., 1993, с. 84). Неоценимый вклад в это понимание вносит поэзия, — по-видимому, самый совершенный орган или орган языка — средство саморазвития и самопознания человека. Поэтому совершенно правильна мысль о том, что человекознание отнюдь не ограничивается только научным и философским знанием (см., напр.: Мещеряков Б. Г., Мещерякова И. А., 1994; Мещеряков Б. Г., 1996). Проблема предметности в психологии одна из главнейших. Без ее обсуждения и, хотя бы предварительного решения, невозможно преодоление натурализма в науках о человеке. Натурализм все время возрождается даже у активных его противников. Например, В. М. Розин вопрошает: “Почему, каким образом человек переживает холодные, неживые звуки, краски, жесты как живые, волнующие события; что общего между нарисованным солнцем и горячим, слепящим солнцем на небе; где человек пребывает, когда он рассматривает картину: здесь, перед картиной или в том, что картина изображает?” (Розин В. М., 1994, с. 3, 4.) Но ведь ничего подобного не происходит. Неживое не может превратиться в живое (к сожалению, обратное — вполне обыденно, в том числе и смерть слова, символа). Виолончель Страдивари-Дюпор в руках Мстислава Ростроповича издает живые звуки — в ней живут две души: Создателя и Мастера. Весь человеческий мир или “вторая природа” творится из живой природы (отсюда и “утварь”); скульптор ищет живой мрамор, преображает его, делает холодным или теплым по своему усмотрению, но это человеческий холод или тепло. Иное дело, деятельность. Она действительно умирает в продукте, но только в нем. Да так, что не оставляет на нем своих следов. Деятельность оставляет следы в субъекте. Осуществляясь, она не только сохраняется в нем, но и меняет его самого. Р.-М. Рильке принадлежит прекрасный образ: “человек, отесанный деятельностью”. Наконец, предметно и человеческое сознание, притом исходно предметно. В этом его счастье и самое большое несчастье, поскольку оно доступно манипулированию. Вернемся к размышлениям М. К. Мамардашвили, в которых делается неожиданный и важный для дальнейшего вывод, что язык как феноменальная материя представляет собой предсуществующую по отношению к любому индивидуальному развитию идеальную форму. В случае языка мы имеем дело не только с удивительным соединением материального, феноменального и идеального, но и с энергией, силой, стихией идеальной формы, как бы ведущей за собой, подчиняющей себе, законам своего существования реальное. М. К. Мамардашвили приводит высказывание Малларме о том, что поэмы пишутся не идеями, то есть не ментально представленными значениями, а пишутся словами: литература с этой точки зрения есть непосредственная языковая (речевая) деятельность. Под словом он имел в виду способность слова породить в себе особое состояние души и состояние мысли. Конечно, в самонаблюдении может быть и иначе: На мысли, дышащие силой, Как жемчуг нижутся слова. (М. Лермонтов) А может быть, и так: Мои слова — жемчужный водомет, средь лунных снов, бесцельный, но вспененный, — капризной птицы лет, туманом занесенный. (А. Белый) И снова жемчуг, и снова иначе: Волшебен жемчуг в ожерелье, Но он из раковины скользкой, он из глубин, где слизь и гады И все же вырвется к лучу... Так возникает стих певучий, Узнайте это, дети мира, Чтоб вы умели нарядиться, Когда вас праздник позовет. (К. Бальмонт) Или более прозаично, по-крестьянски: Я сегодня снесся, как курица, Золотым словесным яйцом. (С. Есенин) Как происходит на самом деле, решить трудно, так как мы имеем дело с совершенным произведением, на котором нет следов, оставленных процессом его созидания. Приведем взгляд еще одного поэта: “Вообще есть что-то совершенно потрясающее в первом чтении великого поэта. Ты сталкиваешься не просто с интересным содержанием, а прежде всего — с языковой неизбежностью. Вот что такое великий поэт. Да? После этого ты уже говоришь другим языком” (Бродский И., 1992, с. 8). Об этой же неизбежности читаем у Г. Адамовича: Так на заре веселой жизни с Музой Неверных рифм не избегает слух, И безрассудно мы зовем обузой Поэзии ее бессмертный дух. Но сердцу зрелому родной и нежный Опять сияет образ дней живых, И точной рифмы отзвук неизбежный Как бы навеки замыкает стих. С таким взглядом связано утверждение И. Бродского о том, что не язык — орудие поэта, а поэт — орудие языка. Для поэта язык не столько средство общения, мысли, выражения, сколько цель, а сам поэт — орудие, средство языка, с помощью которого он — язык — рождает смысл и, разумеется, значение. Лучше бы не орудие, а инструмент или функциональный орган, иначе напрашивается термин “человекоорудие”, использованный Даниилом Андреевым, писавшим, что человек выступает порой орудием страшных, таинственных, сатанинских сил. Не стоит применять этот термин к поэту, который “играет в разбег мечты и в прятки слов” (К. Бальмонт), “любит сплетать верные слова” (Ф. Сологуб). Много позже Р. Барт пришел к заключению, что текст — это работа и игра. “Человекоорудие”, в смысле Андреева, уничтожает жизнь, а поэт находит, если верить В. Хлебникову, “звуки — зачинщики жизни”. В отношениях поэта и языка имеется взаимность, взаимодополнительность, если угодно, неизбежность. Поэт открывает в языке не только новые смыслы, но и придает ему грациозность. Как поэт немыслим без языка, так и язык немыслим без поэта. Он чахнет, умирает: Выдыхаются Души Неслагаемых слов — Отлагаются суши Нас несущих миров. (А. Белый) Поэтому поэзия действительно может быть и школой бытия, и школой смысла, школой поступков – событий и личностного знания, а тем самым и школой сознания, поскольку последнее имеет смысловое строение, а не является слепком “неживого взора”, “мертвой точки зрения”, “правильного мировоззрения”. Она способствует формированию и расширению единого континуума, как говорил М. К. Мамардашвили, бытия-сознания, содействует трансформации быта в бытие, находя в первом или придавая ему подлинный, порой трагический смысл. Например, В. Хлебников стихотворение “Всем” (видимо, и нам тоже), написанное за несколько месяцев до кончины, начинает словами: “Есть письма — месть” и далее подводит итоги тому, “что трехлетняя година нам дала”: Я продырявлен копьями Духовной голодухи, Истыкан копьями голодных ртов... Везде зазубренный секач И личики зарезанных стихов... Везде, везде зарезанных царевичей тела, Везде, везде проклятый Углич! У тиранов-убийц XX века уже не было “мальчиков кровавых в глазах”. Вернемся к смыслу и слову. Не всякое слово может быть средством выражения и понимания нормального человеческого смысла. Слово “ветшает как платье”, пустеет, становится “полым”, Умирает, потом может “засиять заново”. Это нормальный естественный процесс. Многие писали о живом слове, о собственной жизни слова, о том, что слово, подобно органу и организму растет, зреет на “словесном луче” (С. Есенин), развивается, плодоносит. Или ищется и не всегда находится: Если слово в строке перечеркнуто, А поверх уж другое топорщится, Значит, эти слова — заменители, Невесомы они, приблизительны, Значит, каждое слово уж выспалось, Значит, это — слова, а не исповедь, Значит, все раздобыто, не добыто, Продиктовано роботом роботу. (И. Эренбург) Есть мертвые и есть творящие слова. “В творчестве Толстого, Пушкина, Достоевского слово — развитие, бывшее цветком у Карамзина, приносит уже тучные плоды смысла” (Хлебников В., 1987, с. 632). Сейчас плоды отощали, истончились, так как даже обыденный смысл с очень большим трудом можно выразить, если можно вообще, на новоязе. И дело здесь не столько в слове или в словах, сколько в том, что изуродован язык, “корявый слог” которого прекрасно демонстрировал В. Хлебников: Это рок. Это рок. В-э-В-э Маяковский! Я и ты, Нас как сказать по-советски, Вымолвить вместе в одном барахле? По Рософесорэ, На скороговорок скорословаре? Это “Признание” полезно прочесть вслух. В. Хлебников даже не смог назвать происходящее языком. Ему вторит В. В. Маяковский: Корчится улица безъязыкая. Те же мотивы у С. Есенина: Железное слово “Рре-эс-пу-у-ублика!” И удручающий вывод: Язык сограждан стал мне как чужой, В своей стране я словно иностранец. Рок или, как сказал бы Вяч. Иванов, “рокоты рока” нужно преодолевать всему гуманитарному знанию, значительная часть которого оказалась вне языка. Сейчас начал освежаться язык философии: “У нас давно уже кончилась вера, будто за невразумительным, неряшливым или тягостным текстом, каким бы философским именем он ни назывался, может еще таиться важный, подлежащий извлечению смысл. Философская мысль весит ровно столько, сколько весит философское слово” (Бибихин В. В., 1993, с. 3). Об этом значительно более жестко, с оттенком безнадежности говорил в 1988 г. М. К. Мамардашвили: “У нас разрушен язык. То есть формально, например, русский или грузинский язык — есть. Но он весь ... в раковых опухолях, которые не поддаются развитию. Существующий язык, состоящий из десятков слов, из неподвижных блоков, подобно бичу божьему, останавливает любое движение мысли, возможной мысли. И он же является носителем закона инаконемыслия. Мы не мыслим не потому, что запрещено, а потому, что разрушены внутренние источники мысли, источники гармонии, и тем самым разрушено поле языка. Язык таков, что он вокруг и внутри себя блокирует возможность всякой кристаллизации мысли” (Мамардашвили М. К., 1993, с. 61). Замечу, что сам М. К. Мамардашвили был живым опровержением с таким блеском выраженного им безнадежного пессимизма. В. А. Подорога назвал язык М. К. Мамардашвили “виртуозным косноязычием”, которое сродни нарочитому поэтическому. Оно фиксирует внимание на языке, приглашает к его развитию. Нельзя сказать, что это легко ему давалось. Говоря о себе, он использовал хорошее словосочетание Антонио Грамши: пессимизм интеллекта или пессимизм ума и оптимизм воли. Он никогда не принимал происходящее как должное, и не считал себя обязанным верить в то, что то, что случится, будет обязательно хорошим. Да и его судьба, или, как он иногда говорил, планида, была близка к судьбе любимых им поэтов. Близки и взгляды на язык и слово. Действенное поле поэтической материи, о котором писал О. Мандельштам, эквивалентно феноменальной материи языка, обладающей источниками внутренней гармонии, внутренней организации жизни Слова или полю возможной артикуляции и кристаллизации мысли, ее эстетического содержания, о которых писал М. К. Мамардашвили. Когда поле разрушается, оно из действенного дантовского божественного становится гибельным, мертвящим. С помощью слова можно одинаково успешно образовывать и оболванивать человека. Образовывает — живое слово. Оболванивает — мертвое. К несчастью, можно “жадно впивать мертвые слова” (Вяч. Иванов). Обе эти задачи достаточно сложны. Успех в решении второй задачи ни в коем случае нельзя недооценивать, как нельзя переоценивать пока еще достаточно скромные успехи в восстановлении нормального (о великом еще говорить рано) русского языка. Здесь поэтическая антропология должна понять, как поэты в слове являют образ мира, как они создают и разрушают мир (бывает и такое), как они его воскрешают, зачинают, пересоздают. Полезно напомнить, что в 1924 г. О. Мандельштам писал: “В СССР легче провести электрификацию, чем научить всех грамотных читать Пушкина”. Еще раньше он писал: За блаженное бессмысленное слово Я в ночи советской помолюсь. Отдыхать и молиться за слово явно мало. Нельзя терять бдительность. Мандельштам ведь не только молился. Он думал и работал со словом. И хотя это трудно, нужно и нам попробовать. Возможно, оно по-доброму отзовется, вернется к нам, примет нас в себя и согласится быть с нами. Нам не только “наука легла на глаза”, легла идеология, легли схематизмы тоталитарного сознания, наконец, лег советский новояз. Когда еще спадет эта завеса? Когда мы сможем сказать вслед за С. Есениным: Снова выпали годы из мрака И шумят, как ромашковый луг. Все эти фильтры искажают не только восприятие внешнего, они закрывают очи, обращенные внутрь, препятствуют заглядыванию внутрь самого себя. Это священное свойство Человека разумного заменилось заглядыванием в газету. Не очень склонный к шуткам по серьезным поводам, но ироничный М. К. Мамардашвили так описал интернационального советского Нарцисса — “читателя газет, глотателя пустот”, вглядывающегося в свое газетное отражение: “... в первый же день установления советской власти во Вьетнаме, уверяю вас, в их партийной газете могла появиться фотография сталевара в каске, читающего газету, в которой он изображен”. М. К.Мамардашвили об этой и подобных ситуациях говорит: “Похоже на смех, а мертвый тон или мертвая музыка выдает историю из жизни Зазеркалья, из жизни “зомби” (Мамардашвили М. К., 1993, с. 55). В. Хлебников назвал бы это “зачеловеческим сном”, или “сном в оболочке сна”. Замечательно, что эту историю рассказывает М. К. Мамардашвили, которого никто из друзей никогда не видел с газетой в руках. У него были “свои законы” и свой нрав: Я давно не верю в телефоны, В радио не верю, в телеграф. У меня на все свои законы И, быть может, одичалый нрав. (А. Ахматова) Выходя из зазеркалья, полезно возвращаться к “вечным” истинам, афористически выражаемым поэтами: Познай себя. Свершается свершитель. И делается делатель. Ты — будешь. “Жрец” нарекись и знаменуйся: “Жертва” Се действо — жертва. Все горит. Безмолвствуй. (Вяч. Иванов) Заглядывание в глубь строки — это и есть в прямом смысле заглядывание внутрь себя самого, познание себя, рождение свершителя, делателя. Не сможешь заглянуть в глубь строки — не сможешь заглянуть и в себя. Если нет ничего внутри себя, не сможешь заглянуть внутрь строки. Конечно, не существует гарантий полноты понимания, как и полноты самопознания. Ее нет и у поэтов, когда они заглядывают в собственную душу. У них нет иллюзий относительно ее доступности самопознанию. Послушаем, скорее всего шутливое, набоковское: Моя душа, как женщина, скрывает и возраст свой, и опыт от меня. Поэты лишь немного более вразумительны в описании природы и механизмов своего творчества, чем ученые. И те, и другие чаще всего ограничиваются указательным жестом в сторону источника своего творчества. Например, О. Мандельштам писал о “Божественной комедии”: “Формообразование поэмы превосходит наши понятия о сочинительстве и композиции. Гораздо правильнее признать ее ведущим началом инстинкт” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 225). Может быть и правильнее, но это не очень вдохновляющее суждение для ученых-специалистов по психологии творчества, которые в анализе его механизмов не очень далеко ушли от поэтов. Прислушаемся к К. Юнгу: “Неродившееся произведение в душе художника — это стихийная сила, которая прокладывает себе путь либо тиранически и насильственно, либо с той неподражаемой хитростью, с какой умеет достигать своих целей природа, не заботясь о личном благе или горе человека — носителе творческого начала. Творческое живет и произрастает в человеке, как дерево в почве, из которой оно забирает нужные ему соки. Нам поэтому неплохо было бы представлять себе процесс творческого созидания наподобие некоего произрастающего в душе человека живого существа. Аналитическая психология называет это явление автономным комплексом, который в качестве обособившейся части души ведет свою самостоятельную, изъятую из иерархии сознания психическую жизнь...” (Юнг К., 1992, с. 108). И у ученых, и у поэтов творчество — это не манипулирование или оперирование чем-то, а живой рост, живое развитие живого организма, как бы он не назывался — душой или ее автономным комплексом, обособленным органом, инстинктом. Однако хорошо известно, что все живое, будь то “живое вещество”, “живое движение”, “живое слово”, “живое знание”, “живая душа”, упорно сопротивляется концептуализации (см. подробнее: Зинченко В. П., Мамардашвили М. К., 1977, 1991). Такого рода указательные жесты ученых и поэтов — тоже не так уже мало. Спасибо и за них. Великий физиолог И. П. Павлов говорил, что факты — воздух ученого. Для поэта таким воздухом является стихия языка, его дух, душа, но данная ему не в виде вещи, факта, а порой музыкально, порой сновидно, как раскаленная магма, как вихревое движение Декарта, как чувственная, эмоциональная, биодинамическая ткань (см.: Зинченко В. П., 1991; Василюк Ф. Е., 1993), как искомый Смысл, как Слово: Всю душу выплещу в слова. (С. Есенин) Об этом же: Но в этой бездне шепотов и звонов Встает один все победивший звук. Так вкруг него непоправимо тихо, Что слышно, как в лесу растет трава, Как по земле идет с котомкой лихо... Но вот уже послышались слова И легких рифм сигнальные звоночки, — Тогда я начинаю понимать, И просто продиктованные строчки Ложатся в белоснежную тетрадь. (А. Ахматова) Твердеющий кристалл, прозрачность, жемчужина, неслыханная простота, неизбежное, верное, творящее Слово, являющее Образ мира, прозрение, пророчество — все это потом, в конце, в стихотворении. Еще пример: Не видит видящий мой взор, Далек — и близок, остр — и слеп И мил и страшен вам: Привык тонуть в лазури гор И улыбаться в черный склеп Просветным синевам. Не видя, видит он, сквозь сон Что в тайне душ погребено, Как темный сев полей. И слышит: в поле реет звон, И наливается зерно Под шелесты стеблей. (Вяч. Иванов) Или он же в стихотворении “Поэты духа”: Не мни, мы, в небе тая С землей разлучены: — Ведет тропа святая в заоблачные сны. Чрезмерно схематизируя, рискну высказать предположение, что наука, пребывая в дольнем мире, стремится к горнему; поэзия, пребывая в горнем мире, стремится к дольнему: ... Заповедан Мне край чудес, хоть не отведан Еще познанья горький плод: Скитанье дальнее зовет. Пенаты, в путь!.. (Вяч. Иванов) Естественно, что стремление и его реализация не совпадают. Бывает, что и наука лишь ползает по земле, а поэзия лишь витает в облаках. Бывают и счастливые встречи науки с поэзией в экстерриториальном пространстве смысла, в 5-м измерении бытия. (Физики уже приступают к конструированию 10-мерной Вселенной. Нам бы, гуманитариям, разобраться хотя бы в 5-м измерении, где располагается “духовная вертикаль” или “мировое подсознательное”, в которое верил и, живя в СССР, прятал под маской Э. Неизвестный.) Иногда встречи случаются в одном лице. Это бывает даже не в каждом столетии. Но то, что это бывает, доказывает возможность поэтической антропологии. Порой, наука с поэзией встречаются в 5-м углу, куда загоняет их тоталитарная идеология. Вернемся к заглядыванию в глубь строки, тем более, что поэты не устают ждать читателя, любят его, мечтают о нем: Наш век на земле быстротечен И тесен назначенный круг, А он неизменен и вечен — Поэта неведомый друг. (А. Ахматова) Заглядывание в глубь строки не очень получается, когда стихи написаны (или произносятся) “во весь голос”. Хотя от громкости, конечно, сиюминутный эффект возможен. С. Эйзенштейн как-то назвал голос “звуковой конечностью”, которая ведь может схватить и за горло. Поэзия — все же, скорее, дело интимное, чем площадное. Даже первые попытки заглядывания в глубь строки и в себя влекут за собой далеко не пустяковые следствия: превращает активизм в деятельность, претворяет воду в вино, существование в жизнь, в бытие, наполняет смыслом полос слово и оживляет мертвое, помогает осознать себя суверенной личностью, манифестировать ее в поступке и многие другие, не менее интересные. Поэзия не спасает души, но размораживает их, приводит в движение. Для этого нужен оптимизм воли (не надо путать с волей к власти), память и вера в то, что ведь и прекрасные стихи делаются “из сора” (А. Ахматова) или “из тяжести недоброй” (О. Мандельштам). Полезно смирение и память о том, что “чутье художника стоит иногда мозгов ученых” (А. П. Чехов). Возможность “возрождающей смерти” (В. Хлебников) или “возродительного распада” (Вяч. Иванов) может служить нам утешением и надеждой. Их поддерживает поэзия, удачно названная В. Маяковским “чувствуемой мыслью”. Пора обратиться к поэтическим изображениям образования человека, одному из интереснейших разделов поэтической антропологии. Согласно марксистско-ленинской философии (эстетике), поэзия, как и все искусство (и даже вся психика) всегда что-то отражает, но главным образом так называемый внешний мир. Отражением являются даже пословицы и поговорки. Б. М. Бим-Бад (1994) приводит мнение американского социолога и педагога О. Х. Мура, что пословицы и поговорки — это своеобразные “модели воспитания”. Видимо, это так и есть, конечно, если с ними не обращаться лукаво. Например, всем известная поговорка “Повторенье — мать ученья...” воспринимается одновременно и как трюизм, и как большая ложь, поскольку в русской культуре отсечена ее вторая половина: “... и прибежище ослов”. К извлечению образа образования, обучения, воспитания из поэзии нужно относиться еще более осторожно, чем к упомянутым “моделям воспитания”, где все же фиксирована многовековая мудрость. Как завещал А. Блок: “Сотри случайные черты, и ты увидишь — мир прекрасен”. Мир в случае образов образования, правда, может быть как прекрасным, так и печальным. После этой оговорки попробуем взглянуть, как в замечательном поэтическом зеркале отражалась реальность российского обучения и воспитания в до- и пореволюционную эпоху. Сначала, разумеется, о “темном царстве”. Не будем забираться слишком глубоко и начинать с “Недоросля”. “Наше все” — А. С. Пушкин: Monsieur IAbbe, француз убогой, Чтоб не измучилось дитя, Учил его всему шутя, Не докучал моралью строгой, Слегка за шалости бранил, И в Летний сад гулять водил. Когда же Monsieur прогнали со двора, а Онегин оказался на свободе, Он по-французски совершенно Мог изъясняться и писал; Легко мазурку танцовал И кланялся непринужденно; Чего ж вам больше? Свет решил, Что он умен и очень мил. ............................................... Онегин был, по мненью многих (Судей решительных и строгих), Ученый малый, но педант, Имел он счастливый талант Без принужденья в разговоре Коснуться до всего слегка, С ученым видом знатока Хранить молчанье в важном споре, И возбуждать улыбку дам Огнем нежданных эпиграмм. ............................................... Он знал довольно по-латыне, Чтоб эпиграфы разбирать, Потолковать об Ювенале, В конце письма поставить vale, Да помнил, хоть не без греха, Из Энеиды два стиха. Он рыться не имел охоты В хронологической пыли Бытописания земли; Но дней минувших анекдоты От Ромула до наших дней Хранил он в памяти своей. ............................................... Не мог он ямба от хорея Как мы ни бились, отличить. Бранил Гомера, Феокрита; Зато читал Адама Смита, И был глубокий эконом. То есть умел судить о том, Как государство богатеет, И чем живет, и почему Не нужно золота ему, Когда простой продукт имеет. ............................................... Всего, что знал еще Евгений, Пересказать мне недосуг… Ко всему этому еще “наука страсти нежной”. И при всем при том Онегина называли лишним человеком! А ведь по нашенским-то меркам Онегин — почти всесторонне развитая личность, хотя он и не кончал Царскосельского лицея. Здесь, несомненно, имеется ироничная идеализация домашнего воспитания, о котором Пушкин-чиновник высказывался весьма резко: “В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное. Ребенок окружен одними холопьями, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспитание его ограничивается изучением двух или трех иностранных языков и первоначальными основаниями всех наук, преподаваемых каким-нибудь нанятым учителем” (цит. по: Лотман Ю. М., 1983, с. 42). Еще более жесткая оценка дана Пушкиным в записке для Николая I в 1826 г.: “Нечего колебаться: во что бы то ни стало должно подавить воспитание частное” (там же, с. 49). Стиль-то каков? Почти ленинский... Царю указывает, диктует. “Ай да Пушкин!... Ай да молодец”. Может быть, и нам стоит задуматься? Иначе снова Онегины... И далее — везде по кругу… Ведь и наша государственная система образования хиреет, а обещания укреплять ее, заботиться о ней, похоже забываются сразу после их провозглашения. Оценки Царскосельского лицея противоречивы. Эти противоречия превосходно описал Н. Я. Эйдельман (1991). Вслед за ним выделю главное. Здесь и святое, торжественное: Куда бы нас не бросила судьбина, И счастие куда б ни повело, Все те же мы: нам целый мир чужбина, Отечество нам Царское село. Здесь и безмятежное, веселое, творческое: В те дни, когда в садах Лицея Я безмятежно расцветал, Читал охотно Апулея, А Цицерона не читал... Здесь и восторги по поводу наставников: Наставникам, хранившим юность нашу, Всем честию, и мертвым и живым, К устам подъяв признательную чашу, Не помня зла, за благо воздадим. Или — А. П. Куницыну — профессору нравственных наук: Куницыну дань сердца и вина! Он создал нас, он воспитал наш пламень, Поставлен им краеугольный камень, И чистая лампада возжена... Здесь и злые эпиграммы на наставников: Могу тебя измерить разом, Мой друг Черняк! Ты математик — минус разум, Ты злой насмешник — плюс дурак. (А. Илличевский) Наряду со всем этим имеется уничтожительная оценка Лицея, данная бароном М. А. Корфом — товарищем Пушкина по Лицею: “Лицей был в то время не университетом, не гимназиею, не начальным училищем, а какою-то безобразною смесью всего этого вместе, и, смею думать, он был заведением, несоответствовавшим ни своей особенной, ни вообще какой-нибудь цели... Кто не хотел учиться, тот мог предаваться самой изысканной лени, но кто и хотел, тому немного открывалось способов, при неопытности, неспособности или равнодушии большей части преподавателей, которые столь же далеки были от исполнения устава, сколько и вообще от всякой рациональной системы преподавания” (цит. по: Пушкин А. С., 1907, с. 45). Трудно представить, что Пушкин ничего этого не замечал, как трудно представить, что заключение Корфа — это злобный навет. Мудрый Н. Я. Эйдельман пишет: “Можно принять за окончательную истину обычные детские насмешки над учителями. Можно, наоборот, возвысить этих педагогов, вспоминая, что вышло из их учеников... Вероятно, не надо впадать ни в какую из крайностей. Скажем так: одни не помешали, другие (может, сами того не подозревая) помогли Пушкину стать Пушкиным, а его друзьям — чем они стали...” (Эйдельман Н. Я., 1991, с. 250). Замысел Лицея принадлежал царю Александру Павловичу; первый проект — Лагарпу — воспитателю государя; первая оценка — министру просвещения — графу Разумовскому. Цель — “образование юношества, предназначенного к важным частям службы государственной и составленного из отличнейших воспитанников знатных фамилий”. Оценивая проект, министр писал, что “знания всякому благовоспитанному юноше приличные нужно различать от наук, в особенности нужным только некоторого состояния людям” (видимо, научным работникам), что незачем будущим судьям, министрам, дипломатам учиться химии, астрономии и “другим отвлеченнейшим частям математики”, “что история мнений философских о душе, идеях и мире, большею частию нелепых и противоречащих между собой, не озаряет ума полезными истинами, но помрачает заблуждениями и недоумениями”. Изгоняя из намеченной программы предметы естественного и философско-гуманитарного профиля и сообщая ей, таким образом, чисто прикладное значение, министр усматривал, что “множество и важность предметов, которыми воспитанники лицея должны учиться также не соображены ни с возрастом, ни со временем, которое они пробыть должны в сем учреждении”, и что если даже кто-нибудь и успеет одолеть эту сложную программу, то “получит обо всем понятия смешанные, скороспелые, кои такового многоведа сделают, скорее несносным и вредным педантом, нежели основательным знатоком” (см. Н. Лернер, в кн.: Пушкин А. С., 1907, с. 40). Судя по анализу проекта, сам министр был человеком образованным, видимо, получившим приличное домашнее воспитание. Чиновник-прагматик рассматривал образование исключительно с функциональной точки зрения и, спасибо ему, не морочил голову царю демагогией о всестороннем развитии личности. Выпускники Лицея, по его мнению, должны были быть функционерами-чиновниками нового типа, обладающими соответствующим мировоззрением и навыками. В замысле А. К. Разумовского можно увидеть некий прообраз учебного заведения, формирующего “нового человека”. Иное дело, как сложилось на самом деле. Новый проект готовил директор департамента министерства народного просвещения И. И. Мартынов при содействии государственного секретаря знаменитого впоследствии реформатора (не революционера!) графа М. М. Сперанского. Он представлял собой нечто среднее между проектом Лагарпа и намерениями графа А. К. Разумовского. В итоге, несмотря на сохранившуюся функциональную направленность, Лицей стал замечательным учреждением. Н. Лернер, оценивая его, пишет: “Лицей был детищем бюрократии, но сама бюрократия начала царствования Александра I не была еще тем не только чуждым, но даже враждебным народу классом, каким застала ее наша эпоха” (там же, с. 45, 46). Видимо, поэтому вполне отвечал первоначальному замыслу Лицея лишь один барон М. А. Корф. Ясно, правда, одно, что на практике в Лицее не заботились о том, чтобы сформировать “нового человека”, “правильное мировоззрение” и т. п., даром что лицей был новым. Директор Лицея В. Ф. Малиновский, видимо, понимал, что будущий чиновник должен наиграться в детстве, усвоить правила и детской и взрослой игры. А наши — не доиграли, поэтому они невыносимы, скучны, а если играют, то без правил. Из лицея выходили не чиновники-дворяне, а “творяне”. Странно, что лицеисты сами не додумались до этого хлебниковского неологизма. Вообще-то, функциональная направленность любого государственного учреждения, в том числе и учебного, не нуждается ни в оправдании, ни в осуждении. Ведь вопрос — в мере. Утопий в истории идей и науки об образовании больше, чем в любой другой сфере. В их производстве преуспела и наша родная литература и поэзия XIX века. Ведь от идеи “лишнего человека” к идее “нового человека” меньше шага. Как бы предчувствуя эту угрозу, Л. Н. Толстой писал: “воспитание как умышленное формирование людей по известным образцам не плодотворно, не законно и не возможно” (Толстой Л. Н., 1989, с. 210). XX век показал — еще как возможно. Настолько, что уже во втором – третьем десятилетиях века мы постоянно слышим не просто протест, но крик души крупнейших поэтов против воспитания. Борис Пастернак в упомянутом выше стихотворении “Кремль в буран конца 1918 года” тоже предчувствовал: За морем этих непогод Предвижу, как меня разбитого, Ненаступивший этот год Возьмется сызнова воспитывать. Жутко читать строчки Максимилиана Волошина: Из всех насилий Творимых человеком над людьми, Убийство — наименьшее. Тягчайшее же воспитанье. Это — протест против тотального воспитания. Но ведь не все же были объектом воспитания. Должны были быть и воспитатели. Коварство (или подлость) власти состояла в том, что поэты, писатели, ученые, педагоги должны быть и объектами воспитания и субъектами-воспитателями. Поэт — объект воспитания: Моя страна со мною говорила, Мирволила, журила, не прочла... Я должен жить, дыша и большевея И перед смертью хорошея, Работать речь, не слушаясь, — сам друг. (О. Мандельштам) Он же — субъект воспитания: А я, как дурак, на гребенке Обязан кому-то играть. Наглей комсомольской ячейки И вузовской песни наглей Присевших на школьной скамейке Учить щебетать палачей. О. Мандельштам замечательно выразил и цель воспитания: Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов, Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов. Приведенные поэтические высказывания — это реакция не только на практику перманентного воспитания, заменившего собой идею перманентной революции, но прежде всего на идеологическую ориентацию человека в мире. Подобная ориентация порождала и продолжает порождать идеи и проекты социально-педагогического проектирования образования в целом и конструирования человека. Приведу программу такого конструктивизма, сформулированную недавно ушедшим от нас замечательным методологом Г. П. Щедровицким: “Представление человека, в аспекте педагогических процессов формирования и изготовления его, дает основание не только для более эффективной практической точки зрения и не только для преобразования педагогической практики в конструктивно-техническую деятельность, но и для нового естественнонаучного представления “человека”, при котором он выступает как порождение системы обучения и воспитания, обладающее всеми теми свойствами и качествами, которые закладываются в него этими процессами. Более того, оказывается, что именно это представление впервые даст нам средства для того, чтобы связать воедино логико-социологические и собственно психологические картины и таким образом продвинуться в создании общей модели “человека”, конфигурирующей все имеющиеся сейчас знания. И в этом состоит главное значение педагогической точки зрения на “человека”, которое мы здесь хотим подчеркнуть. Вместе с тем очень важно и существенно, что естественнонаучные знания о “человеке”, с какой бы точки зрения они не вводились и сколь бы сложными и синтетическими ни были, не могут заменить педагогических проектов “человека”. Поэтому наряду с исследованием живущих сейчас и живших в прошлом людей остается специальная деятельность педагогического проектирования “человека” (Щедровицкий Г. П., 1993, с. 133). Г. П. Щедровицкий был, конечно, интеллигентным ученым и ссылался на идеалы проектирования человека и на необходимость работы по их построению. Но ведь в России интеллигенция, к несчастью, привыкла “из вечных истин строить казематы” (М. Волошин). Автор крайне резко и во многом справедливо оценивает весьма скромные успехи в решении психолого-педагогической наукой классической проблемы соотношения обучения и развития и заключает: “...все и любые психологические знания о “человеке” до сих пор не могли дать знаний, необходимых для целенаправленного и сознательного формирования людей, обладающих заранее заданными свойствами и качествами” (там же, с. 129). И слава Богу, поскольку, благодаря этой своей некомпетентности, психологи просто не смогли внести сколько-нибудь существенный вклад в формирование “нового человека”. Они были слишком академичны (может быть, слишком порядочны) для этого (см.: Зинченко В. П., 1994). Можно даже согласиться с тем, что психологи были слишком путанно академичны, порой и нарочито путанны. В таком деле можно не без удовольствия принять упрек в недостатке таланта. Это было пассивное сопротивление психологов. Такой ориентации сопротивлялась и поэзия (не вся) и подлинная философия (тоже не вся). Приведу характеристику идеологической ориентации человека в мире, данную М. К. Мамардашвили: “... мы обычно предполагаем (это очень наглядно видно в просветительстве, во всяких волюнтаристских манипуляциях с социальной материей, в идее “нового человека”, которая одна из самых глупых и трагических в XX веке и примером которой может быть фраза: “писатели — инженеры человеческих душ”), что как существование самого вопроса о том, каков человек в определенном состоянии, в определенном бытии, так и ответ на этот вопрос есть привилегия кого-то другого, который лучше самого этого человека может знать, что хорошо этому человеку, а что — плохо. И поскольку и тот, и другой (например, и воспитуемый, и воспитатель) приобщены, согласно классической посылке, к одной и той же цепи бытия, которая однородна по всему пространству и допускает перенос знания, то “знающий” может перенести знание решительными действиями в жизнь другого, кроить и перестраивать се. А если будет сопротивляться, то, как говорил Чернышевский, 70 тысяч голов не жалко для установления истины, кому-то ясной за других (с тех пор масштабы “не-жалкого” несопоставимо и чуть ли не космически возросли). Отсюда фантастическое развитие своего рода торжествующей социальной алхимии. И, конечно, алхимическое претворение “социального тела” в непосредственное царство божье на земле, естественно, должно обращаться к массовому насилию, потому что люди обычно сопротивляются этому и не дают себя “тащить в истину” (Мамардашвили М. К., 1984, с. 68, 69). Наука об образовании (педагогика, психология и др.) все еще остается советской, несмотря на горячее желание многих избавиться от советских черт. Советская — вовсе не означает плохая, обязательно реакционная, мракобесная и т. п. В ней имеется всякое. Она, конечно, чрезмерно идеологизирована и, пожалуй, скучна. Скуку еще можно было бы какое-то время перетерпеть, наука все же не цирк и не обязательно должна быть веселой. Значительно хуже то, что утрата кредита доверия идеологией коммунистической вовсе не означает деидеологизации образования и наук о нем. За долгие десятилетия сформировалась потребность в идеологии и установка на то, что образование должно непременно содержать идеологическую компоненту. Такая готовность весьма опасна, так как она может найти себе пищу в любой из уже оформившихся или энергично оформляющихся преемниц коммунистической идеологии. Многие из них при наличии официальной идеологии были теневыми или присутствовали в ней в зачаточном состоянии. Сегодня они, как и теневая экономика, вышли наружу. Поэтому у нас нет и не было идеологического вакуума, в том числе и в образовании. Вместо давно корродировавшей, утратившей смысл и, благодаря “обманам путеводным” (Вяч. Иванов), имевшей определенные привлекательные черты коммунистической идеологии, мы получили полный, далеко не джентльменский, набор от утрированных религиозных догматов до фашизма. По этому поводу можно было бы не очень беспокоиться, если бы речь шла о цивилизованном правовом государстве, о нормальном гражданском обществе, а не о России и не о разбежавшихся и никуда пока не добежавших других республиках СССР. Они, конечно, виновны, но заслуживают снисхождения, поскольку и бежали-то они из ниоткуда, от осознанного, наконец, бесцветного будущего. Мы слишком хорошо знаем, что выходящие из подполья идеологии стремятся к сращиванию с властью и в случае успеха очень быстро становятся агрессивными и циничными. Сегодня у практиков и теоретиков образования имеется действительно богатый выбор для удовлетворения своей тоски по идеологии. С этой точки зрения вовсе не такой уж глупой, хотя и вполне советской, была попытка припавших на короткое время к власти демократов, наивно решивших, что в стране мгновенно образовался идеологический вакуум, заказать обществоведам, в их числе и недавним научным коммунистам, разработку новых общечеловеческих ценностей для посттоталитарного общества. Подобные попытки продолжаются. Никак не придет сознание того, что самое страшное — это создание новой единой идеологической системы. “А там, где есть система, там смерть... Ибо есть закон (и XX век подтверждает это), согласно которому всякая идеология неизменно стремится к тотальности” (Мамардашвили М. К., 1993, с. 61). Возможно, интуитивное ощущение опасности сложившейся в стране ситуации побуждало власти к быстрым и разнообразным реформам. Раз быстрые, значит головные, недостаточно прочувствованные и отрефлексированные. Это тоже советский архетип. Новые реформаторы, как и их советские предшественники, выдумывали и осуществляли реформы так, как будто они предназначены не для родной страны и своего народа, а для колонии. По поводу первой реформы школы это заметил еще Г. И. Челпанов. Это то, что называется “решение без проблем”. Есть воля к принятию решений, воля к власти и нет привычки к мышлению, к решению проблем, к деланию даже случайно принятых разумных решений: главное прокукарекать, а там хоть не расцветай. Слишком еще сильна большевистская экспериментаторская жилка у реформаторов. Еще в 1918 г. Игорь Северянин писал: Конечно, век экспериментов Над нами — интересный век... Но от щекочущих моментов Устал культурный человек. Что же можно сказать о состоянии человека после того, как он побывал в роли подопытного кролика (да еще и пребывает пока в этой роли) во всех экспериментах уходящего века? Об одном из экспериментов довольно мрачно заметил Борис Пастернак: ... телегою проекта Нас переехал новый человек. Хорошо, что телегой, а не впередлетящим паровозом. Кстати, новый человек “достал” Сергея Есенина уже в 1924 г.: Я человек не новый! Что скрывать? Остался в прошлом я одной ногою, Стремясь догнать стальную рать, Скольжу и падаю другою. Вовсе не праздный вопрос состоит в том, как советскую педагогику и психологию превратить в педагогику и психологию? Как советскую науку превратить в науку? Неужели снова революционные реформы? Не разумнее ли сделать передышку от реформ, от методологии и идеологии? Нужно время, чтобы от всего этого прийти в себя. Не разумнее ли попробовать просто осмысленно жить и не суетиться? Бессмысленно стряхивать с себя прошлое. Не стряхивается! Столь же бессмысленно строить с кондачка новое светлое будущее. Уже одно построили! Что же в такой ситуации может быть осмысленным? Этому посвящена хорошая книга Ф. Е. Василюка “Психология переживания”. Автор задумался над тем, что можно сделать, когда сделать ничего нельзя, когда ты и патовой или в шоковой ситуации. Ответ дан в такой же степени банальный, в какой и глубокий. Ситуацию надо пережить осмысленно. Само не перемелится. Ф. Е. Василюк вслед за З. Фрейдом говорит о пользе работы печали (а не “плача Ярославны”), поскольку ее итогом может быть образование новых, взамен утраченных, жизненных смыслов. Для искусства, литературы, философии и психологии особенно второй половины XX в. этот сюжет стал не столько классическим, сколько, к несчастью, постоянным и обыденным. XX век может быть признан рекордсменом по утратам общечеловеческих ценностей и смыслов, по идиотизму сконструированных взамен, по варварству в их навязывании и бесплодности поисков новых смыслов. Однако это не основание для их прекращения. Тем более науке и практике полезно опечалиться, посмотрев на плоды трудов своих, кстати, трудов, приводивших вовсе не всегда к плачевным результатам. Полезно перестать прислушиваться к бойким, суетливым и нечистым на руку пророкам. От них давно тошно. Переживание, работа печали, размышление — дело сугубо личное. Но поводырь или посредник в такой работе необходим. Нужен и слушатель, чтобы выговориться. Можно взять в посредники Господа, погрузиться в Библию, Талмуд, Коран, Джатаку,.. что само по себе неплохо, духовно отрезвляет. Но это не всем доступно. Дай Бог сначала сменить воинствующий атеизм на веротерпимость. Можно искать и другие пути. На один из них я пытаюсь встать сам и приглашаю других. Хочу обратить внимание на то, что оба процитированных автора — Г. П. Щедровицкий и М. К. Мамардашвили — шестидесятники. Они были дружны, основали вместе с Б. А. Грушиным и А. А. Зиновьевым во второй половине 50-х годов кружок “диалектических станковистов”. Когда они разошлись идейно, то сохраняли в высшей степени уважительное отношение друг к другу. Оба были не в восторге от советской власти, особенно М. К. Мамардашвили. Его отношение к власти даже нельзя было назвать презрением или ненавистью. Это было какое-то естественное физиологическое отвращение к ней, род брезгливости и несовместимости с ней. Оба выполняли роль Посредников — медиаторов между философией, методологией науки и психологией, педагогикой (возможно, и другими науками). К числу таких же посредников относились и Э. В. Ильенков, Э. Г. Юдин, Г. С. Батищев — некоторые другие, разумеется, тоже далеко не во всем согласные как друг с другом, так и с М. К. Мамардашвили и Г. Г. Щедровицким. Трогательное единство взглядов и несомненное взаимовлияние было у М. К. Мамардашвили с Эрнстом Неизвестным, Ю. М. Лотманом, А. М. Пятигорским. Но, к сожалению, в то время многие полярности, хотя и были выявлены, но не были отчетливо артикулированы и опубликованы. Приходится констатировать, что ситуация с шестидесятниками нашего столетия отобразила ситуацию с шестидесятниками прошлого: Но — века сын! Шестидесятых Годов земли российской тип; “Интеллигент”, сиречь “проклятых Вопросов” жертва — иль Эдип... (Вяч. Иванов) Психологии и наукам об образовании предстоит разумно оценить и возможно преодолеть многие ориентации: натуралистическую, технократическую, социал-конструктивистскую, идеологическую и пр. Думаю, что преодоление идеологической ориентации в этой работе должно занимать первое место. Наряду с преодолением одних ориентаций строятся другие, среди которых сегодня на первое место снова выходят проективные. В этом нет большой беды, если прорисовываются не только цели и благие намерения проектирования, но отчетливо указываются основания и пути проектирования. А с основаниями дело обстоит далеко не благополучно, на что справедливо указывал не только Г. П. Щедровицкий. Главным основанием, на мой взгляд, должно быть представление о возможностях человека и их развитии. Судьба, или планида образования состоит в том, что оно пролагает свой путь сквозь науку (в том числе и сквозь науку об образовании) и сквозь реальности и ирреальности жизни. Самое трудное — это понимание того, что мир знания, а соответственно и мир образования не полностью совпадает с миром науки. Образование мечется между наукой и жизнью, а также между мертвым и живым знанием. Почему именно живое знание? Потому что в нем слиты значение и смысл, чувственная и биодинамическая ткань. В концепции сознания, развитой в контексте психологической теории деятельности в варианте А. Н. Леонтьева, двумя главными образующими сознания являются смысл и значение. Понятие смысла указывает на то, что индивидуальное сознание несводимо к безличному знанию, что оно, в силу принадлежности живому субъекту и включенности в систему его деятельностей, всегда страстно. Короче, сознание есть не только значение (черпаемое извне знание), но и переживаемое отношение. Понятие значения фиксирует то обстоятельство, что сознание развивается не в условиях обинзонады, а внутри некоторого культурного целого, где исторически кристаллизован опыт общения, мировосприятия, деятельности и который индивиду надо построить (а не “присвоить”, как у К. Маркса и А. Н. Леонтьева). Иначе говоря, понятие смысла выражает укорененность индивидуального сознания в бытии человека, а понятие значения — подключенность этого сознания к сознанию общественному, к культуре. В эти рассуждения необходимо внести уточнения. Сам же А. Н. Леонтьев предположил, что в искусстве главное не значение, а смысл. Для педагогики поучительна характеристика кружка акмеистов, данная О. Мандельштамом: “Мы смысловики”. Да и в науке не все знания безнадежно бессмысленны, особенно в гуманитарной. Введение в знание смысловой составляющей — это не внешняя по отношению к знанию процедура. Смысл, разумеется, содержится в любом знании. Однако его экспликация требует специальной и нелегкой работы. Итак, поэтическая антропология, несомненно, возможна. Она давно существует in vivo. Работая над этим текстом, я понял, что это увлекательное путешествие нескончаемо. Ограничения, которые я для себя ввел: “поэтическая антропология глазами психолога” оказались весьма расплывчатыми, как расплывчаты границы самой психологии. По ходу работы у меня зрел другой более реалистический замысел. Не попробовать ли вернуться к хорошо забытой духовной психологии? Психологи (не только отечественные) довольно легкомысленно передали ее по ведомству теологии, религии и занялись, как им казалось, настоящим и полезным делом. Здесь не место оценивать, как религия распорядилась или распоряжается духовностью. Замечу лишь, что ей никто и никогда не передавал исключительного права распоряжаться ею. Почему бы и науке не последовать за А. Блоком, сказавшим: “Свою обедню отслужу”. (Как пояснялось в главе 1, в понятии “органическая психология” присутствует и духовное содержание. Согласно П. Флоренскому, во-первых, орудия труда созданы по образу и подобию человека, как его телесного, так и духовного организма, и, во-вторых, разум — тоже орган человека.) Духовность — более широкое понятие, чем религиозность. Она может быть и вполне светской. Аналогично, и понятие культуры значительно шире понятия культа. Поэтому духовность является предметом размышлений не только теологии, но и искусства (которое не столько размышляет о ней, сколько создает), и светской науки, в том числе и психологии, что, конечно же, не исключает их взаимодействия. Возьму на себя смелость утверждать — и взаимообогащения. Напомню о библейской последовательности творения: Дух – Жизнь – Разум. Наука, исследующая разум и оставляющая за рамками изучения дух, не имеет шансов разобраться и в разуме. “Вне духовного содержания, писал М. К. Мамардашвили, любое дело — это полдела. Не представляю себе философию без рыцарской чести и человеческого достоинства. Все остальное слова. Люди должны узнавать себя в мысли философов” (Мамардашвили М. К., 1990. с. 199). И в мысли психологов тоже. Для этого психолога должны не только признать наличие духовности, но и понять ее как поиск, как работу, как практическую деятельность, как опыт, посредством которых субъект осуществляет в самом себе преобразования, необходимые для саморазвития, самосовершенствования, внутреннего роста, достижения истины. Такое понимание духовности соответствует поискам замечательной нравственной отечественной философии конца XIX — начала XX века, соответствует и поискам некоторых наших современников, например, Виктора Франкла, Мишеля Фуко, Мераба Мамардашвили...
ГЛАВА 3 ГЕНОМ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА Для того чтобы читатели не испытывали дискомфорта в результате быстрого спуска с поэтических высот в более плотные слои атмосферы, насыщенной тяжеловесными научными понятиями и громоздкими интуициями, следует провести своего рода концептуальную адаптацию, настройку сознания на проблемы функциональных органов, единиц анализа деятельности, соотношения внешней и внутренней формы действия, интериоризации и экстериоризации.
3.1. Проблемы функциональных органов индивида Понятие функционального органа индивида проглядывается уже в немецкой классической философии. Гегель и Маркс относили к числу таких функциональных органов образы восприятия, человеческую память, мышление, эмоции, включая любовь, сознание и многое другое. По сути дела к ним причислялись все феномены психической жизни индивида. С точки зрения Маркса, важнейшей характеристикой живой системы, будь то индивид или социум, является возможность создания системой в процессе ее становления и развития недостающих ей органов. Аналогичные идеи развивал замечательный русский физиолог А. А. Ухтомский, которому принадлежит строгое определение понятия подвижного, интегрально целого функционального органа (см. также главу 1): “С именем “органа” мы привыкли связывать представление о морфологически сложившемся, статически постоянном образовании. Это совершенно не обязательно. Органом может быть всякое временное сочетание сил, способное осуществить определенное достижение” (Ухтомский А. А., 1978, с. 95). Концепция функциональных органов индивида достаточно хорошо развита в отечественной физиологии активности и в психологической теории деятельности. Практически одновременно с А. А. Ухтомским Н. А. Бернштейн рассматривал живое движение как динамический функциональный, подобный анатомо-морфологическим, орган индивида. Он обладает биодинамической тканью, реактивен, чувствителен, эволюционирует и инволюционирует. А. В. Запорожец сходным образом рассматривал установку, а затем и эмоцию. О. Мандельштам распространил свое понимание образа и представления как органа также и на словесные значения. Нельзя не заметить близость такого понимания к развивавшейся Л. С. Выготским интерпретации слова и знака как психологического орудия. Н. А. Бернштейн утверждал, что функциональный орган, подобно морфологическому органу, эволюционирует и инволюционирует, к тому же еще и реактивен. Без упражнений, в результате болезни и старости он инволюционирует. Реактивен он как в смысле классической реакции, так и в смысле зависимости от обстоятельств. Наглядный пример — ходьба. Мы иначе идем по паркету, чем по глубокому снегу или скользкому льду. В то же время живое движение активно, спонтанно, произвольно, свободно, то есть независимо от внешних целей. Произвольность обнаруживается в том, что мы мысленно можем проиграть движение до движения, действие до действия. А затем в нашей воле совершить его реально или не совершать. Замечательна первая характеристика живого движения, данная на основании его первых исследований биомеханики удара: “... ударное движение при рубке есть монолит, очень четко отзывающийся весь в целом на каждое изменение одной из частей. Можно было бы сказать, что движение реагирует как живое существо” (Бернштейн Н. А., 1924). (Замечу, что такими же свойствами монолита обладают поступок и, как ни странно, озарение.) К этим чертам движения А. В. Запорожец добавил еще ощущаемостъ, а Н. Д. Гордеева и В. П. Зинченко — чувствительность. Благодаря этим последним свойствам возникает и управляемость живого движения. Согласно Н. А. Бернштейну, живое движение обладает собственной весьма сложной биодинамической тканью, которая описывается не метрическими, а топологическими категориями. Он уподоблял живое движение “паутине на ветру”. Кроме того, движение тесно связано с чувственной тканью, и, наконец, оно характеризуется и смысловыми чертами, поскольку с его помощью решается та или иная задача. Обратим внимание на парадоксальность характеристик, которые давал Н. А.Бернштейн живому движению. С одной стороны, — это монолит, конструкция, а с другой, — паутина на ветру (см. рис. 1). Загадочной остается проблема построения движения, формирования навыка, так как, с одной стороны, он результат упражнений, с другой, упражнение — это повторение без повторения (см. рис. 2). Как без повторения возможно обучение? Если нет повторения, то как возможен и, если возможен, что собой представляет эталон для обучения или энграмма, след в памяти, образующийся в результате обучения? Что мы заучиваем и что помним? По всей видимости, усваиваются не конкретные движения, а правила их построения. Мы, таким образом, получаем важнейший признак живого движения: оно рождается, развивается, строится. Движение — “монолит” и “паутина на ветру”

Рис. 1. Циклограмма последовательных вертикальных ударов кузнечной кувалдой (Н.А. Бернштейн, 1924)
К этим парадоксам добавим еще один: динамические функциональные органы это не только новообразования, что обычно отмечалось, но и искусственные образования. Ничто не мешает рассматривать их в одном ряду с прочими артефактами. Назовем их артефактами первого рода или натуральными артефактами, которые должны лежать в основе формирования артефактов второго рода или культурных новообразований. Различение натуральных и культурных артефактов само по себе составляет сложную проблему. Натуральные артефакты — это то, что Гегель именовал второй природой, например, привычки. Н. А. Бернштейн назвал человеческое движение живым и уподобил его не только живому органу, но и живому существу. Оправдание этой метафоры возможно лишь в том случае, если будет раскрыто ее содержание. Интуитивно эта метафора не вызывает возражений и принимается всеми. Видимо, в основе этого лежит обнаруженная учеными замечательная способность нашего глаза отличать живое движение от механического за две-три десятых секунды. Тем не менее концептуально отличить живое движение от механического столь же сложно, как концептуально определить различия между живым и неживым веществом. Говоря о сложности определения живого вещества, В. И. Вернадский подчеркивал, что различая их на глаз, он никогда не ошибается. Но науке различий “на глазок” недостаточно.
"Упражнение — это повторение без повторения'
 начальная стадия
начальная стадия
 конечная стадия
Рис. 2. Обучение обведению предъявленного на экране контура квадрата при помощи ручки управления (Н.Д. Гордеева, 1972)
конечная стадия
Рис. 2. Обучение обведению предъявленного на экране контура квадрата при помощи ручки управления (Н.Д. Гордеева, 1972)
И все же наука, вслед за художественной и обыденной речью использует метафору “живое” не только применительно к веществу и движению. Нередко встречаются словосочетания: живой образ, живой символ, живое слово (Н. Гумилев мертвые слова отличал по запаху), живые переживания, живая память, живая душа, живое движение истории, живая метафора, живое знание (С. Л. Франк, А. Н. Леонтьев), наконец, когда-то говорили о живой смерти и мертвой жизни. Все это не случайно, поэтому важная задача науки состоит в том, чтобы, проникая в строение или структуру живого, рассекая и анатомируя, не умерщвлять его, а сохранять живым. Сказанное в равной степени относится к теоретическому воспроизведению, экспериментальному исследованию и моделированию живых процессов и актов. В моделях должны сохраняться их смысл и динамика. Тогда модели будут не только функциональными, но и предметными. Речь идет о том, чтобы добывать о живом живое, а не мертвое знание. Разрешима ли задача сохранения живого в принципе? Воздержимся пока от окончательного ответа на этот вопрос. Не будем спешить с ним. Попробуем посмотреть, как он решается не теоретически, а практически, экспериментально. Сегодня возможности традиционных психологических, биомеханических, физиологических экспериментальных исследований различных форм моторной активности увеличены многократно. Экспериментальной науке доступна не только микроскопия неподвижных форм в пространстве, но и микроскопия времени, то есть микроскопия подвижных и текучих форм в пространстве и времени, микроскопия хронотопа. Это отмечал еще А. А. Ухтомский в 1927 г., оценивая пионерские биомеханические исследования Н. А. Бернштейна. Любые живые движения можно регистрировать, перезаписывать, воспроизводить с помощью различных записывающих, хранящих, преобразующих, воспроизводящих устройств. Однако с помощью подобных устройств решается лишь задача запоминания и воспроизведения сырой информации о живом. Ее воспроизведение способно вызывать у нас удивление, восхищение (спорт) или эстетическое наслаждение (балет), но не дает приращения научного знания о живом движении. Рискуя быть банальным, скажу, что живое живо не только своими внешними, но и своими внутренними формами. Можно ли проникнуть во внутренние формы (внутреннюю организацию движений), если они не доступны непосредственному наблюдению? Конечно, непосредственно наблюдать внутренние формы нельзя, спрашивать о них субъекта действия бесполезно, фантазировать о них, свободно интерпретируя внешние формы как проявление внутренних, рискованно, складывать оружие и признать проблему неразрешимой преждевременно. И все же регистрация внешнего исполняющего движения необходима. Необходима и интерпретация, но не вольная, не фантастическая и не эстетическая, а научная, кропотливая, на первых порах неизбежно скучная, а потом неизбежно удивительная, порой дающая результаты, приводящие исследователя в восхищение. Удивиться можно и нужно элементарному факту, отмеченному Н. А. Бернштейном: “упражнение — это повторение без повторения”. Потом исследователи убедились в справедливости этого высказывания. Они регистрировали тысячи реализаций элементарного прямолинейного перемещения ручки управления, и компьютер, анализировавший результаты, не нашел двух совершенно одинаковых. Различия касались величины латентного времени, скорости, ускорения, переходного процесса от ускорения к торможению, точности результата действия и многих других деталей. Конечно, различия были невелики, “на глазок” абсолютно незаметны, с точки зрения решения практической задачи движения совершенно несущественны, но это и были живые движения (см. рис. 3). Их динамические, квантово-механические и волновые свойства определяются не только внешними обстоятельствами осуществления действия, его внешними средствами, мерой освоенности, но двигательной задачей, ее смыслом. Задумаемся над тем, какие усилия нужно было бы приложить инженеру, чтобы создать “живой поршень”, каждое движение которого было бы своеобычно, как отпечаток пальца? Динамичность, непостоянство функциональных органов означает, что они существуют лишь здесь и теперь, хотя, конечно, обладают некоторой инерционностью. Такой функциональный орган индивида как интегральный образ мира обладает свойством открытости. Он может обогащаться, может и беднеть (небо может показаться с овчинку). В пространстве образа происходит осмысление ситуации, кристаллизация и решение проблем, принятие решений и т. д. Это и означает регулирующую роль образа. Но после осуществления всех перечисленных процедур начинается процесс, обратный композиции, — декомпозиция образа

Рис. 3. Сопоставление механического (слева) и живого (справа) движения: фазовый портрет (А), а также путь (Б) и скорость (В) в зависимости от времени (Н. Д. Гордеева, А. В. Курганский, А. И. Назаров, 1996)
Последняя необходима не для принятия решения, а для успешной его реализации. Образ ситуации не просто распадается, а трансформируется в образ действия. Процедуры информационной подготовки и принятия решений показаны на рис. 4, в котором в обобщенной форме представлены результаты многолетних исследований (см.: Зинченко В. П., Величковский Б. М., Вучетич Г. Г., 1980; Зинченко В. П., Мунипов В. М., 1979, 1997; Гордон В. М., 1996). На рис. 5 представлена функциональная модель предметного действия, свидетельствующая о высокой дифференциации и большой сложности его внутренней формы. Внимательный анализ модели может привести к парадоксальному заключению. В ней минимальный удельный вес занимают собственно моторные компоненты. Она практически вся состоит из когнитивных, образных, программирующих, оценочных компонентов. И это при том, что в нее не включены (или, точнее, присутствуют в латентной форме) такие важнейшие компоненты внутренней картины предметного действия, как слово, эмоция (от слабого эмоционального фона до аффективного взрыва). Нет в модели и специального блока принятия решений. Принятие решений — это слишком ответственное дело, чтобы доверять его какому-либо одному блоку или центру. Оно, как рассеянный склероз, является свойством предметного действия как целого. Структура предметного действия на самом деле значительно сложнее по сравнению с тем, как она описывается моделью (см.: Гордеева Н. Д., Зинченко В. П., 1991, с. 162—190; Гордеева Н. Д., 1995). Деятельность и действия человека строятся и осуществляются не в вакууме. Они происходят в пространстве и времени созданного человечеством предметного мира, в опредмеченном и названном — частично освоенном, частично разрушенном — мире Природы и Космоса. Они “овременяют пространство”, располагаясь вдоль “стрелы времени” или на ней, создают собственное внутреннее предметное время. Поэтому действие называют предметным. Предметный мир может быть податливым, сопротивляющимся, нередко агрессивным. В любом случае регулятором действия является более или менее полный, адекватный и осмысленный образ этого мира. Движения и действия, осуществляющиеся на предметном уровне, следуют не за пространственным, а за смысловым образом. Смысл действия, хотя и скрыт от внешнего наблюдателя, но зачастую непроизвольно прорывается вовне, например, в виде дрожаний голоса или рук. Поэтому действие называют предметным и осмысленным.

Рис. 4. Информационная подготовка принятия решения в кратковременной памяти

Рис. 5. Функциональная модель предметного действия (Н. Д. Гордеева, В. П. Зинченко, 1982) А = афферентатор полимодальный П = схемы памяти Од = образ действия Ос = образ ситуации ИП = интегральная программа, план действия ДП = дифференциальная программа М = моторный компонент К = контроль и коррекция 1 = предметная ситуация (двигательная задача, мотив) 2 = установочный сигнал 3 = текущие и экстренные сигналы 4 = текущие и экстренные команды 5 = изменение предметной ситуации 6 = информация из окружающей среды 7 = информация из схем памяти 8 = актуализация образа 9 = информация, релевантная двигательной задаче 10 = формирование программы, плана действия 11 = схема действия 12 = детализация программ действия 14 = текущая информация от движения 13 = моторные команды 15 = текущий коррекционный сигнал 16 = упреждающая обратная связь 17 = коррекционные моторные команды 18 = конечная информация от движения 19 = изменение предметной ситуации (информация для образа ситуации и образа действия) 20 = изменение предметной ситуации (информация для полимодального афферентатора) 21 = конечный результат 22 = информация в схемы памяти
Действие называется естественным, когда субъект пользуется лишь своими естественными органами и в согласии с природными или культурными стереотипами. Оно может быть также орудийным, инструментальным, когда человеческая рука выступает как “орудие орудий” (Ф. Бэкон). Орудийное действие не обязательно сложнее естественного. В любом случае действию нужно учиться. Орудийное действие можно считать дважды предметным, поскольку оно с помощью одного предмета — орудия — воздействует на другой предмет — материал. Поэтому, когда говорят о предметном орудийном действии, — это не тавтология. Естественное действие часто называют непосредственным, а орудийное — опосредствованным. Это не вполне точно, поскольку и естественное действие также опосредствовано опытом, обучением, символами, словом, мотивами, целями, задачами и многими другими привходящими и меняющими его переменными. Следовательно, орудийное, инструментальное действие дважды предметно и дважды опосредствовано. Оно совмещает в себе биомеханику, психологию, физиологию функционирования естественных органов человека с кинематикой и логикой оперирования искусственными орудиями. Последние не только продолжают естественные органы, но чаще всего требуют трансформации естественных или построения новых движений. В идеале желательно, чтобы такая, в принципе необходимая, трансформация не деформировала и не уродовала телесные органы движения и организм в целом. Различие между естественным органом человека и искусственным орудием с психологической точки зрения весьма относительно. К этой относительности чувствителен язык. Естественные органы иногда называют орудиями, а орудия, инструменты — органами. К. Линней, восхищаясь органами чувств, назвал их преизящно устроенными орудиями. П. А. Флоренский рассматривал искусственные орудия как органопроекцию естественных органов (подробнее об этом см. в главе 1). Н. Ф. Федоров сетовал на то, что люди прилагают значительно большие усилия для создания искусственных органов, чем для развития и совершенствования собственных. Он мечтал о том времени, когда и тем, и другим будет уделяться хотя бы одинаковое внимание, результатом чего должна стать “полноорганность”. Это не беспочвенные мечтания. “Полноорганность”, то есть высочайшее овладение предметом, орудием, требующее не менее высокого развития собственных органов, встречается в искусстве, в трудовой деятельности, в спорте высоких достижений. Пока трудно представить, как включить в ее состав предмет действия, хотя несомненно, что на высоком уровне овладения предметом, то есть на уровне мастерства, искусства, движение и предмет – средство смыкаются в единое психофизическое или даже психофизиологическое образование. Они вместе составляют живой функциональный орган или артефакт второго рода. Для того чтобы пояснить, о чем идет речь, приведу отрывок из интервью со знаменитым виолончелистом Мстиславом Ростроповичем. На вопрос журналиста, выяснились ли до конца его отношения с виолончелью Страдивари-Дюпор, мастер ответил: “А никаких отношений больше нет. С некоторых пор я не могу понять, где мы с ней разъединены. У меня есть два моих портрета, один давнишний, Сальвадора Дали, другой, сделанный позже, такого замечательного художника Гликмана, он живет в Германии, ему за восемьдесят сейчас. Так у Дали мы вдвоем с виолончелью, я ее держу, все отлично. А у Гликмана — я есть, а виолончель стала таким красным пятном у меня на животе, вроде вскрытой брюшины. И в самом деле, я ощущаю ее теперь так, как, видимо, певец ощущает свои голосовые связки. Никакого затруднения при воспроизведении звуков я не испытываю. Я же говорю, не отдавая себе отчета — как. Так же и играю, безотчетно. Она перестала быть инструментом. — Ей, наверное, обидно. Так раствориться... — Еще как обидно-то! Ничего, потерпит” (Чернов В., 1994, с. 8). Разумеется, этот пример не уникальный, но он превосходно описан мастером. Если воспользоваться образом М. Мерло-Понти, то виолончель инкрустирована в тело музыканта. Инкрустация — больше, чем овладение. Ее достижение требует огромного и вдохновенного труда. К числу сложносоставных функциональных органов — артефактов могут быть отнесены всадник — лошадь, д’Артаньян и его шпага, хирург — зонд и т. д. Во всех этих и подобных случаях мы имеем временное сочетание удивительно согласованных объединенных в единый организм сил, способных осуществить определенное достижение. Именно так А. А. Ухтомский характеризовал не анатомический, а функциональный орган. Можно даже сказать организм. Подобное возможно лишь в том случае, если человек одухотворяет предмет, вкладывает в него и в действие с ним свою душу или хотя бы ее частицу. Справедливо и обратное. В случае Ростроповича мастер вобрал в себя через виолончель часть души ее создателя Страдивари. Орудия, таким образом, могут выступать не только как продолжение или усиление органов человеческого тела, но и как продолжение души. Звучащая виолончель Дюпор представляет собой продолжение душ Страдивари – Ростроповича. Ю. Б. Гиппенрейтер приводит высказывание Г. Гейне о том, что выдающиеся пианисты достигают такого уровня мастерства, когда “рояль исчезает и остается одна музыка” (Гиппенрейтер Ю. Б., 1988, с. 66). Из этих превосходных примеров видно, что построить действие с предметом — инструментом столь же трудно, сколь трудно создать живой инструмент. Сказанное справедливо не только для инструментального, но и для естественного действия. Пушкинский “Душой исполненный полет” язык не поворачивается назвать естественным, так как у поэта речь идет об искусстве, о знаковом, символическом действии, о сценическом действе, о магии балета. К сожалению, системы человек — машина чаще всего далеки от гармонии и совершенства. Когда о взаимоотношениях человека и машины говорят как о системе, то это, скорее, аванс. Желаемое выдастся за действительное. Знаменательно, что О. Мандельштам не только рассматривал образ как функциональный орган, но и признавал наличие в нем энергетического заряда. Из ученых, развивавших идеи функциональных органов, об их энергетике писал наиболее определенно А. А. Ухтомский (“сочетание сил, способное осуществить определенное достижение”). Я уже не раз в других контекстах использовал фразу О. Мандельштама о том, что даже остановка — это разновидность накопленного движения. Когда посредством перцептивных действий формируется образ, то он аккумулирует и содержит в себе энергию, накопленную в этих действиях. Движения, осуществлявшиеся в пространстве и времени, трансформировались в симультанный пространственный образ, лишенный координаты времени. Но благодаря накопленной энергии он вновь может развернуться в последовательность движений. Естественно, что сейчас преждевременно говорить о соотношении потраченной и накопленной энергии при построении образа. И та, и другая может быть огромной. Композиция образа из действий, объединение их в смысловые формулы, равно как и декомпозиция образа в действия, воплощение образа, требуют больших усилий. Лишь благодаря накопленной энергии возможен порыв к новым перцептивным, мнемическим, умственным или к исполнительным действиям. Энергия развития, человеческая сущностная сила, сила духа — это ключевые понятия, практически отсутствующие в психологии развития. Для того чтобы вчувствоваться в них, полезно обратиться к размышлениям на эту тему Б. Пастернака: “...в отличье от науки, берущей природу в разрезе светового столба, искусство интересуется жизнью при прохожденьи сквозь нее луча силового. Понятье силы я взял бы в том же широчайшем смысле, в каком берет его теоретическая физика, с той лишь разницей, что речь шла бы не о принципе силы, а о ее голосе, о ее присутствии. Я пояснил бы, что в рамках самосознанья сила называется чувством” (Пастернак Б. Л., 1985, с. 174). И далее Б. Пастернак пишет: “Собственно, только сила и нуждается в языке вещественных доказательств. Остальные стороны сознанья долговечны без замет. У них прямая дорога к воззрительным аналогиям света: к числу, к точному понятью, к идее. Но ничем, кроме движущегося языка образов, то есть языка сопроводительных признаков, не выразить себя силе, факту силы, силе, длительной лишь в момент явленья” (там же, с. 174, 175). Приведенные размышления Б. Пастернака относятся к проблематике не психологии, а возможной творческой эстетики. Однако, по его же словам, особенности жизни становятся особенностями творчества. Поэтому перенос этих идей на поле психологии вполне оправдан. Эта попытка “материализации” силы в чувстве и описания ее с помощью языка образов была сделана Б. Пастернаком в начале 30-х гг. К этому времени О. Мандельштам уже дал интересный проект ее решения, согласно которому средством сосредоточения, или аккумуляции силы было не только чувство (идея Б. Пастернака), но и образ, включая и представление. Если функциональный орган — это сочетание сил, то образ — это не только выразитель силы (как и у Б. Пастернака), средство ее репрезентации, он и сам есть сила или даже сочетание сил. К. Маркс писал, что история промышленности — это раскрытая книга человеческих сущностных сил. Едва ли он имел в виду лишь “рабочую силу” или мышечные силы двигательных органов. Спору нет, прочесть историю развития человеческих сущностных сил в промышленности крайне трудно. Но не менее трудно проследить их возникновение и действие в индивидуальной жизни отдельного человека. Когда я думаю о природе прозрений О. Мандельштама, Б. Пастернака, мне кажется, что это результат гениальной интроспекции над процессами собственного творчества. Она сродни самонаблюдениям А. Эйнштейна за ролью зрительных образов и даже мышечных ощущений в его научном творчестве. Если с поэтических высот спуститься на землю, к психологической реальности, то следует согласиться с наличием видов поведения и деятельности человека, которые имеют прагматический, утилитарный, исполнительный вектор, и видов поведения и деятельности, имеющих когнитивный вектор. Это признавал даже бихевиорист Э. Толмен. К этим векторам целесообразно добавить еще один, а именно субъективно-ценностный, смысловой вектор. Разумеется, в чистом виде они встречаются редко, если вообще встречаются. Но соотношение прагматического, когнитивного и аксиологического векторов может быть весьма различным. В тех или иных видах поведения или деятельности любой из них может быть исчезающе мал. Совершенно ясно, что прагматический вектор — это в основном трата энергии, порой чрезмерная. Что же касается когнитивного вектора, то умственный труд очень неохотно признается трудом. Но, видимо, за любым поведением и деятельностью следует признать свойство накапливания энергии, запасания ее впрок, пусть и в разных количествах. Повторяюсь, что различия в энергии количественно сопоставить, измерить трудно, если вообще возможно. Но между ними несомненно существуют качественные различия, область поиска которых известна. Я имею в виду различия между реализацией, исполнением и моторными программами этого исполнения, запасенными в процессах жизни, обучения, а точнее в процессах творчества жизни. Известно, что возможно оперирование моторными программами. Это “проигрыш” возможных вариантов действия до самого действия. А. В. Запорожец около 50 лет тому назад назвал его внутренней картиной движения (ср. “Разыгранный кусок природы”). Аналогичным образом существует внутренняя, в том числе энергетическая форма слова. Одни виды поведения и деятельности осуществляют только полет, другие виды, производя эту нелегкую работу, ухитряются еще давать семя, зародыш, а то и конструировать по ходу полета другую машину. Да к тому же еще накапливать силы для следующей. Пока это еще прямая перспектива развития или, как принято говорить, поступательное движение и развитие. Но ведь конструирование второй машины необходимо для сохранения движения. Здесь одновременно и полет, и создание нового, готового к его продолжению. Психологическая реальность не только субъективна, но и субъектна. Поскольку я, интерпретируя метафору, ухожу от поэтической материи к психологической реальности, то образу Мандельштама нужно дать другое имя. Не аэроплан, не снаряд. Не очень подходит, хотя сейчас облегчает принятие этого образа, и многоступенчатая ракета. Можно было бы пойти по пути создателей искусственного интеллекта и назвать этот образ искусственным индивидом. Кстати, и аббревиатура была бы одинаковой: ИИ. Но термин “искусственный” содержит в себе оттенок безответственности. К ИИ не может быть претензий со стороны естественного интеллекта, раз он искусственный. Серьезные ученые относятся к нему скорее с оттенком снисходительности. Поэтому я использую значительно более обязывающее и одновременно облегчающее дальнейшее изложение имя. На имя претендует даже комариная заноза: Не забывай меня, казни меня, Но дай мне имя, дай мне имя: Мне будет легче с ним — пойми меня... (О. Мандельштам) Я использую имя “идеальная личность”. Это образование должно быть получено в конце анализа и с другим именем, но для того чтобы к нему прийти, оно должно присутствовать с самого начала. Реальная личность должна быть или появиться внутри процесса развития, а идеальная личность (исторический человек, может быть, сознание, дух) должна обволакивать процесс развития в целом: Что делать, самый нежный ум Весь помещается снаружи. (О. Мандельштам) В этом пункте я следую за Л. С. Выготским, который в одной из своих лекций, рассматривая специфические особенности психического развития и сравнивая его с другими типами развития (эмбрионального, геологического, исторического и т. п.), говорил. “Можно ли себе представить... что, когда самый первобытный человек только-только появляется на Земле, одновременно с этой начальной формой существовала высшая конечная форма — “человек будущего” и чтобы та идеальная форма как-то непосредственно влияла на первые шаги, которые делал первобытный человек? Невозможно это себе представить... Ни в одном из известных нам типов развития никогда дело не происходит так, чтобы в момент, когда складывается начальная форма... уже имела место высшая, идеальная, появляющаяся в конце развития, и чтобы она непосредственно взаимодействовала с первыми шагами, которые делает ребенок по пути развития этой начальной, или первичной, формы. В этом заключается величайшее своеобразие детского развития в отличие от других типов развития, среди которых мы никогда такого положения вещей не можем обнаружить и не находим... Это, следовательно, означает, что среда выступает в развитии ребенка, в смысле развития личности и ее специфически человеческих свойств, в роли источника развития, т. е. среда здесь играет роль не обстановки, а источника развития” (Выготский Л. С., 1984, т. 4, с. 395). В этом длинном отрывке, взятом из лекции Л. С. Выготского, есть две важные для дальнейшего изложения мысли. Первая — об идеальной форме. Здесь я принимаю его размышления лишь с одной оговоркой, касающейся “человека будущего”. Он и сам берет этого человека в кавычки, поскольку, что? это за человек, никому неизвестно. Однако сама идея о наличии идеальной формы в начале развития, мне кажется заслуживает самого пристального внимания. Но “человека будущего” я заменяю “идеальной личностью”, которая содержит в себе прошлого, настоящего и будущего, т. е. исторического человека. Выготский был заражен революционным энтузиазмом, но рано сбрасывал со счетов “человека прошлого”. Максималист в сфере нравственности (прежде всего по отношению к себе) М. К. Мамардашвили говорил, что личность едина, если не единственна, — это Господь Бог?! Близкие мотивы мы находим у О. Шпенглера, который писал, что “личность означает не нечто единичное, но нечто единственное” (1991, с. 52). Впрочем психологи и педагоги весьма оптимистичны относительно процента личностей. Во всяком случае в своем научном сообществе. Без особых размышлений, по давно заведенной традиции многие из них без устали воспроизводят пустую идею всестороннего и гармонического развития личности. О. Мандельштам в 1923 году писал: “Пустопорожняя, раздутая трюизмами и арифметическими выкладками болтовня о гармонической личности, как сорная трава, лезла отовсюду и занимала место живых и плодотворных мыслей” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 38). Она лезет до сих пор! Следующий важный пункт касается проблемы источника развития. Здесь Л. С. Выготский забывает об идеальной форме и называет в качестве такого источника среду. Не нужно разъяснять, в качестве именно источника, а не обстановки развития для Л. С. Выготского и его последователей выступала культура. Но с самим Л. С. Выготским дело обстояло не так просто. Он ведь культурно-опосредствованными считал лишь высшие психические функции, противопоставляя их так называемым натуральным (или низшим, элементарным) функциям, к которым относил, например, ощущения, восприятие, механическое запоминание. За это его критиковал один из ближайших учеников и сотрудников А. В. Запорожец, который, вводя понятие общественно выработанных сенсорных эталонов (шкала музыкальных звуков, геометрические формы, решетка фонем родного языка и т. п.), доказывал, что и натуральные, по Л. С. Выготскому, функции являются на самом деле опосредствованными. “Культурная экспансия” на психику продолжалась и после кончины Л. С. Выготского. Упрекая Л. С. Выготского за переоценку, скажем, культурной среды в развитии, не следует забывать, что его понимание культуры было богаче нашего, хотя и в его время уже не массы овладевали культурой, а искусственно сконструированный идеологический эрзац культуры (“Азбука коммунизма”) овладевал массами. Неплохо бы спросить у самой культуры, что она думает по этому поводу. Как она относится к тому, что она тотально опосредствует собой всю психику и, мало этого, — всю жизнь личности? В. Набоков пишет в “Даре” о своем отце — любителе путешествий в горах: “Просто он был счастлив среди еще недоназванного мира, в котором он при каждом шаге безымянное именовал”. У него, конечно, были “общественно выработанные сенсорные эталоны”, но там они едва ли могли найти какое-либо применение. Что касается “именования”, то оно совершалось не до, а после события непосредственного восприятия, вызывающего ощущение счастья. К проблеме соотношения непосредственного и опосредствованного я еще вернусь, а сейчас обратимся к тезису Л. С. Выготского об источнике развития. Среда ли, обстановка, культура, коллектив, обучение, воспитание, наконец, даже наследственность — все это при всей своей важности не обеспечивает автоматически самостоятельности в развитии, в выборе своей судьбы, в том, чтобы родиться самому и испытать счастье от своего рождения (“от существования из самого себя”) или глубокое переживание от своего “нерождения”. Большую радость испытывает человек, возвращаясь к себе. Вот что пишет А. А. Ухтомский в письме из своего родного Рыбинска: “... ибо лишь сюда возвращаясь, я прихожу в себя, во внутреннего своего человека, и начинаю с миром на душе отдавать себе отчет в том, что ценно и обманчиво, в чем правда и в чем ошибка” (1996, с. 37). Не прошел мимо этой проблемы и О. Мандельштам: “Никто, даже отъявленные механисты, не рассматривают рост организма как результат изменчивости внешней среды. Это было бы уж чересчур большой наглядностью. Среда лишь приглашает организм к росту. Ее функции выражаются в известной благосклонности, которая постепенно и непрерывно погашается суровостью, связывающей живое тело и награждающей его смертью. Итак, организм для среды есть вероятность, желаемость и ожидаемость. Среда для организма — приглашающая сила. Не столько обстановка, сколько вызов” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 122). Мне кажется, что имеется разница между движущей и приглашающей силой. И здесь я скорее согласился бы с О. Мандельштамом. Ведь культура, приглашая всех, может и оттолкнуть недостойного. Культура в объятья первого желающего не падает, писал Б. Пастернак. В русском языке слово “источник” имеет двойной смысл. Он может быть внешним и внутренним. Культура — это внешний источник, вызов, приглашающая сила, но она бессильна, когда иссякают внутренние, лучше сказать, собственные источники и движущие силы развития и саморазвития. Сказанное в равной степени относится и к индивиду, и к социуму. К этой роли культуры в человеческом развитии мы вернемся еще раз в разделе 3.6. В приведенном отрывке О. Мандельштам включает смерть в процесс развития. Это фундаментальная идея, которая вовсе отсутствует в контексте психологии развития. Без идеи смерти нельзя понять формирование сознания и самосознания: Неужели я настоящий, И действительно смерть придет. Или: Когда б не смерть, так никогда бы Мне не узнать, что я живу. А человеческая жизнь для Мандельштама — это свобода вздоха и сознание цели: Так, чтобы умереть на самом деле, Тысячу раз на дню лишусь обычной Свободы вздоха и сознанья цели. Конечно, переживание смерти глубоко индивидуально, и в разные эпохи человеческой жизни смерть переживается с разной силой. А. А. Ухтомский глубоко подметил грандиозную разницу между отвлеченным знанием смерти и переживанием смерти любимого человека, т. е. между значением и смыслом смерти, если пользоваться терминами А. Н. Леонтьева: “Человек до смерти любимого и человек после нее, — переживший и вкусивший ее, — это два совершенно разных человека, мало понимающих один другого, вроде того как глухой не может понять музыканта и природный слепец не может представить себе мироощущения зрячего. Когда я слышу попытки философствования с легким сердцем со стороны человека, о котором мне известно, что он еще не пережил смерти любимого (отца, матери, друга, мужа), я чувствую, что спорить не надо, не надо возражать: тут еще не принято в соображение самое главное, не изведаны основные и важнейшие грани бытия! Рассуждениями о смерти как об отвлеченном понятии может удовольствоваться лишь тот, кто не видел ее бесповоротного значения как неизгладимого наличного факта! И только пережив ее значение, человек начинает понимать вообще трагическое значение наличного мира, как надлежащего, необходимого, рокового (которого “нельзя обойти”!) опыта! Начинает понимать значение каждого текущего момента, каждого встречающегося человеческого лица как неповторимого и бесповоротного задания жизни. И с этого момента мир и жизнь приобретают вдруг небывалую серьезность” (Ухтомский А. А., 1996, с. 217, 218). Далеко неоднозначно смерть представлена и в творчестве О. Мандельштама, что заслуживало бы специального анализа. В 1916 г. он пишет: Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, И каждый час нам смертная година. В 1932 г. эта же тема звучит иначе: О, как мы любим лицемерить И забываем без труда То, что мы в детстве ближе к смерти, Чем в наши зрелые года. Дети действительно находятся ближе к смерти, они острее чувствуют и переживают се. Взрослые нередко уверены, что умирают только другие и избегают глядеть на “изгибы людских страстей, людских забот”. О. Мандельштаму казалось, “что смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее заключительное звено” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 157). Говоря о смерти Пушкина и Скрябина, он пишет: “Она не только замечательна как сказочный посмертный рост художника в глазах массы, но и служит как бы источником его творчества, его телеологической причиной. Если сорвать покров времени с этой творческой жизни, она будет свободно вытекать из своей причины — смерти, располагаясь вокруг нее, как вокруг своего солнца и поглощая его свет” (там же). Если это действительно так, то к этим именам несомненно следует добавить и имя самого О. Мандельштама. В то же время участие переживания смерти в творчестве не такое простое и уж во всяком случае не непосредственное. Подлинное творчество осуществляется: В сознании минутной силы, В забвении печальной смерти. Вполне забыть ее он не мог: Уходят вдаль людских голов бугры, Я уменьшаюсь там — меня уж не заметят, Но в книгах ласковых и в играх детворы Воскресну я сказать, что солнце светит. (1936—1937) Я не буду подробно развивать эту тему. Мне важно обозначить для нее место в контексте проблем развития самосознания и сознания. В неопубликованной до сих пор книге Ф. Д. Горбова “Я второе Я”, в главе, посвященной самоубийству, автор рассматривает самоубийство как результат драмы, разыгрывающейся между первым и вторым Я. Тема смерти, таким образом, это не просто одна из тем внутреннего диалога. Смерть должна быть рассмотрена как одна из движущих сил развития, а не только в контексте эмоциональных переживаний страха смерти. Эта тема, кстати, может быть дополнительной по отношению к проблеме переживания нерождения, о которой шла речь выше, равно как и к идее (иллюзии?) вечной жизни. В приведенной метафоре (см. раздел 2.2) М. Коула смутило и то, что аэроплан взят в единственном числе. А для рождения нужны, как минимум, двое. Я не настолько наивен, чтобы думать о развитии человека, как о своего рода робинзонаде. Я даже уверен, что прав был Ф. Достоевский, когда показал нам необходимость Сони Мармеладовой для нравственного возрождения Раскольникова. В моем изложении “второй” обязательно появится. Но мы столько времени говорили о роли “второго”, что у нас почти исчез “первый”. Причина его исчезновения состояла в примитивном толковании как “первого”, так и “второго”. Они ведь могут быть разделенными и слитыми: Я и садовник, я же и цветок, В темнице мира я не одинок. Назначение этого затянувшегося введения к интерпретации метафоры состоит в напоминании ключевых проблем психологии развития и в облегчении понимания и принятия метафоры. Интерпретация даже живой метафоры — дело крайне непростое. Ведь речь идет о развитии человека, следовательно, в этом развитии должно быть найдено место для онтологии, событийного плана развития, т. е. для действия его субъекта, меняющегося в ходе жизни человеческого Я. Это тем более важно в случае, когда развитие понимается не как усвоение, присвоение, послушание, а как саморазвитие, самостроительство, творчество себя. Столь же необходим феноменологический, преимущественно ценностно-смысловой план развития (о нем речь пойдет в разделе 3.4). Действующему Я некогда посмотреть на себя со стороны или заглянуть внутрь самого себя. Даже если дело не во времени, то, может быть, и не во что посмотреться. И не хочется конструировать соответствующее зеркало. Это трудно и не всегда приятно. Известно и обратное, когда взгляд в себя и на себя настолько приятен, что трудно оторвать себя от себя для дела. Тогда-то Я и становится ненужным. Наконец, имеется и культурно-исторический, экологический, а если следовать Л. Н. Гумилеву, этнологический контекст, или пейзаж развития. Есть большой соблазн выделять какой-либо один из аспектов развития и трансформировать его в главную доминанту или детерминанту развития. Например, такую роль в теориях развития играли культура, ведущая деятельность, сознание и т. п. Необходима, как минимум, координация всех планов развития, после чего, кстати, только и может быть поставлена проблема “нормы развития” не на эмпирическом, а на теоретическом уровне. Сложность ее усугубляется тем, что и само развитие должно рассматриваться как норма. Перечисленное составляет три взаимосвязанных плана конструирования узлов – новообразований, включающих функциональные органы духовного организма индивидуальности. Все планы развития не только взаимосвязаны один с другим, но и обладают собственным потенциалом развития, заимствуют этот потенциал у других. Вне любого из названных планов понимание развития будет ущербным. Я намеренно оставляю пока вне рассмотрения организмический, телесный план развития человека: Дано мне тело, что мне делать с ним? Таким единым и таким моим. Этот вызов “душа и тело” наука принимала неоднократно. Имеются целостные представления об организме (напр., И. И. Шмальгаузен). Но от целостных представлений о человеке, о его психике мы все еще далеки. Поэтому я думаю, что не следует спешить с интеграцией духовного и телесного организма. Если у меня получится правдоподобная схема координации трех выделенных планов развития, то я завершу свое изложение добавлением к ней и организмического, телесного аспекта. Пока же в свое оправдание могу сказать, что вовлечение живого движения, действия, деятельности, поступка в сферу анализа духовного организма представляет собой учет в этом организме и человеческой телесности, выступающей в своих облагороженных духом, культурных, а не только в природных формах. Возможно даже, что такой путь анализа дает более правдоподобные результаты по сравнению, например, с попытками непосредственного соотнесения мозга и психики или на основе только деятельностного подхода.
3.2. О структурном представлении и уровнях анализа деятельности Едва ли следует подчеркивать, что деятельностная трактовка психики не является общепринятой. Она ближе к европейской, к американской традиции. В последней относительно независимо друг от друга исследуются когнитивная и деятельностная сферы. Это мощные и разветвленные направления Cognition Psychology, Performance и Motor Control, к сожалению, слабо взаимодействующие одно с другим. В недостаточной распространенности деятельностной трактовки психики повинна и сама психологическая теория деятельности. В ней значительно большее внимание уделялось ее внешним формам по сравнению с внутренними, преобладало описание ее оперативно-технических по сравнению с интимно-личностными аксиологическими свойствами. Задача настоящего изложения состоит в обогащении ее исходных определений и в поиске зоны ближайшего развития не только этой теории. Вариант психологической теории деятельности, развитый А. Н. Леонтьевым, А. Р. Лурия и их коллегами, неразрывно связан с культурно-исторической психологией Л. С. Выготского. Он, конечно, имеет корни в немецкой философии, включая Маркса. В 60-е годы теория деятельности вернулась к культурно-исторической проблематике Л. С. Выготского, на какое-то время запрещенной, потом подзабытой, но всегда существовавшей в ее подтексте. Поэтому в настоящем тексте я не буду заботиться о дифференциации культурно-исторической психологии и психологической теории деятельности. Сейчас они трудно различимы. Среди разнообразных форм активности живых существ наукой выделены оппозиции: реакция – акция, поведение – деятельность. Особняком стоят поступок и деяние. В характеристиках реакций и поведения подчеркивается их детерминированность, иногда предопределенность, либо полное отсутствие, либо минимум свободы, прежде всего свободы воли. Напротив, в характеристиках действия,деятельности, поступка, деяния подчеркивается наличие свободы, вплоть до отождествления этих форм активности с ней. Следствием такого отождествления являются и характеристики человека, с одной стороны, как свободного, а с другой, как деятельного существа. Приведем высказывание Шеллинга: “Именно сама внутренняя необходимость умопостигаемой сущности и есть свобода; сущность человека есть ЕГО СОБСТВЕННОЕ ДЕЯНИЕ; необходимость и свобода существуют одна в другой, как одна сущность, лишь рассматриваемая с разных сторон и поэтому являющаяся то одним, то другим” (Шеллинг, цит. по: Ойзерман Т. И., 1993). Здесь интересно не только отождествление деяния и свободы, но и несводимость свободы к необходимости, как это было у стоиков, у Спинозы и в значительной мере также у Канта и Фихте (Ойзерман Т. Н., 1993, с. 58). Это означает, в частности, что различия между реакцией и действием, поведением и деятельностью, несмотря на всю их фундаментальность, не являются абсолютными. Абсолютизация этих различий — дело значительно более позднее. Оно принадлежит науке, в том числе и психологии, которая, видимо, шла за социальной практикой. Реакция и действие (также как и свобода, и необходимость) могут представлять одну и ту же сущность, существовать одна в другой, и когда эта сущность (в нашем случае активность) рассматривается с разных сторон, она и является то реакцией, то акцией. Поэтому в психологии столь сложно их различение и введение по отношению к ним строгих дефиниций. Конечно, человеческая свобода связана не только с действием, деянием, но и с сознанием, с человеческим Я, но все же, если говорить о сущности человека, о генезисе свободы в психологическом смысле, то на передний план выступает не реакция, не рефлекс, а действие. Если деятельна сущность человека, то деятельным должно быть и его существование, бытие. Видимо, об этом писал Гете: “Деяние — основа бытия”. Более четкую формулировку дал Гегель: “Истинное бытие человека... есть его действие; в нем индивидуальность действительна” (Гегель Г. Ф. В., 1959, с. 172). Это не случайная для него фраза, поскольку он связывал с движениями и свободный дух: “...сам дух не есть нечто абстрактно-простое, а есть система движений, в которой он различает себя в моментах, но в самом этом различении остается свободным” (там же, с. 175). В высказывании Гегеля осталась непроявленной ключевая для нас мысль о различении человеком себя в моментах. Не ясны ответы на вопросы: Что это за моменты? Где они хронологически и содержательно находятся? Наиболее простая гипотеза на этот счет может состоять в том, что Гегель под моментами свободы имел в виду то, что на современном психологическом языке именуется латентными периодами в выполнении действия, периодами внутреннего выбора и принятия решений. Внутри них вполне может происходить рефлексивная работа по доопределению человеком самого себя, своего Я, проявлению имплицитных потребностей и мотивов. В этом случае основное внимание при исследовании, например, поступка могло бы быть уделено не столько его совершению, сколько подготовке (о поступке подробнее говорится в разделе 3.5). Но возникает вполне оправданное сомнение. Только ли этим периодам присуща свобода? Неужели она теряется, редуцируется на других этапах совершения поступка?! Неужели он похож на так называемое баллистическое движение, все параметры которого уже подготовлены, запрограммированы еще до начала выполнения? И совершая поступок, человек уже теряет свободу, становится ограниченным в своих возможностях. А поступком начинает править жестокая необходимость. На наш взгляд, так действительно может показаться, если рассматривать отдельный поступок как единичный акт, не имеющий предыстории и продолжения. На самом же деле связь поступка с психической жизнью человека и его развитием диктует другие пути исследования его характеристик. Приведенные выше реминисценции являются своего рода оправданием того огромного внимания, которое в традиционной и в современной психологии уделялось и уделяется изучению движений, действий, деятельности вплоть до конструирования общепсихологических теорий деятельности, моделей действия, изучения живого движения и т. п. Более того, рядом авторов предлагалось признать действие в качестве единицы анализа всей психики, делались попытки как выведения ее функций из действия и живого движения, так и сведения этих функций к ним. Ч. Шеррингтон не только выводил память и предвидение из действия, но и локализовал их в нем (а не в мозге): “В осуществлении действий, направленных на окончательный, завершающий акт, в процессе отбора открывается возможность элементам памяти (хотя и рудиментарным) и элементам предварения (хотя и незначительным) развиться в психическую способность к “развертыванию” настоящего назад, в прошлое, и вперед, в будущее, которая у высших животных является непременным признаком более высокого умственного развития” (Шеррингтон Ч., 1969, с. 314). Аналогичные идеи можно найти у П. Жане, у С. Л. Рубинштейна, у позднего Макса Вертгеймера, позднего Ж. Пиаже и у многих других (см. анализ подобных высказываний в книге: Зинченко В. П., Смирнов С. Д., 1983, с. 81—152). Движение, действие, деятельность в психологии выступали и выступают не только в качестве предмета исследования, но и в своих порождающих свойствах и функциях. С. Л. Рубинштейн писал, что “В ДЕЙСТВИИ психологический анализ может вскрыть зачатки всех элементов психологии” (Рубинштейн С. Л., 1940, с. 143). Подобное понимание с необходимостью приводит к тому, что действие и деятельность начинают выступать в качестве объяснительного принципа всей психической жизни человека. Это одно из основных положений, развивавшееся А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубинштейном, их сотрудниками и последователями в рамках психологической теории деятельности. В этой теории восприятие, опознание, внимание, память, воображение, мышление, эмоции не только выводились из действия, но и сами, как таковые, рассматривались как формы действия. Именно как формы, а не как части или элементы действия. В этом состоит своеобразие или оригинальность деятельностной трактовки психики, развитой П. Я. Гальпериным, В. В. Давыдовым, А. В. Запорожцем, П. И. Зинченко, Д. Б. Элькониным и др. В настоящем тексте невозможно аргументировать основательность такой трактовки психики. Ее аргументация, в том числе эмпирическая и экспериментальная, потребовала бы монографического и многотомного изложения. Понятие деятельности и действия — это наиболее фундаментальные понятия в науке о человеке, поскольку за ними скрыта онтология человеческой жизни. Они же и наиболее трудноопределимые понятия, поскольку выступают в многочисленных ипостасях, как и их субъект — человек. Для человека равно применимы, хотя, возможно, и преждевременны, определения – эпитеты – авансы: умелый, разумный, играющий, работающий, экономический, политический, гуманный, учащийся, самотворящий,.. наконец, универсальный. Философия и наука эффективно используют понятие деятельности для объяснения самых различных явлений социального мира, в том числе и для объяснения свойств человека, скрывающихся за перечисленными и неперечисленными его определениями. Но, как заметил Э. Г. Юдин, “ситуация резко меняется, когда объяснения требует сама деятельность, когда она из орудия объяснения превращается в то, что само должно быть определенным образом исследовано. Здесь мы уже не можем ограничиться указанием на эмпирически очевидный факт активности человека, но должны перевести эту очевидность в систему теоретических понятий, которые позволяют представить деятельность, как особую действительность, с особыми качествами и специфической структурой” (Юдин Э. Г., 1976, с. 6, 7). Бесспорно, что деятельность представляет собой специфический способ освоения действительности человеком, который есть в то же время способ становления самого человека, способ его самореализации. Сказано “в то же время”, что интуитивно приемлемо, но на деле эти способы оказываются принципиально различными видами деятельности. Отсюда и большое разнообразие более или менее правдоподобных попыток структурного представления деятельности. Общим в них является только слово деятельность. Кстати, это слово довольно поздно появилось в философии как конкретизация или содержательное раскрытие связи субъекта и объекта, что привело к основной “трехчленке”: субъект – деятельность – объект. Назначение двухчленки субъект – объект, как и назначение трехчленки субъект – деятельность – объект — это описание взаимодействия человека с миром. Когда речь идет о деятельности per se, то появляется другая трехчленка: цель – средство – результат. Когда речь идет о психологической характеристике деятельности, появляется еще одна трехчленка: деятельность – действие – операция. При философском анализе деятельности и действия субъект рассматривается как инициирующая сторона, объект — как инициируемая. Субъект — это носитель деятельностной способности. Его атрибутивными свойствами являются потребности, мотивы, цели, интересы, ценности и пр. Для психологии все это само собой разумеется; пожалуй, важно лишь включение объекта в структуру, что, впрочем, тоже для нее не новость. Он включался под видом стимула и в старые стимульно-реактивные схемы описания поведения. Однако в них инициирующей стороной был стимул, а реакция субъекта была инициируемой. К проблеме инициации мы вернемся ниже. Обратимся к представлениям о структуре деятельности, существующим в психологии. Известно эвристически полезное представление о ее структуре, принадлежащее А. Н. Леонтьеву. Он выделял три уровня анализа деятельности и соответствующие этим уровням единицы анализа: Мотив — деятельность Цель — действие Условие — операция В методологическом плане такой подход оказался весьма продуктивным. Но сейчас при его оценке следует учитывать, что практика психологических исследований потребовала дальнейшего совершенствования и развертывания леонтьевской схемы единиц анализа. Ее модифицированный вариант (Зинченко В. П., Мунипов В. М., 1976) выглядит следующим образом: Мотив — деятельность Цель — действие Функциональное свойство — операция Предметное свойство — функциональный блок Выделенные типы единиц анализа и их детерминанты составляют в своей совокупности четыре уровня анализа. Деятельность направляется ее предметом — мотивом, за которым всегда стоит потребность субъекта. Строение деятельности может быть раскрыто в терминах конституирующих его действий, каждое из которых направлено на решение той или иной предметной цели, закономерно связанной (или совпадающей) с мотивом деятельности. Действие — процесс, подчиненный представлению о результате, который должен быть достигнут, т. е. процесс, подчиненный сознательной цели (А. Н. Леонтьев). Помимо интенционального (и идеального) аспекта, действие имеет и операциональный аспект, который определяется не целью самой по себе, а функционально значимыми свойствами реальности. Задачи, связанные с выделением таких свойств, детерминируют подбор и осуществление операций, конституирующих действие. Таким образом, действие может быть раскрыто в терминах функциональной структуры конституирующих его операций. Каждая из операций вносит определенный вклад в достижение результата действия. В зависимости от возможности выделения в реальной ситуации функционально значимых свойств одно и то же действие может иметь различную функциональную структуру, т. е. осуществляться с помощью различного состава операций или различных вариантов их координации. Подобное понимание операций несколько отличается от трактовки, предложенной А. Н. Леонтьевым. Отличие состоит в том, что операции вызываются к жизни и детерминируются не условиями осуществления действия как таковым, а лишь функционально значимыми свойствами, входящими в условия. Ведь условия даны в предметных свойствах реальности, число которых неизмеримо больше числа функционально значимых свойств. Расчленение условий на функциональные и предметные (может быть, даже лучше сказать — объектные) свойства приводит к изменению трактовки операции как единицы анализа деятельности и введению еще одного уровня анализа, определяемого предметными свойствами ситуации. Психологическая единица анализа, отвечающая предметным свойствам реальности, есть функциональный блок. Операция может быть раскрыта в терминах функциональной структуры блоков, выполняющих те или иные трансформации входной информации, которые детерминированы целью, задачей и предметным содержанием деятельности. Точно так же, как нередко можно наблюдать взаимопереходы действия и операции, при перекрытии или совпадении функциональных и предметных свойств реальности операции и функциональные блоки могут совпадать или переходить друг в друга. Выделенные четыре уровня анализа деятельности образуют ее функциональную структуру. Микроструктурный уровень анализа выступает как существенное дополнение макроанализа деятельности. Микроструктурные исследования, зародившиеся первоначально в русле информационно-кибернетического подхода, наполняются, таким образом, реальным психологическим содержанием. Изучение исходных уровней познавательной деятельности средствами микроструктурного анализа по существу представляет собой изучение закономерностей психики в зависимости от реальных, предметных свойств ситуации. Без такого изучения останутся непонятыми процессы извлечения из ситуации функционально важных свойств, процессы наполнения деятельности реальным предметным содержанием, т. е. в конечном счете останутся непонятыми процессы целеполагания и формирования мотивов деятельности. В перспективе возможно выделение в рамках психологического исследования еще более дробных единиц и уровней анализа, в частности, уровня анализа, с помощью которого возможно раскрыть структуру функциональных блоков, дополнить микроструктуру микродинамикой. Ее решение, по-видимому, потребует дальнейшей модификации рассмотренной схемы анализа деятельности, откуда следует, что предложенная схема с таксономической точки зрения является открытой, как и вся проблема таксономии в психологическом анализе деятельности. Центром этой таксономии является действие, имеющее свою собственную сложную структуру. Более того, все больше оправдывается соображение Э. Г. Юдина о том, что понятие действия представляет собой квинтэссенцию психологической теории деятельности. Мало кто сомневается, что предметно-практические действия составляют фундамент, на котором строятся и развиваются когнитивные действия. Р. Стернбергу принадлежит прекрасный образ: интеллект в некотором смысле представляет собой конспект человеческой деятельности. Правда, прочесть этот конспект довольно трудно, о чем речь впереди. Сейчас можно с уверенностью сказать, что основное значение психологической теории деятельности для науки состоит не в выдвижении принципа деятельности, объясняющего всю психологическую реальность. Эта претензия оказалась чрезмерной и преждевременной, что к концу жизни признали и ее авторы. Важнее то, что в ее рамках проводились фундаментальные исследования предметно-практических (исполнительных), перцептивных, мнемических, умственных, знаково-символических действий. Более того, именно благодаря понятию предметного психического действия и благодаря полученной в рамках психологической теории деятельности внешней и внутренней картине действия, сама эта теория стала широко распространенной и признается не только в отечественной психологии. Частично в рамках теории деятельности, частично за ее пределами начинает складываться специальная наука о действии, которая имеет для будущего психологии не меньшее значение, чем наука о зрении или наука о памяти, мышлении и т. д. Огромный потенциал развития и сопутствующая ему поразительная глубина дифференциации живого движения являлись главным предметом многолетних исследований Н. Д. Гордеевой с коллегами, изложенных в недавно опубликованной книге (Гордеева Н. Д., 1995). Основной пафос этих исследований направлен против чисто механической трактовки движения и действия. Издавна принятое в психологии разделение компонентов или фаз действия: когнитивная, исполнительная и коррекционно-контролирующая, конечно, принимается автором. Но логика построения исследований и их результаты показывают размытость временных и функциональных границ между ними. В более широких структурах деятельности трудно однозначно локализовать тот или иной компонент. Они непрерывно соприсутствуют, дополняют друг друга, обмениваются своими функциями и временем. Их цементирует общая цель и единый путь. Микроструктурный и микродинамический анализ — основной методический прием, на котором построены излагаемые в книге исследования — позволил на каждой фазе выделить волны и кванты действия, сохраняющие свойства целого. Это дало основания Н. Д. Гордеевой заключить, что не только молярная, но и молекулярная единица действия гетерогенна и содержит в себе когнитивные, исполнительные и оценочные компоненты. Дыхание микроструктуры и микродинамики живого движения и инструментального действия подобно тому, что происходит при порождении речевого высказывания или наблюдается в поэтической речи. Сошлюсь на авторитетный анализ О. Мандельштама: “Распределение времени по желобам глагола, существительного и эпитета составляет автономную внутреннюю жизнь александрийского стиха, регулирует его дыхание, его напряженность и насыщенность. При этом происходит как бы “борьба за время” между элементами стиха, причем каждый из них подобно губке старается впитать в себя возможно большее количество времени, встречаясь в этом стремлении с притязаниями прочих. Триада существительного, глагола и эпитета в александрийском стихе не есть нечто незыблемое, потому что они впитывают в себя другое содержание, и нередко глагол является со значением и весом существительного, эпитет со значением действия, то есть глагола и т. д. Вот эта зыбкость соотношения отдельных частей речи, их плавкость, способность к химическому превращению при абсолютной ясности и прозрачности синтаксиса чрезвычайно характерны для стиля Шенье” (Мандельштам О. Э., 1987, с. 93, 94). Поставим на место глагола — исполнение, на место существительного — когницию — образ ситуации, на место эпитета — оценку и получим “борьбу за время“, “обмен функциями”, “плавкость и способность к химическим превращениям”, обнаруженные при изучении формирования и реализации действия. Это говорит о внутреннем или, точнее, сущностном сходстве слова и дела. Действие ведь тоже текст, который нужно научиться не только исполнять, но и читать. Путь к установлению такого сходства далеко не прост. Изучение движений требует не меньшей методической изощренности, чем филологическое и лингвистическое исследование. Не исключено, что дальнейшее проникновение в микроструктуру и микродинамику действия позволит обнаружить еще более элементарные единицы по сравнению с волнами и квантами. Для пояснения того, что означает гетерогенность действия и целом и его компонентов, включая волны и кванты, воспользуюсь еще одной метафорой О. Мандельштама. Двигательный акт — это одновременно и слепой и поводырь. Чтобы научиться плавать, надо набраться окаянства, закрыть глаза и, очертя голову, броситься в воду. Но “лиха беда” не только начало. Необходимо разделение и распределение внимания между ситуацией, в которой выполняется действие, и самим выполнением. Казалось бы, это очевидно: “Пришел, увидел, победил”. Однако в исследованиях обнаружена такая частота смены фокуса внимания, что ее размерность и разделенность во времени недоступна сознательному контролю выполняющего действие субъекта. Значит поводырь находится и вне, и внутри действия, которое живо и свободно своими внутренними формами: В закрытьи глаз, в покое рук — Тайник движенья непочатый. (О. Мандельштам) Этот тайник и есть внутренняя форма, внутренняя картина движения или образ возможного действия. Н. Д. Гордеевой потребовались тонкие методические средства, чтобы разделить чувствительность движения к ситуации и к возможностям его осуществления. Чередование обеих форм чувствительности происходит несколько раз в секунду с интервалом 125—250 мс. Важно понять, что речь идет не просто об обратных связях, с помощью которых поступает информация о мере соответствия движения инициировавшей его программе, хотя это, конечно, тоже существенно. Главное в том, что посредством действия не только достигается “потребное будущее”, о чем писал Н. А. Бернштейн. Каждый шаг действия, уменьшая неопределенность ситуации или доопределяя ее, создает новую неопределенность, порой разрушает, видоизменяет, перестраивает ситуацию. Аналогичным образом с каждым шагом действия меняются необходимые для его выполнения ресурсы. Они не только уменьшаются, часто прирастают. В действии рождаются порывы-смыслоносители. Обнаруженные формы чувствительности и их реципрокность необходимы для улавливания этой двойной динамики. Но этого мало. Показания, даваемые обеими формами чувствительности, должны быть сопоставлены друг с другом и со стоящей перед субъектом двигательной задачей. Значит, от него требуется решение рефлексивной задачи в микроинтервалы времени, за которые нужно принять решение о сохранении или изменении способа управления и организации движения. Применительно к таким интервалам не может быть и речи о сознательной координации этих сложных процессов. Тем не менее, координация происходит и осуществляется не извне, а средствами самого действия, которое становится из реактивного чувствительным и рефлексивным. Подавляющее большинство исследований исполнительных действий было стимулировано задачами психологии труда, инженерной психологии, эргономики, психологии спорта. Что касается общей и экспериментальной психологии, то предметно-практическое, исполнительное действие претерпевало в ней странную судьбу. Оно очень редко выступало перед исследователем в своей самоценности. В большинстве случаев оно изучалось не как таковое, а в своей функциональной, служебной роли. Действию как бы задавались прагматические вопросы: зачем, для чего? Исследователи будто бы сомневались в его самодостаточности и рассматривали не как фундамент, а как трамплин, облегчающий прыжок к восприятию, памяти, мышлению, эмоциям. А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн даже выстраивали систему аргументов в пользу трактовки действия как такого же полноценного предмета психологического изучения, каким являются восприятие, внимание, память, мышление. Но им (пожалуй, кроме А. В. Запорожца) не терпелось перейти, прыгнуть от действия к высшим психическим функциям, к числу которых действие они все же не относили.
3.3. Внешняя и внутренняя формы действия, переосмысление понятий интериоризации и экстериоризации Поиск, ориентировка, запоминание, выбор, решение — это высшее, а исполнение — оно и есть исполнение, оно служебное, само собой разумеющееся, элементарное, почти низшее. Хотя это последнее слово не произносилось, но оно подразумевалось. А от низшего, естественно, хочется быстрее перейти к высшему. И переходили, выстроив “теорию интериоризации”, согласно которой практическое действие с весомыми, грубыми, зримыми предметами “вращивается”, постепенно переходит в тонкую идеальную материю собственно психического, во внутренний план умственной деятельности. Такая логика кажется бесспорной, самоочевидной, эмпирически оправданной. И в самом деле, ребенок сначала считает палочки пальцами и громким голосом, потом только глазами и голосом, потом “про себя”, наконец, в уме. Очень наглядно и даже кажутся излишними экспериментальные исследования, которые, впрочем, вскрыли не только удивительно интересные детали обучения, но и уроки предметности, которые сохраняют высшие психические функции, несмотря на свою автономизацию от предметного действия. Внешнее предметное действие реализует (экстериоризирует) идеальный замысел и умирает в продукте. С другой стороны, и интериоризация — это своего рода похороны внешней предметной деятельности. А раз у предметной деятельности все равно такая судьба, то зачем ее исследовать? Достаточно признать действие исходной единицей анализа всей психики, неразвитым началом развития целого, а затем найти или выбрать такое действие, которое скорее бы “скончалось”, куда-то вросло, будь-то голова, мозг, внутренний идеальный план и т. д. После этого можно красиво порассуждать относительно левого и правого полушария или о межнейронных взаимодействиях при запоминании, решении задач или о том, что в процессах интериоризации внутренний план впервые рождается, а потом он развивается и способен экстериоризоваться, выйти наружу либо в той форме, в какой он вошел, либо в какой-то другой форме. Возможностей много, а верифицировать (или фальсифицировать в смысле К. Поппера) их невозможно. Сказанное не означает, что гипотеза интериоризации, вращивания неверна. Но пора бы понять, а что собственно вращивается? Неужели так: вросло предметное действие, а из него выросло перцептивное, мнемическое или умственное. Ведь для того чтобы нечто вросло куда бы то ни было, а тем более было способно что-то породить, это нечто само должно уже быть. Оно должно появиться, родиться, как-то оформиться, хотя бы подрасти, приобрести порождающие способности. Простая двигательная реакция в ответ на стимул тоже представляет собой предметное действие. Реакция может повторяться бесконечно, но она ничего не породит и никуда не “врастет”. Она или выполняется, или не выполняется. Если же взять сложные формы предметной деятельности и попробовать их формировать, то окажется, что такие формы представляют собой особую территорию, поле, на котором при соответствующей обработке можно выращивать образы, программы, схемы памяти, интеллектуальные операции и т. д. Дело не в сокращениях и редукции (кстати, этот принятый в контексте исследований интериоризации термин вполне двусмысленен), а в совершенствовании внешней исполняющей формы действия, в рождении и развитии его внутренней или внутренних форм. Последние могут быть весьма разнообразны и функционально различны. Важно отметить, что внутренние формы представляют собой реальность субъективного и не поддаются, тем не менее, “языку внутреннего”, ускользают от него, отличаются от него и упорно сопротивляются любым своим концептуализациям. Это похоже на невозможность концептуализировать множество оттенков широкой гаммы эмоциональных переживаний, оттенков цвета, запахов и т. п. Проблема интериоризации тесно переплетена с проблемой границы между внешним и внутренним. Это не философская граница между объективным и субъективным, а граница в традиционном психологическом и более широко — гуманитарном смысле разделения психического мира на внешний и внутренний. Правда обе границы стоят друг друга, о чем не без иронии писал все понимавший Гете: Мирозданье постигая, Все познай не отбирая: Что — внутри, во внешнем сыщешь; Что — вовне, внутри отыщешь. Так примите без оглядки. Мира внятные загадки. А вот из его “Максим и рефлексии”: “Поэзия, которая изображает только внутренний мир, не воплощая его во внешнем, или только внешнее, не давая прочувствовать его изнутри, в равной степени попадает на ту последнюю ступень, с которой она сходит в обыденную жизнь” (1975, с. 586). Психология не раз сходила с этой последней ступени, вновь поднималась... и до сего времени не нашла удовлетворительного решения проблемы внешнего и внутреннего (см.: Зинченко В. П., Моргунов Е. Б., 1994). В дальнейшем мы будем говорить о внешней и внутренней формах существования психического, т. е. психической деятельности. Недавно А. М. Пятигорский обратил мое внимание на то, что и понятие “предметная деятельность” теоретически не построено в психологии. Заимствованные из философии понятия предметной деятельности, внешнего и внутреннего используются в психологии вполне натуралистически. Резонно задаться вопросом: почему взято именно понятие предметной деятельности, а не близкое ему в философии Гегеля и Маркса понятие духовно-практической деятельности? Почему С. Л. Рубинштейн и А. Н. Леонтьев предпочти первое понятие? С социологической точки зрения это вполне объяснимо. В условиях советского идеологического общежития было не до духовности. Главное — практика, которая — и основа познания и критерий истины. После введения понятия предметной деятельности из него постепенно вытравлялись не только духовность, идеальное, принадлежащее субъекту деятельности, но и душа ее предмета, которая вкладывалась в него при его создании. Предмет стал материальной вещью, утратил символические функции, свойства утвари – тварности. Деятельность получила странные эпитеты: не духовная, а материальная, у П. Я. Гальперина часто — материализованная. Кстати, последний термин весьма разумен и был, видимо, введен не без свойственного ему остроумного ехидства. Ведь материализоваться может лишь идеальное, духовное. По отношению к материальному термин материализация не имеет смысла. После такой редукции психология могла с успехом обосновывать диалектико-материалистические трюизмы о первичности-вторичности. Деятельность с выпущенной из нее душой могла куда-то интериоризироваться. Совсем как у академика Т. Лысенко: посеяли одно, а выросло совсем другое. Разумный биосоциальный закон: “Что посеешь, то и пожнешь” советской власти был неписан, как, впрочем, и многие другие законы. Сеяли пшеницу — пожинали овсюг, сеяли материю — пожинали сознание, сеяли мир — пожинали войну. Очень удобная наука марксистско-ленинская диалектика. Она позволяла планировать возникновение и развитие психики, сознания, личности с наперед заданными свойствами, растить сознание не из сознания, а растить из материи сознание без сознания. Эта простая и понятная наука действительно сумела осчастливить мировую науку. Та бедная не смогла еще понять как из неживого возникло живое вещество, как возникло первое ощущение, а наша диалектика (не без помощи психологии) разрешила самые безнадежные геккелевские мировые загадки. В том числе поняла и объяснила, что такое психика и сознание и как они возникли из неодушевленной материи, из “материализованных форм предметной деятельности”. В этом жутком словосочетании слышится ирония, издевка над идеологией: “Вы просите песен, их есть у меня”. От идеологических корней перейдем к собственно понятиям интериоризации и экстериоризации. Первый процесс — это “вращивание” внешней предметной деятельности в деятельность внутреннюю; второй — выход внутренней деятельности наружу, вовне. От длительного употребления терминов интериоризация и экстериоризация, стоящая за ними реальность перестала восприниматься как драма и загадка развития. Эти понятия стали схематизмом психологического сознания, а стоящие за ними процессы как бы уподобились “водопроводной логике”, как в задачках 5-го класса о “бассейнах и портвейнах”. Столько-то куда-то втекает и столько-то оттуда вытекает... Но главное даже не в этом. Если мы хоть как-то представляем себе “оттуда”, то есть из “предметной деятельности”, то уже совершенно смутно представляем себе “куда”. П. Я. Гальперин говорил, что за интериоризированной операцией — идеальный план. А. Н. Леонтьев говорил, что за ней — грандиозная работа мозга. Как будто за предметной деятельностью нет идеального плана или работа мозга за ней менее грандиозна? В последних работах А. Н. Леонтьев утверждал, что в процессе интериоризации внутренний план впервые рождается. Это подразумевало бы прослеживание дальнейшей судьбы новорожденного, чего он не сделал. Но и сказанного им достаточно для вывода, что интериоризация — это одновременно и вращивание и выращивание. Если есть выращивание, то это по крайней мере не похороны предметной деятельности “внутрь”, не погружение ее в некий “физикальный низ” или выпадение в осадок. Это и не фрейдовское вытеснение из памяти в бессознательное. Кстати, Фрейд тоже использовал термин интериоризация. Зачем нужно понятие интериоризации? Выращивание — еще куда ни шло, а вращивание в никуда — это же мистика. Начнем с первого хода Л. С. Выготского. Психическая функция рождается дважды. Сначала в совместной (по Д. Б. Эльконину — в совокупной) деятельности, а затем в индивидуальной. Развитие идет от интерсубъективной деятельности к интрасубъективной. Один субъект делится своей предметной деятельностью и ее средствами-медиаторами с другим. В этом смысл понятия интериоризации у Выготского. Не телепатия, а передача деятельности, и второе, а не первое рождение высших психических функций. Позднее, в концептуальной схеме П. Я. Гальперина передача предметной деятельности и первое рождение высших психических функций остались за скобками. Он убрал посредника, который был у Л. С. Выготского. Интериоризация стала связываться лишь со вторым рождением. Альтернативой теории интериоризации может служить идея дифференциации. Целое действие не складывается, не составляется из готовых частей. Их просто еще нет. Наоборот, оно органически развивается, дифференцируется на части, которые впоследствии отрываются от целого, автономизируются. (О. Мандельштам сказал бы выпархивают из целого.) Это другой взгляд на интериоризацию, взгляд, делающий, возможно, излишним само понятие, которое исчерпывает свой объяснительный потенциал. Если с самого начала признать, что предметная деятельность в такой же степени материальная, как и идеальная; если признать, что живое движение живо не только (и не столько) своими внешними формами, но и формами внутренними; если, наконец, признать что сама предметная деятельность есть идеальная форма, то понятие интериоризации в теоретической психологии станет излишним. Его место уже начинает занимать понятие дифференциации живого ли движения, предметного ли (или социального) действия (см.: Гордеева Н. Д., 1995). Предметное действие не интериоризуется, оно сохраняется как таковое или бесконечно совершенствуется, или разрушается от неупотребления. Оно остается самим собой. Другое дело, что рожденные и выращенные в предметном действии плоды могут автономизироваться от него, использоваться в другой констеляции с другими родственными плодами и по другому поводу. Это можно сравнить с восприятием предмета, который будучи воспринят останется самим собой. Но ведь и предметное действие в случае так называемой интериоризации остается самим собой, оно продолжает храниться в памяти, в моторных программах и актуализируется вновь и вновь. Иную судьбу могут иметь сложившиеся в нем и обогатившие его внутреннюю форму новообразования. Их собственное развитие заключается в пока еще не названном сложнейшем, порой мучительном процессе, скорее деятельности духа по поиску своего истинного предмета-материала, предмета-призвания, предмета-действия, предмета-поступка, предмета-себя, предмета-свободы, предмета-потребности. Если возврат к предметной деятельности затруднен или невозможен, недолго сойти с ума. Сказанное не означает, что богатейшая эмпирия, порожденная теорией интериоризации, — например, обнаруженные факты возникновения и редукции различных форм внимания, получивших почему-то наименование ориентировки в материале и контроля результатов, онтогенетическая хронология развития различных психических действий (от сенсорных до умственных) и т. д. — обречена на забытье. Эту эмпирию можно и нужно рассмотреть не с точки зрения интериоризации, погружения, вращивания, не с точки зрения инволюции предметного действия. Ее нужно рассмотреть с точки зрения эволюции интрасубъектных форм предметной деятельности, роста, выращивания на поле деятельности высших психических функций, ментальных образований, артефактов, функциональных органов, амплификаторов форм превращенных и т. п. Психология все еще не нашла адекватные термины для их обозначения. Подобная смена фокуса внимания с интериоризации на экстериоризацию позволит освободиться от многих псевдопроблем, например, что происходит с самой предметной деятельностью после ее интериоризации? Смена фокуса внимания позволит найти аналоги и прототипы предметной деятельности не только для счета в уме, чтения про себя, а для всего богатства нашего душевного мира. Она позволит найти подобающее место и разнообразным формам внимания на всех этапах большого пути, который проходит развитие высших психических функций, постепенно автономизирующихся от внешней предметной деятельности, но сохраняющих на себе ее родимые пятна. Эмансипация мышления от внешнего предметного действия, трансформация его в вербальный интеллект уменьшает его возможности непосредственно руководить предметно-практическим действием. Это своеобразная расплата субъекта за свободу мышления. К счастью, развитие формально-логического мышления не уничтожает его предметно-практических корней. Это замечательно описал М. Булгаков в “Белой гвардии”: “Достаточно погнать человека под выстрелами, и он превращается в мудрого волка; на смену очень слабому и в действительно трудных случаях ненужному уму вырастает мудрый звериный инстинкт”. Простим писателю ссылку на инстинкт. Она ничуть не хуже более привычных психологам ссылок на интуицию, иррациональное или бессознательное. Все они не более чем метафоры и будут оставаться таковыми, пока мы не поймем, что собой представляет знание до знания, каким образом оно добывается и обеспечивает регуляцию предметно-практических действий. Это и есть объективная реальность субъективного, которая не может быть сведена к актам, действиям какой-либо “знающей” сущности, к ее умственным построениям. Иначе необъяснимым и даже скандальным “чудом” для естественнонаучной картины мира была бы, например, превосходно описанная М. Булгаковым точность свободного действия и обеспечивающих его структур (превосходящая, как известно, и точность инстинкта, и точность мышления). Когда мышление, рефлексия автономизируются от действия или становятся действиями слишком умственными, практическое действие и его субъект могут завязнуть в них, утратить имя действия: Так трусами нас делает раздумье, И от решимости природный цвет Хиреет под налетом мысли бледной, И начинанья, взнесшиеся мощно, Сворачивая в сторону свой ход, Теряют имя действия... (В. Шекспир) Автономизация высших психических функций предполагает увеличение степеней свободы в оперировании предметностями мира, позволяет осуществлять его дальнейшее опредмечивание и распредмечивание. Высшие психические функции автономизируются не только от внешней предметной деятельности, но и от воли породившего их субъекта. Его увлекает поток внимания, сознания, мысли, на него накатывает и захлестывает волна чувств. Он подчиняется потоку, из которого не всегда легко выбраться. В конце концов происходит рождение не просто образа мира, а нового мира, как бы мы его не называли: пневматосферой, семиосферой, хронотопом, образно-концептуальной моделью, духовным организмом, ноосферой, миром сознания... Он оказывается настолько сложным, что многие науки и в их числе психология прилагают огромные усилия, чтобы приоткрыть его тайны, построить его образ. Нелепо прятать этот мир внутри, в себе. Да и не спрячешь при всем желании. Мир своей души можно передать другому, подарить (ср. М. М. Бахтин: “Душа — это дар моего духа другому”). И от этого дара душа не оскудевает. Наоборот, чем больше даришь, тем больше остается. Когда-то Анри Бергсон говорил о науке, что как бы далеко она не уходила от действительности, но будучи брошенной на поле действия, она должна оказаться на ногах. Я уверен, что еще мало распаханное поле исследований действия питательно для психологии. Его культурная обработка уже дает богатый урожай. Ведь в конце концов и “умное делание” (не только в теологическом смысле) произрастает на поле действия. А будучи опосредствовано сознанием, действие трансформируется в поступок, который является результатом и условием познания человеком самого себя. Здесь мы сталкиваемся с совершенно новой проблемой. Каким образом автономизировавшиеся от предметного действия мысль, мышление, сознание вновь “вращиваются” в него на следующем витке формирования и развития? Внутренняя дифференциация действия связана с тем, что оно носит опосредствованный характер. Действие опосредствовано многими внешними и внутренними обстоятельствами. Поэтому его сложность соизмерима со сложностью мира, в котором оно осуществляется. Здесь действие выступает, так сказать, в страдательной роли, в своей зависимости от мира. Но одновременно с этим действие ведь выполняет и активную, творческую роль. Оно само опосредствует отношения человека с миром, с другими людьми, то есть является не только опосредствованным, но и опосредствующим. Для того чтобы опосредствованное действие стало активным посредником в отношениях человека с миром, оно само должно стать как бы непосредственным, естественным и свободным, как полет Терпсихоры. Говоря философским языком, оно должно сохранять свою опосредствованность в снятой или латентной форме. Это не мешает тому, чтобы на следующем витке развития непосредственное действие вновь стало опосредствованным. Ссылка на философию, на диалектику развития не снимает психологической проблемы механизмов взаимной трансформации непосредственного и опосредствованного. Ф. М. Достоевский когда-то сказал: диалектика кончилась и началась жизнь. Здесь более пригоден, во всяком случае — более понятен парафраз уже известной нам мандельштамовской метафоры: действие — садовник, оно же — и цветок. Это особый и специальный сюжет о посредническом действии или о действии-посреднике — главной движущей (толкающей, вызывающей) силе и главном механизме психического развития. Новая проблематика исследования действия-посредника интересно развернута в книге Б. Д. Эльконина “Введение в психологию развития” (1994). Автор поставил акцент не на дифференцирующих, а на интегрирующих функциях действия. Их совместное рассмотрение откроет новые перспективы развитияпсихологии действия. Психология в анализе действия шла от простейших стимульно-реактивных схем, от дурно понятой приписываемой Декарту рефлекторной дуги. Постепенно дуга трансформировалась. В нее включались промежуточные, привходящие переменные, внутренние процессы, которые должны были преодолевать реальную неопределенность стимулов и неопределенность реакций. Такое преодоление сохраняло поведение адаптивным, несмотря на усложнение ситуации. Затем дуга превратилась в кольцо, в котором, как известно, не так легко указать начало и конец, что в нем — стимул, а что — реакция. Они как бы вовсе исчезают. Точнее, стимулы создаются субъектом действия. Парадигма реактивности уступила место парадигме активности. Мертвая реакция, линейная стимульно-реактивная схема стала живым кольцом. Но даже если в кольце действительно происходит вихревое движение Декарта, оно не может вечно оставаться кольцом. Оно разрывается или взрывается, но не по внешней, а по своей собственной логике (и психологии), итогом чего является превращение замкнутого кольца в бесконечную спираль развития действия, деятельности, сознания... Как в культурно-исторической психологии (в варианте Л. С. Выготского), так и в психологической теории деятельности (в варианте А. Н. Леонтьева) функционирование и развитие психики предполагает наличие тех или иных средств. Последние могут быть либо внешними (вещными), либо внутренними (идеальными, ментальными). Сам акт развития в этих направлениях психологии часто трактовался как акт интериоризации, т. е. превращения внешнего средства деятельности во внутреннее, точнее, внешнего средства во внутренний способ ее осуществления. Идея спиралеобразного развития требует ввести дополнительные расчленения и различения. Движение и действие выступают в роли не только материала, средства, но цели развития (цели, которая не оправдывает средства, а опробывается ими). Акт развития в собственном смысле этого слова состоит в превращении форм: внешняя форма может трансформироваться во внутреннюю, внутренняя — во внешнюю. Конечно, имеется совершенствование и трансформация в пределах каждой из этих форм. В любом случае совершенствование и трансформация предполагает наличие каких-то средств, поэтому развитие носит опосредствованный характер. В этом пункте размышлений следует отметить одну принципиальную и вместе с тем терминологическую трудность. Она связана с понятием медиатора. В логике культурно-исторической психологии медиаторами развития называются внешние по отношению к человеку средства: орудие труда, детская игрушка, знак, слово, символ, миф и т. д. С другой стороны, движение, действие, деятельность в логике психологической теории деятельности тоже являются медиаторами, средствами развития. Проще всего их можно было бы назвать внутренними, собственными средствами развития. Однако по отношению к орудийным (знаковым, вербальным, символическим) действиям медиаторы типа знака, слова, символа из внешних становятся внутренними, собственными орудиями человека. Получается какая-то сложная для исследования “физическая метафизика”. С этой трудностью автор и читатель будут постоянно сталкиваться в дальнейшем. Ее причина в бедности нашего психологического словаря. Действия осуществляются с внешними орудиями или с орудиями ментальными, имеющими квазивещественный характер (знак, слово, символ, миф). Конечно, интериоризируются не внешние (вещные) орудия, а их значения и смыслы. На рис. 6 схематически изображена единица, клеточка или узел развития. На нем показана опосредствованная медиатором трансформация одной формы в другую, одного функционального органа в другой. Сложность проблемы развития функциональных органов связна с тем, что объективно функциональные органы полифункциональны, полифоничны. Например, движение и действие могут выступать в роли материала, средства (формы активности или формы оперирования с медиатором) и цели развития. Это справедливо как по отношению к внешним, так и по отношению к внутренним формам. Когда акт развития состоялся, т. е. когда цель достигнута и одна форма трансформировалась в другую, последняя может превратиться в материал и средство для формирования нового функционального органа-новообразования в следующем акте функционирования и развития. По существу мы имеем дело с саморазвитием, понимаемым как открытый процесс. Он открыт к усвоению все новых и новых медиаторов и их разновидностей. В процессе развития совершенствуются не только внешние формы, но и обогащаются внутренние формы. Необходимым условием развития является произвольная экстериоризация внутренних форм. Произвольность движении — это наиболее очевидное свидетельство наличия не только собственной, не навязанной извне цели, но и наличия внутренней формы, внутренней картины, зрительного, кинетического или интегрального образа желаемого и требуемого действия. Столь же очевидны (хотя часто недостаточно точны) наши представления об имеющихся у нас моторных способностях и возможностях, например, о величине шага, прыжка, скорости бега, возможности развития усилия и т. п.

Рис. 6. Узел развития
Другими словами, нет сомнений в том, что существует не только внешняя форма движений, но и их внутренняя репрезентация в форме слов, образов, планов, схем, правил, программ, команд исполнения. Нет сомнений и в том, что обе эти формы как-то связаны друг с другом. Но как они связаны? Умозрительных конструкций этой связи было предложено немало. Движение действительно регулируется чувствованиями, образами, аффектами, страстями. Столь же верно, что чувствования, внимание, образы, страсти невозможны без движения, действия. Движения в не меньшей степени, чем электромагнитные колебания оптического диапазона, чем свет и цвет, представляют собой строительный материал зрительных и иных образов. Успешные и неуспешные действия порождают аффекты, эмоции, потребности. Поэтому нелепо звучат старые вопросы о том, что первично, что чем детерминируется. В реальной жизни все первично и все вторично, имеется взаимная детерминация как случайного, так и телеологического характера, детерминация по внешней или внутренней, собственной цели. Детерминация внешними средствами и обстоятельствами столь же реальна, сколь детерминация собственными средствами и состояниями субъекта. Внешняя и внутренняя формы движения и действия появляются (рождаются?) сразу, одновременно, хотя обе они, конечно же, при своем появлении могут быть трижды несовершенными. Но все равно трижды был прав Г. Г. Шпет, говоря, что нет ни одного атома внешнего без внутренности. Однако и это не решение проблемы. По-прежнему свежо звучит вопрос, поставленный И. Ньютоном: “Каким образом тела животных устроены с таким искусством, и для какой цели служат их различные части? Каким образом движения следуют воле, и откуда инстинкт у животных?” (Ньютон И., 1927, с. 287). Можно было бы, вслед за И. Р. Пригожиным, “упростить” этот вопрос: “Как образуется порядок из хаоса?”, если бы мы твердо знали, что такое порядок и что такое хаос, чем они концептуально и практически отличаются друг от друга? Возможен ли в живой системе полностью беспорядочный хаос и достижим ли полный без следов хаоса порядок? Между прочим, не менее осмысленна постановка вопроса, как образуется хаос из установившегося или кем-то установленного порядка? И наконец, вовсе не праздный вопрос: где локализована свобода — в хаосе или в порядке? Без вразумительных ответов на эти вопросы едва ли целесообразно исследование понятий хаоса и порядка в исследованиях живого. И. Р. Пригожин (1985), обсуждая диссипативные структуры или открытые системы потокового типа, говорит об их способности создавать и сохранять определенный уровень порядка в своей организации. Вводимое понятие “уровень порядка должно быть опредмечено, тогда оно может быть и операционализировано применительно к изучению живого, в частности, живого движения. В контексте физиологии активности (психологической физиологии) продуктивно используется понятие “степени свободы” живых организмов. Способность к их развитию или, что не менее важно, способность к их обузданию и преодолению вполне предметно могут характеризовать то, что И. Р. Пригожин называет уровнем порядка. Не будем умножать сущности. В самой важной сфере психологии — психологии движения и действия, поведения и деятельности, деяния и поступка давно поставлены самые главные вопросы. Более того, на них давно даны самые общие ответы. Например, и Бог, и человек есть лишь движение; В начале было дело; Деяние — основа бытия; Истинное бытие человека есть его действие, в нем индивидуальность действительна; Действие — единица анализа психики; Действие имеет пять измерений, оно осуществляется в пространстве, времени и смысле; Поступок — единица анализа личности, к личности через поступок; Поступок не алиби человека в бытии; Душа есть грация (живое движение); Дух есть система движений, в которой он различает себя в моментах, но в самом этом различении остается свободным; Духовность — это не болезнь; Духовность — это практическая деятельность, посредством которой субъект осуществляет в самом себе преобразования... Все это верно и научно, и теологически, и эстетически, и жизненно должно быть верно. Психология, к сожалению, медленно, постепенно и не очень умело ассимилирует все эти замечательные идеи и положения. Но тогда тем более нужно приложить усилия и попытаться понять, что же такое движение и действие, составляющие одновременно и фундамент, и вершину нашей психической жизни. Рис. 6 назван узлом развития. Это название заимствовано из строчки О. Мандельштама: “Узел жизни, в котором мы узнаны и развязаны для бытия”. Здесь удивительно точно характеризуется ситуация развития, которая представляет собой не только завязывание узлов (ср. узелок на память или узлы А. И. Солженицына), но и их развязывание. Последнее не менее важно и, порой, представляет собой значительно большие трудности. Невозможность развязать узел нередко означает конец развития, а то и смерть. Трудности же в развязывании жизненных узлов сопровождаются духовными кризисами роста и развития.
3.4. Вертикаль духовного развития Из характеристики узла развития внимательный читатель понял, что развитие должно представлять собой серию узлов. Отправным толчком для размышлений об этом, для поиска образа развития и его композиции послужил для меня образ развития поэтической материи, который привел О. Мандельштам в своем разговоре о Данте (см. раздел 2.2). Говоря современным языком, О. Мандельштам дал образ многоступенчатой ракеты, ступени которой конструируются не на земле, а по ходу полета. Если к этому добавить отмечаемое поэтом свойство поэтической материи, называемое обращаемостью или обратимостью, благодаря которому происходит непрерывное превращение поэтического субстрата, и то, что этот субстрат сохраняет свое единство и стремится проникнуть внутрь самого себя, можно заключить, что эта невозможная с технической точки зрения метафора представляет собой весьма правдоподобный и интересный образ развития человека. В этом образе я заменяю понятие поэтической материи понятием психологической реальности. В результате получается образ саморазвития человека, пронизанный духовной вертикалью (см. рис. 7). Я подчеркиваю, что речь идет именно о саморазвитии, поскольку О. Мандельштам говорил о проникновении внутрь самого себя. Это, конечно, не происходит автоматически. В. Блейк видел назначение поэтов в том, что они помогают человеку открывать очи, направленные внутрь. Обратимся к схеме “Вертикаль развития”, представленной на рис. 7. По отношению к горизонтали, на которой развертывается время человеческой жизни (стрела реального времени), на схеме представлена гипотетическая, хотя и многими постулируемая, вертикаль духовного роста или духовного развития. Вертикаль включает в себя семь узлов или семь ступеней (многоступенчатой ракеты) восхождения к вершинам духовного развития личности: Наш дух — междупланетная ракета, Которая, взрываясь из себя, Взвивается со дна времен как пламя. (М. Волошин) Магическое число узлов (семь) подчеркивает гипотетичность схемы. Теоретически их может быть больше, а практически всегда — меньше. На самом деле нас должно интересовать не число ступеней, а возможное направление и принципы, которым следует духовное развитие человека. Фактически на схеме представлены не обязательные, а желательные или потенциально возможные узлы духовного развития. Всем ясно, что до его вершины поднимается далеко не каждый человек. Начнем неспешно разбираться в схеме. Критичным для схемы является понимание духовности. Согласимся с Мишелем Фуко и назовем духовностью “тот поиск, ту практическую деятельность, тот опыт, посредством которых субъект осуществляет в себе преобразования, необходимые для достижения истины” (см.: Фуко. М., 1991, с. 284—311).

Рис. 7. Вертикаль развития Оставим в стороне неопределенность понятия “истина”. Важно, что в число источников духовности М. Фуко включает практическую деятельность. Это находится в полном согласии с психологической теорией деятельности. Понятие “опыт” также достаточно широкое и может включать в свой состав как опыт практической деятельности, так и опыт созерцания, в том числе и самосозерцания, проникновения внутрь себя самого. Главной, мне кажется, преобразовательная направленность духовной деятельности. В этом она сходна с деятельностью предметной. Принято считать, что если последняя направлена во вне, то духовная направлена на субъекта, она изменяет его самого и его представления о самом себе. Такое различение несомненно справедливо, оно соответствует эмпирическим наблюдениям психологии обыденной жизни. Но на это полезно посмотреть иначе. Ведь усвоение предметов, “вещей” культуры также меняет меня самого. А духовность, если она у меня есть, направлена и во вне, она меняет окружающий мир, включая и людей. Если она остается только внутри, то это равносильно ее отсутствию. Виктор Франкл выразился иначе: “Если человек хочет прийти к самому себе, его путь лежит через мир” (Франкл В., 1990, с. 120). На схеме (рис. 7) показано, что восхождение к духовности опосредствовано различными формами внешней и внутренней активности субъекта: коммуникацией, жизнедеятельностью, поведением, рефлексией и т. д. Все они являются необходимым условием, фундаментом, на котором возникает и произрастает духовный опыт. В соответствии с культурно-исторической традицией школы Л. С. Выготского в основании лежат слабо дифференцированные формы активности, для обозначения которых я использую понятие “живое движение”. Оно, соединяя в себе внешнее и внутреннее, является неразвитым началом целого ряда преимущественно внешних (действие, деятельность, поступок) и преимущественно внутренних (самосознание, сознание, личность) новообразований. Их можно называть функциональными органами, формами становления и проявления человеческой сущности, превращенными формами и т. п. Завершает эту “лестницу” деяние — высшая, почти неправдоподобная форма человеческой деятельности. В ней, как и в живом движении, человек проявляет себя как целое, но уже вполне дифференцированное целое. Хочу заранее предупредить читателя, что терминологически и понятийно схема сложна. Ее сложность, впрочем, связана не с формой изложения, а с существом дела. Трудность понимания состоит в том, что одни формы активности порождают другие формы активности. Коммуникация порождает знаковые действия, в свою очередь, знаковые, манипулятивные, исполнительные действия в процессах жизнедеятельности порождают самосознание. Последнее также представляет собой форму активности, а не застывшее новообразование. С этой трудностью приходится смириться. Таков уж предмет нашей науки. Вернемся к схеме. Помимо форм активности имеется особый класс медиаторов в собственном смысле этого слова. К числу главных медиаторов, вне всякого сомнения, относятся знак, слово, символ и миф. Все они в одинаковой мере выступают как средства развития индивида и социума. Их существенной особенностью является двойственная природа. Они совмещают в себе вполне реальные материальные свойства и свойства идеальные. Сакральный символ, согласно П. А. Флоренскому, одновременно и вещь и идея. Например, крест, икона. Это же относится и к светским символам. Медиаторы обладают энергией, которой их заряжают создатели, пользователи, почитатели. Кроме знака, слова, символа и мифа, в схеме в качестве медиаторов присутствуют смысл, лик и Духочеловек, что нуждается в специальной аргументации. Откровенно признаюсь, что включить их заставила произвольная логика конструирования схемы, состоящей не из четырех, а из семи (магическое число) узлов. Нужно было заполнить пустоты в центре схемы. Однако в культуре нет еще трех медиаторов, обладающих теми же свойствами, что знак, символ и др. Смысл — это идеальное, но вместе с тем и живое образование. Наша гипотеза (и вместе с тем оправдание) состояли в том, что смысл, будучи идеальным, все же по словам Г. Г. Шпета, укоренен в бытии, то есть он несет на себе в превращенной форме черты бытия, его ценностей. Поэтому он может выполнить функцию медиатора. Более того, идеальные смыслы реализуются в деятельности, воплощаются в ее продуктах, объективируются. Место смысла могут занимать идеалы, утопии, укорененные в идеологии. Смысл подобно мысли (верной или ложной) обладает собственной жизненной энергией. Имеются также аргументы в пользу признания роли медиаторов за ликом и Духочеловском. Первый исследователь психологии личности Бл. Августин называл посредником между Богом и человеком Иисуса Христа. Идея посредника пронизывает все его творчество. С нее начинается его “Исповедь”. Посредник нужен не только потому, что в нем “сокрыты все сокровища премудрости и ведения”, что через него говорит истина. С помощью посредника пробуждается человеческая активность, поиск, искание. Таким образом, в логике теологии Богочеловек является посредником. В светской логике такие функции могут быть свойственны другой персоне или приписаны ей (Духочеловек). Рангом пониже размещается лик, герой (в положительном смысле). Оставляем простор воображению читателя для размещения на схеме диктатора, маски, личины, идола и т. п. К сожалению, на рис. 7 мне не удалось отдельно от онтологического изобразить так называемый феноменологический план развития, хотя я долго пытался это сделать. Феноменологический план — это место интериоризации перечисленных средств медиации, место, где осуществляется построение внутреннего проекта развития личности и ее жизненного пути, где зарождаются человеческие сущностные силы, дающие импульсы к порождению новых форм поведения, деятельности, сознания. Феноменологический план — не эпифеномен. Он столь же реален, как и онтологический. Отсутствие его на схеме означает не второстепенность, а сложность его формирования и анализа. Он еще не вполне построен как предмет научного исследования. Но работа над ним тем более необходима, что без этого плана нельзя понять источников и движущих сил саморазвития человека, спонтанности и свободы его поведения, деятельности, сознания. К этому можно добавить, что именно в феноменологическом плане происходит переход от внешней детерминации развития к внутренней, к самоопределению и саморазвитию. Основное различие между онтологическим и феноменологическим планами состоит в том, что последний является потенциально возможным и включает такие части Я – концепции, как “Я – будущее”, “Я – должное”, “Я – идеальное”, а также аналогичные части великого множества “Меня – концепций” и “Тебя – концепций”. К несчастью, не так уж мало людей, которые мыслят, точнее, принимают решения, по механике условных рефлексов. Они, видимо, не подозревают о том, что И. П. Павлов предупреждал: мышление — это не рефлекс, это другой случай. Не с этим ли связано происхождение идеи об эпифеноменальности психики и сознания? Связи между уровнями каждого плана достаточно просты, они указаны на схеме, где представлены также основные узлы развития. В каждый узел входят уровни из всех планов развития, а также соответствующие этим уровням средства медиации (знак, слово и т. д.). Например, в исходный узел входят: совокупное Я из онтологического плана, воздействующее на уровень живого движения и трансформирующее недифференцированные формы активности. Оба эти уровня порождают первое средство медиации — знак, который в свою очередь может модифицировать уровень совокупного Я, принадлежащего феноменологическому плану. Но не только. Порожденный знак входит своим телом и значением в поведение и деятельность, относящиеся к следующему узлу, становится их средством. На них же может действовать совокупное Я из феноменологического плана. А развивающиеся поведение и деятельность оказывают свое влияние на совокупное Я из онтологического плана. Этой же логике подчинено развитие других узлов. В указанных взаимоотношениях уровней можно увидеть некоторое подобие с остроумной идеей взаимопереходов материала и формы в канто-рейнгольдовской теории познания. На рис. 8 с помощью рассмотренной схемы “вертикали развития” предпринята попытка показать возможность прямых влияний исходного уровня онтологического плана на последующие и прямых влияний последнего уровня феноменологического плана на предшествующие. К более подробной расшифровке этих связей я вернусь в дальнейшем изложении. Мне представляется, что они необходимы для понимания наличия высшей формы в самом начале развития, в том числе и для понимания определенной условности основной схемы, поскольку реально она работает как единое целое. Прямые связи — это связи функционирования, а не только развития, становления. Таким образом, каждый из узлов не только завязывается сам, но он же развязываетвсилы для вызова к жизни и конструирования следующего узла. В свою очередь каждый последующий уровень оказывает влияние на свойства предшествующего, вплоть до его существенного реконструирования. В принципе схема может рассматриваться как культурно-исторический код или, скорее, “геном” развития. При желании она может легко трансформироваться в двойную спираль развития, но меня сейчас больше интересуют не формальные, а содержательные переходы от узла к узлу. Эти переходы возможны благодаря тому, что все психологические образования (функциональные органы) являются гетерогенными. Это было продемонстрировано с помощью методов микроструктурного и микродинамического анализа на примерах предметного действия и живого движения, в которых были найдены когнитивные и эмоционально-оценочные компоненты (Гордеева Н. Д., Зинченко В. П., 1982). Это дало основание развить и наполнить выдвинутое С. Л. Рубинштейном (1940) положение о том, что действие является исходной единицей анализа психики, вполне конкретным содержанием (Зинченко В. П., Смирнов С. Д., 1983).
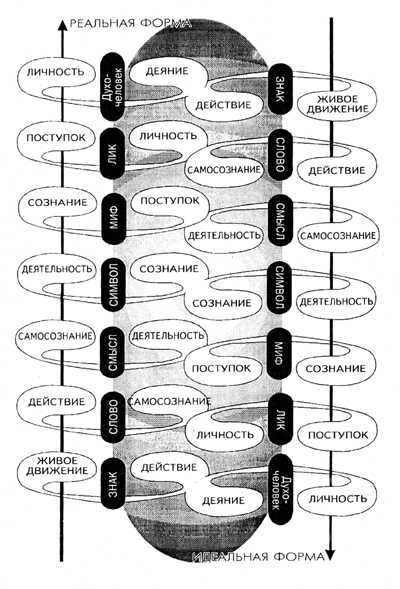
Рис. 8. Онтологический и феноменологический планы развития Гетерогенно не только действие, но и сознание, включающее в себя в качестве образующих биодинамическую ткань движения и действия, чувственную ткань образа (бытийный слой сознания), значение и смысл (рефлексивный слой сознания). Недавно я сделал попытку подробно описать взаимодействие образующих сознания и его слоев, их обратимости и обращаемости (Зинченко В. П., 1991). Конечно, предложенная схема не проста. Но она должна быть сложнее стандартной многоступенчатой ракеты, которая не обладает собственными конструктивными возможностями и не способна к самодетерминации развития своего полета, не говоря уже о способности заглядывания внутрь самой себя. Более серьезное возражение может возникнуть по поводу ее закрытости со ссылкой на то, что процесс человеческого развития бесконечен, человеческие возможности неисчерпаемы и т. п. На это следует сказать, что, во-первых, и предложенная схема на практике реализуется не так уж часто; во-вторых, она представляет собой и в том виде, в котором она предложена, огромные не только потенциальные, а вполне реальные, актуальные возможности развития. Наконец, никто не мешает предусмотреть в этой схеме еще один уровень, а именно уровень Богочеловека. Иное дело, что переход от личности к Богочеловеку выходит за пределы компетенции психологии. Бесконечность пространства для развития человека обеспечивает и наличие идеальной формы, обволакивающей весь процесс развития. Никто не мешает также в качестве такой идеальной формы рассматривать не только Богочеловека, но и самого Господа Бога. Путь от активности к личности — это прямая перспектива развития. Есть и обратная перспектива развития. Я разделяю сомнения О. Мандельштама в том, что подобный процесс можно назвать развитием в привычном смысле слова. Похожие оговорки делались и психологами, говорившими о новых функциональных органах – новообразованиях, появляющихся в онтогенезе, о конструировании таких органов. Можно назвать этот процесс эволюционно-конструктивным, или конструктивно-генетическим, а может быть, наиболее точно его характеризуют термины “саморазвитие”, “самостроительство”, “самосозданье”. Сейчас дело не в названии. Важнее понять, что же это за процесс развития, в котором соединяются прямая и обратная перспектива. Этим я хочу подчеркнуть “множественное единство” не только телесного, но и духовного человеческого организма и цельность развития, несмотря на наличие в нем внутренних поворотов, гроз, обвалов, разломов, разрывов, если хотите, кризисов и катастроф. Дело, видимо, в том, что развитие человека происходит в особом живом, часто его называют психологическим, времени. Вновь призовем на помощь О. Мандельштама: “Время для Данта есть содержание истории, понимаемой как единый синхронистический акт, и обратно: содержание есть совместное держание времени — сотоварищами, соискателями, сооткрывателями его” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 234). Живое время замечательно тем, что в нем одновременно даны все три “цвета времени”: прошедшее, настоящее и будущее. Поэтому-то психика — это не только продукт эволюции и даже не только ее фактор, о чем писал А. Н. Северцов, а движущая сила эволюции, разумеется, не единственная. Равным образом и сознание, обладающее этим же свойством, является движущей силой истории. И психика, и сознание вольны выбирать момент конструирования и определять направление полета. Конечно, и психика, и сознание подвластны течению естественного времени, но они не без успеха преодолевают его, меняют на энергию и пространство, даже останавливают. После общей характеристики принципа построения схемы обратимся к характеристике узлов и переходов между ними. Читатель, надеюсь, понимает, что здесь изложение станет по необходимости фрагментарным и будет носить скорее иллюстративный характер. Прежде всего рассмотрим переход от недифференцированных форм активности и живого движения к поведению и деятельности. К нему достаточно точно подходит следующий образ: Он опыт из лепета лепит. И лепет из опыта пьет. Эти строчки прежде всего характеризуют самого Мандельштама, блестяще владевшего дантовскими приемами обращаемости поэтической материи. В них как бы слита обратимость поэтической материи и обратимость нежной, имеющей отношение к дитяти, психологической реальности. Здесь О. Мандельштам выступает как психолог и на сложнейшем для психологии материале дает в понятной и простой форме пример своего рода клеточки развития. Опыт из лепета — это прямая перспектива (линейное развитие опыта). Лепет из опыта пьет — это обратная перспектива (обогащение лепета). Казалось бы, обе эти перспективы можно вполне безболезненно поменять местами. Спустя какое-то время, когда вместо лепета появляется слово, так и происходит. Суть дела не меняется. Но у О. Мандельштама опыт лепится из лепета не случайно. Лепет уже имеет адрес, и на лепет получается ответ. В эту клеточку развития входит доступный ребенку мир в виде находящегося при нем взрослого. Младенец ведь сам создает язык, понятный взрослому, т. е. он из опыта общения со взрослыми лепит (или пьет) новый лепет. Замечу, физическими носителями этого языка являются не только плач, улыбка, гуление, лепет, но и движения младенца. В приводимом ниже отрывке из Л. С. Выготского рассматривается иная последовательность: “Как первое применение орудия сразу отменяет формулу Дженнингса в отношении органически обусловленной системы активности ребенка, так точно первое применение знака знаменует выход за пределы органической системы активности, существующей для каждой психической функции. Применение вспомогательных средств, переход к опосредующей деятельности в корне перестраивает всю психическую операцию, наподобие того как применение орудия видоизменяет естественную деятельность органов и безмерно расширяет систему активности психических функций. То и другое вместе мы обозначаем термином высшая психическая функция, или высшее поведение” (Выготский Л. С., 1983, т. 3, с. 90). Производство, конструирование адресованного взрослому знака еще до конструирования исполнительного, утилитарного акта — это и есть, в полном соответствии с идеей Л. С. Выготского, начало формирования высшей психической функции. И производится эта высшая психическая функция деятельностью совокупного Я до исходной и первичной, согласно теории деятельности, манипулятивно-предметной деятельности. Д. Б. Эльконин предположил, что на самых начальных стадиях развития интерпсихического существуют “предзнаковые формы организации одним человеком поведения другого человека”. Эти идеи интересно развивает Б. Д. Эльконин (1996). Видимо, и непосредственные, предзнаковые формы сохраняются и после того, как они обрастают, обогащаются, в том числе и маскируются культурными знаковыми формами. Но они не утрачивают при этом своей непосредственности. Думаю, что можно говорить о пред- и постзнаковых формах организации одним человеком поведения другого человека. Принципиально оперативно-техническая сторона описываемого перехода от органической, как ее называет Л. С. Выготский, или непосредственной формы активности к форме активности, опосредствованной орудием ли, знаком ли, понятна. Она многократно описана, хотя, конечно, имеются детали, заслуживающие дальнейших исследований. На одну из них, отмеченную выше, обращу специальное внимание. Конструирование знака до конструирования исполнительного действия, до использования утвари, орудия принципиально важно. М. М. Бахтин как-то заметил, что орудие не имеет значения, оно имеет назначение. В процессе развития ребенка оно приобретает и значение. Для того чтобы это случилось, ребенок должен иметь опыт конструирования, оперирования знаками. Такой опыт становится базой приобретения новых знаков, значений и, видимо, базой приобретения умений, навыков использования орудий, базой построения действий с ними. Другими словами, наличие высшей формы (способность порождения знаков и их использования) является условием понимания назначения орудий, овладения действиями с ними, а затем и понимания или приписывания им значащей, а то и символической функции. Такая трактовка нисколько не уменьшает значения орудийности как главного “оператора” перехода от первого узла ко второму. Я лишь хочу подчеркнуть, что наличие оператора более высокого ранга — оперирование знаком при всем его несовершенстве — служит основой овладения оператором более низкого ранга — оперирования орудием. Это и есть “синхронистическое” понимание развития — понимание развития не от низшего к высшему и даже не от высшего к низшему, а как “стояние времени” или “держание времени”: “В дантовском понимании учитель моложе ученика, потому что он “бегает быстрее” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 217). Конструирование поведения и деятельности, вооружающейся все новыми и новыми средствами, создает предпосылки для возможной эмансипации дитяти от взрослого, для конструирования его собственного Я. Каково здесь разделение труда? От взрослого многого не требуется. Просто нужно, чтобы он был счастливым, любил свое дитя и старался его понимать. На полюсе ребенка дело обстоит сложнее. Можно, как это принято в психологии, говорить о его потребностях, об их опредмечивании, о том, что встреча потребности с предметом — акт чрезвычайный (А. Н. Леонтьев). Все это так. Но все это продолжение той же, пусть важнейшей, но лишь оперативно-технической линии развития. Мне бы хотелось обратить внимание на другую сторону этого процесса. Помимо потребностей, имеется и некоторое иное пространство допсихических форм активности. Д. Н. Узнадзе говорил о них в терминах установки к действию, к восприятию, В. А. Лефевр — в терминах установки к выбору, Дж. Брунер — в терминах интенции к схватыванию предмета. Последний термин мне представляется наиболее адекватным. Выше приводились строки О. Мандельштама: “Узел жизни, в котором мы узнаны и развязаны для бытия”. Видимо, он схватил важнейшую человеческую интенцию. Это интенция быть понятым, быть узнанным, названным, позднее — быть признанным: В узнавании есть и эмоциональный заряд: “выпуклая радость узнаванья”; “И сладок нам лишь узнаванья миг”. Понимание, узнавание, признание в ребенке человека (а не неведомой зверушки, биологического существа) — это самый главный вклад взрослого в развитие, толчок, движущая сила развития, развязывание в ребенке возможностей его индивидуальности, человеческих сущностных сил, его самости, его призвания. Эта работа происходит на зарождающемся феноменологическом уровне. Интересно выражение благодарности Б. Пастернака в письме к В. Брюсову. Он пишет о его поэтической силе, высокой заразительности, родной и вместе с тем старшей стихии, “которая сложила тебя, затем тебя заметила, тебя назвала и — наконец, в своем предвидении оказалась правой” (Пастернак Б. Л., 1990, с. 313). Это и есть главная помощь в конструировании инстанции Я, которой становится подвластна его собственная индивидуальность и его окружение. Лишь намечу еще одну важную, хотя и таинственную сторону развития. Любовь взрослого (вкладывание души) порождает или пробуждает в ребенке живую душу. Вернемся к лепету и опыту. На переходе от первого ко второму узлу появляются зачатки не только знакового, но и вербального поведения, что не противоречит его в целом орудийному характеру. Важно понять, что благодаря орудийности мы имеем дело с конструктивным, а не с адаптивным или рефлекторным типом развития. Из рефлекса нельзя ни вылепить, ни выпить новый опыт или новый лепет (слово), а из опыта можно. Конечно, до того, чтобы лепет стал словом, а “слово стало плотью и обитало с нами”, еще далеко. Но для поэта Мандельштама слово — плоть, материя (“а хлеб — веселье”), и оно действительно обитало с ним всегда. Хотя и он по этому поводу делает оговорку: Быть может, прежде губ уже родился шепот, И в бездревесности кружилися листы, И те, кому мы посвящаем опыт, До опыта приобрели черты. “Быть может”, а не наверняка; не “я знаю”. Он ведь знал гетевское “деяние — основа бытия”. Подведем первые итоги. В полете конструируется не только новая машина (поведение и деятельность). Конструируется и новый самостоятельный и самодеятельный пилот. Конечно, на первых порах его самостоятельность весьма и весьма относительна. Он еще только учится с помощью взрослого, орудий, утвари (бирюлек, игрушек) конструировать собственные действия с ними же. Не следует преуменьшать сложность этой задачи. Б. Д. Эльконин справедливо писал, что сконструировать, построить действие порой труднее, чем построить предмет. Это действительно так, потому что конструирование действия — это и конструирование себя самого, своих собственных средств или функциональных органов. Все это происходит наряду с конструированием (и овладением) знаковых и вербальных форм общения, что закладывает основы способности заглядывания внутрь самого себя, формирования не только онтологического, но и феноменологического уровней развития. У читателя, да и у меня самого, возникает вопрос, а не слишком ли большая нагрузка падает на этот переход от первого узла ко второму. Не является ли такая интерпретация метафоры О. Мандельштама антигенетичной? Что же это за развитие, в котором все основные новообразования появляются практически сразу? Попытаюсь показать, что это не произвол интерпретатора, а другое понимание развития. О. Мандельштам, не без влияния А. Бергсона, различал мышление неорганическое, когда мысль лишь является придатком к действию, и мышление органическое, необходимое при приближении к тайнам органической жизни. Для познания этих тайн необходимо приближение к первообразу мышления органического (Мандельштам О. Э., 1990, с. 362). Он сочувственно излагает ход мысли Бергсона, “который рассматривает явления не в порядке их подчинения закону временной последовательности, а как бы в порядке их пространственной протяженности. Его интересует исключительно внутренняя связь явлений. Связанные между собой явления образуют как бы веер, створки которого можно развернуть во времени, но в то же время он поддастся умопостигаемому свертыванию” (там же, с. 173). При таком ходе мысли место проблемы причинности занимает проблема связи явлений, что делает возможным сохранение принципа единства в вихре перемен. Это не означает, конечно, что сам человек живет вне времени. Желательно, конечно, чтобы он жил в историческом времени, а не в безвременьи, но в любом случае, как пишет О. Мандельштам, личность действует в принадлежащем ей времени. Да и само чувство времени дано человеку для того чтобы действовать, побеждать, гибнуть, любить (там же, с. 204). В эпохи, когда личности падают (не в такую ли мы попали?) “самое понятие действия для личности подменяется другим, более содержательным социально, понятием приспособления” (там же). Замечу, что одна из распространенных форм приспособления состоит в том, что личность уступает свое место хаму. Мне представляется, что эти по сути своей методологические соображения О. Мандельштама заслуживают самого пристального внимания со стороны не только психологов, но и других специалистов, изучающих развитие человека. Человечность, а не набор функций, должна закладываться (проявляться?, возникать?, конструироваться?) совокупной деятельностью с самого начала. Потом может оказаться слишком поздно. Не хватит потенциала (материала?) для становления “сильно развитой личности” (Ф. Достоевский), определяющей себя целиком изнутри (см.: Померанц Г., 1991). Напомню, что даже Н. А. Бердяев — выдающаяся личность — писал, что “в моем Я есть многое не от меня”. Завершу этот методологический экскурс еще одним положением О. Мандельштама: “Наука, построенная на принципе связи, а не причинности, избавляет нас от другой бесконечности эволюционной теории, не говоря уже о ее вульгарном прихвостне — теории прогресса” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 173). Об этом, может быть, не стоило писать столь подробно, если бы в психологии не бытовал не менее вульгарный принцип детерминизма, служивший (возможно, невольно) теоретическим основанием лишения человека свободы и достоинства. Надеюсь, что характеристика дальнейших переходов от узла к узлу убедит читателя в том, что развитие человека не кончается на первом переходе. Рассматривая переход от первого узла идеализированной схемы развития человека ко второму, я старался избегать строгих дефиниций уровней онтологического и культурно-исторического планов развития. Общая причина этого состоит в том, что схема предполагает как прямую, так и обратную перспективу развития. Поэтому функциональный анализ имеет дело со скрытыми различиями, существующими между уровнями. Они действительно по мере развития становятся весьма относительными. Что касается генетического анализа, то с его помощью также трудно вскрыть “чистые линии” в целостном процессе. Однако трудности в определении различий между уровнями онтологического и культурно-исторического плана специфичны. Попробую проанализировать их, что, возможно, приведет к лучшему пониманию всей схемы и различий между ее уровнями. Различия между Совокупным Я и Я (см. схему развития на рис. 7) вполне очевидны. Они, так сказать, физически ощутимы. Однако эмансипация Я, выделение его из совокупного Я не означает, что последнее исчезает вовсе и не функционирует при переходе к другим узлам развития. Иное дело, что меняется его удельный вес в жизненном потоке развивающегося индивида. Долгое время самостоятельность выделившегося Я остается вполне иллюзорной. Оно продолжает не только оставаться, но и ощущать себя частью симбиотического, точнее, социобиотического, или коллективного Я. Вообще-то Совокупное Я является нерасчлененным в себе образованием, да и понятием тоже. Расчленения Я, видимо, имеют своим источником Сверх-Я, которое представлено в феноменологическом плане. Различия между живым движением и недифференцированными формами активности, с одной стороны, и поведением и деятельностью — с другой, установить крайне сложно. Это порождение знака и использование орудия, игрушки, утвари и других типов медиации. Однако если это справедливо для становящейся коммуникативной или манипулятивно-предметной, орудийной деятельности, то сомнительно для поведения, социальная ценность которого весьма амбивалентна. Мы в равной степени ценим и осуждаем как раз непосредственность поведения человека, которая, кстати, весьма трудно преодолима. Это объясняется тем, что, несмотря на густую сеть опосредствований и переопосредствований, которые испытывают на себе уровни развития Я, представленные в онтологическом плане, на любом уровне сохраняются некоторые индивидуальные константы. Эти константы чрезвычайно важны. Они обеспечивают единство действующего и феноменологического Я, несмотря на всю его возможную множественность. Передача этих констант как раз и обеспечивается прямыми связями, соединяющими уровни развития онтологического Я. Разумеется, эти константы могут более или менее успешно маскироваться различными типами медиаторов (знак, слово, миф), принятыми на себя индивидом ролями, усваиваемымисоциальными нормами и т. п. Строго говоря, прямые и обратные связи должны быть прочерчены между уровнями культурно-исторического плана (функциональными органами). Прирожденные свойства живого движения, видимо, сохраняются на всю жизнь и накладывают свою печать на поведение, деятельность, поступки, личность. А. В. Запорожец не случайно связывал моторику, позу, установку, которая, согласно Д. Н. Узнадзе, представляет собой допсихологическое образование, с личностью. Прирожденные свойства отражаются в самосознании и даже объективируются: В поднятьи головы крылатый Намек — но мешковат сюртук; В закрытьи глаз, в покое рук — Тайник движенья непочатый. Так вот кому летать и петь И слова пламенная ковкость,— Чтоб прирожденную неловкость Врожденным ритмом одолеть! (1913) Тайник — это средоточие и источник живого движения не только тела, но и души. Доступ к этому тайнику позволил О. Мандельштаму преодолеть, во всяком случае в своем самосознании, врожденную неловкость, о которой он писал в “Автопортрете”. Много позднее о ней нет речи. Наоборот: Словно щеголь, голову закину, И щегла увижу я. Правда, в обращенной к щеглу строчке он замечает с оттенком доброй зависти: Сознаешь ли, — до чего щегол ты, До чего ты щегловит. И далее вновь уподобление: Я откликнусь моему подобью: Жить щеглу — вот мой указ. (1936) Интересно, что это самоуподобление не только внешности щегла, а его моторике, осанке, повадке, жестам, даже взглядам. В противном случае это было бы уподобление не живому щеглу, а чучелу щегла. Потрясает указ. Не жалоба, не просьба, а указ — “жить щеглу”, свидетельствующий о мужестве поэта в трагические для него дни. Рефлексия О. Мандельштама, направленная на собственную внешность, осанку, позу, говорит о сохранности прирожденного Я и о роли опосредствования в его преодолении, которое не бывает полным. С их помощью, в том числе и с помощью врожденных ритмов, возможна перешифровка врожденных свойств: неловкость трансформируется в щегловитость, в щегольство. Щегловитость, крылатость — это черты действующего онтологического Я поэта. В гармонии с ними находятся и черты его феноменологического Я, которые он также связывает с крылатостью, с тем же любимым поэтом образом полета, правда, уже не щегла (о его полете нет речи), а ласточки. Она может быть живой, подружкой, Антигоной, может быть слепой и хилой. Можно предположить, что в образе ласточки О. Мандельштам прозревает не только свою судьбу, но и особенности своего полета — творчества, для которого характерны состояния вне времени: О длительные перелеты! Семь тысяч верст — одна стрела. И ласточки, когда летели В Египет водяным путем, Четыре дня они висели, Не зачерпнув воды крылом. Сделаю небольшое отступление от интерпретации схемы развития. О. Мандельштам — поэт особого склада. Он осмысливает свою судьбу, визуализирует и концептуализирует поэтическую работу Данта и свою собственную. Да и весь “Разговор о Данте” — это пособие не только для чтения Данта, но и для чтения поэзии О. Мандельштама. Говоря о поэтическом формообразовании, его волновой процессуальности, обратимости поэтической материи, О. Мандельштам характеризует последнюю как самую точную из всех материй, самую пророческую и самую неукротимую. Поэтому есть большой соблазн прочитывать поэзию О. Мандельштама как естественно-научный и одновременно философско-психологический текст. Этот соблазн не миновал и меня. Именно поэтому его стихи — необходимый элемент этого текста. Как большинство концептуалистов, я слеп. Видимо, с этим связано то, что я всю свою научную жизнь пытаюсь понять механизмы формирования зрительного образа, визуального мышления. А О. Мандельштам чрезвычайно зряч. Но его зрячесть — это всегда малая или большая концепция. Он в своих образах воплотил ощущаемую им драму естествознания, его кризис. Не обошел он своим язвительным вниманием и психологию, говоря о том, что свободное и радостное порхание фабулы есть “освобождение духа из мрачного траурного куколя психологии” (Мандельштам О. Э., 1987, с. 202). Но поэзия, как бы ни была она точна и прекрасна, это все же не наука. В ней совершается “проясняющий акт понимания-исполнения”. И далее: “В поэзии важно только исполняющее понимание — отнюдь не пассивное, не воспроизводящее, не пересказывающее. Семантическая удовлетворенность равна чувству исполненного приказа. Смысловые волны-сигналы исчезают, исполнив свою работу: чем они сильнее, тем уступчивее, тем менее они склонны задерживаться” (Мандельштам О. Э., 1987, с. 109). Но наука не может удовлетворяться исполняющим пониманием, текучими смысловыми волнами. Она должна перевести их в понятия, в концептуальные конструкторы, в модели, символы, формулы. Поэзия может себе позволить “приказывать”, пророчествовать, наука — нет. По словам В. Гюго: наука — лестница, поэзия — взмах крыльев. У О. Мандельштама замечательно и другое, о чем он, насколько я знаю, не пишет. Он мастерски представляет понятия в образах, чем не только преодолевает недостаточность научного языка, но и расширяет объем понятий, порой трансформирует их, освещает с другой неожиданной стороны. Он как бы впрессовывает научные понятия в лирику. Поэтому цитаты О. Мандельштама в настоящем тексте достраивают бедный научный язык. Но при всей его бедности лишь с его помощью наука может выполнить свои не только понимающие, но и конструктивные, а затем уже, если повезет, и исполняющие функции. Она не может в качестве конечных результатов давать “мучительные и зыбкие образы”, как бы они ни были важны в процессах научного творчества. Завершу это отступление тем, что я, в соответствии с принятыми в науке обычаями и навыками классификации, поместил щегла в “клетку” онтологического Я, а ласточку — в “клетку” феноменологического Я поэта. И хотя я оговорился, что оба его Я находятся в гармонии, такая интерпретация еще далека от гармонии поэзии и науки: Образ твой, мучительный и зыбкий, Я не мог в тумане осязать. “Господи!” — сказал я по ошибке, Сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, Вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, И пустая клетка позади. Щегол с ласточкой могут слиться в большую птицу, помещающуюся в одной клетке. Последняя может и опустеть. Вместо большой птицы в клетку могут вернуться две маленькие, они могут попасть и в разные клетки. Правда, это не заставляет меня отказаться от дифференциации онтологического и феноменологического Я и от интерпретации обоих Я, которая приведена выше. После этого отступления вернемся к проблеме различий между уровнями. Если оставить в стороне поведение, которое, конечно же, рано или поздно также становится опосредствованным теми или иными (хорошими или дурными) социокультурными нормами, а говорить лишь о деятельности, то здесь возникает сложность. Она состоит в том, что знаковое ли, предметное ли, вербальное ли обуздание живого движения начинается практически с момента рождения ребенка. С одной стороны, свобода живого движения весьма ограничена временными рамками, чтобы не сказать, что период такой свободы исчезающе мал по сравнению с остальной жизнью. С другой — живое движение представляет собой непреходящую ценность на протяжении всей жизни человека, поскольку именно в нем, в его избытке степеней свободы заключен практически неисчерпаемый резерв, или ресурс, на базе которого только и возможно овладение все новыми и новыми видами действий и деятельностей. Сказанное не противоречит тому, что нередко наблюдается варварское отношение к этому ресурсу, когда социум превращает человека в машину, в бездушный автомат (утрата живого движения — это утрата души), гасит свойственные человеку степени свободы, т. е. преждевременно выполняет функции, являющиеся прерогативой смерти. Поэтому-то неистребима борьба людей, если и не за полную свободу, то за увеличение числа степеней свободы, обеспечивающих хотя бы минимальные возможности развития, жизненного выбора: Нам союзно лишь то, что избыточно, Впереди — не провал, а промер, И бороться за воздух прожиточный — Это слава другим не в пример. Нельзя забывать о том, что живое движение — это не только резерв, которым мы пользуемся при формировании оперативно-технической стороны поведения и деятельности, оно и есть живая душа и, соответственно, вносит далеко еще не оцененный вклад в формирование и осуществление свободных действий — поступков. Глубоко прав был А. В. Запорожец, говоривший о том, что не следует проявлять неразумной торопливости, форсировать детское развитие, преждевременно связывая его с различными нормами, типами медиации, навязывая ребенку тот или иной материал или виды деятельности. Это мешает ребенку самому найти себя в материале. Подобное навязывание характерно не только для школы, но и для семьи, дошкольных учреждений. Не свободны от этого греха и некоторые направления педагогической психологии, сложившиеся в русле психологической теории деятельности, претендующие не столько на развитие творческого потенциала учащихся, сколько на тотальное формирование высших психических функций, прежде всего умственных действий с заданными свойствами. Биографы А. Эйнштейна сообщают, что у него сильно задержалось речевое развитие. Можно предположить, что в это время интенсивно развивалось его визуальное мышление, с которым А. Эйнштейн связывал создание общей теории относительности. Последнее стало бы наверняка ущербным, если бы окружающие форсировали развитие его речи. Да и кто может заранее сказать, какие свойства мышления понадобятся человеку в его будущей жизни. Иное дело, что для развития должно быть обеспечено максимально широкое поле возможностей и бережное отношение к зарождающимся интересам, склонностям, а тем более способностям. Здесь большая ответственность ложится на “взрослую” часть совокупного Я, представленного не в онтологическом, а в феноменологическом плане развития. Вернемся к схеме. Поведение и деятельность по ходу своего осуществления нуждаются в создании недостающих им органов, т. е. в конструировании нового, с помощью которого возможно их усовершенствование, саморазвитие (не следует смешивать с самовоспроизведением). Таким новым является на первых порах самосознание, а затем и сознание. Почему именно они? Весь замысел конструирования (и смысл метафоры О. Мандельштама) состоит в том, чтобы не только обеспечивать движение, но и сохранять единство, достигаемое, в частности, благодаря стремлению проникнуть, заглянуть внутрь самого себя: “чую размах крыла”. Это одно из самых необходимых условий саморазвития, хотя, к сожалению, не так уж часто встречающееся. Субъектами такого “заглядывания” являются Я, представленное в онтологическом плане, и в еще большей мере Я, представленное в феноменологическом плане. Прямым медиатором, обеспечивающим возникновение самосознания и сознания, является слово. Не менее важно обратное влияние символа и мифа, порожденных сознанием. Проникновение внутрь себя самого необходимо для соразмеривания имеющихся сил (внешних и внутренних) со стоящей перед Я задачей и условиями ее выполнения, для принятия решения о сохранении направления и скорости полета или их изменения. Наконец, не менее важен вопрос о выборе момента конструирования новой машины, нового функционального органа и его желательных свойств. Все эти функции выполняются формирующимся самосознанием, а затем и сознанием, конечно, в союзе с деятельностью, которая опробывает цели средствами. Возникает резонный вопрос: как же возможно осуществление поведения и деятельности, которые не вооружены самосознанием и сознанием? Может быть, узел, сердцевину которого составляют самосознание и сознание, формируется прежде, чем узел, сердцевиной которого являются поведение и деятельность? Чтобы ответить на этот вопрос, полезно ввести понятие рефлексии, которое существенно шире, чем понятия самосознания и сознания. Рефлексия действительно представляет собой одну из составляющих поведения и деятельности. Более того, рефлексивные компоненты входят в структуру не только поведения и деятельности, в том числе и действия. Для них имеется место и в структуре живого движения, и в слабо дифференцированных формах активности. Сегодня понятие живого движения, введенное Н. А. Бернштейном, по мере выявления его процессуально-волновых и даже квантово-волновых свойств утрачивает свой первоначальный метафорический характер. В исследовании Н. Д. Гордеевой и В. П. Зинченко (1982) были обнаружены два вида чувствительности, присущие движению: чувствительность к ситуации и чувствительность к собственным возможностям, таким, как возможности продолжения движения, экстренной остановки, изменения скорости, ускорения, направления движения. Сопоставление показаний, даваемое обоими видами чувствительности, — это и есть начало рефлексии. Иное дело, что сейчас трудно указать на инстанцию, которая осуществляет такое сопоставление. Однако наличие сопоставления не вызывает сомнений. Натуральные, довербальные, досознательные формы рефлексивной оценки ситуации и возможностей поведения (пребывания) в ней достаточно рано дополняются социальной ориентацией и социальными нормами. Крайне любопытно, что обсуждая вопрос о том, каким образом человек посредством деятельности становится господином своего тела, мудрый идеалист Гегель очевидно неслучайно указал на “особую рефлексию”, благодаря которой движения тела соразмеряются с многообразными обстоятельствами внешнего мира (см.: Гегель Г. В. Ф., 1977, с. 209). Замечательный урок для тех, кто ведет начало психологии с Вундта, Джемса, Сеченова или с себя. Широко известны исследования поведения младенца-ползунка в ситуации “зрительного обрыва”, которые проводила Э. Гибсон. Младенец не переползает по стеклу над обрывом. А. В. Запорожец в лаборатории Гибсон показал, что если в поле зрения младенца находится приглашающая его мама, то младенец преодолевает обрыв, ползет к ней. Аналогичны наблюдения Д. Б. Эльконина, исследовавшего генезис предметного действия. Дифференцирующиеся формы рефлексии вносят свой вклад во все уровни. Ее исходные формы могут служить связующим звеном при переходе не только от второго узла к первому, но и от первого ко второму. (Огромное значение имеет рефлексия в процессах саморегуляции чувств и личностного развития человека, но эта рефлексия смысловая и особого рода.) После этих разъяснений ясно, что как бы ни увеличивался удельный вес рефлексии в деятельности, это еще не самосознание, а скорее его исходные, зачаточные формы и предпосылки, если рассматривать прямую перспективу развития и переходы от узла к узлу. Но далее, если мы будем рассматривать обратную перспективу развития, то это осколки раздробленного сознания, несомненно присутствующие в деятельности и поведении. Важно подчеркнуть, что в любом случае это такое “сознание”, в которое нельзя посмотреться, получить целостную картину мира и себя в нем. Такую возможность создают не относительно автономизировавшиеся от деятельности, а лишь вполне самостоятельные сознание и самосознание. В 1977 г. мы с М. К. Мамардашвили указали место для сознания и самосознания. Это — зазор длящегося опыта индивида; содержательная пауза в активности, поведении, деятельности; остановленное время или состояние вне времени: Богослужения торжественный зенит, Свет в круглой храмине под куполом в июле, Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули О луговине той, где время не бежит. Благодаря таким состояниям деятельность получает шанс подняться на новый виток развития, вплоть до витка свободного действия, обладающего необходимыми для творчества вневременными свойствами. Об этом разговор впереди (см. также: Зинченко В. П., Мамардашвили М. К., 1991). Здесь же необходимо вновь вернуться к проблеме непосредственности-опосредствованности, которая долгие годы представляет собой достаточно коварную ловушку для психологии. Борьба школы Д. Н. Узнадзе, школы Л. С. Выготского – А. Н. Леонтьева – А. Р. Лурии и их последователей с постулатом непосредственности помимо воли и желания исследователей проложила дорожку к реконструкции старых представлений об эпифеноменальности сознания. С одной стороны, в психологической теории деятельности утверждалось, что сознание это не “чистая субъективность”, поскольку оно несет на себе следы породившей его предметной деятельности. Однако настаивание на его опосредствованной — общением ли, деятельностью ли — сущности лишало сознание непосредственного существования. Признавалась роль сознания в деятельности, но ему отказывалось в существовании вне, помимо, а тем более над деятельностью. В этой традиции особенно А. Н. Леонтьевым охотно подчеркивалась надприродность, сверхчувственность психики и сознания, но не было речи об их непосредственном существовании, реальной силе, возможной власти в мире. Да и какая может быть власть у субъективного образа объективного мира, вторичного сознания, у отражения, у личности, производной от фантомного коллектива? Как сказал О. Мандельштам: “И зеркало корчит всезнайку”. Характерно при этом, что А. Н. Леонтьев все примеры существования надприродного, сверхчувственного брал из “базиса”, т. е. из самой передовой науки — политэкономии. Классический и любимый пример — стоимость. В базисе реальная сила, а надстройка — она и есть надстройка. Она идет за базисом, а, как хорошо известно, тот, кто идет за кем-то, всегда остается позади. Не дай Бог институты надстройки пустить “впереди паровоза”. Но даже если они вдруг вырвутся вперед, практика, выполняющая функции надсмотрщика (то бишь критерия) истины, их осадит. Не спасло и признание существования “превращенных форм”. Но сознание не рассматривалось как превращенная форма со всеми вытекающими из этого заимствованного из немецкой классической философии понятия последствиями. Сознание не отпускалось с короткого поводка деятельности. В этом контексте не хочется вдаваться в идеологические причины подобной усеченной трактовки сознания. Это я сделал в другом месте (см.: Зинченко В. П., 1991). Здесь я лишь ограничусь замечанием, что тоталитарные и посттоталитарные режимы могут терпимо относиться к рефлекторным теориям психики и даже приветствовать теории деятельности (вспомним, к примеру, о многократном тиражировании нацистами трудов А. Гелена), но они абсолютно нетерпимы к любым сколько-нибудь вразумительным теориям сознания. Последние, если и развиваются, то преимущественно эзоповским языком. При этих режимах можно сколько угодно изучать любые соотношения, например “мозг и сознание”, “язык и сознание”, даже “деятельность и сознание”, но не сознание как таковое. Знание может стать силой, а сознание — лишь отражением, а не соучастником бытия. Сознание как отражение, пусть даже его высшая форма, — это есть удаление приставки “со”, редукция его к безличному знанию. Можно предположить, что отсутствие сильной теории сознания привело к тому, что его проблематика начала развиваться с другого конца, а именно с новой трактовки знания. Я имею в виду поиски современной методологии науки в сфере “личностного знания”, “познавательного отношения”, неминуемо ведущие к теории сознания. М. К. Мамардашвили не только реконструировал, но и развил исходный смысл понятия “превращенной формы”, которое в психологии должно быть одним из центральных. Он писал, что в гуманитарных науках есть много случаев, когда “...приходится оперировать понятием единого континуума бытия-сознания и рассматривать “бытие” и “сознание” лишь в качестве различных его моментов, имея в виду области, где теряют смысл классические различения субъекта и объекта, реальности и способа представления, действительного и воображаемого и т. д. Но здесь как раз и появляются (и сохраняются в теории, претендующей на объективность метода описания) превращенные объекты (иррациональные выражения, “жареные логарифмы”) как знаки, свидетельства неустранимого различия между бытием и сознанием, как символы того, что при всей слитости в некотором общем континууме бытие и сознание не могут быть отождествлены. Наличие оператора “превращенность” в концептуальном аппарате теории указывает именно на это” (Мамардашвили М. К., 1990, с. 237). Еще и еще раз нужно подчеркнуть, что признание простого наличия превращенных форм явно недостаточно. Хотя они и породившие их или порождаемые ими формы могут осуществлять до поры до времени общий полет, необходимо признать их автономное, эмансипированное существование. Лишь в этом случае за сознанием будет признана реальная сила, и оно выступит частью самого исторического движения. Мы же до сих пор склонны признавать реальное существование только извращенных форм, а что касается нормального, представляющего собой превращенную форму сознания, то, к сожалению, здесь мы разделяем пессимистическую констатацию К. Маркса: “Люди поставлены в такие условия, которые определяют их сознание без того (т. е. в данном случае без того, чем определяется стоимость производимых ими продуктов. — М. М.), чтобы они обязательно это знали” (цит. по: Мамардашвили М. К., 1990, с. 324). Не в этом ли онтологические и гносеологические корни мифологических и утопических черт сознания, в том числе и марксовой коммунистической утопии, которая слишком медленно утрачивает былую популярность в нашей стране? Лишь в случае признания, наряду с опосредствованной сущностью сознания, его автономного, непосредственного и объективного существования сознание сможет обладать своими собственными силами, креативными и порождающими свойствами. Именно в своей непосредственной роли оно выполняет функции средств регуляции породившей его деятельности и приобретает событийный статус. Последний связан с тем, что и самое сознание есть событие в мире. И если такое событие случается, то оно уже необратимо, уникально. Более того, в силу своей необратимости, уникальности оно не только событийно, но и бытийно, т. е. представлено в общем континууме бытия — сознания. Именно таким было сознание О. Мандельштама, писавшего, что: ... я — новое, — от меня будет свету светло. И это несмотря на то, что ему приходилось заговаривать свое Сознанье полуобморочным бытием, Я ль без выбора пью это варево, Свою голову ем под огнем. Здесь отчетливо выступает разница между онтологическим Я и феноменологическим, вернее, лирическим Я поэта. Поэтическая материя (и мысль) поэта фиксирована “на том пороге жизни, который можно назвать предсмертием” (Е. Эткинд). Без феноменологического Я онтологическое Я вырождается в эмпирическое бытие, в существование. С ним — это со-бытийное осознанное бытие. Это не значит, что онтологический план развития Я вовсе лишен сознания. Здесь Я во всех своих ипостасях (кроме, пожалуй, совокупного) пользуется рефлексивным сознанием, оно для него средство, а не цель, тем более не смысл. Сознание выступает в утилитарной функции обслуживания деятельности Я. Если эта функция оказывается единственной, то деятельность неминуемо вырождается в полудеятельность, апатию, активизм. Феноменологическое Я — это не просто персонификация сознания как такового, но оно само становится средством его развития. Для него сознание становится целью и средством не столько осуществления жизнедеятельности, сколько осознания, осмысления, т. е. извлечения смыслов из бытия или придания их ему. Поиски смысла, а тем более порождение смысла личного существования требуют выхода за пределы собственной жизни. Иногда это выход за пределы индивидуального бытия: “любите... свое бытие больше самих себя”, — формулировал О. Мандельштам высшую заповедь акмеизма. Есть и уродливые формы выхода за пределы индивидуального человеческого бытия, к социалистическим, выдававшимся за общечеловеческие, ценностям, называемым нелепыми словосочетаниями: “классовый подход”, “партийность науки”, “советская психология” и т. п. Здесь, правда, сознание не ночевало, простыни не смяты. Сознание вытеснено бесчеловечной идеологией. Об исходной бесчеловечности такой идеологии хвастливо и убедительно свидетельствовал Л. Троцкий: “Ленин ставил заранее свою подпись под всяким решением, которое я найду нужным вынести в будущем. Между тем от этих решений зависела жизнь и смерть человеческих существ. Может ли быть большее доверие человека человеку?" (цит. по: Волкогонов Д., 1991, с. 134). Они, видите ли, человеки, а остальные — существа... Об этом не стоило бы писать, если бы идеологическая обработка народа была бы организована менее талантливо. Но она сумела вытравить даже из сознания психологов не только проблему феноменологического, но и онтологического плана развития Я, не говоря уже о психологии личности. Любое сколько-нибудь человечное направление в изучении человека, особенно претендующее на разработку целостных представлений о нем (например, педология, психотехника, психоанализ и т. д.), объявлялось сознательным извращением марксизма и запрещалось. Идеология выполняла не продуктивные, а репрессивные функции. Приходится лишь удивляться, что не была запрещена психология. С ней поступили по облегченному варианту, приказав ей долго жить, т. е. самоотождествиться с учением о высшей нервной деятельности и об условных рефлексах. Все было направлено на то, чтобы разрушить или не позволить возникнуть естественным для человека связям между сознанием и деятельностью, с одной стороны, и сознанием и личностью — с другой, лишить сознание присущих ему порождающих свойств. Ситуация в психологии была лишь слабым отражением того, что происходило с сознанием народа. Здесь следует обратиться к слову, языку, голосу как к инструментам медиации, обеспечивающим возникновение самосознания и сознания. Они опосредствуют трансформацию действий, деятельности в сознании. Разумеется, роль этих инструментов не сводится к медиации, она намного шире. Самое слово — это дело. Оно должно рассматриваться как внутренняя форма произвольного целесообразного действия. Свободное слово — это поступок. “Голос — это звуковая конечность” (С. Эйзенштейн). “Голос — это личность” (О. Мандельштам). “Солнце останавливали Словом, Словом разрушали города” (Н. Гумилев). Все это несомненно. Конструктивные функции слова достаточно хорошо изучены, в том числе и в формировании сознания. Но мне кажется, что сейчас не менее важно понять и осознать его деструктивные возможности и функции. Я пойду по пути доказательства от противного, которое даст не менее убедительные доводы в пользу роли языка в формировании нашего извращенного сознания. Современник А. С. Пушкина П. Чаадаев писал, что у России нет истории, что она принадлежит к неорганизованному, неисторическому кругу культурных явлений. Он не учел, да и не мог учесть и понять, как почти всякий современник, что “Пушкин построил здание нашей духовной жизни, дом русского исторического сознания” (Пастернак Б. Л., 1990, с. 335). Этим домом стал пушкинский язык. О. Мандельштам писал, что П. Чаадаев “упустил одно обстоятельство, именно: язык. Столь высоко организованный, столь органичный язык не только — дверь в историю, но и сама история. Для России отпадение от истории, отлучение от царства исторической необходимости, от свободы и целесообразности было бы отпадением от языка. “Онемение” двух, трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти. Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории” (Мандельштам О. Э., 1987, с. 60). Это было хорошо понято большевиками, пытавшимися строить коммунистическое общество. Разрушить старый мир — это прежде всего уничтожить историческую память народа, аккумулированную в языке, в слове. За советское время вначале ощупью, а затем и сознательно была организована система мероприятий, направленных на достижение своеобразного идеала — культурно-исторической амнезии народа, превращение народной памяти в “чистую доску”, на которой можно записывать, а лучше — впечатывать (по типу импринтинга) новое мировоззрение, новое сознание, новые нравственность и мораль, новые цели и идеалы. Мы действительно в течение ряда поколений шли над обрывом и готовы были, как говорил О. Мандельштам, сорваться в нигилизм, отлучиться от языка. Схематически отмечу некоторые “этапы большого пути” к исторической амнезии. Все началось с того, что лучшие умы России в 1922 г. были отправлены в эмиграцию. Затем планетарное сознание замечательных представителей русской нравственной философии было объявлено вторичным, второсортным, поповским, идеалистическим, враждебным. Было ликвидировано и бессознательное. В 1925 г., несмотря на атеизм З. Фрейда, психоанализ был запрещен. Более 70 лет велась борьба с религией. Всего этого оказалось мало. Нужно было не просто уничтожить сознание, а уничтожить язык, который в соответствии с диалектическим материализмом (и любой нормальной философией) есть действительное бытие сознания, его материя. Все это делалось достаточно грамотно и называлось культурной революцией, одним из первых шагов которой была реформация, а как считают некоторые разумные филологи, — деформация русской письменности. Затем была поставлена задача ликвидации неграмотности. К изучению грамоты было привлечено крестьянство и другие “темные” слои населения. Грамотность в тех условиях стала средством поголовного обучения упоминавшейся выше “Азбуке коммунизма”. Как заметил В. Волков, именно так решалась великая задача по устранению одной культуры и установлению другой, “правильной”. Почти 20 лет Пушкин не существовал для советской школы, о нем вспомнили лишь со свойственным власти цинизмом в страшном 1937 г., когда праздновали (?!) 100-летнюю годовщину его гибели на дуэли. После этого Пушкина ввели в школьное преподавание. Топор татар, Ивана и Петра Смех белых вьюг, да темный зов кукушкин, — Однако ж голь на выдумки хитра: Какое счастье, что у нас был Пушкин. Который век безмолвствует народ И скачет Медный задом наперед, — Но дай нам Бог не дрогнуть перед худшим, Брести к добру заглошею тропой. Какое счастье, что у них есть Пушкин! У всей России. И у нас с тобой. (Б. Чичибабин) О. Мандельштам один из первых почувствовал “антифилологический характер нашей эпохи”, ее “антифилологический дух”. Он формулирует свою позицию: “сострадание к государству, отрицающему слово, — общественный путь и подвиг современного поэта”. Е. Тоддес, приводящий эти слова, так характеризует диагноз, поставленный О. Мандельштамом эпохе: “Революционное действие третирует слово, вербальную рефлексию как таковую и приписывает им утилитарную роль” (Тоддес Е., 1991). Русский язык стал превращаться в классово-партийный воляпюк (новоречь, ньюспик), на котором трудно было выражать человечески возможный смысл. Персонажу И. Ильфа и Е. Петрова достаточно было 30 слов. В “Разговоре о Данте” О. Мандельштам пишет о возможности изучения дегенерации речи на звукоподражательном инфантильном материале, где вскрывается связь еды и речи: “Постыдная речь обращена вспять, обращена назад — к чавканью, укусу, бульканью — к жвачке. Артикуляция еды и речи почти совпадают. Создается странная саранчовая фонетика: “Работа зубами на манер челюстей кузнечиков” (Мандельштам О. Э., 1987, с. 141). Уверен, что у читателя еще на слуху многочисленные примеры недавней (и современной?) дегенерации русской речи, пережевывающей одни и те же серые мысли. Очевидно, что подобная дегенеративная речь не может выполнять функции медиации при формировании самосознания и сознания. Без специальной работы нормальная человеческая речь сама к нам не вернется, и мы неминуемо столкнемся с трудностями в формировании или в возврате к нормальному человеческому сознанию. Были деформированы не только язык и речь, деформирована и наука о языке. Но и этого тоталитарному государству показалось мало. Оставалась еще одна сфера, которую нельзя было запретить или процензурировать как слово. Это сфера образов. Сталин это понимал. Отсюда стремление к монументальности искусства, которое должно было ассоциироваться с египетской и ассирийской монументальной культурой. С ними О. Мандельштам связывал жестокость и иррациональность, контрастирующую с добром, “домашностью”, разумностью Европы (см.: Тоддес Е., 1991). Запретить образ действительно трудно. Поэтому давалось теоретическое обоснование того, что мышление существует только в языке, уже деформированном и безопасном для власти. Образное мышление — это не мышление, образный тип — это животный тип мышления (более подробно об этом см.: Зинченко В. П., 1990, с. 5—15). На самом деле безо.бразное мышление, лишаясь своих связей с реальностью, вытесняя ее, трансформировалось в безобра.зное конъюнктурно-конкретное, несовместимое с творчеством мышление. Этому способствовало умерщвление индивидуального Я. Если же оно сохранялось, то оно становилось своим собственным цензором. Феноменологический план стал исчезающе мал. Даже при наличии “Я второго Я” они цензурировали друг друга. Истинный индивидуализм, творческая индивидуальность, в чем бы они ни проявлялись, были самыми страшными для тоталитарного режима. Власть в наибольшей степени устраивали “черные души и низменные святоши”. “Удушливый климат коллективизма, в котором мы возросли” (И. Бродский), сопровождался демагогическими гимнами человеку. Хорошо об этом писал Б. Пастернак: “Не ждите от меня поклонения человеку. Наоборот. Бездна духовной пустоты всегда стоит за риторическими ходулями, все равно, идет ли речь о воспевании человека (“Человек — это звучит гордо”) или о мистике сверхчеловеческой морали. В обоих случаях обожествление человека приводит к полному оскудению жизни, к бесчеловечности” (Пастернак Б. Л., 1990, с. 202). Как сказал философ и поэт В. Рабинович: “Если человек звучит гордо, то его уничтожают”. Отлучение от языка, культуры, истории было большей опасностью, чем отчуждение людей от собственности, от самих себя, чем экономический кризис, стагнация и т. п. Б. Пастернак писал: “По остроумному замечанию А. Белого торжество материализма упразднило материю. Нечего есть, не во что одеваться. Кругом ничего осязаемого, одни идеи...” (Пастернак Б. Л., 1990, с. 237). К этому можно было бы добавить и мертвые слова, бесплотные и бессмысленные символы, освященные большевистской идеологией. Именно они в своей совокупности формировали, а точнее, деформировали наше сознание. Но все же, несмотря на все свои старания, тоталитаризм не смог уничтожить русский язык. Плоть его осталась. Помогли в этом и все волны русской эмиграции на Запад и “чужие голоса”, и “тамиздат”, проникавший сквозь железный занавес. Помогла и героическая борьба за слово в России, будь то списки запрещенных стихов и прозы (“самиздат”) или песни наших бардов Б. Окуджавы, А. Галича, В. Высоцкого. Помог и совковый фольклор — анекдоты. Но, конечно, главное — это русская литература XIX в., которая позволила сохранить слух, чувствительность к языку, восприимчивость к новой поэзии и прозе, к А. Ахматовой, О. Мандельштаму, Б. Пастернаку, М. Цветаевой, М. Булгакову, Б. Пильняку, А. Платонову и многим другим. Нельзя не упомянуть подвиг Л. К. Чуковской и Н. Я. Мандельштам, сохранивших для нас в своей памяти многие стихи А. Ахматовой и О. Мандельштама. Голос и Слово благодаря внутренней свободе, присущей русскому языку, оказались сильнее государства и партии. Все начиналось с песен Окуджавы. Как и во все концы моей державы Они пришли в сибирские края, — писал, познавший опыт ГУЛага, Борис Чичибабин. Огромное влияние на всех нас оказала публикация романов М. Булгакова во второй половине 60-х гг. М. К. Мамардашвили говорил: “С “Мастером и Маргаритой” пришла к нам — в те годы — духовная раскованность. Люди, которые ничего не понимали, что происходит в жизни, вдруг почувствовали: духовность — это не болезнь. Как глоток воздуха был такой роман тогда необходим. Сам стиль его автора нес в себе что-то радостное, радость самого слова, живущего и движущегося по законам слова же... А молодежь читала роман и убеждалась: быть свободным и духовным, быть человеком чести и идеала — нормально и весело” (Мамардашвили М. К., 1990, с. 188, 189). Весело и потому нормально. Правда, М. Булгаков, как всегда, казался провидцем. За чрезмерную духовную раскованность (названную “инакомыслием”), порожденную в том числе и его романом, людей стали упрятывать в психиатрические клиники. Сейчас Слово и культура вышли из подполья. Восстановление в правах гражданства русского языка — это самое главное, может быть, даже пока единственное реальное достижение эпохи гласности, хотя мы все своему родному языку должны учиться заново. Но нам лучше. У нас сохранилась письменность, хотя и реформированная после революции. У ряда народов СССР забрали их собственную письменность, заставили писать кириллицей. Нам же есть на чем учиться, и процесс обучения идет достаточно успешно. В этом наша надежда. В прекрасной звуковой стихии русского языка стало восстанавливаться нормальное человеческое сознание, воссоздаются личности, способные самостоятельно думать и не только принимать волевые решения, но и разумно решать проблемы. Процесс трудный, болезненный, но он идет и, надеюсь, он неостановим. Сейчас сознание меняется. Оно стряхивает с себя былые мифы. Это происходит при столкновении мифа как образа жизни с языком его описания. В миф вторгается реальность благодаря избыточности числа степеней свободы языка. При трансляции его словесного выражения он раскачивается, трансформируется, распадается, уступает место другим. Это похоже на психоаналитический сеанс, но проводимый применительно не к индивиду, а к социуму. И здесь мы сталкиваемся со сложнейшей для нашей жизни проблемой. Обратится ли наше сознание к реалиям, пойдет ли оно по пути естественно-исторического формирования мифов, или произойдет очередное насильственное их внедрение в головы людей? Мифы имеют, к несчастью, свойство реализовываться, материализоваться, что нам слишком хорошо известно. Например, миф о свободе и равенстве трансформировался в казарменный социализм, дорога к которому была, правда, вымощена благими намерениями. Миф о пролетарской культуре привел к трагедии отечественной культуры. Миф о пролетарском интернационализме трансформируется не в нормальную национальную идею, а в удручающий национальный эгоизм, принимающий иногда свирепые формы. Об опыте нашего интернационализма хорошо сказал О. Мандельштам: “Народы СССР сожительствуют как школьники. Они знакомы лишь по классной парте да по большой перемене, пока крошится мел” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 105). Сейчас за этот опыт приходится расплачиваться, к несчастью, далеко не цивилизованным способом. Острота этой проблемы усугубляется тем, что наше сознание перестало быть культурно-историческим. Поэтому теория сознания, созданная Л. С. Выготским, воспринимается нами сейчас как девичьи грезы, а на Западе — вполне серьезно. Сознание и люди утратили веру в светлое будущее. Сейчас оно не вне времени, что с ним случается, а в безвременьи. О. Мандельштам, анализируя диалог десятой песни "Inferno", говорит об ужасе настоящего, о каком-то terror praesentis: “Здесь беспримесное настоящее взято как чуранье. В полном отрыве от будущего и прошлого настоящее спрягается как чистый страх, как опасность” (Мандельштам О. Э., 1987, с. 115). Когда человек находится в таком состоянии, то самое лучшее, что он может сделать, это принять на вооружение новый миф, а не топор, не ружье и не бомбу. Сейчас на такой, можно сказать, триединый миф претендуют свобода, демократия, рынок. Но пока это еще не миф в настоящем, позитивном смысле этого понятия. Пока это слова, которым после наших потрясений неплохо бы вернуть первоначальный смысл. Проблема состоит в том, имеет ли шанс этот создаваемый миф трансформироваться в реальность, в историю, в логос, в нравственность. На этот счет у меня имеются серьезные сомнения, хотя хотелось бы надеяться, что они не основательны. Свобода невозможна без личности, демократия невозможна без гражданского общества, рынок невозможен без частной собственности, и, наконец, все вместе невозможно без права, которое должно быть обеспечено правовым государством. Нам до всего этого еще очень далеко. Нельзя забывать о европейском опыте достижения гражданского общества, независимости личности, праве частной собственности. Перечисленное представляет собой внутренние формы демократии, свободы и рынка. Видимо, не надо говорить о том, что внешние формы без внутренних ущербны. Мы же думаем преимущественно именно о внешних формах. Не менее важно осознать, что европейский опыт — это не последовательность, не этапы, а единый “синхронистический акт”, хотя он и длился столетия. Кстати, таким же синхронистическим актом является и развитие человека, о котором идет речь в настоящей книге. В ней я, возможно, неуклюже, пытаюсь показать, что внутренний рост человека представляет собой обязательное условие роста внешнего. Сегодня же мы в лучшем случае можем констатировать наличие самых первых ростков перечисленных условий реализации триединого мифа. Но такие ростки бывали, хотя и выпалывались, даже во времена сталинщины. И испытывая неподдельную радость от их становления, я не могу не ощущать их субтильность, слишком малую заботу со стороны власть предержащих об их развитии. Власть еще не изжила привычку насильно гнать людей в счастье. Эта привычка порождена всем ее жизненным опытом, связанным с еще живой идеологией (архетипом советского сознания) и с технократической ориентацией всего общества. А технократическое мышление сродни мифологическому. И то, и другое озабочено прежде всего поиском универсальных отмычек, чудодейственных средств, а не упорной, порой неблагодарной работой с сопротивляющимся человеческим материалом. Мы уже совершили один, правда, затяжной прыжок из царства необходимости в царство несвободы. Может быть, нам пора вернуться в царство необходимости и научиться свободному подчинению закону и норме. Сегодня столь же актуальны слова Н.Бердяева, написанные им в апреле 1917 г.: “И русской демократии предстоит прежде всего пройти суровую школу самоограничения, самокритики и самодисциплины. Нас ждет не социальный рай, а тяжелые жизненные испытания. И нужен закал духа, чтобы эти испытания выдержать. Все социальные — также и духовные задачи. Всякий народ призван нести последствия своей истории и духовно ответственен за свою историю. История же наша была исключительно тяжелая и трудная. И безумны те, которые, вместо того, чтобы призывать к сознанию суровой ответственности, разжигают инстинкты своекорыстия и злобы и убаюкивают массы сладкими мечтами о невиданном социальном блаженстве, которое покажет миру наша несчастная, настрадавшаяся бедная родина” (Бердяев Н., 1990, с. 18). С тех пор как были написаны эти слова, первобытный коммунистический миф, получивший в трудах К. Маркса теоретическое обоснование, сделанное, правда, с известными оговорками, в России последовательно (и параллельно) становился идеей, идеалом, идеологией, идолом, наконец, трагедией великой страны. До фарса коммунистическому мифу (или, по словам Н. Бердяева, мистическому коммунизму), к сожалению, еще довольно далеко. Многие, как и ранее, склонны к поиску новой “генеральной (точнее сказать, генеральской) линии”. И вновь мы становимся свидетелями смены, точнее, ломки сознания, обвала коммунистической идеологии и мифа, обвала, который можно уподобить обвалу отечественной культуры в 1917 г. Рождаются новые мифы и символы. В точках смены мифов важно черпать силу в реальности. Хочу быть правильно понятым. Без мифа невозможно формирование сознания, тем более формирование личности. А. Ф. Лосев даже идентифицировал личность с мифом. Но миф в такой же степени необходим для формирования полноценного сознания и полноценной личности, как и его преодоление. У нас, бесспорно, накоплен огромный опыт насильственного впечатывания мифов в головы, но мы практически девственны в их цивилизованном развенчании и в человечном формировании. Наши мифы продолжают сохранять свою первобытную форму. Обсуждая эту проблему с В. Л. Рабиновичем, мы пришли к выводу, что только перерастание первобытного мифа в самобытный может превратить родового человека в личность.
3.5. Проблема поступка и свободного действия* Проблема поступка и свободного действия — это мой следующий сюжет. Если внимательно проанализировать вертикаль развития человека (см. рис. 7), то можно увидеть вполне регулярное чередование внешних и внутренних форм (внутренних и внешних видов активности). Внешние формы — действие, деятельность, поступок — порождают внутренние формы: самосознание, сознание, личность. Столь же справедливо и обратное. Внутренние формы — самосознание, сознание, личность — порождают внешние формы: деятельность, поступок, деяние. Такая регулярность чередования внешних и внутренних форм может показаться неожиданной. Из регулярности чередования вытекает интересное следствие. Согласно культурно-исторической теории происхождения психики и сознания и психологической теории деятельности, вся психическая жизнь является опосредствованной орудиями, культурой, средой, общением, деятельностью и т. д. В принципе, такой взгляд на психику является верным, но лишь наполовину. Он справедлив по отношению к формированию психики и ее функциональных органов, как бы мы их не называли: внутренними действиями, формами превращенными, психическими функциями, артефактами и т. п. Что же касается их жизни, развития, функционирования, такая трактовка психики, как минимум, нуждается в ограничении и в коррекции. Однажды возникнув или сформировавшись по законам экстериоризации – интериоризации, внутренняя форма сохраняет лишь генетическую преемственность и родство с породившей ее внешней формой. В своем же существовании и развитии это новообразование оказывается вполне самостоятельным, утрачивает черты сходства с породившим его источником, в том числе утрачивает и черты опосредствованности. Новообразование проявляет себя непосредственно. Оно живет, созревает, развивается, взрослеет, перестает оглядываться назад в поисках своих корней и истоков, а если и оглядывается, то далеко не всегда может их обнаружить, вспомнить. Эти новообразования подвергаются деятельностно-семиотической переработке. Они могут вытесняться, погружаться в “глубины бессознательного”, потом могут восстанавливаться. Подчеркнем еще одну важную особенность процесса превращения внешней формы во внутреннюю. Это всегда творческий акт создания новой формы, нового языка описания внешнего мира, собственной внешней формы действия, то есть собственного поведения. В конце концов новообразование приобретает собственные порождающие возможности и способности. Другими словами, новая форма, возникнув как артефакт, становится вполне автономным натуральным фактом, способным породить новый артефакт, который может иметь как внутреннюю, так и внешнюю форму своего существования. Последнее происходит уже по законам экстериоризации. О них известно значительно меньше, чем о законах интериоризации. Так, например, до сих пор остается загадочным возникновение поступка. Кажется, что он подобен рождению Афродиты из пены морской. С трудом принимается взгляд на поступок как на порождение сознания, а тем более, как на итог всей жизни человека. Сознание “взрывается” поступком. При этом меняется и оно само. При совершении поступка исчезает различие между внешним и внутренним. Человек реализует себя в нем как целое, к тому же как новое целое, как “собранный человек”. Поэтому постороннему наблюдателю поступок нередко кажется беспредпосылочным, необъяснимым. Таким же он может выступать и для совершившего его субъекта. Последующая рефлексия относительно совершенного поступка рождает в человеке уверенность в себе, веру в свои силы и возможности, меняет представление о самом себе. Другими словами, поступок рождает личность, которая, сформировавшись, также проявляет себя вовне, как целое. Поэтому она воспринимается не как нечто единичное, индивидуальное, но как нечто единственное, являющееся одновременно и разомкнутой и замкнутой целостностью. Жизнь личности — это “хронический поступок”, то есть личность соединяет в себе и “поступающее мышление” (М. М. Бахтин) и деяние. Непрерывно противопоставляя внешнее и внутреннее, тело и душу философы и вместе с ними психологи, уходят от решения конкретных содержательных проблем. Например такой, как проблема анализа феноменов, характеризующих возникновение, развитие и совершение действий, преобразующих самого человека, “собирающих” его воедино и переводящих его сознание с бытийного на рефлексивный уровень функционирования. В первую очередь здесь мы имеем в виду поступки. Ибо предполагаем, что их основная функция состоит именно в собирании человека воедино, в слаживании его отдельных индивидуальных свойств в целостность, именуемую личностью. В такой постановке проблемы социальный резонанс от совершения поступка как бы остается за границей рассмотрения. Но, конечно, не игнорируется, а тем более не преуменьшается. В отечественной психолого-педагогической традиции имеется определенное синкретическое слияние в трактовке поступка и действия. Получается так, что поступок — это тоже некое действие, при этом действие, обязательно имеющее внешний план. С этой позиции совершить поступок в уме, про себя, так, чтобы об этом никто не знал — это абсурд. Такое отождествление поступка и действия оставляет вне рассмотрения значительную подготовительную работу, предшествующую конкретному отдельному поступку, а также феномены внутреннего выбора, не имеющие отчетливых хронологических границ во внешних проявлениях. Примером может служить внутренняя смена научной парадигмы. Кроме этого, можно предположить, что поступок иерархически располагается выше действия в том смысле, что он богаче действия. Можно сказать и по-другому — полнее действия. В нем должны быть более полно задействованы пласты душевных сил. Успешный поступок и успешное действие — это разные вещи. И критерии для их оценки в качестве успешных разные. Для оценки успешности действия используются процессуально-целевые критерии. Действие считается успешным, если оно либо выполнено в соответствии с алгоритмом, либо достигло цели, либо и то и другое. Поступок вполне может не достигнуть цели и при этом считаться успешным, если он был произведен в виде очевидной попытки. Это уже может стать основанием для его положительной оценки. Так происходит оттого, что базой для его оценки и самооценки служит в основном не технологическая, а морально-этическая сфера. Об этом, собственно, и говорил М. М. Бахтин, выделяя в качестве одного из свойств поступка его нетехничность (Бахтин М. М., 1986). Отчасти поэтому иногда понятие поступка относится к ведению педагогов и педагогики, одна из функций которой состоит в коррекции поступков детей по отношению к этой морально-этической сфере, а заодно и к освоению детьми ее самой. Что же касается взрослых, то предполагается, что они уже более или менее знакомы с нормами и правилами человеческого общежития, и если совершают нечто выходящее за эти нормы, то попадают в ведение юриспруденции или психиатрии. Речь при этом идет уже не о поступке, а о проступке. Позитивно оцениваемые обществом поступки взрослых, а тем более поступки значительные для общества также получают новые имена. Их называют подвигами и деяниями. Лица, их совершившие, возвеличиваются и почитаются обществом, включаются в качестве иллюстраций для принимаемой обществом морально-этической сферы и начинают “работать” на все ту же педагогику для коррекции и формирования нормативно-релевантных поступков детей. Таким образом, рассуждая о поступке, никак не обойти характеристик морально-этической (аксиологической в терминах М. М. Бахтина) сферы и входящих в нее ценностей. В отличие от действия поступок ориентирован не только на цель, но и на ценность. И проблема поступка была бы несравненно “прозрачнее”, если были бы раз и навсегда принятые во всех человеческих сообществах “расценки” на ценности, их иерархия. А это далеко не так. То, что в одних сообществах принято в качестве неоспоримой ценности, в других имеет совсем иную цену или вообще не включено в разряд ценностей. Кроме того, несомненно существует динамика ценностей во времени или вообще кардинальная смена ценностных координат. Отсюда конфликты поколений, антагонизмы между сообществами и следующая за этим переоценка значимости отдельных личностей и их поступков. При этом чем значительнее смена координат, тем разительнее может оказаться изменение статуса исторического персонажа. Он может быть приподнят буквально с самого дна предыдущей иерархии или низвергнут с казавшегося незыблемым пьедестала. Здесь срабатывает старая восточная пословица о том, что и хромой верблюд может оказаться первым, если караван поворачивает. Как будто срабатывает гигантский маховик и исторические персонажи, стоящие в оппозиции друг другу на наибольшем расстоянии, меняются местами, нисколько не сблизившись. В то же время оппозиционные персонажи, но находящиеся почти в нейтральной области, могут быть переоценены незначительно, а то и остаться на прежних местах. Описанная картина могла бы нечто феноменологически прояснить, если бы в морально-этической сфере мы имели дело с декартовой системой координат. Однако на самом деле, если такие координаты существуют, то их, во-первых, далеко не две, а много больше, и, во-вторых, их пространство отнюдь не евклидово. Координатные оси в нем могут быть расположены не перпендикулярно друг другу и перекрестий у них более одного. Трансформация такой системы координат может осуществляться через их независимое или сцепленное, равномерное или импульсное, однонаправленное или разнонаправленное перемещение. Кроме того, картина была бы неполной, если бы мы не упомянули и о взаимодействии нескольких сфер, сформированных в разных, но соседствующих сообществах. Эти взаимодействия также находят воплощение в поведении и поступках конкретного человека. Ведь он по происхождению может быть носителем синтетической или синкретической морально-этической сферы, руководствоваться как национальной, так и профессиональной или родовой и семейной этикой с особенными иерархиями ценностей и базами для оценки поступков. Не исключено, что именно в такой сложности пространства ценностей коренится одна из причин острых личностных переживаний, нередко предшествующих принятию решения о совершении поступка. Быть может, это именно ценности из разных систем координат, вступая в противоречие между собой, по-разному окрашивая предполагаемые последствия еще не совершенного поступка, вызывают очевидную эмоциональную напряженность человека, стоящего перед значимым жизненным выбором. Эти переживания сопровождают внутреннюю работу по синтезу ценностных координат и приведению ценностей в хотя бы относительный порядок. Именно поэтому подготовка к поступку обладает значительным развивающим эффектом. Только “... вперившись глазами в смерть, мы что-то понимаем в жизни”, писал М. К. Мамардашвили (1990, с. 37). У Мамардашвили есть очень точный термин, имеющий самое непосредственное отношение к подготовке поступка. Это понятие — ТОЧКА или МОМЕНТ ПОВЫШЕННОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ, в который человек как бы отрывается от привычного течения обстоятельств и отношений к ним. В этот-то момент только и можно говорить об истинно человеческом бытии, когда с полной нагрузкой работает сознание и активизируется личность. Впрочем, здесь М. К. Мамардашвили продолжает и развивает еще картезианскую традицию воззрений на человека (подробнее об этом см. в главе 4). В описываемом смысле само по себе исполнение поступка имеет гораздо меньшее значение для становления личности по сравнению с процессом выбора, подготовки к поступку. Сам поступок уже факт, и поэтому почти не имеет значения насколько хорошо он выполнен. В то же время подготовка к поступку — это акт, требующий значительного мужества и откровенности в разбирательстве с самим собой, инвентаризации своих жизненных ценностей и преференций. И все же нельзя заключить, что описанная драматургия поступка единственна или даже наиболее распространенна. Часто поступки готовятся и исполняются очень быстро. Но что же отличает так сказать быстрый и, казалось бы, безболезненный поступок от медленного и мучительного? Исходя из принятой нами картины, быстрая подготовка поступка возможна в том случае, когда нет необходимости в разбирательстве с ценностными координатами. Это — общая причина, но содержательно условия ее действия могут быть различными. И здесь мы можем предложить по крайней мере три варианта. Первый случай состоит в том, что определяющая поступок ценность столь глобальна, что не идет ни в какое сравнение со всеми другими. Например, такой ценностью может быть жизнь ребенка. И тогда нет преграды или жертвы, которая остановила бы мать, если жизнь ее ребенка под угрозой. Второй случай относится к компактной или малоразмерной индивидуальной системе ценностей, в которой в общем-то и “без микроскопа” ясно, что за чем следует и как выстраивается. На первый взгляд может показаться, что речь здесь идет о некоей примитивной морально-этической сфере. Но это далеко не всегда так. Сфера может быть несложной, но содержательно достаточно богатой и гуманистичной. В качестве примера можно привести так называемую крестьянскую мудрость и здравый смысл, позволяющие твердо стоять на земле и совершать прекрасные по своей чистоте поступки. И, наконец, третий случай. Здесь условием совершения быстрого поступка является длительная внутренняя работа с ценностями, проведенная ранее или ведущаяся непрерывно. Эта работа позволяет поступку длиться, не прерываясь, как сказал бы М. К. Мамардашвили. В этом случае поступок-факт превращается в поступок-акт. А язык наделяет такой поступок отглагольной формой — ПОСТУПЛЕНИЕ. Внутренняя работа самостроительства также происходит, не прекращаясь и ограняя личностные качества. В этом случае поступок превращается в средство саморазвития личности. Работа с ценностями, превратившись в самоценный механизм самостроительства, порождает уникальный феномен поступления, когда уже бессмысленно говорить о медленном или быстром поступке. Ведь это различение в определенном смысле находится под давлением принципа реактивности, так как о времени действия можно говорить, только имея начальную точку отсчета, момент воздействия на человека внешних обстоятельств. Если же поступление длится, то поступки возникают не как реакции на ситуацию, а осуществляются изнутри, по велению самости становящегося Я. При этом может оказаться не важным, какова реально сложившаяся иерархия ценностей, — ее консолидированность может обеспечить сильные поступки вне зависимости от их морально-этической оценки. В этот момент поступки сливаются, превращаясь в подвижничество или злодейство. Далее возможен и социальный эффект, когда личность причиняет поступки других людей, кристаллизирует социальные сообщества. В “Поэме горы” Марины Цветаевой имеется ремарка: “Высота бреда над уровнем жизни”. Кажется даже, что в наше время эта высота является рекордной. Но все же смесь бездумного энтузиазма с беспросветным страхом нуждается в более сильных определениях. От абсурда легче прорваться к смыслу, чем от адской тюремно-лагерной кухни ленинско-сталинских времен. Но и оттуда был ход не только в лагерную пыль, в небытие. Ж. Нива в книге о А. И. Солженицыне пишет, что в самой сердцевине своего лагерного опыта он открыл не мрак абсурда, но сияние смысла. Именно в лагере окончательно выковался его характер. Это, конечно, случай исключительный, по крайней мере не такой уж частый. Его объясняет и сам А. И. Солженицын в письме А. Т. Твардовскому: “Всю жизнь свою я ощущаю как постепенный подъем с колен, постепенный переход от вынужденной немоты к свободному голосу. Так вот, письмо Съезду, а теперь эти письма были такими моментами высокого наслаждения, освобождения души” (Солженицын, 1975, с. 295). Ж. Нива пишет, что у А. И. Солженицына “дело идет о том, чтобы сообщить смысл и ценность ситуации невольного аскетизма, в которую загнан человек — крепостной ГУЛага; происходит в некотором смысле “второе рождение” человека в ситуации абсолютной обездоленности. Человек может возродиться или выродиться, он на распутье (символическая ситуация, которую мы встречаем в каждом из солженицынских произведений)” (Нива Ж., 1984, с. 62). Этим урокам выковывания в лагере автономной человеческой личности противостоит данная В. Шаламовым характеристика концентрационного лагеря как места разложения, распада всего человеческого. По словам Ж. Нива, В. Шаламов был самым могучим истолкователем этого разложения человека в лагере. Едва ли следует обсуждать, на чьей стороне правда: проклинать ли тюрьму, как Шаламов, или “благословлять” ее, как Солженицын. Речь действительно идет о распутье, о возможности возрождения или вырождения человека. Такая возможность имеется не только в бесчеловечных по определению и своей сути ситуациях, но и в нормальной, разумеется, не лишенной своих испытаний человеческой жизни. Она реальна и в ситуации нашего родного, своими руками построенного театра абсурда. Не следует забывать, что когда речь идет о выборе, о распутье, то всегда имеется в виду личный выбор (оставим в стороне неподсудные морали ситуации разрушения личности посредством физических и нравственных пыток). Но природа абсурда состоит в том, что появление свободы личного выбора вовсе не автоматически влечет за собой сам акт выбора. Выбора с большой буквы, который, согласно М. Я. Гефтеру, есть псевдоним истории. У нас, выросших в условиях рабства, атрофирована установка к выбору, к самостоятельному действию. Воспитанные на коллективных первобытных мифах, мы не имеем опыта в создании своих собственных, индивидуальных мифов. Когда первые разрушаются или разрушены, мы ожидаем, что кто-то предложит нам новые. Отсюда растерянность, апатия, нигилизм, в том числе и правовой. Какие-то центральные комитеты, КГБ еще продолжают хозяйничать и орудовать в наших собственных головах. Внешнее манипулирование сознанием и деятельностью в соответствии с законами психологии интериоризировалось, и мы сами стали субъектами и объектами манипулирования своим сознанием. Слепой и привычной верой в нашу зависимость от государства, остающегося, к сожалению, по архетипу своих действий все еще большевистским, мы задерживаем свое “второе рождение”. По-человечески веру в государство можно понять, как понимал ее свидетель эпохи О. Мандельштам: “Люди мечтали о железном порядке, чтобы отдохнуть и переварить опыт разрухи. Жажда сильной власти обуяла слои нашей страны” (см.: Мандельштам Н., 1972, с. 87). Сильную власть пережили далеко не все. Об этом уместно напомнить тем, кто о ней тоскует. Второе рождение — это дело не власти. Оно, как и духовное возрождение, о котором говорят на каждом перекрестке, не может быть коллективным, а только личным делом каждого. Это хорошо понимал (и руководствовался этим) Б. Пастернак, живя в значительно более суровой, по сравнению с нашей, ситуаций. В письме О. Мандельштаму он писал: “Финальный стиль (конец века, конец революции, конец молодости, гибель Европы) входит в берега, мелеет, мелеет и перестает действовать. Судьбы культуры в кавычках вновь, как когда-то, становятся делом выбора и доброй воли. Кончается все, чему дают кончиться, чего не продолжают. Возьмешься продолжать, и не кончится. Преждевременно желать всему перечисленному конца. И я возвращаюсь к брошенному без продолжения. Но не как имя, не как литератор. Не как призванный по финальному разряду. Нет, как лицо штатское, естественное, счастливо-несчастное, таящееся, неизвестное” (Пастернак Б. Л., 1985, с. 439). Вот бы и нашим представителям сверх меры расплодившихся партии, вместо пропаганды своей мессианской по отношению к России роли поучиться скромности у великого поэта и заняться реальным личным делом, направить свою энергию на мирные цели. М. К. Мамардашвили справедливо возражал против приписывания А. Д. Сахарову “статуса” пророка. Он говорил о том, что статус пророка — архаический статус, совершенно противоречащий современному обществу. Этот статус даже в Евангелии был подвергнут сомнению. Евангелие говорит: ничего не предваряется ни Законом, ни пророком — твоим собственным усилием берется, и ко всему твое усилие касательство имеет. Тот же мотив звучал и у О. Мандельштама: И думал я: витийствовать не надо, Мы не пророки, даже не предтечи, Не любим рая, не боимся ада И в полдень матовый горим как свечи. А. Д. Сахаров был значительно скромнее многих своих сподвижников. Вот как он сам оценивал себя в интервью газете: “Судьба моя была в каком-то смысле исключительной. Не из ложной скромности, а из желания быть точным, замечу, что судьба моя оказалась крупнее, чем моя личность. Я лишь старался быть на уровне собственной судьбы... В судьбу как рок я не верю. Я считаю, что будущее непредсказуемо и не определено. Оно творится всеми нами — шаг за шагом в нашем бесконечно сложном взаимодействии. Но свобода выбора остается за человеком. Поэтому и велика роль личности, которую судьба поставила у каких-то ключевых точек истории” (Сахаров А. Д. // “Молодежь Эстонии”, 11 октября 1988). Это близко к тому, что мы находим у Августина, который писал, что будущее переходит в прошедшее через напряжение действия, т. е. через усилие, относящееся к настоящему времени. Этот социокультурный контекст ситуации, в которой приходится размышлять о проблематике психологии развития, нельзя обойти молчанием. Он мне понадобился для того, чтобы показать значение расширения прежде всего индивидуального сознания и индивидуального личностного роста. Без кропотливой и упорной работы именно в этой области невозможно никакое возрождение, будь то возрождение культуры, нации, России. Мы же (я имею в виду гуманитариев и в их числе — психологов) вновь уповаем на таинственную социализацию личности, индивида, субъекта, забывая о том, что имеется и встречный процесс — процесс индивидуализации социального содержания, социальной жизни. Процессы социализации и индивидуализации, о которых упоминал еще Л. С. Выготский, могут быть не только встречными, но и расходящимися. Социализация — это бессмертный психолого-педагогический штамп. Этот штамп может приобрести некоторый разумный смысл, если его дополнить положением об индивидуализации Мы, то есть о социальном разнообразии. В идеале гражданское общество стремится с помощью своих институтов привить индивиду свою систему ценностей и свои представления о нормах его деятельности. В этом суть социализации. С индивидуализацией дело обстоит посложнее, это не процесс массового воспроизводства людей по отлаженной технологии. Хотя индивид удовлетворяет большую часть своих потребностей с помощью продуктов общественного труда и сам включается в систему общественного разделения труда, в его жизни имеется простор для самостоятельного выбора (как самих потребностей, так и средств их удовлетворения) и инициативы. Суть индивидуализации заключается: в “деятельности, пытающейся раскрыть себя во всех направлениях и по собственной охоте проявляющей себя в осуществлении как частных, так и общих духовных интересов”; в стремлении к той внутренней свободе, “на основе которой субъект обладает принципами, имеет собственные взгляды и в силу этого приобретает моральную самостоятельность”; в высоком развитии “тех своеобразных качеств, в отношении к которым люди оказываются неравными и в которых они посредством этого развития делают себя еще более неравными” (Гегель Г. В. Ф., 1977, с. 354). Общество (и государство) видят в сознании индивида условие приобщения его к своим потребностям, средство достижения своих целей. Для индивида же сознание является не только условием или средством формирования его как личности. Сознание для него становится прежде всего целью, а потом уже и главным инструментом в деле утверждения своей индивидуальности, а не достижения каких-либо внеположенных или чуждых ему целей. В отечественной психологии принималось во внимание только одно направление лично-общественного взаимодействия, а именно социализация индивида. Второе направление — индивидуализация социальной жизни, порождение индивидуальным сознанием нового содержания — в лучшем случае лишь упоминалось в виде пропагандистских деклараций о свободе, творческом потенциале, сознательности советских граждан и т. п. при полном игнорировании противоречивости и драматизма этого процесса. Такое игнорирование было, видимо, главной причиной коррозии, а затем и формального краха коммунистической идеологии. Реально идущие даже в тоталитарном обществе процессы индивидуализации, может быть, точнее — индивидуации сознания и образа жизни, достигли критической массы. Этой массы хватило для того, чтобы отбросить официальную идеологию, которая многие десятилетия выдавалась за общественное сознание. Но ее не хватило для того, чтобы породить новое, иное общественное сознание. Написав последнюю фразу, я задумался: а есть ли общественное сознание в принципе и что оно собой представляет, если таковое существует в действительности? Возможно, общественное сознание — это фантом, изобретенный тоталитарным режимом для камуфляжа идеологии, для придания этому бесчеловечному монстру человекообразной формы. Я могу себе представить, что такое родовое (выродившееся, правда, у нас), этническое и национальное (пробуждающееся у нас не в лучших своих формах) самосознание. Могу себе представить и профессиональное (являющееся у многих представителей интеллектуального труда суррогатом родового) самосознание. Последнее чаще выступает в форме профессиональной этики. Но я не могу себе представить сознание толпы. Ее могут характеризовать коллективно-бессознательное, настроения, страсти, такие, как агрессия или паника, даже бессмертная бессознательная стихия, но не сознание как таковое. Равным образом я не могу себе представить общественное сознание гражданского общества. Оно, если и существует, не может быть унитарным. Гражданское общество потому и гражданское, что оно допускает, более того — предполагает наличие широкого спектра индивидуальных сознаний, субъекты которых должны быть законопослушны. У него могут быть институты, предназначенные для изучения индивидуального сознания, для создания условий его развития и проявления, но не для контроля за ним. В противном случае это не гражданское общество. Об этом не стоило бы писать, если бы в нашей прессе, в том числе и научной, не появлялись идеи о создании (изобретении) новой идеологии или о конструировании новых форм общественного сознания. Мало этого, вновь говорят о конструировании новых (взамен социалистических) ценностей и мифов. Правда, мы должны быть рады, что уже почти не звучит идея создания нового человека. Но и здесь не нужно обольщаться. М. К. Мамардашвили за “круглым столом” журнала “Природа”, посвященном А. Д. Сахарову, говорил: “Идея создать нового человека и на этой основе построить коммунизм уже не популярна, но остатки ее в нас прочно проросли, так что в тайниках и закоулочках она все еще дает побеги. Почти все заповеди в Евангелии принадлежат так называемой исторической части христианства и только две из них внеисторические, метафизические, и обе они потакают человеку. Нам завещаны две вещи — вечная жизнь и свобода — невыносимый дар свободы. Других заветов нет” (А. Д. Сахаров: Этюды к научному портрету // Сост. И. Н. Арутюнян, Н. Д. Морозова. М., 1991, с. 250). Идеи конструирования общественного сознания, идеологии, ценностей — это и есть побеги коммунистической идеи конструирования нового человека. Такие инженеры-конструкторы забывают о том, что субъектом создания общечеловеческих ценностей является само человечество, а не государство, не наука, не партия, даже если последняя именует себя демократической. В нашей ситуации этим институциям, дай бог, создать благоприятные условия трансформации Homo sovieticus’a в Homo sapiens. А. К. Авеличев сказал мне, что между ними должен быть еще Homo erectus — прямоходящий. Мы ведь только-только начинаем подниматься с колен. Напомню, что даже А. И. Солженицыну это далось с трудом. Государству морально тяжело отказаться от идеи распределения, дележа, захвата, уравнивания уже накопленных ценностей. Оно с трудом осваивает мысль, что основная функция государства должна состоять в содействии производству духовных и материальных ценностей, в обеспечении условий для роста личного и общественного богатства. Такое разумное государство может возникнуть лишь после осознания и преодоления коммунистической идеологии (М. М. Булгаков сказал бы: после “полного ее разоблачения”). Конечно, общественное сознание — это не изобретение большевиков. Они лишь совершили серию лукавых (точнее, бесовских) подмен. Известно, что Гегель развивал принцип историзма в понимании сознания. Он исходил из того, что сознание личности (субъективный дух), будучи необходимо связано с объектом, определяется историческими формами общественной жизни. Последние толковались им как воплощение объективного духа, а абсолютное самосознание мыслилось как надличностное, всеобщее начало, движущееся по своим имманентным законам. Главная подмена состояла в том, что на месте воплощающего абсолютный дух сознания личности было поставлено так называемое общественное бытие, которое полностью было лишено сознания и самосознания. Оно представляло собой лишь материальные отношения людей к природе и друг к другу, возникающие вместе со становлением человеческого общества и существующие независимо от общественного сознания. Если следовать этому, то даже само становление человеческого общества протекало без сознания. Не признавалась даже возможность бытийного, не говоря уж о духовном, слоя сознания. Справедливости ради следует сказать, что К. Маркс вслед за Л. Фейербахом выделял в бытии духовно-практическое сознание, а в общественное сознание включал все формы духовного производства и культуры. Понятия субъективного и объективного духа вовсе исчезли из рассуждений о так называемом историческом материализме либо упоминались в критическом ключе. Поучителен следующий ход. Духовная культура была объявлена общественным сознанием, что, впрочем, вполне логично, поскольку она подлежала планомерному и безжалостному уничтожению. В результате само общественное сознание опустело и опустилось, стало фикцией, поскольку сознание как таковое приобрело неотъемлемый атрибут классовости, а общечеловеческие ценности, и в их числе духовность, душа, право, мораль и нравственность, были заменены классовым интересом, революционной законностью. По отношению к такому пустому сознанию утратили смысл размышления Гегеля об имманентных законах исторического развития сознания. В очередной раз “переворачивая” (чтобы не сказать перевирая) великого философа, Ленин писал: “Практическая деятельность человека миллиарды раз должна была приводить сознание человека к повторению разных логических фигур, дабы эти фигуры могли получить значение аксиом. Это nota bene” (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29, с. 172). Этот нонсенс — придание свободно развивающемуся сознанию аксиоматического характера действительно был хорошо замечен идеологами, которые миллиарды раз повторяли свои дубовые “идеоло-гаммы”, впечатывали их в головы, добиваясь того, чтобы они получали значение аксиом. Следующий алогизм также представляется вполне логичным с практической точки зрения. С одной стороны, бытие, реальная жизнь людей независимы от общественного сознания, но с другой стороны, именно бытие определяет сознание людей, или в другой формулировке: общественное сознание отражает общественное бытие. Конечно, при этом были приговаривания относительно возможности обратного влияния общественного сознания на общественное бытие, но если оно лишь осколок с бытия и бытие не зависит от сознания, то это действительно не более чем приговаривания, которые маскировали панический страх идеологов большевизма перед сознанием людей, в каких бы формах оно ни выступало. Им было недостаточно редуцировать абсолютный дух, духовную культуру к общественному сознанию, недостаточно и обезвредить общественное сознание, придав ему отражательные функции. Необходимо было узурпировать функции абсолютного духа, заместить собой уничтоженную духовную культуру, взять на себя функции Демиурга. Для этой цели сгодилось искаженное, но тем не менее “единственно верное учение”, которому были приданы функции мировоззрения и унитарной идеологии. Абсурд состоял в том, что сознание стало, по определению, анемичным (вторичным, второсортным). Но был построен чудовищный по своим размерам пропагандистский аппарат для внедрения, правда, не сознания, а правильного мировоззрения, коммунистической идеологии. Выявившаяся особенно в последние десятилетия бездарность пропагандистских структур вынужденно дополнялась не меньшим фискальным и репрессивным аппаратом, задача которого состояла в выпалывании ростков пробуждающегося сознания. Таким образом, абсолютный дух, мировая духовная культура редуцировались к общественному сознанию, а последнее — к идеологии, к скудному набору аксиом, выдававшихся за вечные истины. Буква заменила Дух. Эффективно эксплуатировались важные свойства, характеризующие жизнь реального сознания. Наши идеологи, которых М. К. Мамардашвили удачно назвал “самозванцами мысли”, разработали правила “идеологического общежития”. Отступления от этих правил, например наличие двоемыслия, как и двоеженство, преследовались и карались. Была разработана и соответствующая диалектическая риторика. Ее замечательное свойство состояло в том, что реальность, из которой вынут идеал, и идеал, из которого вынута реальность, странно смыкались (Л. М. Баткин). В. Гавел, испытавший на себе идеологический механизм деформации личности, следующим образом описывает идеологию тоталитарного и посттоталитарного общества: "Идеология как иллюзорный способ обретения своего места в мире, дающая человеку видимость, будто он представляет собой самостоятельную, достойную и нравственную личность, предоставляя ему тем самым возможность не быть таковой;.. Это завеса, за которой человек может удобно скрыть свой распад, свое опошление и приспособленчество. Это алиби, годное для всех” (Гавел В., 1990, с. 106). Видимость человека становится его сущностью, тогда и жизнь превращается в одну видимость. Вместо бытия и мысли диктат чистого ритуала: “...ничто не препятствует все большему отрыву идеологии от действительности и превращению ее в то, чем она является в посттоталитарной системе: в иллюзорный мир, в чистый ритуал, в формализованный язык, не связанный содержательно с действительностью и представляющий набор ритуальных знаков, заменяющих реальность псевдореальностью” (там же, с. 108). О том же пишет и М. К. Мамардашвили: “Что это, как не дурной хоровод теней? Как будто все люди обязаны выполнять что-то посредством дурного хоровода” (1990, с. 145). Он всегда ужасался общественному бытию, ставшему действительно независимым от общественного сознания. До чего нужно было довести большого философа, чтобы он воскликнул: духовность — это не болезнь! Я уже не говорю о том, что в людях постоянно формировалась привычка к беспредметной борьбе и к жертвенности: “и как один умрем в борьбе за это”, притом, что ни один не знает, что такое это, и все подмигивают. Опыт последних лет доказывает, что эта привычка достаточно легко опредмечивается. Мы слишком долго руководствовались превращенной в реальную политику предсмертной футурологией под названием “научный коммунизм”. Поэтому неудивительно, что многие “научные открытия” о нашем обществе делаются на восьмом десятке его существования. Впрочем, на восьмом ли? Не следует переоценивать уникальность советского и постсоветского опыта. Н. А. Бердяев в работе “Истоки и смысл русского коммунизма” верно подметил многовековые традиции формирования той же привычки к фанатичной борьбе и жертвенности. Приведенные выше выписки — не просто набор сходных мыслей В. Гавела и М. Мамардашвили. Это очень серьезно, что и заставляло М. К. Мамардашвили в последние годы его жизни настойчиво предупреждать об опасности антропологической катастрофы, которая может произойти до атомной. Поэтому-то выше шла речь об утрате человеком его человеческой сущности и о необходимости трудной работы по ее восстановлению. Проводя такую работу, нужно отказаться от привычных для нас представлений об идеальности человека, о величии той или иной нации и научиться вслед за европейцами, японцами и американцами одевать идеалы в плоть трезвого понимания человека. В трезвом понимании нуждается и наше сознание, насквозь пропитанное идеологией или полностью вытесненное ею. Но как отмечалось выше, идеология, вытесняя сознание, сохраняет существенные черты его функционирования. Сознание — это форма превращенная. Идеология — это извращенная форма сознания. Идеологизация жизни человека и общества имеет своим назначением уменьшение числа степеней свободы в самом сознании, лишение его внутренней свободы, в пределе — полное вытеснение сознания “чистой” идеологией. Но как ни удивительно, эта идеология сохраняет в своем функционировании порождающие свойства вытесненного ею сознания. Однако она порождает не свободные действия — поступки, а псевдосвободные действия — рефлексы, реакции, табу, запреты, которые тем не менее сохраняют форму непосредственных актов. Поэтому-то они так трудно преодолимы. Идеологизация человека — это подмена формирования индивидуального сознания формированием коллективного бессознательного со всеми присущими последнему клише, стандартами, аксиомами, табу и т. п. Деятельность, прошедшая через горнило идеологии и переплавившаяся в нем, интеллектуально деградирует, перестает быть осмысленной. Да, собственно, идеологизированное сознание не испытывает потребности в осмыслении ситуации, в мышлении, в рефлексии, в “заглядывании внутрь самого себя”. Идеологизация сознания, конечно, содействовала трагедии отчуждения индивида. Пустое сознание не может выполнять функции цементирующей социум интериндивидной, интерсубъектной реальности. Бессодержательность идеологии усугублялась тем, что она не лучший из первобытных мифов перенесла в будущее и с его помощью возбуждала в людях низменные чувства или демагогически играла на возвышенных чувствах. В отличие от оруэлловского “новояза” у нас сохранялось слово “свобода”, но лишь в значении “выпотрошенного” символа. Вот это-то сформированное коммунистической идеологией не общественное и не индивидуальное сознание, а коллективно-бессознательное и составляет основную форму массового сознания. Именно коллективно-бессознательное представляет собой далеко не благоприятную почву, на которой должно произрасти индивидуальное сознание. Не прибавляет оптимизма экономическое состояние общества, люмпенизация подавляющего большинства его членов. Можно, конечно, уповать на христианизацию общества, на то, что сойдет на нас божья благодать, но здесь едва ли следует ожидать быстрых сдвигов в сознании, в том числе я потому, что пастыри (“серые проповедники”) не очень далеко ушли от паствы. Сейчас нужны кардинальные сдвиги в пользу индивидуализма перед коллективизмом, нужно, чтобы человек начал осознавать себя человеком, а не членом фантомного коллектива или, хуже того, членом стада, стаи, своры. Это главное условие пробуждения индивидуального сознания. Если говорить об этом в терминах социализации и индивидуализации, то сейчас стала актуальной задача десоциализации индивида, выделение его из социальной общности, эмансипации человеческой личности, если она сколько-нибудь сохранна. Я понимаю рискованность подобного заключения, которое многие непременно поймут как призыв к асоциальности. На это можно ответить, что полная асоциальность невозможна, как невозможна полная деиндивидуализация. Последняя оказалась недостижимой, несмотря на все усилия пропагандистского и репрессивного аппаратов. Оба были задействованы с первых дней советской власти. В одном из стихотворений О. Мандельштама, датированном 1923 г., имеется другойвариант автопортрета поэта по сравнению с приведенным выше: Кто я? Не каменщик прямой, Не кровельщик, не корабельщик: Двурушник я, с двойной душой. Я ночи друг, я дня застрельщик. Слово “двурушник” — это советский новояз. В словаре В. Даля его нет. В словаре С. И. Ожегова оно появилось. Как и слово “лишенец”. Ориентация на индивидуализацию неминуемо приведет к формированию новых и разнообразных видов социальной общности. Другими словами, начнется естественный, а не осуществляемый под идеологическим нажимом процесс социализации личности. Но это будет когда-то... Коллективно-бессознательное по своему определению не рефлексивно. Поэтому оно доверчиво и аффективно. Последнее связано с эффектом толпы. Возбудимость одинаково легко переходит в слабо мотивированные восторг и агрессию. Коллективно-бессознательным легко манипулировать. Оно падко на демагогию, от кого бы она ни исходила: от ефрейторов, генералов, детей директора гимназии, сапожника или юриста. Оно глухо к доводам рассудка, разума, к здравому смыслу. Его раздражают интеллектуалы, оно нетерпимо к личностям, оно предпочитает популистов и даже диктаторов-выродков демократам. Наша вполне идеалистическая философия сумела сформировать у него извращенные ценности: веру в слова, символы, отвращение к упорной деятельности, презрение к поступкам, например, скорее всего выдуманный акт Павлика Морозова был принят в качестве нормы-символа. Поэтому так сложна нынешняя задача пробуждения индивидуального сознания из коллективно-бессознательного. Она не имеет аналогов в психолого-педагогической науке и практике, хотя такие ситуации многократно описаны в художественной литературе (см.: Мелетинский Е. М., 1991). Едва ли при решении этой задачи может оказаться полезной западная психология, в которой все более настойчиво звучит ориентация на социализацию. По словам западных коллег, они задыхаются от индивидуализма, от чрезмерной автономии личности. Это говорит о том, что процессы социализации и индивидуализации являются дополнительными и двойственными по своей сути. Но в разные периоды развития социума акцент может и должен стоять либо на одном, либо на другом, пока не будет найден приемлемый для индивида и социума баланс между ними. Если говорить о стратегии психологических исследований развития сознания, то центральное место в них должно занять изучение роли осознания в структуре и динамике его развития. При этом осознание и рефлексия должны быть направлены не только на духовный, но и на бытийный слой сознания (см.: Зинченко В. П., 1991, № 2). И конечно же, предметом осознания должно стать само бытие. В качестве медиаторов при трансформации коллективно-бессознательного в индивидуальное сознание должны выступить нравственность, духовность, культура. Об этом сейчас даже как-то неловко говорить, ибо мы уже начали задыхаться от разговоров о духовности, затаскали и понятие культуры. О совести мы предпочитаем умалчивать, поскольку одним из признаков коллективно-бессознательного является то, что у него “отсырел” стыд. (Этот образ принадлежит О. Мандельштаму.) Чтобы возвратить этим понятиям первоначальный смысл, полезно напомнить строки О. Мандельштама, написанные в 1923 г. “на пороге новых дней”, когда поэт осознал трагизм случившегося в России и с Россией: Чтобы вырвать век из плена, Чтобы новый мир начать, Узловатые колена Нужно флейтою связать. Оправданием этого затянувшегося отступления может служить то, что оно иллюстрирует возможный примат бытия (правда, все же асоциального по преимуществу) над сознанием. Весьма вероятно, что я ошибаюсь в данных выше оценках сферы общественного сознания, но я не счел возможным предлагать читателю абстрактную или, хуже того, утопическую концептуальную схему психологии развития. Напомню, что в этой схеме (см. рис. 7) вырисовывается следующая мыслимая цепь превращенных форм: живое движение и недифференцированные формы активности порождают поведение и деятельность, поведение и деятельность порождают сознание, сознание порождает свободные действия и поступки, наконец, последние порождают личность, отдающую себе отчет о своем месте в истории, т. е. Человека исторического. В свою очередь личность порождает новые формы деятельности, расширяет собственное сознание. Именно в этом состоит личностный рост. В схеме рассматривается также динамика онтологического и феноменологического Я и роль в развитии различных медиаторов: знака, слова, символа, мифа и истории. Как отмечалось выше, внутренний рост человека представляет собой обязательное условие роста внешнего. Наиболее убедительным свидетельством этого являются порождающие функции сознания. До сих пор я ставил акцент на его регуляторных функциях по отношению к породившим его поведению и деятельности. Мне было важно показать, что в своем объективном существовании сознание при всей своей сверхчувственности и надприродности сохраняет сочетание свойств непосредственности — опосредствованности. Благодаря непосредственности существования оно приобретает порождающие свойства. На первый взгляд, это само собой разумеется. Конечно, сознание порождает, например, философию. М. К. Мамардашвили говорил, что философия — это сознание вслух, а сознание — это страсть. Не очень привычно выражено, но это естественно, против этого трудно спорить. Задача философии и сознания как ее инструмента состоит в понимании мира, в создании или порождении текстов. Но ведь и сам человек — это текст. Иное дело, что нам пока не дано прочесть его сколь-нибудь полно и вразумительно. Труднее представить, что этот текст не только понимается сознанием, но им же и конструируется. Ю. П. Сенокосов обнаружил в дневниковой записи М. К. Мамардашвили: “...знание свободы, опыт сознания как такового (“чистого”) конструирует человека”. Об этом же писал О. Мандельштам в своем эссе о П. Чаадаеве: “Россия, в глазах Чаадаева, принадлежала еще вся целиком к неорганизованному миру (очень похожему на наш. — В. З.). Он сам был плоть от плоти этой России и посмотрел на себя как на сырой материал. Результаты получились удивительные. Идея организовала его личность, не только ум, дала личности строй, архитектуру, подчинила ее себе всю без остатка и в награду за абсолютное подчинение подарила ей абсолютную свободу” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 151). Можно ли конкретно представить себе роль опыта сознания в конструировании человека, роль идеи в организации личности? Нужно попытаться, хотя это очень непривычно и не очень просто. Сложность состоит в том, что в течение десятилетий мы в оголтелой и бездумной борьбе с идеализмом все силы тратили на то, чтобы доказать материальную природу психики и сознания. Одни настаивали на ее рефлекторной природе, на зависимости от нервного субстрата и тех или иных внешних условий; другие — на ее деятельностной природе, на том, что основной путь ее формирования — это путь извне внутрь, т. е. интериоризация; третьи — на ее социальной природе, на роли общения и т. д. Все эти подходы, которые нередко синкретически объединялись, исходили из классического противопоставления внешнего и внутреннего и свою главную доблесть видели в доказательстве примата внешнего над внутренним. Эта оппозиция принимала разнообразные формы: тело (мозг) — душа, поведение (деятельность) — психика, значение — смысл, действие — образ (слово), предмет (вещь, инструмент) — идея, материя — сознание. В доказательстве примата внешнего над внутренним не было бы большой беды, если бы мы не оказались в плену примитивно понятого принципа детерминизма поведения и психики. Руководствуясь этим принципом, мы не могли не только объяснить, но даже включить в контекст психологии феномены свободы воли, свободного действия, свободной личности. Не могли понять и того, каким образом неизвестно где локализируемая психика играет роль фактора эволюции, фактора преобразования форм у животных, каким образом у человека возникают превращенные и “извращенные” формы поведения и сознания. Наличие этих оппозиций, создавая проблемы для науки, в то же время создает определенные практические удобства для выбора, предпочтения, построения или, как подсказал мне В. А. Лефевр, для “назначения” тех или иных ценностных ориентаций, особого рода культов (культ тела, активизма, деятельности, прогресса или культ духа, сознания, религиозных ценностей, жизненных смыслов) или, наконец, функций полезности. В основе различий в культах лежит древнее — иметь или быть. Подобные различия в ценностных ориентациях зависят от обстоятельств места и времени, они историчны (в том числе и в истории развития не только общества, но и отдельного индивида), они приходят в противоречие друг с другом, сталкиваются, противоборствуют, что прослеживается в истории человечества в целом и в истории отдельных народов, в том числе и в языковой стихии любой нации. Это же отражается в представлениях о человеке, зафиксированных в мифах, в истории религии, искусства, философии, науки, культуры, понимаемой в самом широком смысле слова. Когда такие противоречия обостряются, начинает доминировать либо один, либо другой тип культа, ценностных ориентаций. Подобные победы в масштабе истории всегда временны, преходящи, порой эфемерны. Равным образом найденные наукой варианты преодоления оппозиций, например, между душой и телом, мыслью и мозгом, как правило, иллюзорны, хотя в истории философии, психологии, физиологии было не так уж мало продуктивных и интересных открытий и прозрений. Возникает вопрос, нужно ли преодолевать эти оппозиции, или следует сохранить их в качестве вечных “мировых загадок”? Ведь слишком длительна история их преодоления и слишком велик соблазн характеризовать ее как историю заблуждений и ошибок. Ясно одно, что принятие решения относительно первичности или главенства той или иной реальности (или категории) — это наиболее пагубный путь. В нашей отечественной традиции советского времени доморощенные идеологи и философы назначили материю первичной (А. А. Зиновьев иронизировал над этим еще в конце 40-х гг.: “Материя — Оне первичны”, или “Материя — это объективная реальность, данная Богом нам в ощущении”). Постепенный дрейф от сознания к деятельности, происходивший в школе Л. С. Выготского, был связан именно с этим назначением, требовавшим от психологии методологического ригоризма. Из психологии стали исчезать синкретические знания, кентаврические понятия типа аристотелевской “умной души”, христианского “умного делания” или понятия “смертная жизнь”, введенного алхимиками. Наука, отпочковавшись от культуры, лишилась синкретизма. Последний, согласно Л. С. Выготскому, остался достоянием детского мышления, житейских понятий. Психология не подозревала или просто забыла о том, что культура, равно как и творчество, принципиально синкретичны. Конечно, в ранних формах культуры, где широко использовались понятия — оксюмороны, соединяющие, как в приведенных выше примерах, несоединимое, используемые синкреты можно оценивать как наивные. Но когда наука добилась строгости и чистоты, то она столкнулась с неразрешимой проблемой соединения, например, души и тела, памяти духа и памяти материи и т. д., забывая о том, что если мы изначально разорвали их, то никогда в будущем не наймем точки, где они сольются. Но ведь поиск продолжается! После приведенных размышлений о внешней и внутренней формах читатель, надеюсь, понял, что подобный взгляд может быть распространен на сознание. Поскольку сознание не фантом, оно само может порождать не только идеологические химеры, но и реальные вещи. Здесь понимание прямой перспективы развития: от сознания и самосознания к свободному действию и поступку даже легче по сравнению с пониманием порождающих свойств поведения и деятельности. В “Божественной комедии” Дант анализировал не только физику твердого тела и механику, но и человеческую походку или поступь. Последнюю О. Мандельштам удивительно точно характеризует как начало всех поступков, как самый сложный вид движения, регулируемый сознанием (Мандельштам О. Э., 1987, с. 160). Это, кажется, единственное место, где я не могу согласиться с поэтом. Сознание, конечно же, регулирует поведение и деятельность, влияя на них, так сказать, по правилу обратной перспективы. Общий закон их формирования характеризуется крайне неудачным термином автоматизация, т. е. уменьшением роли сознания в их осуществлении. Поведение и деятельность можно представить себе как единый виталистический поток, идущий по уже проложенному руслу. Поэтому-то они могут требовать, а при воспроизведении и не требовать контроля, регуляции со стороны сознания. Иначе со свободным действием и поступком. Их можно себе представить как уникальные, порожденные всем опытом жизни, деятельности и прежде всего сознания, виталистические порывы. Сознание как раз может не участвовать в непосредственной подготовке свободного действия и поступка. Они чаще всего выступают как спонтанные, реактивные. Но это лишь видимость. Порыв — это не воспроизведение старого текста. Свободное действие и поступок прокладывают новое русло, а не пользуются старым. Это можно пояснить на примере психологии установки. Фиксированная установка — это готовность к восприятию или осуществлению определенного объекта или действия. Свободное действие вовсе не беспредпосылочно, оно также осуществляется на основе установки. Но в этом случае установка не фиксирована. Такую установку вернее всего назвать жизненной. В ней аккумулирован весь опыт жизни и сознания. (Мне известна лишь одна интересная попытка экспериментального подхода к нефиксированным установкам в школе Д. Н. Узнадзе, предпринятая И. А. Товдзе. К сожалению, это исследование не имело продолжения.) Порыв не воспроизводит, а порождает новый текст. Если пользоваться терминологией О. Мандельштама, то в этом случае сознание выполняет работу перводвигателя, заключающуюся в том, что он переводит силу в качество. Можно было бы добавить — в свое, в каком-то смысле беспрецедентное качество. Для М. М. Бахтина, размышлявшего об укорененности человека в бытии, единственным предметом, доказывающим его “не-алиби в бытии”, являлся поступок. Только поступок, по М. М. Бахтину, свидетельствует об участности сознания в бытии, существенности в жизни. Ему же принадлежит термин “поступающее мышление”. Поступок есть действие, становящееся в рефлексивном слое сознания при наличии у его субъекта достаточного уровня развития “Я второе Я”, репрезентированного в феноменологическом плане. Другими словами, при развитой “Я-концепции”. Поступок, благодаря его генетической связи с сознанием, наполнен богатым ценностным содержанием, без которого он вырождается в биологический или технический акт и не может дать начало росткам личности. Поступок в целом, согласно М. М. Бахтину, обладает некоторыми обязательными свойствами: аксиологичность, ответственность, единственность, событийность. Что греха таить, только счастливые случаи сводят нас с людьми, способными совершить поступки, отвечающие перечисленным свойствам. Вопрос, заданный О. Мандельштамом в 1935 г., мы вполне можем адресовать себе: Шли нестройно — люди, люди, люди — Кто же будет продолжать за них? Это нас спрашивает поэт, вся жизнь которого была поступком. На свой счет мы можем принять и адресованное, правда, итальянцам оптимистическое пожелание: И морщинистых лестниц уступки В площадь льющихся лестничных рек — Чтоб звучали шаги, как поступки, Поднял медленный Рим-человек.
3.6. От поступка к личности и Духочеловеку Рассмотрим субъективно самую трудную для меня проблему перехода от поступка к личности — человеку историческому, осознающему, понимающему свое место в истории и действующему в принадлежащем ему времени. Сложность ее состоит в том, чтобы аргументировать интуитивно ясное для меня представление, согласно которому личность, как и другие рассмотренные выше новообразования (деятельность, сознание, поступок), является функциональным органом индивида и социума, т. е. искусственным образованием. В то же время, как говорил М. К. Мамардашвили, человек — это не излишнее, не избыточное явление в общей физической организации космоса. Хотя его поведение в мире, как сказал Н. В. Тимофеев-Ресовский и не дает оснований решить вопрос о том, что более прогрессивно — человек или чумная бацилла. Надеюсь, что и здесь психологические воззрения О. Мандельштама помогут преодолеть эти трудности. Само понятие личности не является неизменным: оно исторично. “Древнее имя личности — герой”, сказал в начале XX в. Вяч. Иванов. В истории европейского сознания заслуга открытия уникальной, неповторимой человеческой личности принадлежит Августину. Он первый оценил значение и предпринял анализ философских и психологических понятий человека и человеческой личности, которая рассматривается им в отношении к Абсолютной Личности Творца (см.: Августин А., 1991, с. 30). Для О. Мандельштама была характерна уверенность в окончательном торжестве личности, цельной и невредимой (Мандельштам О. Э., 1990, с. 159). Он заметил, что после родовой эпохи наступило время особи, личности. Это, конечно, не значит, что личность должна пренебречь родом. Напротив, подлинная личность не только представляет род, гордится им, она его делает. Прав был П. Л. Флоренский, говоря, что лишь при родовом самопознании возможно сознательное отношение к жизни своего народа и к истории человечества. В этом смысле личность выше рода, как, впрочем, и любой человеческой общности, будь то коллектив, толпа, нация и т. п. О. Мандельштам, характеризуя мысль П. Чаадаева как национально-синтетическую, писал: “Синтетическая народность не склоняет головы перед фактом национального самосознания, а возносится над ним в суверенной личности, самобытной, а потому национальной” (Мандельштам, 1990, с. 155, 156). И далее, о личности самого Чаадаева: “Он ощущал себя избранником и сосудом истинной народности, но народ уже был ему не судия! Какая разительная противоположность национализму, этому нищенству духа, который непрерывно апеллирует к чудовищному судилищу толпы!” Наконец, “Чаадаев знаменует собой новое, углубленное понимание народности как высшего расцвета личности” (там же). Как оно непохоже на все шире распространяющееся: Наш общий друг, прозрев с позавчера, Любовью древней возлюбил Россию. (Б. Чичибабин) М. К. Мамардашвили неоднократно подчеркивал, что личность выше нации. За две недели до своей кончины он говорил: “Я не боюсь гражданской смерти, я и так всю жизнь прожил во внутренней эмиграции. Но я в оппозиции к тем, кто сулит нам новое рабство. Я борюсь не против грузинского языка, я борюсь против того, что сейчас на этом языке говорится. Я не хочу веры. Я хочу свободы совести” (Мамардашвили М. К., 1992, с. 71). О. Мандельштам приводит пример взаимоотношений личностей: “На днях в Киеве встретились два замечательных театра: украинский “Березиль” и Еврейский камерный из Москвы. Великий еврейский актер Михоэлс на проводах “Березиля”, уезжающего в Харьков, сказал, обращаясь к украинскому режиссеру Лесю Курбасу: “Мы братья по крови” (оба “брата” стали жертвами сталинского режима — В. З.)... Таинственные слова, которыми сказано нечто большее, чем о мирном сотрудничестве и сожительстве народов” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 374). Не могу не вспомнить в связи с этим, что мой учитель А. В. Запорожец учился актерскому искусству у Л. С. Курбаса, а психологии у Л. С. Выготского. Когда его учителя познакомились в начале 30-х гг., то оба в один голос сказали, что Запорожец — это самый способный их ученик. Он учился у них не только мастерству и знанию, но и высокой нравственности. Друг О. Мандельштама биолог Б. С. Кузин вспоминает, что один из писателей, человек очень хороший и талантливый — С. А. Клычков — в каком-то споре с Мандельштамом сказал ему: “А все-таки, Осип Эмильевич, мозги у Вас еврейские”. На это Мандельштам немедленно отпарировал: “Ну что ж, возможно. А стихи у меня русские”. “Это верно. Вот это верно!” — с полной искренностью признал Клычков (см.: Кузин Б. С., 1987, с. 142, 143). Мы находим в наследии О. Мандельштама еще одну важнейшую черту, характеризующую личность: “Средневековый человек считал себя в Мировом здании столь же необходимым и связанным, как любой камень в готической постройке, с достоинством выносящий давление соседей и входящий неизбежной ставкой в общую игру сил. Служить — значило не только быть деятельным для общего блага. Бессознательно средневековый человек считал службой, своего рода подвигом, неприкрашенный факт своего существования” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 141). Это не только бессознательное ощущение, но и начало осознания и понимания себя членом рода, племени, нации, государства — в пределе человечества. Ощущение, а затем и осознание своей жизни как подвига-поступка — это и есть начало формирования себя как свободной и ответственной личности. (Трудно удержаться, чтобы не вспомнить наше привычно-циничное: “В жизни всегда есть место подвигу”, причем в подавляющем числе случаев не оставалось места не только для достойной, а хотя бы для нормальной человеческой жизни, не говоря уже о поступках.) Практически наугад взятые выписки о личности, о человеке для О. Мандельштама не случайны, так как, по его словам, в центре подъемной силы акмеизма, его мужественной воли к поэзии и поэтике “стоит человек, не сплющенный в лепешку лжесимволическими ужасами, а как хозяин у себя дома, — окруженный символами, то есть утварью, обладающий и словесными представлениями, как своими органами” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 186). Понимал О. Мандельштам и свое собственное место в истории как таковой, а не только в истории русской поэзии. В 1921—1922 гг. он писал, что общественный пафос последней “до сих пор поднимался только до “гражданина”, но есть более высокое качество, чем “гражданин”, — понятие мужа” (там же). Не его вина, что мы не реализовали общественный пафос даже своей старой поэзии и лишь сейчас приступаем к построению гражданского общества. Но О. Мандельштам указал нам зону нашего ближайшего развития. Он исходил из того, что все стало тяжелее, громаднее, потому и человек должен стать тверже как человек. Возможно, с этим связано и название первого цикла его стихов — “Камень”. Невольно возникали ассоциации: камень – petros – порода – культура. Впоследствии О. Мандельштам и сам объяснил эти ассоциации, говоря о связи камня и культуры, о том, что необходимо выращивать культуру как породу: “Камень — импрессионистический дневник погоды, накопленный миллионами лихолетий, но он не только прошлое, он и будущее: в нем есть периодичность. Он алладинова лампа, проницающая геологический сумрак будущих времен” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 251). Мандельштамовское “Мужайтесь, мужи...” связано с его пониманием того, что, когда “мы вступили в полосу могучих социальных движений, массовых организованных действий, когда борьба классов становится единственным настоящим и общепризнанным событием, акции личности падают в сознании современников” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 203). Следствием этого является бессилие “психологических мотивов перед реальными силами, чья расправа с психологической мотивировкой час от часу становится все более жестокой. Само понятие действия для личности подменяется другим, более содержательным социально, понятием приспособления” (там же, с. 204). Это вполне естественно, поскольку, по его словам, “опустошенное сознание никак не могло выкормить идею долга” (там же, с. 162), а тем более породить поступок. Эти выписки взяты из эссе “Конец романа”. Но О. Мандельштам замечает, что роман лишился не только фабулы, но и психологии, так как она не обосновывает уже никаких действий. Замечу, что психологии лишился не только роман. Психологии, если и не всей, то значительной и существеннейшей ее части, лишилась огромная страна. Из психологии на долгие, долгие годы выпали разделы психологии сознания, психологии поступка, психологии личности. Когда я говорю “выпали”, то это не значит, что эти разделы отсутствовали, например, в учебниках, не преподавались в вузах. Там они, конечно, присутствовали, но не более того. И в лекциях, и в учебниках процветала все та же “пустопорожняя болтовня о гармонической личности” (там же, с. 38). В психологии действительно почти не было речи о суверенности, самобытности, неповторимости (“незаменимых людей нет” или: “есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы”), свободе, самоценности человеческой личности. Мне бы меньше всего хотелось, чтобы сказанное о психологии воспринималось как огульное осуждение всех ученых-психологов. Они, как и представители других наук, разделяли судьбу своего народа, всерьез принимали, к несчастью, совсем не шуточные правила идеологического общежития и участвовали в их создании и реализации. Многие не без выгоды для себя пользовались этими правилами. Другие искренне участвовали в воспитании коллективно-бессознательных форм сознания. Но ведь были живые люди, талантливые ученые, много работавшие, нередко вынужденные лишь изустно передавать своим ученикам культуру, писавшие эзоповым языком, использовавшие стандартные клише и “фигуры умолчания” и при всем при том творившие науку, а не фикции. Этот наш период нужно знать не только с нравственной, но и с профессиональной точки зрения. У нас нет другой истории, это наша история, и ее незнание культуры не прибавляет. Не прибавляет и нравственности. Как “средневековье не помещалось в системе Птолемея — оно прикрывалось ею” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 236), так и советская наука, в том числе и психология, не помещалась в прокрустовом ложе диалектического материализма — многие ученые прикрывались им, чтобы не попасть на зуб народившемуся племени святош-инквизиторов, ненавидевших науку. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть труды П. Я. Гальперина, А. В. Запорожца, П. И. Зинченко, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейна, А. А Смирнова, Б. М. Теплова, Д. Н. Узнадзе, Д. Б. Эльконина и многих других. Далеко не все ученые были “печальными наборщиками готового смысла”. Иное дело, что приходилось проявлять невероятную изобретательность, чтобы выразить новую идею на общепринятом новоязе диамата. Мне было приятно прочесть обращенное к французам слово в защиту советской интеллигенции со стороны французского философа Ж.-П. Вернана в его коротенькой рецензии на небольшую книжечку М. К. Мамардашвили “Мысль под запретом”: “...ваше представление о бетонном Homo sovieticus, тиражированном миллионами неотличимых экземпляров, — миф, за которым скрывается подлинная жизненная драма советской интеллигенции и реальная борьба не на жизнь, а на смерть, шедшая все годы после победы большевизма” (Вернан Ж.-П., 1992, с. 118). Не вина ученых, что им как художникам не передавалось “все волненье века”, что они, если и слышали, не могли выразить “шума и прорастания времени”. Не всем дано, как Константину Леонтьеву, орудовать глыбами времени, чувствовать столетия, как погоду, покрикивать на них (Мандельштам О. Э., 1990, с. 48). О. Мандельштаму это было дано: “И, в этот зимний период русской истории, литература в целом и в общем представляется мне как нечто барственное, смущающее меня... В этом никто не повинен, и нечего здесь стыдиться. Нельзя зверю стыдиться пушной своей шкуры. Ночь его опушила. Зима его одела. Литература — зверь. Скорняк — ночь и зима” (там же, с. 49). Сказанное относится и к научной литературе. О. Мандельштам донес до нас свое ощущение и понимание шума времени, отголоски (хорошо бы не раскаты) которого доносятся до нас и сейчас. Это дорогого стоит, а ему это стоило жизни. Лишив меня морей, разбега и разлета И дав стопе упор насильственной земли, Чего добились вы? Блестящего расчета: Губ шевелящихся отнять вы не могли. В другом стихотворении он сказал: “Видно, даром не проходит шевеленье этих губ”. И. Бродский в предисловии к книге стихов репрессированной поэтессы Ирины Ратушинской писал: Осуждение поэта есть преступление не просто уголовное, но прежде всего антропологическое, ибо это преступление против языка, против того, чем человек отличается от животного”. Психология пошла по пути анализа, анатомирования личности, выделения из нее или приписывания ей той или иной коллекции свойств (коллективизм, патриотизм и т. п.), т. е. по пути, который О. Мандельштам назвал сознательным разрушением формы, отрицанием лица явления: “Самоубийство по расчету, любопытства ради. Можно разобрать, можно и сложить: как будто испытуется форма, а на самом деле гниет и разлагается дух” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 170). С подобным подходом связан интерес к системному анализу как к возможному методу или методологии интеграции выделенных свойств; связаны и давние мечты, и интенции к комплексному изучению человека, личности. При этом довольно часто системной интеграции или комплексному изучению подвергалось невозможное. Например, по возможности различить пуговицу на сорочке делались заключения о способности к социальной перцепции. (Ср. у Гоголя: подъезжая к Плюшкину, сразу не разберешь, “мужик или баба, нет, баба, нет, мужик”.) Это напоминает и замечание О. Мандельштама о В. Хлебникове: “Какой-то идиотический Эйнштейн, не умеющий различить, что ближе — железнодорожный мост или “Слово о полку Игореве” (там же, с. 289). Правда, в случае Хлебникова Мандельштам тут же оговаривается, что его поэзия идиотична в подлинном, греческом, неоскорбительном значении этого слова. В изучении психологии личности применялись старые ходы ассоциативной психологии, использовавшиеся ею для анализа образа восприятия как суммы (ассоциации) ощущений. Как будто не было гештальтпсихологии с ее представлениями об изначальной целостности перцепта, не было и динамической теории личности К. Левина, и многого другого. Нас больше волновали проблемы мировоззрения, “невежественные мировые вопросы”, “как переделать жизнь”, каким путем и как произвести на свет “нового человека” и т. п. Здесь нам бы поучиться у акмеизма, который “мировоззрением не занимался: он принес с собой ряд новых вкусовых ощущений, гораздо более ценных, чем идея, а главным образом вкус к целостному словесному представлению, образу, в новом органическом понимании” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 185). Об этом же, но другими словами: “Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя, может быть, и видавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее духа, души ее. Для них существование — это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она сама себя переделывает и претворяет, она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий” (Пастернак Б. Л., 1989, с. 256). В 1922 г. О. Мандельштам писал о нашем времени: “Отшумит век, уснет культура, переродится народ, отдав свои лучшие силы новому общественному классу” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 187). В целом прогноз поразительно точен, за исключением адресата, которому наш народ отдал свои лучшие силы (?!) Хотя кто знает? Я бы не удивился, если бы поэт при своем провидческом даре имел в виду не рабочий класс, а номенклатуру и партократию. Рабочий класс ничего не выиграл от трагических перемен, случившихся в 1917 г. О старых классах и, вкупе с ними, о русской интеллигенции говорить и вовсе не приходится. И здесь не удается ограничить себя рамками академического анализа, отстроиться от советского времени, пережитого и все еще переживаемого российской культурой. Оправданием служит то, что и мой главный герой — Осип Мандельштам не отстраивается от времени. Он не только использовал каждый удобный случай, но и сознательно искал или, точнее, создавал его (ср.: “дрожащая компасная стрелка не только потакает магнитной буре, но и сама ее делает”), чтобы объяснить современникам и их будущим потомкам, что происходило с их страной и с ее культурой. Замечу, что сам он с сомнением относился к “званию” “современник”, придуманному литературной критикой как высшая похвала достоинств поэта, писателя. Нет, никогда ничей я не был современник, Мне не с руки почет такой. О. Мандельштам иначе и не мог сказать. Всем памятен его вопль, едва ли обращенный к современникам: Читателя! Советчика! Врача! На лестнице колючей — разговора б! Правда, известен случай, когда он сам назвал себя современником. Во время одного из публичных выступлений ему была подана записка провокационного характера. О. Мандельштаму предлагалось высказаться о современной советской поэзии и определить значение старших поэтов, дошедших до нас от предреволюционной поры. Мандельштам шагнул на край эстрады; как всегда, закинул голову, глаза его засверкали… — Чего вы ждете от меня? Какого ответа? Я — друг моих друзей! Полсекунды пауза. Победным восторженным криком: — Я — современник Ахматовой! (цит. по: Мандельштам О. Э., 1969) О. Мандельштама трудно осудить за пренебрежение званием современника эпохи и страны, в которой он жил. Попрошу читателя сравнить начало “Божественной комедии”: Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу... — со следующими словами О. Мандельштама: “...на середине жизненной дороги я был остановлен в дремучем советском лесу разбойниками, которые назвались моими судьями. То были старцы с жилистыми шеями и маленькими гусиными головами, недостойные носить бремя лет. Первый и единственный раз в жизни я понадобился литературе — она меня лапала и тискала, и все было страшно, как в младенческом сне... Оттого-то мне и годы не идут: другие с каждым годом почтеннее, а я наоборот: обратное течение времени” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 97). О. Мандельштам считал своим современником Данта: “Немыслимо читать песни Данта, не оборачивая их к современности. Они для того созданы. Они снаряды для уловления будущего. Они требуют комментария в Futurum... Дант антимодернист. Его современность неистощима, неисчислима, неиссякаема” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 234). Также немыслимо читать О. Мандельштама, не оборачивая его к современности. Повторим его собственные слова: он поэт “не на вчера, не на сегодня, а навсегда”. Вернемся к проблеме личности. Написав эту фразу, я подумал, что она не вполне адекватна. Собственно, в книге практически все время речь шла о личности: о личности П. Чаадаева, о личности О. Мандельштама, о личности М. Мамардашвили. Что может обеспечить ее целостность? Конечно, в психологии не все так печально с исследованием личности, как об этом говорилось выше. Многие представители школы Л. С. Выготского, обсуждая вопрос о целостности личности, пытались определить или, точнее, указать, что представляет собой ядро личности. А. В. Запорожец, перебирая разные варианты от воли до установки, в конце жизни пришел к идее о том, что эмоции — ядро личности. Согласно Л. И. Божович, таким ядром является самосознание, выраженное во внутренней позиции; согласно А. Н. Леонтьеву, главное в личности — это иерархия мотивов; по В. В. Давыдову — это творческий потенциал. Этот перечень легко может быть продолжен. Назывались: совокупность потребностей, смысловые образования и многое другое. Между этими взглядами на личность (или на ее ядро) нет противоречий. Подлинная личность не редуцируется к взглядам на нее, кому бы они ни принадлежали (даже большевикам, к которым, видимо, можно отнести замечание О. Мандельштама о торговцах смыслом жизни). Все трактовки личности имеют право на существование. Личность, как и сознание (по М. М. Бахтину), полифонична, многоголосна и полицентрична. В этом ее богатстве и загадочность для исследователя. Важнее не дискуссии о ядре личности, а выяснение того, какой именно вклад в ее становление, развитие, формирование вносят эмоции, произвольность, самосознание, мотивы, творчество и т. д. Почему в предложенной выше схеме “генома” культурно-исторического развития человека между сознанием и личностью помещен поступок? Конечно, верно, что именно он является единственным предметом, доказывающим “не-алиби” человека в бытии. Почему сознание, как таковое, не может непосредственно породить личность? Видимо, потому, что сознание может быть вместилищем (и источником!) идеологии, идеалов, идолов, призраков, рождающихся в общественной жизни. Все они обеспечивают алиби в бытии. При этом “все конкретное, все формализованное перед лицом идеала не имеет смысла. Но это же дьявольская идея: ведь уже в Евангелии указывается различие между Христом и Антихристом, которое заключается в том, что Антихрист — это чистый идеал (я цитирую послание апостола Иоанна). Есть что-то дьявольское в том, чтобы замыкаться исключительно на “идеале” (Мамардашвили М. К., 1992, с. 112). Между прочим, подобная дьяволиада следует из логики К. Маркса. Напомню его знаменитое: “Когда идея овладевает массами, она становится материальной силой”. Кто-то из наших острословов, кажется А. Губерман, резонно добавил: т. е. обращается в свою противоположность. Порожденные духом идеи, идеалы, идолы, овладевая массами, могут материализоваться, превращаться в страшную силу и убивать породивший их дух, увлекать в пучину несчастий те самые массы (и их потомков), которые увлеклись идеей или идеалом: “Задуманное идеально, возвышенно, — грубело, овеществлялось. Так Греция стала Римом, так русское просвещение стало русской революцией” (Пастернак Б. Л., 1989, с. 386). Следствиями ее стали “бесчеловечное владычество выдумки” и “колдовская сила мертвой буквы” (он же). Разумеется, относительно порождающих свойств сознания сомневаться не приходится. Оно действительно может порождать поступки, но оно же порождает химеры, идеологизированное (мифологизированное) сознание порождает запреты, табу, дознание может быть целостным, но оно же может быть и разорванным. Оно может быть деятельным и может быть тенью деятельности. Словом, не всякое сознание может быть “поступающим”. Но порождаемые сознанием поступки обладают целостностью. Здесь полезно предложенное О. Мандельштамом различение текста и порыва. Сознание, рассматриваемое как текст, порождает порывы — поступки. Порыв же, по определению, обладает целостностью. Целостность поступка несколько необычна. С одной стороны, он подготовлен всем опытом сознательной жизни и деятельности, т. е. он представляет собой нечто готовое. С другой стороны, его композиция всегда осуществляется средствами импровизации. Он соответствует формуле “дантовского порыва, взятого одновременно и как полет, и как нечто готовое” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 253). Поступки, как и сравнения в поэзии Данта, можно назвать “членораздельными порывами”. Импровизационные черты поступка могут делать его неожиданным для совершающего его субъекта: “... в период сильного возбуждения нередко ощущается колоссальная мощь. Это чувство появляется внезапно и поднимает индивида на более высокий уровень деятельности. При сильных эмоциях возбуждение и ощущение силы сливаются, освобождая тем самым запасенную, неведомую до того времени энергию и доводя до сознания незабываемые ощущения возможной победы” (Выготский Л. С, 1984, т. 6, с. 101). Это хорошее описание поступка, совершающегося как свободное действие, как бы непроизвольно. Проблематика свободного действия рассматривалась Л. С. Выготским в “Психологии искусства”, прежде всего в анализе “Гамлета”, где есть замечательные страницы, посвященные запредельным, посмертно осуществляемым действиям-поступкам. В свой научно-психологический период жизни Л. С. Выготский обращался к проблеме свободного действия лишь эпизодически (см. конец “Мышления и речи”). После его кончины эта проблематика либо вовсе отсутствовала, либо развивалась в завуалированной, зашифрованной форме, как это было у А. В. Запорожца в его цикле исследований, посвященных развитию произвольных движений. Это объясняется не только академическими обстоятельствами. Невозможно развивать психологию свободного действия, поступка в обществе, где поступки наказуемы. Имеются и концептуальные трудности. Поступок несводим к деятельности и невыводим из ее функционирования, из накопленной в ней энергии. Энергия деятельности трансформируется в энергию сознания. Это и есть превращение силы в качество, о котором писал О. Мандельштам. Событие, гроза, поступок — это результат развития, а не функционирования. Деятельность регламентирована, а поступок свободен, хотя он, конечно же, находится в теле, в контексте деятельности и одновременно его нельзя отождествить с ней, он выпадает из нее. Это требует пояснения. Деятельность можно и нужно членить на действия, операции, функциональные блоки. Такое членение осуществлялось в исследованиях, выполнявшихся в русле психологической теории деятельности. (Затем к этому пришла когнитивная психология.) Но деятельность нельзя членить на поступки, как нельзя музыкальное произведение членить на контрапункты. Хотя именно поступки придают деятельности нравственный смысл, значение, социальное и историческое звучание. Поступки, коль скоро они совершаются, можно вычленить из деятельности, поведения, куда они вкрапляются нередко помимо воли и желания субъекта и никогда — по заказу. Поступки прерывают деятельность (иногда и жизнь), что, в частности, свидетельствует о сомнительности известного тезиса о ее непрерывности. Поступки в большей степени, чем действия и операции, делают деятельность членораздельной, т. е. осмысленной, прерывают ее привычное, порой унылое течение, останавливают ее, находят и направляют ее в новое русло. Возможно, неожиданным, но весьма для меня убедительным доводом в пользу прерывности деятельности были исследования замечательного невролога и педолога Ф. Д. Горбова. Его докторская диссертация называлась “Пароксизмы, возникающие при непрерывной деятельности и в связи с ней”. Друзьям он с улыбкой объяснил научный смысл и практическое значение своей работы: “Не будешь делать перерывов, доведешь себя до пароксизмов”. После своего свершения поступок застывает в тексте, называемом личностью, которая как бы лепится из опыта поступков. Здесь действуют те же обратимые отношения между “лепетом и опытом”, о которых речь шла выше. Более конкретно это можно представить с помощью понятия установки. Точно так же, как совершаемые предметные действия ведут к фиксации перцептивных илимоторных установок, совершаемые поступки ведут к фиксации социальных, точнее личностных установок. Об этом писали А. В. Запорожец и А. Г. Асмолов. И эти установки, согласно Д. Н. Узнадзе, представляют собой целостную модификацию личности, что не противоречит тезису М. М. Бахтина о единственности поступка. В человеческой жизни все как в первый раз. Согласно Н. А. Бернштейну, любое самое элементарное движение неповторимо, оно уникально, как отпечаток пальца. Влияние поступка на личность необратимо. Поступки не только строят личность, они модифицируют, меняют ее, поднимают ее над деятельностью, над самосознанием и сознанием, расширяют число степеней свободы, которые характеризовали ее до совершенных поступков. Это сказывается и на осуществлении повседневных поведенческих и деятельностных актов, которые приобретают черты непосредственности, непроизвольности, хотя по своей природе они, разумеется, являются опосредствованными. Конечно, меняют личность не только поступки, но и самосознание, погружение в себя и труд усвоения нового предмета, который, по словам А. А. Ухтомского, есть абсолютное приобретение человека, преодоление себя и выход к новому уровню рецепции и деятельности. Ухтомский приводит впечатление Гете о воздействии на него итальянского искусства: “Пусть я был тот же самый, я все-таки чувствовал себя измененным до мозга костей”. Введение движений, действий, деятельности, поступков в контекст изучения развития человека, конечно, не решает всех проблем (об этом речь будет далее), но, по крайней мере, обеспечивает определенный динамизм в познании феномена человека. Психология ведь слишком долго познавала человека “как остановленный текст природы”. Самое трудное — ввести в контекст психологии личности свободное, т. е. независимое от внешней причинности, действие, поступок. И здесь трудность не гносеологическая, а онтологическая. Особенно трудно включение поступка в контекст экспериментальной психологии. Я уже не говорю о навязшем в зубах административном требовании переноса результатов научных исследований в жизнь, в практику. Л. Гинзбург написала (знатоку и поклоннику М. М. Бахтина) В. С. Библеру: “Вы говорите: основной этический акт — выбор, свободный поступок. Но почему исторически выбор всегда предстоял неразрешимым парадоксом. Для античности в силу идеи рока; для средневековья — божественного предопределения. Для позитивизма XIX века в силу биологического и социального детерминизма. Для нас такие механизмы уже не срабатывают. И получается, что самый непредустановленный выбор у наших современников. Но это уже сверхпарадокс. Потому что никто еще не проходил через подобный опыт невозможности выбора” (Гинзбург Л. С., 1991, с. 166, 167). И все же психологии придется искать выход из этой ситуации, тем более что некоторые (не буду преувеличивать) возможности выбора появляются. Поэтому новую ситуацию следует осмыслить хотя бы теоретически. И здесь за помощью придется вновь обратиться к М. М. Бахтину. На примере поступка значительно более отчетливо выступает “неслиянное единство” онтологического и феноменологического планов развития. Это единство не дано, а задано, оно должно постоянно строиться и поддерживаться человеческим усилием. Многие мыслители писали о втором истинном рождении человека. Данте говорил, что душа появляется только при втором рождении. Гегель в “Философии права” связал второе рождение с задачей педагогики, которая “рассматривает человека как природное существо и указывает путь, следуя которому он может вновь родиться, превратить свою первую природу во вторую, духовную, таким образом, что это духовное станет для него привычкой” (Гегель, 1990, с. 205, 206). Прав был М. К. Мамардашвили, говоря, что человек — существо, не являющееся продуктом природы. Природа не производит людей. Второе рождение происходит тогда, когда потенциальный человек соединяется с другим человеком, если хотите — с Абсолютом, с Богом, сочетается с медиатором, возможно, уподобляется ему. Энергия такого сочетания со знаком, словом, символом, мифом, т. е. усилие над самим собой, порождает в человеке Человека. Такое усилие выражается в движениях, действиях, поступках, во внутренней борьбе с самим собой. “Природа наша делаема”, — приводит А. А. Ухтомский выражение древнего мудреца. Благодаря усилию преодолевается раскол, разрыв между онтологическим и феноменологическим планами, создается напряжение жизни. Отсюда и перечисленные М. М. Бахтиным свойства поступка: аксиологичность, ответственность, единственность (ср.: импровизация), событийность; отсюда и его целостность. Эти свойства невозможно механически разнести между онтологическим и феноменологическим планами. Следуя логике М. Бубера, можно сказать, что в поступке выражается не механическое Я – Оно, а интимное, человеческое Я – Ты. В излагаемой схеме развития поступок представлен как превращенная форма сознания. М. М. Бахтин говорил, что поступок — это каждая мысль моя с ее содержанием. Но мысль такая, которая оставляет свой след в бытии: “Да послужу Тебе мыслью и словом, да принесу их в жертву Тебе” (Августин А., 1991, с. 283). Поступок включает в себя два момента: смысловой и персональный. Первый является вневременным, второй — конкретно-историческим, т. е. разворачивающимся в принадлежащих индивиду-персоне пространстве и времени. Можно отвлеченно взять последний момент, тогда теряется смысл, получается бессмысленное, на худой конец — технологическое действие. Если взять лишь содержательно-смысловой момент, то в этой мысли не будет конкретного меня, моей причастности бытию, моей ответственности, “выхода в долженствование и действительное единственное событие бытия” (Бахтин М. М., цит по: Махлин В. Л., 1990, с. 35). Когда М. М. Бахтин говорит о единственном событии бытия, это не преувеличение: “... у Данта одного душевного события хватило на всю жизнь. Если у человека три раза в день происходят колоссальные душевные катастрофы, мы перестаем ему верить, мы вправе ему не верить — он для нас смешон” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 293). Поступок соединяет как онтологический план с феноменологическим, так и сознание, имеющее смысловое строение, с личностью, понимающей свое место в истории. Поступок не только и даже не столько соединяет сознание с личностью, сколько порождает ее. Как О. Мандельштам говорил, что “голос — это личность”, так и мы можем сказать, что поступок — это личность. (Ср.: Ухтомский А. А. — “Мы не наблюдатели, а участники бытия”.) Личность, перенимая на себя опыт целостных свободных актов, сама становится целостной: “С улыбкой говорит христианский миф Дионису: “Что же, попробуй, вели разорвать меня своим менадам: я весь цельность, весь — личность, весь — спаянное единство!” До чего сильна в новой музыке эта уверенность в окончательном торжестве личности, цельной и невредимой: она — эта уверенность в личном спасении, сказал бы я, — входит в христианскую музыку обертоном, окрашивая звучность Бетховена в белый мажор синайской славы” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 159). Этот панегирик личности не должен вводить в заблуждение. О. Мандельштам здесь же пишет о возможности и реальности утраты христианского ощущения личности “я есть”. Такие утраты неудивительны. Поступать трудно. Труден невыносимый дар свободы. Далеко не каждый в состоянии взять священный посох свободы “и в далекий мир пойти” или, как Чаадаев, “в далекий Рим пойти”. Читатель уже может догадаться, что и при трансформации поступка в личность действуют законы прямой и обратной перспективы. Поступок не только порождает личность, он модифицирует сознание, поднимая его с бытийного (экзистенциального) на рефлексивный уровень благодаря осознанию самого себя, своих собственных возможностей, в том числе запасов физической и нравственной энергии. Не прошел мимо этой проблемы О. Мандельштам, оставив ее в форме вопроса: “Не знаю, существует ли обратное отношение между динамическим и нравственным развитием души?” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 139). Не только нравственным! Здесь же О. Мандельштам различает демонизм и динамику преступления. Булгаковский Воланд не является преступником. Равно как и нравственный человек, сознание которого переполнено “общечеловеческими ценностями”, “личностно-смысловыми образованиями”, далеко не всегда способен совершать поступки. Поступок потому характеризуется цельностью, что в нем уничтожается (снимается) противоположность онтологии и феноменологии. И не только. Уничтожается раздвоение “Я второе Я”. Снимается вопрос Иннокентия Анненского: И в мутном круженьи годин Все чаще вопрос меня мучит: Когда наконец нас разлучат, Каким же я буду один? В другом стихотворении поэт отвечает другим вопросом на свой же вопрос: Отринув докучную маску, Не чувствуя уз бытия, В какую волшебную сказку Вольется свободное я? Я, освобождаясь от второго Я, трансформируется, точнее, “Я второе Я” сливается в сверх-Я. От этой волшебной сказки самое время перейти к мифу, к истории, т. е. к последним типам медиаторов, без которых невозможно становление личности. Это бесконечный сюжет, совершенно забытый отечественной психологией, но, к счастью, развитый в отечественной философии. Перевод философских идей на язык психологии — это специальная работа. Я не могу себя считать достаточно к ней подготовленным, поэтому мне придется ограничиться несколькими указательными жестами в адрес А. Ф. Лосева, опубликовавшего в 1930 г. книгу “Диалектика мифа” (см.: Лосев А. Ф., 1991). Согласно А. Ф. Лосеву, “Личность как категория ничего общего не имеет с отдельными и изолированными функциями; и из них никогда нельзя будет получить личности, если понятие о ней не получено из другого источника” (Лосев А. Ф., 1991, с. 151). Личностный синтез, по А. Ф. Лосеву, это есть чудо, мифическая целесообразность. И сам миф есть личностное бытие, данное исторически (там же, с. 129). А. Ф. Лосев не склонен выводить (или сводить) личность из поступков и действий человека, направленных к определенной цели, так как они не являются чудом. Этот взгляд А. Ф. Лосева противоречит тому, что излагалось выше. Правда, А. Ф. Лосев сам оговаривается, что он использует понятия “поступок”, “действие” в обычном словоупотреблении. Я же использовал понятие “поступок” в смысле М. М. Бахтина, исследования которого в области философии поступка А. Ф. Лосеву были неизвестны. Смею утверждать, что поступок в бахтинском смысле несет в себе как минимум элементы мифологического и чудесного. Так это или нет — судить читателю. Скажу только, что поступки мифологических героев, например сказочное оборотничество, на которые ссылается А. Ф. Лосев, — это тоже чудо. Напомню читателям, что диалектика взаимоотношений в развитии прямой и обратной перспективы не предполагает примитивной логики первичности — вторичности. Поступок в такой же мере строит личность, в какой и манифестируется в ней. Поступающее мышление у М. М. Бахтина и осуществленное самосознание у А. Ф. Лосева — это прерогатива личности. Мне важно не столько решение проблемы самосознание-поступок-личность, сколько ее постановка и приглашение к обсуждению. В любом случае идеи о связи личности, чуда, мифа, развитые А. Ф. Лосевым, заслуживают самого пристального внимания. По А. Ф. Лосеву, “Личность... есть осуществленная интеллигенция (т. е. самосознание. — В. З.) как миф, как смысл, лик самой личности. А совпадение случайно протекающей эмпирической истории личности с ее идеальным заданием и есть чудо” (Лосев А. Ф., 1991, с. 150). Категория чуда понадобилась А. Ф. Лосеву, чтобы преодолеть в трактовке личности (шире — субъективного) метафизический дуализм картезианской школы. Он подчеркивает, что чудо есть явление социальное и историческое, законы же природы суть установки и явления механические. Соответственно и: “Личность возможна только в обществе, а общество возможно только как совокупность личностей. Правда, личность есть не только элемент общества, и общество есть не просто совокупность личностей. Тем не менее невозможна ни личность без общества, ни общество без личности. Потребности того и другого одинаково естественны, законны и имеют право на удовлетворение. Однако общеизвестно принесение как общества в жертву личности, так и личности в жертву обществу. Вызывается это, очевидно, отнюдь не диалектическими соображениями” (Лосев А. Ф., 1991, с. 125). Примечательно, что ни общество, ни коллектив, ни другая личность не являются источником для личности, так как при этом никакого чуда не получается: “Подлинного чудесного взаимоотношения личностных планов надо искать не в сфере влияния одной личности на другую, но прежде всего в сфере одной и той же личности, и уже на этом последнем основании можно говорить о взаимодействии двух или более отдельных личностей” (там же, с. 143). А. Ф. Лосев различает два плана в личности. Это “внешне-исторический и внутренне-замысленный, как бы план заданности, преднамеренности, цели” (там же, с. 143). “Именно эти два плана, будучи совершенно различными, необходимым образом отождествляются в неком неделимом образе, согласно общему диалектическому закону” (там же, с. 145). Встреча планов или их расхождение — это и есть чудо или судьба: “Судьба — самое реальное, что я вижу в своей и во всякой чужой жизни. Это — не выдумка, а жесточайшие клещи, в которые зажата наша жизнь” (там же, с. 144). В эти клещи была зажата жизнь О. Э. Мандельштама, да и самого А. Ф. Лосева. Не буду лишать читателя удовольствия самому разобраться в интереснейшей диалектике взаимоотношений мифа, лика, мифического лика и личности, которая представлена в учении А. Ф. Лосева. Лишь отмечу поразительно интересную особенность мифа как энергийного, феноменального самоутверждения личности: “Миф есть не субстанциальное, но энергийное самоутверждение личности. Это — не утверждение личности в ее глубинном и последнем корне, но утверждение в ее выявительных и выразительных функциях. Это — образ, картина, смысловое явление личности, а не ее субстанция” (там же, с. 94). Из этого следует, что миф, как медиатор, а вместе с ним знак, слово, символ содержат в себе энергийные, или энергетические характеристики. Не похоже ли это на “трансцендентальный привод” О. Мандельштама? Надеюсь, что многочисленные отступления от схемы не слишком утомили читателя. Предвижу немало возражений против предложенной схемы. На одно из них хотелось бы ответить сразу. Не слишком ли все метафорично? Скажу откровенно. Я устал от академической психологии, особенно от той, которая существует в нашей стране в последние десятилетия. Уж очень она серьезна и скучна. Мне кажется, что одна живая метафора много полезнее десятка мертвых понятий. Нам, как никогда прежде, нужны жизненные силы, и не нужно бояться почерпнуть их в представлениях о витализме, энтелехии. Напомню, что и Л. С. Выготский, говоря о действенной, аффективно-волевой подоплеке мысли, прибегал к литературным реминисценциям, к метафорам: “Если мы сравнили выше мысль с нависшим облаком, проливающимся дождем слов, то мотивацию мы должны были бы, если продолжать это образное сравнение, уподобить ветру, приводящему в движение облака” (Выготский Л. С., 1982—1984, т. 2, с. 357). Это похоже на метафорический и в то же время концептуальный (мне представляется, что такое не только возможно, но и необходимо на всех этапах научного познания) аппарат, использованный для описания действенного поля поэтической материи Данте. У Мандельштама часто встречаются такие живые метафоры-понятия, как “безостановочная формообразующая тяга”, “внепространственное поле действия”, “перводвигатель, переводящий силу в качество”, “зарядка бытия”, “зрячих пальцев стыд”, “пространства внутренний избыток”, “язык пространства, сжатого до точки”, “пространство бесполое”, “глаголы временят”, “виталистический поток”, “виталистический порыв” и т. д. Причем все это серьезно. Это не научная фантастика, хотя и сильно отличается от руководящего пошлого диалектико-материалистического “методологического принципа детерминизма психики и сознания”, все еще празднующего, надеюсь последние, победы в нашей науке. Еще раз А. Ф. Лосев: “Мертвое и слепое вселенское чудище — вот вся личность, вот все живое и вот вся история живой личности, на которую только и способен материализм. В этом его полная оригинальность и полная несводимость на прочие мировоззрения... Единственное и исключительное оригинальное творчество новоевропейского материализма заключается именно в мифе о вселенском мертвом Левиафане, который — и в этом заключается материалистическое исповедание чуда — воплощается в реальные вещи мира, умирает в них, чтобы потом опять воскреснуть и вознестись на черное небо мертвого и тупого сна без сновидений и без всяких признаков жизни” (1991, с. 114, 115). Как это похоже на когда-то широко известную книгу “Советский человек” и на бесчисленное количество ей подобных! Самым ярким признаком всей этой литературы было “растление и обалдение духа” (там же, с. 115). Уверен, что эвристическая роль живых метафор, которые можно было бы вслед за Л. С. Выготским назвать “искусственными понятиями”, в гуманитарном знании ничуть не меньше, чем роль иррациональных выражений в знании точном. Нам пора перестать бояться изменять и расширять свое собственное сознание, ускорять его развитие, чему сильно способствует поэзия. Для этого полезно если не снять, то сделать проницаемыми перегородки между чувственной, рациональной и духовной формами знания. Это и обеспечит всеединство, о котором говорил В. С. Соловьев, облегчит сообщаемость различных культур, наше понимание прошлого, настоящего и будущего. ... Дорогою свободной Иди, куда влечет тебя свободный ум. Если мы не последуем этому совету, нам еще очень долго придется метаться в поисках утраченного времени и с тоской размышлять об отечественной психологии как о науке неиспользованных возможностей. Несколько слов о “геноме” культурно-исторического развития человека. Здесь я в долгу перед читателем. В размышлениях о нем присутствовал Духочеловек. Ружье было повешено, но оно пока не выстрелило. Я это сделал намеренно. Не хотелось отталкивать от себя сциентистски настроенного читателя. Возможно, и мои собственные рационалистические и сциентистские убеждения недостаточно расшатаны. Их изменение должно быть естественным. Они у меня действительно меняются. Это вовсе не означает, что я из материалиста становлюсь идеалистом. Оппозиция материализма и идеализма мне глубоко чужда. Просто очень хотелось бы, чтобы психология еще при моей жизни стала более человечной и интересной. Вернемся к проблеме искусственности или естественности, к артефакту или факту в применении к человеку, личности. Это один из ключевых вопросов психологии развития. При его обсуждении полезно учитывать некоторые очевидные вещи. Общеизвестно, что историческое не совпадает с логическим, логика изложения далеко не всегда повторяет логику и историю исследования. Продолжим примеры. Развернутое во времени сукцессивное восприятие трансформируется в симультанный акт. И здесь функционирование не повторяет развития. То, что было последним в ходе формирования и развития, оказывается первым при функционировании (как хромой верблюд из восточной пословицы). Смысл может извлекаться из ситуации до ее расчлененного восприятия, а тем более запоминания. Это (и многое другое) позволяет предположить возможность и необходимость трансформации опосредствованного в непосредственное, артефакта в факт, искусственного в естественное, притом в настолько естественное, что оно производит впечатление чуда. Вообще, с точки зрения психологической теории деятельности более точно говорить не об артефактах, а об артеактах, то есть об искусственных, выращенных действиях. Думаю, что любую психологию, равно как и культурную, а не догматическую теологию, должны интересовать не столько факты, сколько акты, совершаемые человеком. Строго говоря, сам человек не факт, а акт, притом искусственный (или божественный?!). Эта мысль принадлежит П. А. Флоренскому. Продолжая ее, М. К. Мамардашвили говорил, что природа не делает людей. Они делают себя сами. Каждый рожденный матерью человек должен родиться второй раз. Он сам в ответе за свое второе рождение и поэтому в ответе за себя. Гегель, хотя и писал о втором, духовном рождении, но слишком уповал на педагогическое искусство. Человек — не искусственный цветок не только потому, что он сохраняет природные черты, но и потому, что имеется обратная трансформация искусственного в естественное. На этом можно было бы закончить характеристику вертикали духовного развития, но не только потому, что ее детальное описание требует многотомного изложения. Предложенная схема и ее описание имеют один существенный недостаток, который может заставить усомниться в ее правдоподобности в целом. Речь идет о том, что на схеме представлено развитие изолированного индивида, своего рода робинзонада, которая неоднократно и справедливо высмеивалась, так как она противоречит реальному ходу развития, которое протекает в социуме, в культуре, во взаимодействии, в совместной деятельности и в общении с другими людьми. Об этом написаны сотни книг, которые нельзя свести лишь к указательному жесту на наличие в схеме коммуникативной деятельности. Остается открытым вопрос о том, как участвует социум, культура, цивилизация в развитии индивида. Разумеется, они обеспечивают контекст развития, но можно ли реально представить себе механизм участия этого контекста в развитии отдельного человека? Ответ на этот вопрос заключен в описанной выше схеме, но для того, чтобы он был понят и принят, необходима ее небольшая трансформация и некоторые пояснения.
3.7. Культура как идеальная форма и ее роль в человеческом развитии Реальная, а не мандельштамовская технически невозможная ракета, преодолевая земное притяжение, летит не в пустоте, а в вакууме, который, по мнению некоторых современных физиков, имеет сложную структуру. Мне представляется, что образ сложноорганизованного социокультурного вакуума, уже использовавшийся в контексте психологии В. А. Лефевром, довольно точно описывает ситуацию человеческого развития. Человек может находиться в культуре и оставаться вне ее. Может смотреть на нее невидящими глазами, проходить сквозь нее как сквозь пустоту, не “запачкавшись” и не оставив на ней своих следов. Последнее — может быть, не самый худший вариант обращения с культурой. Это и означает — быть в культуре как в вакууме. Вакуум может ожить, опредметиться лишь благодаря человеческому усилию, в том числе и, на первый взгляд, странному усилию: “Это ведь действие — пустовать,” — сказала М. Цветаева. Далеко не каждому дано светить в пустоте и в темноте, как Б. Пастернаку, писавшему в цикле стихов, который, кстати, называется “Второе рождение”: Перегородок тонкоребрость Пройду насквозь, пройду, как свет. Пройду, как образ входит в образ И как предмет сечет предмет. “Образ входит в образ” — это замечательная иллюстрация внутренней деятельности и ее плодотворности. Представление о культуре, как о вакууме, несмотря на его эпатирующий характер, не противоречит пониманию культуры М. М. Бахтиным: “Не должно, однако, представлять себе область культуры как некоторое пространственное целое, имеющее границы, но имеющее и внутреннюю территорию. Внутренней территории у культурной области нет. Она вся расположена на границах, границы проходят всюду через каждый момент ее, систематическое единство культуры уходит в атомы культурной жизни, как солнце отражается в каждой капле ее. Каждый культурный атом существенно живет на границах: в этом ее серьезность и значительность; отвлеченный от границ, он теряет почву, становится пустым, заносчивым и умирает” (Бахтин М. М., 1974, с. 266). Положение о пограничности культуры принимается многими, хотя интерпретируется весьма различно. Например, культуру “размешают” на границе природного и социального, индивидуального и надиндивидуального. В. Л. Рабинович интерпретирует это положение как край, предел, пограничье, взывающий к преодолению самого себя. Я сделал попытку локализовать культуру на границах материального и духовного (Зинченко В. П., 1989, с. 60). Пожалуй, наиболее интересный вариант интерпретации утверждения о пограничности культуры — это размещение культуры на границе жизни и смерти: “В основе человеческой культуры лежит тенденция к преодолению смерти, в частности, в накоплении, в сохранении, в переработке сведений о прошлом. В XX веке эта тенденция особенно обостряется благодаря теоретической и практической постановке проблем, касающихся временных границ цивилизации, локальной и общечеловеческой... В какой-то мере вся человеческая культура до сих пор остается протестом против смерти и разрушения, против увеличивающегося беспорядка или увеличивающегося единообразия — энтропии” (Иванов Вяч. Вс., цит. по: Карякин Ю. Ф., 1989). С такой трактовкой культуры соглашается и известный исследователь Ф. М. Достоевского Ю. Ф. Карякин. Он уточняет, что культура не только остается, а во все большей мере становится протестом и сознает себя единственной жизнеспасительной силой. Мне, правда, кажется, что подобные амбиции культуре не свойственны. Важно не столько осознание культурой своей мессианской роли, сколько осознание и признание человечеством роли культуры в выживании и в сохранении себя как вида. Такое, видимо, произойдет не скоро. Сегодня еще мало оснований даже для иллюзий по этому поводу, поскольку человечество слушает голоса культуры и голоса Разума вполуха. Правда, Ю. Ф. Карякин приводит замечательную и утешительную мысль Ф. М. Достоевского: “Бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие” (см.: Карякин Ю. Ф., 1989, с. 6, 7). Угроза небытия и антропологической катастрофы налицо. Возможно, их наличие ускорит пробуждение сознания человечества, разумеется, с помощью той же культуры. С точки зрения развиваемых в настоящем тексте представлений о развитии человека, культура — это медленно и путем невероятных усилий создаваемый человечеством функциональный орган, назначение которого состоит в проникновении внутрь себя самого. Благодаря этим усилиям, самосознание культуры постепенно становится самосознанием человечества, что способствует преодолению имморального произвола субъекта, его темной и бессознательной воли. Конечно, культуру не следует идеализировать. Затрудняясь в поисках смысла и истины мироздания, она нередко конструирует и навязывает социуму утопические и трагические варианты его переустройства. “Жизнь подло подражает художественному вымыслу”, — заметил В. В. Набоков. Но... у нас нет другой, лучшей культуры. Смиримся с тем, что ей, как и человеку, свойственно ошибаться. Как бы то ни было, культура плодотворит, производит идеальные (и реальные) формы и оплодотворяет человеческое развитие. Вернемся к вопросу, каков механизм этого оплодотворения, результатом которого может стать плодотворное существование человека. Именно такое существование, согласно Б. Пастернаку, и есть культура. Наличие культуры есть условие развития, а мое плодотворное существование есть условие проникновения, вхождения в культуру. Попытаемся разомкнуть этот круг. Важнейшая функция культуры состоит в создании идеальных (в прямом и переносном смысле слова) форм. В последних представлена зона ближайшего и более отдаленного — в пределе бесконечного развития человека. В существовании идеальных форм Л. С. Выготский усмотрел “величайшее своеобразие детского развития”. Он же конкретизирует это положение по отношению к речи ребенка: “Детская речь не является личной деятельностью ребенка и разрыв ее с идеальными формами — речью взрослого — представляет грубейшую ошибку. Только рассмотрение речи как части диалога, сотрудничества, общения дает ключ к пониманию ее изменений... Идеальная форма — источник речевого развития ребенка” (Выготский Л. С., 1984, т. 4, с. 356). Это же относится к сознанию, к психическим интенциональным процессам, вообще к субъективности, понимаемой в широком смысле слова. Все они представляют собой не только качества личные, но и родовые, сверхличные, являющиеся источником первых. Мысль о наличии идеальной формы в начале развития не нова, но, видимо, хорошо забыта психологами и неизвестна авторам, писавшим о ноосфере, о семантической вселенной и т. п. Эд. Шпрангер, мне кажется, первым из психологов утверждал, что соотношение действительной и идеальной, реальной и идеальной формы не только определяет понятие развития, но и выступает в качестве его движущей силы. Конечно, существуют и более ранние источники: “В начале было Слово...”; “Логос прежде был, нежеле стать земле” и т. д. Речь должна идти не об оригинальности понятия “идеальной формы”, а о реальных функциях ее в развитии. Это вопрос не праздный, так как приписывание культуре, идеальной форме, среде функций источника или движущей силы развития вынуждает культуру, помимо ее воли, быть агрессивной, оставляет неясной роль в развитии самого развивающегося субъекта. А он не только не пассивен, но в конце концов сам становится источником и движущей силой развития культуры, цивилизации, порождения новых идеальных форм, переосмысления старых. К несчастью, он иногда слишком энергично вносит вклад в изменение окружающей среды, в том числе и культуры. Вспомним приводившиеся выше соображения О. Мандельштама о “приглашающей силе” среды. Если принять эти соображения, то отношения организма и среды, человека и культуры (идеальной формы) следует признать взаимно активными, коммуникативными, диалогическими. Диалог может быть дружественным, напряженным, конфликтным, он может переходить и в агрессию. Человек может принять вызов со стороны культуры или остаться равнодушным. Культура также может пригласить, а может оттолкнуть или не заметить. Другими словами, между идеальной и реальной формами существует разность потенциалов, что и порождает движущие силы развития. Таким образом, они находятся не в культуре и не в индивиде, а между ними, в их взаимоотношениях. Что касается потенциала культуры, то хотя он огромен и едва ли измерим, но в принципе он известен и понятен. Что же касается собственного потенциала человека, то природа его, равно как и его количественные характеристики остаются таинственными, загадочными. М. Цветаева писала о безмерности человека, живущего в мире мер, а по словам О. Мандельштама, “нам союзно лишь то, что избыточно”. Парадокс состоит в том, что благодаря безмерности, благодаря “избытку внутреннего пространства” человек только и может стать “мерой всех вещей”. Можно с уверенностью утверждать, что его возможности должны быть соизмеримы с потенциалом культуры, а, порой, в каких-то сферах и превосходить его. Известно, что слух младенца открыт к восприятию и усвоению фонем любого из более чем семи тысяч языков, существующих на Земле. Правда, спустя месяцы, “створки” закрываются за счет развития фонематического слуха к родному языку. Известно также, что младенцы-близнецы, оказывающиеся в ситуации коммуникативной депривации создают лишь им самим понятный язык. Потом перед исследователями встает задача его расшифровки, подобная задаче расшифровки языка дельфинов. Не углубляясь в традиционные и безрезультатные споры о природе, измеримости, норме индивидуального потенциала развития, дадим его поэтический образ: И много прежде, чем я смел родиться, Я буквой был, был виноградной строчкой, Я книгой был, которая вам снится. (О. Мандельштам) Это тройное “был” в мыслящих устах* поэта и есть необходимое условие не только врастания в идеальную форму, но и залог возможного перерастания ее. После этих пояснений вновь обратимся к схеме “Онтологичекий и феноменологический план развития”, представленной на рис. 8. Для ее построения совершена элементарная процедура. Вертикаль развития, изображенная на рис. 7, сохранена в своем первоначальном виде и названа “реальной формой”. Рядом с ней изображена эта же вертикаль, но повернутая на 180 градусов и совмещенная с первой. Она названа “идеальной формой”. Совмещение реальной и идеальной формы иллюстрирует и расшифровывает мысль Л. С. Выготского о непосредственном взаимодействии первых шагов на пути развития ребенка с высшей, идеальной формой. Замечу, что Л. С. Выготский, которого многие считают автором теории опосредственного развития психики и сознания, в важнейшем, исходном пункте говорит о непосредственном взаимодействии. Конечно, в жизни не всегда и не все так счастливо складывается, как изображено на схеме. Здесь вступает в силу Его Величество Случай, в том числе и случайность рождения. В действительности “идеальная форма”, взаимодействующая с первыми шагами ребенка по пути развития может быть весьма далекой от идеала. Может оказаться недостаточным и потенциал ребенка для достижения высоких ступеней развития. Ситуацию развития, конечно, определяют не только конкретные обстоятельства рождения, ближайшего окружения, но и социальные обстоятельства. Носителями идеальной формы являются реальные люди, язык, мир значений, символов и т. д., которые предсуществуют индивидуальному развитию. Богатство идеальной формы — это источник поливариантности индивидуального развития. Идеальная форма потенциально настолько богата, что она обеспечивает возможности практически любой реализации человеческого потенциала, конечно, если человек найдет себя в том или ином материале или в “материи” идеальной формы. Идеальная форма или культура — это приглашающая сила. Она существует, приглашает к развитию, но не навязывает себя. Другое дело, что носители идеальной формы могут ограничивать развитие индивида, препятствовать реализации потенциала человеческого развития, направлять его в нужное русло, формировать человека с заданными свойствами, вплоть до зомби. А потенциал индивидуального развития действительно бесконечен. Во всяком случае он не только позволяет подняться до вершин идеальной формы, но и превзойти их, так как производство культуры всегда индивидуально. Другое дело, что произведения индивидуального творчества могут приобретать надиндивидуальный или даже вневременной характер. Такие произведения входят сразу или со временем в тело, в плоть идеальной формы. Вернемся к рис. 8. При небольшом воображении в нем можно увидеть сходство с двойной спиралью генетического кода. Таким образом, представленное взаимодействие реальной и идеальной формы можно рассматривать как своего рода “геном”* культурного и духовного развития человека. В правдоподобности этой схемы меня убеждает то, что, помимо моей воли и желания, в ее центре оказались сознание, символ и деятельность, то есть главные черты человеческого бытия. Разумеется, на рис. 8, как и на предыдущем, представлен не реальный, а возможный путь развития, который имеет огромное число вариантов.

Рис. 9 (А). Вариант возможного пути развития (не слишком успешный)

Рис. 9 (Б). Вариант возможного пути развития (более оптимистический)
На рис. 9 (А) также представлена одна из таких возможностей, когда индивид проходит в своем развитии не через все ступени, то есть не использует возможности, заключенные в идеальной форме. Рис. 9 (Б) показывает другую возможность, когда индивид превосходит “идеальную” форму, которой его наградила судьба. Вообще, наиболее существенным для меня является принципиальное построение схемы развития, а не ее концептуальное наполнение. Ведь в психологии не только все слова заняты, за каждым словом стоит целое поле значений и смыслов. Для меня самого прочтение каждого понятия в схеме облегчается контекстом. Понятия, представленные на схеме, взаимно ограничивают произвольность в их интерпретации. Справа на рис. 7 я привел свое видение развития Я (от совокупного до духовного). Уверен, что многие читатели видят развитие Я иначе. Мое видение соответствует изложенному представлению о духовном развитии. Схему следует воспринимать как “интеллигибельную материю”, то есть как некоторое наглядное пространство, облегчающее обсуждение проблемы развития человека. Ко всем приведенным выше схемам вполне можно относиться как к гипертексту, а возможно, даже как к метагипертексту, менять их концептуальное наполнение, связи между элементами, общую композицию. Можно и конструировать заново. Важно лишь одно — сохранение духовной вертикали. Примером, воплощенным в образах, может служить “Древо Жизни” Эрнста Неизвестного. Рис. 10 обеспечивает пространство для концептуального и конструктивного творчества заинтересованного читателя. Для “заземления” духовной вертикали в психологическую почву рассмотрим далее одну из самых старых в философии, эстетике, психологии и вечно новую проблему соотношения внешнего и внутреннего в психике и — шире — в человеческой жизни. Восхождение к духовности начинается с живого движения, в котором неразличимы его внешняя и внутренняя формы. Можно предположить, что живое движение, во всяком случае его исходные “бесформенные формы” представляют собой допсихическое образование, своего рода строительный материал, из которого строятся, лепятся вначале элементарные, а затем сложнейшие функциональные органы — действия. В ходе развития и трансформации действия происходит выделение, дифференциация его внешних и внутренних форм, вплоть до их относительной автономизации и превращения в самостоятельные внешние и внутренние действия.

Рис. 10. Пространство для концептуального творчества заинтересованного читателя
Это означает, что в развитии и функционировании внешних и внутренних форм действует особая порождающая логика. Действие, проявляющееся как внешняя форма, превращается во внутренние формы. Последние экстериоризируются, что приводит к порождению самосознания. Развитие самосознания в свою очередь обогащает действие, и в итоге последнее трансформируется в деятельность. Деятельность, совершенствуясь как внешняя форма, порождает новую внутреннюю форму — сознание. Еще раз подчеркну, что назначение внешней и внутренней форм не исчерпывается тем, что они обуславливают, опосредствуют функционирование друг друга, порождают одна другую. Они могут вести относительно автономную жизнь, претерпевать изменения, развиваться. Подобное зависимое и относительно независимое существование и развитие имеет своим следствием то, что российский биолог-эволюционист А. Г. Гурвич, изучавший формообразование органических форм, назвал неудержимостью онтогенеза. Еще раз сошлюсь на социологический и близкий мне — представителю русской культуры — пример. Если в обществе мысль под запретом или “не сезон для мысли”, она все равно развивается под спудом, а потом возникает “из глубины” или “из под глыб”. Конечно, бывает и так, что запрета нет, сезон есть, а мысли нет... Неудержимостью онтогенеза характеризуется не только развитие органических, но и психических форм. Можно предположить, что логика развития последних в некоторых отношениях подобна логике развития органических форм. И там, и там нельзя перепрыгивать через ступени. Каждая из ступеней (или каждый узел) обладает непреходящей ценностью для развития целого. Учитывая это, А. В. Запорожец рекомендовал следовать стратегии амплификации, обогащения детского развития, не упрощать его, не проявлять неразумной торопливости в обучении и воспитании ребенка, не перепрыгивать через ступени. Проблема внешнего и внутреннего возникла вне психологии и задолго до нее. В апокрифическом Евангелии от Фомы имеется диалог апостолов с Христом о младенцах, подобных тем, которые входят в царствие. Иисус сказал им: “Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю, и внешнюю сторону как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была женщиной, когда вы сделаете глаза? вместо гла?за, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа, — тогда вы войдете в [царствие]”. (В кн.: “Апокрифы древних христиан”, 1989, с. 253.) В этом отрывке содержится не только постановка проблемы внешнего и внутреннего, но и намечен путь ее решения, поисками которого психология занята многие десятилетия. Проблема внешнего и внутреннего традиционна для эстетики. Г. Г. Шпет, в контексте своих размышлений об эстетике, говорит о подлинной действительности следующим образом: “Все ее внутреннее — ее внешнее. Внешнее без внутреннего может быть, — такова иллюзия; внутреннего без внешнего — нет. Нет ни одного атома внутреннего без внешности. Реальность, действительность определяется только внешностью. Только внешность непосредственно эстетична. Внутреннее для эстетического восприятия должно быть опосредствованно внешним... Само опосредствование — предмет эстетического созерцания через свое касание внешнего... Все это верно эстетически и жизненно должно быть верно” (Шпет Г. Г., 1922, с. 48, 49). В психологии мы также сталкиваемся с доминантой (чтобы не сказать с выбором) либо на внешнем, либо на внутреннем (ср.: бихевиоризм и интроспекционизм). Механизмы опосредствования, лежащие в основе интериоризации (П. Жане, Л. С. Выготский, Ж. Пиаже, П. Я. Гальперин и др.), все еще остаются проблемой для психологии. Трудно удержаться, чтобы не продолжить размышления Шпета о внешнем и внутреннем: “Что мы приобретаем от сильной любви “ближних”, если эта любовь — “в глубине души”? И как много приобретали бы, если бы нас не обманывали мнимою действительностью глубин задушевных. Что же жизненно реально: расположение внутри и невоспитанность извне, “благо человечества” внутри и нож, зажатый в кулаке, извне, или неизменная ласка и предупредительность извне, а внутри — не все ли равно, что тогда “внутри”?.. Вообще, не потому ли философам и психологам не удавалось найти “седалище души”, что его искали ВНУТРИ, тогда как вся она, душа, вовне, мягким воздушным покровом облекает “нас”. Но зато и удары, которые наносятся ей — морщины и шрамы на внешнем нашемлике. Вся душа есть внешность. Человек живет, пока есть у него внешность. И личность есть внешность. Проблема бессмертия была бы решена, если бы была решена проблема бессмертного овнешнения” (там же, с. 49, 50). Это действительно гимн внешнему, который не означает отрицания внутреннего. Г. Г. Шпет подчеркивает, что внутреннее — это идея, но если она не разрешима внешне, вовне, она ничто. По его словам, все без остатка действительное бытие — во-вне, все внутреннее — только идеально. Последнее положение конечно бесспорно, но оно слишком обще, так как само идеальное нуждается в расшифровке, в своего рода доопределении и в психологической интерпретации. Последняя очень важна, так как в психологии “идеальное” нередко рассматривалось либо натуралистически, либо мистически. Как отмечалось выше, в культурно-исторической психологии, а затем и в психологической теории деятельности, представители которой много сил отдали тому, чтобы понять механизмы превращения внешнего во внутреннее, изучая интериоризацию внешних средств деятельности во внутренние способы ее реализации, далеко не все проблемы решены. Во-первых, в этих направлениях доминировал ход извне – внутрь. Конечно, постулировалось, наряду с процессом интериоризации, наличие обратного процесса экстериоризации, овнешнения, — по Г. Г. Шпету, писавшему, что “Реализация идеального — сложный процесс раскрытия смысла содержания, — перевод в эмпирическое единственно действительное бытие” (Шпет Г. Г., 1923, с. 38). Но этот перевод практически не исследовался. Во-вторых, высказывались самые различные точки зрения относительно строения внутреннего. Например, говорилось о принципиально общем строении внешнего и внутреннего, даже об их тождестве. Принятие тезиса о тождестве внешней и внутренней деятельности делает бессмысленным понятие интериоризации, равно как принятие тезиса об их абсолютном различии делает проблему интериоризации неразрешимой. Часто за пределами этих направлений, реже в их рамках, внутреннее редуцировалось к мозговым механизмам. В-третьих, мало исследовалась сама жизнь внутреннего, его живые формы, их динамика, возникновение, развитие, умирание, способность к превращениям и к порождению новых форм — новообразований. Последний упрек может показаться не вполне справедливым. В теории поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина имеется следующая последовательность этого процесса: материальное действие, громкая речь, внутренняя речь, идеальный план. Дело даже не в том, что идеальный план не раскрывается, а лишь обозначается, а в том, что и предшествующие этапы понимаются натуралистически. Ведь идеальный план имеется на всех этапах. В противном случае ему неоткуда взяться на последнем. На вопрос о том, что стоит за внутренней речью, т. е. на последнем этапе, А. Н. Леонтьев, в отличие от П. Я. Гальперина, заметил, что за ним стоит грандиозная работа мозга. Но такая же работа стоит за каждым этапом интериоризации. Ход извне – внутрь, доведенный до логического конца, оказывается не столь безобидным. Дело даже не в том, что в целом любая концепция интериоризации направлена на десакрализацию человеческого опыта, на отрицание созерцания, аскетического, умного (духовного) делания. В культурно-исторической теории культура монологизирована, она выступает как своего рода божество монотеизма, Демиург. Культура не только детерминирует развитие, но и делает этот процесс герметичным. Л. С. Выготский всерьез принял марксизм в отличие от М. М. Бахтина, который лишь маскировал им свои действительные взгляды. А марксизм подобен религиозному фундаментализму и фанатизму, он не совместим с диалогизмом. В то же время следует сказать, что концепция интериоризации Л. С. Выготского (как и культура, в которой он вырос) была более человечной, чем последующие ее варианты, развитые в психологической теории деятельности. Л. С. Выготский на первый план выдвигал, так сказать, социально-психологическую природу интериоризации, общий ход которой, согласно его взгляду, шел от интериндивидного к интраиндивидному. Другими словами, интериоризации подлежала связь людей, т. е. культура. П. Я. Гальперин, в отличие от Л. С. Выготского, на первый план выдвигал предметную сторону интериоризации. В качестве первого ее этапа выступало предметное, материальное или материализованное действие. Здесь социально-психологический план, план коммуникации оказывался в виде слабого фона процесса. Другими словами, интериоризации подлежала сила вещей, т. е. цивилизация, а не связь людей, т. е. культура. (Я пользуюсь афористической характеристикой культуры, как связи людей, и цивилизации, как силы вещей, данной писателем М. М. Пришвиным.) В последнем случае вообще нет шансов понять природу идеального, возникновение духовности, нет оснований и для признания спонтанности развития. Именно с этим связаны усилия Д. Б. Эльконина и Б. Д. Эльконина, направленные на то, чтобы показать социальную природу любого предметного действия, другими словами, чтобы наполнить исходные представления Л. С. Выготского об интериоризации предметным содержанием или, что то же самое, наполнить представления П. Я. Гальперина об интериоризации социальным, духовным содержанием. Проницательный А. Н. Леонтьев понимал, что в процессах интериоризации внутренний план впервые рождается. Но он не знал как проследить дальнейшую судьбу этого новорожденного. А эта судьба определяется не только внешним. Развитие внутреннего, видимо, имеет свои собственные законы, которые не совпадают с законами развития внешнего. Да и открытие последних затруднено нашими скромными познаниями законов развития внутреннего. Не в последнюю очередь это объясняется долгим идеологическим табу на идею спонтанности развития, артикулированную еще в книге Бытия. В отечественной психологии нераздельно господствовал принцип детерминизма. Пожалуй, лишь А. В. Запорожец говорил о спонтанности развития, непременно ссылаясь на В. И. Ленина, у которого он, к счастью, натолкнулся на этот термин. Детерминистична и культурно-историческая психология. Ведь если се довести до логического конца, то внутреннее может оказываться слепком как динамической культуры или ее застывших форм, так и слепком ее маргинальных форм или бескультурья. Поразительно, что большевистские идеологи запретили на многие годы Л. С. Выготского, хотя именно советский идеологический активизм превратил принцип интериоризации в эффективную систему впечатывания, импринтинга, принудительного вдалбливания (до уровня рефлексов) меняющихся вместе с линией партии коммунистических мифологем и идеологем. Разумеется сам Л. С. Выготский в этом неповинен, тем более, что он в своих последних работах, опубликованных многие годы спустя после его кончины, шел к проблематике строения внутреннего и его спонтанного развития. Каковы же дальнейшие пути, если не решения, то обсуждения проблемы соотношения и взаимоотношения внешнего и внутреннего? Мне представляется, что необходима некоторая переформулировка самой постановки этой проблемы, а точнее, использование для ее обсуждения имеющихся в искусстве и в науке идей о существовании внешних и внутренних форм. О. Мандельштам нашел подобное различение у Данта. Оно имеется в лингвистике (В. Гумбольдт) и наиболее подробно развито Г. Г. Шпетом в его работах, посвященных внутренней форме слова. Здесь не место излагать этот цикл исследований. Упомяну лишь, что Г. Г. Шпет морфологические формы слова признавал внешними, онтические формы называемых вещей (это предметы, которые согласно его логике есть субъект и объект вместе) называл чистыми, а лежащие между ними логические формы называл внутренними. Но ведь все это формы одного и того же, т. е. внешней формы слова, отражающей и действия с предметами. Я уж не говорю о значении и смысле. “Логические формы суть внутренние формы, как формы идеального смысла, выражаемого и сообщаемого; онтические формы суть чистые формы сущего и возможного вещного содержания” (Шпет Г. Г., 1923, с. 48). Именно этим Г. Г. Шпет объясняет возникновение такого тонкого соответствия логических и онтологических свойств, что его делают критерием логической истинности высказываний. Речь должна идти не только о соответствиях внешней формы ее многообразным внутренним формам, но и об их развитии, саморазвитии, об их возможной обратимости и превращениях нечто иное, т. е. о порождении новых форм — новообразований: это справедливо в особенности для живых форм, к которым относится вся реальность психического. И в этой области важную роль играют неоцененные пока в должной мере психологами исследования М. К. Мамардашвили, посвященные превращенным формам. Эти исследования опирались не только на анализ К. Марксом явлений экономического фетишизма и идеологии, но и на фрейдовский психоанализ, на юнговскую концепцию “архетипов”, на современные исследования мифологий и символизма. Для психологии особенно ценно, что М. К. Мамардашвили ставил в соответствие (если не идентифицировал) превращенность действия с превращенной формой и ставил проблему конструирования специального оператора в концептуальном аппарате гуманитарных наук. Этот оператор обозначает особую онтологическую реальность — превращенные объекты или “превращенные формы”. Такие объекты должны входить в число объектов всякой теории, относящейся к человеческой реальности (исторической, социальной, психологической). Когда-то мы с М. К. Мамардашвили иллюстрировали взаимоотношения внешней и внутренней формы на примере вытеснения из памяти. Вытеснение — это не погружение каких-либо содержаний в некоторый физикальный низ, а деятельностно-семиотическая переработка такого содержания, извращающая и изменяющая его до неузнаваемости. Но тем не менее эта превращенная внутренняя форма, не данная субъекту в самонаблюдении, продолжает действовать на него, определять сознание, поведение, и даже личность (Зинченко В. П., Мамардашвили М. К., 1977). Преимущества обсуждения психологической проблематики в понятиях внешней и внутренней форм по сравнению с противопоставлением внешнего и внутреннего состоит в том, что мы имеем дело с одним объектом исследования, снимаем оппозицию объективного и субъективного, поскольку внутренняя форма при всех трудностях ее определения и изучения оказывается столь же объективной, как и внешняя. Если же мы изначально разорвали внешнее и внутреннее, мы никогда в рамках логически однородного рассуждения не сможем их связать, не сможем прийти к тому месту, где они были неразличимы, как у младенцев, о которых говорил Христос апостолам. Уже поздно. Классическим примером этого являются бергсоновские попытки связать память тела с памятью духа. М. К. Мамардашвили объясняет происхождение феноменов иррациональности, синкретичности превращенных форм или превращенных объектов. Последние он характеризует как квазисубстанциональные объекты или как квазипредметы, предметы-фантомы. Сложность их исследования состоит в том, что превращенные формы — это не просто видимость, а внутренняя форма видимости, т. е. ее устойчивое и воспроизводящееся ядро. Он специально подчеркивает, что превращенность “есть качественно новое дискретное явление, в котором посредствующие промежуточные звенья “сжались” в особый функциональный орган, обладающий уже своей особой квазисубстанциональностью (и, соответственно, новой последовательностью акциденций, часто обратной действительной)” (Мамардашвили М. К., 1992, с. 275). Может быть, мы сейчас подошли к такой точке в нашем мысленном движении, что ретроспектива становится нашей перспективой. Возможно, идеалом современного знания должен стать новый синкретизм. Именно новый, т. е. не только вспомненный, но и построенный заново. Для этого полезно вернуться к состоянию методологической невинности, задуматься над тем, какая онтология лежит за нашими, как нам кажется, рафинированными понятиями и категориями. Принято считать, что в жизни все сложнее, чем в науке, а может, жизнь в каком-то смысле проще, поскольку она содержательна и не засорена методологией. Вспомним в связи с этим О. Мандельштама, писавшего, правда, о XIX в.: “Торжество голого метода над познанием по существу было полным и исключительным, — все науки говорили о своем методе откровеннее, охотнее, более одушевленно, нежели о прямой своей деятельности” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 196). Это ведь и о нас, правда, с поправкой на то, что мы вели разговор не о методе, а о методологии, и разговор этот был не одушевленным, а демагогическим, скорее, приказным. При создании новых синкретов не обязательно выдумывать новые понятия и категории, можно попытаться переосмыслить и одушевить старые. Попробуем вместо оппозиции внешнего – внутреннего использовать понятия внешней и внутренней формы, которые являются не только дополнительными, но и обратимыми. Начну с иллюстраций: “Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение. Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит внутренний образ, это его осязает слух поэта. И сладок нам лишь узнаванья миг!” (Мандельштам О. Э., 1990 , с. 171). Это о внутренней и внешней форме стихотворения. А теперь о слове, образе и значении: “Самое удобное и в научном смысле правильное — рассматривать слово как образ, то есть словесное представление. Этим устраняется вопрос о форме и содержании, будет фонетика — форма, все остальное содержание. Устраняется и вопрос о том, что первичнее — значимость слова или его звучащая природа? Словесное представление — сложный комплекс явлений, связь, “система”. Значимость слова можно рассматривать как свечу, горящую изнутри в бумажном фонаре, и, обратно, звуковое представление, так называемая фонема может быть помещена внутри значимости, как та же самая свеча в том же самом фонаре” (там же, с. 183). Приведенные выписки относятся к 1921 и 1922 гг. В 1923 г. Г. Г. Шпет опубликовал вторую часть “Эстетических фрагментов”, где он подробно рассматривал взаимоотношения между внутренней и внешней формой слова. Специальную книгу, посвященную внутренней форме слова, он издал в 1927 г. Не знаю, были ли знакомы О. Мандельштам и Г. Шпет. Последний в Киеве учил гимназистку Анну Горенко (Ахматову), потом в Московском университете — Бориса Пастернака. Но, видимо, к идеям внешней и внутренней формы поэт и ученый пришли независимо друг от друга. Оба они в совершенно разном стиле писали о сложности взаимоотношений слова и предмета, слова и образа, слова и значения, о нелепости их отождествления или объяснения одного из другого. Поэт: “Разве вещь — хозяин слова? Слово — Психея. Живое слово не обозначает предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 171). Ученый: “Как чумы или глупости надо, поэтому, бояться или остерегаться в особенности теорий, похваляющихся “объяснить” одно из другого, “происхождение” смысла разумного слова из бессмысленного вопля, “происхождение” понимания и разума из перепуганного дрожания и осклабленной судороги протоантропоса. Такое “объяснение” есть только занавешение срамной картинки нашего неведения” (Шпет Г. Г., 1923, с. 23). Еще более определенно о сложности взаимоотношений между формами О. Мандельштам пишет в “Разговоре о Данте”: “У Данта не одна форма, но множество форм. Они выжимаются одна из другой и только условно могут быть вписаны одна в другую”. Он сам говорит: “...Я выжал бы сок из моего представления, из моей концепции”, — то есть форма ему представляется выжимкой, а не оболочкой... “Но выжать что бы то ни было можно только из влажной губки или тряпки. Как бы мы жгутом ни закручивали концепцию, мы не выдавим из нее никакой формы, если она сама по себе уже не есть форма” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 224). Это ведь и есть иллюстрация существования в поэзии форм превращенных, свидетельство об относительности разделения форм на внешнюю и внутреннюю: “Научное описание дантовской “Комедии” (читай: человеческой жизни. — В. З.), взятой как поток, неизбежно приняло бы вид трактата о метаморфозах и стремилось бы проникать в множественные состояния поэтической материи (читай: психологической реальности. — В. З.), подобно тому как врач, ставящий диагноз, прислушивается к множественному состоянию организма” (там же). Психологам надо бы поучиться тому, с каким пиететом О. Мандельштам говорит о поэтической материи как о предмете своей деятельности и своих размышлений: “Формообразование поэмы превосходит наши понятия о сочинительстве и композиции. Гораздо правильнее признать ее ведущим началом инстинкт. Предлагаемые примерные определения меньше всего имеют в виду метафорическую отсебятину. Тут происходит борьба за представимость целого, за наглядность мыслимого. Лишь при помощи метафоры можно найти конкретный знак для формообразующего инстинкта, которым Дант накапливал и переливал терцины” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 225). Возвращаясь к аналогии между поэтической материей и психологической реальностью, можно сказать, что поэму Данта, как и человеческую жизнь, пронзает безостановочная формообразующая тяга. Ее источники и движущие силы будут рассмотрены позже. В следующем разделе я постараюсь извлечь некоторые следствия из положений об относительности разделения внешней и внутренней форм и их обратимости.
3.8. Еще раз о внешней и внутренней формах. Проблемы их трансформации и обратимости Для гуманитарного знания существенна проблематика еще одного пограничья, касающегося границ, проходящих, так сказать, в самом человеке, границ между его внешним и внутренним. Такое разделение кажется привычным и понятным. Действительно, мы привыкли различать внешнее поведение и скрытые от нас его пружины. Последние не так просто обнаружить даже в самом себе. Есть мое заветное, затаенное, утаиваемое от постороннего взгляда. Иногда утаиваемое неловко, как у детей, иногда очень искусно. “Два пишем, три в уме” — это не только арифметический прием. Есть утаиваемое и от самих себя или неведомое и уж во всяком случае плохо управляемое, иногда неожиданно всплывающее в нас самих. Так что разделение на внешнее и внутреннее соответствует нашему самонаблюдению и вполне естественно до тех пор, пока не возникают вопросы, а что же такое внутреннее, где оно находится, откуда мы о нем, пусть неполно, не все, но кое-что знаем? Последнее возможно только в том случае, если внутреннее станет внешним, т. е. “овнешнится”, и, следовательно, станет доступным внешнему наблюдателю, который владеет языком для его описания. Г. Г. Шпет об этом сказал, что внешнее без внутреннего может быть. Такова иллюзия. Но нет ни одного атома внутреннего без внешнего. На этом основан оптимизм науки, которая стремится познать внутреннюю суть явлений. В гуманитарной науке имеется продуктивная традиция обсуждения проблемы внешнего и внутреннего в понятиях внешней и внутренней формы. Преимущество этих понятий по сравнению со слабо дифференцированными представлениями о внешнем и внутреннем состоит в том, что мы сразу оказываемся на знакомой территории, где можно рассуждать об изменчивости, эволюции форм, о превращениях одной формы в другую, например скидкой в твердую или газообразную, об обратимости или необратимости таких превращений. Правда, когда речь идет о живых формах, все обстоит сложнее, чем в случае воды, льда и пара, по отношению к которым понятия внешней и внутренней формы лишены смысла. Рассмотрим ряд примеров, где подобное различение осмысленно. Начнем с самого, казалось бы, простого — с орудия труда. Любое орудие труда, как отмечалось выше, имеет назначение за которым скрыты операциональные и предметные значения. Орудие в простейшем случае — это вещь, предмет (топор, молоток, лопата и т. п.). За этой вещью закреплен способ ее употребления, т. е. какая-то идея, которая лежала в основе ее создания и должна быть раскрыта или понята тем, кто овладевает орудием. Другими словами, в орудии, в инструменте воплощены та или иная мысль, замысел, умысел. Но ведь мысль — это одно, а вещь — это совсем другое. Мысль — идеальна, а вещь — материальна. Как возможен переход от идеального к материальному и от материального к идеальному? Не только по всем правилам философской игры, но и по здравому смыслу такой переход невозможен, но тем не менее он реально происходит. Более того, П. А. Флоренский писал, что разум есть потенциальная техника, а техника есть актуальный разум. Сегодня кажется, что он был чрезмерно оптимистичен, поскольку современная техника не в меньшей степени, чем разум актуализирует человеческое безумие. Независимо от этого остается вопрос о механизме перехода от идеи к вещи и обратно. П. А. Флоренский предложил следующее решение этого вопроса. Как машины-инструменты, так и слова-понятия обладают неполным набором свойств. Первые чувственно даны нам, они вещны, но их осмысленность каждый раз должна доказываться при использовании машин и вкладываться в них при создании. Вторые — разумны, осмысленны, но не всегда наглядны. Каждый раз “необходимо доказывать осмысленность вещей и овеществленность смыслов”. Но для этого необходимо нечто третье, совмещающее в себе и осмысленность, и овеществленность: “Нужно, — пишет П. А. Флоренский, — чтобы хотя бы в одной точке человеческой деятельности было бы дано наглядное единство двух полюсов ее, то есть бесспорная воплощенность смысла или, что то же, — бесспорная одухотворенность вещи” (Флоренский П. А., вып. 17, с. 103). Если такого предмета не найдется, деятельность человека может расколоться на две непересекающиеся: деятельность осмысливания и деятельность реализации. В общем-то развитие общества как раз и демонстрирует такой процесс. Одни думают, советуют, другие делают наоборот. Создаваемые вещи перестают быть живыми, т. е. перестают быть утварью, превращаются в ширпотреб, в культтовары, в “1000 мелочей” и т. п. По мнению П. А. Флоренского, единственным предметом, интегрирующим в себе вещность и осмысленность, является культовый предмет. Например, крест — символ веры — представляет собой и вещь и идею, смысл: “Щипцы, бутылки, щетки и так далее — суть вещи, орудия культа ... кроме того, суть смыслы, требующие себе внутреннего признания, а не только допускающие внешнее пользование. Но вместе с тем будучи смыслами, они не внутренние смыслы только, но и бесспорные реальности, помещающиеся в ряду вещей... Предметы культа суть осуществленное соединение временного и вечного, ценности и данности, нетленности и гибнущего” (там же, с. 106). Примечательно, что П. А. Флоренский явления и предметы культа, а также все элементы культа, вроде текста и напева песнопений, молитв, освященных веществ и т. п., называет орудиями этой культурной деятельности. Ими, через них и в них культ как деятельность проявляется и осуществляется. Слово “орудие” — очень важно. Мы помним, что есть, казалось бы, несоединимые вещь и идея. Но они соединяются в предметах культа, в его символах, выполняющих функцию орудий деятельности. И в этих орудиях-символах вещи осмысленны, а смыслы овеществлены, опредмечены. Значит, в символе имеются видимая и невидимая части. Первая — вещественная доступна нашему наблюдению, ее можно назвать внешней формой, вторая — недоступная наблюдению, но доступная осмыслению, пониманию, постижению, ее можно назвать внутренней формой символа. Эта-то вторая, невидимая половина символа, по мысли М. К. Мамардашвили, прорастает в глубины сознательной жизни человека, а затем и вырастает из невидимого мира человеческих желаний (см.: 1995, с. 373). Согласно Флоренскому, именно символ является посредником-медиатором, связывающим вещь и идею. Через символ возможна трансформация вещи в идею и обратно. Он делает и следующий важный ход, выделяя машины-инструменты и слова-понятия: “Когда мы говорим слово орудие, то ближайшим образом припоминаются нам молоты, пилы, плуги или колеса и тому подобное — словом, в грубейшем смысле слова материальные орудия технической культуры... Инструменты — наиболее веское — буквально — проявление орудиестроительной деятельности. Но есть и другой род орудий, наименее материальных, воздушных, если выразиться точно и буквально, однако, ничуть не менее могучих; это суть — слова — в особенности — оформленные технически понятия и термины. Слово, “воздушное ничто” есть, однако, орудие мысли, без коего мысль не раскрывается и не осуществляется. Не в переносном смысле, а в самом точном, слова есть орудия” (там же). Аналогичный ход мысли об инструментальности, орудийности слова мы находим у Л. Виттгенштейна: “Представьте себе ящик с инструментами: здесь есть молоток, плоскогубцы, пила, отвертка, линейка, гвозди и шурупы. Функции слов столь же различны, как и функции этих предметов (Но между ними есть и сходство). Конечно, нас может смутить привычная внешность слов, когда мы слышим их произношение или видим их написанными или напечатанными. Ибо их применение дано нам не столь очевидно” (1972; цит. по: Дж. Верч, 1996, с. 121). И это действительно так. С помощью этих “воздушных” орудий человек создаст не только воздушные замки. Такими же орудиями являются не только символы, слова, но и знаки. Поманили, в лучшем случае ничего не произошло. Манок ведь — пустышка. В худшем — поманили — заманили... Следующий, после П. А. Флоренского, шаг в развитии идеи орудийности, инструментальности человеческого поведения и деятельности был сделан Л. С. Выготским, который ввел различение материального и психологического орудия. Последнее направлено на самого человека (см. главу 1). Вернемся к форме. Орудие, слово, символ, знак — все они имеют свою внешнюю форму, которая может быть вполне вещественной, графической или “воздушной”. Но, кроме того, все они имеют и свою внутреннюю форму. В общем случае — это значение и смысл. Всякий разумный текст имеет свой подтекст, суметь прочесть который, порой, более трудно и важно, чем текст. Однако внутренняя форма — это не только смысл. Смысл конкретизируется в значении, в образе, в действии и т. д. Понятно, что внешняя и внутренняя формы не совпадают одна с другой, между ними нет взаимно однозначного соответствия. Иначе не было бы нужды в этих понятиях. Но определенные генетические и функциональные связи между ними существуют. Эти связи не простые, они опосредствованы чем-то третьим. Выше уже шла речь о том, что вещь и идея связаны между собой посредством символа. Эта связь по рождению, так сказать, кровная. Именно от символа берут свое начало вещи, идеи, да и сам человек. Эти связи становятся не такими очевидными, наглядными, как в культовых орудиях, но они есть. Этнографы, например, знают, что агрокультура имеет культовое происхождение, которое перестало быть заметным, когда она превратилась в агротехнику, потеряв культуру. Такая трансформация имеет, наряду с плюсами, и очевидные минусы, которые здесь не место обсуждать. Все сказанное выше позволяет придти к простому заключению. Человеческий предмет, вещь, инструмент имеет внешнюю форму. Это очевидно и не требует доказательств. Но он же имеет и внутреннюю форму. Это — его назначение, значение, идея, в пределе — душа предмета, душа утвари. М. М. Бахтин говорил, что есть вещи чреватые словом. Справедливо и обратное. Идея, замысел, смысл может рассматриваться как внешняя форма. Но это не “воздушное ничто”. Она в качестве внутренней формы имеет предмет, вещь, инструмент, действие с ними. В определениях мысли, идеи всегда подчеркивается их предметность, во всяком случае, их предметное и действенное происхождение. Поэтому и только поэтому идея может воплощаться, а предмет, действие с ним может осмысливаться. Понятие внутренней формы не должно вводить в заблуждение. Она ведь невидима, как обратная сторона Луны. Но дело еще сложнее. У директивного знака внутренняя форма достаточно проста и не допускает альтернативного толкования. У слова иначе и богаче, а символ вообще допускает множество интерпретаций. Его внешняя, видимая форма может быть крайне элементарна, а внутренняя — бесконечна. И проблема состоит в том, чтобы открыть, увидеть внутреннюю форму, проникнуть за внешнюю оболочку символа, научиться ориентироваться во внутренней форме, а значит и усвоить ее, сделать ее своей. Это открытие или бесконечное число открытий внутренней формы происходит в совместной, совокупной деятельности ребенка со взрослыми. Последний выполняет роль главного посредника между внешней и внутренней формами (см.: Эльконин Б. Д., 1994). Невидимая вторая половина символа, в отличие от первой, видной всем, прорастает в какие-то глубины сознательной жизни, часто неведомые нам самим (см.: Мамардашвили М. К., 1995, с. 373). Психологи называют такой процесс интериоризацией, становлением внутреннего мира человека. Если такое прорастание не происходит, человек, по словам Ф. Ницше, оказывается полым. Отсюда можно вывести уже почти само собой разумеющееся следствие. Внешняя и внутренняя формы обратимы, т. е. могут трансформироваться одна в другую. В философии имеется понятие “форма превращенная”, в культуре, в психологии — понятие “форма извращенная”. Оператором превращения форм является деятельность человека, прежде всего деятельность с символами. Взаимоотношения и обратимость внешней и внутренней форм показаны на рис. 11. Рассмотрим другие пары, указанные на нем. Следующей за инструментом и идеей идет пара “слово и действие”.

Рис. 11. Обратимость внутренней и внешней форм человеческих сущностей.
Выше приводилась краткая характеристика внутренней формы слова, детально описанная Г. Г. Шпетом не только в работе, на которую была дана ссылка, но и в специальной книге “Внутренняя форма слова”, опубликованной им в 1927 г. Спустя почти 10 лет Дж. Остин, едва ли знакомый с трудами Шпета, ввел понятие о слове – действии, которое он назвал перформативом. У нас аналогичные идеи развивал В. А. Артемов. В их работах приведено достаточно оснований для того, чтобы считать действие важнейшим компонентом внутренней формы слова. Последнее несет в себе энергию действия. Я не могу представить читателю внутреннюю форму слова во всей ее полноте и во всем богатстве связей, существующих между ее компонентами. Это задача психолингвистов, специалистов в области когнитивной психологии, информатики, компьютерной науки. Для решения обратной задачи — демонстрации слова как внутренней формы действия — также имеются основания. В психологии слово — наряду с ощущениями и образами — издавна рассматривалось как регулятор произвольных движений и действий. Имеется богатая традиция, связанная с именами Н. А. Бернштейна, А. В. Запорожца, А. Р. Лурия и др. А. В. Запорожец ввел понятие внутренней картины движения. Здесь так же, как и в первом случае, слово выступает лишь в качестве одного, хотя и важнейшего компонента внутренней формы действия. Рассмотрим классическую пару: слово и действие (дело). Мы можем легко представить, что действие — это внешняя форма, а слово — внутренняя. В самом деле, если действие произвольно, целесообразно, то в его внутреннюю картину (форму) обязательно входит слово. Оно выступает в разных ипостасях: как средство планирования интегральной программы действия, средство контроля за эффективностью реализации этой программы, как средство фиксации полученного в действии результата. Я уже не говорю о том, что исполнительное предметное или инструментальное действие настолько насыщено когнитивными, в том числе рефлексивными компонентами, входящими в его внутреннюю форму, что приходится только удивляться, что в нем еще остается место для собственно моторной исполнительной части (Гордеева Н. Д., 1995). Напомню, что в традиции психологической теории деятельности перцептивные, мнемические, мыслительные компоненты сами рассматриваются как внутреннее движение, как особые психические действия. Аналогичным образом и социальное действие — поступок содержит в себе моральные и нравственные компоненты. Л. С. Выготский в анализе “Гамлета” описал внутреннее строение, внутреннюю картину катастрофического действия, в том числе внутреннее движение, ведущее к нему. Говоря о японской танке, О. Мандельштам подчеркивал, что она, будучи атомистическим искусством, сама есть мир и постоянное внутреннее вихревое движение внутри атома (Мандельштам О. Э., 1990, с. 199). Несколько лет спустя А. А. Ухтомский характеризовал работу функциональных органов (доминанта, интегральный образ) как вихревое движение Декарта. С не меньшими основаниями мы можем представить, что слово — это внешняя форма, особенно если вспомним при этом, что “Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 223). Если слово — не звук пустой, а наполненно смыслом, предметно и активно, то в его внутреннюю форму обязательно входит действие; а также сюда входят, наряду с вербальными значениями, значения операциональные, манифестирующие себя, в частности, в идеомоторных движениях. Оно само может замещать действие, быть эквивалентным ему. Например, предложение руки и сердца — это не просто информация, содержащаяся в высказывании. Это действие, акт, поступок, перформатив. Задолго до Остина С. Эйзенштейн назвал голос звуковой конечностью, т. е. средством ближнего или дальнего действия. Если оставить в стороне случаи полного функционального совпадения слова и действия и обратиться к обычному осмысленному высказыванию — слову, то оно имеет не менее богатую внутреннюю форму, чем действие. Разумеется, ее составляющими выступают и “образ мира, в слове явленный” (Б. Пастернак), и различные не только когнитивные, но и исполнительные акты. Прямым свидетельством последних являются словесно вызываемые моторные установки, в их числе и позы, готовящие индивида к совершению тех или иных исполнительных актов. Посредством слова индивид осуществляет целеполагание, становится свободным. Истинно свободное слово самодостаточно, оно не нуждается ни в каких внешних подпорах (авторитетах), оно богато своим собственным внутренним содержанием, своей силой, убедительностью и действенностью. Свободное действие и свободное слово имеют богатое, а не скудное внутреннее пространство или, как сказал бы О. Мандельштам, “пространства внутренний избыток”. Этот избыток является условием автономии, свободы и достоинства личности. Благодаря избыточности внутренних форм именно они являются источником порождения нового, в том числе новых культурных форм, а не только местом, где ассимилируются, “присваиваются”, интериоризируются уже существующие. Не это ли внутреннее пространство, не эти ли внутренние формы человеческой деятельности имел в виду О. Мандельштам? Нам четырех стихий приязненно господство; Но создал пятую свободный человек. Не отрицает ли пространства превосходство Сей целомудренно построенный ковчег? Человеческий дух, душа, сознание — суть действительно стихия. Однако обращение к этой стихии требует свободы: Душу от внешних условий Освободить я умею, Пенье — кипение крови Слышу и быстро пьянею. (Не потому ли я так настойчиво возвращаюсь к сюжету свободы, будто это может компенсировать ту несвободу, во время которой жили мои учителя, а некоторая се доля досталась и их ученикам?) Думаю, что читателю понятно, что действие, выступает ли оно в своей внешней форме или в превращенной внутренней входящей в ткань слова форме, не перестает оставаться действием. Равным образом и слово, выступая в роли внутренней формы действия, остается самим собой. При таком взгляде на действие и слово устраняется вопрос о том, что первично. Даже если мы примем, что слово — это Бог, то Бог ведь Создатель, Деятель. Слово — это текст, но ведь действие это тоже текст, который мы учимся читать. Иное дело, что мы, освободив себя от необходимости принимать решение о том, что первично, что вторично, сохраняем в полном объеме задачу решения проблем сложной динамики взаимоотношений между действием и словом. Главным в этих взаимоотношениях является то, что слово участвует в формообразовании действия, а действие в формообразовании, может быть, точнее — в смыслообразовании слова. Будучи самостоятельными, они непредставимы друг без друга. (Я оставляю в стороне патологическую, равно как и идеологически заданную диссоциацию действия и слова.) Рассмотрим следующую пару понятий на рис. 11: человек и имя. В этом случае нарочито взят вовсе неочевидный пример. Его можно понять и принять, если в качестве живого рассматривать не только человека, но и обозначающее его слово – имя. Подобный подход к слову вообще и к имени в особенности развивался в 20-е годы настоящего столетия выдающимся русским философом А. Ф. Лосевым. Как и Г. Г. Шпет, он анализировал внутреннюю жизнь слова, пытался проникнуть в нее через звуковую оболочку. В значении он усматривал подлинную сущность слова, отмечая, что фонема — лишь внешний знак, хотя и он несет на себе энергию нефонематических его пластов (Лосев А. Ф., 1993, с. 636). Лосев видел тайну слова в общении с предметом и в общении с другими людьми: “Слово есть выхождение из узких рамок замкнутой индивидуальности. Оно — мост между “субъектом” и “объектом”. Живое слово таит в себе интимное отношение к предмету и существенное знание ею сокровенных глубин... Имя предмета — арена встречи воспринимающего и воспринимаемого, вернее познающего и познаваемого. В имени какое-то интимное единство разъятых сфер бытия, единство, приводящее к совместной жизни их в одном цельном, уже не просто “субъективном” или просто “объективном” сознании. Имя предмета есть цельный организм его жизни в иной жизни, когда последняя общается с жизнью этого предмета и стремится перевоплотиться в нее и стать ею. Без слова и имени человек — вечный узник самого себя, по существу и принципиально антисоциален, необщителен, несоборен и, следовательно, также и не индивидуален, не-сущий, он — чисто животный организм или, если еще человек, умалишенный человек” (там же, с. 642). Это значит, что у человека есть потребность в имени. Замечательно об этом говорил У. Блейк: Мне имя дай Ведь мне всего два дня. Может быть, такая ранняя локализация во времени потребности младенца в имени — не столь уж смелое утверждение поэта. У Мандельштама на имя претендует даже комариная заноза: Не забывай меня, казни меня, Но дай мне имя, дай мне имя: Мне легче будет с ним — пойми меня... Далее А. Ф. Лосев еще более усиливает мотив ЖИВОГО слова, ЖИВОГО имени: “Имя в настоящем смысле всегда собственное, а не нарицательное имя. Имя есть имя ЖИВОЙ вещи. Имя само всегда живо. Имя — порождение живых взаимообщающихся личностей. Имя вещи есть орудие общения с нею как с живой индивидуальностью... Смысл имени есть живой и индивидуальный смысл личности. Имя — откровение личности, лик личности, живая смысловая энергия жизненно самоутвержденной индивидуальности. Имя — не название, не простое слово и не термин, не вывеска, не внешний знак, не условный символ. Имя — личностный символ, орудие индивидуально-личных взаимообщений” (там же, с. 820, 821). В нашей терминологии имя — это функциональный орган, артефакт, являющийся одновременно порождением и условием межличностных взаимоотношений. Человек и имя взаимоодушевляют друг друга, перевоплощаются одно в другое. Лосев говорит, что дело вовсе не в том, правильно или неправильно дано имя, а том, что имя, раз оно дастся, несет за собой интерпретацию предмета в смысле одушевления. Согласно Лосеву, имя выполняет совершенно особую функцию по отношению к внешнему и внутреннему, являясь их демиургом: “Именем скреплено, освящено и даже создано решительно все, и внутреннее и внешнее. Без имени мир превратился бы в глухую бездну тьмы и хаоса, в которой никто ничего не мог бы ни различить, ни понять и в котором не было бы и НИКОГО и НИЧЕГО. С именем мир и человек просветляется, осознается и получает самосознание. С именами начинается разумное и светлое понимание, взаимопонимание и исчезает слепая ночь животного самоощущения” (там же, с. 880). И, наконец, А. Ф. Лосев превосходно формулирует смысл и своего рода механизм обратимости внешней и внутренней форм, механизм, имеющий отношение ко всем парам, представленным на рис. 11. “В антиномической игре сущности и имени, когда обе эти сферы раз навсегда различены и раз навсегда отождествлены, когда сущность исчезает в имени, чтобы тем самым себя утвердить, и когда имя тонет в сущности, чтобы тем самым себя проявить — в этой вечной и чудесной смысловой игре абсолютного с самим собой и со всем инобытием и заключается последняя тайна именования. Наши повседневные судьбы именования суть только подобие” (там же). Надеюсь, что читатель получил убедительную аргументацию в пользу предложенного хода мысли о возможности рассмотрения человека и имени как обратимых внешней и внутренней форм. Для того чтобы обратимость могла осуществляться, обе формы должны быть живыми формами. Выражаясь модным языком физики, они должны быть взаимодополнительными. Они не могут существовать одна без другой. Если такое случается, то они превращаются в нечто иное. Имя также может рассматриваться как артефакт, но не натуральный, а культурный, т. е. как артефакт второго (а возможно самого высшего) рода. Оно является порождением межиндивидной, совокупной деятельности, продуктом и условием межличностного общения. Я, конечно, понимаю, что приведенные отрывки из размышлений философа А. Ф. Лосева нуждаются в психологической интерпретации. Надеюсь, это дело недалекого будущего, поскольку развитие проблематики философии и психологии имени может привести к неожиданным поворотам в области психологии личности и межличностных отношений. Попробуем распространить такой способ анализа на проблему взаимоотношений тела и души. Есть большой соблазн рассматривать тело как внешнюю форму, а душу как внутреннюю. Душу локализуют в мозгу, в сердце, она кочует по телу, уходит в пятки. Известны поэтические образы: душа в теле, как птичка в клетке. В. А. Лефевр уточняет этот образ, делает его более эвристическим: не птичка в клетке, а птичка плюс клетка, т. е. душа может быть и там, и там. Преимущество этого образа состоит в том, что душане инкапсулируется в теле, не вживляется в него, а выступает как относительно автономное образование, которое может описываться, изучаться без апелляции к анатомическому субстрату, к законам физиологии. Слабость этого образа состоит в жесткости и пассивности клетки. Феномен телесности сейчас уже не может быть сведен к организмической функциональности, т. е. к телу как к биофизическому объекту или к телу — машине Декарта – Ламетри. Тело трактуется или, лучше сказать, оживляется, интегрируется как континуум квазителесных действий, и именно этот континуум создает наше отношение к миру, к самим себе и к телу другого. Во всяком случае ни Э. Гуссерль, ни М. Мерло-Понти, ни П. Флоренский не усматривали в телесности лишь одни из терминов в оппозиции душа – тело, сознание – тело, язык – тело. Тело в современных исследованиях обретает значение, которое больше не может определяться классическими оппозициями. Оно само представляет то “третье” (обещанный синкрет), что стирается в них. Но это именно то, что лежит в основании нашего опыта, приобретаемого в мире. Специальные исследования, на которые я ссылался выше, показывают, что в движениях живого тела (или в живом движении) души не меньше, чем тела. Напомню пушкинское: Узрю ли русской Терпсихоры Душой исполненный полет. Признание души внутренней формой тела освобождает нас от проблемы ее локализации. Она, как и всякий функциональный орган, должна быть экстрацеребральной, экстрателесной, что не мешает ей, как и сознанию, обладать квазителесными свойствами. Благодаря этим свойствам, душа в такой же мере может рассматриваться как внутренняя форма тела, в какой она же может рассматриваться как внешняя форма. В последнем случае тело оказывается внутренней формой души. (Фома Аквинский говорил о душе не как о форме, а как о принципе, обусловливающем форму и бытие тела. Но смысл остается тем же.) Сказанное, возможно, покажется менее одиозным и скандальным, если учесть, что образ телесности как чувственно-сверхчувственной ткани сейчас становится общепризнанным в ее философских трактовках. Им соответствуют и давние представления Н. А. Бернштейна о живых движениях, которые он уподоблял паутине на ветру. Обратную этому метафору мы находим у О. Мандельштама: “Световые формы прорезаются как зубы” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 219), т. е. зрительные образы поэт наделяет вполне осязаемыми телесными формами. Душа, психика, сознание лепят движение, действие, поступок. Тем самым душа лепит и тело: “Внутренний образ стиха неразлучим с бесчисленной сменой выражений, мелькающих на лице говорящего и волнующегося сказителя” (там же, с. 216). Это о поэте-сказителе. А вот что о читателе: “Стихи Пастернака почитать — горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие: такие стихи должны быть целебны для туберкулеза. У нас сейчас нет более здоровой поэзии. Это кумыс после американского молока” (там же, с. 210). В итоге проведенного анализа можно заключить, что взаимоотношения души и тела аналогичны описанным взаимоотношениям действия и слова. Для первых, как для вторых, утрачивает смысл проблема первичности, примата, что не уменьшает предстоящей сложности исследования таких взаимоотношений. Мне важно было подчеркнуть не только активную, но и творческую роль души по отношению к телу и его проявлениям. В человеческой душе, как и в поэзии, “в которой все есть мера и все исходит от меры и вращается вокруг нее и ради нее, измерители — суть орудия особого свойства, несущие особую активную функцию. Здесь дрожащая компасная стрелка не только потакает магнитной буре, но сама ее делает” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 219). Рассмотрение души и тела как обратимых внешней и внутренней форм — это бесконечный сюжет, в развитии которого наука оказалась достаточно щедрой. Мы знаем примеры их отождествления, абсолютного различения, сведения или редукции одного к другому, выведения одного из другого, инкапсуляции души в теле или в каком-либо из его органов. Словом, имеется полный простор для фантазии. Наиболее достоверным в рассуждениях об их взаимоотношениях является то, что дух, душа не только влияют на тело, но и зависят от последнего. Мне кажется, что дальнейшее манипулирование этими зависимыми или независимыми сущностями малопродуктивно с научной точки зрения, хотя на практике оно может продолжать приносить более или менее полезные результаты. Сказанное справедливо и в том случае, если мы ограничимся лишь использованием по отношению к ним терминов внешней и внутренней формы и постулирования их обратимости. Но этого явно мало. Здесь нужно предложить (или вспомнить) какой-то иной ход мысли, для того чтобы механизмы обратимости (или игры, как у А. Ф. Лосева) приобрели конкретные основания и очертания. Другими словами, нельзя ли найти нечто, что одинаково хорошо не только репрезентирует, но и составляет сущность души и тела. На мой взгляд, таким нечто является живое движение. Это было известно еще Плотину: “Действительно, почему красота живого лица ослепительна, а на мертвом лице остается лишь след ее?.. Даже некрасивое живое лицо красивее, чем прекрасная статуя... Если душа остается на уровне Ума, то она, конечно, видит прекрасные и достойные формы, но она еще не получает всего, что ищет. Тогда это — как если бы перед ней было лицо, без сомненья прекрасное, но не радующее глаз, ибо в нем нет еще того, что притягивает взгляд: соединения красоты с грацией”. Пьер Адо, из книги которого взяты эти строки комментирует: “Слово произнесено: это “нечто” — это движение, это жизнь, которые соединяясь с красотой, вызывают любовь, — есть грация (grace)”. П. Адо приводит высказывание, принадлежащее А. Бергсону: “Не зря называют одним словом очарование, которое проявляется в движении, и акт великодушия (я бы сказал акт живого движения души. — В. З.), свойственный Божественной добродетели, — оба смысла слова “grace” составляли одно…” (Адо П., 1991, с. 51—53). 259 П. Адо обсуждает вслед за Ф. Равэссоном и А. Бергсоном двоякость смысла слова “grace”. Оно означает, с одной стороны, движение, жизнь, очарование, а с другой, — “печать Блага”, благодать, великодушие... Здесь же Адо приводит и высказывание А. Бергсона о том, что “Красота — это только застывшая грация” (там же, с. 63). Это похоже на определения Шлегелем музыки как текучей архитектуры и архитектуры как застывшей музыки. Аналогичным образом можно интерпретировать анализ Р.-М. Рильке творчества О. Родена. Он писал, что человеческое тело остается для Родена целым, лишь пока некое общее (внутреннее или внешнее) действие держит в напряжении все его члены и силы... У Родена тело сплошь состоит из арен жизни, жизни повсюду, способной на своеобразие и величие. Мы таким образом плавно переходим от души к телу. Движение является таким же формообразующим принципом тела, как и души. Приведем давние размышления И. Ранке, который уподоблял наше тело живой волне: “Для естествоиспытателя всякая форма есть движение; движение есть причина образования всякой формы, и наши чувства в состоянии дать нам представления только о движении... Тело человека давно уже называли ПЕСНЬЮ ПЕСНЕЙ зиждительной природы” (Ранке И., 1901, с. 3, 4). Это размышление вполне сопоставимо с замечанием О. Родена: “...главная задача художника — вылепить живую мускулатуру... Для того, кто умеет видеть, обнаженное тело представляет роскошный смысл” (Роден О., 1913, с. 162, 163). А. К. Горский, комментируя эти высказывания О. Родена, пишет, что “...подавляющее большинство публики и критиков ВИДЕТЬ не умеют. Оттого всегда ищут НЕВИДИМОГО, отвлеченного от тела, бестелесного, духовного смысла. На деле же каждое очертание, если оно конструктивно в отношении организма, т. е. заключает в себе телопостроительные линии, тем самым уже чревато множеством возможных сюжетов и смыслов, вьющихся вокруг “плоти” и “духов” (Горский А. К., 1993, с. 279). А. К. Горский не обошел вниманием и проблему души. Он приводит определение души, данное древним музыкантом-философом Аристоксеном — учеником Аристотеля, согласно которому, душа и есть не что иное, как напряженность, ритмическая настроенность телесных вибраций (там же, с. 256). Нужно сказать, что подобные представления философов, художников, искусствоведов разделяются и учеными. Ч. Шеррингтон локализовал элементы памяти и предвидения не в мозгу, а в движении и действии. Попробуем представить себе наглядную логику, которую использовал А. Ф. Самойлов, оценивая научные заслуги И. М. Сеченова. Согласно К. А. Тимирязеву, лист есть растение. Казалось бы, это нонсенс. Ведь у растения есть корни, плоды, ствол, ветки и т. д., но Тимирязев прав, так как лист концентрирует, или комплицирует в себе все свойства растения. Согласно И. М. Сеченову, мышца есть животное. Тоже нонсенс? Ведь у животного есть, кроме этого, скелет, сосудистая, нервная системы и пр. Но мышца, как и лист, концентрирует в себе все свойства животного. Продолжим эту логику. Что есть душа? Телесный организм занят. Может быть, она есть живое движение? Именно в нем Шеррингтон локализовал ее атрибуты — память и предвидение. Заметим, что это не философские измышления, к которым часто (и по большей части несправедливо) испытывается недоверие. Это размышления замечательных естествоиспытателей. Наконец, приведем абсолютно гуманитарный аргумент “овнешненности” души. М. М. Бахтин сказал, что “Душа — это дар моего духа другому”. Было бы, что дарить! Но если есть, то чем больше даришь, тем больше остается. Да, и подарок должен быть, если не вещественным, то хотя бы квазивещественным и существенным, а не оставаться в глубине души. Не будем умножать примеров, когда и душа, и тело характеризовались и определялись посредством различных форм моторной активности (грация, живое движение, телесные вибрации, живая волна и т. д.). При этом речь не идет о том, чтобы полностью редуцировать и тело, и душу к движению. Важно подчеркнуть, что движение является их живой субстанцией. Ее наличие позволяет рассматривать душу и тело в их взаимоотношениях то как внешнюю, то как внутреннюю формы. Разумеется, возможны и были опробованы и другие ходы мысли. Романтические философы XVIII в. Новалис и Шлегель искали “место души там, где соприкасаются внешний и внутренний миры, где они проникают друг в друга. Оно в каждой точке проникновения” (см.: Вайнштейн О., 1994, с. 37). Напомним, в связи с этим, что установление таких точек соприкосновения само по себе составляет проблему. В любом случае понимание того, что такое душа, должно опираться на представления о живом веществе и живом движении в пространстве и времени. Из них она, разумеется, прямо не выводима. Далее мы попробуем более конкретно указать точки, если и не ее возникновения, то ее возможного роста и развития. Посмотрим на рис. 11 в целом. На нем представлены, на первый взгляд, совершенно разнородные пары. Их число легко может быть увеличено. Например, можно ввести пару “человек — предмет”, и это будет вполне осмысленно, хотя и бесчеловечно. Но взгляд на человека как на материал, как на вещь, на функцию, на программируемый автомат, на компонент, фактор достаточно распространен, и немало любителей и профессионалов манипулируют людьми значительно более успешно, чем инструментами и вещами. Нередко и отношение человека к самому себе трудно назвать гуманным. Ведь на самом деле так называемая рабовладельческая формация в истории человечества никогда не начиналась и никогда не кончалась. Рабство в большей или меньшей степени было и есть всегда. Человек — раб вещей, обстоятельств, властей предержащих, идеи, идеологии, своих страстей, привязанностей и привычек. Даже, когда есть свобода выбора, он далеко не всегда выбирает в пользу свободы. Он предпочитает не рисковать, не испытывать судьбу, не ставить ее на карту. Если отвлечься от морализирования и вернуться к представленным на рис. 11 парам, то в некоторых из них обращает на себя внимание различное сочетание живого и неживого, объективного и субъективного. Первая и последняя пары (“инструмент – идея” и “тело – душа”) вообще полярны. Первые можно интерпретировать как неживые, объективные, вторые — несомненно живые, хотя в философско-психологических традициях тело принято рассматривать как нечто объективное, душу — как субъективное. Пары “слово – действие” и “человек – имя” можно рассматривать как вполне объективные. Но если принять положение об элементах пар как обратимых внешних или внутренних формах, то приписывание им свойств объективности — субъективности вообще теряет смысл. Несколько сложнее со свойствами живое – неживое, хотя, как минимум, метафорически мы можем говорить о живом применительно к слову, имени, даже к предмету и инструменту. По поводу “живости” слова Н. В. Гоголь в “Мертвых душах” писал вполне предметно, а не метафорически: “Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное русское слово”. Если вернуться к прозе жизни, то следует признать осмысленность проблем “очувствления” роботов, создания искусственного интеллекта. Шахматные программы уже начали побеждать чемпиона мира. Если бы такое случилось лет 20 тому назад, было бы много разговоров о триумфе искусственного интеллекта. Сегодня же это вызвало лишь естественное огорчение чемпиона и столь же естественную радость создателей программы. Важно понять, что вес формы, о которых идет речь, являются живыми, развивающимися, как минимум, одушевленными, добавим еще одну черту — культурными формами. Конечно, психологически легче признать виолончель, компьютер живыми формами, чем, например, топор. Ведь когда о кресте говорят, что он живой, даже животворящий, или когда электрон наделяют свободой воли, почему-то это воспринимается с большим доверием. Не надо забывать, что и у человека бывает безжизненное тело, замерзшая душа. На вершине треугольника, в котором размещены рассмотренные пары, находится символ Янь-Инь. Он выбран не только потому, что он не несет, во всяком случае явного и привычного, теологического смысла. Янь-Инь — китайский символ двойственного распределения сил, включающий активный (мужской) и пассивный (женский) принципы. Светлая половина представляет силу Янь, а темная — Инь. Но каждая из половин включает в себя кружок, вырезанный из середины противоположной половины, тем самым символизируя то, что каждый из модусов должен содержать в себе зародыш своей противоположности. Этот символ интерпретируется и таким образом, что в нем сведены воедино противоположности, что он порождает вечное движение, метаморфозы и непрерывность ситуации, для которых характерна противоречивость. Символ выражает также две уравновешивающие друг друга тенденции к эволюции и инволюции. Другими словами, Янь-Инь удачно символизирует возможность обратимости внешней и внутренней форм элементов пар, приведенных на рис. 11. Совершенно ясно, что трансформации одной формы в другую совершаются не автоматически. Кроме посредника-медиатора, символом которого может быть не только Янь-Инь, необходимо еще реальное преобразование или опосредствующее, посредническое действие. Необходим оператор преобразования, о котором речь пойдет немного позже. Заключая характеристику обратимости внешних и внутренних форм, сделаем одно замечание. Введение понятий внешней и внутренней форм не означает отрицания традиционного различения внешнего и внутреннего. С языком не поспоришь. Он говорит нам, что у некоторых людей есть внутренний стержень или внутренняя свобода. Общеизвестно: то, что впереди нас и позади нас, ничто по сравнению с тем, что внутри нас. Внешняя и внутренняя формы есть живые формы. Они получают свою жизненность от взаимоотношений и взаимодействия друг с другом. Каждый акт обратимости содействует не только их дифференциации и совершенствованию, развитию каждой из них в отдельности, но и их интеграции, т. е. целостности человека. Целостность человека наиболее отчетливо выступает в переживании, в действии, в поступке. Акты обратимости и интеграция форм — это путь к “собиранию себя”, к человеку собранному. Сказанное не противоречит тому, что каждая из форм может жить относительно автономной жизнью: “Внутренняя жизнь, как и внешняя данность человека — его тело — не есть нечто индифферентное к форме. Внутренняя жизнь — душа — оформляется или в самосознании, или в сознании другого, и в том и в другом случае собственно душевная эмпирика одинаково преодолевается. Душевная эмпирика как нейтральная к этим формам есть лишь абстрактный продукт мышления психологии. Душа есть нечто существенно оформленное. В каком направлении и в каких категориях совершается это оформление внутренней жизни в самосознании (моей внутренней жизни) и в сознании другого (внутренней жизни другого человека)?” (Бахтин М. М., 1995, с. 70). Изложение ответа М. М. Бахтина на поставленный им вопрос далеко выходит за пределы настоящего изложения. Отсылаем читателя к автору. Однако в следующей главе при анализе проблемы роли другого в оформлении собственной души мы используем мысль М. М. Бахтина о том, что “человек, вообще, уравнение я и другого”.
ГЛАВА 4 КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ПОИСКАХ ДУХОВНОСТИ
4.1. Об опыте религиозно-философского исследования духовности С таким же исступлением, как раньше В себе стремился выжечь человек Все то, что было плотью, так теперь Отвсюду вытравлял заразу духа, Охолощал не тело, но мечту, Мозги дезинфицировал от веры, Накладывал запреты и табу На все, что не сводилось к механизму: На откровенье, таинство, экстаз... (М. Волошин) Повторю мысль, которой завершалась вторая глава: наука, исследующая разум и оставляющая за рамками изучения дух, не имеет шансов разобраться и в разуме. Максимум, на что она способна, это прийти к искусственному или, что то же самое, — к “инвалидному” интеллекту, поскольку она игнорирует действительную природу разума. Ибо разум есть реализация духа. Также и культура, по словам Г. Г. Шпета, — это рождение, преображение и возрождение духа: “Только дух в подлинном смысле реализуется, — пусть даже материализуется, воплощается, воодушевляется, т. е. осуществляется в той же природе и душевности, но всегда возникает к реальному бытию в формах культуры. Природа просто существует, душа живет и биографствует, один дух наличествует, чтобы возникать в культуру, ждет, долготерпит, надеется, все переносит, не бесчинствует, не превозносится, не ищет своего... Дух — не метафизический Сезам, не жизненный эликсир, он реален не “в себе”, а в признании. “В себе” он ТОЛЬКО познается, он ТОЛЬКО идея. Культура, искусство — реальное осуществление, творчество. Дух создается. Без стиля и формы — он чистое и отвлеченное не-бытие... Дух ждать не устанет он переждал христианство, переждет и теперешний после-христианский разброд. Но мы-то сами, конечно, уже устали. Недаром умы наших современников иссушаются восточной мудростью, недаром нас оглушает грохот теософической колесницы, катящей жестокую Кали, недаром беснуются ее поклонники, душители разума. Это их последнее беснование” (Шпет Г. Г. 1922, с. 39, 40). Пожалуй, кроме общего чрезмерно объективистского понимания духа, нельзя согласиться лишь с последней фразой. Еще 70 лет продолжалось беснование идеологии, которая иссушала умы и душила разум и жизнь. Обратите внимание на слова о христианстве. Г. Г. Шпет пишет, что христианская метафора духа — любовь. Он замечает, что дух — источник всяческого, в том числе и любви. Опущу саркастические, в типичном для Шпета стиле, сомнения в справедливости отождествления христианства с любовью. Я просто хочу сказать, что ни наука, ни философия, ни религия не обладают монополией на изучение природы духа. Иное дело, что у теологии имеется огромный опыт в познании духа, а современной науке полезно вначале хотя бы его признать! Как метко заметил австрийский психолог-экзистенциалист Виктор Франкл, “глубинная психология забывает, что ее противоположностью является не поверхностная, а вершинная психология” (Франкл В., 1990, с. 105). Сейчас и у нас появилась легальная возможность (осознанная необходимость существовала давно) движения к “вершинной психологии”, которая, согласно Л. С. Выготскому определяет не глубины, а вершины личности. Но движение к ним “снизу”, лишь со стороны предметной деятельности или со стороны фрейдовского Оно, как бы ни была важна их роль в развитии человека, не только бесплодно, но и опасно. Такое движение неотвратимо приводит к человеку-машине, к искусственному интеллекту, к искусственной интеллигенции, к интеллектократии, наконец, к пока еще утопической ноократии. Показательным примером столь опасной эволюции служат труды американского психолога Б. Ф. Скиннера. Движение снизу обязательно должно быть дополнено движением “сверху” и притом не только со стороны разума, но и со стороны Духа. Психологи, которые поставят себе такую цель, должны будут погрузиться в духовный опыт человечества с тем, чтобы расширить свое сознание и укрепить собственный дух. Для этого полезно отнестись к нижеследующим рядам, к счастью, сохранившимся в культуре и забытым психологией, словосочетаний не как к странным и само собой разумеющимся метафорам, а как к предмету серьезных научных размышлений и исследований. Итак, первый ряд, назовем его оптимистическим, вдохновляющим или духотворящим: Духосфера, Духовная вертикаль, Духопроводность, Духовная субстанция, Духовное материнство, Духовное лоно, Духовная близость, Духовные потенции, Духовный организм, Духовная конституция, Духовный генофонд, Духовная установка, Духовный фон, Духовное начало, Духовная опора, Духовные устои, Духовная ситуация, Духовное зеркало, Духовный облик, Духовное здоровье, Духовное равновесие, Духовное единство, Духовное измерение. Духовная красота, Духовный взор, глаз Духовный, Духовный нерв, Духовный свет, Духовное обоняние, Духовная жажда, Духовный поиск, Духовное руководство, Духовные способности, Деятельность Духа, Духовное производство, Духовное оборудование, Духовная мастерская, Духовный уклад, Духовная ситуация, Духовные упражнения, Деятельность Духа, Сила Духа, Духовное развитие, Духовный рост, Духовное общение, Духовный подвиг, Духовный расцвет, Духовное наследие, Памятник Духа, Духовное царство, память Духа, Печать духа, культура Духа, Духовная щедрость, Духовная родина, Духовное самоопределение, Духовное самоотречение, Духовная аскеза, Духовное величие, Духовное бытие, Духовная жизнь... Этот ряд, конечно, впечатляет, но не следует обольщаться: Дух бессердечен — Логос безбожен. Авель беспечен — Каин возможен. (А. Аргутинский-Долгорукий) Более того, возможно и такое вопиющее явление как Авель убивающий (Ю. И. Айхенвальд). Обратимся ко второму ряду, назовем его пессимистическим или, точнее, трагическим: духовный аристократизм, духовная слабость, духовное неплодие, духовное искушение, духовное блудилище, духовная спячка, нечистый дух, злой дух, духовный идол, духовное насилие, духовный геноцид, духовный кризис, духовная капитуляция, духовное рабство, нищета духа, духовное ничтожество, духовный маразм, духовное самообнажение, духовный разброд, духовная преисподняя, духовное небытие, духовная смерть... За этими, разумеется, неполными перечнями стоит не столько феноменология, сколько онтология (анатомия, физиология, реальные средства, инструменты и функции) духа, зафиксированная в языке, в искусстве, в религии, в бытийных слоях народного сознания, в народной памяти и поведении. От этого богатства на многие десятилетия отказалась научная психология, впрочем, не только отечественная. Поскольку природа духа есть свобода, или, по определению В. Франкла, “духовное и есть свободное в человеке”, то игнорирование духа — это одна из причин, может быть даже главная, капитуляции психологии перед явлением свободы, будь то свободная воля, свободное действие или свободная личность. Краткость второго ряда в приведенных перечнях вовсе не означает, что скрывающаяся за ним онтология слабее той, которая скрыта за первым. Возможно, она даже и слабее, поскольку рано или поздно обнаруживается внутреннее и конечное бессилие энтузиазма и энергии зла. Поэтому она значительно более нетерпелива, агрессивна, коварна, каверзна, пользуется незаконными приемами, далеко выходящими за пределы духовных распрей. А Дух долго терпит! Страшится попасть во второй ряд. Я привел эти перечни, поскольку все должно быть названо, поименовано, без этого не может быть сознательного пересмотра себя, самопроверки, самоосуждения. Не может быть ни смирения, ни преодоления гордыни и самообожения, ни подвижничества, ни личного и общественного покаяния. Наконец, без этого не может быть ни возрождения, ни выпрямления духа. Дух отечественной психологии, как и Дух всей науки и всего народа не был окончательно сломлен, хотя он и не только таился. Напомню очень актуальное и в настоящее время мнение В. И. Вернадского: “Меня не смущает, что... те лица, в глуби духовной силы которых совершается сейчас огромная, невидимая пока работа, как будто не участвуют в жизни. На виду большой частью не они, а другие люди, действия которых не обузданы духовной работой. Но все это исчезнет, когда вскроется тот невидимый во внешних проявлениях процесс, который является духовным результатом мирового человеческого сознания. Он зреет, время его придет, и последнее властное слово скажет он, а темные силы, всплывшие сейчас на поверхность, опять упадут на дно...” (Вернадский В. И., 1993). В трудах В. Вундта, У. Джемса, Г. И. Челпанова и многих, многих других большое место занимали проблемы души и духовности, что вовсе не мешало им заниматься экспериментальной психологией, физиологической психологией и т. д. Не потому ли мы все снова и снова возвращаемся к их работам? Даже великий “антипсихологист” И. П. Павлов, считавший деятельность мозга венцом земной (а не духовной) природы, писал Г. И. Челпанову: “...Я, исключающий в своей лабораторной работе над мозгом малейшее упоминание о субъективных состояниях, от души приветствую Ваш Психологический Институт и Вас, как его творца и руководителя и горячо желаю Вам полного успеха” (см.: “Вопросы психологии”, 1993, № 2, с. 92). Признание духовного опыта, погружение в него вовсе не означает отказа от реальных достижений научной психологии. Напротив, это приведет к ее обогащению, сделает ее более интересной и привлекательной, а, соответственно, более деятельной и действенной, будет способствовать повышению психологической культуры, наконец, откроет перед психологией новые горизонты развития. Вместе с признанием возможно и появление путей (пока рано говорить о методах) познания духовной жизни. И здесь науке есть чему поучиться у теологии и искусства, тем более что опыт такого обучения имеется. Акцент на духовности вовсе не означает отказа от проблематики, связанной с природой человека, с его телесностью, чувственностью, аффективностью. Конечно, время духа еще не наступило, но ведь без этого не будет и времени тела. Культурно-историческая психология в варианте Л. С. Выготского возникла на закате Серебряного века российской культуры. Тогда не было строгого разделения труда между наукой и искусством, эстетикой, философией и даже теологией. Г. Г. Шпет, А. Ф. Лосев, М. М. Бахтин, П. А. Флоренский профессионально работали в перечисленных сферах творческой деятельности. Еще были живы идеи В. С. Соловьева о “всеединстве” чувственного, рационального и духовного знания. Замечательные поэты Б. Л. Пастернак и О. Э. Мандельштам были широко образованы и в философии, и в научном знании. Основатель культурно-исторической психологии Л. С. Выготский был блестящим литературоведом, философом, методологом науки. Он не умещался в узкие рамки нашего сегодняшнего разделения профессий. Важной особенностью культурно-исторической психологии была тенденция к интеграции знаний о человеке, различных подходов к нему и методов его изучения. На первых порах доминировал метод генетического исследования. Впоследствии он был дополнен методами функционально-генетического и функционально-структурного, в том числе микрогенетического, микроструктурного и микродинамического анализа. Это была линия обогащения исходных идей Л. С. Выготского, накопления эмпирического материала. В ходе развития культурно-исторической психологии были не только приобретения, но и потери, отступления, а порой и упрощения исходного корпуса идей. Утратилась духовная компонента “всеединства”, особенно явно присутствовавшая в “Психологии искусства” Л. С. Выготского, а значит и разрушено оно само. Была сужена идея медиации, опосредования человеческого развития. У Л. С. Выготского из всего возможного пространства медиаторов я нахожу разработку только двух. Он и его последователи изучали преимущественно только роль знака и слова в развитии высших психических функций. Символ как таковой едва просвечивал в культурно-исторической психологии. Вовсе не изучалась роль мифа. Правда, Л. С. Выготский и А. В. Запорожец изучали роль волшебной сказки, являющейся своего рода суррогатом мифа в развитии ребенка. Эта линия сейчас получила интересное продолжение в исследованиях А. В. Беляевой и М. Коула, которые ввели волшебника в контекст опосредствованного компьютером детского общения. Не менее интересное исследование посреднических функций волшебной сказки предпринято Л. Элькониновой и Б. Д. Элькониным (1993). Без главных медиаторов — знака, символа, слова, мифа... нельзя понять процесс формирования сознания и личности индивида. Личность, по А. Ф. Лосеву, сама есть миф и чудо. Символ и миф достаточно полно представлены в психоанализе, в глубинной психологии, но парадоксальным образом слабо представлены в культурно-исторической психологии. (Разве что само появление и развитие последней в сталинское время было Чудом, а Л. С. Выготский давно стал Символом и Мифом!) Для лучшего понимания его идей полезно выявление широкого научного и культурного контекста, в котором они возникали. Тем более, что многое из этого контекста у самого Л. С. Выготского находится в подтексте. Чтобы очертить культурный контекст возникновения этих идей, необходимо показать их связь с русской нравственной философией, выросшей из православия и усвоившей его дух целостности. В православии мы находим не только идеи, но и приемы медиации, интериоризации, диалогизма общения человеческого существа с Богом. Новой для культурно-исторической психологии является проблема энергетики медиаторов, поставленная в православной антропологии. Моя задача в значительной степени облегчена превосходной статьей С. С. Хоружего, которая называется “Сердце и ум” (Хоружий С. С., 1992). Автор анализирует труды святого Григория Паламы, посвященные богообщению, понимаемому одновременно и как созерцание бога, и как соединение с ним. В статье изложена своего рода психотехника восхождения подвижника от “внешней” аскезы к “внутренней”, от овладения (и превосхождения) собственной природой к соединению с Богом. Обращается к Богу, заключает завет с ним весь человек как целое и единое существо. Эта целостность не дана, а задана, и человек должен лично достичь ее с помощью сердца и умного делания. В этой деятельности человек не одинок. В ответ на его свободный всецелый порыв Господь дает благодать: “Взаимно откликаясь друг другу, божественное участие и свободное человеческое усилие чередуются между собой словно взмахи двух крыл: свобода — благодать, свобода — благодать... Такое сотрудничество божественного и человеческого, благодати и свободы твари в православном богословии обозначается термином “синергия” (там же, с. 157). Отмечу еще одно, полезное для дальнейшего: “...когда человек так устремлен и открыт навстречу Богу, тогда он и оказывается в поле сил благодати, оказывается способен встретить и распознать их, начать входить в соприкосновение и соединение с ними” (там же). Здесь ключевым для дальнейшего является “поле сил благодати”. Сделаю не вполне законный скачок к концепции и идеям В. С. Соловьева о “цельном знании”, где обосновывается неразрывная связь трех взаимно независимых сфер человеческого сопричастия Бытующему и Сущему — чувственной, рациональной и духовной. Последняя из них — сфера духовная — вовсе отсутствует в современной психологии. Методологическое ядро философии В. С. Соловьева обозначается его же собственным неологизмом “всеединство”. Именно в этом всеединстве присутствует Премудрость лично-сверхличного Абсолюта. Премудрость, которая сама принимает личностный облик и открывает горизонты персонализации перед тварью. Всеединство — вместилище богочеловеческого процесса, т. е. встречного процесса нисхождения Абсолюта в тварь, и восхождения твари к Абсолюту (см.: Рашковский Е. Б., 1992). В размышлениях В. С. Соловьева отмечается замечательная психологическая особенность, характеризующая общение твари с Абсолютом. Между Абсолютом и тварью устанавливаются ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ. Это означает, что не только тварь принимает или перенимает, осваивает черты Абсолюта, но и Абсолют не остается неизменным. Е. Б. Рашковский развивает идею о взаимодополнительности двух языков описания Сущего у Соловьева: “...об Абсолюте, онтологически превознесенном над тварью и творящем из “ничего”, и об Абсолюте, раскрывающемся в своих проявлениях и вбирающем в себя динамику космоисторической эволюции” (там же, с. 145). Это означает, что Абсолют в процессе своего становления (об этом модусе Абсолюта писал и А. Ф. Лосев) вбирает в себя элементы собственных творений, элементы человеческой персонализации, человеческие свойства, опыт человеческой истории. С точки зрения православного вероучения, это мысль еретическая, но при всем при том идея развивающегося человечного Демиурга, вступающего в диалог с собственными творениями, конечно, замечательна. Ведь христианство достаточно спокойно относится к антропоморфным характеристикам взаимоотношений человека и дьявола. Последний питается нами, обогащается за наш счет, живет нашими грехами и т. п. Почему же Абсолют нельзя характеризовать подобным же образом, но с обратным знаком? Он же должен знать, что с нами происходит, для того чтобы животворить, просветлять нас, рассеивать тьму и выводить из нее. Е. Б. Рашковский приводит сходную мысль Н. А. Бердяева о том, что сфера абсолютного или Царство Божие проходит сквозь тварную историю не только с болью, но и с прибылью (там же). Диалогические (или, как сказали бы сейчас, трансперсональные) отношения Абсолюта с тварью — источник свободы, ответственности и достоинства человека. Они не похожи на систему отношений, возникших в “принципиально новой социальной общности”, до недавнего времени представлявшей собой “молчаливое большинство”. Б. Зайцев в очерке, посвященном Преподобному Сергию Радонежскому, писал, что существует целая наука духовного самовоспитания, стратегия борьбы за организованность человеческой души, за выведение ее из пестроты и суетности в строгий канон: “Аскетический подвиг — выглаживание, выпрямление души к единой вертикали. В таком облике она ярчайше и любовнейше соединяется с Первоначалом, ток божественного беспрепятственно бежит по ней. Говорят о теплопроводности физических тел. Почему не назвать духопроводностью то качество души, которое дает ощущать Бога, связывает с Ним. Кроме избранничества, благодати, здесь культура, дисциплина” (Зайцев Б., 1991, с. 160). Б. Зайцев также говорит о двусторонней “духопроводности”, подчеркивая, что величайшая сила любви, врывающаяся ОТТУДА, — это ответ на призыв любовный, что идет отсюда. Возникает резонный вопрос: находят или находили ли эти замечательные идеи свое отражение, воплощение в науках о человеке? Общение твари с Абсолютом является духовным, но и оно должно иметь определенные средства, “духовное оборудование”. Они наверняка есть. И можно попытаться выделить разные, но тесно связанные между собой планы этого оборудования: оперативный, или коммуникативный, и ценностно-смысловой. Первый план — это предметы-посредники (медиаторы: Знак, Слово, Символ, Миф...), второй — это завещанные нам в Евангелии любовь к ближнему, вечная жизнь и свобода личности. Взятые вместе, они составляют, по словам В. С. Соловьева, “духовные вертикальные измерения человеческого познания”. Они представлены не только в бесконечности времени, они — и сегодняшний день, “вечное настоящее” (М. К. Мамардашвили), “динамическое бессмертие” (О. Мандельштам). Можно ли на основании идей, опыта, имеющихся в христианской антропологии, в религиозно-философских трудах более конкретно представить себе проблематику развития человека? Едва ли следует сомневаться в полезности для науки этого опыта, хотя, как указывалось выше, на протяжении десятилетий наша психологическая наука к нему не прикасалась. Причины этого кроются не только в идеологическом табу, но и в том, что решение подобной задачи крайне сложно. Здесь велика опасность профанирования как теологии, так и науки. Сделаю необходимое отступление, подчеркивающее сложность проблемы. О. Мандельштам заметил: “Огромная взрывчатая сила книги Бытия — идея спонтанного генезиса...” (Мандельштам О. Э., 1990, с. 236). Там же он приводит в качестве образца отношение Данта к преданию: “... в предании он видел не столько священную, ослепляющую сторону, сколько предмет, обыгрываемый при помощи горячего репортажа и страстного экспериментирования...”. Эта страсть и этот предмет были вовсе не свойственны психологической науке. Важнейшим уроком, который можно извлечь из религиозно-философских трудов при создании психологического образа человека, является решение проблемы предметов-посредников (медиаторов). Одновременно они представляют собой и культурные формы, и формы, в которых культура развивается. Число медиаторов должно быть расширено или, точнее, как будет показано ниже, вначале сведено к единственному или единому, а уж потом станет возможна и необходима дифференциация. Обратимся к Блаженному Августину — к его идеи посредничества между Богом и человеком: “Взывает к Тебе, Господи, вера моя, которую дал Ты мне, которую вдохнул в меня через вочеловечившегося сына Твоего, через служение Исповедника Твоего” (Августин А., 1991, с. 53). Августин называет Христа истинным посредником: “Истинный же посредник, которого в таинственном милосердии Твоем явил Ты людям, послав к ним, чтобы на его примере научились они настоящему смирению. Посредник между Богом и людьми человек Христос Иисус встал между смертными грешниками и Бессмертным и Праведным — смертный как люди, праведный как Бог... Как человек Он посредник, а как Слово, Он не стоит посередине, ибо Он равен Богу, Он Бог у Бога и единый Бог вместе с Богом” (там же, с. 280). Здесь важна персонификация Слова, подчеркивание его не только божественной, но и человеческой сути: “Мы могли бы думать, что Слово Твое так далеко от человека, что не может соединиться с ним и пришли бы в отчаяние, если бы “Оно не стало плотью и не обитало среди нас” (там же, с. 281). Посредник нужен не только потому, что “в нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения”, что через него говорит истина. С помощью посредника пробуждается человеческая активность, поиск, искание. Через посредника, “которого Ты поставил между Тобой и нами, через Которого Ты искал нас, не искавших Тебя, чтобы мы искали Тебя” (там же, с. 284). Вечное Слово “Бог”, пребывающее в молчании, отличается от обыденного человеческого звучащего во времени слова: “Это другое, совсем другое, эти слова меньше меня, да их вообще и нет, они бегут и исчезают. Слово же Бога моего — надо мной и пребывает вовеки” (там же, с. 287). Августин пишет не только о посреднике между Богом и человеком. Он не проходит мимо более простых знаковых форм опосредствования отношений между людьми. Интересен его опыт реконструкции знаковых форм поведения в младенческом возрасте, т. е. до появления утилитарных, исполнительных форм поведения. Он осуществил эту реконструкцию по рассказам о себе и по собственным наблюдениям над младенцами: “Я барахтался и кричал, выражая немногочисленными знаками, какими мог и насколько мог, нечто подобное моим желаниям — но знаки эти не выражали моих желаний” (там же, с. 57). Но вернемся к истинному посреднику, как назвал Августин Иисуса Христа. Он вочеловечил Божье Слово, донес его человеческим голосом. И поскольку Христос как Сын Божий идентифицируется с Богом, а Слово — это Бог, то Христос также может быть идентифицирован со словом. Не нужно специальной аргументации, чтобы допустить возможность и реальность идентификации Христа и Символа. Он действительно символ, символ веры. Наконец, Христос — это Знак, посланный людям Богом. Согласно А. Ф. Лосеву, личность — это миф. И, следовательно, Христос в определенном смысле может быть идентифицирован как Миф. Разумеется, для верующего приведенные рассуждения излишни, избыточны. Более того, для них Христос есть путь, истина и жизнь, а не профанное слово. Но для сциентистски ориентированного ученого эти и дальнейшие размышления могут иметь смысл. В итоге мы получаем любопытную ситуацию: все четыре типа медиаторов связаны с Богочеловеком, во всяком случае, по своему происхождению. Конечно, Богочеловек в логике теологии является посредником. В светской логике такие функции могут быть свойственны не обязательно Богу, а другой персоне, в том числе и такой, которая притязает стать (быть) героем, человекобогом, сверхчеловеком. С. Н. Булгаков писал, что “человекобог” ставит своей задачей внешнее спасение человечества (точнее, будущей части его) своими силами, по своему плану, “во имя свое”, герой — тот, кто в наибольшей степени осуществляет свою идею, хотя бы и ломая ради нее жизнь... Христианский святой — тот, кто в большей мере свою личную волю и всю свою эмпирическую личность непрерывным и неослабным подвигом преобразовал до возможно полного проникновения волею Божией. Образ полноты этого проникновения — Богочеловек, пришедший “творить не свою волю, но пославшего Его Отца” и грядущий во имя Господне” (Булгаков С. Н., 1992, с. 152, 153). Человек является создателем и носителем медиаторов, это его “духовное оборудование”, его “духовная мастерская”, которая может быть более или менее богатой и совершенной (я не рассматриваю в этом тексте культурологические,семиотические проблемы, связанные со сходством или различием между медиаторами-инструментами). Но человек и сам себя создает, и помогает другим создаваться. Становясь Учителем, он принимает функции живого медиатора. В представленной выше вертикали духовного развития я вышел за те рамки, которыми ограничивал себя прежде в этом вопросе (ср.: Зинченко В. П., Моргунов Е. Б., 1994, с. 281). По-видимому, не следует вводить Богочеловека в ряд медиаторов, т. е. инструментов и орудий. И все же, Августин был прав, говоря, что истинным медиатором является Богочеловек. Я не ввожу его в ряд медиаторов, но и не оставляю за скобками. Для меня он истинный потому, что именно Богочеловек вочеловечивает и одухотворяет все остальные медиаторы. Иное дело, что они со временем могут утрачивать человеческие черты. И тогда в голову людей впечатываются бесчеловечные, ложные символы и мифы, а слово утрачивает плоть и становится полым. Это приводит к отмиранию языкового сознания или к задержке в развитии синтетической народной культуры. В такой ситуации жизнь человека — это метания в “лесу символов”, поиски выхода из него на волю. Скудеют рефлексивная и духовная составляющие человеческой жизни, ее духовное оборудование девальвируется, бытие становится бытом, а жизнь превращается в выживание.
4.2. Медиаторы духовного роста и хронотоп Глубоко религиозный человек, ученый, мыслитель, блистательный физиолог-экспериментатор князь А. А. Ухтомский ввел в научный оборот понятие “хронотоп”. Это понятие помогает более конкретно представить взаимоотношения феноменологического и онтологического планов развития человека. Хронотоп активно использовался в гуманитарных науках, прежде всего М. М. Бахтиным. Я считаю, то это понятие поможет и нам продвинуться в понимании духовной сферы человека. Своеобразие хронотопа состоит в том, что он соединяет в себе казалось бы несоединимое. А именно — пространственно-временные в физическом смысле этого слова телесные ограничения с безграничностью времени и пространства, т. е. с вечностью и с бесконечностью. Первый — это есть онтологический план, заключающий в себе всю суровость бытия, которая в конце концов награждает человека смертью; второй план — феноменологический, идущий из культуры, истории, из ноосферы, от Бога, от Абсолюта, т. е. из вечности в вечность со всеми мыслимыми общечеловеческими ценностями и смыслами. В любом поведенческом или деятельностном акте, совершаемом человеком, мы имеем все три “цвета времени”: прошедшее, настоящее и будущее, т. е. даже хронотоп живого движения может рассматриваться как элементарная единица, зародыш (или продукт?) вечности. Поэтому в нем потенциально содержатся дольний и горний миры. Конечно, хронотоп — это пока метафора, удачно описывающая живой пространственно-временной континуум, в котором протекает развитие человека, понимаемое как уникальный процесс в составе космоса. А. А. Ухтомский говорил об активности хронотопа, что предполагает наличие в нем энергетических характеристик и соответствующих источников энергии. Энергия хронотопа, как и его смысловые черты, конечно же укоренены в бытии. Энергия и смысл не только трансформируются в нем, но и прирастают. Накопленная и превращенная в хронотопе энергия осуществляет, выражаясь словами О. Мандельштама, “зарядку бытия”. Эта энергия идет на жизнь человека, на творчество, наконец, на служение Богу. Напомню слова В. С. Высоцкого, сказанные им незадолго до кончины: “Мне есть, чем отчитаться перед Ним”. Хронотоп ассимилирует энергию живого, как Абсолют ассимилирует черты порожденной им твари, или как ноосфера строится и обогащается за счет человеческого мышления. Должны быть и специфические источники энергии, заряжающие хронотоп. Представляется, что в качестве таких источников выступают те же медиаторы (Знак, Слово, Символ, Миф...), с помощью которых возможно не только описание хронотопа и не только диалог твари с Абсолютом. Медиаторы можно рассматривать как аккумуляторы живой энергии, своего рода энергетические сгустки. Они могут рассматриваться и как резонаторы, на частоту которых настраиваются живые существа. Последние не только усваивают эти частоты, но и генерируют новые, подзаряжают своей энергией медиатор. Медиаторы, рассматриваемые как энергетические сгустки, порой даже выступают аналогами черной дыры. Так коммунистический миф и его символика втянули в себя и почти уничтожили культуру великого народа, поставили его на грань духовного краха. Аналогичные разрушения произвел фашистский миф. В качестве глубинных причин этого была ликвидация свободы обращения с медиаторами, являющаяся необходимым условием взращивания сознания, свободного поступка, ответственной деятельности. Без свободы обращения с медиаторами человек теряет слишком многое, может быть с легкостью превращен, по словам Даниила Андреева, в “человекоорудие”. Свобода обращения к медиаторам, свобода оперирования с ними означает, что к ним нужно относиться как к медиаторам и не более того. Необходимо понять значение и смысл медиатора и не позволять ему стать больше, чем ты сам. Иными словами, не позволять ему стать абсолютным образцом и кумиром. Медиатор-кумир утрачивает идеальную смысловую составляющую, становится вещью, паутиной, попадая в которую человек беспомощно бьется, стараясь освободиться, бесполезно теряет энергию, и в конечном счете перестает быть личностью. Власть, которую приобретают над человеком слова, символы и мифы, тем более удивительна, что в них потенциально всегда имеется заряд недосказанности, загадочности, т. е. стимул к их осмыслению и пониманию. Сказанное не означает, что свобода обращения к медиаторам дается легко. Не означает оно и того, что к медиаторам можно относиться легковесно и легкомысленно, что себя можно рассматривать абсолютно свободным, стоящим много выше над ними. Гордыня по отношению к ним неуместна. Ведь они — продукт истории всей человеческой культуры. Дай нам Бог силы понять и освоить их. Таким образом, медиаторы, занимая свое место в хронотопе, заряжают его своей энергией, придают ему смысловые внепространственные и вневременные координаты. Энергия в медиаторах и в хронотопе в целом прирастает за счет разности потенциалов объективной и субъективной составляющих медиатора, за счет разности потенциалов феноменологического и онтологического планов хронотопа. Эта формула существенно отличается от того принципа соединения духа и порыва (влечения, жизни), которого придерживался Макс Шелер: принцип сублимации жизни в духе (Шелер М., 1988, с. 70). Возможно, что противоречие здесь кажущееся, поскольку процессы передачи энергии имеют многоуровневый (многоступенчатый) характер. Мы просто берем как факт, например, то, что образ действия обладает не меньшими энергетическими характеристиками, чем собственно моторный компонент действия, и честно признаем, что глубокая природа этой энергии остается загадочной. О. Мандельштам, не мудрствуя лукаво, назвал ее “трансцендентальным приводом”. А. Ф. Лосев указывал на существование, наряду с материальной и целевой, эйдетической причины деятельности (аристотелевской энтелехии). Он рассматривал эйдетическую причину, то есть эйдос, образ, как уже определенным образом организованную энергию (см.: Лосев А. Ф., 1975, с. 701). Вопрос о природе энергии очень непрост. Казалось бы, самый легкий ответ — это ссылки на ее божественное происхождение (“поле сил благодати”), на иррациональность, на существование “трансцедентального привода” и т. п. Нередко к таким ссылкам справедливо относятся как к прикрытию проблемы “срамной картинкой нашего неведения” (Г. Г. Шпет). Но если всерьез отнестись к ним, то самый легкий ответ превращается в самый трудный. Теология по-своему отвечает на вопрос, откуда черпается духовная энергия для стяжания Святого Духа. Психологии, да и науке в целом, до таких высот подниматься рановато. Но и отрицать наличие иррациональной энергии у нее науке тоже нет оснований. Может быть, разумнее попытаться найти источники хотя бы прототипов или прообразов духовной энергии, источники иррационального? При этом желательно в поисках энергетических источников медиаторов и хронотопа сознательной и бессознательной жизни не выходить за ее пределы. Выше приводились данные о том, что у младенца движение становится знаком еще до того, как оно приобретает исполнительную функцию. Справедливо и обратное, слово-глагол может быть не только средством общения, но и действием, делом, поступком. За словом стоят не только концептуальные, но и предметные операциональные значения. Медиаторы в целом также могут рассматриваться либо как действия (в том числе ритуальные), либо иметь действия в качестве своей основы. Именно деятельная природа медиаторов может помочь в объяснении их энергетических свойств. Для психологов это не должно быть неожиданным, поскольку в психологии имеется не только традиция рассмотрения целого ряда высших психических функций как действий, но и многочисленные экспериментальные доказательства в пользу такой трактовки. Если справедливы изложенные соображения о действенной, деятельной природе медиаторов, то действие может рассматриваться не только как единица анализа психического. Его можно и нужно будет рассматривать в качестве единицы анализа и “перводвигатсля” духовной жизни. Пока речь идет лишь о протообразах духовной энергии, которые, тем не менее, не поддавались рациональному объяснению. Я пытаюсь определить зоны поисков источников иррационального, не прибегая при этом к стандартным ссылкам на энергию бессознательного или к преждевременным ссылкам на опыт христианской антропологии. Вместе с тем, я понимаю, что движения тела, а тем более движения “мыслящего тела”, порождающие различные виды психической энергии, сами пока не поддаются причинному объяснению. Около десяти лет назад я в первый раз использовал понятие “хронотоп” для анализа человеческого предметного действия (см.: Гордеева Н. Д., Зинченко В. П., 1982; Зинченко В. П., Смирнов С. Д., 1984, с. 145—152). Эвристическое значение этого понятия для психологии состоит в том, что с его помощью облегчается понимание не только связи пространства и времени, но и трансформации их друг в друга, понимание объективации этих категорий бытия и сознания. В активном хронотопе действия так же, как в хронотопе текста, проанализированном В. Н. Топоровым, снимается проблема размерности и отделенности пространства и времени. “Внутреннее (текстовое) пространство свободы неизмеримо сложнее, насыщеннее и энергичнее внешнего пространства. Оно таит в себе разного рода суммации сил, неожиданность, парадоксы... Оно есть чистое творчество как преодоление всего пространственно-временного, как достижение высшей свободы... Создание “великих” текстов есть осуществление права на ту внутреннюю свободу, которая и создает “новое пространство и новое время”, т. е. новую среду бытия, понимаемую как “преодоление тварности и смерти, как образ вечной жизни и бессмертия” (Топоров В. Н., 1983, с. 284). Формирование активного хронотопа — это одновременно и формирование образа ситуации, “образа потребного будущего” и программы как основания свободного действия, и необходимое условие вневременных состояний сознания, которые М. М. Бахтин характеризовал как вневременное зияние, образующееся между двумя моментами реального времени. Хронотоп формируется в зазоре длящегося опыта. Наличие в активном хронотопе субъектных форм пространства-времени объясняет то, что он, несмотря на цельность, не обладает свойствами наглядности. Он трудно представим из-за того, что пространство и время подверглись в нем деятельностно-семиотической переработке, они выступают в нем в превращенной форме вплоть до того, что реальное движение в пространстве трансформируется в остановленное время, а последнее, в свою очередь, трансформируется в движущееся пространство. Отсутствие черт наглядности у хронотопа связано с наличием в нем объективного и субъективного, с их обменом и взаимопроникновением. Это можно пояснить следующим образом. Если в каждый момент развертывания действия оно будет подчиняться лишь объективному пространству-времени, то из него исчезнет субъективность, а значит испарится оно само. Если же в каждый момент пространство-время будут выступать лишь в своих субъективных формах, то действие утратит свой приспособительный смысл по отношению к этим определениям бытия. Поэтому-то в каждый момент развертывания действия в нем должно присутствовать единство объективного и субъективного. В некоторый условный момент развертывания действия в нем присутствуют объективное время и субъективное пространство; в следующий момент происходит смена и обрадуется новое единство: субъективное время и объективное пространство. Действие может сохранять приспособительный смысл и осуществляться как таковое лишь при условии чередования объективности-субъективности пространства-времени. На психологическом языке это означает, что в различные моменты развертывания действия образ ситуации трансформируется в образ и программу действия, а последние — в самое действие, затем осуществленное действие трансформируется в новый образ ситуации и т. д. В образе ситуации мы имеем дело с преобладанием субъективного пространства и объективного времени, в осуществлении действия — напротив — с преобладанием субъективного времени и объективного пространства. Описанные превращения помогают ответить на интересующий меня вопрос об источниках некоторых видов психической энергии. Накопленная в движении, в “обследовательском туре”, в перцептивном действии энергия трансформируется в энергию образа, а последняя может в свою очередь трансформироваться в энергию очередного перцептивного или исполнительного акта. Аналогичным образом энергия поступка трансформируется в энергию личности. Последняя расходует запасенную энергию, совершая новые поступки. Важно подчеркнуть, что независимо от субъективности-объективности в действии, в образе всегда присутствуют неотделимые друг от друга пространство-время. Их диссоциация, отделенность одного от другого на уровне отдельного человека — это предмет психиатрии, а на макроуровне (в социуме) она означает кризис культуры и цивилизации. Движение во времени, отделенное от движения в пространстве, не становится событием. Для того чтобы оно стало таковым, необходима прерывность движения, процесса, деятельности. Но этого мало. Процесс завершается, становится актом, образом с помощью того или иного медиатора, обладающего в свою очередь не только смысловыми, энергетическими, но и пространственно-временными свойствами. Действие, деятельность в актерской игре, по мысли О. Мандельштама, спаяны словом, держатся на нем. “Слово для Яхонтова — это второе пространство... Яхонтов — единственный из современных русских актеров движется в слове как в пространстве” (Мандельштам, 1990, с. 310). Для того чтобы действие, деятельность, история были осмысленны, они должны содержать в себе в каждый отдельный момент своего осуществления прямую и обратную временную перспективу, зафиксированную в теле того или иного медиатора (или их совокупности). Анализ не только действия, но и когнитивной и эмоционально-аффективной сфер как средств трансформации пространства-времени в их субъектные формы есть необходимый шаг к пониманию вневременности и внепространственности идеального. Выше шла речь о том, что не следует так уж сильно подчеркивать субъективность пространственно-временных форм реальности. М. К. Мамардашвили писал, что превращенно-цельные неделимые явления обслуживают практические нужды действующего, наблюдающего, оценивающего человека, т. е. вполне реальны для последнего, существуют объективно. Человек не мог бы действовать, если бы он в каждый момент времени сознавал свою собственную смертность, т. е. пристрастность, неполноту, превращенность реальных пространственно-временных форм. Это не противоречит тому, что у человека не только имеется представление о смерти, но оно выступает одной из существенных детерминант его поведения и развития. Но парадокс состоит в том, что хронотоп даже простейших человеческих актов представляет собой элементарную единицу вечности. Благодаря превращенности отражения реальных пространственно-временных форм человек в каждый отдельный момент времени не мечется между жизнью и смертью, а адекватно приспосабливается к ним, активно действует, рискует, творит, преодолевает и овладевает этими формами бытия. Пониманию того, как человек решает все эти задачи, в большой мере способствуют развиваемые и развитые мифопоэтические представления о пространстве и времени. Транспонируются ли теологические идеи об Абсолюте или научные идеи о хронотопе на психологическую почву, в частности, на почву культурно-исторической психологии развития психики и сознания? Л. С. Выготский, описывая развитие действенного поля психологической реальности, констатировал, что величайшее своеобразие детского развития в отличие от других видов развития состоит в том, что в момент, когда складывается начальная форма, уже имеет место высшая, идеальная, появляющаяся в конце развития. И она взаимодействует с первыми шагами, которые делает ребенок по пути развития этой начальной или первичной формы. Мысль о наличии идеальной формы в начале развития, конечно, неоригинальна*, но в отечественных психологических теориях развития она до последнего времени отсутствовала. Впоследствии эти идеи появились в трудах по психологии игры и формированию личности прямого ученика и сотрудника Л. С. Выготского Д. Б. Эльконина. Развивая мысль об идеальной форме, можно пойти еще дальше. Хотя Л. С. Выготский отказывал в отмеченном им своеобразии эмбриональному развитию, уже при его жизни отчетливо артикулировались похожие идеи по отношению к формообразованию любого живого организма. Аналогом идеальной формы, сопутствующей и дополняющей информацию, заложенную в генах растительных и животных организмов, является особая реальность, названная А. Г. Гурвичем морфогенетическим (биологическим) полем. Именно оно ответственно за процесс сборки клеток в целостный организм. Это поле впоследствии называли также информационным, психологическим, телепатическим, парапсихологическим и т. п. (см. более подробно: Климов В. В., 1991). Наиболее интересную и адекватную оценку введения понятия и принципа поля в биологию и перспектив развития этого принципа дал биолог Б. С. Кузин (1903—1973). Мир тесен. Этот мыслитель и художник был другом О. Мандельштама. Только сейчас началась публикация его натурфилософских работ (см.: Вопросы философии, 1992, № 5, с. 145—190). Б. С. Кузин видит главное значение принципа поля в том, что он объясняет согласованное поведение развивающегося организма или структуры, а также согласованное действие отдельных частей функционирующего органа или всего организма. Это означает, что элементы живого целого располагаются по каким-то “силовым линиям” непрерывно меняющегося поля. Впрочем, материальный источник и природа “силовых линий” биологических полей остаются неизвестными, что, по мнению Б. С. Кузина, не столь уже существенно. Кузин склонен распространить принцип поля на отношения между индивидами (Кузин Б. С., 1992, с. 48, 49). Он пишет, что биологические поля вполне наглядны. Объекты и характер действия каждого поля, его конфигурация, центр, векторы — могут быть описаны и изображены. О похожих вещах совсем недавно говорил М. К. Мамардашвили: “Мышление требует почти сверхчеловеческого усилия, оно не дано человеку от природы; оно только может состояться — как своего рода пробуждение или пра-воспоминание — в силовом поле между человеком и символом” (Мамардашвили М. К., 1992, № 4, с. 71). Я не буду вдаваться в классификацию и функциональное назначение динамических и статических биологических полей, приводимую Б. С. Кузиным. Воспроизведу лишь драматическую сторону открытия А. Г. Гурвича, описанную Кузиным. А. Г. Гурвич столкнулся с тем, “что элементы развивающегося целого как бы стремятся достигнуть определенного положения. Что форма органа словно бы задана и в каком-то виде существует еще до того, как он развился. Иными словами, что она имеет виртуальный характер. Но это справедливо не только для конечной формы органа, но и для формы на любом этапе развития. Поэтому виртуальную форму, определяющую результат процесса развития в любой его момент, Гурвич назвал динамически преформированной морфой. И этим он ввел в первоначальную формулировку принципа поля элемент телеологии” (Кузин Б. С., 1992, с. 157). Добавим и энтелехии. Драматизм состоял в отказе Гурвича от его собственной идеи. Он как ученый, разработав теорию клеточного поля, надеялся с ее помощью исключить элемент телеологии, но это ему не удалось: “Динамически преформированная морфа так и продолжает присутствовать при всяком морфогенном или регуляционном процессе, определяя его результат еще до всякого его начала. Динамически преформированная морфа это — предшествующий образ, идея, цель” (там же, с. 160). Далее Б. С. Кузин говорит, что он счел бы себя величайшим гением, если бы смог ввести такие понятия в науку. К этим понятиям он добавляет и категорию красоты. С динамически преформированной морфой Б. С. Кузин связывает и замечательную идею А. Г. Гурвича о неудержимости онтогенеза. Последняя необходимо связана также и с его целенаправленностью. Заслуживает упоминания оценка личности А. Г. Гурвича, данная Б. С. Кузиным: “Мне всегда представлялось, что вся духовная основа А. Г. не соответствовала духу его эпохи. Я не знаю, кто из ученых с большим, чем он, основанием может считать себя идеалистом. И в философском смысле, и в житейском. Но А. Г. сложился как ученый в то время, когда идеализм считался просто несовместимым с научным мировоззрением, особенно для естествоиспытателя. И он всю жизнь отстаивал этот принцип, противоречащий, на мой взгляд, всей его натуре” (Кузин Б. С., 1992, с. 171, 172). Видимо, неудержимостью онтогенеза характеризуется как психическое, так и духовное развитие. Иначе невозможно объяснить то, что тоталитарный режим в нашей стране, несмотря на чудовищные усилия, которые он прилагал к искоренению духовности народа, не сумел в полной мере достичь свой цели. Жизненные силы народа позволили ему выстоять и сохранить духовный и культурный генофонд. Не последнюю роль в этом сыграло наличие идеальной формы, которая, видимо, должна характеризоваться собственной энергийностью, энтелехией. Может быть, к счастью, наука слишком мало знала об идеальной форме и ее свойствах, что затрудняло ее планомерное разрушение. Я далек от мысли отождествить идеальную форму Л. С. Выготского с динамически преформированной морфой А. Г. Гурвича или отождествить поле активного, смыслового хронотопа с биологическим полем, а тем более редуцировать к ним идею Абсолюта. Важно подчеркнуть, что мысль далеких друг от друга ученых идет в одном направлении. Конечно, имеются существенные различия между телесным и духовным организмом, между морфологическим и функциональным органом. Сошлюсь также на работы В. В. Налимова и Ж. В. Дрогалиной, идущие в том же направлении. Авторы постулируют наличие семантических полей и даже “семантической вселенной”, которые осуществляют функции духовного формообразования. В соответствии с их концепцией индивидуальная психика каждого человека естественным и органичным образом погружена в более общую и целостную коллективную психику — в континуальные потоки сознания (Налимов В. В., 1991). В каком бы из полей ни материализовалась мысль о роли идеальной формы в процессе развития человека, она от этого не тускнеет. Это может быть поле культуры, поле духовности, поле сознания, поле хронотопа, семантическая вселенная, семиосфера, ноосфера, наконец. Важно, чтобы между полем и человеческим существом был двусторонний обмен, двусторонняя “духопроводность”, как в случае Абсолюта В. С. Соловьева, или чтобы она была в человеке. Рассмотренные идеи можно считать вызовом или приглашением для конкретных исследований. И здесь мы должны с оптимизмом сказать, что культурно-историческая психология уже приняла этот вызов. Это сделал Б. Д. Эльконин, который разделяет положение Л. С. Выготского и Д. Б. Эльконина о том, что идеальная форма, образ взрослости является центральной категорией, задающей целостность детства. Приняв это положение, он поставил новую задачу перед школой Л. С. Выготского и перед самим собой: “...необходимо переходить от исследования и конструирования разных форм опосредствования к исследованию и конструированию форм посредничества. Я полагаю, — продолжает автор, — что опосредствование — это редукция посреднического действия и далее не может быть исследуемо вне целого, вне своей “идеальной формы” (Эльконин Б. Д., 1994, с. 9). Выдвижение на первый план посредничества как деятельного, коммуникативного, диалогического, в том числе и “духопроводного” способа формообразования, это не только введение идеальной формы, но и вочеловечивание различных форм опосредствования, вочеловечивание медиаторов, превращение их в подлинно “духовное оборудование”, введение ребенка в “духовную мастерскую” человечества. В соответствии с воззрениями Б. Д. Эльконина, посредничество является комплексом функций взрослого в его попытках воспитания ребенка. Посредник — это тот, кто “связывает времена”: историческое и конкретно-жизненное. Через посредника проходит разрыв большого, исторического времени, и через него же проходит разрыв социальной жизненной ситуации. Б. Д. Эльконин определил шесть свойств посреднического действия: 1) открытие лица мира, принятие воспитанника в “особое гармоничное бытие”; 2) акт открытия мира предполагает снятие занавеса, не позволяющего за суетой увидеть этот мир. По мере того как занавес снимается, является лицо нового мира; 3) в этом смысле общение — акт реципрокный, состоящий из двух частей. В первой — нечто снимается, приоткрывается, во второй — нечто строится; 4) исполнение такого действия объединено в двух других — преображении и представлении; 5) результатом посреднического действия является установление родо-родственных отношений. Родовые отношения свойственны историческому времени, а родственные — социально-жизненной ситуации; 6) сами эти действия и технология их выполнения не должны стать предметом внимания участников общения: “важно то, что открывается, а не то, как это возможно”. Функция посредничества и ее профессиональное выполнение являются свидетельством наивысшей квалификации воспитателя. Достигая этой функции, воспитатель начинает нечто ЗНАЧИТЬ, т. е. выступать в качестве знака. Люди значат лишь на месте посредника, связывая и представляя одно и иное. Например, сказочник одновременно является взрослым, вызывающим доверие и положительные эмоции ребенка, и в этом смысле выступает как представитель близкого ребенку мира. В то же время он представляет мир сказок, иногда зловещий, иногда пугающий. Соединяя эти два мира собой, сказочник обеспечивает воспитательный эффект. Не посредник — не значит. Он лишь предназначен (или лучше — назначен). Его назначение, функция может иметь статусные, ролевые или иные заданные формы. Но ведь значить для человека — это быть. Именно посредничество представляет собой собственно позицию и, говоря словами Бахтина, “укорененность в бытии”. Поэтому лишь посредничество есть со-бытие, которое может стать основанием развития ребенка. Но не следует забывать и о прозрении А. Г. Гурвича, относящемся к динамически преформированной морфе. Можно предположить, что это понятие и понятие об идеальной форме являются взаимодополнительными. Первое характеризует природные силы развития (неудержимость онтогенеза), второе — культурные, духовные. Как культурно-историческая психология, так и психологическая теория деятельности, явно недооценивали природные силы. В лучшем случае оба эти направления пытались их “окультурить”. Нельзя недооценивать и того, что многое взявшее из физиологии активности второе направление, акцентирующее внимание на живом движении и предметном действии, — это возможно неосознанный авторами прорыв к проблематике человеческой телесности, чувственности, созерцательности, прорыв к природным силам развития. Этот прорыв несомненно оригинален и поэтому в еще большей степени нуждается в осмыслении и развитии. Задача состоит в том, чтобы научиться лучше использовать уже имеющиеся медиаторы, возможно дифференцировать их. Мне и сейчас представляется, что именно в этом состоит стратегическая линия развития всего комплекса наук о человеке и комплекса психотехнических, в том числе психотерапевтических практик. Число последних сегодня все увеличивается, что хорошо. Не хотелось бы их критиковать. Но вынужден констатировать: в них мало используется потенциал философской и психологической антропологии, равно как и культурно-исторической психологии. К сожалению, он мало используется и в психологии как таковой. Приведенный выше опыт обогащения культурно-исторической психологии оказался неожиданным для меня самого: ведущим, определяющим сознание является его духовный слой. Тенденции к такому пониманию развития человека имелись и у Л. С. Выготского. Но они не получили продолжения.
4.3. М. К. Мамардашвили открывает Декарта психологам Этот параграф я начну словами благодарности другу и учителю — Мерабу Константиновичу Мамардашвили (1930—1990). “Философия, — говорил Мераб Константинович, — это сознание вслух”. Он всегда создавал вокруг себя напряженную зону сознания, считая сознание основным орудием и началом анализа. Сознание открывало ему, как философу, возможность личностной реализации не просто в виде достигнутой суммы знаний, а в виде именно мысли и бытия. Те, кому посчастливилось его знать, видеть, слышать, навсегда сохранят в памяти со-бытие его мысли и образ его личности. Но мы никогда не услышим его сознания, которое не только постоянно преодолевало пределы классической рациональности, но взрывало выморочный круг “правильного мировоззрения”. Утешением является то, что его сознание выражено в текстах. Оно существует в культуре и потому необратимо. Тем обиднее, что в беседах с ним мы — психологи жаловались на оскудение психологической культуры, на утраты наших достижений в области культурно-исторического анализа психики и сознания, на неразвитость науки о человеке, отсутствие целостных представлений о нем. Мы не отдавали себе отчета в том, что Мераб Константинович олицетворял в себе новое сознание и новое мышление о человеке, проникнутое страстной заботой о его настоящем и будущем. Его волновали не культура и история сами по себе, а человек в культуре и в истории, человек, который должен постоянно превосходить себя, чтобы быть самим собой. В этом он видел скрытые предпосылки развития и существования культуры, т. е. ее скрытую пружину. Поэтому-то он и говорил, что “современного” человека не существует. “В качестве “современной” может лишь восприниматься та или иная мысль о человеке. А сам он есть всегда лишь попытка стать человеком. Возможный человек. А это — самое трудное, так же, как жить в настоящем. И он всегда нов, так же, как всегда ново мышление — если мы вообще мыслим. Речь может идти лишь об историческом человеке, т. е. существе, орган жизни которого — история, путь... Мы — люди XX века, и нам не уйти от глобальности его проблем. А это есть прежде всего проблема современного варварства, одичания. Это угроза “вечного покоя”, т. е. возможность вечного пребывания в состоянии ни добра, ни зла, ни бытия. Просто ничего. Сокровища культуры здесь не гарантия. Ибо культура — не совокупность готовых ценностей и продуктов, лишь ждущих потребления или осознания. Это способность и усилие человека быть...” (Мамардашвили М. К., 1990, с. 189). Из всех глобальных проблем нашего катастрофического мира Мераба Константиновича больше всего страшила катастрофа антропологическая. “т. е. перерождение каким-то последовательным рядом превращений человеческого сознания в сторону антимира теней или образов, которые, в свою очередь, тени не отбрасывают, перерождение в некоторое зазеркалье, составленное из имитаций жизни. И в этом самоимитирующем человеке исторический человек может, конечно, себя не узнать” (там же, с. 147). Он отчетливо понимал, какие люди нужны нам сегодня. Это люди, “способные на полностью открытое, а не подпольно-культурное существование, открыто практикующие свой образ жизни и мысли, благодаря которым могут родиться какие-то новые возможности для развития человека и общества в будущем” (там же, с. 186, 187). Именно такого человека мы потеряли — единственного в своей естественности. В начале 1981 года М. К. делился своими размышлениями о философии Декарта в Психологическом институте. Эти “психологические и философские медитации” дали возможность не только философам, но и психологам освободиться от “того чудовищного вздора, который существует в комментариях по поводу наследия Декарта” (Мамардашвили М. К., 1993, с. 150). В том числе и от вздора, существующего в психологии независимо от Декарта и его комментаторов, и о котором М. К. из соприродной ему вежливости умолчал в психологической аудитории. Я не берусь оценить значение интерпретации М. К. декартовского понимания действия-акта, рефлексии, бытийственного сознания, эмпирического и когитального “я” и т. д. во всей полноте и для всей психологии. В большой степени это значение раскрыто автором, хотя и не самым прозрачным языком. В него нужно не только вслушиваться, вчитываться, но и “заглядывать в глубь строки”. Моя задача скромнее. Мне хотелось бы, воспользовавшись “Картезианскими размышлениями”, вернуться к проблематике хронотопических свойств живого движения, предметного действия, частично рефлексии, которые мы с М. К. начали обсуждать в совместных работах, опубликованных в журнале “Вопросы философии” (Зинченко В. П., Мамардашвили М. К., 1977, 1991). Судьба не позволила реализовать наш давний замысел — написать для психологов статью о хронотопии сознательной и бессознательной жизни. Этот текст, конечно, не претендует на его полное осуществление. Выше, как и в упомянутых работах, шла речь о ненаглядности хронотопа. В размышлениях о Декарте М. К. также неоднократно предупреждает о необходимости блокирования нашей мании к наглядным представлениям (Мамардашвили М. К., 1993, с. 196). И тем не менее я в последние годы (с упорством, возможно, заслуживающим лучшего применения) пытался визуализировать хронотоп живого движения. Моим оправданием служит то, что М. К. сочувственно относился к визуализации планетарной модели атома, двойной спирали генетического кода, внутренней формы действия, относя подобные образы к “интеллигибельной материи”, к “понимательным вещам”. Да и Декарт использовал понятие “схемное видение”. Я не претендую на большее, например, на “живописное соображение” (Н. В. Гоголь). Эта попытка и будет представлена ниже. Конечно, она может иметь смысл лишь в том случае, если мне (и читателям) удастся совершить усилие и сблизить трактовку действия Декарта-Мамардашвили и трактовку действия, которая складывается в физиологии активности, которую все чаще называют психологической физиологией (А. А. Ухтомский, Н. А. Бернштейн), а также с психологической теорией деятельности (А. В. Запорожец, П. И. Зинченко, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия). Из обоих указанных направлений начинает прорастать психология действия или, точнее, наука о действии, подобная наукам о зрении, памяти, мышлении и т. д. Эффективным катализатором ее кристаллизации и роста являются “Картезианские размышления”. Далеко не все философы имеют свой собственный образ или хотя бы отзвук в психологии. Декарту в этом отношении повезло. Едва ли найдется учебник психологии, где бы не упоминалось его имя да еще по нескольким поводам: дихотомия души и тела, cogito..., страсти души, автоматизмы в поведении животных (психологи ничтоже сумнящиеся прибавляли и человека) и, наконец, понятие “рефлекс”. Чаще всего в памяти оседало последнее и Декарт рассматривался как “предтеча” психофизиологического параллелизма или детерминизма. Рисовалась прямая линия: “От Декарта ... до Павлова” — как будто Декарт мыслил на уровне условных рефлексов. Не только И. П. Павлов не понял Декарта, хотя и поставил около своей лаборатории его бюст. Психологи брали из его учения детерминизм, оговаривая (в двух смыслах этого слова), что он механический. Этот канонический образ, правда, изредка нарушался. Мое поколение помнит лекции П. Я. Гальперина по истории психологии (в 1951 г.), в которых он рекомендовал обратиться к Декарту, чтобы понять проблему свободы воли, а возможно, и свободного (не автоматического) действия. Смущала и статья А. А. Ухтомского “Об условноотраженном действии”, написанная в 1938 г. В начале статьи А. А. Ухтомский замечает: как всегда зачаток будущего научного понятия в своем первоначальном зародыше содержит значительно более, чем впоследствии, когда школа выработает из него свой шаблон. Именно шаблон, а не декартовское представление о рефлексе, лег в основу всех рефлексологических течений в физиологии поведения и в психологии. Замечательный физиолог восстанавливает первоначальный богатый смысл понятий “рефлекс” и “отраженное действие”, разъясняет, что живое отражение нельзя уподоблять физическому отбрасыванию и устранению воздействия внешней среды на организм, заменяет термин “отражение” термином “отображение”, характеризуя последнее как рецепцию, направленную на адекватное воспроизведение внешней среды ради достаточного соответствия текущей деятельности текущим внешним условиям. А. А. Ухтомский аргументирует принципиальную роль активности ради точнейшего отображения реальности, идя от противного: “Научиться часами сохранять неподвижную позу для того чтобы рассматривать предмет “вполне объективно”, как будто тебя самого тут и нет, это прежде всего достижение в области двигательного аппарата и его иннервационной дисциплины” (Ухтомский А. А., 1978, с. 253). “Нужен уже высокий нервный аппарат, чтобы так внезапно перескакивать от состояния движения к такому “отсутствию себя в среде”, бдительного ее наблюдения” (там же, с. 255); “...условие выделения себя как “субъекта” наблюдения из наблюдаемой среды невозможно для животного, пока оно всецело возится в среде как механический элемент и непосредственный участник” (там же). И, наконец, положение, буквально взрывающее ходячие до сего времени представления о рефлексе и рефлекторной работе: “В своей рефлекторной работе организм сам деятельно идет навстречу среде, все далее и далее изменяя свое исходное состояние, обогащаясь умениями и расширяя границы рецепции” (там же, с. 256). Я привел эти выписки из А. А. Ухтомского для того, чтобы на знакомом психологам языке пояснить центральную для психологии проблему, рассматриваемую М. К. Мамардашвили в “Картезианских размышлениях”. Это проблема “устройства” человеческого “действия-акта”, а не действия-рефлекса, устройства “внутреннего акта”, “внутреннего образа”, “внутреннего слова”, “cogito”, наконец. Сердцевиной действия-акта, как и всей психической жизни вообще, является, согласно Декарту, не рефлекс, а рефлексия. По словам М. К., сам Декарт, подобно Гамлету, ищет свой акт, который на самом деле представляет собой (по терминологии М. М. Бахтина) живой поступок, поступление, событийное мышление, действующее, поступающее, ответственное, участное в бытии сознание. Искомый единый и единственный акт — это не ответ на внешний стимул. Он не вовне и не внутри (в привычном психологическом понимании внутреннего) человека, хотя он и составляет человеческое в человеке. Упоминая поиски Гамлета, М. К. подчеркивает, что “...этим символом выявляется действительная индивидуализация и позитивная реальная сила человеческого самоопределения, включающая истинную бесконечность (а не просто безразличие в смысле свободы “от”) и являющаяся, как выражается Декарт, добавлением к реальной природе каждого человека” (Мамардашвили М. К., 1993, с. 29). М. К., размышляя о начальных условиях осуществления действия, говорит, что оно было бы невозможно, если бы мир был неупорядоченным, если бы внутри его физических (пространственных) процессов сидели какие-то “мыслящие” агенты и творили чудеса. Именно с этим мы сталкиваемся сегодня в ряде моделей когнитивной психологии, заселенных демонами и гомункулусами. Психологи, у которых выработался иммунитет к “рефлекторной детерминации психики”, странным образом уживающейся с мистикой, сталкиваются с парадоксальным утверждением: “...крайний детерминизм Декарта (как и Демокрита), выражающийся в превращении всякого телесного действия животного или человека в машину, есть на самом деле и утверждение высочайшей человеческой свободы... То есть Декарт как бы говорит нам: в мире есть основания (вот детерминистическая цепь) для строгого, точного и последовательного мышления, и эти основания строгого и точного мышления таковы, что не только оставляют место для нашей воли и свободы выбора, но и делают их необходимыми в составе общей гармонии мира” (Мамардашвили М. К., 1993, с. 40). Обозначим этот ход мысли как свобода из порядка и оставим без рассмотрения роль случайности, случая, на которой настаивали М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорский, рассматривая эту детерминистическую цепь свободы (?!). М. К. начинает анализировать ее как бы со “второго шага” или со второго звена. Первый шаг — это порядок из хаоса или творение, для которого вообще нет законов, возможно, первый шаг есть заклятие (ср. А. Белый: культура — заклятие хаоса). С этой, по его словам, гениальной мыслью Декарта, видимо, поспорил бы И. Р. Пригожин. Но для психологической реальности эта мысль несомненно верна. (Ее бы хорошо усвоить изобретателям законов творческого мышления, творческой деятельности.) Еще более отчетливо мысль о “законе внутри нас” и нашем свободном действии (если они нам свойственны) выступает при характеристике, можно даже сказать при определении последнего. Лучшего определения свободного действия я не встречал: “Представим себе, что действие есть некое сочетание разных шагов, например, сочленение нескольких шарниров, и оно происходит таким образом, что ни один из шарниров не производит никакого спонтанного неконтролируемого движения, не порождаемого самим действием. Тоесть внутри действия не только нет никакой “пляски святого Витта”, но и вообще не порождаются никакие другие движения, кроме одного. Такое действие, внутри которого нет никаких элементов, имеющих зависимое происхождение, и называется свободным, и такое действие безошибочно” (Мамардашвили М. К., 1993, с. 252). Значит, свободное действие, вопреки расхожим представлениям, не просто спонтанно, а свободно, хотя оно контролируется решаемой задачей или достигаемой целью. Оно подчинено “закону внутри нас”, то есть собственной логике, порождаемой в самом действии или самим действием. Оно осуществляется или разыгрывается на упорядоченной структуре. М. К., несомненно, говоря о шарнирах, имел в виду телесную биомеханику человека. Наконец, оно осуществляется в худо-бедно, но упорядоченном мире. Остановлюсь на этом подробнее. Открытие сложности человеческого движения и действия как таковых пришло в психологию из биомеханики и физиологии. А. А. Ухтомский и Н. А. Бернштейн шли к этой сложности от рассмотрения природы и устройства человеческого тела. Ее источник лежит в огромном и избыточном по отношению к каждому отдельному исполнительному акту числу степеней свободы кинематических цепей человеческого тела. Парадоксально, но эта избыточность представляет собой необходимое условие необыкновенных и далеко еще не раскрытых возможностей человеческого действия. А. А. Ухтомский, Н. А. Бернштейн, А. В. Запорожец рассматривали движение и действие как свободные динамические системы. Выполненный ими анализ функционирования таких систем намного предвосхитил достижения теории необратимых процессов, диссипативных структур, неустойчивых динамических систем, которая представляет собой существенный вклад в современное естествознание. В 1960 г. А. В. Запорожец следующим образом резюмировал результаты исследований построения движений Н. А. Бернштейна (1947) и свои исследования развития произвольных движений: “…никакая, даже самым точным образом дозированная система пусковых эфферентных импульсов не может однозначно определить требуемое направление и силу выполняемого произвольного движения” (Запорожец А. В., 1986, т. 2, с. 22). В 1980 г. И. Р. Пригожин писал: “…в неустойчивых динамических системах невозможно задать начальные условия, которые привели бы к одинаковому будущему для всех степеней свободы” (Пригожин И. Р., 1985, с. 6). Сходство этих фундаментальных выводов очевидно. Но далеко не очевиден механизм, посредством которого неустойчивые, свободные, динамические системы, находящиеся к тому же не в стационарных условиях, становятся на время своего функционирования устойчивыми, даже жесткими и в высшей степени эффективными. От неустойчивости системы остается лишь неустранимый разброс пространственно-временных и динамических характеристик действия при повторных воспроизведениях. Нельзя сказать, что размышления М. К. упрощают проблематику построения движений и действий. Они вносят свой вклад в ее усложнение, помещая ее в более широкий контекст рефлексии, сознания, бытия, тем самым открывают новые возможности ее обсуждения. Вернемся к порядку (закону) и свободе, возникающим на втором шаге. Здесь возможен “картезианский эксперимент”, повторенный Кантом и получивший название “двойственного рассмотрения”. Этот философский эксперимент “...состоит в держании двух несовместимых, казалось бы, вещей. Вот мы вышли в зазор — это человеческая свобода. И в этом зазоре возникает вопрос. Есть ли вообще в мире такая сила, благодаря которой в этом мире мог бы быть хоть какой-нибудь порядок, хоть какое-то добро, хоть какая-то красота — по закону? То есть эксперимент состоит в попытке держать вместе свободу и закон” (Мамардашвили М. К., 1993, с. 39). Зазор — ключевое слово, к которому М. К. многократно возвращается. Его мысль и слово все время бьются, чтобы читателям (слушателям) дать возможность не только понять, но и почувствовать, что он имеет в виду. Но вполне ему удается, на мой взгляд, только второе. Попытаюсь пойти навстречу его пониманию и, так сказать, “сайнтифицировать” или психологизировать эту метафору или семейство метафор, окружающих первую. “Размышление второе” начинается с этого слова. Философ в маске без гнева и упрека ушел куда-то. Это “куда-то” М. К. условно (с обещанием раскрыть по существу) называет зазором, несколько грубее подвесом, потом отрывом. Ссылается на выражение Ш. Фурье — “абсолютный зазор”. (От себя в этот перечень вставлю “зияние”, о котором, как метафоре души, писал представитель германской философской антропологии Арнольд Гелен.) Далее следует ссылка на декартовское “великое безразличие Бога и человека”, которое может быть понято как отстраненность или остранение. Но, оказывается, что безразличие — лишь некая точка, после которой начинается нечто другое. Эта точка называется фиксированной точкой интенсивности, в которой непонятным, но необходимым для автора образом присутствует избыточность. (Ср. с любимым М. К. О. Мандельштамом: Нам союзно лишь то, что избыточно. Впереди не провал, а промер. “Промер” нам кое-что позже прояснит.) Представление об избыточности или условие избыточности необходимым образом входит в ткань свободного действия. Если ее нет, то нет выбора, вариантов, оно вынуждено, принудительно, несвободно. Выше упоминалось, что живое движение, имеющее шанс приобрести форму свободного действия, есть преодоление избыточности кинематических цепей человеческого тела. Аналогично этому, формирование адекватного миру зрительного образа есть преодоление избыточных степеней свободы образа по отношению к оригиналу. То же характеризует память, мышление и другие психические образования. Наконец, каждый из нас обладает избыточным числом своих собственных Я. Мало нам Я-первого и Я-второго, так В. С. Библер придумал “многояйность”. Это разъяснение нам понадобится в дальнейшем, но М. К. придает избыточности еще более возвышенный смысл. Итак: зазор, подвес, отрыв, зияние, фиксированная точка интенсивности, избыточности. Пример такой точки — размышление о смерти. Не только размышление (?). Бог — такая точка. В таких точках нет утилитарной пользы. Именно в этом смысле они избыточны: “Но оказывается все же, что должны быть такие избыточные точки. Бессмысленная в своей избыточности интенсивность вокруг них меняет смыслы нашей жизни. Смыслы нам доступны и понятны, а сами эти точки недоступны и непонятны” (Мамардашвили М. К., 1993, с. 33). Стоп. Здесь избыточность трактуется в новом смысле — не как условие свободы, свободного действия, а как избыточность самой свободы, порождающей лишь большую свободу и ничего более. Здесь эти точки подняты на такую высоту, что их уже не видно. Они недоступны науке. Спустимся вслед за автором пониже, рассмотрим временную (или пространственную?) размерность зазора-точки, хотя само это словосочетание не обещает легкости понимания. Если точка, то внутри чего зазор? Или сам зазор точка? Размышление в точке и о точке: “Акт мысли весь целиком находится в мгновении. В неделимом настоящем” (там же, с. 41). А раз неделимом, то зазору нет места? Воля и свобода выбора появляются (или проявляются?) в полную силу в новой точке (там же, с. 40). И здесь же ссылка на идею Декарта о “моменте” действия-акта. Наконец, картезианское сомнение упирается в твердую точку воли. Пока речь идет только о времени, хотя действие заслуживает и пространственной характеристики. Но это время весьма странное. Оно колеблется между мгновением и вечностью (“концом света”). Хотя М. К. пишет: “В естественной природе акта, состояния мысли, состояния сознания не содержится возможности дления этого состояния, этого предмета или этого поступка. И более того — чтобы поступок длился, он должен все время длиться” (Мамардашвили М. К., 1993, с. 42). Это дление истинного акта или мысли поддерживается и непрерывно возрождается волей. Забегая вперед, замечу, что возможно Бог или судьба останавливают время в критических для человеческой жизни ситуациях. Такая аналогия все же облегчает понимание того, что М. К., вслед за Декартом, называет истинной бесконечностью, вечным актом, который есть нечто постоянное, растянутое в акте, и в переживании которого нет признака дления. Он весь в настоящем. Это все не более непонятно, чем непонятна жизненная психология. Академическая психология проще для понимания. И все же для понимания “вечности акта” (не означающей, впрочем, что он растянут на века) М. К. обращается к декартовой теории дискретности времени. В этой теории время не гомогенно, оно содержательно, в нем мы можем расставлять или выделять какие-то содержательные точки (опять точки!). И при этом “та точка, в которой я нахожусь или оказался, — она не вытекает из предшествующей временной точки. Как и точка впереди не вытекает из точки сейчас” (там же, с. 45). Но далее (держись, читатель, в мысли!), дискретное, содержательное (то есть обеспечивающее существование порядка) время характеризуется как непрерывное, континуальное, перманентное время. Правда, М. К. произносит не слово “время”, а слово “творение”. Но в следующей фразе он говорит, что порядок держится на непрерывно возобновляемом, постоянно длящемся творении, то есть речь идет все же о длении, о времени. А раз время — творение, то естественно заключить, что оно держится на усилии, на вершине его волны. И если я нашел себе место (в жизни), то это и есть место усилия, место, где я могу творить то, что не может быть иначе. Вновь автор проводит над читателем философский эксперимент, заставляя вместе держать две несовместимые вещи: творение того, что должно быть, что не может быть иначе, оговаривая при этом, что это творение не только не по образцу, но и не по заранее установленному плану. Кстати, именно этим архитектор отличается от пчелы, которая строит по образцу, по заранее установленному плану. (Читателя может утешить лишь то, что и наш автор является не только субъектом, но и объектом этого философского эксперимента.) “В Боге, говорил Декарт, нет никакого понятия необходимости. На уровне творения нет законов, ничто не творится по законам. Он шел не потому, что сознавал нечто необходимым, а, напротив, нечто стало необходимым потому, что Он шел; нечто стало истинно потому, что Он так поступил; нечто стало нужно потому, что Он так сделал. Потом — стало, т. е. на втором шаге” (Мамардашвили М. К., 1993, с. 48). Мы вновь встречаемся со вторым шагом, который М. К. характеризует как основное онтологическое переживание, как метафизику апостериори, как переживание длительности и самого второго шага, выражаемого словом “потом”. И здесь вновь всплывает зазор — то, что в промежутке между “сейчас” или “теперь когда” и “потом”, на втором шаге. Этот промежуток М. К. называет punctum cartesianum, то есть зияние длящегося опыта, не имеющего никаких предметов. М. М. Бахтин, анализируя поэтику Достоевского, говорит о кризисном времени, в котором миг приравнивается к годам, к десятилетиям, даже к “биллиону лет” (как в “Сне смешного человека”). У него также встречается “вневременное зияние”, “вненаходимость”. Я вслед за М. К. наращиваю набор ассоциаций и слов, чтобы понять, что такое зазор между первым шагом — творением, где нет закона, и вторым шагом, где появляется закон. При этом я сталкиваюсь с двусмысленностью изложения у самого М. К. Казалось бы, что творение — это первый шаг, и нужно лишь понимание и интерпретация зазора. Но М. К. говорит об “эмпирическом движении”, происходящем в зазоре, в “punctum cartesianum”, и которое он условно называет “движением Бога”. Это “движение заранее не задано, не может быть предположено или вымыслено, а должно состояться де-факто, как то или иное, а потом... А потом — даже существование “я” можно доказать...” (там же, с. 49). М. К. еще больше нагружает смыслом эту точку интенсивности, называя ее точкой преодоления хаоса, распада, точкой переключения, которая и есть “я”. Но все это “потом”. А сейчас все не ясно, между чем зазор, если он дает основания толковать его как первый шаг, а “потом” — как второй. Оставим пока трудность с локализацией зазора, оставим пока и “движение Бога”. Остановимся на “эмпирическом движении”, происходящем в зазоре. Видимо, оно должно иметь какую-то собственную специфику по сравнению с движением, осуществляемым на первом и на втором шагах. Между этими движениями тоже должна быть разница. Предположим, что эти шаги представляют собой длящийся опыт на оси содержательного времени. Их должно быть много и между ними образуются зазоры, каждый из них — это вневременное зияние. Зазор может рассматриваться и как остановка, представляющая собой прежде накопленное движение (О. Мандельштам), то есть зазор — это не покой, а усилие (может быть и покой, но в пушкинском смысле — “покой и воля”, о котором говорил М. К., или в сценическом — держание паузы). Думаю, что с такой интерпретацией М. К. согласился бы. Важно, что зазор не представляет собой Ничто. Да и сам М. К. замечает, что “и Бог и человек есть лишь движение”. И далее: “Людьми мы становимся — или не становимся лишь после того, как совершилось какое-то движение и наше взаимоотношение с вещами, которые не имеют, повторяю, оснований в природном мире: природа человека не рождает” (Мамардашвили М. К., 1993, с. 143). Дополним это своими ассоциациями. Назовем “эмпирическое движение” “живым движением”. Оно неповторимо, дискретно, содержит в своей биодинамической ткани волны и кванты; оно реактивно, чувствительно, то есть имеет собственную биодинамическую и чувственную ткань и способно поэтому ощущать самое себя, заглядывать внутрь себя. Продолжу метафоры: оно не слепо для самого себя, оно происходит из себя (М. Мерло-Понти); оно слепой и поводырь, садовник и цветок, лошадь и цыган (О. Мандельштам). По словам Ч. Шеррингтона (1969), на завершающих участках движения (действия) имеется место элементам памяти и предвидения, которые в своем дальнейшем развитии составят то, что мы называем умственными способностями. А. В. Запорожец выделял в действии две фазы (между которыми, видимо, тоже должен быть зазор): практическую и теоретическую. Другими словами, действие — тоже теоретик, наверное, поневоле, поскольку нет гомункулуса. Может быть эти завершающие участки и есть “потом”, о котором говорит М. К.? В живом движении имеются остановки, паузы, которые полезно уметь держать. Может быть, это и есть аналог “зазоров длящегося опыта”. С содержательным временем, в котором развертывается эмпирическое, живое движение со всеми своими свойствами, включая и дискретность, с зазорами, казалось бы, все ясно. Если оставить в стороне эмпирическое движение Бога в зазоре, то все узнаваемо, во всяком случае с позиции психологической физиологии. Менее ясно со временем сплошной актуальности, с зазором в этом актуальном (и мгновенном) смысле, которые не укладываются на прямой содержательного времени. Актуальное время, на котором располагаются (или совпадают с ним) фиксированные точки интенсивности, видимо, должно быть перпендикулярно содержательному времени. Нагрузим эти точки еще одним смыслом. Может быть эти точки интенсивности и есть душа? Или более правдоподобно у Плотина — благодать, великодушие, душа есть грация, которую мы находим и в движении и в неподвижности. По А. Бергсону, красота — это застывшая грация. Воспользовавшись термином романтиков, ее можно уподобить “парящему действию” (ср.: “душой исполненный полет”). Ее страсти также связаны с действием. М. К. приводит психологически оправданное допущение Декарта, что все, что мы сейчас видим и чувствуем, переживаем, есть страсти давно исчезнувших действий, какие-то отражения давно “умерших действий” (Мамардашвили М. К., 1993, с. 142). Но есть и другой мир — “мир чудовищной актуальности”. М. К. мучительно ищет язык для описания странного человеческого мира — мира, как он говорит, сплошной актуальности. Это мир действий, а не страстей, или, вернее, мир таких действий, которые одновременно являются и страстями, т. е. состояниями. И само действие он называет “состоянием”. Приведу полный вариант описания этого мира: “Декартов мир есть мир какой-то странной и чудовищной сплошной актуальности, или мир действий, в который мы попадаем и выпадаем. Впадая в него, мы имеем другую особую длительность, например, длительность “врожденных идей”, длительность действия, т. е. волевого проявления (а оно может быть только полностью все целиком, потому что воля, в отличие от других явлений, неделима — так же как и добродетель). И в таком мире не только все актуально, но актуально все: все в целом представлено “здесь и сейчас”, “hie et nunc” (Мамардашвили М. К., 1993, с. 142, 143). Это своего рода панегирик или, точнее, пролегомены к будущей психологии действия (не рефлекторной и не деятельностной, хотя в последней уделялось огромное внимание различным психическим действиям: сенсорным, перцептивным, мнемическим, умственным, исполнительным, эмоциональным), а возможно, и к новой психологии личности. В Декарте, прочитанном М. К., просвечивает то, что заслуживает названия “вершинной”, “акмеистической”, может быть даже романтической психологии, о которой в разное время мечтали Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец. Примечательно, что они избегали распространенного ныне претенциозного термина “гуманистическая психология”. Как возможен во времени этот мир “чудовищной актуальности”, в которой слиты все три цвета времени. Что собой представляет “аппарат”, преодолевающий время, создающий то, что Л. С. Выготский называл “актуальным будущим полем”? Если формулировать эту проблему в терминах хронотопа (А. А. Ухтомский, М. М. Бахтин, В. Н. Топоров), то она звучит так: что собой представляет хронотопия сознательной жизни? В первом приближении можно сказать, что то, как интерпретирует М. К. естественную геометрию Декарта, очень близко к современным представлениям о хронотопе. Кстати, и А. А. Ухтомский пришел к этим представлениям не без влияния того, что он назвал “осязательной геометрией”. Перед визуализацией хронотопа введем еще два понятия, бытующие со времен Гумбольдта в лингвистике. Я имею в виду внешнюю и внутреннюю формы слова. Действие не беднее слова, тем более, что в древнегреческом слове “логос” и в русском “глагол” неизвестно чего больше, слова или дела (действия). Не буду сейчас специально аргументировать, что в действии помимо его внешнего исполняющего рисунка (внешняя форма) имеется внутренняя форма, которую, например, А. В. Запорожец называл внутренней картиной, внутренней моторикой. Во внутреннюю форму действия, которая сама по себе может быть достаточно дифференцированной, могут входить образ мира (ситуация), образ действия, страсть, слово. Равным образом, и действие может входить во внутреннюю форму слова. Не только образ мира, но и действие “в слове явлено”. Само собой разумеется, что внешняя и внутренняя формы обратимы. Это составляет бесконечный сюжет, хотя известно испокон века. Внешняя и внутренняя формы, как бы они не были тесно связаны одна с другой, как бы они не взаимодействовали, имеют собственные, непохожие на физические, пространство и время. Ментальное пространство и время сознания, время смысла философы и психологи все чаще называют пятым измерением бытия. Может быть, если речь идет о живом, о бытии, о сознании, пора признать его первым измерением? Все чаще используется и понятие хронотопа. Но поскольку хронотоп ненагляден, трудно представим, он трудно приживается в психологии, хотя после М. М. Бахтина он прочно поселился в литературоведении и в искусствоведении. Психологам, видимо, проще оставить ментальность в пространстве мозга. Так будет продолжаться и дальше, если не попытаться наглядно представить себе это пятое — первое измерение. Дело не в том, чтобы присвоить какому-либо измерению тот или иной порядковый номер, а в том, чтобы найти живое измерение бытия и сознания. Именно с этим связана моя первая, возможно, несовершенная попытка визуализации хронотопа. Может быть, она ускорит ассимиляцию психологией идей хронотопа и ассимиляцию удивительного мира действия Декарта, эксплицированного М. К. Приведу прежде замечательные поэтические иллюстрации хронотопа, в которых он представлен как виртуальная реальность. У. Блейк: В одном мгновеньи видеть вечность, Огромный шар в зерне песка, В единой горсти — бесконечность И небо в чашечке цветка. В образе О. Мандельштама имеется не только взаимная трансформация субъективного и объективного пространства и времени, но и взаимный обмен пространства и времени: А, вы, часов кремлевские бои — Язык пространства, сжатого до точки. Трудность визуализации хронотопа состоит в том, что он должен содержать в себе, помимо пространства, семейство или “пространство времен”, располагающихся в пространственных координатах (XY) физического и психологического времени. В этом пространстве нужно найти место временам, с которыми мы встречаемся в размышлениях М. К.: содержательному и актуальному, дискретному и континуальному. Нужно найти место истинной бесконечности и бесконечности “ДИ”, которую ввел А. С. Есенин-Вольпин. Эта бесконечность — “счет до изнеможения” (ДИ) или жизненный, а скорее не-жизненный морок, которым характеризуется “хронологическая провинция”, т. е. стояние или обратное течение времени. Хронотоп двулик. Это в такой же степени “овремененность пространства”, как и “опространственность времени” (простите за неуклюжий неологизм). Я попытаюсь изобразить второй лик хронотопа, представить его пространственно. Что касается пространства per se, то оно будет содержаться в латентной форме. Его место будет указано позже. Обратимся, наконец, к рис. 12. На нем показаны две, расположенные перпендикулярно одна к другой, стрелы времени: стрела физического и стрела психологического времени. Над горизонтальной и непрерывной стрелой физического времени параллельно ей расположена идущая из прошлого в будущее дискретная линия живого времени — времени осуществляемых живым существом движений. Назовем ее стрелой содержательного времени. Живое движение всегда дискретно, оно состоит из живых волн и квантов (Гордеева Н. Д., 1995). На этой дискретной стреле располагаются живые движения, предметные действия, поступки, осуществляющиеся в реальном физическом пространстве и времени и имеющие свои отчетливо выраженные внешние формы. Сегодня эта внешняя форма (траектория, ускорение, скорость, длительность остановок и т. п.) регистрируется с точностью, достаточной для ее микроструктурного и микродинамического анализа. Интервалы, паузы на стреле содержательного времени назовем зазорами длящегося опыта. Из этих зазоров имеются входы в “облака”, “глубины” внутренней формы живого движения. Под словами “облака” и “глубины” не скрывается сознательное и бессознательное. Их можно назвать просто “карманами”, “петлями”, “защечными мешками”, “копилками опыта” и т. п.
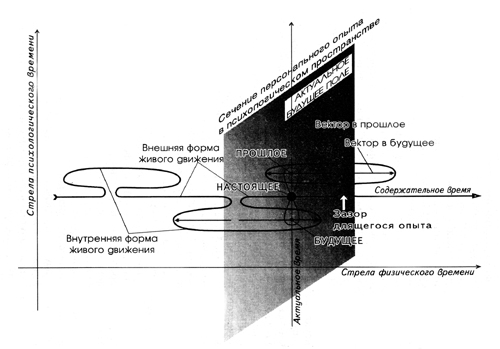
Рис. 12. Хронотоп (виртуальная единица вечности) живого движения (жирная линия и “петли” на ней изображают ход персонального опыта в психологическом времени)
Для объяснения происходящего в живом движении их удобнее расположить “над” и “под” стрелой содержательного времени. Облака и глубины построены в соответствии с одним принципом. Они располагаются над или под зазором, но захватывают или покрывают также участки совершившегося уже прошлого и несовершившегося еще будущего движения. Соответственно, в каждой внутренней форме имеется вектор от настоящего момента (от центра зазора) назад в прошлое и вперед — в будущее. В принципе внутренняя форма должна присутствовать в каждом живом движении, в каждом его отрезке. Когда она исчезает или истончается, то утрачивается жизненный смысл движения, оно теряет свои адаптивные, конструктивные свойства. Другими словами, оно перестает быть живым, содержательным, превращается в дурную бесконечность или в бесконечность “ДИ”, становится мертвым. На рисунке внутренние формы показаны пустыми. На самом деле, имеется целое семейство моделей движения и действия, в которых внутренняя форма весьма и весьма дифференцированна. Во внутренней форме представлены образ ситуации (в нем имеется место для пространства per se, притом наполненного, содержательного), образ действия, интегральные и дифференциальные программы выполнения, схемы памяти, в которых хранятся образы, паттерны прошлых действий, средства контроля и коррекции, настроенные на ожидаемый результат и текущую информацию о его достижении и пр., и пр. Все компоненты моделей охватываются прямыми и обратными связями, своего рода кровеносной системой, которая может под влиянием внешних и внутренних условий реализации действия закупориваться, что вызывает ошибки, ступор и т. д. (см. рис. 5). Из моделей действия стали исчезать блоки принятия решений, в которых было место для демонов и гомункулусов. По мере дифференциации представлений о внутренней и внешней форме действия в них пропала нужда. Решение — это настолько важная вещь, что его (как и память) нельзя доверять какому-либо одному компоненту. В моделях имеется достаточный объяснительный потенциал для понимания того, как движения и действия самосовершаются, растут и развиваются из себя. Далее я попытаюсь показать, что в моделях имеется потенциал и для объяснения соединения в действии двух несовместимых вещей: порядка (закона) и свободы. Несовместимое в философском эксперименте оказывается совместимым в психологическом. Обратимся к зазору длящегося опыта. На внешней форме живого движения зазор вполне наблюдаем, измерим. Это не punctum cartesianum, к которому я вернуть позже. Функционально зазор представляет собой не только вход из внешней формы во внутреннюю, но и вход из внутренней формы во внешнюю. Это средостение между внешней и внутренней формой, место, где возможна обратимость или обращаемость внешней и внутренней форм. А теперь давайте поиграем в невозможность таким образом, как учил нас М. К., а его — Декарт. Может быть такая игра нас к чему-то приведет. Идею обратимости форм очень наглядно пояснил О. Мандельштам в “Разговоре о Данте”. Он, интерпретируя ремарку Данта: “Я выжал бы сок из моей концепции”, сказал, что форму можно рассматривать и как оболочку, и как выжимку. Может быть, внимательный читатель, рассматривая рисунок, заметил его несуразность. Внешняя форма обозначена прямой линией, а внутренняя форма обволакивает ее. Зазор — средостение делает непонятным происходящее. То ли внешняя форма порождает, выжимает из себя внутреннюю, то ли внутренняя форма порождает, выжимает из себя внешнюю. Так где же внутренняя форма? Внутри? Вовне? Где образ-регулятор действия? Может быть, он регулирует изнутри, но сам-то он находится вовне. В этом, слава Богу, никто, кроме некоторых физиологов, ищущих его в мозгу, не сомневается. А где душа? Вспомним Г. Гегеля и более близкого нам по времени Г. Г. Шпета: “Душа есть нечто всепроникающее, а не что-то существующее только в отдельном индивидууме” (Гегель Г. В. Ф., 1977, с. 155). “Вся душа есть внешность. Человек живет пока у него есть внешность. И личность есть внешность” (Шпет Г. Г., 1992, с. 49). В этот же ряд можно поставить и знаменитое “мир как представление” (Шопенгауэр), но не будем впадать в крайность, приводящую к абсурду. Утверждение о внешности души — не отрицание внутреннего, иначе не могло бы быть речи об овнешнении. Трудности локализации внешнего и внутреннего в целом действии говорят лишь об их действительной обратимости и обращаемости. Но не только. Внутренняя форма столь же активна, энергийна, энергетична, сколь и внешняя. Для первой характерна аналогия с “вихревым движением” Декарта. Эту аналогию использовал А. А. Ухтомский для характеристики доминанты, как функционального органа индивида. (По А. Ф. Лосеву образ обладает эйдетической энергией, энтелехией.) Итак, одна функция зазора — это средостение. Для обращения одной формы в другую, физики сказали бы, для фазового перехода нужен не демон, а страсть плюс произвольное или непроизвольное внимание к обстоятельствам, к себе самому, то есть нужен пустячок, которому психологи в последние десятилетия никак не могут найти место в организации психической жизни. Функционально зазор — это “не провал, а промер” того, сколько и какой (внешней или внутренней) энергии необходимо тратить для достижения результата, для решения той или иной задачи. Но для “промера” нужна информация, а в зазоре-точке ее нет. Такая информация о прошлом и будущем имеется в петлях времени, в ментальных облаках и глубинах. Собранная во внутренней форме, она концентрируется в настоящем — в зазоре — и сопоставляется с настоящим. И переход одной формы в другую либо осуществляется, либо не осуществляется. Но ведь об этом же писал и М. К. в уже приведенном выше отрывке. Дискретное, содержательное, то есть обеспечивающее существование порядка время — это время, в котором реализуется внешняя форма. А время реализации, существования внутренней формы действительно непрерывно, континуально, перманентно. В целом же действии совмещены дискретность и непрерывность времени, благодаря чему время может стать “действующим лицом” (со своим голосом, обликом, запахом...). То есть в одном действии содержательные временные точки, с одной стороны, не вытекают из предшествующих и не определяют будущие, но во внутренней форме, в ментальности такая возможность все же предусмотрена. Как принято говорить, в идеальном плане или в фантазии. Не уверен, что я правильно толкую М. К., но для психологии действия несомненна “своенравность” внешней формы, которая не слепо подчиняется внутренней. Да и последняя далеко не всегда бывает в восторге от реализации замысленного. Поэтому-то и существует механизм контроля и коррекций, остановки действия до реализации и т. п. Не могу не сказать, что при всей теоретической (философской) независимости точек содержательного времени друг от друга (может камень упасть на голову или зарезать трамваем) эмпирически такая зависимость существует. Предшествующие точки представлены в настоящем благодаря кратковременной памяти, а точки настоящего имеют “свободные радикалы” для “захвата” будущих. Связки рвутся в шоковых ситуациях, когда возникают эффекты ретро- и антероградной амнезии (Ф. Д. Горбов). Кстати, не так уж мало людей стремится к подобным амнестическим состояниям. Прием наркотиков помогает уйти от стыда за прошлое, от страха перед будущим и дает “кайф” в настоящем. Пока речь идет о связи времен по горизонтали содержательного времени и иллюзорно-компенсаторных приемах ее разрыва. Приведенные бесспорные и в общем полезные в качестве фона психологические реминисценции не раскрывают смысла, который М. К. вкладывает в то, что он называет точкой, зазором, мгновением, в котором находится целиком акт мысли. На схеме зазор представлен как интервал между участками внешней формы живого движения. Если не учитывать наличия внутренней формы, то это пустота. При наличии внутренней формы во время покоя, конечно, проделывается полезная работа по оценке выполненного, по планированию предстоящего и т. п. Но это не точка интенсивности, не точка рождения мысли. Поищем ей на схеме другое место. Проведем (см. там же — на рис. 12) перпендикулярно стрелам физического и содержательного времени стрелу актуального времени таким образом, чтобы она пересекала внешнюю форму живого движения, а также его внутреннюю форму (облака и глубины). В “облаке” она пересекает вектор в прошедшее, в “глубине” — вектор в будущее. Условимся, что пересечение с горизонтальной осью — это точка настоящего. В результате мы получаем одновременно три точки времени, расположенные на одной оси параллельно стреле психологического времени: прошлое, настоящее и будущее, сливающиеся в одном актуальном мгновении. Смею предположить, что может быть это и есть искомая точка интенсивности, punctum cartesianum, абсолютный зазор, отличающийся от эмпирического зазора-паузы. Пауза — место для рефлексии, абсолютный зазор — для творчества, поскольку в нем есть и напряжение действия, посредством которого будущее только и может перейти в настоящее, а затем стать прошедшим (я воспроизвожу логику Августина). Точка, где слиты все три цвета времени — это точка усилия, держания их вместе, по логике М. К., усилия человека быть. Будем называть ее фиксированной точкой интенсивности в смысле М. К., т. е. точка, одухотворяющая содержательное время. Вот это-то мгновение может останавливаться, превращаться в дление, если у человека есть силы держать его. Если силы находятся, то здесь, в функциональном настоящем происходит приращение знания, личного и личностного опыта, преодоление или “заклятие хаоса”, личностный рост, творчество и т. д. Напомню, что фиксированную точку интенсивности М. К. идентифицировал с Я. Здесь же осуществляются акты развития, превосходно (и не без влияния М. К.) описанные Б. Д. Элькониным (см.: Эльконин Б. Д., 1994). Не буду умножать эпитеты или комплименты, которые использовал М. К. для характеристики фиксированной точки интенсивности. Она или возникнет, или не возникнет. Остальное — на втором шаге, во время эмпирического зазора, осмысления, рефлексии осуществленного и рефлексии “себя любимого” — осуществляющего. В принципе фиксация точки интенсивности может произойти в любом месте внешней формы живого движения. Фиксация именно данной точки, определяется многими внешними обстоятельствами или их неправоподобным, уникальным сочетанием (как, например, авария на Чернобыльской АЭС) или просто волей случая (провидения). Как бы то ни было, точка интенсивности на стреле содержательного времени притягивает к себе (или втягивает в себя) точки из актуального будущего и прошедшего, вбирает в себя их энергию. Сделаем паузу (зазор) и попробуем рассказать об этом же на языке Л. С. Выготского, который не мог пройти мимо проблемы свободного действия и дал превосходное психологическое описание условий возникновения действия, свободного от власти непосредственно действующей на ребенка актуальной ситуации: “Создавая с помощью речи рядом с пространственным полем также и временное поле для действия, столь же обозримое и реальное, как и оптическая ситуация (хотя, может быть, и более смутное), говорящий ребенок получает возможность динамически направлять свое внимание, действуя в настоящем с точки зрения будущего поля и часто относясь к активно созданным в настоящей ситуации изменениям с точки зрения своих прошлых действий. Именно благодаря участию речи и переходу к свободному распределению внимания будущее поле действия из старой и абстрактной вербальной формулы превращается в актуальную оптическую ситуацию; в нем, как основная конфигурация, отчетливо выступают все элементы, входящие в план будущего действия, выделяясь тем самым из общего фона возможных действий. В том, что поле внимания, не совпадающее с полем восприятия, с помощью речи отбирает из последнего элементы актуального будущего поля, и заключается специфическое отличие операции ребенка от операции высших животных” (Выготский Л. С., 1984, т. 6, с. 47, 48). К своему стыду я только в процессе данной работы проник (возможно не до конца) в смысл приведенного отрывка. В нем по существу дано описание психологического синтеза времени, хронотопа сознательной и бессознательной жизни, хотя Выготский и не пользовался этим понятием. Вернемся к рис. 12. Три точки в пересечениях стрелы актуального времени — это визуализация (возможно, неудачная) дления, это “актуальное будущее поле” (Л. С. Выготский), временная перспектива или, как говорил А. А. Ухтомский: “у более сильных из нас глубина хронотопа может быть чрезвычайно обширной, районы проектирования во времени чрезвычайно длинными...” (Ухтомский А. А., 1978, с. 88). В пределе в “мгновенном длении”, в хронотопе должны быть история, настоящее и вечность. Но этот предел — личность, человек исторический. М. К. не любил всуе произносить слово “личность”. Я не претендую на изображение всей глубины хронотопа, содержащего или “держащего” вечность. Слияние трех цветов времени в актуальном будущем поле осуществления действия — это, скорее, элементарная, но, надеюсь, виртуальная единица вечности, ее, так сказать, клеточка или “неразвитое начало развитого целого”. Но если мы не положим ее в самом начале, то необъяснимым “чудом или скандалом” (к этим словам М. К., подобно И. Канту, имел пристрастие) будет существование вечности в сознании индивида, ибо вне конечной, малой формы бесконечности исчезают (ср.: Мамардашвили М. К., 1993, с. 349). Итак, согласно психологической версии размышлений М. К., можно говорить о двух зазорах: абсолютном и эмпирическом. Абсолютный punctum cartesianum — это соединение на оси актуального, перпендикулярного содержательному времени в мгновении-длении прошедшего, настоящего и будущего, включая вечность (это вневременные состояния сознания и духа), что является необходимым условием творчества. Это первый шаг в терминологии М. К. Эмпирический зазор на оси содержательного времени — это осмысление, осознание содеянного, отвоеванного у хаоса на первом шаге. В эмпирическом зазоре возможна рефлексия (о ее элементарной единице немного позже). Следя за мыслью М. К., я невольно и незаметно для себя подошел к акту творения, то есть снова поднял фиксированную точку интенсивности на недосягаемую высоту — до вечности, скандала и чуда. Попробуем вслед за М. К. подниматься от элементарной единицы вечности, если и не к абсолютной точке, то повыше эмпирического зазора. На приведенной схеме актуальное будущее поле показано лишь в одной точке стрелы физического времени. Но подобный акт происходит в человеческой жизни не единожды. Назовем слияние трех цветов времени событием, условием акта развития, поступка или самим актом и поступком. Они могут повторяться и располагаться на других точках этой стрелы. Но каждый раз, осуществляясь после эмпирического зазора (зазоров), они будут располагаться все выше и выше. Это не “томление”, а стремление и развитие духа, рост Я. Возможен и другой образ. Сожмем ось физического времени до точки, из которой будет исходить или (в другой концептуальной теологической схеме) нисходить, спускаться вертикальная стрела психологического актуального времени. Сказанное иллюстрирует рис. 13, где показаны выходы из содержательного времени в актуальное. Подобный прием — как заметил О. Мандельштам — может спасти принцип единства (которого нам так не хватает) в вихре перемен и безостановочном потоке явлений, происходящих в содержательном времени. Благодаря этому приему можно собрать фиксированные точки интенсивности, скажем, случайно разбросанные на стреле содержательного времени, и расположить их на оси актуального времени. Ясным для гуманитариев языком прием свертывания исторического (и психологического) времени описал О. Мандельштам, используя образ веера (см.: раздел 3.3). Замечу, что при всей случайности возникновения фиксированных точек интенсивности, при таком способе рассмотрения они оказываются необходимо связаны с друг другом. О. Мандельштам отмечает, что уподобление объединенных во времени явлений такому вееру подчеркивает только внутреннюю связь и вместо проблемы причинности выдвигает проблему связи. К этому можно добавить проблему свободы и воли, которая в науках о человеке не может быть лишена привкуса метафизики. Психология, правда, уже отказывается от механического детерминизма, в ней появляется классификация его видов, вплоть до теологического, но она слишком редко подходит к проблеме соотношения детерминизма и свободы. Если принять такое умопостигаемое свертывание содержательного времени, то фиксированные точки интенсивности (события, творческие акты, поступки и т. п.) будут располагаться в виде узлов на внешнем лепестке веера по его вертикали. Это и есть духовная вертикаль, становление, саморазвитие, самоопределение, личностный рост, описанные в главе 3. Слово узел использовано не случайно. Это те жизненные узлы, “в которых мы узнаны и развязаны для бытия” (О. Мандельштам). Их наличие подчеркивает драматический, кризисный, катастрофический, взрывной, словом, не эволюционный, не прогрессивный, не гармонический и не всесторонний характер человеческого развития.

Рис. 13. Интериоризации сознания, мысли и духа в предметную деятельность (пути одухотворения предметной деятельности)
Напомню относительно гармонии еще одно замечание О. Мандельштама: “интерес к всему граничит с равнодушием, всепонимание граничит с ничегонепониманием” (там же, с. 174). Остановлюсь на последнем пункте, важном для понимания эмпирического зазора, а возможно, и абсолютного. Здесь также содержится своего рода клеточка, элементарная, виртуальная единица, вне существования которой невозможно понимание происхождения “живой рефлексии как подлинного самопроникновения духа” (Новалис) или понимание ее в смысле Декарта: cogito ergo sum. В исследованиях живого движения и предметного действия показано, что они характеризуются реактивностью и чувствительностью, причем последняя неоднородна: имеется чувствительность к ситуации и чувствительность движения к самому себе, к ходу его осуществления, к возможностям его начала, продолжения, окончания. Само по себе это не является неожиданным и даже как будто бы само собой разумеется: для того чтобы овладеть ситуацией, нужно владеть собой, телом и духом. Неожиданно другое — обе формы чувствительности сменяют друг друга по фазе. Нельзя одновременно быть одинаково чувствительным к ситуации и к себе. В этом случае возможен ступор активности. Но нельзя также надолго отстраиваться или утрачивать чувствительность к ситуации или чувствительность к ходу осуществления движения. И то, и другое может быть гибельно для субъекта или для дела, для того и другого вместе. Все это также, казалось бы, само собой разумеется. Каков же выход? Эксперименты Н. Д. Гордеевой и С. Б. Ребрика показали, что при осуществлении простого и в принципе безответственного действия в лабораторной ситуации, смена двух форм чувствительности происходит три-четыре раза в секунду. Это уже удивительно и заставляет предположить во внутренней форме действия наличие механизма сравнения показаний общих видов чувствительности. Это и есть элементарный механизм рефлексии. Приведенным даннымнужно поставить в соответствие наличие нескольких квантов в этом же движении. Критерием для их выделения является ускорение, нарастание скорости до максимума и последующее ее снижение. Таким образом, эмпирические зазоры возможны до нескольких (от 2 до 4-х) в секунду, если движение не баллистическое. В последнем случае мы имеем один квант. Оно целиком построено заранее. А теперь посмотрим на эту экспериментатику глазами М. К. Чувствительность к ситуации, к ее динамике, вызванной в том числе и вмешательством в нее действия, движения; чувствительность действий, движений к своему собственному состоянию, возможностям, к ходу осуществления; сопоставление показаний этих разнородных форм чувствительности между собой — это и есть необходимые и достаточные условия для того, чтобы “держать” порядок (закон) и свободу. С порядком и законом все более или менее ясно. Не нужно идти в огонь и в воду — сгоришь, утонешь. Желательно избегать и медных труб. Или уже обманывают, или обманут, а уж завидовать и злословить будут наверняка. Чувствительность к ситуации, сопоставление со своими возможностями, если хотите, способностями обеспечивает адаптивность к ситуации, скажем организмическую целесообразность, что, между прочим, не так уж мало. А если нужно в огонь и в воду? Бывает ведь и такое в жизни. Если нужно выйти за пределы ситуации, подняться над ней, осуществить не ситуативный, а надситуативный акт, который не обязательно должен быть разумным (во всяком случае в обывательском понимании разумности). Если есть потребность рискнуть, пойти на Голгофу? Для этого тоже имеется все достаточное и необходимое: есть избыток степеней свободы кинематических цепей человеческого тела, избыток степеней свободы образа по отношению к оригиналу, избыточен язык, память, свободно мышление (мы можем себе позволить помыслить любую чушь), сознание приближается (иногда) к абсолютной свободе. Другое дело, как распорядиться этой свободой — наступить на горло собственной песне, адаптироваться к ситуации или подняться над ней? У нас для этого имеются некоторые возможности, заключенные в “пространстве времен”, рассмотренных выше. Это “пространство” гетерогенно. В изображенном на рис. 12 хронотопе, представляющем собой виртуальную элементарную единицу вечности, любимую Марксом “клеточку развития”, спокойно уживаются многие времена: физическое, психологическое (ментальное), содержательное (дискретное), актуальное (непрерывное). В нем есть место для физической, истинной и дурной (ДИ) бесконечности. Может быть в нем имеется место и для других видов времени, о которых мы пока не можем помыслить, или о которых я не подозреваю. Ни в бытии, ни в сознании такого спокойного сосуществования разных видов времени нет (“покой нам только снится”). Они вступают между собой в противоречия, конфликты. Время может быть уныло-тягучим, скучным, дурным, добрым, агрессивным. В России всегда противно социальное время (вспомните: “Власть отвратительна как руки брадобрея”). Изредка из российской тягомотины случаются кратковременные выбросы в актуальность — как, например, в августе 1991 г. Когда из не преображенного духом содержательного времени нет выхода или условий для прорыва в актуальное время, оно превращается в бесконечность ДИ, люди становятся лишними, как, например (с точки зрения некоторых современных “умников”), дожившие до сегодняшнего дня шестидесятники. Если есть силы прорваться в актуальное время, то оно преображает (освещает, оплодотворяет, одухотворяет) время содержательное, меняет обстоятельства жизни, делает ее бытийственной. После прорыва в актуальное время в человеке возникает потребность, поселяется страсть, накапливаются силы стать и быть человеком. Актуальное время — это время (и пространство), где происходят акты развития, образования человека, о чем не подозревают или смутно догадываются авторы и создатели так называемых образовательных систем. М. К. неоднократно повторяет, что актуальное время — это время символическое, время Бога. Впадая в него, человек сам становится демиургом — прежде всего самого себя, растворяется в явлении свободы. Выпадая из него, он сохраняет свои приобретения. По логике М. К., следующим сюжетом должно было бы быть размышление о том, что каждое время имеет своего хозяина, субъекта, свое я, которое может быть эмпирическим, когитальным, у М. Цветаевой — тронным... Нередко встречается я, бесхозяйственно распоряжающееся своим временем (подобно России, на просторах которой время давно затерялось). Эта тема интересно развернута в опубликованных лекциях М. К. о Прусте. Перед человеком, если он человек, всегда стоит проблема, какое время выбрать: время жить, время умирать, время разбрасывать, время собирать... Мы не можем изменить время, но мы можем выйти из него, позвать за собой других. У М. К. не было революционно-преобразовательского зуда, но он не был и человеком из подполья. Он был свободен в мысли, в слове, в поведении, в поступке. Его мышление было поступающим. Попросту говоря, он был на редкость красив, благодаря удивительной гармонии внешнего и внутреннего. Сам-то он умел держать закон и свободу, хотя одному Богу известно, чего ему это стоило. Однако окружающие о цене этой гармонии не подозревали. Они наслаждались эстетикой мысли и поведения. Здесь самое время и место перейти к анализу М. К. страстей души, взаимоотношений между страстью и действием. Этот анализ (поверьте мне на слово) открывает новую страницу в психологии действия, в психологии эмоций и, как ни странно, в психологической педагогике. (Первый и пробный анализ этой проблематики см.: Зинченко В. П., 1995.) Мы неоднократно встречали учеников (и ученых), которые все знают и ничего не понимают. Они не “содеяли действия”, не отвоевали части действительности, их знания не событийны, не индивидуальны, не несут на себе печати личности. Их знания бесстрастны и безжизненны, как сказал бы С. Л. Франк. М. К. приводит декартово понимание связи действия и страсти: “Страсть в отношении к чему-либо есть всегда действие в каком-либо другом смысле”. То есть без того, чтобы за этим не стояло действие или в этом не содержалось действие (или, скажем так: переместившийся сюда его очаг)”, — поясняет М. К. (1993, с. 321). Если это перевести на установившееся в психологии различение внешнего и внутреннего, которое монотонно воспроизводится, например, по отношению к мысли и действию, образу и движению и т. д., то страсть может рассматриваться как внешняя форма, а действие — как ее же внутренняя. Справедливо и обратное: действие — внешняя форма, а страсть — внутренняя. Все дело в точке зрения или точке отсчета: “...страсть и действие суть одно и то же, рассматриваемое относительно двух разных субъектов или носителей. Нечто, рассматриваемое по отношению к тому, кто вызывает и производит, называется действием, и оно же, рассматриваемое с точки зрения того, кто претерпевает, называется страстью” (Мамардашвили М. К., 1993, с. 321). Эти размышления М. К. вызвали у меня неожиданную, на первый взгляд, ассоциацию с идеями Д. Б. Эльконина (1989, с. 130—142) о фазах психического развития в детском возрасте. Они проливают свет на механизм встречи и соединения страсти с действием. Эльконин считал, что всякому периоду, характеризующемуся усвоением операционально-технической стороны деятельности в предметном мире, предшествует период освоения мотивационно-потребностной стороны деятельности, выяснение смысла этого освоения в системе отношений со взрослыми. При этом Д. Б. Эльконин основное внимание обратил на то, что взрослый выступает как носитель образца, нормы и критерия правильности – неправильности выполнения, показывает образец и санкционирует попытки выполнения действия. Кроме того, он отмечает, что выполняемое взрослым действие вызывает эмоциональный и мотивационный отклик ребенка. Однако Д. Б. Эльконин упустил другой момент: родитель, воспитатель, педагог не только носитель образца, но и источник смысла, страсти, возникающей у ребенка, у учащегося. Видимо, эта возникающая страсть объясняет “неудержимость онтогенеза” (А. Г. Гурвич). Это и есть страсть стать человеком, с которой желательно обращаться бережно. Едва ли стоит говорить о том, что во взаимодействии ребенка со взрослым происходит обмен ролями, когда освоенное ребенком действие вызывает восторг (страсть) у взрослого. Почему-то особенно бурный восторг выказывают дедушки и бабушки, видимо, “недоплатившие” своим детям и возмещающие это внукам. Говоря предельно лаконично, интериоризация тоже требует страсти. Под конец о самом трудном в размышлениях М. К. — о зазоре. Эмпирические зазоры в содержательном, дискретном времени — это выходы во внутреннюю форму, которая обеспечивает непрерывность, континуальность поведения и деятельности. Абсолютный Зазор — это духовная вертикаль, личностный рост, выход в жизненную перспективу, обеспечивающие единство и непрерывность всей человеческой жизни. Жан Пиаже назвал бы это автобиографической памятью (может быть, это следует назвать духовной биографией?). Вспоминая свое инженерно-психологическое прошлое, назову зазор в содержательном времени оперативным, обеспечивающим оперативный простор, осуществление и развертывание деятельности. За абсолютным зазором сохраню название, данное ему М. К. Это — пространство сознания, личностного смысла, ретроспект и проспект человеческой жизни. Это — движение человеческого Духа. Оставлю за рамками рассмотрения новую проблему интроекции или интериоризации сознания и духа в предметную деятельность, в содержательное время. Воспроизведу лишь то, как она мне сейчас видится (см. рис. 14). Несколько слов в заключение. Сейчас многие говорят и пишут о мудрости и афористичности М. К. Природа мудрости находится за пределами психологии и науки вообще. Он обладал живым знанием. Его “знание до знания” (которое есть знание не только о чем-либо, но и знание чего-либо) сочеталось с его же “знанием о незнании”. И это было для него самого и нормой, и загадкой, которую он пытался разгадать, обращаясь за помощью к любимым философам, писателям, поэтам. К нему можно отнести слова Гаусса: “Решение у меня есть уже давно, но я еще не знаю, как к нему придти”. М. К. всю свою философскую жизнь пытался пройти путь к своему собственному знанию, анализируя для этого и пути к знанию Декарта, Пруста, Канта.

Рис. 14. Подъем предметной деятельности до уровня сознания, мысли, духа
Он пользовался их опытом знания и незнания. К счастью для нас, он не мог проделывать этот путь только в одиночестве, которого у него все же было достаточно. Он понимал и практиковал философию как говорящее сознание, как сознание вслух и выносил свое сознание на наш суд. Думаю, что в этом был и элемент игры, поскольку наш суд на самом деле его мало волновал. Наслаждаясь эстетикой его мысли, мы мало понимали, если понимали его. Хотя его мысль и его путь входили в какие-то неведомые слои нашего сознания. У нас возникало не только ощущение соприсутствия и сопричастия его мысли, но и убеждение (не способность), что можно мыслить и говорить и так, как он. Воспроизводить свой путь к мысли далеко не всегда удавалось и ему самому. На каких-то участках он оставался непрозрачным для себя самого (об аудитории я уже не говорю). Он это понимал и неоднократно к ним возвращался. Но следовать его пути, вычерпывать из него, додумывать (не боюсь этого слова) за него, как он додумывал за Декарта и Пруста — очень увлекательно. Это живая психология творчества. Конечно, следование за его мыслью не означает воспроизведения его пути: в таком следовании неизбежен перевод на свой язык, а значит и элемент вульгаризации, подобной той, какую я позволил себе. Меня оправдывает уверенность, что М. К. за это меня не осудил бы не только из вежливости. Уверенность исходит из моего опыта совместной работы с ним над двумя статьями. Когда удивленная публика спрашивала нас, как мы работали вместе, мы отвечали, что один из нас пытался сделать разделы, написанные другим, более понятными, а другой — менее понятными, чтобы уравнять текст по критериям понятности – непонятности. Такое уравнивание не вполне удалось. Для понимающих и знающих нас швы между его и моими кусками были очевидны. Когда же я по ходу работы говорил, что мне что-то непонятно, он утешал меня, говоря, что понятность — это вовсе не обязательное требование к статье. Моя уверенность имеет и другой источник. Он знал свой уровень и не требовал от других такого же. Когда друзья предупреждали нас, что за статью 1977 г. нам достанется от критиков, он улыбаясь, возражал со ссылкой на то, что критикам придется добраться до уровня статьи, на что они будут просто неспособны. И оказался прав. Я не льщу себя надеждой, что мне удалось добраться до уровня “Картезианских размышлений”. Буду пытаться и далее. Нашей психологии (да и не только ей) недостает свободного ума, который довольно давно отлетел от науки. Для нее уроки свободной философской и психологической медитации, преподанные Мерабом Мамардашвили в auditorium maximum Психологического института в январе – феврале 1981 г., бесценны.
4.4. О духовном слое сознания В своих ранних работах по структуре сознания я развивал двухслойную модель. Теперь я убежден в ее недостаточности. Духовный слой сознания в человеческой жизни играет не меньшую роль, чем бытийный (экзистенциальный) и рефлексивный слои. Однако требуется немалая концептуальная работа для того, чтобы без противоречий “вписать” духовный слой в структуру сознания. В психологии еще слишком мало опыта обсуждения проблем на основе трехслойной модели. Вероятно, придется поучиться у философов, к примеру, у Гегеля, Франка, Шелера, хотя если бы это было просто, то психологи давно бы так поступили. Ведь ни для кого не секрет, что учение Гегеля о субъективном духе состоит из трех разделов — антропологии, феноменологии и психологии, которым в первом приближении могут быть поставлены в соответствие три слоя сознания. Это — задача, входящая в зону ближайшего развития. Здесь же я хотел бы поделиться некоторыми соображениями о духовном слое сознания. Наличие духовного слоя очевидно. Более того, в структуре целого сознания он должен играть ведущую роль, одушевлять и воодушевлять бытийный и рефлексивный слои. Чтобы быть последовательными, мы должны поставить вопрос об образующих духовного слоя. В качестве таких образующих, как и в предыдущих случаях, не могут выступить “чистые” субъективности. Напомню, что в бытийном слое в качестве, по крайней мере, квазипредмета выступала биодинамическая ткань, способная, вкупе с чувственной, становиться образом, в том числе и образом собственной деятельности, или фантомом. В рефлексивном слое в качестве компонента, репрезентирующего объектность и объективность, выступало значение, способное, вкупе со смыслом, становиться со-значением, личностным и живым знанием или заблуждением, ментальной иллюзией. Соответственно, чувственная ткань и смысл репрезентировали человеческую субъективность. Видимо, в духовном слое сознания человеческую субъективность представляет феноменологическое Я в его различных модификациях и ипостасях (см. раздел 3.4). Именно это Я должно рассматриваться в качестве одной из образующих духовного слоя сознания — его субъективной или субъектной составляющей. Эти положения не противоречат понятию личности в философской антропологии: “Личность — центр духовных актов, по Максу Шелеру, и соответственно центр всего сознания, который сам не может быть, однако, осознан” (Франкл В., 1990, с. 100). Парадокс состоит в том, что центр духовных актов обычно вообще не осознает структуру сознания. В качестве объективной образующей в духовном слое может выступать Другой, или, точнее, Ты. Здесь я использую плоскость анализа Я – Ты, развитую М. Бубером. Эту плоскость анализа он противопоставлял как индивидуализму, так и коллективизму, для которых, по его мнению, закрыта целостность человека: “Индивидуализм видит человека в его соотнесенности с самим собой, коллективизм же вообще не видит ЧЕЛОВЕКА. Он рассматривает лишь “общество”. В индивидуализме лицо человека искажено, в коллективизме оно закрыто” (Бубер М., 1989, с. 90). Автор считает ошибочным выбор между индивидуалистической антропологией и коллективистской социологией. Он находит третий путь, выводящий за пределы индивидуализма и коллективизма. Для него основополагающим фактором человеческой экзистенции является отношение “человек с человеком”. Здесь между человеческими существами происходит “что-то” такое, равное чему нельзя отыскать в природе. Язык для этого “что-то” — лишь знак и медиум, через “что-то” вызывается к жизни всякое духовное деяние” (там же, с. 94). Вспомним, что в логике Д. Б. Эльконина Я – Ты первоначально выступает как совокупное Я. У М. Бубера каждый из двоих — особенный ДРУГОЙ, выступающий не как объект, а как партнер по жизненной ситуации. Хотя Бубер считает ошибочным рассматривать межчеловеческие отношения как психологические, рискну предположить, что его “что-то” представляет собой начало и условие проникновения (заглядывания) внутрь самого себя. Такому предположению отвечают и размышления Бубера, согласно которым целостность личности, ее динамический центр не могут быть осознаны путем созерцания или наблюдения. Это возможно лишь тогда, когда я вступаю в элементарные отношения с другим, т. е. когда он становится присутствующим для меня. Отсюда Бубер и определяет осознание как осуществление личного присутствия. В этой плоскости Я – Ты образуется “тонкое пространство личного Я, которое требует наполнения другим Я” (там же, с. 92). Эту сферу, полагаемую существованием человека в качестве Человека и понятийно еще не постигнутую, М. Бубер называет сферой МЕЖДУ. Именно эту сферу он считает изначальной категорией человеческой действительности. Эта действительность локализована не во внутренней жизни одинокого человека и не в охватывающем личности конкретном всеобщем мире. Она фактически обнаруживается МЕЖДУ ними. Это МЕЖДУ не является вспомогательной конструкцией — наоборот, это место и носитель межчеловеческой событийности: оно не привлекало к себе особого внимания, потому что в отличие от индивидуальной души и окружающего мира не обнаруживает простую континуальность; напротив, по мере человеческих встреч, в зависимости от обстоятельств оно заново конституируется, вследствие чего, естественно, все, причитающееся МЕЖДУ, исследователи связывали с континуальными элементами, человеческой душой и миром” (там же, с. 94). Это — трудный пункт в размышлениях М. Бубера, но он вполне отвечает идеям диалогической и полифонической природы сознания по М. М. Бахтину. Он отвечает и идеям Л. С. Выготского, искавшего природу ИНТРАсубъективности в ИНТЕРсубъективности, и идеям А. А. Ухтомского о “доминанте на лицо другого”, без которой нельзя говорить о человеке как о лице. Соответственно, сфера МЕЖДУ не может существовать вне языка, вне психологических орудий — медиаторов, о которых шла речь выше. Эта сфера заполняется собственными и заимствованными у медиаторов “силовыми линиями” (ср. О. Мандельштам: “Слово... есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие”). При нарушении диалогизма или “диалогики”, по мнению М. Бубера, язык этой сферы сжимается до точки, человек утрачивает человеческое. У М. Бубера отчетливо выступает еще одна грань этого процесса. Он противопоставляет отношения между человеком и человеком отношению человека к миру. Когда встречаются друг с другом Я и Другой, обнаруживается еще остаток, и этот остаток — самое существенное. Такого остатка нет во встрече человека с миром, которую можно делить на мир и человеческую душу без остатка, отделяя “внешние” процессы от “внутреннего” впечатления. Когда думаешь об этом самом существенном остатке, то приходишь к заключению, что именно в нем и “проживает” природа духовности, что этот остаток и репрезентирует превращенные формы, о которых шла речь ранее. Мало этого, думается, в отношениях Я – Ты, возможно, скрываются тайны “идеальной формы”, предшествующей человеческому онтогенезу. У Л. С. Выготского и Д. Б. Эльконина, как и у М. Бубера, Я изначально также следует из Ты. Но в рассуждениях последнего имеется и другой смысл, поскольку Ты у него — не только антропологическая и психологическая проблема, но и проблема теологическая (”Вечное Ты”). Но мне сейчас важнее искать не столько различия во взглядах ученых, сколько общие черты их теорий. А общность состоит в том, что формированию человеческих отношений к миру, в соответствии с их взглядами, предшествует взращивание человеческого отношения к человеку, в чем, видимо, и заключается подлинная духовность, подлинная со-бытийность жизни. Говоря о привычных оппозициях (или связях) человек и мир, человек и общество, человек и человек, нельзя не вспомнить размышления на эти темы С. Л. Рубинштейна, которого эти проблемы волновали с самого начала его научной биографии. К. А. Абульханова-Славская приводит показательные отрывки из рукописи С. Л. Рубинштейна 20-х годов: “2. Активность субъектов и их бытие. Бытие — это не в их независимости друг от друга, а в их соучастии. Каждое построение бытия других совершает работу скульптора. 3. Познание в соучастии и формировании (не просто через отношение к другому существенному для каждого субъекта, а через активное воздействие)...{ ''} (см.: Абульханова-Славская К. А., 1989, с. 14). На склоне лет С. Л. Рубинштейн писал, что общественный план все же “никогда не вытеснял вовсе застрявшие в моем сердце вопросы о нравственном плане личных отношений человека к человеку” (там же, с. 419). В незаконченной книге “Человек и мир” С. Л. Рубинштейн в принципиальном плане отдавал приоритет отношениям человек-мир: “отношения человека к человеку, к другим людям нельзя понять без определения исходных отношений человека к миру как сознательного и деятельного существа” (Рубинштейн С. Л., 1973, с. 343). В вопросе о генезисе феноменологических компонентов отношения Я – Ты у него довольно четко выражен приоритет Я: “Каждый индивид как “я” отправляется от “ты”, “он” (2-е, 3-е лицо), когда “я” уже осознано как таковое. Так что нельзя сказать, что “ты” как таковое предваряет “я”, хотя верно, что другие субъекты предваряют мое осознание себя как “я” (там же, с. 334). И все же С. Л. Рубинштейн “метался” между “я” и “ты”: “Для человека другой человек — мерило, выразитель его человечности”... и далее: “Фактически, эмпирически, генетически приоритет принадлежит другому “я” как предпосылке выделения моего собственного “я” (там же, с. 338, 339). В продолжение этой мысли интересный вариант развития личности в результате видения отраженного Я в другом предложил В. А. Петровский (1993). Очень многое роднит его подход как с представлениями С. Л. Рубинштейна, так и М. Бубера о взаимоотношениях Я и Ты. Петровский предполагает, что процесс развития Я в результате взаимодействия с Ты другого может быть дополнен процессом, разворачивающимся в результате отражения собственного Я в другом. В этом случае собственное Я, наблюдая отраженное Я в другом как в зеркале, может развиваться, преодолевая различия самовосприятия собственного Я и восприятия собственного Я в другом (соответственно, Я-концепция и Меня-концепция). Для меня сейчас не так уж важно определение “истинного” приоритета, будь то Я или другой человек. Важнее преодолеть приоритет коллектива, группы, класса, нации, стаи, стада. Важно не поддаваться на провокационное и нередко страшное Мы. Сошлюсь на Г. Померанца, писавшего о своих студенческих годах: “Мы”... в моих глазах постепенно теряло человеческий облик, становилось маской, за которой шевелилось что-то гадкое, липкое. Я не мог тогда назвать это что-то, не знал его имени. Сейчас я думаю, что в 1937—1938 годах революционное “Мы” умерло, стало разлагающимся трупом, и в этом трупе, как черви, кишели “они”. Те самые, имя которым “легион” (Померанц Г., 1993, с. 149). К несчастью, в этих словах очень точно раскрыт смысл центрального психолого-педагогического принципа советского воспитания: “личность — продукт коллектива”. Правда, возлагать ответственность за формирование отвратительных форм “Мы”, “Они” исключительно на систему воспитания было бы несправедливо, хотя свой “вклад” в это она несомненно внесла. Здесь имеются более глубокие механизмы, до познания которых еще довольно далеко. Специалисты в области мифологии Э. Дуте и Э. Кассирер называют мифических богов и демонов (добавлю к ним и диктаторов-выродков) “олицетворенным коллективным желанием” (см.: Кассирер Э., 1993, с. 157). Обратим внимание также на то, что не имеющие названия “что-то” М. Бубера и Г. Померанца имеют противоположный знак. Но, наверное, было бы преувеличением сказать, что “что-то” во взаимодействии Я – Ты всегда божественное, а “что-то” во взаимодействии Я – Мы, Я – Они всегда сатанинское. Что касается мира и другого, то разница между ними весьма и весьма относительна. Ведь, если другой — это целый мир, то встреча с ним — это счастье, если есть способность к “прозрению и познанию сущности другого человека” (Рубинштейн С. Л., 1973, с. 374). В любом случае “Я для другого человека и другой для меня — является условием нашего человеческого существования” (там же, с. 373). С этой точки зрения Ты выступает в двух ипостасях: и как субъект-, и как объект-партнер, имеющий в себе свой собственный мир. В этом смысле я не нарушаю логику субъективности-объективности, вводя Я – Ты в число образующих сознания. Я столь подробно остановился на ранних и поздних взглядах С. Л. Рубинштейна, потому что он первый (с 1958 г., когда возник замысел книги “Человек и мир”) продолжил традиции российской нравственной философии и психологии, имея при этом весьма и весьма смутные перспективы на публикацию при жизни. Я, правда, подозреваю, что в нем самом эти традиции никогда не прерывались, а, скорее, угашались, к тому же не очень умело. Замысел этой книги, посвященной в основном проблемам этики, был, видимо, связан с его трепетным отношением к смерти. Смерть он рассматривал как “Завершение — обращение к своему народу и человечеству” (т. е. он действительно был космополитом не в сталинско-ждановском, а в подлинном и возвышенном смысле этого слова): “Смерть моя — для других — остающаяся жизнь после моей смерти — есть мое не-бытие. Для меня самого, т. е. для каждого человека, для него самого смерть — последний акт, завершающий жизнь. Он должен отвечать за свою жизнь и в свою очередь определять ее конечный смысл. Отношение к своей смерти как отношение к жизни” (см.: Сергей Леонидович Рубинштейн. 1989, с. 415, 420). Эти размышления о смерти близки к поэтическим образам О. Мандельштама: Неужели я настоящий и действительно смерть придет. Или Когда б не смерть, то никогда бы я не узнал, что я живу. Созвучно это и размышлениям М. К. Мамардашвили о своей судьбе и о своей “планиде”: “А планида наша — мастеровой труд, в себе самом исчерпывающееся достоинство ремесла, “пот вещи”, на совесть сработанной. Сказав это, я чувствую, насколько это похоже на клятву Мандельштама “четвертому сословию”. Поэтому то же самое, что я сказал о философах, гораздо поэтичнее можно сказать его же, Мандельштама, словами: “Мы умрем, как пехотинцы, но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи” Мамардашвили М. К.. 1990. с. 199). О том же думал и И. Бродский: От всего человека вам Останется часть речи. Размышления о жизни и смерти приведены в контексте обсуждения проблемы духовного слоя сознания не случайно. Как-то М. К. Мамардашвили на вопрос А. Н. Леонтьева: “С чего начался человек?”, — ответил, — “С плача по умершему”. Можно предположить, что отношения Я – Ты столь же интимны в жизни человека, сколь интимны его представления о жизни и смерти. Возможно, они даже эквивалентны. Если это действительно так, то образующими духовного слоя сознания могут выступать, наряду с реальными отношениями Я – Ты, действительные или мнимые представления человека о жизни и смерти (последователи и поклонники В. С. Соловьева могут подставить представления о любви и смерти). Духовный слой сознания, конструируемый отношениями Я – Ты, формируется раньше или, как минимум, одновременно с бытийным и рефлексивным слоями. Иными словами, формирование сознания осуществляется не поэтапно, впрочем, как и формирование умственных и других действий (пора отказываться от привычного советского лексикона: лагерь, этап, зона, светлое будущее и т. п.). Формирование сознания — это единый синхронистический акт, в который с самого начала вовлекаются все его образующие. Иное дело, что этот акт может продолжаться всю жизнь и, конечно, не совершается автоматически. Духовный слой сознания — это особая онтология, к которой психология, в отличие от бытийного и рефлексивного слоев, прикасалась лишь изредка, поскольку она шла вслед за традиционными оппозициями “человек и мир”, “человек и общество”, “человек и машина” не говоря уже о примитивных оппозициях “материя и сознание” или “мозг и сознание”. Это особая онтология, по словам М. Бубера, обнаруживает себя лишь между двумя трансцендирующими личностями: “Царство МЕЖДУ находится там, где встречаются Я и Ты, на узком горном хребте, по ту сторону объективного и субъективного” (Бубер М., 1989, с. 96). Образ узкого горного хребта очень точен. Если бы мы попытались изобразить модель сознания, она бы не уместилась на плоскости. Духовный слой сознания — это, на самом деле, его вертикальное измерение. Я, конечно, понимаю, что и бытие не одномерно (если это не быт), но духовный слой сознания — это прорыв за многомерность бытия. Это прорыв, взрывающий бытие или заставляющий бытие оцепенеть и замерзнуть. Мыслимая структура сознания не только полифонична, но и полицентрична. Каждая из образующих бытийного и рефлексивного слоя сознания может стать его центром. Смена таких зафиксировавшихся (иногда болезненно) центров тем легче, чем выше духовная вертикаль, представленная в сознании. А подобная смена (смены) необходима, поскольку сознание должно быть открытым, свободным и всеобъемлющим, если, конечно, оно не заместилось идеологией, т. е. “ложным сознанием”. Смена необходима и для поиска точки опоры, для самопознания. Другими словами, полицентризм столь же необходим сознанию, как моноцентризм — совести. Полицентризм и плюрализм совести равнозначны ее отсутствию. Но это уже философия (и онтология) не психологии, а этики, морали, нравственности, которые, впрочем, не должны быть чужды и психологии. Послесловие После всего изложенного в книге значимость проблематики духовного слоя сознания не вызывает сомнений. Это серьезный вызов психологической науке. Примет ли она его? Над нами все еще довлеет идеология экономического материализма и идеология коллективизма, а проводимые реформы слишком робко и неумело выходят за рамки этих идеологий. Человек все еще остается terra incognita для реформаторов. В этом состоит одна из причин их более чем скромных результатов. До многих еще не дошли слова Т. Гоббса: “Тот же, кто должен управлять целым народом, должен, читая в самом себе, познать не того или другого отдельного человека, а человеческий род... Это трудно сделать, труднее, чем изучить какой-нибудь язык или отрасль знания”. По стилю и канону своего времени философ обращался в первую очередь к монархам. В демократическом обществе это уже касается всех. “Сегодня, в эпоху демократии, государством управляют обычные граждане, с самыми различными призваниями. Поэтому демократическое общество не достигнет успеха до тех пор, пока общее образование не даст людям философского мировоззрения”, — писал англо-американский математик, логик и философ А. Уайтхед (1990, с. 496). Но предварительно мы должны восстановить в правах и в полном объеме понятие человекознания, до самого последнего времени вообще игнорировавшееся энциклопедиями и справочниками (см.: Мещеряков Б. Г., Мещерякова И. А., 1994; Мещеряков Б. Г., 1996). Свое представление о структуре знания марксистско-ленинская философия заимствовала из раннего позитивизма (например, О. Конта), который отверг всякое вненаучное знание и построил иерархию наук, позволившую в конце концов упрятать человекознание в пропасть между двумя так называемыми формами (вернее, фантазмами) движения материи — биологической и социальной. Я надеюсь, что рассмотренные в этой книге проблемы помогут осознанию необходимости ввести в нашу культуру и особенно образование такой грандиозный и динамичный функциональный орган как живой образ человека. И очень важно понять, что этот образ требуется развивающейся личности не меньше, чем профессиональному педагогу. Иначе говоря, перед науками о человеке, в их числе и психологии, стоит задача исследования и демонстрации всего пространства выбора путей развития человека и его мира. Это и есть важнейший из искомых медиаторов духовного роста. Без него невозможно проектирование нормального образования. Только нужно помнить, что проектирование — это еще один СПИД XX века. Призывы к тотальному проектированию всего и вся, в том числе образования, продолжаются, воспроизводятся снова и снова. Исходной точкой этих призывов и продолжающейся практики является плохо предвидимое будущее человека и человечества. Следовательно, остается возможность конструирования Новых утопий, получающих квазинаучное и псевдоблагородное наименование Доктрин образования. На самом деле доктрины образования проникнуты неистребимым пока советским Административным Восторгом. Парадокс состоит в том, что преодоление старых утопий, доктрин, систем... достигается все теми же проективными подходами и методами. И крайне сложно отличить проекты от прожектов. Но как не угасает надежда на появление вакцины от СПИДа, так остается и надежда на вакцину от тотального проектирования. Я отчетливо понимаю, что бессмысленно бороться с проектированием. Оно действительно необходимо и полезно. Но его надо очеловечить и окультурить. В этой книге я и пытался показать и рассказать, как это сделать.
Литература Абулъханова-Славская К. А. Принцип субъекта в философско-психологической концепции С. Л. Рубинштейна // Сергей Леонидович Рубинштейн. Очерки, воспоминания, материалы. — М., 1989. Августин А. Исповедь. — М., 1991. Аверинцев С. С. Вячеслав Иванов // Вячеслав Иванов. Стихотворения и поэмы. — М., 1976. Адо П. Плотин или Простота взгляда. — М., 1991. Апокрифы древних христиан. Исследования, тексты, комментарии. — М., 1989. Арутюнян И. Н., Морозова Н. Д. / (сост.) А. Д. Сахаров: Этюды к научному портрету. — М., 1991. Асмолов А. Г. Психология личности. — М., 1990. Барт Р. Семиология как приключение // Мировое дерево. — Вып. 2. — М., 1993. Бахтин М. М. К эстетике слова // Контекст. — М., 1974. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. — М., 1975. Бахтин М. М. К философии поступка. Философия и социология науки и техники // Ежегодник 1984—1985. — М., 1986. Бахтин М. М. Человек в мире слова. — М., 1995. Бердяев Н. А. Собрание сочинений. — Т. 4. — Париж, 1990. Бернштейн Н. А. Биомеханическая нормаль удара при одноручных ударно-режущих операциях // Исследования ЦИТ, т. 1, вып. 2, 1924. Бернштейн Н. А. Биодинамика локомоций (генезис, структура, изменения) // Исследования по биодинамике ходьбы, бега, прыжка. — М., 1940. Бернштейн Н. А. Физиология движения и активность. — М., 1990. Бибихин В. В. Язык философии. — М., 1993. Бим-Бад Б. М. Антропологические основания важнейших течений в мировой педагогике (первая половина двадцатого века). Докторская диссертация в форме научного доклада. — М., 1994. Блок А. Сочинения. В 8 т. — Т. 5. — М., 1963. Бродский И. Об Ахматовой. Диалоги с С. Волковым. — М., 1992. Бубер М. Проблема человека. Перспективы // Лабиринты одиночества. — М., 1989. Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество. — М., 1992. Валери Поль. Об искусстве. — М., 1976. Василюк Ф. Е. Психология переживания. — М., 1982. Вернадский В. И. О русской интеллигенции и образовании // Открытия и судьбы. — М., 1993. Вернан Ж.-П. Грузинский Сократ // Вопросы философии, 1992, № 5. Верч Дж. Голоса разума. — М., 1996. Волкогонов Д. Лев Троцкий // Октябрь, 1991, № 7. Выготский Л. С. Собрание сочинений. В 6 т. — М., 1982—1984. Выготский Л. С. Психология искусства. — М., 1987. Гавел В. Власть безвластных // Даугава, 1990, № 7. Гальперин П. Я. О формировании чувственных образов и понятий // Материалы совещания по психологии, 1955. — М., 1957. Гальперин П. Я. К учению об интериоризации // Вопросы психологии, 1966, № 6. Гегель Г. В. Ф. Сочинения. — Т. 4. — М., 1959. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. В 3 т. — Т. 3. — М., 1977. Гегель Г. В. Ф. Философия права. — М., 1990. Гелен А. О систематике антропологии // Проблема человека в западной философии. — М., 1988. Гете И. В. Об искусстве. — М., 1975. Гинзбург Л. С. О старом и новом. — Л., 1982. Гинзбург Л. С. Претворение опыта. — М., 1991. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. — М., 1988. Гордеева Н. Д. Экспериментальная психология исполнительного действия. — М., 1995. Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. Функциональная структура действия. — М., 1982. Горский А. К. Огромный очерк // Путь, 1993, № 4. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. — М., 1972. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. — М., 1986. Давыдов В. В., Зинченко В. П. Вклад Л. С. Выготского в развитие психологической науки // Советская педагогика, 1986, № 11. Дормашев Ю. Н., Романов В. Я. Психология внимания. — М., 1995. Запорожец А. В. Развитие произвольных движений. — М., 1960. Запорожец А. В. Избранные психологические труды. В 2 т. — М., 1986. Зайцев Б. Сергий Радонежский. — М., 1991. Зинченко В. П. Идеи Л. С. Выготского о единицах анализа психики // Психологический журнал, 1981, № 2. Зинченко В. П. Наука — неотъемлемая часть культуры? // Вопросы философии, 1990, № 1. Зинченко В. П. Духовное возрождение // Человек, 1990, № 2. Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания // Вопросы психологии, 1991, № 2. Зинченко В. П. Системный анализ в психологии? // Психологический журнал, 1991, № 4. Зинченко В. П. Проблемы психологии развития (Читая О. Мандельштама) // Вопросы психологии, 1991, № 4—6; 1992, № 3—6. Зинченко В. П. Слово сильнее государства // Alter Ego, 1992, № 1. Зинченко В. П. Культурно-историческая психология и психологическая теория деятельности: живые противоречия и точки роста // Вестник МГУ. Серия XIV. Психология, 1993, № 2. Зинченко В. П. Культурно-историческая психология: опыт амплификации // Вопросы психологии, 1993, № 4. Зинченко В. П. Психология в Российской академии образования // Вопросы психологии, 1994, № 2. Зинченко В. П. Возможна ли поэтическая антропология? — М., 1994. Зинченко В. П. Аффект и интеллект в образовании. — М., 1995. Зинченко В. П. М. Мамардашвили открывает Декарта психологам // Встреча с Декартом / Под ред. В. А. Крутикова и Ю. П. Сенокосова. — М., 1996. — С. 269—299. Зинченко В. П. Мир образования и/или образование мира // Мир образования, 1996, № 3, 4. Зинченко В. П. От классической к органической психологии // Вопросы психологии, 1996, № 5, 6. Зинченко В. П. Интуиция Н. А. Бернштейна: движение — это живое существо // Вопросы психологии, 1996, № 6. Зинченко В. П. Образ и деятельность. — М., 1996. Зинченко В. П., Гордеева Н. Д. Н. А. Бернштейн и психология действия // Вестник МГУ. Серия XIV. Психология, 1996, № 3. Зинченко В. П., Лебединский В. В. Л. С. Выготский и Н. А. Бернштейн: Сходные черты мировоззрения // Научное творчество Л. С. Выготского и современная психология. — М., 1981. Зинченко В. П., Мамардашвили М. К. Проблема объективного метода в психологии // Вопросы философии, 1977, № 7. Зинченко В. П., Мамардашвили М. К. Исследование высших психических функций и эволюция категории бессознательного // Вопросы философии, 1991, № 10. Зинченко В. П., Мещеряков Б. Г. Человек? Это Мы не проходили // Человек, 1990, № 5. Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. — М., 1994. Зинченко В. П., Мунипов В. М. Эргономика и проблемы комплексного подхода к изучению трудовой деятельности // Эргономика. Труды ВНИИТЭ. Вып. 10. — М., 1976. Зинченко В. П., Смирнов С. Д. Методологические вопросы психологии. — М., 1984. Зинченко П. И. Проблема непроизвольного запоминания // Научные записки Харьковского пед. ин-та иностранных языков. Т. 1, 1939. Зинченко П. И. Непроизвольное запоминание. — М., 1961 (2-изд., 1996). Иванов Вяч. Собрание сочинений. В 4 т. — Т. 2. — Брюссель, 1974. Кандинский В. В. О духовном в искусстве. — М., 1992. Карякин Ю. Ф. Достоевский в канун XXI века. — М., 1989. Кассирер Э. Тайна политических мифов // Октябрь, 1993, № 7. Кедров К. А. Этико-антропный принцип в культуре. Докторская диссертация в форме научного доклада. — М., 1996. Климов В. В. А. Любищев и проблемы органической формы // Человек, 1991, № 2. Кузин Б. С. Об О. Э. Мандельштаме // Вопросы истории естествознания и техники, 1987, № 3. Левин Ю. Заметки к “Разговору о Данте” О. Мандельштама // Intern. J. of Slavic of Lingvistics and Poetics. Moyton, 1972. Vol. XV, pp. 187—190. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. В 2 т. — М., 1983. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. — М., 1975. Лосев А. Ф. Страсть к диалектике. — М., 1990. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. — М., 1991. Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. — М., 1993. Лосский Н. О. Избранное. — М., 1991. Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина “Евгений Онегин”: Комментарий. — Л., 1983. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. — М., 1992. Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы рациональности. — Тбилиси, 1984. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. — М., 1990. Мамардашвили М. К. Европейская ответственность // Литературная газета, 06.03.1991, № 9 (5335). Мамардашвили М. К. Мысль под запретом // Вопросы философии, 1992, № 4, 5. Мамардашвили М. К. Язык осуществившейся утопии // Искусство кино, 1993, № 7. Мамардашвили М. К. Картезианские размышления. — М., 1993. Мамардашвили М . К. Лекции о Прусте: психологическая топология пути. — М., 1996. Мандельштам Н. Воспоминания. Вторая книга. — Париж, 1972. Мандельштам О. Э. Собрание сочинений. В 3 т. // Под ред. Г. П. Струве, Б. А. Филиппова. Т. 3. — Нью-Йорк, 1969. Мандельштам О. Э. Слово и культура. — М., 1987. Мандельштам О. Э. Сочинения. В 2 т. — Т. 2. — М., 1990. Маркс К. Заметки по поводу книги Джемса Милля // Вопросы философии, 1966, № 2. Маркс К.,Энгельс Ф. Сочинения. Т. 12. Махлин В. Л. Михаил Бахтин: философия поступка. — М., 1990. Мелетинский Е. М. Аналитическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов // Вопросы философии, 1991, № 10. Мещеряков Б. Г. Человекознание // Педагогическая энциклопедия. — Т. 2. — М., 1996. Мещеряков Б. Г., Мещерякова И. А. Введение в человекознание. — М., 1994. Налимов В. В. Вездесуще ли сознание? // Человек, 1991, № 6. Неизвестный Э. Кентавр: об искусстве, литературе и философии. — М., 1992. Неизвестный Э. Катакомбная культура и власть // Вопросы философии, 1991, № 10. Нива Ж. Солженицын. — Лондон, 1984. Ньютон И. Оптика. — М. – Л., 1927. Ойзерман Т. И. Философия Гегеля как учение о первичности свободы // Вопросы философии, 1993, № 11. Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. — М., 1986. Пастернак Б. Л. Избранное. В 2 т. — Т. 2. — М., 1985. Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. — М., 1989. Пастернак Б. Л. Об искусстве. — М., 1990. Петровский В. А. Феномен субъектности в психологии личности // Автореф. дисс. докт. психол. наук. — М., РАО, 1993. Померанц Г. Акафист пошлости // Искусство кино, 1991, № 3. Померанц Г. Записки гадкого утенка // Знамя, 1993, № 7. Пригожин И. Р. От существующего к возникающему. — М., 1985. Пушкин А. С. Сочинения. Т. 1. СПб., 1907. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. I—XVI. — М., 1937—1949. Пятигорский А. М. Избранные труды. — М., 1996. Рашковский Е. Б. Лосев и Соловьев // Вопросы философии, 1992, № 4. Ранке И. Человек. Т. 1. СПб., 1901. Рильке Р.-М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. — М., 1971. Роден О. Искусство. Ряд бесед, записанных П. Гзель. — СПб., 1913. Розин В. М. Психология и культурное развитие человека. — М., 1994. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — М., 1940 (2-изд., 1946). Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. — М., 1973. Самойлов А. Ф. И. М. Сеченов и его мысли о роли мышцы в нашем познании природы // И. М. Сеченов, И. П. Павлов, Н. Е. Введенский. Физиология нервной системы. Избранные труды. В 4 т. Кн. 2. Вып. 2. — М., 1952. Сергей Леонидович Рубинштейн. Очерки, воспоминания, материалы. — М., 1989. Солженицын А. И. Бодался теленок с дубом. — Париж, 1975. Солсо Р. Когнитивная психология. — М., 1996. Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. 1, 2. — Лондон, 1990. Теплов Б. М. Избранные труды. В 2 т. — Т. 1. — М., 1985. Тоддес Е. Поэтическая идеология // Литературное обозрение, 1991, № 3. Толстой Л. Н. Педагогические сочинения. — М., 1989. Топоров В. П. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. — М., 1983. Тулвисте П. Э. Обсуждение трудов Л. С. Выготского в США // Вопросы философии, 1986, № 6. Тулмин Ст. Моцарт в психологии // Вопросы философии, 1981, № 10. Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. — М., 1990. Ухтомский А. А. Избранные труды. — Л., 1978. Ухтомский А. А. Интуиция совести. Письма. Записные книжки. Заметки на полях. — СПб., 1996. Флоренский П. А. Органопроекция // Декоративное искусство в СССР, 1969, № 12. Флоренский П. А. Философия культа // Богословские труды. Сб. 17. — М., 1977. Флоренский П. А.Т. 1. Столп и утверждение истины. Ч. 1. — М., 1990. Флоренский П. А. Т. 2. У водоразделов мысли. Ч. 1. — М., 1990. Флоренский П. А. У водоразделов мысли. Ч. 2 // Символ. Т. 28. Париж, июль, 1992. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник. — М., 1990. Фуко М. Герменевтика субъекта. Социо-Логос. Вып. 1. — М., 1991. Хлебников Велемир. Творения. — М., 1987. Хоружий С. С. Сердце и ум // Московский психотерапевтический журнал, 1992, № 1. Челпанов Г. И. О положении психологии в русских университетах. Вопросы философии и психологии. 1912, кн. 114 (IV). Чернов В. “Мстислав Ростропович — гражданин мира, человек России” // Огонек, 1994, № 8. Честертон Г. К. Вечный человек. — М., 1991. Шелер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в западной философии. — М., 1988. Шеррингтон Ч. Интегративная деятельность нервной системы. — М., 1969. Шпенглер О. Закат Европы // Самосознание европейской культуры XX века. — М., 1991. Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты. Ч. 1. Петроград, 1922. Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты. Ч. 2, 3. Петроград, 1923. Щедровицкий Г. П. Система педагогических исследований (методический анализ) // Педагогика и логика. — М., 1993. Щедровицкий Г. П. Избранные труды. — М., 1995. Эйдельман Н. Я. Твой 18 век. Прекрасен наш союз... — М., 1991. Эльконин Б. Д. Введение в психологию развития. — М., 1994. Эльконин Б. Д. Л. С. Выготский — Д. Б. Эльконин: знаковое опосредование и совокупное действие // Вопросы психологии, 1996, № 3. Эльконин Б. Д., Зинченко В. П. Психология развития (по мотивам Л. Выготского) // Гуманитарная наука в России: Соросовские лауреаты. Философия, психология. — М., 1996. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. — М., 1989. Эльконинова Л., Эльконин Б. Д. Знаковое опосредствование, волшебная сказка и субъектность действия // Вестн. МГУ. Сер. 14. Психология, 1993, № 2. Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. — М., 1978. Юнг К. Г. Феномен духа в искусстве и науке. — М., 1992. Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1991.
ЗИНЧЕНКО Владимир Петрович ПОСОХ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА И ТРУБКА МАМАРДАШВИЛИ К НАЧАЛАМ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ Редактор В. И. Михалевская Корректор Н. В. Козлова Компьютерная верстка А. М. Быковской Лицензия ЛР № 061967 от 28.12.92 Подписано в печать 27.01.97. Формат 60x90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. п. л. 21. Тираж 5 000 экз. Зак. № 574. Издательство “Новая школа” 123308, Москва, Проспект Маршала Жукова, 2 Московская типография № 6 Комитета Российской Федерации по печати, 109088, Москва, Южнопортовая ул., 24
Список замеченных опечаток Страница Место на странице Опечатка Должно быть 154 3 абзац сверху (а. св.) развязываетвсилы развязывает силы 230 2 абзац снизу (а. сн.) Онтологичекий Онтологический 272 1 а. сн. Обратимся к Блаженному Августину — к его идеи посредничества между Богом и человеком Обратимся к Блаженному Августину — к его идее посредничества между Богом и человеком 283 2 а. св. достичь свой цели достичь своей цели 304 1 а. св. к которому я вернуть позже к которому я вернусь позже
Сноски Сноски к стр. 183 * Настоящий параграф написан совместно с Е. Б. Моргуновым. Сноски к стр. 230 * О. Мандельштаму принадлежат образы: “Гамлет, мыслящий пугливыми шагами”; “умирающее тело и мыслящий бессмертный рот”; “зрячих пальцев стыд” и т. д. Они, конечно, метафоричны, но не более, чем образ “мыслящего мозга”. Метафоры поэта близки психологической теории деятельности. Сноски к стр. 231 * Надеюсь, понятно, что использование слова “геном” в науках о духе носит метафорический характер. Что же до возможной ревности генетиков к заимствованию их терминов, то можно заметить, что и им самим это не чуждо. Ясно, что не лингвисты пустили в оборот сравнение генетического кода с языком, не лингвисты без всяких кавычек говорят о древнейшем языке жизни и даже о его поэтичности. Сноски к стр. 280 * Так, например, Э. Шпрангер, видимо, первым из психологов утверждал, что соотношение действительной и идеальной структуры, реальной и идеальной формы не только определяет понятие развития, но и выступает в качестве его движущей силы. Содержательная и не утратившая своей актуальности критика взглядов Шпрангера была дана в 20-е годы С.Л. Рубинштейном (Сергей Леонидович Рубинштейн, 1989, с. 345—363). =================== Адрес страницы: http://psychlib.ru/mgppu/ZPM/ZPM-001.HTM
Описание
Зинченко В. П. Посох Осипа Мандельштама и Трубка Мамардашвили: К началам органической психологии. — М.: Новая школа, 1997. — 335 с. — (Открытая книга — открытое сознание — открытое общество). Рубрики: • Общая психология ? Различные проблемы общей психологии • Научная литература • Культурно-историческая психология
© 2007—2013 Московский городской психолого-педагогический университет. Москва, ул. Сретенка, 29 | Тел.: (495) 632 9433, 632 9077
Редакция электронной библиотеки: mailto:lib@mgppu.ru Техн. поддержка: mailto:psp@mgppu.ru Правила по использованию материалов библиотеки
Последние комментарии
1 час 46 минут назад
17 часов 50 минут назад
1 день 2 часов назад
1 день 2 часов назад
3 дней 9 часов назад
3 дней 13 часов назад