Полковник Коршунов
КУТАН ТОРГОЕВ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Старая женщина шла, опираясь на плечо мальчика лет пятнадцати. За руку она вела десятилетнюю девочку. Мальчик нес на спине младшего брата, совсем маленького. Рядом шла единственная их лошадь. Живой скелет, она тащила тощие куржуны[1] — все их скудное имущество. Девочка плакала, спотыкаясь о камни. Мальчик шел молча. Он был строен и черноглаз. Худое тело прикрывал слишком свободный грязный халат. Вместо пояса — обрывок веревки. На ногах мальчика были разбитые, изодранные сапоги, и кровь сочилась из дырок в сапогах. Острые камни резали ноги, лицо мальчика кривилось от боли, но он шел молча. Он слегка сгибался под тяжестью своей ноши. Малыш сидел на его спине и спокойно сосал кулак. Впереди, сзади и рядом шли люди. Шли очень медленно. Больные отставали. Они, со стонами, тащились по камням с края тропы. Тропа извивалась, ползла вверх на гору, зигзагами пересекала снег на перевале, узким карнизом лепилась над пропастью. Дикие горы громоздились в ущелье. Облака окутывали их вершины. Свистел ветер. Люди шли, сплошь заполняя тропу, и когда ущелье стало совсем узким, пришлось остановиться, так как по тропе нельзя было пройти сразу всем и впереди образовалась пробка. Люди сразу опустились на землю. Лежали, не снимая с плеч мешков, не выпуская из рук палок. Лошади и овцы тоже легли прямо на тропу, среди людей. Старая женщина села на корточки и закрыла лицо руками. Девочка легла около нее. Мальчик один стоял на тропе, и его младший брат сверху смотрел на лежащих людей. — Хочу есть, — тихо сказала девочка. Она не переставала плакать. Женщина отняла руки от лица и тоже заплакала, громко всхлипывая. Мальчик вздрогнул и выпрямился. Малыш схватил его за шею, весь сморщился и зарыдал навзрыд. И сразу вокруг закричали, заголосили, заплакали женщины и дети. Мальчик дико озирался по сторонам. Он молчал, стиснув зубы и сжав кулаки. Женщина сорвала платок с головы, и грязные седые волосы упали ей на лицо. Девочка вскочила на колени и кричала, раздирая ногтями себе щеки: — Хочу есть!.. Хочу есть!.. Хочу есть!.. Тогда мальчик ударил ее по лицу, и его громкий голос перекрыл вопли и плач: — Замолчите! Мать, замолчи! — крикнул он. Вокруг смолкли. Девочка тихонько скулила, кулаками размазывая слезы по грязному лицу. В это время впереди двинулись. Люди поднимались и шли. Женщина, всхлипывая, оперлась о плечо мальчика и встала с трудом. С земли не встал один старик. Он лежал на камнях, поперек тропы, и когда мальчик хотел перешагнуть через его ноги, старик тронул его за руку. — Кутан, — тихо позвал он. Мальчик нагнулся к нему. — Кутан, — сказал старик, — молодость мудрее старости, Кутан, а молодой волчонок уже такой же зверь, как и большой волк. Мы смотрим в землю, и течет из наших глаз вместо слез кровь. Это правильно ведь. Ты будешь хороший джигит, Кутан. Так говорю я, старый Мансур, а я многое видел на земле. Возьми мой нож, Кутан. Это хороший нож. Он старше меня и сделан хорошим кузнецом. Мне он не нужен больше. Мальчик взял нож из дрожащих рук старика. — Иди, Кутан, и да благословит тебя аллах, — сказал старик и опустил голову. Мальчик перешагнул через его худые ноги.2
В 1916 году было подавлено революционное восстание в Киргизии. Киргизы уходили в Западный Китай. В долинах дымились аулы, сожженные казаками. Виселицы стояли на дорогах. Киргизы уходили в Китай. Все, что можно было унести, забирали с собой. Каратели проезжали пустые, вымершие селения. Старики шли впереди. Старики вели народ по старым горным тропам. Выбирали самые трудные пути, самые высокие перевалы, чтобы казаки не могли найти следы, не могли догнать. За стариками шли все, кто мог идти. Шли мужчины, женщины и дети. Самых маленьких несли. Гнали стада. В горах была зима, перевалы завалило снегом. Люди замерзали, умирали в снегу. Их хоронили наскоро и шли дальше. Погибал скот. Трупы животных валялись на горных дорогах. Этой зимой у волков и коршунов не было недостатка в пище. Люди шли все дальше, все выше поднимались в горы. Люди выбивались из сил. Нечего стало есть. Обдирали падаль. Начались болезни. Умирали все больше и больше. Но возвращаться было некуда, и люди шли вперед. Старики указывали дорогу и плакали. Маленькие дети с громким плачем просили есть. На перекрестках троп соединялись с другими селениями. Шли сплошным потоком. Готовы были умереть, но не смириться перед русскими.3
Жители аула Ак-Булун, родного аула Кутана, тоже бросили свое селение и присоединились к бежавшим. Шли по реке, сдавленной горами. Река замерзла, и люди шли по льду. Ветер наметал сугробы снега. Узкое русло целиком заполняли люди, и было так тесно, что больные не могли уже отходить в сторону. Больные ложились прямо на лед, и те, кто шел сзади, спотыкались об их тела. Впереди опять остановились. Люди не ложились — на льду было слишком холодно, — ждали стоя. Кутан снял младшего брата со своей спины и отдал матери. Мальчик уснул. Во сне он чмокал губами и улыбался. Наверное, ему снилась вкусная еда. Кутан пошел вперед. Он пробирался между неподвижными людьми и животными. Он видел, как тощая лошадь захрипела, забила ногами и рухнула на бок. Кровь хлынула у нее из горла. Вокруг люди стояли молча. Многие стоя спали. Хозяин лошади снял с нее вьюк. Кутан шел вперед. В другом месте он видел трех женщин, тащивших умершего человека. Полуголый труп закоченел, скорчился на морозе. Женщины втащили труп на скалу и положили в трещину между камнями. Другой могилы они не могли ему сделать. Кутан пробрался в первые ряды. В этом месте небольшая ледяная площадка, немного шире всего ущелья, была окружена высокими скалами. На верхушке одной из отвесных скал стоял мазар[2]. Стены его были выкрашены желтой глиной. На другой, еще более высокой скале нечто вроде небольшой башни было сложено из тяжелых, грубых камней. Там стоял человек с винтовкой, резким темным силуэтом выделяясь на фоне пылающего вечернего неба. К реке спускалась крутая тропинка, прорубленная в камне. Старики аксакалы[3], которые вели народ, тесной кучкой стояли посредине ледяной площадки. Перед ними пять всадников еле сдерживали сытых, крепких коней. Кутан никогда не видел этих пятерых людей. Они были одеты в теплые халаты. На них были шапки из меха сурков и лисиц. Поперек седла у каждого лежала винтовка, и полные патронташи висели на поясах. Сбруя их лошадей была увешана серебряными украшениями. У них были злые, дикие лица, и шрамы были на щеках и лбах у некоторых из них. Старики молча стояли перед этими незнакомыми джигитами. Потом сверху по тропинке бешеным галопом прискакал еще один всадник. Он закрутился на льду, поднял коня на дыбы, выстрелил в воздух и пронзительно крикнул. Эхо загремело в горах. Тогда на высокой скале, рядом с желтым мазаром, появился человек на белой лошади с белым платком в руке. Его длинную бороду развевал ветер. Он молча оглядел ущелье и людей, стоявших на льду. Он заговорил не громко, но слова его слышали все, кто стоял впереди. — Киргизы, — сказал он, — зачем вы пришли сюда? Русские не знали дороги, по которой вы пришли. Теперь русские погонятся за вами и пройдут сюда. Русские отберут мои стада у меня, русские перебьют моих джигитов в моих горах, русские посадят меня в тюрьму и потом повесят меня. Зачем вы идете моей дорогой, киргизы? Один из стариков выступил вперед: — Мы в Китай идем, Джантай Оманов. Мы бросили наши аулы, потому что мы не можем больше жить на родине. Чиновники русского царя забирают наших мужчин, угоняют на войну. Царь ведет войну, — ты знаешь об этом? Мы хотели не подчиниться, мы убили некоторых чиновников, и народ восстал. Но царь послал к нам солдат и казаков. У нас нет сил бороться с ними. Пропусти нас в Китай, Джантай Оманов, и аллах будет добр к тебе… — и старик низко поклонился. Остальные аксакалы поклонились вместе с ним. Народ стоял молча. Человек на скале заговорил снова: — Вы пройдете в Китай, и китайцы узнают дорогу сюда. Китайцы пришлют солдат в мои горы, они угонят мои стада, они возьмут меня и отрубят мне голову. Я не пущу вас в Китай, киргизы. Тогда из толпы выскочил человек. Он был очень худ, лицо его было синее от холода. Он разорвал халат на своей груди и, подымая кулак к тому, кто стоял на скале, закричал: — Посмотри, Джантай, посмотри, как умирают люди твоего народа! Посмотри, как дети и женщины твоего народа замерзают на льду! У нас нет земли, чтобы поставить юрты, у нас нет мяса, мы голодны, и нам некуда идти! Ты богат и силен, Джантай. Но ты не забыл, что ты сын своего народа? Ты не забыл, что ты киргиз? Ты сын собаки, Джантай Оманов! Будь ты проклят!.. Человек на скале молча махнул платком. Грянул выстрел, и говоривший упал, не вскрикнув. Лошади рванулись. Ружье одного из джигитов дымилось. Снова заговорил первый старик: — Ум этого человека помутился от голода, Джантай Оманов. Он не понимал, что говорил. Прости нас, Джантай Оманов, но нам действительно некуда идти. Что нам делать? Человек на скале ничего не ответил. Он повернул коня, ударил его плетью и скрылся за вершиной скалы. Джигиты ускакали за ним. Но когда старики двинулись вперед, часовой на башне щелкнул затвором винтовки и крикнул, что убьет всякого, кто пойдет дальше по ущелью.4
Джантай Оманов был сыном бая[4]. После смерти старика отца Джантай и его брат Джаксалык жили грабежом. Они носились по всему Пржевальскому уезду, нападали на аулы в долинах и на пастухов в горах. Они угоняли стада, и хозяева платили им выкуп. Оба они прекрасно стреляли, и не было джигитов храбрее, чем они. Их боялись, и удача никогда не изменяла им. Но в 1883 году в Пржевальский уезд приехал новый пристав. Он был молодой, горячий человек и усердный чиновник, и он решил поймать братьев. Омановы подстерегли пристава в горах. Они лежали высоко за камнями в ущелье, и пристав проехал по краю пропасти прямо под ними. Первым выстрелом Джантай убил его наповал. Тело сорвалось в пропасть. Джаксалык обстреливал сопровождавших пристава казаков и убил двоих из них. Оставшиеся в живых ускакали обратно. Братья бежали в Китай. Они украли двух девушек из богатого киргизского рода и женились на них. Почти одновременно у них родились сыновья. Потом у них было еще много жен и детей. Братья организовали шайку и прожили в Китае восемнадцать лет. Шайка была небольшая, но грабежи были удачны, и басмачи богатели. Руководил шайкой Джантай. Китаец, управитель уезда, где кочевала шайка, боялся Омановых. Он пригласил их на той[5] и собирался подпоить и убить. Джантай узнал об этом. Он приехал на той, но, пока шел пир, его люди угнали лошадей китайских солдат. К управителю прибежал офицер и доложил об этом. Тогда Джантай встал с ковра, выхватил саблю и разрубил управителю голову. Джаксалык выстрелил в затылок офицеру. Джигиты расправились с остальными. Шайке пришлось уходить из Китая. Джантай решил пройти в дикие горы верховьев реки Кую-Кап. Покрытый вечным снегом, огромный перевал Майбаш отделял долину Кую-Кап от Китая. В сторону России Кую-Кап прорезала каменный массив гор, сотню километров неся свои бурные воды по узкой щели. Путь в долину был одинаково труден с обеих сторон. Дорог никаких не было, а звериные тропы знали очень немногие. В долине были прекрасные пастбища, на окрестных горах водились в изобилии козлы, медведи и барсы, по склонам рос лес. В долине можно было жить, ни в чем не нуждаясь. Джантай повел шайку к перевалу. Но быстро идти было нельзя, так как басмачи гнали стада, везли юрты, жен и детей. У подножия Майбаша шайку настиг отряд китайских солдат. Джантай со своим старшим сыном и с пятью джигитами остался прикрывать тыл. Джаксалык повел остальных через перевал. В китайском отряде было сорок человек. Они подошли к засаде Джантая, и начался бой. В перестрелке были убиты все джигиты и смертельно ранен сын Джантая. Джантай один отстреливался до темноты. Наступила ночь, и китайцы отошли вниз. Их осталось двадцать пять. Когда стало совсем темно, Джантай вылез из засады и ушел на перевал, неся раненого сына. Китайцы не решились преследовать его. Джантай перешел перевал и спустился в долину Кую-Кап. На плече он нес труп сына. На вершине скалы сделали могильный памятник. Его стены и башенки Джантай приказал выкрасить в желтый цвет. Басмачи стали жить в долине. Изредка Джантай переходил перевал или проводил своих джигитов через ущелье и нападал на аулы. Шайка росла. К Джантаю шли все, кого преследовали за убийство или воровство. Удача по-прежнему не оставляла Джантая. Он состарился и поседел, но силен был, как в молодости, и стрелял без промаха. Овцы множились и жирели на пастбищах Кую-Кап, тучные кобылы бесчисленных табунов давали прекрасный кумыс. Джантай был старейшим в роде и полновластным властелином в шайке, и слово его было законом. Он укрепил сторожевые посты на скалах, и джигиты круглые сутки охраняли его горы. Джантай не боялся никого. Он был верным сыном аллаха. Прошло еще пятнадцать лет. Киргизы бежали в Китай, но Джантай не пустил их через свои владения. Две недели люди жили на льду, многие умерли от холода. Басмачи забрали весь скот, и люди голодали. Молодые джигиты Джантая взяли лучших девушек себе в жены и не заплатили никакого калыма[6]. Старики собрали в подарок Джантаю все, что было у людей: кувшины из меди, старое оружие, серебряные украшения в косах у женщин, деньги, зашитые в промасленных подкладках рваных халатов. Собрали все. У людей ничего больше не оставалось. Джантай принял подарок. Через три дня после этого он снова выехал на скалу с могилой. Людей на льду было гораздо меньше. Джантай сказал, что разрешает киргизам пройти в долину и расставить юрты. Люди будут пасти стада Джантая, будут его пастухами. И люди прошли в долину, расставили юрты и стали пасти стада, которые раньше принадлежали им, а теперь стали собственностью Джантая. Кутан Торгоев тоже сделался пастухом Джантая. Он пас лошадей. Его табун ходил в самых отдаленных горах, и Кутан редко виделся с матерью. Старуха жила в становище. Она прислуживала молодой жене Джантая. Прошло два года. Кутан вырос и окреп. Он обошел все горы на много верст вокруг, он знал каждое ущелье, каждый ручеек. Он в совершенстве научился читать сложную книгу следов в горах и лесах. Объезжая жеребцов, он стал ловким и сильным. Охотясь, он научился стрелять без промаха и никогда не тратил пули зря. Ему исполнилось семнадцать лет.5
Младшая, любимая жена Джантая родила сына. Джантай зарезал много баранов, и целый день богатые джигиты банды ели беш-бармак[7] и пили водку в его юрте. Когда солнце спустилось к вершинам гор, началась байга[8]. Джантай вышел из юрты, опираясь на плечо своего любимого сына Алы. Лицо Джантая лоснилось от жира. С ним вышли Джаксалык и все курбаши[9] банды. Алы, старший сын после убитого в Китае, был невысок ростом, но строен и силен. На нем был богатый халат, по-дунгански распахнутый на груди и опоясанный ярким шелком. Кинжал и пистолет торчали из-за кушака. Широкая лисья шапка сдвинута была на затылок. На ногах Алы были щегольские ичиги[10] из тонкой козлиной кожи. Кутан, стоя в толпе пастухов и низко кланяясь вместе с ними, с завистью поглядел на Алы. Джантай взошел на холм. Отсюда должна была начаться скачка. Сначала по долине, а затем по головокружительной тропе лошади должны были проскакать вокруг горы и вернуться к этому же холму. На небольшой поляне крутились разгоряченные кони, визжали и свистели всадники. Сбоку поляны садились на лошадей пастухи. Они тоже должны были участвовать в скачке, но не решались подъезжать к середине, где гарцевали джигиты. Лошади рвались, и пастухи с трудом сдерживали их. Джантай ждал, улыбаясь, и не подавал сигнала к началу скачки. Кутан, встав на стременах, не отрываясь смотрел из-за спин окружающих его всадников на плотную, коренастую фигуру Джантая. Старик один стоял на холме. Под Кутаном был небольшой вороной жеребец. На первый взгляд он был ничем не примечателен. Нужно было приглядеться внимательно, чтобы заметить необычайно широкую грудь, длинный мягкий живот, поджарый круп и плотные ноги. Мотая мохнатой головой и дрожа всем телом, жеребец косил красным злым глазом, храпел и рвал повод. Кутан осаживал его к самому краю поляны и заставлял стоять почти неподвижно. Уже давно Кутан выбрал этого жеребца в своем табуне. Он заботливо следил за ним, объезжая его особо старательно. Кутан знал, что жеребец никогда не будет принадлежать ему, но так нравился юноше этот конь, что он ухаживал за ним, как за своей собственностью. Когда джигиты выбирали лошадей для байги. Кутан запрятал жеребца в самую середину табуна и добился того, что никто его не взял. Теперь сам Кутан поскачет на своем любимце. Расталкивая толпу, к холму проехал Алы. Он небрежно, немного боком, сидел на сером в яблоках кровном жеребце. Жеребец был изумительно красив. Быть может, немного легок для дикой скачки в горах, но точеные ноги, прекрасная шея и маленькая голова были благородны и изящны. Алы махал дорогой камчой[11] с золотыми и серебряными украшениями. Он снял шапку, и чисто выбритая голова лоснилась на солнце. При появлении Алы джигиты закричали еще громче, коней нельзя было уже сдержать, и все сбились в огромный крутящийся клубок. Солнце опустилось совсем низко, верхушки гор багровели в его косых лучах, и красные блики сверкали на сбруе, одежде людей и блестящей шерсти лошадей. Тогда Джантай высоко поднял руку и махнул платком. Байга началась. Засвистели плетки, всадники низко пригнулись в седлах, и через мгновенье все полетело, понеслось вперед. До поворота скакали все вместе, бешено колотя лошадей. В тесноте плети били соседних всадников, разрывали одежду, и кровь проступала на коже. Но на это никто не обращал внимания. Люди слились с лошадьми в безумном азарте скачки. За поворотом долина сужалась, превращалась в ущелье. Всадники вытянулись вереницей. Впереди на огромном рыжем коне скакал толстый джигит. Пригнувшись, он часто оглядывался назад, еще ниже нагибался к шее коня и хрипло кричал ему в уши страшные ругательства. За ним, нагоняя, скакали еще двое джигитов и Алы. Алы, бледный, высоко стоя на стременах и не глядя по сторонам, молча сек камчой бока своей лошади. Он медленно обгонял двоих противников и быстрее их приближался к рыжему. Наконец Алы поравнялся с ним. Теперь рыжий и серый кони скакали голова в голову. Страшными ударами камчи Алы заставлял своего коня все больше и больше наддавать, но рыжий не сдавался. Бока серого покрылись пеной, и пена порозовела от крови. Рыжий спокойно вымахивал длинными ногами и ровно дышал. Вдруг Алы перегнулся набок и молча, со всей силы ударил камчой рыжего коня по морде. Конь на всем скаку взвился на дыбы, шарахнулся и, поскользнувшись, рухнул на камни. Его всадник вылетел из седла и откатился в сторону. Он сразу вскочил и, хромая, подбежал к лошади. Лошадь билась на камнях с переломанной ногой. Теперь скачку вел Алы. По ущелью до следующего поворота он скакал один далеко впереди остальных. За поворотом ущелье снова немного расширялось. Здесь легче было обходить, и шесть лошадей, обгоняя друг друга, стали быстро приближаться к Алы. Его лошадь устала от борьбы с рыжим и, не чувствуя рядом соперников, сбавила ход. Алы обернулся назад и ударил камчой лошадь по шее. На нежной коже сразу вспух рубец. Лошадь рванула вперед. Снова расстояние между Алы и передними всадниками увеличилось. Тогда из плотной группы шестерых лошадей выскочил небольшой вороной жеребец и легким размашистым галопом пошел вперед. На секунду показалось, что серая лошадь Алы остановилась на месте, так быстро подходил к ней вороной. Алы оглянулся еще раз. Вороной был рядом. На нем скакал молодой пастух Торгоев Кутан. Алы узнал его. Они были ровесниками. Кутан негромко понукал своего коня и ни разу не ударил его. Вороной не отставал от серого. Рядом пролетели они до последнего поворота. Выскочив из-за горы, увидели холм и толпу зрителей, ожидающих конца байги. Вороной выдвинулся вперед. Теперь не Алы, а пастух вел скачку. Алы пронзительно взвизгнул и ударил свою лошадь камчой по голове. Обезумев от боли, лошадь невероятно напряглась. Распластавшись по воздуху, она неслась, будто не касаясь земли. Вороной опять отстал. Тогда Кутан, уцепившись за гриву, изогнулся вокруг тела коня, расстегнул пряжку и сбросил на землю седло. Потом он сорвал с себя халат и, полуголый, припал к черной шее коня. Почувствовав облегчение, вороной поскакал быстрее. И все-таки к холму лошади подходили рядом. Кутан оглянулся на бледное лицо Алы и в первый раз ударил вороного плетью. Конь захрипел, закинул голову и огромными скачками обошел серого. Холм был совсем близко. Кутан, не оглядываясь, скорчился на лоснящейся спине своего коня. Он уже ясно видел лица людей, напряженно смотрящих ему навстречу, как вдруг все они закричали и замахали руками. Кутан обернулся назад и увидел, что Алы спрыгивает на землю. Серый конь, осев на задние ноги, опустив голову, покрытую кровавой пеной, медленно падал набок. Мимо холма вороной проскакал один.6
Победа не принесла Кутану счастья. Алы был рассержен наглостью бедного пастуха, и Джантай ничем не наградил победителя. Ночью продолжался пир в юрте Джантая, и Алы сидел на почетном месте. Вороного жеребца он забрал себе. Кутан не смел войти в юрту. В темноте он бродил вокруг становища, и слезы обиды душили его. Этой же ночью он бежал от басмачей. Он шел по ночам, днем прячась в зарослях дикого шиповника. У него не было ружья, и он не мог охотиться. Он питался ягодами, а однажды ему посчастливилось камнем убить улара — горную индейку, — и он наелся досыта. Он шел двадцать дней и здорово голодал, но он был молод, силен и с детства приучен к лишениям. Он дошел до своего родного аула Ак-Булун. Лишь круглые следы от юрт и развалины глиняных дувалов увидел он там, где раньше было селение. Он пошел по дороге к Пржевальску и недалеко от города нанялся батраком к хуторянину, русскому человеку. Русский кормил его и позволил спать в сарае вместе с лошадьми и коровами. За это Кутан пахал землю, косил траву, носил воду и дрова, пас скот и делал еще много всякой работы. Русский приказал ему прорыть арык[12], чтобы вода с гор текла на поле, и Кутан две недели бил камни и копал сухую, твердую землю. Была страшная жара, и солнце сожгло кожу Кутана. Он прорыл арык, и ручей потек на поле русского человека. Русский мало кормил Кутана, а осенью в сарае спать было очень холодно, но Кутан был молод и силен. Он ничем не болел и становился еще сильнее от тяжелой работы. К концу года русский дал Кутану молодого барана. Кутану нечего было делать с бараном, и ему надоело работать у этого русского. Он ушел. Русский не хотел отпускать его, потому что Кутан был хорошим и очень дешевым работником, но Кутан все-таки ушел. Он пошел в Пржевальск. Своего барана он вел с собой, чтобы продать на базаре. Ему было восемнадцать лет. Был 1919 год. В России была революция, но Кутан ничего не знал об этом.ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Большая толпа двигалась к городу. Шли пешком, ехали на лошадях, быках и верблюдах. Пыль поднималась на дорогах. В пыли мелькали возбужденные лица, морды животных, войлочные и меховые шапки, распахнутые халаты и яркие бархатные казакины. Люди спешили, волновались, громко переговаривались и спорили. Кутан заметил, что никто ничего не несет для продажи. Он прислушивался к разговорам, но не мог понять, о чем спорили люди, а спросить не решался. Он шел по обочине дороги, и его баран, привязанный за рога, бежал за ним. Недалеко от города толпу обогнали всадники, скакавшие галопом, с громким свистом и криками. Толпа шарахнулась в сторону, уступая им дорогу. Чья-то лошадь, пятясь, толкнула Кутана в грудь, он чуть не упал и, спрыгивая в высохший арык, увидел в облаках сверкающей пыли лошадей и всадников. Это были молодые киргизы в рваных халатах. На лошадях была бедная сбруя. За плечами у каждого болтались старые дедовские мултуки[13], и кинжалы висели на поясах. Уже давно проскакали всадники, уже давно скрылись из виду, и толпа снова заполнила дорогу, а Кутан все стоял в арыке, глубоко задумавшись и сжимая рукоятку кинжала старого Мансура. Он мечтал о коне и винтовке, он мечтал о битвах и славе, он мечтал стать джигитом. Баран потянулся за сухим пучком травы и дернул веревку. Кутан вздрогнул, опомнившись. Он вышел на дорогу и через час пришел в город. Он пошел по прямым, широким улицам, обсаженным огромными тополями, и толпы народа шли вместе с ним. Все шли к базару. В центре базарной площади был устроен деревянный помост, и два человека — русский и киргиз — стояли на нем. Вокруг бушевала толпа. Размахивая плетками, крутились всадники, пронзительно ревели верблюды, ржали лошади, и люди кричали, ругались и спорили. Кутан ничего не мог понять. Никто не торговал, и он не знал, что ему делать со своим бараном. Он без цели толкался по площади. Вдруг стало тихо. Заговорил один из людей на помосте. Он возвышался над толпой, и Кутан хорошо видел его. Русский человек, он был одет в широкие черные штаны, черную кожаную куртку и матросскую бескозырку. Начав говорить, он снял бескозырку, и все увидели, что голова его завязана белой тряпкой и темное пятно проступило сквозь повязку. Он говорил и в такт словам рубил кулаком воздух. Он говорил по-русски, и его голос гремел по всей площади. Киргизы не понимали, но слушали терпеливо и молча. Когда он кончил, в толпе произошло движение, взвилась на дыбы лошадь, кто-то вскрикнул, и бешеным галопом пронесся всадник. Его узнали. Это был Петренко, богатый кулак из села Покровского, страшной силы и жестокости человек. Два года тому назад он плетью насмерть засек батрака-киргиза и дал взятку суду, и суд оправдал его. Все киргизы знали Петренко. Его ненавидели и боялись. Было странно видеть, как удирал Петренко, нахлестывая лошадь и со страхом оборачиваясь назад. Русский в кожаной куртке сказал еще что-то, очевидно смешное, так как он сам весело и громко захохотал. Киргизы стояли молча. Тогда заговорил второй человек. Многие знали батрака Амамбета. Он был свой, пржевальский киргиз, и всем хотелось узнать, что скажет Амамбет. Несмотря на молодость, он немало видел на свете; он часто далеко уходил в поисках заработка, говорили даже, что он дошел до железной дороги и бывал в России. Небольшого роста, коренастый, почти квадратный человек, он выступил вперед и заговорил. Лицо его было изрыто оспой. Русский, улыбаясь, смотрел на Амамбета, наклонив голову, и, внимательно мигая, слушал непонятные слова киргизского языка. Амамбет сказал, что переведет речь русского, но после первых фраз все поняли, что он говорит, быть может, похожее на речь русского, но свое. Это понравилось людям, — Амамбету верили. — Белого царя нет больше, киргизы, — говорил Амамбет, — генералов нет больше, полицейских нет больше, и чиновников тоже нет больше. Все народы России равны, теперь все народы сами будут править своей жизнью, и бедняки, а не богатые, — голова народов теперь!.. Еще долго говорил Амамбет, и люди смеялись, весело кричали в ответ на его слова. Кутан многого не понял. Потом Амамбет поднял руку, и снова стало тихо на площади, и Амамбет крикнул, сжимая кулаки: — Баи и манапы[14] не отдадут даром власть у нас, а офицеры и чиновники не отдадут даром власть в России. Вот он, — Амамбет повернулся к русскому, и русский перестал улыбаться. — Вот он — красный командир, большевик, начальник — собирает отряд, чтобы биться с врагами народа. Бедняки, джигиты, идите под Красное знамя. Винтовку и коня получит каждый боец, и приказ командира будет законом для каждого джигита! Площадь молчала. Из толпы вышел седой старик и медленно поднялся на помост. — Вы хорошо знаете меня, киргизы, — заговорил он, не глядя на Амамбета и русского. — Я слышал все, что они говорили, и я скажу вам, как велит поступать закон. Белого царя нет. Кто жалеет о палке? Русских чиновников нет. Кто жалеет, если сдохнет паршивый пес? Русские сами перегрызли друг другу горло, и мы благодарим аллаха. Но они зовут нас снова под начальство русских. Приказ командира будет законом, говорят они. Кто хочет, получив свободу, снова сковать себе руки? Красное знамя, говорят они. Разве есть у нас знамя, кроме зеленого знамени пророка, киргизы? У самого помоста зашевелились люди. Кто-то, сильно толкаясь, пробирался через толпу. Передние расступились, и вперед вышел юноша с бараном. Халат его треснул на спине, шапка была сбита набок, и лицо покрыто пылью и потом. Барана он держал под мышкой, и баран бил ногами и мотал головой. Юноша остановился, широко расставив ноги и исподлобья глядя на русского. — Чего ты хочешь? — спросил говоривший старик, и юноша громко ответил, не спуская глаз с русского: — Я, Торгоев Кутан, батрак из селения Ак-Булун, хочу получить винтовку и лошадь, хочу стать джигитом. Я, Торгоев Кутан, буду слушаться приказа начальника. Шум разрастался на площади. Последние слова Кутана заглушили крики. Площадь кипела, люди толкались и спорили. Многие шли к помосту и записывались в отряд. Другие удерживали их и ругали. Седой старик махал руками, стараясь перекричать толпу, но русский повернулся к нему, и старик замолчал и сошел с помоста. Кривыми переулками он уехал с площади, проклиная партизан, и многие киргизы уехали с ним. Отряд занял дом и сад уездного управления. Юноша с бараном одним из первых получил винтовку и лошадь. Вороная кобыла была, правда, молодая, но тощая, с шерстью грязной, серой от пыли, и с разбитыми ногами. Винтовка казенного образца была исправная, хотя и очень старая и тоже грязная, с ржавчиной на замке. Юноша долго чистил винтовку, потом тщательно вымыл лошадь в реке. Продовольствия в отряде не было. Вечером партизаны зарезали барана, которого юноша привязал за ногу к крыльцу уездного управления.2
Известие о революции быстро распространялось по стране, и в селениях укреплялась советская власть. Кулаки и баи подымали восстания или бежали в Китай, угоняя стада. С севера шли разбитые, раздробленные остатки анненковцев и колчаковцев. Но в стране множились партизанские отряды, и сельсоветы множились в селениях. В Покровском сельсовет был организован одним из первых. Рядом с селом, по существу сливаясь с ним, был расположен большой киргизский аул. Амамбет приехал в Покровское и целую ночь говорил с беднотой из села и с киргизской беднотой, а утром собрали сход и выбрали сельсовет. Старик Петренко прямо со схода пошел в свою конюшню, оседлал лучшего жеребца и уехал незаметно, задами через огороды. Не жалея коня, он скакал по тайным горным тропинкам к ущелью Кую-Кап. Спохватились слишком поздно, и никто не погнался за ним. Бай, живший в ауле, приказал своим пастухам гнать стада в горы и свернул свои юрты, тоже готовясь бежать, но пастухи не исполнили приказания, донесли в сельсовет, и бая поймали. Сельсовет роздал его баранов и лошадей беднякам. Через две недели вернулся Петренко. Похудевший, с всклокоченной бородой и в изодранной одежде, он прокрался в темноте к своему дому и тихо стукнул в окно. Старуха жена узнала его, всплеснула руками и кинулась отворять. Петренко не велел зажигать лампу. При красном свете лампады он переоделся, жадно съел миску холодных щей и велел подать ружье. Он старательно вычистил ствол и замок, бережно обтер ложе и приклад. Сталь тускло блестела. Уже под утро старик зарядил винтовку, привесил к поясу патронташ и широкий охотничий нож. Ножи такие делали из германских штыков. Забрезжили предрассветные сумерки. Петренко вышел на крыльцо. Село спало. Горы неясно темнели, и серые клочья тумана медленно плыли у подножий. На востоке небо было внизу светлое, легкого зеленоватого оттенка, и темно-синее наверху. Последние звезды слабо светились в синей части неба. Ничто не нарушало тишины. Бесшумно прочертила сова. Петренко стоял, широко расставив ноги и щуря глаза под седыми мохнатыми бровями. Потом он поднял ружье и выстрелил в воздух. Горное эхо глухо повторило звук выстрела, в ответ бешено залаяли собаки, и сразу справа из-за домов затрещали винтовки и закричали люди. Потом большой отряд пронесся по улице. Всадники на всем скаку стреляли в окна домов, визжали и свистели. Впереди на белом жеребце с кривым клычом[15] в руке скакал Джантай Оманов.3
Киргиз, раненный в голову, забрызганный кровью, в изодранном халате и без шапки, прискакал в город. Загнанная лошадь пала возле дома уездного управления, и в штаб отряда он прибежал пешком. Задыхаясь, он рассказал о набеге басмачей Джантая и о страшной смерти предсельсовета и троих коммунистов. Через два часа отряд в боевом порядке на рысях вышел из города и к утру, проехав без остановки всю ночь, подошел к Покровскому. Четыре корявых столба чернели по бокам дороги у околицы. В сумерках издали нельзя было ничего разглядеть, и только подъехав вплотную, красногвардейцы увидели, что это такое. Четыре человеческих тела висели на черных от крови столбах. Большими ржавыми гвоздями были пробиты шеи и животы людей. Головы были изрублены шашками. Раны обнажали челюсти и кости черепа. Глаза были выколоты, и кровь запеклась в пустых глазных впадинах. Командир отряда остановил лошадь и молча снял бескозырку. Потом он ударил лошадь камчой и, крутясь перед отрядом, крикнул: — Видели, товарищи? Все видели?.. Киргизы молча снимали винтовки. Отряд ворвался в село. Никто не оказал сопротивления. Командир прямо проскакал к дому Петренко. Старик исчез. Дома была одна старуха. Она плакала, молилась и ничего не говорила. Ее связали и бросили в погреб. Басмачей не было. Они угнали скот, ограбили село и аул и ушли в горы. Бай уехал вместе с ними, и половина его стада перешла к Джантаю. На усталых лошадях преследовать басмачей было невозможно, а свежих лошадей не было. Отряд выставил караулы и остался в Покровском.4
Кутана послали в караул. По ущелью он отъехал с версту от Покровского, слез с лошади и, ведя ее в поводу, осторожно прошел вверх от тропы. Было утро. Ночная роса еще не высохла на траве. Легкие облачка клубились над вершинами, и косые лучи скрытого за горами солнца бросали на них розовый отблеск. Кобыла Кутана щипала траву, с хрустом пережевывая сочные стебли. Кутан оглядел ее. Кобыла поправилась. Она не была так тоща, как раньше, чистая шерсть лоснилась и блестела, грива и хвост были расчесаны. Но все-таки Кутан был недоволен. Ему казалось, что начхоз отряда дает для его лошади овса меньше, чем другим, что лошадь не наедается досыта, что ездить его заставляют больше всех. Вот и сейчас — отряд отдыхает, лошади отдыхают, а его заставили идти в караул. И жизнь в отряде ничуть не интересная. Уже три месяца прошло. Где бои, где слава и подвиги, где богатая добыча? Скучные приказания, скучные караулы и переходы. Разве так джигиты жить должны? Не выпуская повода из рук, Кутан шел за лошадью и все дальше уходил от тропинки. Солнце поднялось над вершинами гор. Стало жарко. В тени кустов трава была высокая, было сыро, свежо, и сильно пахло цветами шиповника. Кутан привязал повод к передней ноге лошади, пустил ее и лег в траву, лицом вниз, положив голову на руки. Сквозь густую зеленую стену листьев и стеблей он видел синее небо и вершину горы по ту сторону ущелья. Где-то недалеко, невидимый журчал ручей, и птицы чирикали в ветвях над поляной. Кутан внимательно слушал. Жук черный и блестящий с громким жужжанием пролетел и вдруг сложил крылья и упал в траву. По сгибающемуся стеблю он влез наверх, расправил голубые под черным панцирем тоненькие крылья и улетел, снова прожужжав над головой Кутана. Мошки плясали в неподвижном воздухе. Кутан закрыл глаза. Последнее, что он слышал, был трескучий крик сороки. Белая с черным длинная птица поднялась из кустов, чем-то испуганная, и неровным, прыгающим полетом улетела вниз. Кутан уснул.5
Алы Джантаев пешком шел по тропе. Он был одет в рваный халат. Изодранная войлочная шапка, надвинутая низко на глаза, почти скрывала его лицо. Он опирался на толстую палку. Шел слегка согнувшись, осторожно ступая по камням и левой рукой придерживая револьвер, спрятанный на теле под халатом. Тропинку пересекал ручей. Алы лег и напился холодной, чистой воды. Перейдя ручей, он заметил следы лошади. Лошадь шла от Покровского. Вот здесь всадник слез и повел лошадь наверх, через заросли кустарника. Алы пошел по следу. В кустах он спугнул сороку. С резким криком птица взлетела из-под его ног. Алы вздрогнул и на секунду замер неподвижно. Тихо раздвинув ветви дикого шиповника, он увидел спящего человека. Спящий повернулся на бок и раскинул руки. Алы узнал Кутана. На тропинке внизу звонко ударили о камень копыта лошади. Алы прыгнул в тень. Ползком он пролез к краю обрыва, поросшего кустарником, и выглянул. Оседланная лошадь стояла на тропинке и пила воду из ручья. Повод был привязан к ноге. Алы юркнул вниз, пробираясь через колючие заросли. Лошадь подняла голову, когда он подошел к ней, и спокойно пожевала губами. Алы вскочил в седло. Шагом он въехал в воду и по руслу ручья проехал далеко в сторону от тропы. Лошадь шла медленно, поматывая головой и лениво переступая ногами. Потом, напрямик продираясь через кустарник, Алы снова выехал на тропу, но в расстоянии километра от того места, где спал Кутан. Остановившись и внимательно прислушавшись, Алы вдруг изо всех сил палкой ударил лошадь и дернул повод. От неожиданности лошадь присела на задние ноги. После второго удара она поскакала неуклюжим, тяжелым галопом. Все время погоняя, Алы проехал версты две и опять свернул с тропинки. Лошадь тяжело дышала и спотыкалась. Алы миновал рощицу кривых тянь-шаньских берез и выехал на небольшую лужайку. Десяток оседланных лошадей были привязаны в тени с краю лужайки. Вооруженные джигиты сидели в кругу посредине. Чанач[16] с кумысом переходил из рук в руки. Джигиты тихо разговаривали, потягивая прохладный густой кумыс. Они встали, когда Алы выехал на лужайку. — Коня угнать быстро, — коротко сказал Алы, спрыгивая на землю и бросая повод одному из джигитов. — Пить дайте. Напившись кумыса и отдавая чанач, Алы сказал: — Здесь ждите. Вернусь скоро, — и быстро пошел прочь. — Кош, кош[17], — закланялись джигиты. Алы вышел на тропу и пошел опять в сторону Покровского. Теперь он шел не скрываясь, громко стукал палкой по камням и во все горло пел веселую песню. Солнце спустилось низко к вершинам гор, когда он подошел к ручью. На камнях сидел Кутан, обхватив голову руками и тихо покачиваясь. Одна нога его стояла в воде, и рваный сапог промок насквозь, но он ничего не замечал. — Аман[18], Кутан! — весело крикнул Алы, ударяя его по плечу. Кутан вскочил и схватился за винтовку. — Что сидишь здесь? — спокойно сказал Алы. Не обращая внимания на движение Кутана, он лег на камни, чтобы напиться. Кутан дернул плечом, забрасывая винтовку на спину, и сел снова. Алы напился и встал. — Ну, что сидишь? Что думаешь, — спросил так же спокойно. Не глядя на него, Кутан тихо сказал: — Коня увели у меня. Все обыскал — нет коня… Алы покачал головой и зачмокал губами: — Хороший конь был? — Чужой. Казенный. Отряда конь был. И седло казенное. Где седло возьму? Как отвечать буду теперь? — крикнул Кутан, сжимая кулаки. — Плохо, плохо, Кутан, — осторожно заговорил Алы. — Урус разозлится. Урус сильно сердиться будет. В отряде лошадей мало, лошадь дороже, чем молодой киргиз, для уруса. Урус расстрелять может тебя. А? Как ты думаешь? Кутан схватил Алы за руку. — Нет, не расстреляют, — сказал он нерешительно. — Ну, не расстреляют, тогда хорошо, — спокойно ответил Алы. — Я ухожу. Кош, Кутан, кош! — и Алы повернулся и пошел обратно по тропинке. Через несколько минут Кутан догнал его. — Подожди, Алы, — заговорил он, задыхаясь. — Куда идешь? В Кую-Кап идешь? Алы молча кивнул. Правой рукой он под складками халата сжал рукоятку револьвера. — Мамушка как живет? Брат, сестра как живет? Скажи, Алы. Слезы текли по лицу Кутана. Он схватил Алы за плечо. Алы высвободил плечо. — Слушай, Кутан, — тихо и медленно сказал он, — идем со мной в Кую-Кап. Старое позабудь. Отцу джигиты нужны. Отец примет хорошо тебя, коня хорошего даст тебе, патронов даст — винтовка ведь есть у тебя. Юрту рядом с моей поставишь. Идем! Кутан молчал, опустив голову. — Или вернешься? Урус не похвалит за коня! Урус шашку вынет, и раз и нет Кутана… Кутан молчал. — Не хочешь? — Алы злобно сощурился и плюнул. — Не джигит — баба ты, Кутан, — сказал он и быстро пошел прочь. Солнце скрылось за горами. Небо пылало. Черные тени легли на тропинку. — Я иду, Алы! — крикнул Кутан и побежал, придерживая винтовку.6
Командир отряда поехал проверять караулы. Люди, усталые после перехода, спали, он никого не хотел будить и поехалодин. Солнце зашло недавно. Наступила южная ночь. Тропинка еле заметно светлела впереди. Деревья, кусты и горы вокруг совершенно тонули во мраке. Иногда из темноты внезапно возникала корявая ветка, низко нависшая над тропинкой, и всадник едва успевал пригнуться. Звезды сверкали в черной глубине неба. Тишину нарушали только журчание бесчисленных ручейков и звонкий стук копыт лошади, осторожно переступавшей по каменистой тропинке. Командир ехал по направлению к горам. В караул на эту тропу он послал молодого киргиза. Мальчик с бараном. Тот самый, который первым вышел из толпы и записался в отряд. Наверное парень надежный. Хотя караулы надо бы проверить пораньше. Мало ли что может быть в этих горах проклятых. Как тут пройти, не знаешь, а надо не только пройти, но и драться. Ровное место — там все понятно, море, степь — похоже. Делать что — известно. А тут, черт его знает… Сбоку блеснул огонь, и оглушительно грянул выстрел. Командир почувствовал удар, будто наткнулся на толстую ветку, и острую боль в груди. Падая с коня, он сильно разбил голову о камни и, кажется, вывихнул руку. Испуганный конь ускакал. Цокот копыт замер вдали. Командир попробовал подняться, но вдруг из горла хлынула кровь. Хрипя и задыхаясь, он упал лицом вниз. Он чувствовал, как его перевернули на спину, и смутно видел бородатое лицо, низко склоненное над ним. Странное оцепенение сковало тело командира. Он напряг все силы, стараясь поднять руку, но смог только слегка пошевелить пальцами. Тяжелый туман плыл перед глазами. Лунный свет скользнул по лезвию широкого ножа. Больно командиру уже не было.7
Джигиты развели костер и сварили мясо. За едой разговоров не было. Еще раньше, по дороге, Алы выспросил у Кутана все про отряд: сколько людей, сколько лошадей и винтовок, хорошие ли проводники и довольны ли люди командиром? Кутан все рассказал. Теперь на него не обращали внимания. После еды джигиты пили кумыс и тихо говорили о делах банды. Кутан лежал в стороне, внимательно прислушиваясь. Алы дремал возле костра, прислонясь спиной к дереву, опустив голову и раскрыв рот. Костер догорал. Красный мигающий свет вырывал из темноты кусок раскосого лица, морду лошади, войлочную расшитую шапку и играл на дулах ружей, кинжалах и пистолетах. От яркого света темнота вокруг еще больше сгущалась. Кутан первый услышал хруст веток и тяжелые шаги. Он вскочил, звякнув затвором. Джигиты схватились за винтовки. Алы проснулся и вынул револьвер. В круг света вошел человек. Это был Петренко. — Селям алекюм, — глухо сказал он, садясь к огню. Джигиты молчали. Алы играл револьвером и кривился. Не отвечая на приветствие, он спросил: — Ну, как? Петренко заговорил по-русски. По-русски понимал один Алы. Он слушал внимательно и кивал головой. Потом Петренко распахнул свой овчинный тулуп и показал никелированный револьвер и красивую шашку, заткнутую за ремень. Кутан вздрогнул. Он узнал оружие командира отряда. Ножны шашки были отделаны серебром. — Отдай мне, — сказал Алы, протягивая руку. — Убери лапы, — оскалился Петренко. Он длинно и зло выругался по-русски и лег к костру, вытянув ноги. Кутан заметил, что сапоги его забрызганы кровью. Алы вскочил и отошел в темноту. Потом Кутан видел, как он бесшумно сзади подошел к Петренко и поднял револьвер. Джигиты сидели молча и не смотрели в ту сторону. Лицо Алы оставалось в темноте, и Кутан не видел его. Горное эхо долго повторяло звук выстрела. Петренко приподнялся и упал в костер. Алы ногой перевернул труп и плюнул ему в лицо. Джигиты отвязали лошадей. Когда Алы садился в седло, шашка командира отряда зацепилась за повод, лошадь рванулась, и Алы выругался. Через семь дней Кутан рядом с Алы въезжал в долину Кую-Кап.ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
«11 мая 1924 года. Каракол[19] Иссык-Куль вдруг открывается весь, когда из ущелья выезжаешь к берегу. Стоит на берегу село Рыбачье. Вода в Иссык-Куле необычайно яркого синего цвета, и горы обрываются сразу в озеро. Из-за большой высоты снеговые вершины кажутся низкими. От Рыбачьего можно ехать на пароходе, но пароход ушел незадолго до нашего приезда. Нравы тут азиатские: никто толком не знает, когда пароход вернется, сколько он пройдет до Каракола, сколько там простоит и т. д. Вообще люди жить не торопятся, и лишняя неделя в счет никогда не идет. Я уже решил ехать дальше на лошадях, как вдруг на горизонте показался дымок, и через час пароход причалил к пристани. Оказывается, что-то случилось с машиной, и капитан убоялся плыть дальше. Пароходишка смешной, нелепый и настолько старый, что нельзя понять, каким чудом он держится на воде. Елена Ивановна у меня заартачилась: не поеду, говорит, на такой калоше, и все! Все же я ее уломал, и мы погрузились. Ушел пароход только к вечеру и шел всю ночь и половину следующего дня. С погодой нам везло. Доехали замечательно. Лена боялась, что укачает Кольку, но он держался молодцом и блаженно проспал все время. Я же не спал вовсе и любовался озером и берегами. Красота, действительно, редкостная, но я, честно говоря, думал не о пейзаже, а о том, каким чертом воюют в этих горах, и мысли эти оказывались малоприятными. Ну, поживем — увидим. Самый Каракол стоит в двенадцати километрах от озера. Город не город, а скорее большая станица. Улицы широченные, обсажены тополями. Базар, верблюды, кумыс и все, что полагается. Очевидно, действовать придется, «применяясь к местности», и на киргизов опираться в первую очередь. Придется самому стать настоящим киргизом. Во владения мои вхожу потихонечку. Пока все больше присматриваюсь. Обзнакомился с местной властью. Секретарь райкома — рябой киргиз Амамбет — парень, кажется, подходящий. В прошлом году его басмачи подстрелили, но не до смерти. Вылечился в Джеты-Огузе (есть тут такой «курорт» — горячие источники из горы текут, и киргизы приезжают целыми семьями лечиться. Утверждают, будто водичка излечивает все болезни, даже сифилис). Сейчас Амамбет весел и здоров. Только слегка прихрамывает. Зато председатель РИК’а мне что-то не нравится. Ничего толком еще не знаю, но нюхом чую неладное. Уж больно он гладкий. Все про басмачей толкует, настаивает на форсировании и рвется в бой. Зазвал он меня в гости, хотел подпоить, да напился сам. Придется мне с ним повозиться. Может, я и ошибаюсь, но не думаю. Поживем — увидим. Наш орел — Джантай Оманов — сидит в горах и чувствует себя, как видно, отлично. Авторитет у него огромный и джигитов немало. Его до меня раз десять пытались сцапать, да он не дается. Орешек, видимо, крепенький. Меня натравливают на него, а я не хочу. Поосмотрюсь еще немного и попробую устроить ту комбинацию, о которой мы говорили. Думается мне, что его надо бить его же оружием. Ребята в комендатуре, в общем, неплохие. Кое-кто из местных старожилов уверяет меня, что сейчас затишье. Может, оно и так, но у меня нет ощущения спокойствия. Особенно одно местечко внушает мне опасения. Есть тут такое кулацкое село Покровское и аул рядом с ним. Есть огромная область, называется по-киргизски «сырты», что значит «отчужденное», «отъединенное» или что-то в этом роде. И со стороны Китая и с нашей стороны сырты закрыты горными хребтами. Перевалы немыслимые. На самих же сыртах прекрасные пастбища, реки, леса — словом, все, что нужно киргизу. Там-то и сидят басмачи. Через сырты идет и контрабанда. Охраняют же не фактическую границу, а границу с сыртами. Озеро сторожат. Я думаю, что освоение сыртов решит исход всего дела здесь. Но это-то не так просто. Охота в Караколе прекрасная. Надо будет завести настоящее хозяйство с фазаньим заповедником. Прошу тебя, пришли, пожалуйста, бекасинника и картечи килограммов…».Дверь с треском распахнулась, и дежурный вскочил в кабинет коменданта. Задыхаясь от быстрого бега и волнения, он выпалил: — В Покровском басмачи, товарищ начальник!.. Комендант встал. Дежурный переступил с ноги на ногу, обдернул гимнастерку и сказал спокойнее: — Разрешите доложить, товарищ комендант. Из села Покровского доносят о появлении басмачей. Басмачи захватили винтовки в количестве двадцати штук и патроны к ним в количестве… — Откуда в Покровском эти винтовки? Дежурный замолчал и пожал плечами. — Откуда винтовки там? Как думаете, товарищ командир взвода? А? — Не знаю, товарищ комендант. Но басмачи… Комендант не слушал. — Вызовите по телефону секретаря райкома — доложите ему о басмачах. Я заеду к нему через десять минут. Уполномоченного товарища Винтова разбудите. Машина пусть заберет его и заедет ко мне домой. Командиру мангруппы[20] передайте приказание поднять по тревоге два взвода, которым под его командованием немедленно выступить в Покровское. Письмо отправить в Ташкент фельдсвязью. Все. Можете идти. Дежурный вышел. Комендант несколько минут ходил по комнате. За окном в темноте пропела труба. Комендант закурил трубку, запер стол и несгораемый шкаф и вышел. Дежурный крутил ручку телефона. Телефон тихо дребезжал. Когда комендант вышел на крыльцо, второй раз запела труба, и звонкий, веселый голос прокричал команду. Ежась от ночного холода, комендант прошел по двору к своему дому. Его встретил Джек, коричневый пойнтер, старый охотничий товарищ. С радостным визгом он крутился и прыгал, стараясь лизнуть хозяина в лицо. Жена спала. На ночном столике горела лампа, и раскрытая книжка лежала на одеяле. Прикрутив фитиль, комендант прошел в комнату сына. Луна слабо освещала комнату. Мальчик спал раскинув руки и высунув из-под одеяла ногу. Комендант послушал, как он дышит и мурлыкает во сне. Неуклюже нагнувшись, поцеловал сына в щеку и сразу заторопился. Сутулясь, быстро прошел в свою комнату. К жене зашел уже одетый в шинель, опоясанный ремнями, с шашкой, маузером и биноклем. Присел на край постели и взял Елену Ивановну за руку. Она сразу открыла глаза, сразу проснулась и села, поправляя волосы. Елена Ивановна никогда не могла привыкнуть и спокойно относиться к боевой жизни мужа, но никогда с первых дней их совместной жизни ничем не проявляла своего мучительного беспокойства. Она сразу поняла все по одежде коменданта и спросила как можно спокойнее: — Ты надолго? — Не знаю. В Покровское я. Это не очень далеко, и сразу напишу, как выясню. Волнуешься? — улыбнулся комендант. Она погладила шершавый рукав его шинели. Потом они посидели недолго молча, поцеловались, и он ушел. Елена Ивановна не спала до утра. Лежала в темноте с раскрытыми глазами, вытянувшись на кровати. За дверью тихо скулил и скреб лапами Джек.
2
Разбитый фиат пыхтел, фыркал и отчаянно дребезжал, ныряя в ухабы, взлетая на крутые подъемы и круто заворачивая. Коменданту все-таки удалось задремать. Его разбудил секретарь райкома. Прыгая на заднем сиденье, рядом с безмятежно спавшим Винтовым, и цепляясь за ремень на спине коменданта, он кричал: — Я говорю тебе, начальник, очень большие силы подняться могут! Советская власть… — Ты бы дорогу починил, — обернулся Андрей Андреевич. Он понял, что секретарь не даст ему спать. — Твоей стране, Амамбет, дать бы дорогу хорошую, шоссе настоящее, асфальт, гудрон, черт его знает, — замечательно жить можно будет. Понимаешь, дорога… — Какая дорога, черт? Басмач, бандит, кулак и бай — вот наше дело, а ты — дорога, дорога!.. — Откуда эти винтовки взялись, Амамбет? Не знаешь? — Не знаю. Что я хочу тебе сказать: очень большие… — Ты лучше про винтовки догадайся, — сказал комендант и отвернулся. Не слушая больше, что кричал ему секретарь, он стал высчитывать, в котором часу мангруппа подойдет к Покровскому. Автомобиль спускался с горы.3
Взводы мангруппы, строем по два в ряд, рысью шли по обочине дороги. Солнце только что взошло, и ночная роса еще не высохла на дорожной пыли. Было свежо. Сильно пахло полынью и мокрым песком. Лошади шли легко. Николаенко и Закс ехали рядом, последними в строю. Дорога пошла в гору, и командир, подняв руку, перевел отряд на шаг. Солнце слегка припекло, и в траве затрещали кузнечики. Маленькие облачка золотистой пыли начали взлетать из-под копыт. Лошади фыркали и мотали головами. Бойцы разговаривали потихоньку. — …И, понимаешь, летит он как птица, как ласточка или голубь… — сказал Закс. — Ну, летит — ладно. А ветер скис, и твой голубь садиться должен, так? — нетерпеливо перебил Николаенко. — Ты мне скажи: сколько в воздухе ты продержишься? — А воздушные течения? Это тебе пустяк? Да? А рекорд какой знаешь? — горячо заговорил Закс. — Знаешь? Нет? — он выдержал эффектную паузу и гордо выпалил: — Сто восемьдесят часов! Николаенко ничего не нашелся ответить. Некоторое время друзья ехали молча. Николаенко и Закс встретились полгода тому назад. Вместе с другими молодыми призывниками они долго ехали в теплушке. Поезд шел с песнями, со звоном гитар и балалаек, с заунывным весельем гармошек. Орали до хрипоты, пели и хохотали. Знакомились друг с другом и рассказывали о себе. Мирные «гражданские» специальности еще были у людей. Ехали металлисты и деревообделочники, ехали шахтеры и нефтяники, ехали служащие и крестьяне, чернорабочие и учащиеся. На теплушках были нарисованы пятиконечные звезды. Потом несколько дней шли пешком по горам до большого, как море, озера и сутки плыли на пароходике через это озеро. Непривычные к ходьбе, натерли ноги, в лохмотья изодрали городские полуботинки и штиблеты. Было нестерпимо жарко, земля и вода были накалены солнцем, а на горах лежал снег и блестели ледники. Усталые и потрясенные, жались в кучку, старались держаться вместе. Песен больше не пели. Когда пароход шел ночью по черной воде, впервые стало грустно, навязчиво вспоминался дом. Потом на грузовиках мчались от берега к маленькому, как станица, городку. Посреди городка, обнесенные высокими глиняными стенами, стояли дома пограничной комендатуры, конюшни и склады. Грузовики заворачивали на плац. На плацу неподвижным молчаливым прямоугольником стояли пограничники, командиры стояли на правом фланге. Оркестр играл «Интернационал», командиры держали руки у козырьков выцветших зеленых фуражек. Потом призывники соскочили с грузовиков, кое-как построились и встали напротив шеренги «старичков». Внимательно вглядывались в неподвижные загорелые лица. Командир сказал короткую речь, и призывники нестройно захлопали в ладоши. «Старички» стояли молча и снисходительно улыбались. Потом мылись в бане, стриглись, одевались в форму и, построившись снова, не узнали друг друга. Все стали одинаковыми. Гражданские специальности исчезли — стали красноармейцами. Потом потянулись дни. Сначала время шло медленно, медленно, а оказалось, что пролетали недели и месяцы. Нужно было узнать множество вещей, множеству вещей необходимо было научиться. И полгода прошли незаметно. Николаенко и Закс стали настоящими пограничниками. Они были в числе первых по рубке и вольтижировке, и весь учебный эскадрон с волнением следил за соревнованием между ними на первенство в стрельбе из пулемета. Оказалось, что у обоих была заветная мечта, — мечта, о которой тоже знали все в эскадроне: друзья мечтали стать пилотами. Они добывали книжки о самолетах, о летчиках. Книжек было немного в Караколе, особенно по авиации. Все, что удавалось достать, друзья знали почти наизусть. Братья Райт были любимыми их героями. Но было у них существенное расхождение: Николаенко был приверженцем исключительно моторной авиации, а Закс защищал планеризм. Расхождение возникло уже давно, и горячий спор тянулся изо дня в день. Вчера вечером, ложась спать — их койки стояли рядом, — заговорили о продолжительности полетов, и Николаенко выдвинул существенные доводы. Честь планера была в опасности. Во время сборов по тревоге было, конечно, не до разговоров. Еще не до конца проснувшись, бойцы машинально одевались и седлали коней. Потом выступили. В темноте ехать было неприятно; ночи еще были прохладные, и резкий ветер пронизывал насквозь. Причин тревоги никто пока не знал, и люди нервничали. Ехали молча. Но прошла ночь, пригрело солнце, огромные горы, одетые темной зеленью лесов на склонах, сверкающие снегом на вершинах, встали над пограничниками во всей своей пышной, торжественной красоте, и всем стало весело и хорошо на душе. Заксу представилось, как легкий белый планер пролетает над горами. Собственно, настоящего планера Закс никогда не видел, и планер представлялся ему не таким, как он изображен в книжках, а гораздо более красивым, обязательно белым и очень похожим на птицу. Николаенко бросился в спор и снова напомнил о вчерашних доводах. Необходимо было возразить ему, и Закс перешел в нападение. По правде говоря, рекорда продолжительности парения он не знал, и число в сто восемьдесят часов просто выдумал. Но Николаенко был побежден огромной цифрой. — Ну, что? Хватит? — поддразнивал Закс. — И это без всякого мотора!.. Николаенко вдруг привстал на стременах и внимательно посмотрел вперед. Бойцы передавали друг другу приказание. Раньше, чем приказание дошло до них, Николаенко зашептал весело: — Яшка! Нас, кажется, к командиру. Наверное сменить головной дозор пошлют. — Закс, Николаенко — к командиру, — обернулся ехавший впереди красноармеец. Закс и Николаенко посредине дороги рысью проехали мимо строя. Командир, действительно, послал их в головной дозор. Пригнувшись в седлах, они пустили коней и минут десять скакали галопом. Закс немного обогнал товарища и первый догнал головной дозор. Он сдержал своего «Басмача». Дозорные уехали навстречу отряду, подъехал Николаенко, и друзья поехали шагом. Лошади разгорячились скачкой. Закс засмеялся, сам не зная чему, и Николаенко откликнулся беззвучным, заразительным хохотком. Они ехали рядом — так близко, что их стремена касались. Им хотелось громко запеть, хотелось кричать и быстрее пустить лошадей, но они были в дозоре. Они ехали молча и внимательно оглядывались по сторонам. Солнце было уже высоко. Улары перекликались в густой траве, самцы звали самок, самки подымались и тяжелым, неровным полетом перелетали низко над землей. Часто дорогу пересекали ручьи. Лошади тянулись к прохладной воде, осторожно переступая по мокрым, скользким камням. Двое пограничников ехали по ущелью. Им было по двадцать одному году, они были почти мальчиками и очень хорошими друзьями. Широкоплечий, невысокий и плотный Николаенко был донецким шахтером. Закс, стройный, юношески-тонкий, смуглый от азиатского солнца, был слесарем из Орши. С вершины крутого подъема, внизу, они увидели реку. Они остановились, смена догнала их, они вернулись, доложили командиру части и стали в строй. Эскадрон спустился с горы. У реки был устроен привал.4
Комендант и уполномоченный Винтов ехали по узкой тропе. Лошади едва могли идти рядом. Винтов говорил: — Ну, этот предсельсовета врет и путает, конечно. Киргиз хитрый, кулачок и выжига. Секретарь насел на него, он испугался… — Пугать не надо было, — перебил комендант. — Винтовки откуда? — Вот с винтовками-то и вся запятая. Секретарь его спрашивает, кто зачинщик да сколько народу ушло к басмачам, — он гладко врет, без запинки. И про винтовки сам сказал: много, мол, оружия у банды, сила. А только я его прямо в лоб спросил: винтовки как в Покровское попали? — заюлил, заметался, запутался. Я полагаю — взять председателя надо… — Взять всегда успеешь. — Убежит, товарищ начальник. — А ты смотри, чтоб не убежал. На то ты здесь и есть. Несколько минут ехали, не разговаривая. Винтов тихонько насвистывал. Комендант нахмурился, сосредоточенно сопел трубкой. Вдруг он поднял голову, огляделся по сторонам и улыбнулся мягкой и веселой улыбкой. — Хорошо-то как, Винтов! А? Вокруг, действительно, было очень хорошо. Низкорослые, кривые березы лепились по крутому склону ущелья и низко над тропинкой склоняли зеленые ветви. Выше берез горы покрывала густая трава, еще не сожженная солнцем. Весенние цветы пестрели в траве, и ветер доносил оттуда сильные, одуряющие запахи. Еще выше, над лугами, громоздились коричневые и серые груды камней. Зазубренные контуры скал высились, как башни фантастических замков. А над скалами сверкали снежные вершины, голубели ледники. Внизу ущелья было прохладно и сумрачно. Земля оползла, и среди вывороченных камней, среди сбитых обвалами полузасохших деревьев пробивались извилистые маленькие ручейки. Тихо журча, они текли на дно ущелья, где бурная речка с глухим ревом и грохотом неслась по камням, орошая брызгами и пеной обрывистые берега. Высоко в небе плавал беркут, и резкий клекот его иногда доносился до путников. Андрей Андреевич остановил коня. От тропы отходила совсем узенькая, еле приметная тропинка. Она круто взбегала наверх и терялась в скалах. — Видимо, здесь, — сказал Андрей Андреевич. Винтов молча кивнул. — Здесь и жди. Если стрельбу услышишь, действуй как сговорились. В случае неудачи мангруппе прикажешь выступить в направлении… Ну, да ты все сам знаешь. Думаю, все обойдется… — Андрей Андреевич, — нерешительно проговорил Винтов, — а может, все-таки не стоит? — Опять с начала начнем? — с добродушной сварливостью ответил комендант. — Все ведь обдумали мы с тобой. Нет другого выхода? Верно ведь? Да, я думаю, все обойдется… Андрей Андреевич слез с лошади и, придерживая маузер, не спеша стал подыматься в гору. Винтов смотрел ему вслед, пока широкая, немного сутулая спина коменданта не скрылась за поворотом тропинки. Потом Винтов привязал лошадей, сел в тени под березой и закурил папиросу. Он курил не переставая, прикуривая папиросу о папиросу. Он выкурил целую пачку и раскрыл вторую. Комендант вернулся через два часа.5
По сути дела, в Покровском басмачей не было. Один Алы Джантаев приехал ночью и, никем не замеченный, тайно пробрался к председателю сельсовета. Три дня он прожил в Покровском. К нему приходили поодиночке, по двое и по трое киргизов. Он угощал их сладким чаем. Разговаривали не спеша о вещах маловажных и неинтересных. Только под конец, прощаясь, Алы туманно говорил о том, что аллах велит правоверным слушаться аксакалов и чтить закон, что урус всегда был и будет врагом киргизу и что, может быть, аллах поможет и скоро, совсем скоро, будут ружья, хорошие винтовки, и тогда настоящие джигиты смогут уйти в горы к отцу Алы, могучему Джантаю Оманову, и жить свободно, без урусов, без власти. Киргизы уходили от Алы смущенные, плохо понимая, в чем дело, но зная: что-то готовится. Год был плохой: скота много зарезали, много погибло от какой-то болезни, и басмачи угнали одно стадо. Мяса давно никто не ел досыта. Народ злобился. Богачи шептали, что русским не надо верить. Через три дня, поздно вечером, Алы созвал людей. Пришло двадцать человек. Среди них несколько бедняков, человек пять, остальные — люди среднего достатка. Самым отчаянным был молодой пастух Абдумаман. Беднее его не было в селении. Отец его был батраком. Хозяин, русский кулак Петренко, убил отца Абдумамана, засек насмерть. Мать умерла от горя. С детства Абдумаман пас чужие стада и ел чужой хлеб. Он рано привык сам защищать себя, не рассчитывая ни на чью помощь. Он был сильный и смелый человек. Алы говорил о ружьях. Винтовка была заветной мечтой Абдумамана, и Абдумаман пришел к Алы. Предсельсовета, связанный, лежал на земле. Когда пришли люди, Алы заткнул ему рот тряпкой. Потом Алы прошел к сараю во дворе сельсовета и сбил замок. В ящиках лежали новенькие винтовки. Алы увел людей в горы. Он боялся выйти на дорогу, боялся наткнуться на дозор кзыл-аскеров[21] и решил отсидеться в горах, в укромном месте, неизвестном урусам. Он рассчитывал, что кзыл-аскеры пойдут по ложному следу. Предсельсовета нашли только утром. Его развязали, и он позвонил в Каракол, в комендатуру. Потом приехали на машине двое русских и Амамбет — секретарь райкома. Они спрашивали, откуда винтовки, кто зачинщик, но киргизы не говорили. О винтовках не знал никто, кроме предсельсовета, а его выдавать боялись. Русские хорошо обращались с киргизами. Это были кзыл-аскеры — красные солдаты, пограничники. Но русские уедут, а предсельсовета останется. Предсельсовета — власть: и Алы, сын Джантая, и русские начальники останавливаются у него, дружат с ним. Киргизы пили чай с кзыл-аскерами и угощали их беш-бармаком, но ничего не рассказали. Только охотник Каче, веселый человек, певец и бедняк, незаметно от других пришел к начальнику русских к недолго говорил с ним с глазу на глаз. Вечером русскому начальнику позвонили по телефону и сообщили, что село Воздвиженское захвачено басмачами. Пытались связаться прямо с Воздвиженским, но там никто не отвечал. Линия прервана. Когда Амамбет собрал собрание и стал говорить речь, начальник русских и второй пограничник уехали верхом, и никто, кроме охотника Каче, не знал, куда они направились. А Каче улыбался, слушая Амамбета, и молчал. Каче рассказал русскому начальнику, где прячется Алы. Ночью он должен был выйти из засады и пройти в Воздвиженское на соединение с Джантаем. Отряд мангруппы еще не пришел, и необходимо было задержать басмачей хотя бы до утра. Комендант и уполномоченный поехали в горы, к месту, которое указал Каче. Место это называлось Чертов перевал.6
Поднявшись высоко по тропинке, Андрей Андреевич сошел с нее и, с трудом пробираясь через густые заросли кустарника, стал карабкаться напрямик к вершине горы. Идти было трудно, — высота в несколько тысяч метров давала себя знать. Андрей Андреевич часто останавливался и отдыхал. Он расстегнул шинель, снял фуражку. Горный ветер шевелил его волосы. Дойдя до перевала, он пошел тише, стараясь не шуметь, и внимательно следил за тем, чтобы камни не сыпались из-под его ног. На самой вершине он прилег за острым выступом скалы и осторожно выглянул. Внизу, по другую сторону перевала, на расстоянии нескольких метров, была большая ровная площадка, поросшая травой и низким кустарником. От нее начинался почти отвесный спуск вниз, в огромную пропасть. Из пропасти тянуло прохладной сыростью. Площадка со всех сторон была окружена горами, горы скрывали ее, и пробраться к ней можно было только оттуда, где сидел Андрей Андреевич. Два десятка оседланных лошадей мирно щипали траву, бродя по площадке. Человек двадцать киргизов лежали и сидели с винтовками в руках. Некоторые спали. Один, полуголый, сняв рубашку, искал в ней насекомых. Молодой киргиз в рваном халате лежал в стороне, подперев голову руками и глядя вниз, в пропасть. Другой, тоже молодой, но одетый богаче, даже с некоторым щегольством, тихонько пел монотонную песню и тренькал на маленькой балалайке. Андрей Андреевич, затаив дыхание, подполз повыше. Он вынул маузер, проверил обойму и взвел курок. Из кармана шинели достал ручную гранату. Осторожно приподнялся, встал сначала на колени, затем на ноги, пригнувшись, держа оружие наготове, и вдруг выпрямился во весь рост. — Ни с места! — крикнул он, поднимая гранату. Люди вскочили. Страх и растерянность отразились на их лицах. Тот, который был без рубашки, зачем-то стал напяливать ее, но запутался в рукавах. Один, певший песню, низко пригнулся и прыгнул в сторону, — там лежала его винтовка. Андрей Андреевич направил на него дуло маузера. — По-русски понимаете все? — спросил спокойно. Киргизы молчали. — Кто двинется — пристрелю, — продолжал Андрей Андреевич. Теперь он говорил тихо и размеренно. — На меня нападете — гранату брошу, все к черту полетит. Поняли? Стойте спокойно. — Андрей Андреевич помолчал и улыбнулся. — Что делаете? К кому идете? К басмачам, к баям пристать хотите? Очень хорошо! Вот ты, — Андрей Андреевич дулом маузера показал на молодого киргиза в рваном халате, — ты помнишь царское время? ты помнишь шестнадцатый год? Хорошо жилось вам, киргизам? Весело? А? Молодой киргиз нахмурился и опустил голову. Урус все знал! И про отца и про Петренко… Андрей Андреевич не знал ничего: он выбрал Абдумамана наугад, заметив его изодранную одежду. — Басмачи кто? Баи, кулаки. Им при царе хорошо, сейчас плохо. Много добра от баев вы видели? Кто лучше, русские или свои? Один черт! Чего хотят они… — Сволош он… — вдруг сказал молодой киргиз в рваном халате и поднял голову. — Кто сволочь? — нахмурился Андрей Андреевич. Киргиз потупился. — Так вот что, — снова заговорил Андрей Андреевич, — басмачи — враги советской власти, вашей власти, ваши враги. Вы ж не баи. Советская власть послала меня бороться с басмачами, и басмачам будет худо все равно. Но мне нужны джигиты. Человек пятнадцать, двадцать. Настоящие джигиты. Храбрые. Баб не нужно. Вы подойдете, пожалуй. Тем более, что винтовки у вас есть. Патроны тоже? А? — Патрон тоже есть, — ответил молодой киргиз в рваном халате. — Джакши[22]. Вы видите, я пришел к вам один, без красноармейцев. Я верю вам. Завтра утром я пришлю двух кзыл-аскеров к перекрестку троп внизу. Джигиты с оружием и в порядке пусть выйдут к ним и вместе приедут в Покровское. Подумайте хорошенько. Кто завтра придет ко мне, будет другом советской власти. Кто не придет — врагом. И еще раз говорю: я верю вам. Знаю, что вы честные джигиты, а не лживые волки-басмачи. Все поняли, что я сказал? А? Заговорил пожилой киргиз в войлочной шапке. Он поклонился, развел руками. — Ты знаешь, начальник, председатель сельсовета… Молодой киргиз в щегольском халате резко двинулся. Говоривший запнулся, поклонился еще раз и молча попятился. — Председателя я арестовал, — сказал Андрей Андреевич. — В Покровском другого председателя выбрать нужно. Кто еще говорить хочет? Киргизы молчали. Теперь предстояло самое трудное: нужно было уйти. — Так подумайте хорошенько. Завтра утром двое кзыл-аскеров будут ждать вас. Трусы пусть не идут. Мне нужны храбрые, честные джигиты. Кош. Андрей Андреевич опустил маузер, спрятал гранату и медленно повернулся спиной к площадке. Киргизы стояли не двигаясь. Спокойно помахивая маузером, Андрей Андреевич спускался по тропинке. Молодой киргиз в щегольском халате — это был Алы — кошкой прыгнул, поднял свою винтовку и бросился за русским. Но так же стремительно прыгнул Абдумаман. Он схватил дуло винтовки Алы. Никто не сказал ни слова. Абдумаман и Алы смотрели друг другу в глаза, и что-то такое почувствовал Алы, что молча опустил винтовку и отошел в сторону. Андрей Андреевич не оборачиваясь шел вниз по тропке. Винтов ждал его. Они галопом пустили лошадей по дороге к Покровскому. Солнце скрылось за горами. Ночью в Покровское пришел отряд мангруппы.7
Всю ночь Амамбет не давал Андрей Андреевичу спать. — Обязательно удерут к басмачам, начальник, — громко шептал он охая и вздыхая. — До Воздвиженского дойдут, — ты подумай: винтовки, патроны, все будет у басмачей!.. Может быть, весь район подымется. Как думаешь?.. — Спи ты, чудак, — ворчал Андрей Андреевич, — чем больше хлопот завтра, тем лучше выспаться нужно. Чего ты боишься? — Я не боюсь, черт! — обижался Амамбет. — За себя разве боюсь? Зачем так говоришь… — Ну, спи, спи… Амамбет затихал, но едва Андрей Андреевич начинал засыпать, снова раздавался взволнованный голос: — Начальник, начальник… Не спишь?.. Нет?.. А что если сейчас двинуть на Воздвиженское? Как думаешь?.. — Кони устали. Спи… Винтов тихонько похрапывал в углу, раскинувшись на шинели. Он мог спать где угодно и при любом шуме. Андрей Андреевич позавидовал ему. Только под утро секретарь замучился и уснул. Во сне он бормотал и тревожно вскрикивал. Еще было темно, когда Андрей Андреевич поднялся. На дворе он вымыл лицо холодной, как лед, водой из арыка, причесал волосы и, ежась от холода, почувствовал себя бодрым и даже почти выспавшимся. Он разбудил командира мангруппы и отдал ему приказание послать людей к перекрестку троп у Чертова перевала. Двое пограничников оседлали лошадей и выехали рысью. Командир мангруппы ушел досыпать. Андрей Андреевич закурил трубку и прошел к сараю. Часовой стоял у сарая. Он снял замок и открыл дверь. Предсельсовета сидел на корточках в углу и дрожал от страха и холода. Ночи в горах холодные. Андрей Андреевич присел на пустой ящик — в ящике раньше лежали винтовки — и сказал, попыхивая трубкой: — Я знаю все. Я был на Чертовом перевале. Председатель вскочил, метнулся в другой угол и прижал руки к груди. В сарае было почти темно. Фонарь «летучая мышь» горел снаружи, где стоял часовой. Дверь была приоткрыта. — Ты не волнуйся, — не спеша говорил Андрей Андреевич. — Мне все рассказали. Рассказал этот… молодой… как его?.. — Абдумаман! — прошептал председатель. — Вот, вот, Абдумаман. Так что лучше расскажи все сам. Откуда винтовки? — Я скажу все, товарищ начальник… Я не виноват… — Председатель всхлипывал и старался поймать руку Андрея Андреевича. — Мне приказали… Предрика позвал меня… — Дайте фонарь сюда, товарищ дежурный, — громко сказал Андрей Андреевич. Он поставил фонарь на землю и плотно закрыл дверь. Из полевой сумки достал бумагу, пристроился у ящика, как у стола, и начал писать протокол допроса.8
— Ты у меня пойдешь под суд, начальник… Ты у меня из партии вылетишь!.. — хрипел Амамбет. — Воздвиженское занято бандой… Джантай, басмачи, черт, а ты сидишь… Почему отряд не выступает? Почему? Это дело — время терять? Как думаешь?.. Было уже двенадцать часов, а пограничники не возвращались от Чертова перевала. Андрей Андреевич волновался, и секретарь разозлил его. — Вот что, товарищ Амамбет, — тихо и внятно сказал он, — под суд меня ты отдать можешь, но потом. А здесь командир я, и отвечаю за все тоже я. Понял? Амамбет сжал кулаки, но ничего не сказал. Прошло еще полчаса. В половине первого мальчишка пастух прискакал на взмыленной лошади и крикнул что-то по-киргизски. Киргизы бежали к въезду в село. Андрей Андреевич приказал строить людей. Коновод подвел его гнедого коня. Лошади давно стояли оседланные. Садясь в седло, Андрей Андреевич увидел, как в облаках пыли из-за поворота дороги показался отряд. Двадцать всадников ехали по трое. Впереди ехали пограничники, посланные к Чертову перевалу. За ними киргизы старались ровнять строй и сдерживали лошадей. Пограничник, старший наряда, подъехал к коменданту и взял под козырек. — Добровольный киргизский отряд в количестве двадцати бойцов прибыл по вашему приказанию. Андрей Андреевич тронул коня. — Аман, товарищи джигиты, — сказал он. — Здравствуй, начальник. Здравствуй, здравствуй, — нестройно ответили киргизы. Абдумаман был в первом ряду. Он был без шапки. Голова его была перевязана. — Кто его? — тихо спросил Андрей Андреевич. — Басмач. Всю ночь, говорят, спор у них был… — ответил второй пограничник. — Жаль, ушел. Ловок больно, и конь хорош… — Алы Джантаев сволош, — глухо сказал Абдумаман. Когда эскадрон вместе с киргизами выезжал на дорогу к Воздвиженскому, Амамбет подошел к Андрею Андреевичу. — Прости меня, пожалуйста, начальник, — сказал он, протягивая руку. — Ты молодец, конечно… Поцелуемся, черт! Андрей Андреевич нагнулся с седла и обнял секретаря. Бойцы смеялись.ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Банда налетела на Воздвиженское внезапно. Жители, бросив все, бежали. Заведующий кооперативом заперся в лавке, с охотничьим ружьем. Басмачи выломали сразу дверь и окно и застрелили его. Предсельсовета поймали, когда он звонил в Каракол, — в Воздвиженском был телефон. Джантай сам шашкой зарубил предсельсовета. Телефонный провод басмачи перерезали. Стадо вернулось с пастбища. Старик пастух не знал о налете басмачей. Ему приказали гнать стадо в Кую-Кап. Трое джигитов поехали с ним. Село разграбили и подожгли. Сгорело только два дома, пожар не разгорелся. Было безветренно. Пора было уходить. Награбленное и товары кооператива погрузили на верблюдов. Лошадей джигиты держали оседланными. Но Джантай ждал Алы. Людей и винтовки должен был привезти Алы из Покровского. Людей не хватало, так же как оружия. Нужны были пастухи, нужны были джигиты. Время было смутное, и честолюбивые планы владели умом Джантая. Он мечтал стать во главе большого восстания и, под зеленым знаменем пророка, победить большевиков, прогнать урусов из Киргизии. Он знал: Джаныбек Казы, хитрый как лиса, дерется с урусами на юге, в Ошском районе. Джантай хотел объединиться с ним и подчинить себе мелких курбаши. Есть люди и в селениях и в городах, которые помогут басмачам. Есть люди и по ту сторону границы… Но второй день клонился к вечеру, а Алы все не возвращался. Верным звериным нюхом Джантай чуял недоброе. На белом своем коне он выехал за околицу, на дорогу к Покровскому. Джигиты стояли поодаль. Мрачный, скорчился на высоком седле седой курбаши. Задумавшись, он играл камчой. Жеребец вздрагивал и переступал задними ногами. Близился час вечерней молитвы. Медленно тянулось время. Наконец птичьи глаза Джантая разглядели облако пыли вдали на дороге. Облако быстро приближалось. Джантай вгляделся внимательней. Ему показалось, что облако слишком большое, слишком много всадников. Откуда Алы взял столько людей? Большая удача! Пыль летела по дороге. Уже не больше двух километров оставалось до Воздвиженского. Джантай приказал оставить верблюдов. Джигиты отвели их за дома, в узкий переулок. Верблюды упирались и пронзительно кричали. Джантай пустил коня напрямик к горам. Он перескочил несколько глиняных дувалов. Джигиты неслись за ним. В горах Джантай был хозяином. Боя на равнине он боялся и не хотел. Нужно было заманить урусов в горы: увлекаясь преследованием, пограничники на усталых лошадях зарвутся и подставят себя под пули басмачей. Сколько раз это удавалось! А потом, когда урусы отступят, унеся убитых и раненых, можно будет вернуться и забрать верблюдов. Дома и заборы скрывали басмачей от пограничников. Горы были близко. Но, едва выехав из села, Джантай осадил коня. Джигиты окружили его. Молча он указал камчой на склон горы прямо перед собой. По склону ехало человек двадцать в киргизских халатах. Джантай ждал в замешательстве. Киргизы на горе остановились, спешились и разбежались в цепь, скрываясь за камнями. Раньше, чем Джантай понял, в чем дело, затрещали выстрелы. Киргизы стреляли по басмачам. Джантай повернул коня и поскакал обратно. Джигиты, беспорядочно отстреливаясь, ехали за ним. Одному из них пуля попала в грудь. Он лежал на шее своей лошади, хрипел и плевался кровью. Обезумевшая лошадь кружилась, стараясь сбросить всадника. Ее убили наповал. Падая, она придавила раненого басмача. Пограничники не стреляли. Джантай услышал все нарастающее «ура» и видел, как сверкнули клинки. Оставалась только одна возможность: прямо по равнине проскакать до ущелья. Но равнина тянулась добрых три километра. Справа была неприступная стена гор, слева — пропасть и поток на дне ее. Кзыл-аскеры были совсем близко. Все зависело от лошадей. Банда Джантая численностью чуть ли не вдвое превышала пограничников, но Джантай даже не думал о бое. Разбойник и вор, он привык к засаде, к внезапному налету на мирное селение, к убийству. Открытого сражения он избегал всю жизнь. Рубка, сабельная атака была для него страшна, как сама смерть. Джантай крикнул, чтобы джигиты разъединились и гнали к ущелью. Алы был рядом. Злясь на неудачу, Джантай выругался и ударил сына камчой. Пограничники скакали к селу. Впереди всех, на гнедом жеребце, легко привстав на стременах и далеко откинув руку с кривой шашкой, скакал командир. Джантай хорошо видел его. Пограничники не кричали больше. Киргизы на горе перестали стрелять. Все стихло. Раздавался только глухой стук копыт и храп коней. Бой был похож на скачку. Солнце садилось. Тени от гор бежали по равнине. Пограничники догоняли. Передние уже подняли клинки, готовясь рубить. Но Джантай и горсточка джигитов доскакали до ущелья. Привычные кони, свернув с тропы, неслись над кручей. Басмачи прыгали за камни и снимали винтовки. Тогда командир пограничников громко прокричал команду, его бойцы сдержали лошадей и повернули обратно. Джантай задыхался от ярости. Командир урусов оказался хитрее его. Он отбил верблюдов, восемь басмачей погибло в бою, он не дал себя заманить в ущелье, и ни один пограничник не был даже ранен. Но Андрей Андреевич тоже был недоволен исходом боя. Только предельная усталость лошадей, измученных переходом до Воздвиженского, заставила Андрея Андреевича остановить преследование. Не было другого выхода…2
Через пять дней после боя с Джантаем Андрей Андреевич зашел в райком к Амамбету. Он сел около двери и ждал, пока секретарь освободится. Человек десять киргизов в засаленных халатах и шапках, с плетками в руках обступили стол секретаря. Они громко кричали, все сразу, махали платками и стучали кулаками по столу. Председатель РИКа сидел сбоку стола, подперев голову руками, и внимательно слушал. Киргизы были коммунисты и бедняки, председатели сельсоветов. Они кричали о племенном скоте, который давно был обещан и до сих пор не пришел к ним. Амамбет молчал, щурил глаза, и злые желваки плясали у него на скулах. Когда киргизы, наконец, выговорились и вдруг, все сразу, успокоились и замолчали, он тихо и ласково сказал им, что племенные бараны будут, будут очень скоро, завтра или послезавтра. Киргизы стали прощаться. Пожимая их руки, Амамбет быстро и коротко спрашивал о делах в аулах, о семенных делах и о многих других делах, в курсе которых он был. Киргизы ушли, оставив в комнате запах конского пота, кумыса и горных пастбищ. Предрикаподнялся. — Я пойду. Безобразие: пока сам не сделаешь, ничего не сдвинется, сказал он. — Конечно, конечно, — заторопился Амамбет. Он не смотрел на предрика. — Я прошу тебя, пожалуйста, проследи за отправкой скота. Пожалуйста. Проходя мимо Андрея Андреевича, предрика сказал: — Здорово, комендант, — и ногой распахнул дверь. Андрей Андреевич плотно прикрыл дверь и подсел к столу секретаря. Амамбет крутил ручку телефона. — Одну минуту, — сказал он и закричал в трубку: — Алло! Заврайзо, пожалуйста. Да. Слушай, почему племенной скот до сих пор не отправлен аулам? Что? Какое такое, черт, распоряжение РИКа? Что? Никаких, понимаешь, распоряжений! Немедленно, понимаешь, отправить! Да. Да. Ни с кем не согласовывай, пожалуйста. Скажи каждому, кто спросит, — я велел, Амамбет велел. Если завтра бараны не будут в пути, ты завтра же будешь сидеть в тюрьме. Понял? — Амамбет бросил трубку, с остервенением выругался, сразу успокоился и повернулся к Андрею Андреевичу. — Ну, как дело, товарищ комендант? — спросил он, кладя руку на колено Андрея Андреевича. — А так, товарищ секретарь, что мне только с тобой согласовать нужно. По нашей линии все ясно. Соответствующие распоряжения я уже получил. Подтвердились все предположения, и даже хуже. Вот, почитай-ка. Андрей Андреевич положил на стол небольшой кусок бумаги. Амамбет прочел: — «С винтовками сделал все, как сговорились. Довольно ждать. Старайся вынудить урусов на решительные действия. Двигайся на Каракол. Теперь самое время. Новый начальник — сволочь…» — Это про меня, очевидно, — сказал Андрей Андреевич, улыбаясь. — «…Сволочь, — продолжал Амамбет. — Лучше всего убрать поскорее. Он кое-что, очевидно, пронюхал. Пусть твои посланные больше не ездят ко мне в РИК. Письма посылай через Покровское. Воздвиженскому кооперативу идет караван с товарами. Действуй. Жду обещанного…» Амамбет скрипнул зубами. — Негодяй, — сказал он, — страшно подумать… Все-таки предрика, понимаешь… Ведь ему верили по-настоящему. Хорошо, что записку получил ты, а не Джантай. Я б его… — Так ты не возражаешь? — спросил Андрей Андреевич. — Что ты пристаешь ко мне? — разозлился Амамбет. — Ты же прекрасно знаешь, как я смотрю на это! Расстрелять надо собаку! А ты — не возражаешь, не возражаешь… Амамбет плюнул и вскочил. Андрей Андреевич вызвал по телефону Винтова. — Товарищ уполномоченный? Я говорю. Выполняйте мое приказание. Все в порядке. Да, немедленно. Амамбет ходил по комнате из угла в угол, засунув руки в карманы и опустив голову. Андрей Андреевич внимательно посмотрел на него. Лицо Амамбета осунулось, жесткие складки легли возле рта, углубились морщины на лбу и вокруг глаз. Он казался сильно постаревшим и очень усталым. Он глубоко задумался и вздрогнул, когда Андрей Андреевич заговорил с ним. — Ну, Амамбет, скоро на фазанов сходим. А? — Андрею Андреевичу захотелось сказать Амамбету что-нибудь ласковое, и он вспомнил об охоте. — Сходим, сходим, — заулыбался Амамбет. Улыбка у него была совсем молодая. Ехать на охоту было решено через полтора месяца. Раньше никак не выкраивался свободный день.3
Джантая созвал вожаков басмаческих шаек. Первым приехал Джамбаев Абдула, человек храбрый и злой, но глупый. От глупости он всегда старался перехитрить всех, всюду видел подвох и был подозрителен и недоверчив. Шайка у него была небольшая, но пока он был удачлив в грабежах, джигиты слушались его. Абдула приехал налегке, без юрт, только с пятью джигитами. В подарок Джантаю он привел жирную кобылу. За Абдулой приехали Сарыбашев Сююндык и Кадырбаев Бабай. Они встретились в горах, недалеко от становища Джантая. С ними было по десяти джигитов. Они расставили юрты. Сююндык привез Джантаю дорогой клыч. Бабай гнал дюжину овец. В юрте Джантая уже варилось мясо. Курбаши сидели на богатых кошмах вокруг казана, и молодая жена Джантая наливала им кумыс. К вечеру приехал Малыбашев Касым. Он привел двадцать пять джигитов и расположился в стороне от остальных. Касым был умный и смелый человек. Он сам мечтал объединить мелкие шайки, но не был так силен, как Джантай, и не мог заставить слушаться себя. Он вынужден был приехать к Джантаю, чтоб не оставаться одному, но он держался независимо, не пошел к Джантаю, пока не собрались все, и ничего не привез в подарок. Ночью приехал Кара-Мурун. Он приехал только с одним джигитом. Бешеным галопом ворвались они в становище. Подскочив к юрте Джантая, Кара-Мурун выстрелил в воздух и пронзительно свистнул. Джантай вышел навстречу, — Кара-Мурун был страшным человеком, с ним нужно было считаться, и даже Джантай побаивался его. Огромного роста, сутулый, с кривыми ногами и длинными, как у обезьяны, руками, Кара-Мурун был необычайно уродлив. Лицо его было обезображено сифилисом, нос сгнил и провалился. От этого он и получил свое прозвище — Кара-Мурун, черный нос. Никто не знал его настоящего имени. К нему шли самые отчаянные из басмачей. Грабежи его всегда были связаны с самыми зверскими, бессмысленными убийствами и насилиями. Он никого не боялся. Болезнь мучила его, разрушала его тело и мозг. Он был почти безумным. Всю ночь пировали басмачи. Утром приехал последний, кого ждал Джантай, — молодой Айдарбеков Кулубек. Он недавно пришел со своей бандой из Китая. Он привез Джантаю прекрасную скорострельную винтовку. Джигиты Кулубека были неразговорчивы, хорошо одеты и отлично вооружены. Их было сорок человек. Джантай приказал зарезать много баранов. В огромных котлах варилось мясо для джигитов. Кумыса было сколько угодно. Джигиты пили и ели. Жиром лоснились лица. Густой дым от костров подымался прямо вверх, пахло мясом. Ржали лошади, кричали верблюды и блеяли овцы. В юрте Джантая начался совет вожаков. Джантай велел жене уйти из юрты. У входа, снаружи, сидел Алы с заряженным ружьем на коленях. Внимательно оглядев всех, Джантай заговорил спокойно и тихо: — Настало время нам исполнить то, о чем сговорились мы. Настало время подготовить все и поднять людей против урусов, против большевиков, против пограничников. Год этот плохой был, хлеб летом на полях сгорел, а зимой морозы были, и хлеб тоже погиб. Много скота зарезали люди — мы подговорили их, — и немало скота помог нам аллах в горы угнать. Люди голодны, а голодных легко на восстание поднять. Но у пограничников хорошие кони и ружья, и новый начальник их — хитрый и храбрый человек. Вы все уже успели узнать его. Может быть, только ты, почтенный Кулубек, еще не знаешь о нем, но ты можешь верить нам… И вот, я говорю вам, джигиты, что винтовка и кинжал никогда не сильнее, чем хитрый ум и спокойное сердце… Джантай замолчал и еще раз оглядел всех. Басмачи сидели не шевелясь, лица их были неподвижны и спокойны. Снаружи доносились крики джигитов, нестройные песни и ржание лошадей. — Я послал начальнику пограничников, — совсем тихо, почти шепотом продолжал Джантай, — своего человека с письмом. Я писал, что хочу мира с русскими, что хочу выйти к ним. И пограничники согласились на мир со мной. Их начальник отпустил моего человека и прислал мне ответ. Он написал мне, чтоб я распустил моих джигитов, чтоб они приехали в Каракол и чтоб я приехал сам. Он написал мне, что хорошо примет меня. И некоторые из моих джигитов уже поехали в Каракол. Они поселятся в аулах и будут ждать, пока я позову их, и будут звать людей идти вместе с ними. Я сам пойду к пограничникам, и люди увидят, какой почет урусы оказывают Джантаю Оманову, и люди поверят мне еще больше, чем верят теперь, и мирные аулы пойдут за мной, когда я позову их. Я подыму восстание, а вы тогда ударите на пограничников с гор, и аллах поможет нам, и мы победим и получим власть и богатство. Джантай кончил. Курбаши долго молчали. Потом выступил Кулубек. Он сказал, что Джантай мудр и план его верен, и что по ту сторону границы есть люди, которые помогут, если будет нужно, и оружием и деньгами. Потом выступил Касым. Он сказал, что нужно бить кзыл-аскеров на их заставах, и предложил подготовить налет на заставу Зындан. Касым хотел руководить, он был гордый человек, и потребовал, чтоб ему подчинился Кара-Мурун со своей шайкой. Кара-Мурун рассвирепел и схватился за кинжал. Джантай не любил Касыма, но теперь было не время ссориться, и Джантай успокоил Кара-Муруна. Решено было, что на заставу нападет шайка Касыма, а Кара-Мурун ударит на аул рядом с заставой. Потом говорили другие курбаши. Только вечером кончился совет. Все было решено, план был принят всеми. В час вечерней молитвы Джантай вышел из юрты, и остальные вышли за ним. Обратясь к востоку, все стали на колени и совершили намаз. Джантай молился долго — он был набожным человеком, — и никто не встал с колен раньше его. Ночью басмачи снялись и разъехались в разные стороны. Когда взошло солнце, на месте становища остались только круглые следы юрт да остывший пепел костров.4
Шесть лет минуло с тех пор, как Кутан послушался Алы и вернулся к басмачам. Шесть лет каждое слово Джантая было законом для Кутана. Шесть лет Джантай был хозяином его судьбы. Джантай посылал Кутана, вместе с беднейшими джигитами, охранять караваны контрабандистов, которые шли через Кую-Кап. Джигиты бились с пограничниками. Контрабандисты платили за это скотом, опием и деньгами, и Джантай богател. Джигиты жили почти так же, как пастухи. За шесть лет Кутан мог по пальцам пересчитать, сколько раз он наедался досыта. Кутан жил с матерью и сестрой. Брат пас стада Джантая. Юрта Кутана была из старой, дырявой кошмы, ветер свистел в ней, и бедность никогда не покидала Кутана. Кутан по-прежнему был силен и вынослив, но мозг его как-то отупел: он боялся Джантая, боялся уйти из банды, боялся пограничников; он был молод, и все, кто был старше, обращались с ним как с животным. У него не было товарищей, он был одинок и молчалив. Глухая злоба росла в нем. Однажды Алы подъехал к юрте Кутана и приказал ему сниматься и кочевать вниз, в родной аул Ак-Булун, поселиться там и ждать, пока Джантай не позовет его. Алы сказал, что русские не тронут Кутана, что Джантай заключил мир с пограничниками, да никто и не знает, кто такой Кутан. К вечеру этого дня Кутан двинулся вниз к Караколу. Мать и сестра ехали на лошади, тощий верблюд тащил сложенную юрту. Кутан пешком шел сзади, погоняя верблюда. За перевалом они догнали еще несколько семей: джигиты получили приказ кочевать к Караколу, и никто не смел ослушаться Джантая. Кутан дошел до аула Ак-Булун. Теперь в ауле жили люди, но много было пустого места и развалившихся дувалов. Кутан остановился с края селения, возле ручья. Мать и сестра расставили юрту. Свободной земли было много, и Кутан вспахал маленький участок и засеял ячменем. Есть было нечего, семья Кутана голодала, но Джантай был далеко, и Кутан чувствовал себя почти свободным. Он повеселел и начал петь во время работы. Через месяц пограничники приехали в Ак-Булун, и их начальник пришел в юрту Кутана, осмотрел все вещи и нашел три куска маты[23]. Кутан подумал, что теперь кзыл-аскеры арестуют его, но даже не пытался бежать: он решил покориться судьбе. Начальник кзыл-аскеров был низкого роста, веселый краснолицый человек. Очевидно, он приехал с гор, так как кожа на лице у него была сожжена солнцем и облезла на носу и скулах. Он обратился к Кутану по-киргизски. Он не кричал, не ругал Кутана. Он говорил спокойно, даже ласково. Он сказал, чтобы Кутан через три дня приехал в Каракол, в комендатуру, и спросил уполномоченного Винтова. Он сказал, что верит Кутану, и Кутан дал слово приехать. Пограничники уехали. Они даже не забрали мату. Кутан долго стоял на дороге и думал, глядя им вслед. Прошло два дня. Кутан оседлал лошадь, попрощался с матерью и поехал в Каракол. Он мог и не ехать, мог убежать в горы, но начальник пограничников поверил ему, начальник говорил с ним как с равным, и Кутан должен был сдержать слово, честное слово джигита. Мату он взял с собой. Проезжая по прямым каракольским улицам, Кутан вспомнил девятнадцатый год. Возле площади он остановил лошадь перед большой клумбой с цветами. Несколько молодых деревьев росло вокруг. Раньше этого садика не было здесь. Посредине клумбы стояла маленькая постройка из досок. Кутан догадался, что это могильный памятник урусов. На досках были русские буквы, и в красной рамке выцветшая фотография русского человека в черной куртке, в матросской шапке, с веселым, широким лицом. Кутан узнал командира партизанского отряда. В комендатуре Кутан назвал имя Винтова, и пограничник провел его к нему. Войдя, Кутан поздоровался, достал из-под халата сверток с матой и молча положил на стол. Винтов засмеялся, крепко пожал Кутану руку и хлопнул по плечу. Кутан тоже улыбнулся из вежливости, хотя и не понял, чему смеется начальник. Потом кзыл-аскер принес тарелку супу и вторую тарелку — с мясом, и Винтов стал угощать Кутана. Кутану очень хотелось есть, но он съел немного супу и только один кусок мяса. Винтов налил чай в кружку и положил много сахару. Пока Кутан пил, Винтов говорил о том, что Кутан бедняк и что советская власть хочет добра всем беднякам, а значит, и Кутану; контрабандисты и басмачи — баи и манапы, богатые и кулаки — старинные враги бедноты, а значит, враги Кутана; Кутан должен быть с советской властью, а не с басмачами, должен помогать драться с баями. Никто никогда не говорил так с Кутаном. Винтов хорошо знал киргизский язык, и Кутан понял все, что он говорил. Потом Винтов написал записку в Ак-Булунский сельсовет, распрощался с Кутаном и проводил его до ворот комендатуры. Мату он вернул Кутану и на дорогу дал пачку папирос. Всю дорогу обратно Кутан думал о Винтове и о пограничниках. Русских нелегко понять, русские хитрые, и с детства Кутан привык относиться к ним как к врагам, но чем больше думал он о Винтове, тем меньше ненависти к русским оставалось у него. И еще вспомнил Кутан матроса, начальника партизанского отряда. За что боролся русский командир? За что убил его русский кулак? Теплая ночь раскинула звездное небо над молчаливой землей. Земля одурманивала запахами трав и цветов. В мертвой тишине бесшумно проносились летучие мыши. Изредка заяц выскакивал на тропинку или пробегал фазан. Один раз совсем близко ухнула сова, и снова все смолкло. Лошадь шла шагом. Кутан сгорбился в седле. Мысли, смутные и неясные, рождались в его голове, и он не мог в них разобраться. Многое старое, привычное казалось неверным. Нового он не знал. Где правда? У Джантая, у басмачей? Или у пограничников, у русских?.. Небо просветлело на востоке. Лошадь фыркала и мотала головой. Утром Кутан приехал в Ак-Булун. Записку Винтова он отдал председателю сельсовета, и председатель дал ему мешок муки, двух баранов и воз сена. — До урожая на твоем поле, — сказал председатель. И голод кончился в семье Кутана. На поле Кутана ячмень взошел острыми ярко-зелеными иголками.5
Многие джигиты Джантая давно уже жили в селениях близ Каракола, а Джантай все еще медлил и не выезжал из своего становища на реке Кую-Кап. Только в конце лета он собрался и медленно двинулся из ущелья. Конец лета он выбрал потому, что, во-первых, вода в реках стояла низко и переправы были удобнее, и, во-вторых, потому, что осенние праздники, свежая буза[24] и пиршества, с этим связанные, давали ему предлог останавливаться во всех аулах, торжественно появляться на киргизских сборищах, сразу видеть много людей, со многими говорить и, таким образом, уже по пути к Караколу начать выполнение своего плана. Он решил заезжать во все селения, оттягивая приезд в Каракол. Джантай двигался медленно. Впереди ехали верные джигиты. Мир с кзыл-аскерами был заключен, но Джантай принимал все меры предосторожности. Он ехал на расстоянии полуверсты от передового отряда, окруженный остальными джигитами. Алы и Джаксалык ехали по бокам. На Джантае были лучшие его халаты и пушистая сурковая шапка, низко надвинутая на лоб. Дорогое оружие — кривая шашка, маузер и английский карабин — блестело на солнце богатой насечкой. Седло и стремена были отделаны золотом и серебром. Роскошная кошма покрывала седло, а на круп белого жеребца был накинут яркий ковер. Алы был очень похож на отца, только вместо старческой благообразности на его лице застыло злое и хищное выражение. У него был широкий, приплюснутый нос и оттопыренные губы. Он был одет, как всегда, по-дунгански, и халат, распахнутый на груди, открывал крепкое, загорелое тело. Джаксалык — лентяй, обжора и сластолюбец — был непомерно толст. Крепкий конь с трудом нес его гигантскую тушу. Когда-то лихой товарищ Джантая, теперь Джаксалык был малоподвижен, сонлив и ко всему безразличен. Только жирная пища или молодая женщина могли вывести его из вечного полусонного состояния. Но он был вспыльчив до бешенства. В припадках ярости — правда, теперь все более редких — он был бесстрашен и силен как прежде, в молодости. Басмачи обычно мало обращали на него внимания, но вспышек его гнева боялись все, даже Кара-Мурун. Джаксалык не терпел возражений, не терпел препятствий в удовлетворении своих сладострастных привычек. Беднейшие джигиты банды и полурабы-пастухи ненавидели его больше всех других курбаши. В пути Джаксалык дремал, жирной грудой обвиснув на седле. К середине второго дня басмачи подъехали к аулу. Аксакалы вышли встречать Джантая и приняли его с почетом. Джантай медленно проехал по аулу. Джигиты кружились вокруг него и горячили лошадей. У самой большой юрты спешились. Аксакалы пригласили Джантая войти. Пока в огромном казане варилось мясо барана, гости и хозяева чинно сидели вокруг костра. Джантай молчал. Раньше него никто не хотел начинать разговор. Молодая киргизка обнесла всех кувшином с водой. Она двигалась бесшумно и приседала на корточки, поливая воду на руки. Аксакалы благодарили Джантая за честь и поднесли ему баранью голову. Джантай вынул нож, отрезал ухо и съел. Потом пальцем выковырял глаз и проглотил. Остальным завладел Джаксалык. Он раздробил череп, достал мозг и съел его. Быстро работая острыми ножами, аксакалы приготовили беш-бармак. После еды снова вымыли руки, и та же киргизка подала свежую бузу. Выпив две пиалы, Джантай поблагодарил и заговорил, обращаясь к хозяевам. В юрту набилось много народу. Люди теснились у стен, вплотную сидели на земле. Дверную кошму откинули, и снаружи толпились те, кому не хватило места. — Киргизы, — начал Джантай, — я пришел, чтоб говорить с вами. Я никого не боюсь, урусы не страшны мне, и сила моя велика. Я пришел говорить с вами, детьми моего народа, я пришел сказать вам правду. Есть один закон, киргизы, — закон аллаха, и урусы идут против великого закона… Джантая слушали внимательно и молча. Один из аксакалов, самый старый, сгорбленный, со слезящимися, воспаленными глазами и редкой седой бородой, кивал головой, не отрываясь глядя на Джантая. — Хорошо ли живется вам, киргизы? — продолжал Джантай, воодушевляясь все больше и больше. — Есть ли мясо у вас, чтоб наесться досыта? Оглянитесь вокруг. В нищете, в голоде, в горе живет киргизский народ. А кто виноват в этом? Я старый человек, и я помню — давно это было, — когда мало урусов было в Киргизии и счастливо жил киргизский народ. Урусы царя принесли с собой горе, нищету и голод. Обманом и силой захватили они страну. Теперь урусы снова обманывают вас. Смотрите: большевики вас в колхозы зовут. Знаете, зачем делают это? Чтоб легче было отобрать у вас все, что имеете вы. Вы соедините стада ваши в большое общее стадо, и урусы пришлют кзыл-аскеров, и кзыл-аскеры угонят сразу все большое стадо. Берегите жен и дочерей ваших, киргизы. Урусы не знают совести. Берегите детей ваших. Урусы насильно возьмут их и увезут от родителей, и когда дети вернутся, они не узнают родителей. Выученные в школах урусов, они станут хулить святое имя пророка, станут палачами своего народа. И вот я пришел к вам, киргизы. Я прошел по горам, и урусы не посмели напасть на меня. Аллах благословил меня. И я говорю вам, киргизы: готовьтесь! Я пройду по всей стране, и во всех аулах люди услышат меня. Я подыму зеленое знамя пророка, и во всех аулах люди встанут против урусов, и урусы погибнут, а мы станем свободны, и аллах поможет нам. Джантай кончил и обвел всех глазами. Киргизы молчали. Тогда Джантай взял из рук Алы небольшой мешок и кинул старейшему из аксакалов. Мешок звякнул, падая на землю. — Я дарю вам патроны, киргизы, — сказал Джантай. — Пусть ваши ружья стреляют без промаха. Пусть аллах направит руки ваши. Пусть ваши пули узнают урусы. Старик аксакал молча поклонился и передал мешок молодому киргизу. Другие аксакалы тоже поклонились Джантаю. Никто не сказал ни слова. Джантай встал. — Я рад, что все вы — верные дети пророка. Я рад, что никто не спорит. Пусть милость аллаха будет с вами. Молчание отвечало ему. Джантай пошел к выходу. Перед ним расступились, все так же молча. Только когда он уже согнулся, чтоб пройти в низкую дверь, сзади раздался спокойный старческий голос. — Ты нехорошо сказал, — заговорил старик, тот самый, который внимательней всех слушал и кивал головой. Джантай резко обернулся и выпрямился. Брови его сдвинулись, лицо стало злым, и рука легла на шашку. — Ты нехорошо сказал, Джантай Оманов, — говорил аксакал, — ты сказал нам, что урусы боятся твоей силы, и не тронули тебя. Зачем обманывать, Джантай? Мы знаем: два пограничника проезжали вчера наш аул и сказали нам, — мы знаем, что ты первый просил мира и обещал кончить войну с урусами. Мы знаем, что начальник пограничников велел тебе приехать в Каракол, и это он, комендант, приказал не трогать тебя в пути. И еще раз ты сказал неверно, Джантай Оманов. Ты — старый человек, но я старше тебя и тоже помню то время, когда урусов мало было в Киргизии. Тебе хорошо жилось тогда, тебе — сыну бая, но разве плохо тебе теперь? Разве халат твой рваный? Разве ты знаешь горе, Джантай? А пастухам было плохо всегда. Ты зовешь нас подняться против большевиков, против пограничников. И это неверно, Джантай Оманов. Мы много мешали большевикам. Мы много мешали кзыл-аскерам. Мы были глупы и слушались баев. Мы думали, что в самом деле кзыл-аскеры такие же враги, как солдаты русского царя. Но прошло время, и мы поняли, где правда. Ты поздно пришел, Джантай. Урусы захватили Киргизию, говоришь ты, и снова говоришь неправду. Мой сын — большой начальник, мой сын — секретарь райкома, и он управляет вместе с другими киргизами. Мой сын был батраком, как отец его, и дед, и прадед. Мой сын был хуже собаки, пока не пришли кзыл-аскеры и не помогли нам. А теперь моего сына знают все, и он знает, как живут бедняки и что нужно для счастья бедняков. Ты не знаешь этого, Джантай. И еще раз ты сказал неверно, Джантай. Ты велел нам не пускать детей наших в школы, но детей учат по-киргизски, и мы всегда можем узнать все, чему научили их. Я прожил длинную жизнь, и я прожил ее в темноте, как ночью, а мой внук смотрит в книжку, которую дает ему учитель, и узнает столько, что мне стыдно, потому что он мальчишка, а я старик, и он умнее меня. Ты наш гость, Джантай, и мы приняли тебя как гостя. Ты подарил нам патроны, и мы благодарим тебя. Завтра люди пойдут в горы и убьют козлов, и у нас будет свежее мясо. Но не мешай нам, Джантай. Мы никогда не жили так, как живем теперь, хотя у некоторых из нас рваные халаты и бывают дни, когда мы не наедаемся досыта. Тебе не понять нас, Джантай Оманов. И еще о колхозах ты говорил. Я уже прожил жизнь, Джантай, и твоя жизнь тоже подходит к концу. Я для себя ничего не прошу у аллаха… Джаксалык вскочил на ноги в своем углу и кинулся к аксакалу. Он опрокинул пустой казан, и чугун прозвенел глухо и протяжно, как треснувший гонг. Джаксалык выхватил кинжал и занес руку над головой аксакала. Старик спокойно сидел на земле и улыбаясь смотрел на Джантая. — Вот еще одна твоя ложь, Джантай: ты обещал нам свободу, а даешь удар ножа, — сказал он тихо. Во все время речи аксакала Джантай стоял не шевелясь, и его бледное лицо было неподвижно. Он понимал, что аксакал победил, понимал, что народ не пойдет за ним. Ему нечего возразить. Он, действительно, пришел слишком поздно, и он проиграл. В толпе происходило незаметное движение. Молодые киргизы аула окружали старого аксакала. Все больше и больше их набивалось в юрту. Алы, скаля зубы, рванул из ножен свою шашку. Его схватили за руки. Джаксалык медлил наносить удар. Старый аксакал с трудом поднялся на ноги. — Ты видишь, Джантай, — сказал он все так же тихо, — ты видишь: раздор ты принес нам. Уходи, Джантай. Уходи с миром… Джантай повернулся и пошел из юрты. Ему дали дорогу. Алы и Джаксалык пятились за ним. Снаружи возле юрты сгрудились джигиты банды с винтовками наперевес. Молодые киргизы аула теснили их. Зловещее молчание встретило Джантая. Он прошел мимо толпы к своему коню и легко вскочил в седло. Басмачи, оглядываясь назад и не опуская винтовок, разбежались к своим лошадям. Джаксалык и Алы стали по бокам Джантая, конные джигиты окружили их. Джантай молча тронул коня и выехал вперед. Он снова медленно проехал через весь аул. Аксакалы поклонились ему. Джигиты держали ружья наготове. Джантай ехал один, далеко впереди остальных, и никто не решался приблизиться к нему. Удача, счастливая боевая удача изменила ему. И это было начало конца. Джантай хорошо понимал это. Еще девять дней ездил Джантай по горам. Он побывал в семи аулах. Всюду его принимали торжественно и с почестями, всюду внимательно слушали все, что говорил он. Но из всех семи аулов он мог рассчитывать на помощь только одного. Это было небольшое становище. Несколько богачей кочевали со своим скотом. Они были трусливые, жадные люди, и Джантай знал, что по-настоящему опереться он не сможет даже на них. Самым надежным был хитрый и злой бай Исахун. Джантай подвигался к Караколу. На расстоянии дня пути от Покровского басмачи встретили всадника в окровавленных пыльных лохмотьях, на измученной лошади. Увидев Джантая, он подскакал к нему, спрыгнул с седла, и припав лицом к стремени Джантая, прохрипел еле слышно: — Пусть аллах благословит тебя, аксакал. Я обратно привез твое письмо. Джаныбек-Казы захвачен урусами. Его джигиты погибли в бою с пограничниками возле города Ош… Джантай молча повернул коня и поскакал прочь от Покровского. Джигиты догнали его только к вечеру. Через пять дней банда вернулась в Кую-Кап. Ко всем курбаши Джантай послал гонцов. Алы ночью исчез из становища, и никто не знал, куда послал его отец.6
— Вставай, Кутан, вставай!.. — мать взволнованно шептала над ухом спящего и трясла его за плечо. Снаружи, около юрты, фыркали кони и слышались приглушенные голоса. Кутан проснулся и сел. В юрте было темно. Костер погас. Звезды мигали в круглом дымовом отверстии. Встав на ноги Кутан осторожно подкрался к кошме, закрывающей вход в юрту, и прислушался. Голоса смолкли. Кто-то мягко соскочил с лошади. Звякнуло стремя. Кошма дрогнула, и Кутан отскочил в сторону. Человек, низко согнувшись, проскользнул в юрту. — Кутан… — позвал он шепотом. Кутан узнал голос Алы. — Я здесь, — ответил он. — Ты узнал меня, Кутан? — Узнал, Алы Джантаев. — Собирайся, Кутан. Отец зовет тебя. — Алы приказывал отрывистым шепотом. — Семья пусть после незаметно уходит в Кую-Кап. Собирайся скорее… Мать вздохнула в темноте. Ее сгорбленная фигура мелькнула в дверном просвете. Она несла седло. Кутан сел на землю. Он ощупью нашел свои ичиги и натянул их. Со стены снял кушак с патронташем и старую берданку. Глаза Кутана немного освоились с темнотой. Он различал смутный силуэт Алы с ружьем за плечами и с кривой шашкой на боку. Алы ждал, нетерпеливо похлопывая камчой по ноге. Сестра подошла к Кутану и подала ему плетку. Она схватила руку брата и припала лицом к его плечу. Неожиданно Кутан резко оттолкнул ее и шагнул к Алы. — Иди с миром, Алы Джантаев, пусть аллах благословит тебя, — сказал он глухо, — я не поеду с тобой. Алы резко обернулся. — Что? — прошипел он. Кутан молчал. — Что ты сказал, пес? — Я останусь здесь, — твердо повторил Кутан. — Я никому не скажу о том, что ты приходил ко мне. Я не буду мешать тебе. Но я не пойду больше с тобой… Алы тихо хлопнул в ладоши. Трое джигитов вскочили в юрту. Кутан поднял винтовку. — Уходи, Алы, — сказал он и шагнул вперед. Свистнула плеть, и острая боль ожгла лицо Кутана. В тот же момент на него навалилось двое джигитов. Третий схватил дуло винтовки. Кутан упал. Что-то твердое ударило его по затылку, и он потерял сознание. Когда он очнулся и открыл глаза, было уже светло. Тупо болела голова. Кутан хотел потрогать ушибленное место, но не мог поднять руки: руки были связаны за спиной. С удивлением Кутан огляделся по сторонам. Он ехал верхом, и ноги тоже были связаны внизу под животом лошади. Лошадь шла мелкой рысью. Впереди равномерно покачивалась спина всадника. Винтовка наискось пересекала спину. Повод лошади Кутана был привязан к хвосту передней лошади. Ехали по горной тропинке. Где-то, недалеко, шумела река. По бокам тропинки росли березы и кусты шиповника. Кутану хотелось пить. В горле пересохло. Он облизал губы и почувствовал солоноватый вкус. Кровь запеклась на губах. Левая щека была рассечена и сильно саднила. Кутан вспомнил приезд Алы и ночное нападение. От бессильной ярости он застонал и скрипнул зубами. На повороте тропинки Кутан увидел, что впереди него едет человек двадцать. Алы ехал первый. Кутан узнал его дунганский халат. Остальные были джигиты из числа тех, которые по приказанию Джантая уехали из Кую-Кап вместе с Кутаном. Кутан стиснул кулаки и попробовал освободить руки, но крепкие ремни только сильнее врезались в тело. От напряжения еще больше заболела голова. Несколько минут Кутан боролся с головокружением. Все-таки, когда боль немного утихла, он возобновил попытку. Через два часа мучительных усилий Кутан вдруг почувствовал, что ремни слабеют. Очевидно, басмачи торопились и плохо затянули узлы. Осторожно ослабляя и напрягая руки, Кутану удалось почти освободиться. Голова так болела, что он все время был на грани обморока. Он решил передохнуть и постарался сесть в седле как можно удобнее. Пока светло, о бегстве нечего было и думать. Нужно дождаться темноты. Тропинка забиралась все выше и выше. Алы гнал лошадь, и джигиты едва поспевали за ним. Часто Алы, привстав на стременах, оглядывался назад. Он боялся преследования. Кутан не отрываясь смотрел на Алы. Злоба, которая росла в нем все последние годы жизни в банде, глухая, звериная злоба сосредоточилась в ненависти к сыну курбаши, к оскорбителю, к Алы. Кутан вспомнил все обиды и унижения, начиная с байги в день рождения сына Джантая и кончая ударом плети по лицу. Щека болела сильнее, и боль эта радовала Кутана. Ему казалось, что чем сильнее страдания, тем страшнее должна быть месть. Он придумывал жестокие мучения, которым подвергнет Алы. Связанный и избитый, он не думал о поражении. Еще не зная, как удастся бежать, он был уверен в том, что рано или поздно победит, отомстит врагу. Разбитый рот его кривился злорадной усмешкой, когда он видел, как Алы оборачивался в страхе и гнал лошадь. Как хорошо было бы, если б кзыл-аскеры догнали басмачей! Между тем солнце припекло, и смертельная жажда начала мучить Кутана. Язык распух во рту. Красные круги плыли перед глазами, голова кружилась. Басмачи гнали лошадей. Тропинка то подымалась высоко на перевалы, то спускалась на дно пропастей и пересекала реки. Жара стала нестерпимой. Рана на щеке Кутана открылась, и кровь текла по лицу. Мухи облепили рану. Кутан мотал головой, чтоб отогнать их. Язык так распух, что рот невозможно было закрыть. Кутан знал, что помощи ждать не от кого. Он не произносил ни слова, только тихо стонал. Наконец силы изменили ему. Он повалился на шею лошади и надолго потерял сознание. Он не видел, как потемнело небо и тучи закрыли солнце. Тропинка шла по склону горы в густых зарослях елей и берез. Басмачи гнали лошадей галопом. Внезапно налетел ветер, верхушки деревьев закачались, зашуршали осенние листья. Небо темнело все больше. Облака низко неслись, обволакивая вершины гор. Пошел дождь. Сначала падали тяжелые, редкие капли. Потом вдруг сплошная пелена воды обрушилась с неба и стало совсем темно. Сверкнула молния, где-то треснуло дерево, глухо ударил гром, и эхо загрохотало в горах. Кутан очнулся. Вода! Холодная вода текла по его лицу! Широко раскрыв рот, зажмурив глаза, он закинул голову, весь отклонясь назад, и пил, пил, захлебываясь, кашляя и беззвучно смеясь. Он пил, и с каждым глотком жизнь возвращалась к нему. Буря ревела. Ручьи и реки мгновенно набухли, с шумом мчалась вода по каменистым руслам. Ветер свистел и выл в ущельях. Гром гремел все чаще. Молнии вспыхивали на черном небе, озаряя на секунду призрачным голубым светом мокрые камни, покрытые пеной потоки и согнутые, трепещущие деревья. Обезумевшие лошади неслись, не разбирая дороги, скользя, спотыкаясь и обгоняя друг друга. Басмач, который вел лошадь Кутана, низко пригнулся в седле и отчаянно бил своего коня плетью и ногами. Он отстал. Остальные скакали далеко впереди. В темноте нельзя было разглядеть, где они. Кутан изо всех сил рванул руки. Ремни свалились. Дрожа от нетерпения, скрежеща зубами и шепча проклятия, он развязал веревки на ногах. Все тело затекло и болело. Лошадь скакала неровным галопом. Кутан схватился за переднюю луку, высвободил ноги из стремян и бросился с седла на землю. Ноги поскользнулись на мокрых камнях. Кутан не удержался и покатился вниз по тропинке. Он летел сажени две и со всего размаха ударился плечом о ствол дерева. Секунду Кутан лежал неподвижно. Через секунду вскочил и побежал по тропинке. Где-то за его спиной ударил выстрел. Согнувшись, вобрав голову в плечи и руки прижав к груди, Кутан несся над пропастью. Еще два раза слышал он звуки выстрелов. Не оглядываясь, бежал дальше. На дне ущелья вброд перешел широкий поток. Вода дошла до груди. Скользя, цепляясь руками за камни, Кутан выбрался на берег. С тропы он сбился и бежал напрямик. Ветви хлестали его по лицу, разрывали одежду. Он не чувствовал боли. Как безумный, смеялся на бегу. Дождь хлестал не переставая. Весь мокрый, задыхающийся, еле держась на ногах, бежал Кутан.7
Дождь кончился так же внезапно, как начался. Небо посветлело. Огромная радуга ярким мостом встала над горами. Ветер стих. Воздух дрожал, наполненный испарениями. Кутан по крутой, каменистой осыпи спустился с невысокого перевала. В кустах под перевалом извивалась тропинка. Ветки вздрагивали и обдавали Кутана дождем крупных брызг. Мокрая одежда дымилась. Тропинка круто поворачивала, огибая подножие скалы, и выходила на небольшую каменистую равнину. Горы теснились вокруг. Кутан вышел из-за поворота. Он шел медленно, едва переставляя ноги и опустив голову. Вдруг совсем близко раздался топот копыт, и громкий голос крикнул: «Стой!» Кутан вздрогнул и повернулся. Сбоку к нему скакали двое пограничников. Инстинктивным движением Кутан метнулся в сторону, но голова лошади мелькнула над ним и дуло винтовки уставилось в его грудь. Он остановился. — Чего бежишь? Чего бежишь? Ну? — кричал пограничник, осаживая храпящего коня. Подскакал второй. Он вел в поводу заводную лошадь. — Подожди ты! — весело улыбаясь, сказал он. — Видишь, парень вовсе перепугался. Откуда идешь, джолдош?[25] — обратился он к Кутану. Кутан молчал. — Да ты не бойся. Говори: откуда шел. — Басмач шел, — глухо сказал Кутан. — Какой басмач? Что ты плетешь, друг? — насторожился пограничник. — Басмач пришел… Голова бил… Рука, нога вязал… Белесм?[26] — говорил Кутан. — Ну, вот что, — сказал первый пограничник, — лезь на лошадь и удирать не пробуй. — Он внушительно потряс головой. Лицо у него было круглое, веснушчатое и добродушное, но он хмурил выцветшие редкие брови и грозно морщил лоб. «Сердитый…» — подумал Кутан, садясь на лошадь. Пограничники выехали на тропинку. Кутан ехал между ними. Повод его лошади держал передний кзыл-аскер. Задний положил свою винтовку поперек седла. Поздно ночью они были в Караколе и по темным улицам проехали в комендатуру. В окнах комендатуры был свет. Пограничники повели Кутана в дом. У входа они столкнулись с Винтовым. Винтов внимательно и серьезно посмотрел на Кутана. Кутан поздоровался, но Винтов не ответил и молча пошел следом за пограничниками. Мимо дежурного с шашкой Кутана провели в большую комнату, где за столом сидел начальник кзыл-аскеров, комендант. Пограничники вытянулись и взяли под козырек. Один из них быстро стал что-то говорить. Комендант встал, слушал стоя. Кутан хорошо разглядел его. Комендант был высокого роста, сутуловат и костист. Широкое лицо его было темным от загара. Волосы выгорели, седина белела на висках. Глаза у коменданта были голубые, спокойные и ласковые, а брови мрачно хмурились, и лоб пересекали глубокие морщины. Небольшие усы скрывали верхнюю губу коменданта. Потом пограничники ушли. В комнате остались Винтов, комендант и Кутан. — Садись, Кутан Торгоев, — по-киргизски сказал комендант. — Садись и рассказывай все по порядку. Винтов стоял в дальнем конце комнаты, спиной прислонясь к стене. Только одна лампа горела на столе, и в комнате было полутемно. Сначала Кутану было трудно говорить. Он запинался, подолгу молчал. Но комендант внимательно, не перебивая, следил за каждым его словом, и Кутан говорил все свободнее, все скорее. Он рассказал про Алы, про ночной налет, про джигитов, которых Алы увел в горы, и про свой побег. Когда он кончил, к столу подошел Винтов. — Ты, Кутан, что-то врешь, — сказал он, не глядя на Кутана. — Почему ты думаешь, что он врет? — спросил комендант. Кутан молчал. — А вот почему: пусть все было как он говорит. Пусть. Но почему, объясни, Кутан, почему Алы не убил тебя, не зарезал, скажем, когда ты отказался ехать? Зачем нужно было связывать тебя, тащить в горы и так далее? Что-то тут неладно… Кутан молчал. Комендант пыхтел трубкой и ждал. Кутан не совсем хорошо понял, о чем говорил Винтов, но он ясно видел, что начальники не верят ему, требуют доказательств, а больше рассказывать было нечего. Он молчал и все ниже и ниже опускал голову. — Так вот что, — заговорил комендант. Голос его был сердитый, и Кутан совсем испугался. — Вот что, Винтов: он нам все верно рассказал. Это понимать надо. Почему Алы не зарезал его? Почему увез с собой? А потому, товарищ уполномоченный, что Алы хитрее тебя. Да, да. Ты не горячись, а слушай. Если б Кутан не удрал от басмачей и не сидел бы сегодня здесь, когда бы ты узнал о визите Алы? Ну, скажи, скажи. Когда? Дня через три-четыре. Верно? А если бы Кутана убили, ты знал бы об этом через час. Так? Теперь дальше: мать и сестра Кутана остались в ауле. Так? Пока они знают, что Кутан в руках басмачей, они никому слова не скажут. Кутан вроде заложника. Вот в этом-то и дело. И Алы превосходно все это понимает. А ты, вместо того чтоб Кутана во лжи обвинять, подумал бы, как это так мы прохлопали приезд Алы. То-то… Кутан исподлобья смотрел на Винтова. Комендант говорил по-русски. По-русски Кутан понимал очень плохо. Очевидно, комендант рассердился на Винтова, и Кутан думал о том, что теперь Винтов рассердится на него, Кутана. Винтов хотел возразить коменданту, но задребезжал телефон, и комендант взял трубку. — Да, да, — сказал он. — Комендант слушает. Потом долго молчал. В комнате было так тихо, что слышно было, как кричал голос в телефонной трубке. Винтов задумался и сосредоточенно чертил карандашом по бумаге, которой был покрыт стол. Комендант положил трубку. С минуту он сидел молча. Потом встал, заговорил медленно и тихо: — Так вот что. Басмачи обстреляли дозор у заставы Зындан… По всем данным, это и есть отряд, который вел Алы… Так что сведения Кутана, очевидно, верные. Это значит, что мир с Джантаем кончен. Услышав имя Джантая, Кутан вздрогнул и сжал кулаки. Комендант прошелся по комнате и остановился против Кутана. — Слушай, Кутан, — сказал он по-киргизски. — Я пойду на Джантая. Мне проводник нужен. В Кую-Кап меня поведешь? А? Кутан молчал. — Ты подумай, подумай. Только думай не очень долго. Выступать нужно утром. Понял? — и, не дожидаясь ответа, комендант по-русски сказал Винтову: — Распорядись — пусть дадут ему полушубок, валенки и винтовку с патронами. Слово «винтовка» Кутан знал хорошо. — Слушай, товарищ комендант, — сказал он, вставая, — я пойду проводником. Рано утром отряд пограничников выехал из Каракола.ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Кутан молча ехал впереди отряда. Длинной вереницей пограничники растянулись на узкой тропинке. Тропинка извивалась зигзагами, по крутому склону взбираясь на перевал. Далеко внизу расстилались покатые коричневые холмы. Коршуны парили над холмами, и пограничники сверху видели их распростертые неподвижные крылья. Перевал был покрыт снегом. Белые облака клубились на горах. Лошади тяжело дышали и часто останавливались. Чтоб облегчить трудный подъем, всадники низко пригибались, привстав на стремена и держась за холку. Часто срывались камни, сбитые копытами. Гремя, увлекая за собой другие камни и комья снега, они маленькими лавинами катились к подножию. Достигнув перевала, пограничники спешились. Свежий ветер дул на вершине. Усталые лошади опустили головы и грызли снег у своих ног. Пограничники еще никогда не переходили этот перевал. Здесь начинались таинственные «сырты» — дикая горная область, где прятались басмачи, где по козлиным тропам пробирались караваны контрабандистов, где не было дорог и горы стояли как крепости, защищая входы в узкие ущелья. Пограничники стояли молча, пораженные величественным видом, открывшимся с перевала. Горы, одна выше другой, упирались в небо сверкающими снеговыми вершинами. Пропасти чернели между ними. Заросли огромных тянь-шаньских елей, казавшихся спичками с высоты перевала, спускались по крутым склонам к берегам горных рек. Скалы громоздились, преграждая течение, и реки извивались, сжатые в узких ущельях, или низвергались водопадами. Хребтыгор, как гигантские морщины, покрывали землю. Тени облаков неслись по склонам гор, и ветер доносил глухой рев потоков. — Вот здесь бы пролететь! — прошептал Николаенко. — Высоко… — так же тихо отозвался Закс. Кутан подошел к коменданту. Андрей Андреевич задумчиво улыбался, глядя прямо перед собой. Он вздрогнул, опомнившись, когда Кутан заговорил с ним. — Может быть, банда близко теперь, — сказал Кутан. — Надо вперед ехать. Разведку надо. — Хорошо, Кутан. Молодец джигит, — ответил Андрей Андреевич по-киргизски и по-русски сказал что-то бойцам. Двое из них подошли к нему. Кутан узнал их: это были те самые кзыл-аскеры, которые забрали его в горах после побега от Алы. Очевидно, комендант не верил Кутану и позвал кзыл-аскеров, чтобы стеречь его. Это было обидно, но Кутан понимал, что комендант имел все основания так относиться к нему, бывшему басмачу. — Слушай хорошенько, Кутан, — снова по-киргизски заговорил Андрей Андреевич. — Двое пограничников пойдут с тобой. Если встретишь басмачей, скачи назад и доноси мне. Если же не успеешь — стреляй, я буду знать, что тревога. Понял? За красноармейцев, за дозор отвечать ты будешь. Все понял? Кутан молча кивнул. Он и виду не подал, до какой степени поразило его распоряжение коменданта. В самом деле, ему, бедному джигиту, бывшему басмачу, доверяют такое ответственное дело, как разведка. Правда, пограничники поедут с ним. Они, наверное, ни на шаг не будут отходить от него, будут следить за ним. Начальник ничего не сказал об этом, но это какая-то хитрость урусов… Кутан, ведя лошадь под уздцы, быстрым шагом, почти бегом, стал спускаться с перевала. Николаенко и Закс шли за ним. Остальной отряд отстал и скрылся из виду. Скалы заслонили перевал. Внизу Кутан сел на лошадь. Пограничники тоже вскочили в седла. Украдкой Кутан оглянулся на них. Они ехали молча, с серьезными, напряженными лицами. Кутану захотелось проверить, следят ли за ним. Он придержал лошадь, и когда пограничники поравнялись с ним, сказал нерешительно: — Один ту щель ехал, второй эту щель… Мало-мало ехал… Скоро обратно… Кзыл-аскеры поняли, молча повернули лошадей и галопом поскакали в ущелья, на которые показал Кутан. Он остался на тропинке. Его никто не стерег. Ему поверили! Кутан даже улыбнулся. Николаенко и Закс вернулись через несколько минут. Они не обнаружили ничего подозрительного. Кутан ждал на прежнем месте. Увидев их, он пустил лошадь рысью. Потом дозор переехал реку и шагом поднялся на невысокую сопку. За сопкой начинался подъем на перевал. На вершине лежало немного снега, но Кутан плеткой показал на серую тучу, медленно двигавшуюся по небу, и сказал: — Снег будет. Много снег будет. За перевалом была довольно большая равнина. Река текла по ней, описывая длинную дугу вокруг подножия горы. Равнина постепенно сужалась, переходила в ущелье. Дальше горы обрывались почти отвесно, сдавливая реку, заставляя ее крутиться и бурлить. Тропинка взбиралась на крутой склон. Слева высилась снежная вершина. Кутан ехал осторожно, сдерживая лошадь и внимательно глядя по сторонам. Он снял винтовку, и пограничники тоже держали винтовки наготове. Было очень тихо. Только река шумела внизу. Камень, огромный как дом, весь в трещинах, поросший мохнатым серым мхом, лежал поперек тропы. Кутан повернул, чтоб объехать его снизу, но вдруг рванул повод, осадил лошадь и спрыгнул на землю. — Басмач… — прошептал он, и в ту же секунду на другой стороне ущелья мелькнул белый дымок и сухо треснул выстрел. Пуля просвистела, ударила в камень и с коротким жужжанием пошла рикошетом. Пограничники соскочили с коней. Кутан тащил свою лошадь наверх, за камень. Лошадь скользила, мелкий щебень сыпался из-под ее ног. Николаенко с винтовкой наперевес, низко пригнувшись, бежал к Кутану. Закс повел лошадей ниже, в безопасное место за выступом скалы. — Лошадей сюда веди! — по-киргизски крикнул ему Кутан. Закс не понял. Он привязал лошадей к стволу низкорослой березы и напрямик, через кусты, пробрался за камень. Николаенко удобно лежал, просунув дуло винтовки в трещину, как в бойницу, сосредоточенно целился и редко стрелял. Кутан лежал рядом и стрелял часто, спешно перезаряжая. Повод своей лошади он привязал к левой руке. Лошадь стояла за камнем, переступая ногами и фыркая. Закс лег рядом с Кутаном. Басмачи перебегали в кустах по склону горы на другом берегу реки. Их было человек двадцать пять или тридцать. Они стреляли не переставая. Пули тоненько пели, щелкали по камням и срезали ветки на деревьях. Закс нацелился в одного из басмачей, заряжавшего ружье. Басмач был одет в черный халат и шапку, отороченную светлым мехом. Закс навел мушку чуть ниже шапки, затаил дыхание и дожал спуск. Когда рассеялся дым выстрела, басмача не было на прежнем месте. Ломая кусты, он скатился вниз под откос, упал к самой воде и лежал неподвижно, раскинув руки и неестественно подогнув голову. Закс долго смотрел на него. Меховая шапка, слетев с головы басмача, зацепилась за ветку и осталась висеть там. Мысль о том, что басмач убит, неожиданно поразила Закса. Уже несколько раз Закс участвовал в перестрелках и в стычках с басмачами, может быть ранил или убивал врагов, но никогда не знал наверное, попала ли именно его пуля. До сих пор ему всегда приходилось стрелять одновременно с другими бойцами, сразу отделением или взводом. Целясь несколько минут тому назад в маленькую, издали как игрушечную, фигурку басмача, он совершенно не думал, что, если выстрел будет удачным, басмач будет убит. И когда басмач упал, он не сразу понял, что произошло. Он не видел крови, не видел лица убитого, смерть не показалась ему страшной. Закс перезарядил винтовку и нацелился в другого басмача. Этот был одет в халат, распахнутый на груди и опоясанный яркой тряпкой. Закс выстрелил и промахнулся. Он снова нацелился и снова промазал. Привстав на колено и целясь в третий раз, он увидел, что басмач тоже поднял ружье. Раньше чем Закс успел выстрелить, сильная боль пронизала его левое плечо. Он удивленно вскрикнул и сел. Темное пятно проступило на гимнастерке и быстро растекалось неровной, расплывчатой кляксой. Закс очень испугался. Он подумал, что рука, наверное, погибла. Опасливо косясь на простреленное плечо, он осторожно пошевелил пальцами. Рука работала. Он сжал кулак и поднял руку. Даже больно было не очень сильно! Заксу стало стыдно своей слабости. Он с опаской оглянулся на товарищей, но ни Кутан, ни Николаенко ничего не видели. Николаенко все так же спокойно целился и стрелял. Лицо его было сосредоточенно, даже немного мрачно. Кутан торопился, стреляя, невнятно бормотал что-то и радостно вскрикивал, когда попадал. Трескотню выстрелов сотни раз повторяло и преувеличивало эхо, оглушительным грохотом раскатываясь в горах. Закс тихонько отполз пониже за камень, достал индивидуальный пакет и, положив на рану кусок марли, кое-как замотал плечо поверх гимнастерки. Когда он снова подполз на прежнее место, Николаенко обернулся. — Ты ранен? — испуганно крикнул он. Кутан перестал стрелять и тоже обернулся с испугом. — Так. Пустяки, — небрежно сказал Закс, целясь и не поворачивая головы. — Потерпи, Яшенька, ничего, — говорил Николаенко, не обращая внимания на ответ товарища. — Потерпи, милый! Наши сейчас здесь будут. Больно здорово? — Да нет же! Вот чудак! — усмехнулся Закс. — Ерунда сущая. Нашел, о чем говорить. — Он очень старался скрыть возбужденную дрожь в голосе, и ему казалось, что это удается. Кутан резко вскрикнул и пальцем указал в ту сторону, где Закс привязал лошадей. Пограничники обернулись и на секунду остолбенели от ужаса: пятеро басмачей скакали к берегу, таща в поводу их коней. Басмачи подкрались незаметно, очевидно где-то выше перейдя реку. Хуже всего было то, что на лошади Закса был привязанный к седлу мешок с патронами. Раньше чем пограничники успели опомниться, Кутан вскочил на свою лошадь и ринулся вниз. Он почти скатился по крутому спуску и, достигнув тропинки, отчаянным галопом поскакал к басмачам. Скорчившись на седле, в правой руке он держал винтовку и повод, а левой бил плетью лошадь. Басмачи достигли реки. Их лошади вошли в воду, но лошади пограничников заупрямились. Кутан догонял. Один из басмачей отстал и повернулся ему навстречу. Николаенко, стискивая зубы, с трудом сдерживая лихорадочную дрожь нацелился в него. Басмач поднял винтовку, но выстрелить не успел: пуля пробила ему грудь. Басмачи были на середине реки. На другом берегу из-за кустов появился басмач в распахнутом халате. Он скакал на вороном коне, размахивая маузером. Закс первым увидел его. Он выстрелил по лошади. На этот раз он не промахнулся: басмач вместе с конем рухнул на камни. Кутан вскинул винтовку. Его лошадь была уже в воде. Почти в упор он выстрелил в спину одному из басмачей и схватил повод лошади Закса. Басмачи удирали, бросив вторую лошадь. Кутан повернулся и погнал обратно. Он был у самого берега, когда из-за трупа вороного коня встал басмач в распахнутом халате. — Кутан! — крикнул он, подымая маузер. Пограничники видели, как Кутан обернулся и придержал лошадь. — Алы! — ответил он басмачу и схватился за затвор винтовки. Басмач выстрелил, и Кутан взмахнул рукой, как бы стараясь удержаться за что-то впереди себя. Закс охнул. Но лошадь вынесла Кутана. Он сидел в седле, неестественно вытянувшись, мертвенно-бледный, не выпуская из рук винтовки и поводьев. Лошади пограничников скакали за ним. Басмач в распахнутом халате целился ему вдогонку. Николаенко и Закс выстрелили одновременно. Басмач пошатнулся, выронил маузер, упал и пополз к кустам, волоча правую ногу. Кутан доскакал до камня. Он попытался сам слезть с лошади, но не смог и без сознания повалился на руки Заксу. Закс уложил его как можно удобнее внизу за камнем и осмотрел рану. Пуля навылет пробила грудь с левой стороны, чуть выше сердца. Закс, как умел, сделал перевязку. Николаенко один отстреливался от басмачей. Кутан пришел в себя. Он сказал какое-то киргизское слово и открыл глаза. Увидя Закса, наклонившегося над ним, он проговорил тихо, едва слышно: — Пить… — Яша, — крикнул Николаенко, — Закс, помоги. Они идут на наш берег, кажется. Закс вскочил, подполз к Николаенко и взял свою винтовку. Басмачи пели молитву. Они бежали к реке, некоторые ехали верхом. — Не стреляй, — сказал Закс, доставая гранату. — Подожди. — Вот теперь бы самолет, — вдруг сказал Николаенко. Басмачи вбежали в воду. Они тоже перестали стрелять. Верховые ехали впереди, пешие шли, держась за лошадей и высоко вверх подымая ружья. Закс первым кинул гранату. Она разорвалась в воде, подняв фонтан брызг. Граната Николаенко ударила в берег, и камни полетели в воздух. Потом оба схватились за винтовки и минуты три стреляли, целились, перезаряжали, снова стреляли и целились. Четверо басмачей, раненные или убитые, упали, и стремительное течение унесло их тела. Одной лошади осколком разорвало живот. Она сбросила всадника и поскакала назад. Вторая лошадь повалилась в воду, увлекая за собой людей, державшихся за нее. Басмачи повернули обратно, не пройдя и четверти реки. Пограничники перестали стрелять. Потные и усталые, они посмотрели друг на друга и засмеялись. — Живы? — спросил Николаенко. — Живы, я думаю, — отозвался Закс. — Пить… пить… — раздался глухой голос Кутана. — Вот что, — сказал Закс. — Я пойду за водой к речке. Только баклажку я разбил. У тебя нет? Ну, черт с ним: в шлеме ему принесу. Николаенко молча кивнул и начал стрелять. Басмачи ответили яростной пальбой. Закс соскользнул вниз и, цепляясь за кусты, быстро стал спускаться к реке. Он старался прятаться за камнями и выступами скал, но часто приходилось пробегать открытые пространства. Пули свистели у него над головой, он присаживался за каким-нибудь прикрытием и отдыхал минутку. Потом вскакивал и, не разбирая дороги, скользя и царапаясь о колючие ветки, мчался к реке. Добравшись до берега, он сорвал с головы шлем, зачерпнул холодную воду и бросился обратно. Наверх лезть было гораздо труднее. Он задыхался, сердце бешено колотилось, и темнело в глазах. Но он невредимым добрался до камня. Николаенко сидел в прежней позе и методически стрелял. Тут только Закс взглянул на шлем, который держал в левой руке, и вскрикнул: шлем был наполовину пуст; он протекал, на дне было совсем немного воды. Закс кинулся к раненому. — Пей, пей, джолдош… — сказал он. Кутан жадно прильнул к шлему. Закс смотрел, как быстро он пьет. — Рахмат…[27] Спасибо… товарищ, — прошептал Кутан и попробовал улыбнуться.2
Основной отряд остановился на получасовой привал, не доезжая маленькой сопки. Только когда пограничники были у подножия перевала, Андрей Андреевич услышал стрельбу. Гулкое эхо донесло грохот выстрелов. Было ясно, что бой идет по другую сторону горы, покрытой снегом. Андрей Андреевич пустил коня, пограничники понеслись за ним. Торопя лошадей, начали подниматься. Подъем оказался крутой. Лошади задыхались. На середине подъема Андрей Андреевич соскочил и, придерживая шашку, быстро пошел наверх. Бойцы шли за ним, тоже ведя лошадей в поводу. Пошел снег. Мокрые хлопья таяли на камнях. С каждой минутой снег шел все гуще. Поднялся ветер. Через сотню шагов Андрей Андреевич почувствовал, что голова начала слегка кружиться. Проклятая высота! Он обернулся назад. Никто из красноармейцев не отстал, но лица у всех были бледные и рты широко раскрыты. — Товарищи, стой! — крикнул Андрей Андреевич. — Сесть и отдохнуть. Он сел прямо на землю. Гнедой Васька мягкими, теплыми губами ткнулся ему в затылок. Бойцы тоже сели. Кони потоптались, крепче становясь на покатой горе, и опустили головы. За горой эхо выстрелов бахало, перекатывалось и грохотало в ущельях. Потом оглушительно ударило два взрыва. За горой шел бой. Один из красноармейцев, совсем молодой, вскочил. — Товарищ начальник!.. — тихо сказал он. — Товарищ командир!.. Не можем мы отдыхать!.. Прикажите идти!.. — Я приказал отдыхать, и вы должны отдыхать, товарищи, — негромко ответил Андрей Андреевич. Он сидел выше всех, и бойцы снизу смотрели на него. — Вы должны отдыхать, — повторил он. Через несколько минут отряд двинулся дальше. Но, пока пограничники дошли до линии снега на вершине, пришлось отдыхать четыре раза. В снегу было еще хуже. Снегопад усилился, и снег стал таким рыхлым и глубоким, что лошади не могли идти. Сразу проваливаясь по горло, они буквально тонули в снегу. После нескольких попыток вытащить своего Ваську, бессильно бившего ногами и храпевшего от страха, Андрей Андреевич остановился в изнеможении. Пот градом струился по его лицу. Бойцы выбивались из сил. Густой пар поднимался над лошадьми и людьми. — Оставить коней! Копать снег! — крикнул Андрей Андреевич. Увязая в снегу, пограничники прошли вперед. Лопатками, шашками и просто руками начали рыть снег. Рыли, лихорадочно торопясь, сосредоточенно и молча. По узкой траншее вели коней. Андрей Андреевич шел впереди. Он работал лопаткой. Медленно продвигаясь, пограничники вгрызались в снег. Звуки выстрелов становились все громче и громче.3
Трижды басмачи пытались перейти реку. Трижды Николаенко и Закс гранатами отгоняли их обратно. Но с каждым разом басмачи подходили все ближе и ближе. В последний раз им удалось дойти почти до берега. Они изменили тактику и в атаку шли не все. Человек десять бросились в реку, а остальные продолжали перестрелку. Молодой басмач в распахнутом халате, ранивший Закса и Кутана, очевидно был вожаком. Хромая, он перебегал за камнями, отдавал приказания и изредка сам стрелял. В короткие передышки между атаками басмачей Николаенко и Закс сидели молча, тяжело дыша и не глядя друг на друга. Они больше не смеялись. Лица их были черные от грязи и дыма, пот тонкими струйками стекал из-под взмокших шлемов. Пуля ободрала кожу на щеке Николаенко. У Закса все сильнее и сильнее болело плечо. Часто он, стиснув зубы, подавляя невольный стон, принуждал себя двигать немеющей рукой. Кутан начал бредить. Он метался на земле, рвал повязку и кричал что-то по-киргизски. Закс сполз с камня и подошел к нему. Кутан был страшно горячий, губы его запеклись, глаза подернулись пеленой. Ничего не видя, он смотрел прямо вверх, выкрикивал киргизские слова вперемежку с русскими ругательствами и скрипел зубами. Закс вытер ему лоб и рот своим мокрым шлемом. Кутан пришел в себя. — Пить… — попросил он. Закс приподнял его голову и поднес шлем к губам. Кутан стал сосать мокрую материю. — Скорее, скорее сюда!.. — крикнул Николаенко. От непомерной усталости он почти потерял голос. Хриплый крик прозвучал страшной тревогой. Закс подполз к нему. Басмачи все еще не стреляли, было все так же тихо. Где-то в кустах звонко чирикнула птица. Николаенко, протягивая руку, показывал в ту сторону, где извивалась тропинка. Закс посмотрел и вздрогнул: из-за поворота тропинки, пригибаясь за камнями, бежали басмачи. Они бежали один за другим молча, держа винтовки наготове. Они перешли реку за поворотом выше по течению и бежали к камню. Пограничники поняли, что это — конец. Басмачи готовились ударить одновременно с двух сторон. — Прощай, Яша, — прохрипел Николаенко. Они обнялись. — Ну, так уж недаром, — шепнул Закс, — подожди стрелять, пусть подойдут… Николаенко отполз, повернулся и готовился встретить басмачей с фланга. Закс лежал лицом к реке. Басмачи с того берега ползли к воде. Все еще было тихо. Первым выстрелил басмач в распахнутом халате. Он выстрелил в воздух и визгливо закричал, призывая аллаха. Крик подхватили остальные. Они стреляли на бегу, и снова ущелье наполнилось грохотом и шумом. Пограничники не отвечали. — Хоть бы одну гранату еще… — бормотал Николаенко, — хоть бы одну… — Гранат больше не было. Басмачи перешли реку. Только вожак в распахнутом халате остался на той стороне. Верхом, он кружился по берегу, кричал приказания и размахивал маузером. Басмачи лезли к камню, поднимаясь по тропинке и пробираясь через заросли кустарника. Пограничники не стреляли. Закс видел, как шевелятся, вздрагивают кусты. Басмачи поднимались все выше и выше. Слева, на тропинке, басмачи подошли совсем близко. На несколько минут они задержались, прячась за выступом скалы, потом закричали и побежали к камню. Николаенко выстрелил. Рослый рыжий киргиз в синем халате схватился за живот и рухнул под ноги бежавшим сзади. Закс тоже начал стрелять. Не видя друг друга, оба пограничника улыбнулись, ничего не сказав. Холодное спокойствие овладело ими. Каждый по-разному подумал об одном и том же: хорошо, что умирать приходится не в одиночку. К Николаенко бежало шестеро басмачей. Обойма кончилась, перезаряжать не было времени. Николаенко отбросил винтовку, вынул клинок и встал. Нетвердой походкой пешего кавалериста он пошел навстречу басмачам. — Ура!.. — крикнул он и в грохоте пальбы сам не услышал своего голоса. Но, как эхо, откуда-то сверху загремело «ура», и на склоне горы по ту сторону реки показалась цепь пограничников. Николаенко не видел их и не понял, в чем дело. Басмач, бежавший впереди всех, странно дернулся, споткнулся и сорвался в пропасть. Потом еще двое упало, убитые наповал. Николаенко остановился, подняв клинок и широко расставив ноги. Он никак не мог сообразить, что произошло. Басмачи бежали, стреляя куда-то в сторону. Потом Закс верхом проскакал мимо него, размахивая шашкой и крича, как безумный. Только тогда Николаенко увидел, как на том берегу реки, в дыму и грохоте, скакали пограничники, настигая басмачей. Впереди, на гнедом коне, несся комендант. Из всей шайки ушел только один басмач в распахнутом халате.4
Кроме Кутана, в отряде не было проводников. Пришлось повернуть обратно. Из веток елей сделали носилки и прикрепили их к седлам. Кутан лежал на носилках. Он часто впадал в забытье, бредил и метался. Его приходилось привязывать. Не знали, чем кормить его, — ни мясные консервы, ни ржаные сухари, конечно, раненый есть не мог. Единственной более или менее пригодной пищей был шоколад. Шоколад растирали и смешивали с теплой водой. Весь шоколад отдали для Кутана. На перевалах лежало много снега, осенние ветры наметали высокие сугробы. Становилось все холоднее и холоднее. Бойцы укрывали Кутана своими тулупами и гнали лошадей. В самых трудных местах носилки снимали с седел и несли на руках. Шли целыми днями, ночевали где придется, и через шесть дней пришли в Каракол. Кутан умирал. Весь отряд прошел по городу и остановился у ворот больницы. Носилки сняли и пронесли в приемную. Закс, Николаенко и Андрей Андреевич шли за носилками. Седой старичок-врач, опасливо косясь на винтовки и шашки бойцов, на их похудевшие, обветренные лица, взволнованно протирал пенсне и слушал тихий, спокойный голос Андрея Андреевича. — …Вот, доктор, я и прошу вас, — говорил комендант, — вылечить этого киргиза во что бы то ни стало. Понимаете? Но не то, чтоб он выжил, этого мало. Он мне нужен совершенно здоровым. Погодите. Я знаю очень хорошо все, что вы скажете, — вы ни за что не отвечаете, вы ни за что не ручаетесь. Но мне — поймите, доктор, — мне необходимо совершенно вылечить его. И вы добьетесь этого. Правда, доктор? — Хорошо, товарищ, он будет здоров, — неожиданно для самого себя, уверенно ответил врач. — Я так и знал, — сказал комендант, слабо улыбаясь. — Простите, доктор, мы наследили тут у вас. Если нужно что — позвоните. До свиданья. — Мне ничего не нужно, — буркнул доктор. — Прощайте. Комендант вышел, сутулясь и с трудом передвигая ноги. Бойцы пошли за ним. Проходя мимо доктора, Закс остановился и тронул старика за рукав. — Простите, гражданин врач, — сказал он шепотом. — Этот наш киргиз верно будет живой? — Я же сказал вам, милостивые государи! — сердито закричал доктор. Я же сказал вам, черт возьми совсем, что он будет жив. Понятно или нет? Я еще не видел его раны, я не знаю, может быть он ранен абсолютно смертельно, может быть он уже умер, — вам ведь все равно. Вам надо, чтоб он был живой, и больше вас ничего не интересует. Ну и оставьте меня в покое! Поняли? Оставьте меня в покое! И не шумите здесь! У меня больные! Вот-с!.. — и он с грохотом захлопнул дверь. Николаенко и Закс на цыпочках спускались с лестницы. Восемь суток старичок-доктор боролся за жизнь Кутана. Восемь суток Кутан не приходил в сознание. Но доктор победил, и на девятые сутки, поздно ночью, уходя из больницы, он сказал сиделке: — Ну, знаете ли, сударыня, и здоров же он. Не человек, а бык. Он будет жить… Через неделю Андрей Андреевич пришел навестить Кутана. Кутан хотел встать с постели. Доктор коршуном кинулся на него. — Лежать!.. — взвизгнул он. — Лежать, негодяй! Белесм? Понимаешь?.. Кутан лег опять. — Здравствуй, товарищ комендант, — сказал он. — Старичок такой сердитый — никак вставать не дает, понимаешь. — Ты откуда это так по-русски выучился? — спросил Андрей Андреевич, пожимая доктору руку. — Старичок учил. Я мало-мало русский учил. Он мало-мало киргизча учил. Ничего старичок. — Ты доктору жизнью, Кутан, обязан, — сказал Андрей Андреевич. Доктор неопределенно хмыкнул и сердито рванул шнурок от пенсне. — Нет, — твердо и серьезно ответил Кутан. — Нет, товарищ. Старичок, верно, лечил азмас[28]. Хороший старичок. Только Кутан не потому живой. — Что такое? Ничего не понимаю, — нахмурился Андрей Андреевич. Кутан хитро подмигнул. — Зачем не понимаешь, — сказал он, — хорошо понимаешь. Шоколад давал мне? Да? Шоколад очень лекарство крепкий. Шоколад Кутану жизнь давал. Шоколад Кутан ел, потому живой.5
Андрей Андреевич и Амамбет наконец собрались на охоту. Но, как всегда бывает, когда собираются особенно долго, в самый последний момент, вечером, накануне дня охоты, выяснилось, что ничего не приготовлено. В час ночи сели заряжать патроны. Андрей Андреевич взвешивал и насыпал порох и дробь. Амамбет забивал пыжи. Джек, чувствуя близкую охоту, нервничал и не мог усидеть на месте. Пес бегал, высунув язык и виляя хвостом. То он обнюхивал ружейные чехлы, то свежесмазанные сапоги, то патронташи и прочую охотничью снасть, разбросанную по комнате. Часто он подбегал к хозяину и, тычась холодным, влажным носом, из-под руки засматривал на стол, заваленный гильзами, пыжами, дробью, будто хотел убедиться, все ли в порядке. За окном, в темноте, свистел ветер, и дождь барабанил в стекла. Андрей Андреевич молча пыхтел трубкой, и голубые клубы дыма плавали под абажуром. Амамбет тихонько напевал. — Ты знаешь, что пою, Андрей? — спросил он. — Замечательную вещь пою, понимаешь… Он снова начал петь. Андрей Андреевич перестал взвешивать порох и слушал, наклонив голову набок. — Что ж ты поешь, Амамбет? — «Манас» пою. Народный эпос киргизский. Слушай:Большой, горделивый Ургенч
Несет валуны по теченью,
Одетые пеной и паром,
Грозящие тяжестью
Мшистым ущельям,
Могучим его берегам.
Большой, горделивый Ургенч
Человека любого пугает.
Большой, горделивый Ургенч
В ледниках бирюзовых начало берет.
Большой, горделивый Ургенч
Вырывает с кореньями
Зеленые сосны и ели
И рушит и рвет.
Большой, горделивый Ургенч
Все живое страшит.
6
«…Таким образом, мир с Джантаем не получился. Ты уже знаешь об этом из моего донесения. Конечно, это неудача, и много труда пропало даром, но я еще не уверен, как было бы лучше. Чем глубже вхожу я во все эти дела, тем больше убеждаюсь в том, что здесь нужно находить свои, совершенно особые методы. Таков уж Восток. Люди сочетают изощреннейшую хитрость с просто детской доверчивостью и непосредственностью. Часто приходится удивляться, как легко добиваешься труднейших вещей и как трудно достичь, казалось бы, самых простых и несложных результатов. Джантай, конечно, многому научил нас и, по всей видимости, еще многому научит. Спасибо ему. Во всяком случае, разрыв с ним привел на нашу сторону по-настоящему хороших людей. Их пока мало, но на них можно положиться. Мне кажется, что они-то, эти люди, и есть самое главное в нашей работе, самая большая победа. Они, эти люди, помогут нам закрепить нашу связь со всей беднотой. Они, эти люди, будут основой нашей силы среди националов. Они составят первые доброотряды. Я очень рад, что ты так горячо поддержал эту нашу затею. Только при ее удаче мы сможем подготовить почву для настоящего разгрома банд, для перенесения линии застав к границе, для освоения сыртов. Я надеюсь, что в ближайшие два-три месяца нам удастся настолько развернуть доброотрядческое движение, что можно будет нанести решительный удар. Необходимо только найти способ выманить басмачей из ущелья, заставить их принять бой на равнине. Есть у меня один план. Быть может, в годовщину ВЧК обрадую тебя победой. «Применяйся к местности!» — этот старый, испытанный девиз никогда не подводил нас. Я отчетливо вижу успехи в части разложения басмаческих настроений. Вся история с провалом джантаевской агитации чрезвычайно показательна. Мы, конечно, позаботились о том, чтобы наши люди оказывались в аулах раньше Джантая, но еще недавно мы не могли даже мечтать о том, что почетному человеку, аксакалу, старейшине, самому Джантаю будет оказан такой прием. Что касается твоих указаний об отношении к беднейшим джигитам банд, то эти наши меры принесли, пожалуй, самые большие результаты. Во-первых, из банд началось буквальное дезертирство. Во-вторых, в числе джигитов, отходящих от басмачества, есть такие молодцы, которых мы сразу же используем как проводников и бойцов. И какие это бойцы! Есть у меня, например, один молодой киргиз (сейчас лежит в больнице; ранен в бою) — стрелок, наездник, следопыт и настоящий храбрец. Помяни мое слово — будем мы награждать этих людей, именно их, и очень скоро. Работая с ними, воспитывая их, сам научаешься все новому и новому. Ведь уж старики мы с тобой — хоть и не очень много лет прожили, но чего-чего только не было, — а смотри ж ты, опять учимся, ученики наши нас же и учат. Это все-таки очень неплохо. Что ж ты все собираешься, собираешься, а не едешь? И на охоту сходили бы. Мы тут на днях с секретарем райкома все-таки походили денек. Фазанчиков немного поколотили. Приехал бы, действительно. Хоть повидались бы как следует.Андрей
Каракол 18 сентября 1925 года»
7
Наконец Кутана выписали из больницы. Он попрощался с врачом, и добрый старик в последний раз накричал на него. Улыбаясь, щурясь от неяркого осеннего солнца, Кутан вышел на улицу. Желтые и красные листья лежали на земле, на крышах домов. Кутан постоял на перекрестке. С непривычки, после больницы, слегка кружилась голова и приятная слабость чувствовалась в ногах. Идти было некуда. Кутан не спеша побрел по середине улицы. Пробежал мальчишка-школьник без шапки и в одной рубашонке. Две киргизские девушки, тихо разговаривая, обогнали Кутана и вошли в дверь большого дома с красной вывеской. «Школа», — подумал Кутан. Мелкой трапотой[29] проехали четыре киргиза. Один вел на веревке барана. Киргизы громко смеялись. «На базар», — решил Кутан. Было приятно видеть все эти простые, понятные вещи, угадывать их смысл и значение. Было приятно дышать прохладным воздухом, идти по мягкой земле, взрывая ногами шуршащие листья, свободно размахивать руками, чувствовать, как на ходу движется все тело. Целый день Кутан ходил по городу. Он прошел мимо могилы командира партизанского отряда. Голые деревца стояли вокруг деревянного памятника с фотографией матроса. Потом он походил по базарной площади. К вечеру становилось холоднее. Он пошел к комендатуре. У ворот прохаживался часовой. Кутан в нерешительности остановился поодаль. Часовой заметил его и крикнул: — Кутан! Иди, иди сюда, джолдош! Иди скорее! Кутан узнал Николаенко. Он подошел и пожал ему руку. Из ворот выбежало человек десять пограничников. Впереди, с рукой на перевязи, бежал Закс. — Кутан! Живой! Ура! — кричал он. Незнакомые кзыл-аскеры обнимали Кутана, хлопали по спине, весело и громко смеялись, и Кутан совсем растерялся от такого приема. Его повели к дому, и еще много пограничников выбежало отовсюду, и каждый старался протиснуться к нему, пожать ему руку и сказать что-нибудь ласковое. Потом вышел Винтов. Увидев, в чем дело, он спрыгнул с крыльца и на глазах у всех обнял Кутана. Комендант тоже вышел на крыльцо. — Товарищ комендан… — запинаясь, начал Кутан, и все замолчали: — товарищ комендан… — Очень трудно было говорить. — Ты подожди, Кутан, — улыбался Андрей Андреевич, — идем-ка ко мне. Поговорим как следует. До поздней ночи сидел Кутан в кабинете коменданта, посыльный от дежурного носил туда ужин и два раза бегал на кухню за чаем. Эту ночь Кутан спал в комендатуре и рано утром уехал в Ак-Булун. Он ехал на хорошем вороном жеребце, за плечами у него была новенькая винтовка, а куржуны были набиты свертками с хлебом, мясом, сахаром и чаем.ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Всего один день пробыл Кутан у матери. Ночью он оседлал коня и уехал. Пятеро молодых джигитов из аула Ак-Булун встретились с ним на горной тропе. Он поехал вперед, а джигиты ехали за ним. К утру они были в соседнем ауле. Кутан говорил с людьми и звал выступать против басмачей. Речи его нравились. Всякий бедняк был обижен баями. К ночи Кутан уехал дальше. С ним уехало еще двенадцать джигитов. Так он стал ездить из аула в аул. Он ехал по ночам, а днем отдыхал и говорил с жителями селений. Он рассказывал о пограничниках и о большевиках. Он говорил о дружбе с советской властью и о вражде, смертельной вражде к баям и басмачам. Он рассказывал о Джантае и о себе самом. Он говорил правду, и люди верили ему. В каждом ауле джигиты седлали лошадей, забирали старые мултуки и присоединялись к отряду. В отряде было уже тридцать человек. Молчаливый Абдумаман и веселый охотник Каче, умный пастух Максутов Мукой и силач Гасан-Алы, и еще многие храбрые джигиты пришли к Кутану. Прошли три недели после выхода Кутана из больницы. Кутан сильно изменился за это время, хотя в его внешности не было особо заметных перемен. Может быть, только его загоревшее, бронзовое лицо слегка похудело и осунулось. Но манера держаться и говорить стала совсем иной, чем раньше. Необходимость приказывать, необходимость убеждать людей, вести их за собой заставила его научиться говорить коротко и веско, держаться уверенно, личным поведением давая пример всему отряду. Он теперь много думал о вещах, которые раньше никогда не приходили ему в голову. Он вспоминал командира партизан, коменданта, пограничников и невольно старался подражать им. Прирожденный ум и чутье помогли ему. Он превращался в настоящего вожака, командира. Джигиты уважали его и слушались беспрекословно. Быстрыми ночными переходами отряд двигался к аулу Зындан. Аул этот был расположен в глубокой лощине, у слияния двух горных рек. В километре от аула, на горе стояла пограничная застава Зындан — застава самая отдаленная, самая близкая к сыртам. Кутан рассчитывал, окончательно сформировав свой отряд, в ауле Зындан ждать приказания коменданта и вместе с кзыл-аскерами начинать наступление на басмачей. Когда отряд был еще в ущелье, не доезжая нескольких километров до Зындана, Кутан услышал стрельбу со стороны аула. Кутан пустил коня рысью. Доброотрядцы, растянувшиеся по ущелью, догоняли его. Выстрелы становились все громче и чаще. Потом четко затарахтел пулемет. Было похоже на то, что возле аула разгорается бой. Ночь была на исходе, брезжил рассвет. Кутан подхлестнул коня и перевел его на галоп. Каче, погоняя свою лошадь, скакал рядом с ним. — Басмачи около заставы, — сказал он, — стреляют выше аула. Подскакав к концу ущелья, Кутан осадил коня. Остальные окружили его. Солнце взошло, и хотя в горах был еще полумрак, на равнине стало светло. — Каче, — сказал Кутан. — Оставь лошадь, лезь на сопку. Если надо будет, на дерево лезь. Посмотри, что там. Каче был маленького роста и ловок, как обезьяна. Он спрыгнул на землю, снял винтовку с деревянными сошками и через несколько минут вскарабкался на верх почти отвесной скалы. — Видишь? — крикнул Кутан. — Нет, лезу на дерево, — донесся голос Каче. Разгоряченные скачкой, лошади не стояли на месте, плясали, крутились и нетерпеливо просили повод. — Хей! — крикнул Каче. — Хей! Басмачи там. Много басмачей… Пулеметная очередь заглушала его голос. — Где бьются? Пограничники где? — крикнул Кутан. — Басмачи к заставе идут. У заставы бьются. Близко… Снова загремели выстрелы. Кутан стегнул коня и с места в карьер поскакал к выходу из ущелья. Снимая винтовки, доброотрядцы неслись за ним. Осталась только лошадь Каче, привязанная к стволу дерева, она тянула повод, била ногами и рвалась вслед за остальными. Доброотрядцы выскочили из ущелья. Низкие сопки еще скрывали от них заставу. И кони и всадники увлеклись бешеной скачкой, обгоняли друг друга, летели все скорее и скорее. Силач и великан, кузнец Гасан-Алы поравнялся с Кутаном. Он крутил винтовку над головой и нахлестывал лошадь. Отчаянным галопом лошади вынесли джигитов на гребень сопок, и картина боя открылась перед ними. Оставляя справа аул, толпа басмачей широкой цепью мчалась к заставе, низенькие глинобитные домики которой едва были видны на вершине пологой горы. Пулемет лихорадочно захлебывался. Пулеметчики сидели на сотню метров впереди заставы, скрытые большим камнем, но этот-то камень и не давал возможности обстреливать атакующих по всему фронту. Правое крыло басмачей, заворачивая и совсем приближаясь к заставе, грозило отрезать пулемет. Кучка красноармейцев на самой заставе отстреливалась изо всех сил. Кутан задержал передних доброотрядцев, чтобы успели догнать отставшие. Басмачи наседали на заставу. Они не видели, как с тыла из-за сопки вылетели всадники. Гасан-Алы, опьяненный атакой, визгливо и пронзительно запел старый боевой клич: — Иль-алла! Илла аллах!.. — Дурак! — крикнул Кутан. — Замолчи, дурак! — и, оборачиваясь назад, он закричал: — Ура, кзыл-аскеры! Бей баев! — Бей баев! — заревел Гасан-Алы. — Бей баев! — подхватили доброотрядцы. Басмачи были близко. На всем скаку Кутан вскинул винтовку, и басмач впереди него упал с лошади. Звук выстрела был едва слышен из-за грохота и шума вокруг, но выстрел Кутана был сигналом. Доброотрядцы открыли огонь. Грянули старые кремневые ружья и берданки. — Бей баев! Только тогда басмачи поняли, в чем дело. Смятые неожиданным натиском доброотрядцев, они метнулись с правого фланга и попали под огонь пулемета. Все смешалось в пыли. В панике басмачи повернули к горам. Доброотрядцы разворачивались, чтобы преследовать их. Впереди басмачей на сером коне скакал киргиз огромного роста, очевидно курбаши. Кутан узнал его. Это был Кара-Мурун. Кутан крикнул Гасан-Алы и ринулся в погоню. Пулемет смолк. Из заставы скакали пограничники. Быстрый конь Кара-Муруна вынес его далеко от остальных. Повернув, он гнал к ущелью. Он был уже у самого входа. Кутан и Гасан-Алы скакали ему наперерез. Несколько раз Кутан стрелял, но не мог попасть в басмача, а стрелять в коня он не хотел. Кара-Мурун обернулся назад, поднял маузер и выпустил всю обойму, Гасан-Алы вместе с лошадью покатился на землю. Кутан один влетел за басмачом в ущелье. Увлекшись преследованием, он не замечал, что басмач сдерживает своего коня. Кара-Мурун видел, что Кутан один, и, когда Кутан был совсем близко, он внезапно остановился. Летя на басмача, Кутан выстрелил, но винтовка только щелкнула, — патронник был пуст. Тогда Кутан схватил винтовку за дуло, готовясь, как палицей, бить прикладом. Кара-Мурун выдернул из-за пояса клыч. В прохладной тени ущелья кони сшиблись и разлетелись в разные стороны. Кара-Мурун со всей силы ударил клычом, но Кутан отразил удар прикладом. Клинок скользнул по дереву и, наткнувшись на сталь, переломился пополам. Удар был так силен, что Кутан еле удержался в седле. Кара-Мурун снова пустился удирать, и Кутан хотел продолжать погоню, когда сверху, со скалы, раздался выстрел. Басмач пошатнулся, но не упал. Кутан ринулся за ним. — Стой, Кутан! — раздался голос сверху, и Каче с дымящимся мултуком скатился с откоса. — Назад, скорей назад! — говорил он, отвязывая свою лошадь, спрятанную в кустах. — Там басмачи, много басмачей! Кутан колебался. — Скорей! Кзыл-аскеров предупредить надо, — крикнул Каче и поскакал к равнине. Кутан догнал его. Когда доброотрядцы пошли в атаку, Каче замешкался, слезая с дерева. Случайно он обернулся и увидел, что по руслу реки, примыкающей к ущелью, движется группа всадников. Каче узнал среди них многих басмачей. Впереди ехали Касым Малыбашев и Джаксалык Оманов. Басмачи ехали шагом. Каче тихо спустился вниз, завел свою лошадь в кусты, привязал ее там и снова вернулся на свой наблюдательный пост. Он видел, как Касым послал вперед разведку, как разведчики вернулись и, очевидно, доложили о бое у заставы. Касым спорил о чем-то с Джаксалыком. Потом Касым крикнул какое-то приказание, и джигиты спешились. В это время Кара-Мурун и Кутан влетели в ущелье. Каче выстрелил по басмачу и вместе с Кутаном ускакал на равнину. Басмачи сдавались пограничникам и доброотрядцам. Всего было захвачено двадцать человек, не считая четырнадцати убитых. Кутан и Каче рысью ехали к группе всадников, стоявшей на пригорке возле заставы. Увидев Кутана, командир пограничников тронул лошадь и поехал ему навстречу. Кутан узнал Винтова. Они обнялись, как старые приятели. Каче рассказал все, что он видел из своей засады. Винтов приказал готовиться к обороне. Пленных, обезоруженных басмачей заперли в сарае, и двое часовых были поставлены там. Лошадей отвели под прикрытие, бойцы стали по местам. Кутан послал несколько человек во главе с Гасан-Алы и Каче в аул, чтобы собрать там джигитов. Гасан-Алы поехал на лошади басмача, так как его лошадь убил Кара-Мурун. Винтов рассчитывал, что басмачи выйдут из ущелья, и хотел дать бой на ровном месте. Но прошло два часа, а басмачи не появлялись. Стоя на плоской земляной крыше заставы, Кутан рассказывал Винтову о погоне за Кара-Муруном. Внимательно выслушав до конца, Винтов долго молчал. — Ты, конечно, молодец, Кутан, — заговорил он по-киргизски, — и твои джигиты здорово помогли сегодня заставе. Но ты себя вел неправильно. Ты не обижайся, подожди. Дослушай до конца. Разве годится командиру бросать свой отряд и лететь сломя голову черт его знает куда? — Зачем черт знает, — по-русски ответил Кутан. — Кара-Мурун, убить, мой враг убить, а не черт знает. — Верно, — продолжал Винтов, все также по-киргизски. — Верно, Кара-Муруна убить надо. Но ты — командир. Ты должен прежде всего думать об отряде, а не о своих личных врагах. Понял? Надо было поймать Кара-Муруна. Не спорю. Но надо было послать за ним джигитов, а не бросать отряд и самому скакать за ним. Это басмачи так дерутся, а нам надо… — Смотри, Винтов! — крикнул Кутан, показывая на равнину. Какой-то всадник на маленькой, загнанной лошаденке скакал к заставе. Еще издали он начал что-то кричать и махать руками. У въезда в заставу он соскочил с лошади, ковыляя вбежал во двор и повалился на колени перед Винтовым. Это был старик пастух из аула Зындан. Заплатанный халат его был изодран в клочья, и слезы текли по его пыльному лицу. Плача и охая, он рассказал, что басмачи налетели на стадо, которое гнали зынданские дехкане[30]. Басмачи захватили всех людей и скот. Очевидно, это именно была та банда, которую видел Каче. Побоявшись выйти на равнину, басмачи отказались от налета на заставу, повернули обратно и по дороге захватили дехкан. Винтов приказал половине пограничников оставаться на заставе, а остальным выступать в погоню. Кутан собрал своих джигитов. Старику дали хорошую лошадь, и он взялся показывать дорогу. Кутан ехал рядом с Винтовым впереди отряда. — Теперь я ошибся, — сказал Винтов. — Ждать нельзя было. Кутан ничего не ответил.2
Пуля Каче попала Кара-Муруну в ногу. Не слыша за собой погони, он остановился у ручья, чтобы обмыть рану. Касым и Джаксалык выехали из-за скал. За ними ехали джигиты. Кара-Мурун, хромая, бросился к ним навстречу и ухватился за стремя Касыма. — Скорей на помощь! — прохрипел он. — Чем ты так взволнован, уважаемый Кара-Мурун? — невозмутимо сказал Касым. — Мои джигиты убиты или взяты в плен. Аллах отвернул свое лицо от меня! Помоги, Касым! Касым тронул коня и толкнул Кара-Муруна. — Я никак не могу понять, чего ты просишь, уважаемый Кара-Мурун, издевался он. — Ты ведь не ждал меня, когда нападал на Зындан. Ты ведь сам нарушил наш уговор. При чем же тут я? — Что ты говоришь? — зарычал Кара-Мурун, снова хватая стремя Касыма. — Что ты сказал, сын блудницы? — Не горячись, почтенный Кара-Мурун, — скалил зубы Касым, — ты болен, и волнение вредно тебе. Кара-Мурун задохнулся от ярости. Он шагнул назад и выхватил кинжал. Касым побледнел и взялся за рукоятку маузера, торчавшего за его поясом. — Берегись, — тихо сказал он. — Паршивый пес, — крикнул Кара-Мурун и поднял кинжал. — Я предупредил тебя, Кара-Мурун, — сказал Касым и выстрелил. Кара-Мурун сделал два шага и упал без звука, лицом вниз. — Ты собака, Касым! — равнодушно сказал Джаксалык. — Молчи, жирный баран. Касым, бледный от злости, рванул повод. Горячий конь заплясал, приседая на задние ноги, и шарахнулся в сторону. Случайно он толкнул коня Джаксалыка, и тучный Джаксалык зашатался в седле. Джигиты громко засмеялись. В бешенстве, Джаксалык со всей силы ударил Касыма по лицу камчой. Темный рубец сразу вспух на бледной щеке. Касым взвыл и почти в упор выстрелил в жирный затылок Джаксалыка, раньше чем тот успел повернуться. Джигиты сняли оружие с обоих убитых курбаши и поделили между собой. Касым приказал повернуть обратно и уходить в горы. Через два часа басмачи наткнулись на зынданских дехкан. Басмачи окружили их и повели с собой. Один молодой дехканин бросился на басмача, который схватил девушку. Его пристрелили. Больше никто не пытался сопротивляться. Банда торопилась, но пленные, среди которых было много женщин, шли пешком и задерживали басмачей. Уставших, отстающих и слабых подгоняли камчами.3
Пограничники и доброотрядцы наехали на тела Джаксалыка и Кара-Муруна. — Собакам собачья смерть, — сказал Кутан. Потом на вытоптанной овцами тропе нашли труп дехканина. Отсюда разделились. Винтов с пограничниками продолжали преследование по следам банды, а Кутан со своими джигитами поднялся вверх по склону ущелья и по гребню горного хребта обогнал басмачей и отрезал им путь. Банда шла медленно, безжалостно подгоняя пленных. Кутан бросил гранату — сигнал пограничников — и сверху лавиной обрушился на басмачей. Пограничники ударили сзади. Басмачи сдались почти без сопротивления. Касым хотел застрелиться, он уже поднял револьвер, но маленький Каче прыгнул ему на седло, вырвал револьвер у него из рук и со всей силы ударил гордого курбаши по лицу. Кровь пошла у Касыма из носу. Басмачей отогнали на одну сторону ущелья, отделив их от дехкан. Басмачи были богато одеты, и в курджумах у них были спрятаны дорогие халаты и шапки. Дехкане, и так одетые небогато, совершенно изодрались о колючки и камни, пока басмачи гнали их с собой. — Пусть оденутся бедняки в хорошие халаты, — тихо сказал Винтову Кутан. — Нет, Кутан, — сказал Винтов. — Если мы сейчас отберем у басмачей их добро, люди скажут, что доброотрядцы и кзыл-аскеры грабят пленных. Винтов приказал басмачам надеть лучшие свои одежды, и басмачи развязали курджумы и нарядились в праздничные халаты и меховые шапки. К вечеру все вернулись в Зындан и нарочно проехали через аул. Люди видели, как пограничники и доброотрядцы вели пленных басмачей. Роскошные халаты, ковры на седлах и курджумах, сурковые шапки, цветные шелковые кушаки сверкали в лучах заходящего солнца. Дехкане казались нищими рядом с басмачами. — Награбили, байское племя! — говорили люди. И еще десять человек пришли к Кутану со своими лошадьми и оружием и вступили в отряд.4
«От Джантая Оманова почтенному Исахуну-баю привет. Пусть аллах благословит тебя. Горе постигло нас. Как тебе уже, вероятно, известно, погиб брат наш Джаксалык Оманов. С ним вместе погибли многие храбрые джигиты, и Кара-Мурун тоже погиб с ним. Урусы все дальше и дальше продвигаются к сыртам. Нам худо будет, если займут сырты они, и тебе, уважаемый Исахун, худо будет. Урусы отберут твои стада, твои деньги и имущество. Аллах велит нам помогать друг другу, и я хочу помочь тебе, Исахун. Урусы не знают дорог в горах, урусам нужны проводники, а, как ты знаешь, меня боялись киргизы и не шли в проводники к урусам. Но есть один джигит, который изменил мне и перешел к урусам. Он не боится нас, и его надо убрать с дороги. Это Кутан Торгоев, пусть будет проклято его имя. Мой посланный передаст тебе, уважаемый Исахун, мешочек с ядом. Это стрихнин, и ты знаешь, какой силы этот яд. Ты должен перейти со своими юртами на тропу к аулу Зындан в расстоянии дня пути от аула. К Зындану поедут пограничники, и Кутан выедет к ним навстречу. Сделай так, чтобы пограничники остались ночевать у тебя и не пошли дальше. Аллах поможет тебе. Тогда Кутан тоже придет к тебе в юрту, и пусть он тоже останется там. Ты, почтенный Исахун, не жалей баранов для жирного беш-бармака и не жалей белого порошка из мешочка. Все зависит от бога».
5
Николаенко и Закс не спеша ехали по тропе к Зындану. Они везли почту и газеты и уже третьи сутки были в пути. Лошади шли шагом. Солнце спускалось к вершинам гор, красный диск его был подернут легким туманом. Переезжая реку, пограничники напоили лошадей. — Хорошо бы встретить юрту, — мечтательно сказал Закс. Две прошлые ночи пришлось провести в лесу под открытым небом. Еще с полчаса ехали молча. — Не плохо бы свежего барашка поесть, — сказал Николаенко. Мерно покачиваясь в седлах и неторопливо переговариваясь, друзья поднялись на небольшую пологую горку. Река поблескивала раскаленным серебром по коричневато-зеленой равнине. Мрачные горы громоздились вокруг. Снег низко спускался к подножиям. Шла зима, и каждую ночь снег выпадал на равнинах. — Яшка! — воскликнул Николаенко. — Яшка, или мы видим мираж, или юрты стоят у реки! — Мираж бывает только в пустынях и морях, — сурово сказал Закс. — Мы видим именно юрты, и я уже чую запах беш-бармака. Вперед! И Закс запел песню.Вперед, чекисты молодые,
Станка и плуга сыновья,
Вас ждут сырты. Бойцы родные,
В поход сбирайтеся, друзья…
Чекист в горах всегда учился,
С кем в бой вступать, куда идти,
Морозом, ветром закалился,
Преграды нет ему в пути.
…конная Буденая раскинула пути…
6
Исахуна арестовали через два дня. Те же кзыл-аскеры приехали к нему. Вместе с ними был Кутан, уполномоченный Винтов и доброотрядцы с пленными басмачами. В юрте Исахуна сделали обыск. Ничего подозрительного не было. Но когда пограничники уже хотели уезжать, к Заксу подошла дочь старого пастуха. Задыхаясь от смущения, она сказала что-то по-киргизски. — Что она говорит, Кутан? — крикнул Закс. — Что он говорит? — улыбнулся Кутан. — Что может говорить молодой девочка такому хорошему парню? Но когда девушка повторила непонятную фразу. Кутан стал серьезным и насторожился, а Исахун смертельно побледнел. Девушка сказала, что Исахун спрятал что-то под камень за юртой. Она сама видела, как он делал это. Под камнем нашли кожаный мешочек. Винтов раскрыл его. В мешочке был белый порошок. Исахун бросился к лошадям, но Кутан внимательно следил за ним. Он подставил ему ногу, и бай со всего размаха растянулся на земле. Кутан вскочил ему на спину и хорошенько обработал его своими увесистыми кулаками. Когда бая подняли, он плакал, клялся, что ни в чем не виноват, и признался во всем. Он показал письмо Джантая, умоляя простить его. Пленный вожак басмачей, Касым, подошел и плюнул Исахуну в лицо. Доброотрядцы смеялись. Через несколько часов весь отряд двинулся дальше. Кутан ехал впереди, рядом с Винтовым, а Николаенко и Закс ехали последними. — Нет, ты пойми, — горячился Закс, — планер на буксире у самолета подымается в стратосферу. Так? — Ну, так, — соглашался Николаенко. — В стратосфере он отцепляется и планирует вниз. Понимаешь? Никакие звукоулавливатели и прочие штуки ничего не слышат, и вдруг над расположением противника бесшумно появляется планер, бомбы, пулемет, пике — и все готово. Здорово? — Ну, здорово. — А вы, Колечка, презираете планер! — торжествовал Закс. Кутан и Винтов ехали молча. Кутан задумался и тихо мурлыкал песенку. — Что ты поешь, Кутан? — спросил Винтов. Кутан улыбнулся. — Хорошая песня, понимаешь. «Конная Буденая раскинула пути», — пропел он и сказал, помолчав: — Одна киргизская девушка пела.ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Пришла зима. Горные козлы спускались ниже к долинам, и волки нападали на их стада, темными ночами подкрадываясь по снегу. Барсы мерзли в пещерах, охотники слышали голодное мяуканье и рычанье недалеко от костров мирных становищ. Начался декабрь, месяц метелей, бурь и снежных заносов. Через перевалы прошел караван. Вьюки были полны товарами. Самые высокогорные аулы ждали к себе кооператоров. Караван дошел до большой равнины у выхода из ущелья Кую-Кап. Всего товаров было на пять тысяч рублей. Вместе с караваном широко распространялось известие о небывалом празднике в Караколе. Двадцатого декабря исполнилась годовщина ВЧК, двадцатого декабря пограничники устраивали байгу на площади и той для многочисленных гостей. К двадцатому декабря сотни людей съедутся на праздник. Уже двинулись киргизы из Джеты-Огузского района и с берегов Иссык-Куля, из окрестностей Токмака и села Покровского, из Ак-Булуна и Зындана, и из многих других селений, аулов и урочищ. Ехали целыми семьями, везли с собой юрты. Всякому интересно посмотреть такой праздник, такую байгу, где скакать будут все кзыл-аскеры, состязаясь в доблести друг с другом и с любым приезжим джигитом. Так говорили караванщики. Пятнадцатого декабря Кутан уехал из своей юрты в ауле Ак-Булун. Как всегда, он взял с собой винтовку и попрощался с матерью. Абдумаман и Каче встретились ему на тропинке. — Аман, аман, — сказали они. — Куда едете? — спросил Кутан. — На охоту? — Большого козла хотим убить, — хитро прищурился Каче. Абдумаман промолчал. — Поедем вместе, — сказал Кутан. Ночью к их костру подъехало десять джигитов. Впереди всех был кузнец Гасан-Алы. Утром еще пятнадцать джигитов присоединились к ним. Все ехали на охоту. В полдень на дне глубокого ущелья, возле пещеры, джигиты встретились с кзыл-аскерами. Комендант верхом на своем гнедом Ваське стоял впереди. Кутан ударил плетью коня и коротким галопом погнал к коменданту. Остановившись против него, он взял под козырек. Лицо его было серьезно и торжественно. — Добровольный отряд прибыл по твоему приказу товарищ комендант, сказал он. — Здравствуй, Кутан, — ответил Андрей Андреевич. — Аман, товарищи джигиты. — Здравствуй, — хором ответили доброотрядцы. Кзыл-аскеры сели на лошадей, и все двинулись. Кутан ехал впереди и показывал дорогу. Шли по неизвестным тропинкам, сокращая путь и торопясь. Шли весь остаток дня и только поздней ночью остановились для ночлега. Лежа у костра, Кутан кивнул на Каче и подмигнул Заксу. — Видишь, Яша, этот джигит хвастал — самый большой козел убьет. Как думаешь? Каче с невозмутимым видом подбрасывал сучья в костер. Сухие ветки с треском вспыхивали, озаряя ярким светом лица пограничников и доброотрядцев. — При его росте, — ответил Закс, — стыдно ему будет, если самый большой козел уйдет от него. Каче и все остальные громко захохотали. — Тише вы! — Николаенко высунул голову из-под тулупа. — Человеку спать не даете. — Ну, спи, спи, пожалуйста, — сказал Кутан. Он встал, отошел от костра и подошел к лошадям. Вороной жеребец, вздыхая, положил голову ему на плечо. Кутан погладил мохнатую челку и тихо заговорил с конем. Потом, ведя коня за собой, спустился в темноте к ручью. Жеребец напился, осторожно нюхая воду и переступая ногами по скользким камням, и ушел к остальным лошадям. Кутан еще долго сидел на камне. Когда он вернулся к костру, доброотрядцы и Каче уже уснули. В костре догорали головешки. Один Яша Закс не спал еще. Он шевелил веткой в углях, и яркие искры взлетали на воздух. Кутан осторожно присел на корточки. — Яша, — шепотом позвал он. — Яша, а Яша… Закс повернулся к нему. — Яша, ты бывал в Москве? — Нет, Кутан, не бывал. А что? — Не бывал, — грустно повторил Кутан. — Но ты все-таки знаешь, какая Москва? Да? — Конечно, знаю, — ответил Закс. — Я и читал много про Москву, и в кино видел, и фотографии… — Тебе хорошо, — перебил Кутан, — ты читать можешь. А мне как? Как узнать про Москву? — Что ж тебе знать нужно, чудак? — улыбнулся Закс. — Что знать нужно? — горячо заговорил Кутан. — Все знать нужно! Понимаешь? Расскажи мне. Горы есть в Москве? Высокие горы? Снег лежит на горах? — Нет гор в Москве. Вовсе нет. И снег на горах не лежит. — Совсем ровная земля? — недоверчиво переспросил Кутан. — Ты наверное знаешь? — Конечно, наверно. Кутан помолчал. — Если басмачи не убьют, — снова заговорил он, — если живым останусь, как банды кончим, сразу в Москву поеду. Только б живым быть… — Конечно, будешь жив, Кутан, — сказал Закс, — что это ты перед боем загрустил? — Там Ленин жил, — не слушая пограничника, говорил Кутан. — Там, в Москве, Ленин жил… Кутан замолчал и сидел неподвижно, задумавшись, и опустив голову. Костер потух, и на востоке небо начало светлеть. Закс уснул, свернувшись калачиком, и с головой укрылся тулупом. Кутан не спал до утра. Утром, когда отряд выходил из ущелья. Кутан один ехал впереди. Он тихо пел, раскачиваясь в седле и полузакрыв глаза. Лошадь взобралась на гребень перевала, и огненные лучи восходящего солнца били Кутану в глаза.Высокие горы стоят, —
Снег на горах лежит…
Лед на горах лежит…
Выше снега, выше гор,
Где солнце — так высоко!
Где небо — так высоко!
Где птицы — так высоко!
Там город большой стоит…
Город Москва зовут…
В городе Ленин живет…
Ленин всегда живет…
2
В ночь на двадцатое декабря басмачи во главе с Алы вышли из ущелья Кую-Кап. Джантай, посылая Алы и лучших своих джигитов, приказал захватить караван с товарами, угнать стада из мирного аула, а самый аул сжечь. Джантай знал, что чекисты празднуют свою годовщину, и в успехе налета был уверен. В это время отряд пограничников и доброотрядцев спускался с перевала на другом конце равнины. Три дня люди и кони боролись со снегом и холодом на огромных высотах. Одна лошадь сорвалась в пропасть и разбилась о камни. У многих бойцов были поморожены лица и руки. Особенно тяжелой была последняя ночь, и снег оказался таким глубоким, что местами двигались по нескольку метров в час. Едва не сорвалась вся операция. Андрей Андреевич всю ночь шел впереди отряда, и к рассвету отряд дошел до спуска на равнину. Еще никогда пограничники не заходили так далеко на сырты. Остановив отряд на склоне горы, чтоб дать передохнуть людям, Андрей Андреевич подозвал Кутана и, сверяясь по карте, всматривался в сложный лабиринт рек, лощин и ущелий, который открывался внизу. Карта врала безбожно. Кутан молча показал пальцем по направлению к другому концу равнины. Андрей Андреевич повернул бинокль в ту сторону. — Мы пришли как раз вовремя, — сказал он негромко.3
Басмачам нужно было пройти всю равнину, чтобы подойти к аулу, где стоял караван. Алы вывел своих джигитов на середину равнины, когда слева, из-за скал, нагроможденных возле реки, раздались выстрелы. Басмачи повернули к другому краю равнины, но выстрелы раздались и оттуда. Засвистели пули. Басмачи спешились и залегли. Андрей Андреевич ждал. Он расположил пограничников и доброотрядцев полукругом за камнями и сопками. Басмачи занимали позицию невыгодную, и их легко было атаковать, но Андрей Андреевич знал, как измучены его люди, знал, что пока возбуждение боя не овладеет ими, они будут чувствовать усталость, а басмачей было много, к это были отборные джигиты. Нужно было смять, раздавить их одним ударом. И Андрей Андреевич ждал. Он сам вряд ли мог точно объяснить, по каким признакам он догадается, когда надо идти в атаку. Старый, опытный боец, он доверялся чувству боя, какому-то необъяснимому ясному вдохновению. Никогда это чувство боя не обманывало, если только командир по-настоящему знал своих людей, по-настоящему доверял им, совершенно сливался с ними. В своих доброотрядцах и пограничниках Андрей Андреевич был уверен, как в себе самом. Басмачи стреляли часто и беспорядочно. Пограничники отвечали изредка. Андрей Андреевич смотрел в бинокль на склон горы. Там, прячась в кустах, осторожно пробирались двое пограничников. Лошадей они вели в поводу. Они должны были дойти до узкого, как ворота, входа в ущелье и закрыть басмачам путь к отступлению. На седле одной из лошадей был привязан пулемет. Басмачи отползли за камни, где стояли их лошади. Алы первым вскочил в седло. Джигиты окружили его. Размахивая винтовкой, Алы визгливо запел боевую молитву. Джигиты подхватили. Дикий, пронзительный крик повторило эхо. Басмачи вылетели из-за камней и понеслись по равнине. Андрей Андреевич, не отнимая бинокля от глаз, смотрел на вход в ущелье. Алы скакал впереди басмачей. Его яркий халат развевался по ветру. Припадая к шее коня, он одной рукой держал винтовку и стрелял не целясь. Басмачи были совсем близко. Тогда вся цепь пограничников и доброотрядцев ударила залпом. Басмачи в смятении остановились. Алы поднял коня на дыбы, повернулся и, бешено нахлестывая плетью, поскакал обратно. Джигиты помчались за ним. Раненые и убитые остались на земле. Андрей Андреевич оглянулся на своих бойцов. Люди вскочили на ноги, лихорадочно стреляя вдогонку басмачам, кричали и смеялись. Андрей Андреевич перепрыгнул через большой камень и, придерживая шашку, вразвалку, не спеша побежал вниз. Выбежав перед цепью, он обернулся и крикнул весело и громко: — За мной! Вперебежку!.. Команду услышали не все и не сразу поняли. Но, увидев спокойную, слегка сутулую фигуру коменданта, бегущего по склону горы, бойцы вскочили и ринулись вниз. Мимо Андрея Андреевича с громким визгом пронесся Гасан-Алы. Остальные бежали за ним. Андрей Андреевич шел теперь позади бегущей цепи. Он не стрелял и сосредоточенно глядел вперед. Басмачи остановились и снова залегли за камнями. — Ложись! — крикнул Андрей Андреевич, и цепь легла как раз вовремя. Басмачи открыли огонь. Теперь перестрелка стала ожесточенной. Пули свистели непрерывно. Бойцы стреляли молча, сосредоточенно, внимательно целились. Андрей Андреевич знал: первое возбуждение прошло, ощущение опасности стало реальнее, наступила разрядка. Но надо было выбить басмачей, не давая им времени опомниться. Слегка пригибаясь, Андрей Андреевич прошел вперед цепи. — Вперебежку! За мной! — и так же, как в первый раз, не стреляя, побежал вперед. Секунду показалось, что люди не встанут, но за спиной услышал голос Кутана: «Бей баев!» и веселый рев Гасан-Алы. Бойцы поднимались и перебегали, стреляя по басмачам. Только теперь Алы увидел, насколько дело серьезно. Он видел, как один за другим джигиты падали ранеными или убитыми. Он видел, как двигались кзыл-аскеры. Чекисты праздновали свою годовщину в бою. Расчет на праздник в Караколе оказался неверным. Алы решил отступать. Он пополз к лошадям, и джигиты поползли за ним. Андрей Андреевич сразу заметил это. Он поднял бинокль к глазам. Пограничники в ущелье устанавливали пулемет. Басмачи вырвались из-за камней, они пронеслись по равнине, и передние были у входа, когда пулемет заработал. Под Алы убили коня, и он хромая побежал к камням. Он понял, что это ловушка. Пулемет деловито стучал, и облачка пыли веером взлетали, тесня басмачей. Пешие джигиты окружили Алы. Кзыл-аскеры и доброотрядцы бежали по равнине. Пулемет смолк. Алы сделал еще одну попытку прорваться, но едва басмачи высунулись из-за прикрытия, пулемет снова заработал. Басмачи вернулись за камни и отчаянным огнем встретили цепь. Снова началась перестрелка. Цепь медленно подходила.4
Двое пограничников с пулеметом были Николаенко и Закс. Они лежали рядом. Стрелял Николаенко. Закс подавал диски. Эхо оглушительно гремело в ущелье. С вершины сопки, на которой они установили пулемет, была видна вся равнина. Внимательно следя за басмачами, они стреляли короткими очередями, не тратя зря патронов. Они не разговаривали. Работали молча и согласно. Диск подходил к концу. Запасные диски были во вьюках. Закс, пригибаясь за камнями, пополз к подножию сопки, где стояли лошади. Когда он возвращался обратно, близко свистнули подряд три пули. Со стороны равнины стрелять не могли, так как высокие камни скрывали Закса. С удивлением он поднял голову. В тот же момент он почувствовал сильный толчок и острую боль одновременно в ноге и в правом боку. Он упал, но сразу поднялся на колени и пополз. Голова кружилась, и темнело в глазах. Он прилег, обеими руками прижимая мешок с дисками к груди и положив голову на холодные камни. Николаенко не оборачивался, не спускал глаз с равнины. — Патроны!.. — крикнул он. Закс пополз дальше. До Николаенко он дотащился минут через пять. С трудом приподнявшись, вынул из мешка диск. Николаенко обернулся. Лицо Закса было мертвенно-бледное, губы побелели. — Что с тобой, Яша?.. — крикнул Николаенко. Закс не слышал. Ему показалось, что губы товарища шевелятся без звука. Пуля ударила в камень, и щебень посыпался на голову Николаенко. Он резко повернулся и увидел, что со стороны ущелья к выходу на равнину бегут человек тридцать басмачей. Они уже лезли к сопке. Закс тоже увидел их. Лихорадочно торопясь, Николаенко повернул пулемет к ущелью, вставил диск и начал стрелять. Басмачи отхлынули назад. Пятеро остались лежать на камнях. Пока Николаенко стрелял, Закс лег лицом на землю. Потом он поднялся, подполз к пулемету и молча взялся за приклад. — Скачи… — еле слышно заговорил Закс, — скачи в обход к нашим… Я продержусь как-нибудь… Только скорей… — Я никуда не пойду! — крикнул Николаенко. — Скачи… — повторил Закс. Лицо его покрылось потом. С невероятным усилием он навалился всем телом на приклад пулемета и сжал зубы. Басмачи поползли из-за камней. Пулемет молчал. Николаенко повернулся и кинулся к лошадям. Когда он бешено мчался по камням на склоне горы, пулемет заработал и громко завыли басмачи.5
Басмачи, которые сзади напали на пулеметчиков и ранили Закса, были джигиты Абдулы Джамбаева. Теснимый пограничниками, Абдула давно уже решил уйти в Китай и увести с собой остатки своей банды. Он избегал встречи с Джантаем и трусливо прятался в горах. Но весть о празднике чекистов и о богатом караване дошла до него, и он решил, перед бегством за кордон, в последний раз попытать счастье. Он осторожно шел по следам Алы и подошел к равнине, когда бой уже был в разгаре. Подкравшись к выходу из ущелья, он наткнулся на пулемет. Абдула понял, что, захватив пулемет и сопку у входа в ущелье, он решит исход боя, и добыча, по праву, будет принадлежать ему. Но захватить сопку оказалось не так просто. Пулемет бил без промаха. Пять раз гнал Абдула джигитов вперед, и пять раз пулеметный огонь отбрасывал их обратно. Абдула в ярости хлестал камчой по головам и спинам своих джигитов. Забыв всякую осторожность, он сам выскочил из-за камней. Джигиты с опаской в отдалении следовали за ним. Перебегая за камнями, Абдула прижимался к земле, распластываясь, змеей полз к сопке. Пулемет молчал. Опасаясь какой-нибудь хитрости, Абдула притаился за выступом скалы и ждал, пока джигиты подползут к нему. Четыре раза Закс отражал атаки басмачей. Ему становилось все хуже и хуже. Кровь из ран текла не переставая. Невероятным усилием воли он побеждал смертельную слабость. Он часто оглядывался назад, на равнину. Цепь пограничников и доброотрядцев была совсем близко от Алы и его джигитов, но басмачи отбивались отчаянно. Алы был ранен в голову и в плечо, но стрелял не переставая и громко пел молитвы. Он давно заметил, что пулемет стреляет не по равнине, и собирался в последний раз попытаться уйти в ущелье. Джигиты окружали его. Закс чувствовал, что теряет сознание. Кончился диск, и он собрал все силы, чтобы перезарядить пулемет. Закс почти ничего не видел. Густой туман плыл перед глазами. Чтобы как-нибудь удержаться от обморока, он укусил себя за руку. Он не чувствовал боли, все тело казалось тяжелым, будто налитым свинцом. Все-таки он увидел, как Абдула выскочил из-за скалы и согнувшись побежал к сопке. Басмачи бежали за ним. Закс стиснул приклад пулемета и выпустил очередь. Басмачи попадали на землю. — Попал… попал… попал… — бормотал Закс бессмысленно. Но, едва он перестал стрелять, как басмачи вскочили и снова побежали. Сначала Закс подумал, что это бред. Но потом понял: взял высоко, пули перелетали через головы басмачей. Скрежеща зубами, повел дулом пулемета и снова стал стрелять. Красная пелена заслонила глаза. «Попал… попал… попал…» — звенело в ушах. Он ничего не видел. Пулемет стрелял, и ослабевшее тело Закса вздрагивало. Пулемет задрался вверх, стрелял в небо. Потом щелкнул в последний раз и смолк. Закс не видел, как Абдула вскочил на вершину сопки, взмахнул кривым клычом и рухнул на камни с простреленной головой. Закс не слышал, как грянул залп, когда пограничники и доброотрядцы взбежали на сопку и опрокинули джигитов Абдулы. Закс не знал, что Николаенко успел доскакать до цепи, что комендант убил Алы, что басмачи сдались и бой был кончен. Закс умер.6
На сопке у входа в ущелье поставили пост. Его назвали именем красноармейца Яши Закса. В кармане Яшиной гимнастерки было письмо.«Милый папа! Опять давно я тебе не писал, но совсем нет времени, и мы опять выезжали в горы, и у нас ужасно много работы. По стрельбе мой товарищ все-таки победил меня, но я ему не уступлю и опять вызову его на соревнование. Он очень хороший парень, и мне совсем не обидно. Ты писал мне, не скучаю ли я, но это даже смешно, чтобы боец-чекист скучал, когда такое боевое время и такая жизнь, что скучать стыдно и позорно. Ты пишешь, хочу ли я вернуться домой, но я должен тебе сказать, что мне нечего делать дома, и я не знаю, как я мог бы жить теперь в нашей Орше. Это совсем немыслимо. Конечно, я очень хочу видеть вас всех, и тебя, и маму, и Шурку, и всех, но это же можно, приехать и повидаться, когда будет отпуск. Милый папа! Я решил совершенно окончательно, что я не вернусь в нашу Оршу, и я должен сообщить тебе следующее: я подал рапорт, и я прошу не отпускать меня в долгосрочный отпуск, а направить в летную школу, и я хочу стать пилотом. Милый папа! Ты не должен протестовать против моего решения, и я все равно уже подал рапорт, и если я не буду пилотом, то я не буду счастлив…»Письмо было не окончено. Его нашел Николаенко и принес Андрею Андреевичу. — Товарищ комендант, — тихо сказал Николаенко. — Боец-пограничник Яков Закс подал рапорт, и я подал рапорт вместе с ним. Но я прошу вас отдать приказ вернуть мне мой рапорт. Я не хочу идти в летную школу. Я прошу оставить меня на сверхсрочную службу здесь, на границе… — Хорошо, — сказал Андрей Андреевич, — хорошо, товарищ Николаенко. Вам вернут ваш рапорт. Хоронили Яшу Закса. Пограничники и доброотрядцы стояли в строю перед его могилой. Из ближних аулов приехали киргизы. Могила была у берега реки. В этом месте течение было так быстро, что река не замерзала даже в самые лютые морозы. Вода глухо шумела. Холодный ветер взметал снег с земли. — Товарищи, — сказал Андрей Андреевич, — Яша Закс жил и умер замечательным пограничником. Никогда никто из нас не забудет Яшу Закса. Никогда никто из нас не простит смерть Яши Закса… Андрей Андреевич замолчал. Он не умел говорить речей. Слезы текли по лицу Кутана, и он не стыдился их. Могилу зарыли и отдали троекратный салют из винтовок. Эхо долго гремело в горах. Сзади всех, в молчаливой толпе киргизов, стояла маленькая девушка, дочь пастуха. Она тихо плакала.
7
Андрей Андреевич уезжал с поста. Кутан ехал с ним. Николаенко оставался в числе красноармейцев нового поста. До весны пограничники должны были жить просто в юрте. Весной построить землянки. Пост провожал коменданта. Было раннее утро. Солнце подымалось из-за гор, и снег был розовым на свету и синим в тени. Андрей Андреевич отдавал последние приказания. Кутан держал под уздцы его коня. Васька озяб. Он грыз удила и рыл землю копытом. Пограничники и доброотрядцы, которые вместе с комендантом должны были уходить в Каракол, садились на лошадей. Всем было грустно. Андрей Андреевич уже тронул коня, когда часовой на вершине сопки издал удивленное восклицание и рукой показал на ущелье. Огромное стадо баранов шло по ущелью. Бараны бежали тесной кучей, и частый топот тысяч копыт сливался в непрерывный глухой гул. Лохматые псы бежали впереди. Пастухи на маленьких мохнатых лошадках скакали по бокам, гортанными криками сгоняя блеющих овец. Медленно выплывая из ущелья, стадо подходило к сопке. Совсем молодой пастух, почти мальчик, в оборванном халате, с лицом диким и мрачным, ударил камчой лошадь и иноходью подъехал к посту. Он соскочил на землю, подошел ближе и остановился в нерешительности. Потом, увидя Кутана, он подошел к нему. — Кутан Торгоев? — спросил он спокойно. Кутан кивнул. Тогда пастух низко поклонился ему и быстро и тихо заговорил по-киргизски. Кутан внимательно выслушал его и засмеялся весело. — Он сказал, — обратился Кутан к Андрею Андреевичу, — что Джантай Оманов в Китай бежал. Очень скоро бежал. Мало скота брал. Остальной скот пастухам велел в Китай гнать. Ему велел тоже в Китай гнать. Он Джантая не слушался. Он баран сюда гнал. Тысяча баран, и еще тысяча, и еще, может быть, три тысяча. Он, бедняк пастух, говорит: все баран сюда гоните! Джантай не слушайте! Он совсем молодой. Шестнадцать лет только. Но молодой волчонок уже такой же зверь, как большой волк. Я не узнал его — много лет не видал. Он — враг мой.ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Девять суток отряд шел от новой заставы до Каракола. Сотни раз приходилось переезжать через бурные потоки в поисках козлиных тропинок. Привычные лошади едва шли по страшным кручам. Люди измучились и устали. Наконец, на девятые сутки, прошли последний перевал. Солнце садилось. Красный свет слепил глаза. Пламенные облака клубились над горами. Снег сверкал и искрился. Черные ели высились над скалами. Пройдя вниз по ущелью, отряд вышел на дорогу. Каракол виднелся вдали. По дороге мчался автомобиль. За ним скакала толпа всадников. Из деревень и аулов люди выбегали на дорогу. Андрей Андреевич в недоумении сдержал коня. Весь отряд остановился. Многие спали в седлах. Автомобиль нырял в ухабах. Киргизы кричали и махали шапками. Рядом с шофером, держась за смотровое окно и с трудом удерживая равновесие, стоял Амамбет. Сзади сидела Елена Ивановна. Амамбет на ходу выскочил и прихрамывая побежал к Андрею Андреевичу. Они обнялись. Амамбет хотел сказать речь, но ему не дали говорить. — Ура, кзыл-аскеры! Да здравствуют пограничники! — кричали люди. Потом вперед вышли седобородые аксакалы. Они степенно пожали руки Андрею Андреевичу и Кутану. Маленькая девочка, с волосами, заплетенными в мелкие тоненькие косички, и в пионерском галстуке, поднесла Андрею Андреевичу пиалу бузы. Андрей Андреевич выпил всю пиалу залпом. — Рахмат! — сказали аксакалы. Андрей Андреевич слез с лошади, подошел к автомобилю и обнял Елену Ивановну. Она, смущаясь и краснея, поцеловала его небритую, колючую щеку и прижалась лицом к грязному меху полушубка, распахнутого на груди коменданта. — Я очень волновалась, — шепнула она. Кутан подошел и протянул ей руку. — Твой муж — самый лучший друг мне, — сказал он серьезно. Когда автомобиль несся к Караколу, Елена Ивановна обеими руками крепко держала Андрея Андреевича за руку, они сидели рядом. Амамбет сидел впереди и деликатно не оборачивался. Машина ныряла в ухабах. — Секретарь! — крикнул Андрей Андреевич. — Ты бы дороги починил, черт!.. В Каракол приехали уже ночью.2
Прошел месяц. Басмачи не появлялись. На всем участке было спокойно. Однажды к коменданту пришел Кутан. Он был мрачен и неразговорчив. Он сказал, что доброотряд ничего не делает, что время уходит зря. А дело есть. Потом они с комендантом долго рассматривали карту, и Андрей Андреевич объяснил, как изображены реки и горы. К вечеру Кутан уехал из комендатуры. Помпохоз[31] выдал ему сто патронов к винтовке и мешок сухарей. На следующий день доброотрядцы собрались в Ак-Булуне. Кутан зарезал двух баранов, и джигиты ели беш-бармак. Потом Кутан поехал вперед, и весь отряд ехал за ним. Каждый вез лопату, топор или лом. Перевалив на сырты, устроили лагерь в пещере у реки и переночевали там. Рано утром Кутан поднял джигитов. Каче и Абдумамана он послал на охоту. Остальные, взяв лопаты и топоры, пешком пошли по склону горы. Отсюда должна была начаться дорога. Кутан шел впереди и прокладывал тропу. Джигиты расширяли ее. Там, где скалы преграждали путь, в камне вырубали карниз, деревянными подпорками укрепляя его. Для этой работы часто приходилось обвязывать людей веревками и спускать с отвесного обрыва. Дорога лепилась над пропастями и провалами. Безошибочным чутьем горца Кутан угадывал, где лучше всего проложить тропу. Доброотрядцы работали ловко и весело. Силач Гасан-Алы один сворачивал огромные камни, и его лом гремел громче всех других. Ночевать вернулись в пещеру. Каче и Абдумаман убили двух козлов, и все были сыты. В пещере развели костер, и стало тепло, как в юрте. На следующий день продолжали работу. Так продвигались доброотрядцы все дальше и дальше в горы. День за днем удлинялась тропа. Стояли страшные морозы. Свирепые северные ветры дули не переставая, тучи заволакивали небо, и снег засыпал землю. Абдумаман и Каче били козлов, и мяса у доброотрядцев было вдоволь. Для ночевок Кутан разыскивал просторные пещеры. Для костров джигиты рубили ели. Тропа дошла до реки и долго извивалась по ее берегу. В самом узком месте, где река стремительно неслась по дну глубокой пропасти и никогда не замерзала, Кутан построил мост. Два толстых ствола огромных тянь-шаньских елей повалили так, что они соединили отвесные берега. Ловкий маленький Каче перелез на другую сторону и укрепил стволы камнями. Несколько дней доброотрядцы рубили лес, и бревна легли поперек на стволы. Гасан-Алы сделал перила. Когда по мосту провели лошадей, он даже не дрогнул. В одном месте пришлось неделю копать землю, чтобы сдвинуть колоссальный камень, преградивший путь. Люди выбились из сил и уже начали отчаиваться. Обойти камень было невозможно. Наконец, на восьмые сутки, камень сорвался, с громом прокатился по горе и упал в реку. Камень был так велик, что река изменила русло, огибая его. Полтора месяца бились доброотрядцы с горами. Через полтора месяца тропа вышла на равнину, в конце которой стояла застава имени Яши Закса. Пограничники встретили доброотрядцев парадным обедом. Николаенко убил медведя, и доброотрядцы до отвала наелись сочного, сладкого мяса. День отдыхали и двинулись по новой дороге в Каракол. Ехали не спеша и приехали в Каракол через три дня вместо девяти. Кутан доложил коменданту, что дорога к заставе готова.3
После разгрома банды Джантай бежал из долины Кую-Кап, перешел перевал и на китайской стороне, в маленькой лощине у реки, расставил юрты. Алы, любимый сын и наследник, был убит. Басмачи разбиты. Погиб Джаксалык, погиб Джамбаев Абдула, погиб Кара-Мурун. Гордый Касым Малыбашев сидел в каракольской тюрьме. Джаныбек Казы был расстрелян. Остальные курбаши уходили в Китай. Но пограничники на самой границе поймали Сююндыка Сарыбашева, и, защищая вьюки с контрабандным опием, погиб в перестрелке Кадырбаев Бабай. Одному только Кулубеку Айдарбекову удалось перейти границу с остатками своей шайки. Пастухи изменили Джантаю, и больше половины его скота досталось киргизской бедноте. Но все-таки пару тысяч голов баранов и лошадей удалось сохранить, благодарение аллаху, и этого было довольно, чтобы прожить те немногие годы, которые остались до смерти. Джантай говорил, что эти годы он решил провести на покое, посвящая время молитвам и размышлению. Пора было подумать о боге. Жизнь, в общем, прожита. Жизнь длинная, богатая удачами и радостями, богатая и горем. Многих Джантай пережил, многие планы остались невыполненными, но так хотел аллах, так начертала судьба. Окруженный семьей и верными джигитами, окруженный почетом и уважением, Джантай оставался полновластным хозяином этого маленького, замкнутого мирка. И потянулись медленные дни покоя, отдыха и одиночества. Прошло четыре месяца. Однажды в становище приехал какой-то купец. Небольшой караван шел за ним. Никто не знал этого человека. Он приехал на осле и был похож скорее на святого, чем на купца. Никому не сказав ни слова, он прошел в юрту Джантая. Джантай читал молитвы, когда полог откинулся и вошел купец. — Селям алекюм, — сказал он тихо иневнятно. Джантай недовольно обернулся, но, увидя вошедшего, поспешно вскочил и низко поклонился ему. Купец ответил странным поклоном, приложив ладони к коленям. Джантай усадил гостя в почетном углу, где были разложены лучшие кошмы, и сам подал ему пиалу со свежим кумысом. Гость поблагодарил молча. Он был небольшого роста, сух и жилист. Раскосые глазки, полуприкрытые веками, смотрели безжизненно, и кожа на скуластом лице была желтая, как старый пергамент. Он молчал все время, пока Джантай приготовлял опий для курения. Он заговорил только тогда, когда Джантай выслал всех из юрты. Он говорил долго, но так тихо и невнятно, что никто снаружи не слышал ни слова, даже самая молодая жена Джантая, у которой был очень тонкий слух и которая была очень любопытна. До позднего вечера никто не входил в юрту, и оттуда слышалось спокойное гудение голосов Джантая и купца. Вечером в лощину прискакали вооруженные джигиты. Их вел Кулубек Айдарбеков. Он соскочил с седла и, звеня оружием, вошел в юрту. Джантай и купец поздоровались с ним. Кулубек сел, поджав ноги и положив винтовку на колени. Джантай вопросительно посмотрел на купца. Купец молчал, лицо его было неподвижно. Тогда Джантай заговорил. — Ты знаешь, почтенный Кулубек, — начал он, — ты знаешь, что аллах дает нам жизнь, чтоб была молодость, старость и смерть. Молодой джигит силен, старый аксакал слаб. Я стар, но у меня хватит силы сесть на коня. У меня хватит силы пройти в Киргизию. Мы много сделали ошибок, Кулубек, мы дали урусам победить себя, мы дали рабам стать хозяевами. Так хотел бог. Но есть люди, недовольные советской властью, есть много средств сделать так, чтобы этих недовольных было больше. Мое имя не забыли киргизы. Мое имя наполнит надеждой сердца побежденных беднотой. Ко мне пойдут все, кто обижен советской властью, и всякий враг кзыл-аскеров станет нашим другом. Но я слаб, Кулубек, и не могу уже сам вести джигитов в бой. Ты будешь моей правой рукой, держащей клыч и винтовку. Ты поведешь джигитов, которые придут к Джантаю Оманову. Завтра я двинусь в путь. Я перейду границу и поставлю свои юрты у перевала Соритер. Ты, Кулубек, придешь к перевалу Соритер, и аллах поможет нам, и мы позовем на бой с неверными, на бой с пограничниками, и мы рабов сделаем рабами. Я сказал то, что хотел сказать наш уважаемый друг. Купец молча кивнул и закрыл глаза. Кулубек встал и низко поклонился. Перед отъездом купец велел своим караванщикам отнести в юрту Джантая один из вьюков. Сам Джантай держал стремя и помог купцу сесть на осла. Купец молчал. Караван ушел и скрылся за ближними холмами. Тяжелый вьюк, который оставил купец, был полон кусков маты. В материю были завернуты карабины и мешки с патронами.4
Младший брат Кутана скакал из аула в аул. Он останавливал взмыленную лошадь у юрт доброотрядцев и говорил, не слезая с седла: «Джолдош! Кутан Торгоев зовет тебя!» Джигиты седлали коней, заряжали винтовки и мчались в Ак-Булун. Собирались у юрты Кутана. Приехал молчаливый Абдумаман в оборванном халате и с богато отделанным клычом и винтовкой; приехали силач Гасан-Алы и пастух Максутов Мукой; с громкой песней и веселым смехом приехал маленький охотник Каче, и еще многие храбрые джигиты приехали к юрте Кутана. Кутана не было. Он уехал в комендатуру и вернулся, когда уже весь отряд был в сборе. Кутан был одет в пограничную форму. — Товарищи! — сказал он доброотрядцам. — Старый бешеный волк Джантай Оманов собирает басмачей у подножия перевала Соритер. Отряд выступил ночью. Через три дня, пройдя новую дорогу и оставив на заставе лошадей, снова ночью доброотрядцы пешком пошли к границе. Днем прятались в кустах и пещерах, а ночью крались по звериным тропам к перевалу Соритер. Охотники и следопыты шли бесшумно, как за зверем, и на седьмую ночь зверя настигли. Было совершенно темно. Тяжелые тучи заволокли небо, закрыли луну и звезды. Дул холодный ветер, и хлестал косой дождь. Впереди доброотрядцев шел Каче, к он первый наткнулся на стадо баранов. Бараны кашляли и вздыхали, сбившись в тесную кучу и лежа на мокрой земле. Каче остановился, и доброотрядцы разошлись в цепь. Стадо лежало возле юрты. В полном молчании доброотрядцы окружили ее. Кутан первый вскочил внутрь, остальные ворвались за ним. В юрте были пастухи. Они сдались без сопротивления и не подняли тревоги. Нищие, рабы Джантая, они были рады избавиться от жестокого хозяина. Они сказали, что юрта Джантая стоит недалеко, внизу у ручья. Снова в кромешной темноте доброотрядцы поползли по скользким камням, и снова Кутан первый проник в юрту. Джантай спал на кошме против входа. Угли тлели в костре под казаном, и при их слабом свете Кутан увидел, как старик вскочил и сорвал со стены винтовку. Кутан бросился вперед и сшиб Джантая с ног. Винтовка упала на землю. Кутан коленом придавил старику грудь. Джантай напрягал все силы, стараясь освободиться. Кутан ударил его по лицу. Джантай тяжело захрипел и перестал отбиваться. Абдумаман занес нож над его головой. Кутан заслонил Джантая своим телом и схватил Абдумамана за руку. — Сволош! — глухо сказал Абдумаман, нехотя пряча нож. Джантай поднялся и сел. Кровь текла у него по лицу. — Что ж, Кутан, — сказал он, — ты оказался сильнее меня. Так, значит, судил аллах. Я прожил длинную жизнь. Теперь — конец. Но на той стороне ручья мои джигиты. Поговори с их винтовками, Кутан. Грянул выстрел, и пуля пробила красноармейский шлем на голове Кутана. Пятнадцатилетний сын Джантая поднял с земли винтовку и выстрелил. Гасан-Алы сгреб мальчишку и выбил винтовку из его рук раньше, чем он успел перезарядить. Но в темноте на другом берегу ручья захлопали выстрелы, и пули завизжали в воздухе. Тогда начался бой. Почти ничего не видя, стреляли наугад. Случайный крик или неосторожное движение несли смерть. Стреляли почти в упор. Притаясь за камнями, охотились друг за другом. Дождь не переставал ни на минуту. Выстрелы гремели, и в темноте яркое пламя било из дул винтовок. До утра бились доброотрядцы с басмачами, и никто не хотел отступить. Но когда бледный рассвет осветил ущелье, басмачи дрогнули и стали уходить. Весь день доброотрядцы преследовали их в горах, и немногим басмачам удалось спастись. Они бежали в Китай. Кулубек, тяжело раненный, отстал. Доброотрядцы настигали его. Он засел в камнях и расстрелял все патроны. Последнюю пулю пустил себе в рот. Доброотрядцы пошли обратно. Джантая стерегли Гасан-Алы и Каче. Джантай бежать не пытался. — Что ж, за все нужно платить, — повторял он. — Так хочет аллах. На первой ночевке Абдумаман едва не зарезал старика. Хорошо, что Каче вовремя заметил, как Абдумаман подкрался с ножом в руке. Гасан-Алы отнял у него нож и изрядно намял ему бока. Потом отряд шел по дороге к Караколу. Люди выходили из юрт и посылали проклятья Джантаю. Женщины кричали ему бранные слова, учили детей ругать его. Джантай ехал молча, низко опустив седую голову, и зло, как пойманный волк, косился по сторонам. Доброотрядцы окружали его. В одном селении столетний сгорбленный старик подошел к нему и протянул руку. — Здравствуй, Джантай, — сказал он тихо. — Ты помнишь, Джантай, я говорил тебе правду. Я говорил тебе: уйди, Джантай, и не мешай нам жить так, как мы хотим. Ты не послушался меня, Джантай. Теперь ты видишь, кто был прав. Мы оба прожили жизнь, Джантай, и я даже старше, но ты увидишь смерть раньше меня. Так хочет народ.Андрей Андреевич уезжал из Каракола. Вечером пришли Амамбет и Винтов. В комнатах было пусто. Все уже было уложено. Казалось, что комнаты стали гораздо просторнее. Было грустно и неуютно. Пришел новый комендант. Он был старым товарищем Андрея Андреевича еще по Высшей пограничной школе, отличный парень, весельчак и балагур. Но сегодня у него был смущенный и растерянный вид, будто он чувствовал себя виноватым в том, что Андрей Андреевич уезжает и друзья расстаются с ним. Он неловко сел на стул посредине пустой комнаты и фальшиво насвистывал песенку. Амамбет барабанил пальцами по окну и сердито молчал. Винтов ходил взад и вперед по комнате. Андрей Андреевич возился с последним чемоданом. Потом Елена Ивановна принесла еду и извинилась, что все скатерти уложены и нечем покрыть стол. — И очень напрасно, — вдруг сказал Амамбет. — Что, собственно, напрасно? — спросил Андрей Андреевич. — Уезжаешь напрасно. Вот что напрасно, понимаешь? — буркнул Амамбет и отвернулся к окну. Последним пришел Кутан. Он был в гимнастерке с зелеными петлицами и в зеленой фуражке. — Как же это, товарищ комендант? — говорил он, обеими руками пожимая руку Андрея Андреевича. — Зачем уезжаешь? Только мир стал, басмач нету, хорошо стало, а ты уезжаешь. Зачем так? — Надо, Кутан, — сказал Андрей Андреевич. — Надо. — Куда ж теперь? — На запад. Кутан. В Ленинград. Сели к столу. — Ну, Андрей, — заговорил Амамбет. — Ну вот, ты все-таки уезжаешь… — Он долго молчал. Потом улыбнулся, встряхнул головой и крикнул неожиданно громко: — И нечего киснуть, понимаешь! Прошу тебя, не кисни, и вас прошу, товарищи! Одно я хочу сказать: ты, Андрей, понимаешь или нет? — Я все понимаю, — негромко перебил Андрей Андреевич. — Я все понимаю, и не кричи на меня. Подожди, подожди минутку, есть одна новость. Сядьте все на места. Успокойтесь, замолчите и слушайте внимательно. Кутан, тебя эта новость касается больше всех. — Андрей Андреевич достал из кармана гимнастерки бумажку и развернул ее. — Сегодня я получил телеграмму. То есть телеграмма была адресована коменданту каракольской комендатуры, но я утаил ее, прости уж, Федор, обернулся он к новому коменданту. — Вот что написано в телеграмме:
«Каракол. Погран. комендатура. Коменданту. По представлению Главного Управления Пограничной охраны Союза ССР, ЦИК Союза ССР постановил товарища Торгоева Кутана наградить орденом».
1937
ПОЛКОВНИК КОРШУНОВ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Лошади задыхались в снегу. Наверху, в горах, шел снег, и ветер кружил в воздухе белые хлопья. Облака закрывали долину и подножья гор. Иногда порыв ветра разрывал облака, и тогда ненадолго была видна земля внизу с реками, с пятнами леса. Изредка очень далеко поблескивало солнце. В эти минуты ощущалась высота. Потом снова облака заволакивали долину, и ощущение высоты почти исчезало. Люди чувствовали только крутизну подъема, холод и недостаток воздуха в легких. Кровь приливала к голове, кровь колотилась в висках. Люди дышали часто, широко раскрывали рты, и воздуха все-таки не хватало. Мороз обжигал зубы. У многих бойцов были обморожены лица и руки, некоторые шли хромая, едва передвигая ноги, и часто останавливались. Гребень перевала был закрыт облаками. Эти облака были белее и легче, чем облака внизу, но гребня перевала не было видно, и казалось, что подъем никогда не кончится. Отряд забирался выше и выше. Лошади задыхались, и бойцы вели их в поводу. Все выбились из сил. Отряд шел совсем медленно. Потом передние остановились. Идущие сзади натыкались на спины идущих впереди, на занесенные снегом крупы лошадей и тоже останавливались. Бойцы садились прямо на снег, и многие сразу засыпали. Что произошло впереди, никто не знал. Тогда мимо неподвижного отряда прошел командир. Он шел тяжело и слегка хромал. Он вел вороного жеребца. Жеребец храпел и фыркал. Командир проходил, и бойцы поворачивали головы и следили за ним. Несколько человек поднялись и пошли за ним. Клочья облаков налетали на склон перевала. Мороз усиливался, и туман оседал ледяной коркой на одежде, оружии, лицах людей. Командир шел, зигзагами подымаясь вверх, мимо своего измученного отряда. Жеребец тянул повод, скользил и спотыкался на камнях, кое-где торчащих из-под снега. Командир шел молча, стиснув зубы и нагнув голову вперед. Дышать было трудно, и от прилива крови тупо болела голова, но хуже всего было с левой ногой. Ногу он, кажется, отморозил. Ту самую ногу, которая совсем недавно зажила после раны. Пуля пробила икру на два сантиметра выше голенища. Врач, делавший перевязку, еще смеялся, что басмач поберег новый сапог командира. С ногой пришлось провозиться две недели, и она иногда ныла по ночам и была очень чувствительна, а теперь, кажется, командир отморозил ее. Идти становилось труднее, боль усиливалась, и командир хромал все больше и больше. Ветер бросал в лицо колючую ледяную пыль, хлестал по глазам, забивал нос и рот. Командир шел не останавливаясь. Из сумятицы снежных хлопьев навстречу командиру вышел, также ведя в поводу свою лошадь, его помощник. — Что там? — хрипло сказал командир. Голос не слушался, голос был слишком тихим. Командир крикнул: — Степан, почему стал? Почему стал отряд, спрашиваю? Степан остановился, отворачиваясь от снежного вихря и закрывая лицо руками. Он молчал, пока командир не подошел вплотную к нему. — Ну? Что там у тебя? — Нет дороги. Лавиной завалило тропу. Или не туда пришли? — Пришли туда. Дорога здесь. Пошел. И командир двинулся вперед, толкнув Степана плечом. Голова отряда остановилась недалеко от гребня перевала. Кучка бойцов с лошадьми молча стояла перед краем пропасти. В пропасть обрывалась тропа. Бойцы расступились, и командир встал на самом краю. Дна пропасти не было видно. Верхушки острых скал торчали далеко внизу, а еще ниже клубились облака. В пропасть спускалась крутая, покрытая снегом осыпь. Здесь лавина пересекла и разрушила тропу. Вначале идти было еще можно, хоть и очень было круто. Но из-за снежного тумана видно было только метра два в ширину осыпи. Что было дальше? Есть ли путь дальше? Какой ширины осыпь? Снег застилал все. Рискнуть пойти? Все прекрасно понимали, что если пути нет, то повернуться и пройти назад по такой крутизне не удастся. Ветер гнал вниз, в пропасть, снежные вихри. Командир с минуту стоял молча, потом шагнул вперед, соскочил с края тропы на осыпь, пошатнулся и стал крепко. Бойцы придвинулись ближе. Ветер свистел. Никто не произнес ни слова. Командир потянул повод. Жеребец, упираясь, пригнул голову, понюхал снег и шагнул с тропы. Передние ноги его сразу скользнули вниз, камни и снег покатились в пропасть. Жеребец сел на круп. Командир почти лег, упираясь ногами и изо всех сил натягивая повод. На несколько секунд лошадь и человек застыли неподвижно. Казалось, вот-вот оба они сорвутся в пропасть. Но конь, осторожно передвигая передними ногами, уперся копытами и медленно выпрямил задние ноги. Тогда выпрямился и командир. Стоявшие на краю тропы из-за ветра не слышали, как он подбадривал коня. Он называл его ласковыми именами. Потом командир, осторожно ступая, пригнувшись, пошел вперед, и конь пошел за ним. Они скрылись в снежном тумане. Бойцы ждали у конца тропы. Степан Лобов, помощник командира, протиснулся вперед и остановился, тяжело дыша. Он пристально всматривался в снежную завесу и ничего не мог разглядеть. «Пропал командир», — подумал Степан и сказал так громко, что слышали бойцы: — Шурка… Шурка… Бойцы молчали. Потом ветер донес спокойный голос командира. — Где ж вы? — кричал командир. — Скоро вы там? Красноармеец Суббота первый спрыгнул с тропы на осыпь. — Скорее! — кричал командир. Бойцы двинулись через осыпь. Осыпь была шириною в двадцать метров. Лобов прошел последним. Он следил, как переправляется отряд, и торопил отстающих. Недалеко за осыпью был гребень перевала. По ту сторону ветер был слабее и снег меньше. Отряд спускался. Люди двигались почти бегом, задыхаясь, падая, обгоняя друг друга. Всем хотелось поскорее спуститься, разогреться в быстром движении. Командира Лобов догнал, когда уже сели в седла. Командир, бросив поводья, ехал впереди отряда. Его жеребец сам выбирал дорогу. — Коршунов! — позвал Лобов, погоняя лошадь. — Шурка! Командир ничего не ответил. Лобов въехал выше на склон и поравнялся с ним. Командир спал, прямо сидя в седле.2
Еще утром Коршунов предсказывал, что этот перевал последний, что к вечеру, после перевала, будет встреча с басмачами, и Коршунов не ошибся. Уже на склоне перевала головной дозор заметил следы лошадей и конский помет. Следы были свежие, и по ним было видно, что лошади шли медленно, пятидневным бегством басмачи замучили своих лошадей. Но пограничники те же пять дней гнались за бандой, и лошади пограничников устали не меньше. Коршунов остановил отряд у подножья перевала. Люди выглядели плохо. Почти все пострадали от мороза. На красных обветренных лицах белели отмороженные пятна. От усталости и голода лица бойцов осунулись и похудели. Казалось, многие едва держатся в седлах. Коршунов сказал бойцам: — Банда от нас уходит, товарищи. Банда уходит за теми холмами. Бойцы молчали. Лошади стояли, понуро опустив головы. — Если мы догоним их за теми холмами, мы возьмем банду, товарищи. Если не догоним — басмачи уйдут за кордон. Никто ничего не ответил. Коршунов помолчал. Потом он тронул коня и сказал, отъезжая на фланг: — Товарищ Лобов, возьмете первое отделение. На рысях отойдя за холмы, остано́вите банду. — Коршунов говорил отрывисто. — Не сближаясь, спе́шите бойцов. Перестрелкой заде́ржите банду. Исполняйте. — Первое отделение, за мной! — весело крикнул Лобов. — Рысью ма-арш! — пропел он. Первое отделение пошло рысью. Лобов ехал впереди. Он сидел пригнувшись, как бы летя вперед. Его измученная лошадь едва шла. Коршунов проводил глазами первое отделение, пока всадники не скрылись за ближними холмами. «Плохая рысь, — подумал Коршунов. — Никуда лошади не годятся». Он закутался в бурку и шагом поехал впереди отряда. Отряд стал подыматься на холм. Невысокие холмы, как застывшие волны, шли один за другим от подножья перевала до равнины. На холмах снега не было. Коричневая жесткая трава покрывала холмы. Горы окружали равнину, и снег лежал на вершинах. Облака заволокли небо. Синие грозовые тучи низко ползли, цепляясь краями за горы. Второй, более высокий слой облаков был светлее. Еще выше, в разрывах между облаками, виднелось небо. За облаками садилось солнце. Куски неба были розовые, и солнечные лучи, кое-где пробиваясь сквозь толщу туч, окрашивали розовым снег на вершинах. Горы вдали были синими там, где на них падала тень от облаков, и зеленовато-серыми там, где их освещало солнце. Отряд ехал шагом. — Откуда он знает про банду? — шепотом спросил украинца Субботу ехавший рядом молодой красноармеец. Суббота был старослужащим и слыл неоспоримым авторитетом среди молодых бойцов. Суббота гордился этим и считал для себя невозможным не знать чего-либо, но сейчас, прекрасно понимая вопрос молодого красноармейца, он не знал, что ответить, и поэтому сделал вид, будто не понял вопроса. — Чего? — переспросил он. — Откуда он знает про банду, что она там, за теми холмами? Суббота молчал. Он никак не мог придумать, что ответить. Он знал о безошибочном чутье командира Коршунова, несколько раз сам был свидетелем того, как точно сбывались коршуновские предсказания, и сегодня был уверен, что Коршунов прав, но почему угадывает командир, Суббота не знал. Признаться же в своем незнании молодому красноармейцу Суббота никак не мог. Поэтому он хотел просто ничего не ответить, но молодой не унимался. — Скажи, товарищ Суббота? Тогда Суббота придал лицу своему многозначительное выражение и, нагнувшись к молодому красноармейцу, произнес таинственным шепотом: — Оперативные данные имеет… — Вот оно что, — сказал молодой красноармеец. Он ничего не понял и с уважением посмотрел на Субботу. Суббота ехал, глядя вперед и мрачно нахмурясь. За грядой холмов спереди и справа, по движению отряда, затрещали выстрелы. Сначала звук был совсем не громкий, похожий на звук рвущегося полотна. Но горное эхо подхватило этот звук, разнесло его по ущельям и усилило до грохота. Бойцы подхлестнули лошадей, и лошади пошли рысью. Тогда командир повернул своего коня навстречу отряду и поднял нагайку. — Стоять! — закричал он. — Почему рысью без команды?.. Красноармейцы осаживали лошадей, теснились, строя фронт на командира. В развевающейся бурке, на своем вороном коне, Коршунов крутился перед фронтом. — Все испортить хотите? — говорил он, и спокойный хриплый его голос слышали все бойцы. — Хотите последние силы у коней вымотать и в атаку шагом идти? Шагом рубиться хотите? Суббота не выдержал. — Товарищ командир! Но ведь банда там! За теми ж холмами! Ведь бой… Выстрелы гремели, оглушительный треск рассыпался в горах, и, казалось, бой действительно совсем близко, совсем рядом, за ближними холмами. Коршунов рванул повод и повернулся к Субботе. — Почему разговоры? — сказал он совсем тихо. — Почему, спрашиваю, разговоры, Суббота? Суббота молчал. — Была команда — шагом! Коршунов ударил коня нагайкой, заставил его сделать несколько коротких прыжков и, сдержав его, повел шагом. Возбужденный неожиданным ударом, конь слегка приплясывал, мотал шеей и шевелил ушами. Отряд шагом взошел на вершину холма. С вершины открылся вид на другую гряду. Выстрелы гремели все чаще и чаще. Теперь казалось, что бой идет сразу за этой, новой грядой холмов. Дробно ударила пулеметная очередь. Коршунов вел отряд шагом. План Коршунова был очень простой: пока отделение Лобова перестреливается с бандой, Коршунов с основным отрядом приблизится к басмачам. Важно было возможно больше сократить расстояние для решительного удара. Важно было сберечь остаток сил у лошадей, чтобы атака была достаточно быстрой. Маневр этот был еще и тем хорош, что усталые бойцы, слыша перестрелку, еще до столкновения с басмачами пришли в то, хорошо известное Коршунову, боевое состояние, состояние крайне нервного напряжения, при котором люди забывают о физической усталости. При этом, так как не было у бойцов ощущения опасности, боевое состояние выражалось как бы в чистом виде, воплощалось в стремлении скорей пустить лошадей, скорей увидеть врага, скорей столкнуться с врагом. Коршунов понимал, что чем больше он сдерживает бойцов, тем сильнее овладевает ими это «боевое состояние», тем сильнее будет удар, когда командир наконец скомандует атаку. Вряд ли Коршунов смог бы тогда объяснить все это достаточно точно. Посылая Лобова и обдумывая весь план, он действовал, руководствуясь своим опытом в тактике трудной, часто неравной, войны с басмачами, войны в горах, в которой он участвовал уже несколько лет. Война эта воспитала в нем особые качества, особые навыки. Посылая Лобова, он полагал, что Лобов прекрасно понимает весь план боя и правильно выполнит возложенную на него задачу. Особой опасности для отделения Лобова не было, так как Лобов должен был держаться в отдалении, не лезть под удар, а только отвлекать внимание банды. Басмачи же не смогли бы сразу понять, каковы силы Лобова, и наверное предполагали бы, что это и есть весь отряд пограничников. Поэтому они не решились бы атаковать Лобова. Так думал Коршунов, и план его, при всей простоте, был очень правилен, если бы все произошло так, как он предполагал сначала. Но все произошло иначе. Отряд спустился во впадину между холмами, когда выстрелы вдруг смолкли. В отдалении прокатилось последнее эхо, и стало тихо. После грохота перестрелки внезапная тишина показалась странной. Коршунов даже остановил коня, прислушиваясь и не понимая, в чем дело, и весь отряд остановился за ним. Несколько минут продолжалась тишина. Фыркали лошади. Звякала сбруя. Потом за холмами раздался негромкий крик. Крик подхватило эхо. Коротко ударила и захлебнулась пулеметная очередь, и снова прокатился крик. Как бы отвечая ему, тонко завизжали какие-то голоса и щелкнуло несколько отдельных выстрелов. Коршунов ударил коня нагайкой и галопом выскочил на вершину холма. Бойцы, не слыша команды, остались стоять на месте. Все не отрываясь смотрели, как, низко пригнувшись в седле и погоняя лошадь, скачет на холм командир. Красноармейцы вытягивались, вставали на стременах. Командир доскакал до вершины. Его фигура в бурке и кубанке на стройном вороном коне застыла неподвижно на фоне синих облаков. Он, согнувшись, смотрел в бинокль в ту сторону холма. Потом он выпрямился и опустил бинокль. — Рысью ма-арш! — крикнул он не оборачиваясь. Отряд рванулся. Лошадям передалось возбуждение всадников. Лошади бежали из последних сил, и всадники сдерживали их, не пуская в галоп. С вершины холма Коршунов видел долину и все, что происходило там. Справа вниз, по склону горы, скакали пограничники. Далеко впереди остальных Коршунов увидел крупного белого жеребца и на нем Степана Лобова. Лобов сидел, как всегда, наклонясь вперед и откинув в сторону руку с обнаженным клинком. Коршунову показалось, будто во всей фигуре Лобова было что-то похожее не на полет, а на падение. — Не выдержал, черт… — сквозь зубы сказал Коршунов. Прямо навстречу Лобову, поперек пересекая долину, скакали басмачи. Их было раза в три больше, чем бойцов в отделении Лобова. Они визжали, пели боевую молитву и стреляли в воздух. Весь этот шум перекрывало негромкое «ура» пограничников. Лошади пограничников были свежее, шли лучше, чем лошади басмачей. К тому же пограничники скакали вниз по уклону, а басмачи вверх. Поэтому-то Лобов и рассчитывал смять банду. Но снизу, от Лобова, не было видно то, что видел в бинокль со своего холма Коршунов. Коршунов видел, как слева из ущелья выезжает в долину вторая, еще большая часть банды. Коршунов видел, как эти басмачи выскочили из ущелья, как передние из них уже поднялись на невысокие холмы у левого края долины и как, отчаянно нахлестывая лошадей, они быстро приближались к центру долины, к тому месту, где Лобов должен был столкнуться с первой частью банды. Из ущелья появлялись все новые и новые всадники. Отделению Лобова угрожала гибель. Коршунов скомандовал отряду. Пока отряд рысью подымался на холм, Коршунов видел, как гонят лошадей басмачи и как плохо идут их лошади. Коршунов решил, идя на выручку Лобову, до последнего момента все-таки беречь лошадей своего отряда.3
Все время после перехода через пропасть Лобову было не по себе. Он сознавал, что просто струсил, не решился рискнуть и двинуться через пропасть. Если бы Коршунов начал дразнить его, было бы легче. Можно было бы превратить все в шутку или огрызнуться. Было бы легче, и скорее забылось бы, прошло неприятное ощущение сознания собственной трусости. Тем более, что Лобов вовсе не был трусом, и все это знали, и сам Лобов это знал. Лобов ехал в хвосте отряда, один, ни на кого не глядя, понуро опустив голову. Услышав приказание Коршунова, Лобов решил, что Коршунов нарочно посылает его с передовым отрядом, чтобы дать ему возможность отличиться, загладить неприятное впечатление после случая с переправой через пропасть. Отъезжая впереди первого отделения, Лобов уже издали оглянулся на Коршунова и с трудом сдержался, чтобы не окликнуть его, не крикнуть ему на прощание ласковые слова благодарности. Отделение Лобова перевалило через три, идущие друг за другом, ряда холмов и заметило банду. Басмачи ехали по противоположному краю долины. Их было человек сто, а может быть, еще больше. Они двигались плотной кучей. Впереди выделялась небольшая группа всадников, очевидно курбаши[32] банды. Лобов остановился на склоне горы, спе́шил бойцов и, отведя лошадей под прикрытие, скомандовал беглый огонь по банде. Басмачи были застигнуты врасплох. Они рассыпались по долине. Раненые лошади, лошади с убитыми и ранеными всадниками, стреляющие в воздух, курбаши, сзывающие своих людей, — все смешалось в огромном беспорядочном клубке. Раньше чем басмачи поняли, откуда стреляют и как нужно обороняться, многие из них попали под пули пограничников. Потом банда спешилась и неровной длинной цепью залегла у края долины. Лобов не стрелял. Лежа за невысоким камнем, он смотрел в бинокль. Долина, поросшая, как и холмы, коричневой невысокой травой, понижалась в ту сторону, где по рваной, изогнутой линии вспыхивали синеватые дымки выстрелов басмачей. За цепью басмачей был невысокий обрыв. Там текла река. Горы за рекой были каменистые, кое-где поросшие кустарником. Со всех других сторон долина была окружена холмами и покатыми склонами гор. В глубине, слева от Лобова, долина сужалась, переходила в узкое ущелье. Вход в ущелье был скрыт за холмами. Облака сгустились еще больше, вершины гор были в тумане, и свет был синим от низких синих туч. Лобов думал о том, что лучшего места для боя нельзя было желать, и о том, какой молодчина Шурка Коршунов, и как здорово он угадал все намерения банды и куда банда пойдет, и как здорово Шурка Коршунов умеет различать следы и узнавать все по следам, и как точно Шурка Коршунов рассчитал, где они настигнут банду, и какой молодец и хороший парень Шурка Коршунов. Лобов всегда восхищался Коршуновым и слегка завидовал ему. Лобову хотелось быть таким, как Коршунов, хотелось подражать ему даже в мелких привычках, в походке, в манере говорить. Пограничники стреляли редко, целились неторопливо и тщательно и часто попадали. Басмачи стреляли быстро, почти не целясь, и их выстрелы не причиняли пограничникам вреда. Перестрелка продолжалась уже минут двадцать. Лобов давно уже думал об атаке. Он отогнал эти мысли, вспоминал точное приказание Коршунова, старался думать о другом и несколько раз принимался стрелять. Хоть бы в атаку пошли басмачи! Но басмачи, очевидно, не решались наступать, не зная, каковы силы пограничников. Расчет Коршунова был правилен. Лобов волновался все больше и больше. Терять такую возможность захватить всю банду, терять такую возможность атаковать и, вместо этого, перестреливаться, ничем не рискуя и не принося особого вреда врагу, и ждать чего-то… Лобов вдруг приподнялся за своим камнем и опустил винтовку. От лихорадочного волнения он побледнел, и у него похолодели кончики пальцев. — Стемнеет! — громко сказал он. — Стемнеет, и банда уйдет в темноте. Лобов пополз за камнями. Это ж ясно! Чего же ждать! Если Лобов захватит банду, то не все ли равно, какое было приказание и как Лобов его выполнял? А если Лобов не захватит банды? Нет, конечно, все верно; конечно, нужно поднимать бойцов, и лошади отдохнули, и вниз с холма, под уклон, и доскакать и рубиться. Басмачи не выносят рубки. Скорее, скорее, пока не стемнело. Скорее, пока не подошел отряд Коршунова. Что? Лобов — трус? Степан Лобов, Степан Лобов, ты получил приказание командира. Что ты делаешь, Степан Лобов? Скорее, пока не стемнело. Пограничники уже больше не стреляют, пограничники ползут за камнями к оврагу, где укрыты кони. Кто им приказал? Кто изменил приказание? Лобов. Лобов изменил. Степан Лобов изменил приказание. Скорее, скорее, скорее, скорее! — По ко-ням! Степка Лобов пошел в атаку. Вниз с холма, в долину, на басмачей. — Шашки к бою! — Какой голос! Какой голос у Степана Лобова! Степан Лобов пошел в атаку. Перестали стрелять, сбегаются в кучу, садятся на лошадей. Бежать? Им некуда бежать. Сзади река. Скорее, скорее! Кони устали, кони еле идут, кони скачут из последних сил, кони выдержат еще немного. Скорее! Ничего, уже близко, уже совсем близко, уже видны лица басмачей. Ура! Они тоже что-то кричат и стреляют. Они стреляют в воздух, они ни умеют хорошо стрелять. Степан Лобов пошел в атаку. Скорее, пока не стемнело, пока есть силы у лошадей, пока есть силы… Упал Охрименко! Упал красноармеец Охрименко Степан. Тоже Степан. Теперь близко! Что это? Откуда слева басмачи? Почему слева? Их не было слева. Еще, еще, еще. Лобов ошибся. Ошибся? Ничего! Пробьемся! Только скорее! Ничего, ничего. Вот этот худой, в распахнутом халате, вот этот, этот самый. Что-то кричит. Что он кричит? Теперь близко… Лобов поднял руку с клинком и совсем низко пригнулся, лег на шею коня. Он видел слева, на склоне холма, толпу всадников. Толпа басмачей приближалась слева, и прямо на пограничников скакали басмачи. Лобов хорошо видел высокого худого басмача в развевающемся халате с кривым клычом[33] в руке. Худой басмач был ближе всех. Он сначала что-то кричал, широко раскрывая рот, потом закрыл рот, перехватил клыч острием вниз и левой рукой вытащил из-за пояса длинный пистолет. У худого басмача было уродливое, обезьянье лицо. Лобов наскакал на худого басмача и со всей силой опустил клинок, но клинок свистнул в воздухе, и Лобову показалось, будто что-то тяжелое и мягкое ударило его по голове, сверху по голове, и стало красно в глазах, все стало сразу красным. Больше Лобов ничего не видел и не чувствовал.4
Коршунов видел, как Лобов, вырвавшись вперед, первым врубился в толпу басмачей. Черная кожанка и красноармейский шлем Лобова скрылись среди халатов и мохнатых шапок. Высоко над головами взлетела и опустилась шашка. Коршунов вынул клинок и обернулся. Басмачи из ущелья приближались. Они были ближе к центру долины, чем отряд Коршунова, но лошади их совершенно выдохлись. Пока пограничники шли рысью, басмачи гнали галопом. — Шашки к бою! — крикнул Коршунов. — Марш-марш! Пограничники пустили лошадей. Боевые кони чуяли рубку. Коршунов, летя впереди отряда, видел, как справа и слева скакали красноармейцы. Возбуждение преобразило их измученные, обмороженные лица. Они молчали. Лошади стлались по земле, обгоняли друг друга. Привстав на стременах, подняв клинки, скакали пограничники. На секунду Коршунову все они показались странно одинаковыми, будто это не разные люди, а одна лошадь и один всадник, повторенные десятки раз. «Хорошо идут», — отчетливо подумал Коршунов. Пограничники опередили басмачей из ущелья, налетели на басмачей, бившихся с отделением Лобова и смяли их. Несколько минут ничего не было видно. Сшибаясь, лошади взрывали копытами песчаную землю, и пыль смешалась с дымом выстрелов. Коршунов не рубил, шашку держал почти опустив и руку прижимал к бедру. Его конь налетел на какую-то рыжую лошадь, и лошадь упала и исчезла в пыли. Потом, совсем близко, справа, Коршунов увидел оскаленную морду лошади и голову басмача в желтой меховой шапке. У басмача были маленькие, красные, косые глазки. Коршунов наотмашь ударил шашкой. Жеребец вынес Коршунова и скакал прямо вперед по долине. Коршунов оглянулся и снова увидел с обеих сторон фигуры скачущих красноармейцев. Впереди убегали басмачи. Они поворачивали лошадей и гнали к ущелью. Пограничники настигали их. Коршунов видел, как красноармеец подскакал к басмачу, басмач выстрелил, промахнулся, красноармеец коротко махнул шашкой, и басмач упал на шею своей лошади. Красноармеец несся дальше. Другой басмач остановился, и бросив ружье, поднял вверх руки, и красноармеец пролетел мимо него, в воздухе махнув клинком. Басмачи сдавались. Только горсточка, ничтожная часть банды успела уйти в ущелье. Коршунов сдержал своего жеребца и шагом поехал обратно, к середине долины. Спе́шившиеся пограничники с винтовками наперевес окружали толпу басмачей. Иванов, командир взвода, обходил басмачей и обыскивал, отбирая у них оружие. Сваленные в кучу, лежали рядом старинные мултуки[34] и английские винтовки, клычи и маузеры. Со всех сторон долины небольшими группами съезжались пограничники, ведя пленных. Лошади шли очень медленно, низко опустив головы. Усталые люди сонно покачивались в седлах. У победителей был почти такой же измученный вид, как у побежденных. Пленные басмачи садились на корточки, прямо на землю. Они молчали. Раненым пограничники давали бинты. Среди пограничников тоже были раненые. Суббота перевязывал руку молодому красноармейцу. У самого Субботы была завязана голова. Проезжая мимо, Коршунов спросил: — Сильно, товарищ Суббота? — Да нет же, — улыбнулся Суббота. Лицо его было перепачкано, кровь засохла на скулах. Коршунов подъехал к Иванову. — Товарищ командир… — начал Иванов. — Где Лобов? — перебил Коршунов. Иванов молчал. — Где Лобов? — Коршунов оглядывался по сторонам. — Товарищ командир, товарищ Лобов… Коршунов вдруг почувствовал такую усталость, что испугался, сможет ли сам слезть с лошади. С трудом он вынул ногу из стремени; напрягая все силы, приподнялся и тяжело, почти падая, опустился на землю. — Где он лежит, товарищ Иванов? — сказал Коршунов и сам не узнал своего голоса.5
Убитых пограничников было трое: красноармеец Петров Николай; красноармеец Охрименко Степан; помкомандира мангруппы[35] Лобов Степан. Три тела лежали рядом на склоне холма. Лобов лежал посредине. Его голова была повернута направо, и левая щека лежала на камне. Он был без шапки. На затылке волосы слипались от крови. Лицо Лобова было спокойно. Коршунов нагнулся и притронулся к правой руке Лобова. Рука была сжата в кулак. Рука была совсем холодная и показалась Коршунову странно твердой, словно каменной. Коршунов выпрямился и, кутаясь в бурку, быстро пошел прочь. Не оборачиваясь, он сказал Иванову: — Документы и вещи убитых соберете и передадите мне. Он думал о Лобове. Никак не укладывалось в сознании, что нет больше Степана Лобова. Нужно заставить себя привыкнуть к тому, что Лобов убит. А он еще хотел выругать Лобова за нарушение приказания, за атаку… Нет Степана. Убит Степан. Коршунов направился к тому месту, где сидели пленные басмачи. Шашка путалась в ногах. Он короче подтянул ремень и придержал шашку. Нога болела. Коршунов сильно хромал. Басмачи встали, когда он подошел. Коршунов сел на землю, и басмачи тоже сели. Подошел Иванов, передал Коршунову пачку документов и доложил об отданных приказаниях. Все было в порядке. Дозоры расставлены, лошадям дан корм. Бойцы раскладывали костры. В долине отряд оставался на ночь. Сверху в пачке документов лежала красная книжечка — партийный билет Степана Лобова. Коршунов обернулся к басмачам: — Кто из вас Аильчинов Асан? Басмачи молчали. — Курбаши пусть назовутся сами. — Коршунов говорил по-киргизски. Басмачи молчали. — Исакеев Кадрахун, Аильчинов Асан, Кулубеков Джамболот, — Коршунов медленно называл имена вожаков банды. Глухая злоба росла в нем. Чтобы сдержаться, он нарочно сильно двинул больной ногой и сморщился от боли. Басмачи молчали. Вдруг из-за спин сидящих впереди встал киргиз в изодранном халате, без шапки, с завязанной головой. Ему было лет двадцать пять. Красивое круглое лицо его было обезображено: у него не было левого глаза, и левую щеку пересекал широкий шрам. Часовой пограничник поднял винтовку и придвинулся к нему. — Оставьте, — сказал Коршунов. — Пусть говорит, — и прибавил по-киргизски: — Выходи вперед и говори, джигит. Киргиз, ни на кого не глядя, подошел к Коршунову и заговорил. Он выкрикивал короткие, отрывистые фразы: — Я скажу. Мой отец — батрак. Мой дедушка — батрак. Я, Алы, тоже батрак. Я работал на баев всю мою жизнь, и я голодал всю мою жизнь. Смотри: бай камчой[36] выбил мой глаз только за то, что я взял молоко у его любимой кобылы. И вот бай сказал: русский — враг, пограничник — враг. Бай дал винтовку, бай дал коня, бай сказал: «Алы больше не батрак. Алы джигит». Я и он, и он, и он, и еще много бедняков поверили баям. Баи нас обманули. Я не джигит, — я батрак, как и был. Только теперь баю нужно, чтоб я не скот его пас, а чтоб я воевал. Я батрак на байской войне, потому что русский, пограничник, ты — враг не мне, а баю. Коршунов сидел не двигаясь. — Я знаю тебя, — кричал киргиз. Рваный халат его развевался. — Я много слышал про тебя. Ты — Коршун-командир. Коршун-командир — хороший командир, хороший друг. Так говорят киргизы в селеньях. Я слышал. Сегодня ты победил баев. Коршун-командир — хороший командир, хороший солдат. Я видел. Вот они сидят и боятся сказать свое имя, боятся посмотреть прямо тебе в глаза. Они трусы. Они воры. Смотри, Коршун-командир, вот они… Киргиз резко повернулся и плюнул в лицо одному из басмачей. — Вот это Исакеев Кадрахун! Коршунов встал. — Хорошо, — негромко сказал он, — где остальные? Тогда встал еще один киргиз. Он был худой, высокого роста, с длинным туловищем и длинными, как у обезьяны, руками. Сухое лицо его с резко очерченными скулами, с нависшим лбом и с косыми, широко расставленными глазами было уродливо. Ему было на вид лет сорок пять. Он спокойно посмотрел на Коршунова и заговорил неторопливо и сдержанно. Он говорил по-русски, почти чисто выговаривая слова. — Здравствуй, Коршунов. Меня зовут Аильчинов Асан. Здравствуй. Этот кричал, что я боюсь тебя. Он врал. Я никого не боюсь, и тебя я тоже не боюсь. Я много воевал с кзыл-аскерами[37], и меня никто не мог взять. Твои товарищи не знают, как воевать в наших горах, и я уходил от них и смеялся над ними. Сегодня ты победил меня, Коршунов. Ты в два раза моложе меня или, может быть, больше чем в два раза. Я хотел бы иметь сына такого же джигита, как ты. Теперь я прошу тебя накормить меня, потому что ты так быстро шел за нами, что мы не могли остановиться, и я голоден. Потом я буду еще говорить с тобой. Я могу сообщить много важного тебе и твоему начальнику. Ты передашь твоему начальнику, что я согласен на мир с вами. Мы вместе выработаем условия. Еще я прошу тебя поместить меня отдельно от них, потому что глупые люди злы на меня, и они могут убить меня ночью. — Здравствуйте, Аильчинов, — по-киргизски ответил Коршунов. — Ты напрасно говоришь о мире. Побежденный должен просить пощады, а не предлагать мир. Сегодня я взял тебя. Завтра мои товарищи возьмут твоих друзей. Я тоже не умел воевать в горах. Твои друзья и ты научили меня. Что ж, спасибо! Ты просишь есть? Ты получишь еду вместе со всеми другими. Ты просишь поместить тебя отдельно от твоих джигитов, потому что ты боишься их? Тебя никто не тронет, мои красноармейцы умеют хорошо стеречь. А помещать тебя отдельно незачем. Ты не лучше других. Скорее ты хуже других. Аильчинов молчал. — Хорошо, — снова по-русски заговорил он, — тогда скажи мне, Коршунов, что со мной будет дальше? — Тебя будутсудить. — Меня и всех их? — Тебя наверное. — И потом? — Потом тебя расстреляют. Коршунов задыхался от злобы. Никогда еще никого он не ненавидел так сильно, как этого басмача. Почему-то Коршунов подумал о том, что именно Аильчинов убил Степана. — Еще прошу тебя, — сказал Аильчинов, — будь добр, Коршунов, дай мне папиросу. Пожалуйста. — У меня нет папирос. Я не курю.ВОРОНОЙ
Жеребенок родился ночью. Ночью было темно, облака плыли низко над горами, недолго шел снег, и земля была белая и холодная. Мать лежала, и снег растаял под ней. Возле нее было тепло, но жеребенок дрожал и прижимался к ее раздутому животу. Утром солнце осветило сначала только небо. Солнце было за горами, его не было видно. Горы были темные, долина была в тени, и снег не таял. Небо стало зеленое, потом порозовело, потом стало голубым, солнце взошло из-за вершины горы, и снег на вершине засверкал. Внизу, в долине, снег растаял. Трава стала мокрой. Капельки воды висели на травинках. Лошади ели траву. Потом солнце поднялось высоко, и стало жарко. Табун перешел ближе к реке. Жеребенок встал, и мать встала. Она облизывала жеребенка. Ноги у жеребенка были слабые. Он шатался. В полдень приехали люди. Их было двое: один — старик в мохнатой шапке и рваном халате, другой — молодой, в войлочной белой шапке и в овчинном тулупе. Молодой пел песню. Он пел громко, и еще издали слышно было песню, сначала неясно, потом все отчетливей и отчетливей. Мать услышала песню, подняла голову и заржала. Люди подъехали к ней и к жеребенку. Старик ехал на пегой старой кобыле. Как только он остановился, кобыла опустила голову и начала есть траву. Молодой ехал на вороном жеребце. Жеребец заржал. Он ответил матери жеребенка. Когда люди подъехали, мать обнюхала морду жеребца, жеребец фыркнул, отвернулся и снова заржал. Тогда молодой человек перестал петь и засмеялся. Потом люди слезли и несколько раз обошли вокруг матери и жеребенка. Старик сказал что-то, и молодой снова засмеялся и погладил жеребенка. Жеребенок был почти слепой, он видел очень плохо. Когда человек коснулся его, жеребенок метнулся в сторону, не удержался на ногах и упал на передние колени. Жеребенок был вороной, только на лбу у него была маленькая белая метина и у переднего левого копыта было белое пятно. Когда жеребенок подрос, его отняли от матери. С утра люди ловили его и других жеребят табуна и привязывали их. В землю были врыты два кола, между кольями натянута длинная веревка. К длинной веревке привязаны коротенькие петли. Петель этих много. В каждую петлю просовывали голову жеребенка, и жеребята целый день оставались на этой привязи на небольшом расстоянии друг от друга. Целый день жеребята лежали или стояли, или топтались на месте. Когда вороного жеребенка привязали в первый раз, он рвался, бил задними ногами и ржал. К вечеру он выбился из сил, лег на траву и лежал не шевелясь, как мертвый. Солнце было совсем низко, когда он услышал топот табуна и отдаленное ржание. Он пошевелил ушами. Мухи, облепившие его голову, взлетели с жужжанием. Снова жеребенок услышал ржание. Жеребенок вскочил на ноги, поднял голову, прислушался и заржал в ответ. Табун шел по долине, и легкое облако пыли над лошадьми казалось сиреневым в лучах заходящего солнца. Мать шла впереди табуна и ржала, звала вороного жеребенка. Жеребенок потянул веревку, веревка врезалась в его шею. Мать подошла и понюхала жеребенка. Губы у матери были мягкие. Жеребенок, нетерпеливо перебирая ногами, потянулся сосать. Он был голоден. У матери было много молока. Но едва он почувствовал, что молоко наполняет его рот, что запах молока проникает ему в ноздри, как люди оттащили его от матери. Люди приехали вместе с табуном. Жеребята отсасывали молоко, молоко текло, и люди доили кобыл. Молоко нужно было людям для кумыса. Один раз вечером, когда табун уже вернулся, прискакало много людей. Впереди ехал старик. Он был одет в хороший халат, а поверх халата на нем была шуба. Шапка на нем была из сурков. Старик подъехал к жеребятам. Молодой пастух, который всегда пел песни, показывал жеребят старику, и если старик его спрашивал, он кланялся, раньше чем ответить. Старик был бай, хозяин табуна. Вороной жеребенок был привязан отдельно от других, потому что он бил задом и кусался. Когда старик посмотрел всех жеребят, молодой пастух подошел к вороному и, поклонившись, что-то сказал старику. Старик вдруг закричал на молодого пастуха и замахнулся камчой. Молодой пастух побледнел. Тогда старик крикнул еще что-то и ударил камчой. Камча свистнула, и жеребенок шарахнулся. На бледной щеке молодого пастуха вспух красный рубец, и кровь потекла из левого глаза. Молодой пастух упал на землю, схватился руками за лицо, и кровь текла между пальцами. Старик ускакал, с места пустив лошадь галопом. Молодой пастух лежал на земле. Спина его дрожала. Жеребенок понюхал руки пастуха и лизнул их. Кровь была солоноватая на вкус. После этого вечера вороного жеребенка не привязывали вместе с другими. Вороной жеребенок ходил с табуном и пил молока сколько хотел, и его мать больше не доили. Вороной жеребенок рос быстро, грудь его становилась широкой, спина окрепла и шерсть лоснилась. Молодой пастух никогда больше не пел. Левый глаз его вытек, и на щеке остался шрам. Полтора года ходил вороной жеребенок с табуном, и ни разу на него не надевали седло. Весной, когда ему было почти два года, одноглазый пастух поймал его арканом и привязал к дереву. Вороной бил землю копытами, фыркал и мотал головой. Потом на своей спине он почувствовал что-то твердое. Он хотел сбросить седло, лягался и прыгал, но ремни туго стянули его живот, и седло не сваливалось. Когда он вдоволь набесился, одноглазый пастух отвязал его от дерева и заставил побегать по кругу. Аркан по-прежнему мешал вороному убежать, и если вороной упрямился, пастух бил его камчой. Он бил не сильно, но после каждого удара вороной дрожал и храпел, скаля зубы. Несколько дней подряд одноглазый пастух приучал вороного к седлу. Через неделю вороной давал себя седлать спокойно. Тогда одноглазый пастух попробовал сесть на вороного. Конь сбросил его, но пастух ловко упал на ноги и снова вскочил в седло. Теперь он удержался, и вороной понес. Закинув голову, кося налившимися кровью глазами, он мчался не разбирая дороги. Одноглазый пастух крепко держал поводья, сильно сжимал коленями бока вороного и смеялся. Вороной проскакал вдоль всей равнины и несся по ущелью. Некованые копыта мягко ударяли в камни. Одноглазый пастух по-прежнему смеялся и не сдерживал коня. Поздно вечером они вернулись к стойбищу. Вороной, весь в мыле, шел шагом, опустив голову и устало фыркая. Одноглазый пастух спокойно сидел в седле и помахивал камчой. Кончик камчи касался бока вороного, и вороной вздрагивал при каждом прикосновении витого ремешка. Потом еще много раз одноглазый пастух ездил на вороном. Теперь вороной слушался его. Поводья и колени всадника отдавали точные приказания, и конь точно выполнял их. Лишний жир сошел с вороного. Теперь он не покрывался мыльной пеной после скачки и не уставал. Осенью снова приехал бай и с ним много джигитов, несколько дней они ели баранину и пили спирт. Потом устроили байгу. Одноглазый пастух скакал на вороном, и вороной легко обогнал других лошадей. Бай был доволен. После скачки он внимательно осмотрел вороного, и все лицо его сморщилось от улыбки. Бай похвалил одноглазого пастуха и подарил ему жирного барана. Барана пастух выменял на полбутылки спирта и напился. Ночью он пел песни и плакал, пока не уснул, уткнувшись лицом в землю. Вороного жеребца бай отдал своему сыну. Сын бая был человек большого роста, худой и очень некрасивый. Около года он ездил на вороном. Лошадей сын бая не любил. Ему все равно было, на какой лошади ездить. Он много пил и часто пьяный зря бил вороного тяжелой камчой. Старый бай умер, и его сын унаследовал все имущество. Сыну было сорок лет, но его называли «молодой бай». Советская власть боролась с байством, и молодой бай ушел в горы и увел в горы свои стада. Пограничники гнались за ним, но он ушел. Он собрал банду и вооружил своих пастухов. К нему приезжали люди, непохожие на купцов. Этим людям он продавал скот. Эти люди привозили ему оружие. У молодого бая было уродливое лицо, некрасивое тело и женщины не любили его. Но он любил женщин, у него было четыре жены, и он захотел пятую жену. Он купил ее у другого курбаши. Ей было тринадцать лет. Молодой бай отдал за нее сто баранов и вороного коня. Новый хозяин вороного был вожаком большой шайки. Его звали Иркембай Оджубеков. Он был хитрый и злой человек. О нем говорили, будто перед самой революцией он убил своего единственного брата, чтобы одному владеть бесчисленными стадами отца. Советская власть отняла у Иркембая все его богатства. Он ушел в горы, и скоро имя Иркембая Оджубекова стало известно как имя крупного курбаши. К нему сходились самые темные люди. Иркембай прятался в горах, в неприступных ущельях и оттуда совершал набеги на мирные аулы, разорял и жег их, вешал и расстреливал советских людей. За ним долго охотились пограничники. Он всегда уходил, не принимая серьезного боя, а догнать его не могли. Славилась шайка Иркембая замечательными лошадьми, неутомимыми и выносливыми. Один раз пограничники столкнулись с передовым отрядом Иркембая, разбили этот отряд и устремились в погоню за основной шайкой. Иркембай повернул в горы и стал уходить, применяя обычный свой способ: он шел через самые трудные перевалы, вел свою банду самыми тяжелыми тропами. Иркембай был уверен в силах своих людей и лошадей и в том, что пограничники отстанут. Но на этот раз пограничники не отставали, и с каждым переходом, с каждым днем уменьшалось расстояние между шайкой Иркембая и пограничниками. На шестой день бегства Иркембай бросился в сторону от тропы, без дороги перевалил через гряду гор и снова круто повернул в сторону. Он решил, что пограничники потеряли его следы, но, выйдя из ущелья, неожиданно наткнулся на пограничников. Уходить банде было некуда. Пришлось принять бой. Пограничники пошли в атаку и разбили банду. Иркембай хотел бежать. С кучкой джигитов он бросился к ущелью. Командир пограничников и десяток красноармейцев поскакали им наперерез. У самого входа в ущелье командир пограничников сшибся в Иркембаем. Иркембай выстрелил из маузера и пуля навылет пробила ногу командиру пограничников и убила его лошадь. Командир пограничников успел ударить Иркембая шашкой. Клинок рассек Иркембаю голову от уха до подбородка. Вороного коня Иркембая командир пограничников взял себе. Вороному пришлось обучиться массе новых вещей. Теперь он ходил под седлом, непохожим на те седла, которые знал раньше. Он научился прыгать через барьеры и научился ходить в строю. Он узнал, что такое шпоры. Теперь он жил в просторной конюшне, и его чистили и мыли, и кормили овсом и сеном. Новый хозяин, как только у него зажила нога, простреленная Иркембаем, каждый день на плацу учил вороного. К новому хозяину вороной привязался как собака. Он знал голос, гнал запах, знал походку нового хозяина и всегда узнавал его. Вороной получил имя. Его назвали «Басмач». Хозяином Басмача был Коршунов.ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Улицы города были обсажены тополями. Улицы были широкие, и по краям их были прорыты канавы. В канавах текли ручьи. В городе было пыльно. Ноги пешеходов, лошадей, ослов и верблюдов глубоко погружались в мягкую пыль. Дома в городе были по преимуществу одноэтажные. Дома стояли в садах, и сады были обнесены глиняными дувалами. Дома стояли далеко друг от друга. Город занимал большую территорию. В центре города были парк и базарная площадь. Парк был большой и запущенный. На базарную площадь съезжались киргизы продавать лошадей и баранов и покупать муку и соль. Река текла через весь город. Летом река пересыхала. Горы вплотную подходили к городу, горы были видны отовсюду. До революции на окраине города была крепость: несколько низких домов, конюшни, службы и вокруг глиняная стена, такая же, как дувалы, окружающие дома. В крепости помещалась теперь пограничная комендатура. Коршунов жил в маленьком домике рядом с комендатурой. В домике было две комнаты. Вторая комната пустовала. Раньше в ней жил Лобов. Вещи убитого товарища Коршунов отправил его матери. В записной книжке Степана был адрес. Матери было шестьдесят лет. Она жила в Самаре на пенсии. Отец Лобова умер. Он был учителем. В комнате Лобова остались железная койка и табуретка. Табуретка была зеленая. Окно было закрыто. На выцветших обоях были темные пятна. Когда в комнате жил Лобов, там висели фотографии лошадей, рисунок из какого-то журнала, изображающий амазонку в черном платье и с цилиндром на голове верхом на сером в яблоках жеребце, и гитара. Все это вместе с другими вещами Коршунов отправил матери Лобова. Коршунов хотел было оставить себе гитару; он снял гитару со стены и подержал в руках. Расстроенные струны тихо зазвенели. В пустом доме дребезжащий звук показался Коршунову громким и неприятным. Он положил гитару в ящик поверх фотографий и книжек. Играть на гитаре Коршунов не умел. Лобова похоронили в парке вместе с убитыми красноармейцами, и над их могилами построили три деревянных обелиска с пятиконечными звездами и с фотографиями погибших. Фотографии были в рамках со стеклами. Обелиски выкрасили в красный цвет. Могила Лобова была посредине, и ее обелиск был чуть-чуть выше двух других. На следующее утро после похорон кто-то украсил живыми цветами могилу Лобова. На рамку с его фотографией был накинут венок. В домике Коршунова было тихо и неуютно. Коршунов старался как можно меньше бывать дома. Приходил только ночевать. Помощника вместо Лобова Коршунову еще не прислали, и работы было много. Все-таки оставалось свободное время, и Коршунов не знал, чем занять его. Первые дни после похода Коршунов отсыпался. Он спал по десять часов в сутки. Зато потом он не смог спать, и началась настоящая бессонница, и жаркие ночи без сна в пустом доме были мучительны и тоскливы. Коршунов по ночам думал о Лобове. Он многое вспоминал, и многое, что раньше казалось ему бесспорным, интересным, целиком заполняющим жизнь его и жизнь Лобова, начало казаться ему вовсе не таким важным, вовсе не таким значительным. Ему было жаль Лобова, жаль, что Лобов убит, и он думал, что если бы вдруг смерть Лобова оказалась ошибкой, если бы Лобов ожил, то они оба стали бы жить совсем иначе, совсем не так, как прежде. Но в чем именно должна была заключаться эта жизнь, Коршунов не знал. И Коршунов тосковал. Один раз он решил напиться. Накануне выходного дня он купил водки, купил всякой еды и позвал к себе несколько командиров. Сначала все старались веселиться, неестественно громко разговаривали и хохотали. Пили много и не пьянели. Кто-то предложил спеть, и начали петь, и пели старательно, громко, но нестройно. Потом вдруг сразу замолчали. У Лобова был хороший голос, он играл на гитаре и всегда был запевалой. Все подумали об этом, и веселье расстроилось. Один за другим командиры разошлись, хотя много осталось невыпитой водки. Коршунов долго сидел один за столом. После неудавшейся вечеринки Коршунов совсем помрачнел. Плохо было еще и то, что нога Коршунова действительно пострадала от мороза и болела. Доктор делал Коршунову по утрам ванны для ноги из теплой воды с марганцовкой, мазал ногу какой-то мазью и забинтовывал. Коршунов носил мягкую туфлю на левой ноге, ходил с палкой и немного хромал. Иногда нога болела. Из-за ноги Коршунов не мог ездить верхом, а езда верхом была не просто развлечением. Коршунов любил лошадей и по-настоящему понимал толк в лошадях. Езда верхом была для него такой же потребностью, как сон и еда. В те годы ему казалось невозможным жить без лошади. Необходимость отказываться от верховой езды еще больше увеличивала тоску. По утрам после перевязки Коршунов обязательно заходил в конюшню. У Коршунова были три лошади — три жеребца, славившиеся по всем комендатурам и заставам. Басмачи знали лошадей Коршунова так же хорошо, как и его самого. Жеребцы стояли в глубине конюшни. Коршунов по очереди заходил к ним в станки. В конюшне приятно пахло сеном, кожаной сбруей и конским навозом. Все три жеребца были вороные. Только у одного — Басмача — белая метина на лбу и около левого переднего копыта белое пятно. Басмача Коршунов любил больше других. Из конюшни Коршунов шел в управление комендатуры. Он проходил по двору, тяжело опираясь на палку, и вид у него с каждым днем был все более и более мрачный. Несколько раз товарищи спрашивали, что с ним и не болен ли он. Коршунов огрызался или молча пожимал плечами. Как-то в кабинет Коршунова зашел Захаров, секретарь партбюро комендатуры. Несмотря на молодость, Коршунов уже несколько лет был в партии и коммунистом был безупречным. Захаров, старый политработник, бывший солдат царской армии, а еще раньше тульский рабочий, любил Коршунова и был о нем отличного мнения. Так же, как и другие командиры, Захаров давно замечал, что с Коршуновым что-то неладно, и много раз собирался поговорить с ним «по душам». Но Шурка Коршунов был нелегкий человек, разговор «по душам» с ним был нелегким делом, и Захаров никак не мог раскачаться на этот разговор. Исполнительный, точный, даже несколько педантичный в отношении всего, что касалось дела, Коршунов сходился с людьми туго, на дружбу был скуп, а в обращении бывал грубоват. Захаров злился на себя за свою нерешительность и злился на Коршунова. В тот день, когда наконец секретарь партбюро сделал попытку поговорить «по душам», он увидел в окно, как Коршунов, прихрамывая, шел по двору. На дворе никого не было, и Коршунов думал, что его никто не видит. Он шел опустив голову, сдвинув кубанку на затылок. Посредине двора он вдруг остановился. Вид у него был такой, будто он забыл, куда ему надо идти. Потом он нахмурился и медленно двинулся к крыльцу комендатуры. Собственно, больше ничего и не видел Захаров, но что-то во всей фигуре Коршунова показалось ему таким грустным, таким непохожим на обычный вид Шурки Коршунова, прекрасного наездника, строевика, щеголявшего выправкой, лихого командира и отчаянного рубаки, что Захаров сокрушенно покачал головой. Позднее он видел Коршунова на плацу. Красноармейцы ездили по кругу; в центре, на гнедой кобыле, кружился и командовал комвзвода Иванов. Коршунов сидел на скамейке. Спина его сгорбилась, он опирался скрещенными руками на палку и рассеянно смотрел на горы. Снежные вершины гор ясно виднелись в прозрачном осеннем воздухе. Поздно вечером Захаров зашел в лазарет и спросил у доктора о состоянии здоровья Коршунова. Доктор ответил, что нога уже почти поправилась, через пять-шесть дней можно будет снять повязку; конечно, если необходимо, можно уже и сейчас, но он рекомендовал бы повременить, впрочем, большого вреда для больного может и не оказаться. Захаров поблагодарил доктора и отправился в управление комендатуры. Коршунов был у себя в комнате. Захаров вошел. — Мне надо с тобой поговорить, — сказал он, плотно закрывая дверь. Коршунов отложил в сторону бумаги и отодвинулся от стола. — Вот какая штука, — начал Захаров медленно. Он решительно не знал, как приступить к разговору. — Вот что я хотел спросить у тебя… Видишь ли… Коршунов терпеливо ждал. — Ты чего это пишешь? — спросил Захаров, радуясь, что можно спросить что-то определенное. Коршунов нахмурился и промолчал. — Что же ты сочиняешь? — переспросил Захаров. При этом он улыбнулся, и его рябое, морщинистое лицо старого рабочего приняло какое-то виноватое выражение. Коршунов помолчал и вдруг совершенно неожиданно для Захарова разозлился. — Не понимаю, чего ты ходишь вокруг, Захаров! — громко и запальчиво заговорил он, вставая во весь рост и прямо глядя на Захарова. — Ты что, хочешь ставить вопрос обо мне на бюро? Никакой вины за собой я не знаю. Пожалуйста. Пожалуйста, ставь. — Ты что, белены объелся? — тихо удивился Захаров. — Какой вопрос? Какая, к черту, вина? — Перестань, Захаров, — раздраженно перебил Коршунов. — Ты прекрасно знаешь, что я пишу. Ты прекрасно знаешь, что округ уже третий раз запрашивает об аильчиновской операции. Ты прекрасно знаешь, что в походе у меня погибли и поморозились люди. Ты прекрасно знаешь, что мне ставят это в вину. Ты прекрасно знаешь, и нечего зря разговаривать. Пожалуйста. Собирай бюро. Пожалуйста. Я готов. Когда? Когда вы решили? Сегодня? — Погоди, погоди, погоди. Не горячись ты, пожалуйста. — Почему не горячиться? Я хочу горячиться и буду горячиться, и ты не учи меня. — Замолчи, Шурка! — Захаров тоже встал. Он был сухой и высокий, на голову выше Коршунова. Коршунов хотел еще что-то сказать, но Захаров повторил совсем тихо: — Шурка, замолчи. Коршунов отошел к окну. — Сядь, Шурка, и слушай. На папиросу. — Ты же знаешь, я не курю. — Возьми, возьми. Закури и слушай. Коршунов пожал плечами и сел к столу. Захаров не садился. Он ходил по комнате, курил и медленно говорил. Голос у него был негромкий и хрипловатый. Казалось, слова застревают в его желтых жестких усах. — Что с тобой, Шурка, делается, понять я не могу. Ходишь ты как потерянный, злишься на все. Хандришь, что ли? Никак понять не могу. В чем дело, что за ерунда такая? — Разве у меня в части что-нибудь не в порядке? Чего ты не понимаешь? — Погоди, погоди, говорю. Вот ведь ты какой, Шурка. Ну зачем ты вскидываешься? Зачем ты мне говорить мешаешь? Я вот в отцы тебе гожусь, а говорить с тобой, с мальчишкой, не знаю как. Чуть ли не волнуюсь. Я о тебе говорю, а не о твоей части. С тобой что происходит, скажи ты мне ради бога. — Да ничего со мной не происходит, Захаров, — тихо и смущенно отозвался Коршунов. Захаров вздохнул и долго молча ходил по комнате. Электрическая лампочка на столе мигнула три раза. Это был сигнал о том, что комендатурская электростанция кончает работать. Через минуту свет погас. В окно стало видно звездное небо. «Что это, в самом деле? — думал Коршунов, глядя, как в темноте вспыхивает огонек папиросы Захарова. — Что я, в самом деле? Раскричался зря совершенно и, правда, распустился, что ли…» — Ты не злись, Захаров, — сказал он вслух. — Какая там злость, Шурка. Не на что мне злиться, — в темноте Захарову говорить стало легче, — не злюсь я. Только вот что я тебе скажу: ты, Шурка, тоскуешь. Тоскуешь — и сам не понимаешь отчего. А я понимаю. То есть не понимаю, а кажется, понял теперь вот. Тебе, Шурка, сколько лет? — Ну при чем тут лета? — Нет, погоди, сколько? — Ну, двадцать шесть. — Двадцать шесть? — Ну да. Скоро будет… — Хорошо. Тебе вот двадцать шесть скоро будет, а мне скоро пятьдесят будет. Да я еще и воевал, и голодал, и все такое. Значит, это что? Значит это, что я жизнь уже прожил. — Захаров… — Погоди, говорю. Слушай. Я жизнь прожил, и очень доволен, и всем теперь доволен. Понял? Вот завтра я умру или, там, послезавтра. Сегодня я пользу приношу и завтра, и, ежели еще год буду жить или, там, десять лет, — все равно на что-то я годен. Я вот и учусь, и читаю. Когда время есть, конечно. Ну, и узнаю больше всего. Ну, и умнее, наверное, становлюсь. И все такое. Это ясно. Но все-таки я жизнь прожил и теперь ее, жизнь то есть, кончаю и доволен ею, жизнью. Вот. А ты, Шурка, ты — другое дело. Ты только разогнался жить. Это ничего, что ты уже командир, что ты воевал уже сколько лет, что ты ранен был, что ты герой… Это все ничего. Вот кони, там, оружие, клинки, там, походы твои, басмачи твои — всего этого много у тебя, всего этого на любую другую жизнь полностью, может быть, хватило бы. На долгую жизнь. А тебе вот, Шурке Коршунову, все это только для разгона понадобилось. Это что же значит? Вот ты теперь тоскуешь. Молчи, говорю. Не перебивай. Вот ты тоскуешь. Хорошо. Хорошо это, говорю, что ты тоскуешь. Думаешь, ты по Степане Лобове тоскуешь? Рассказывали мне ребята о твоей вечеринке. Погоди, погоди. Не перебивай. Жалко Степана Лобова? Жалко. И мне жалко. Только ты не о нем. Ты и сам еще не знаешь, чего тебе надо, но что-то в жизни у тебя незаполненным оказалось. Прожил ты, Шурка, один кусок твоей жизни. Прожил, понимаешь. Что тебе делать дальше? Я не знаю, и ты сегодня не знаешь. Только я за тебя, Шурка, спокоен. Ты завтра узнаешь, или через год, но узнаешь обязательно. — Ты какую-то чепуху наговорил тут, Захаров, — тихо сказал Коршунов. Захаров улыбнулся в темноте. В голосе Коршунова ему послышалась необычная мягкость. Папироса Захарова потухла. Он достал спички. Когда вспыхнул огонек спички, его лицо было снова серьезно и сосредоточенно. — А вопрос о твоем аильчиновском походе обсуждать нечего, — сказал он.2
Через несколько дней Коршунова вызвали в Управление пограничной охраны округа. Коршунов ехал в невеселом настроении. Он был уверен, что вызов связан с делом о походе на банду Аильчинова и что ничего хорошего это дело ему, Коршунову, не предвещает. Во время похода, в погоне за бандой, больше половины пограничников отряда Коршунова пострадало от мороза. Большинство пострадало не сильно, и только шести красноармейцам пришлось, вернувшись, лечь в госпиталь. Но все-таки люди поморозились, и одному из шести лежавших в госпитале ампутировали два пальца на левой руке. Кроме того, в бою с басмачами погибли Лобов и два красноармейца. Правда, поход закончился удачно, банда была разбита и вожаки были захвачены в плен, но Управление пограничной охраны несколько раз запрашивало комендатуру о подробностях, и Коршунов решил, что в Управлении недовольны. Станция железной дороги была на расстоянии пятнадцати километров от города. В шесть часов утра коновод подвел к домику, где жил Коршунов, оседланного Басмача. Коршунов уже ждал на крыльце. Он поздоровался с коноводом и сел в седло. Басмач пошел широкой рысью, и коновод быстро отстал. Солнце еще не было видно из-за гор, но было уже светло. Басмач пофыркивал и сам прибавлял ходу. Ехать по широкой дороге одному холодным осенним утром было так хорошо, что Коршунову показались несерьезными все волнения последних дней, и все мрачные мысли, и предчувствия, и тоска. Нога окончательно зажила всего несколько дней тому назад, поездить верхом в эти дни Коршунову не пришлось, и поэтому поездка на станцию была особенно приятна. Выехав на прямую, обсаженную тополями дорогу, Коршунов пустил Басмача галопом. Басмач просил повод. Копыта гулко ударяли в подмерзшую землю, и пар взлетал над головой Басмача. Коршунов пришел в совсем хорошее настроение. Позднее, уже сидя в поезде, он вспомнил о запросах из округа и о сегодняшней поездке в округ и снова помрачнел: Коршунов считал себя правым, но настроение было невеселым.3
Вечером, прямо с вокзала, Коршунов прошел в Управление пограничной охраны. Секретарь начальника Управления доложил о Коршунове и вернулся через минуту. — Велел ждать, — сказал он, усаживаясь за своим бюро. Секретарь был маленького роста, и из-за крышки бюро едва высовывалась его гладко причесанная голова. Ему было, вероятно, лет тридцать, но никто не знал точно его возраста. Старожилы помнили его уже много лет, и всегда он выглядел одинаково. Секретарем Управления он был очень давно, и секретарем был хорошим. Он отличался редкой памятью, он ничего не забывал и был исполнителен и точен, и мог работать целые сутки без перерыва, и всегда был спокоен и весел. Коршунов выпил воды из графина, стоявшего на специальном столике, и посмотрел на стенные часы. Без четверти десять. Коршунов присел на окно. Взял газету и прочел передовую статью. Статья была скучная. Коршунов отложил газету, встал и опять прошелся по комнате. Секретарь распечатывал вечернюю почту. Он ловко взламывал печати на пакетах, смотрел конверты на свет и большими ножницами разрезал их. Конверты он бросал в корзину, а почту раскладывал по папкам. Коршунов потянулся и снова взглянул на часы. Без трех минут десять. Коршунов решил подождать, пока будет ровно десять, и тогда заговорить с секретарем. Без одной минуты десять в комнату бесшумно вошла старушка уборщица в синем халате и молча посмотрела на секретаря. Секретарь подмигнул ей и поднял левую руку, растопырив четыре пальца. Старушка вздохнула и так же бесшумно исчезла. Вскоре она вернулась и пронесла поднос с четырьмя стаканами чаю в кабинет начальника Управления. Коршунов посмотрел на часы. Три минуты одиннадцатого. Уборщица с пустым подносом появилась из кабинета начальника и прошла в коридор. В десять минут одиннадцатого Коршунов заговорил с секретарем. — Скоро, Василий Васильевич? — Своевременно или немного позже. — Нет, правда. — Мое могущество распространяется только на эту комнату. Не пустить к нему я еще могу. Но вот, ежели человек попал туда, тогда — конец. Я уже не властен. Больше того, я бессилен. Понятно? Тем более, ежели там не один, а три. И все начальство. — А кто у него, Василий Васильевич? — Кто? Изволь. Замнач — раз, начполитотдела — два, начоперативного три. Хватит? — Так, может, я завтра приду, Василий Васильевич? — Вот это вряд ли. Во-первых, он велел тебе ждать. Во-вторых, он сегодня уже три раза справлялся, не приехал ли ты. В-третьих… Зазвонил звонок, и секретарь встал. — В-третьих, вот он звонит, и, может быть, с этим звонком решится твоя судьба. Коршунов остался один. Что значит — «решится судьба»? На что намекал Василий Васильевич? Что он знает? Хуже всего было то, что неприятный разговор, очевидно, будет происходить не с глазу на глаз с начальником, а в присутствии его зама и начальников отделов. С начальником у Коршунова были особые отношения. Андрея Александровича Кузнецова Коршунов знал уже много лет, с самого начала его, Коршунова, работы в пограничной охране. Все эти годы Андрей Александрович был начальником Коршунова, все эти годы Коршунов работал под непосредственным руководством Кузнецова. Особой личной близости между ними никогда не было. При этом Кузнецов был для Коршунова не только образцом командира, но и образцом человека. О дружбе с Кузнецовым Коршунов мечтал всегда. Именно мечтал, потому что Кузнецова Коршунов считал несоизмеримо выше себя, несоизмеримо умнее и опытнее. Показать же Кузнецову, что он, Коршунов, просто любит его, любит, как отца, как старшего брата, Коршунов никогда бы не решился. Мысль о том, что Кузнецов все же может догадаться об этом, не приходила Коршунову в голову, и Коршунов при всех встречах с Кузнецовым держал себя официально, сухо и несколько натянуто. И тем не менее Кузнецову с глазу на глаз Коршунов мог все рассказать, ничего не скрывая и не прикрашивая, и Кузнецов все бы понял. Коршунов был в этом уверен. Совсем другое дело — разговор при свидетелях. «При посторонних», подумал Коршунов. Секретарь не возвращался несколько минут. Коршунов, звеня шпорами, нетерпеливо ходил из угла в угол. Он старался сосредоточиться и думал о том, что он будет говорить и как отвечать на вопросы. Наконец секретарь появился с какой-то бумажкой в руках. Коршунов подошел к бюро и хотел спросить, решилась ли его судьба, но секретарь озабоченно махнул рукой и схватился за телефон. Коршунов через плечо секретаря заглянул в бумажку. Это был список фамилий. В списке было перечислено человек десять командиров — работников Управления. Секретарь звонил по внутреннему телефону всем им и говорил одну и ту же фразу: — Здравствуйте, вас приветствует Щепкин. Немедленно на совещание к начальнику Управления. Немедленно. Командиры стали сходиться в приемную. Секретарь не пускал в кабинет начальника. — Приказано всех сразу, — говорил он. — Попрошу подождать несколько минут и могу предложить пока развлечь товарища Коршунова. Командиры здоровались с Коршуновым и расспрашивали его о новостях в комендатуре. — Слыхали, слыхали о твоем геройстве, — говорили командиры. Коршунов злился и еле сдерживался. Наконец собрались все. Секретарь доложил начальнику и, вернувшись, распахнул дверь в кабинет. — Прошу! — сказал он. — А как же я, товарищ Щепкин? — мрачно спросил Коршунов. — Так же, как все прочие, я полагаю. — Что значит — как прочие? — Это значит, что тебя вызвали на это вот совещание, и все теперь в кабинете, а ты толчешься в дверях и задерживаешь. Коршунов, совершенно озадаченный, вошел в кабинет начальника. Кузнецов стоял за своим письменным столом. Стол был огромный. Посредине красовалась позолоченная статуэтка Меркурия — приз, выигранный пограничниками на окружных кавалерийских состязаниях. На столе были разложены папки с бумагами и карты, кучка остро отточенных карандашей лежала справа. Слева стояла большая коробка с табаком. Кузнецов курил трубку. Был Кузнецов среднего роста, плотный и коренастый. Волосы он всегда стриг коротко, и круглая голова его с крутым лбом и большим носом была красная от загара. Глаза у Кузнецова были серые и небольшие. Смотрел он слегка прищуриваясь, и выражение лица у него было обычно такое, будто вот-вот он улыбнется или даже расхохочется. Казалось, он всегда удерживается от улыбки. Улыбался же Кузнецов редко. Был он молчалив, говорил медленно, делал все не спеша. Когда вошел Коршунов, Кузнецов повернулся к нему и протянул руку. — Здравствуй, Коршунов, — сказал он, попыхивая трубкой. Коршунов молча пожал ему руку. — Прошу, товарищи командиры, садиться, — проговорил Кузнецов. Коршунов сел в самом дальнем углу. «Плохо, — думал он. — Ославит перед всем Управлением. Что же делать?» И снова он решил до конца отстаивать правильность своих действий, хотя бы ему пришлось спорить со всем Управлением.4
— Товарищи командиры. Я собрал вас для того, чтобы выслушать ваши соображения относительно мер по окончательной ликвидации банды Ризабека Касым. Вопрос о немедленном уничтожении Ризабека — вопрос насущной необходимости. Помимо значения, которое имеет сам Ризабек, нами получены сведения о том, что вокруг Ризабека сосредоточиваются мелкие, до сих пор разрозненные шайки. Вокруг Ризабека хотят объединить все силы контрреволюции. Ризабек должен возглавить эти силы. Кто такой Ризабек все вы знаете хорошо, и многие знают на личном опыте. Сейчас Ризабек силен, как никогда, и именно сейчас необходимо положить ему конец. В данный момент он находится вот здесь, в ущелье Трех овец, и передвигаться ему невыгодно. Во-первых, передвижение Ризабека помешает мелким курбаши присоединяться к нему, и, во-вторых, местоположение банды чрезвычайно удобно для Ризабека. Нападать на Ризабека можно только или отсюда, через это вот ущелье, или же отсюда, вдоль русла этого ручья. Других дорог нет. Он же, Ризабек, может отойти здесь и по ущелью Трех овец пройти до границы и уйти за кордон. Понятно? Для нас одинаково невозможно как терпеть Ризабека на нашей территории, так и дать ему уйти за границу. Полагаю, что и это понятно? Вот таково положение дела. Прошу вас высказываться, товарищи командиры. Кузнецов сел. Один за другим выступали командиры. Кузнецов внимательно слушал, делал пометки на листе бумаги и следил по карте. Ризабек Касым был необычайно популярен в байских кругах. Отец Ризабека, крупнейший богач, безграмотный и дикий человек, сделал все возможное, чтобы учить своих детей. В раннем детстве у Ризабека были русские учителя, и Ризабек хорошо научился русскому языку. Потом отец выписал бонну. Бонна приехала из Петербурга. Это была пожилая женщина. Она учила Ризабека математике и английскому языку. Она была англичанка. Отец Ризабека умер за год до революции. Старуха англичанка все еще жила в доме, хотя Ризабек давно уже вырос и не занимался с ней. Один раз к ней приезжал ее племянник. Он пробыл недолго в доме Ризабека, но Ризабек, очевидно, подружился с ним. Их часто видели вместе, и несколько раз они ездили на охоту. Уезжая, англичанин подарил Ризабеку охотничью винтовку и прекрасный автоматический пистолет «Веблей и Скотт». Ризабек хорошо ездил верхом и отлично стрелял. Когда произошла революция, Ризабек одним из первых ушел в горы и открыто выступил против советской власти. С собой он взял младшего брата. Дом Ризабека был конфискован. Англичанка куда-то исчезла. С тех пор Ризабек воевал с советской властью. Несколько раз ему приходилось уходить за границу, но каждый раз он возвращался, усилив банду. Ему помогали за границей, и внутри Советского Союза были у него тайные помощники. Агенты Ризабека говорили о священной войне, сам Ризабек ревностно исполнял все обряды и, несмотря на молодость, считался святым человеком. Он умело играл на религиозных чувствах мусульман. Банда Ризабека не гнушалась и простым грабежом. Там, где проходили басмачи, оставались разрушенные селения, выжженные поля и убитые, замученные люди. Командиры, собранные Кузнецовым на совет, давно служили в Средней Азии. С именем Ризабека Касым для них было связано многое. Некоторые из них сталкивались с Ризабеком, но никто не мог похвастать решительной победой над ним. Командиры говорили один за другим. Были высказаны два основных варианта плана борьбы с Ризабеком. Один заключался в том, чтобы начать с Ризабеком переговоры, предложить выгодные для него условия и добиться того, чтобы он вышел из гор. Тогда, по этому плану, нужно было, в зависимости от позиции самого Ризабека, прервать переговоры и уничтожить банду, не дав Ризабеку вернуться в горы. Второй вариант заключался в том, чтобы выманить Ризабека из его ущелья, послав через долину, поблизости от ущелья Трех овец, караван с богатыми товарами и с деньгами. Предполагалось, что Ризабек не удержится от грабежа и выйдет из ущелья. При помощи такого же маневра была разгромлена шайка знаменитого Джантая Оманова. Авторы обоих вариантов исходили из того, что для разгрома банды необходимо вынудить Ризабека принять бой на равнине. Кузнецов внимательно выслушал оба предложения. Он задавал вопросы и уточнял детали. Почти все присутствующие высказались, и мнения разделились поровну. Приверженцы каждого из вариантов начали спорить друг с другом, когда Кузнецов встал и сказал, что теперь он хочет высказать свои соображения. Все время пока шло совещание, Коршунов молча сидел в своем углу. Он никак не мог понять, зачем нужно его присутствие. Ризабек Касым сейчас находился не на территории его комендатуры и, по всем данным, не собирался передвигаться в ту сторону. Правда, с Ризабеком Коршунову приходилось сталкиваться. Два года тому назад Коршунов с небольшим отрядом встретил банду Ризабека. После перестрелки Ризабек ушел в горы, и Коршунов бросился преследовать его, но не решился вести отряд через непроходимые, как тогда ему казалось, перевалы. Было это в тех местах, где теперь, два года спустя, Коршунов преследовал банду Аильчинова. Прежде чем начать говорить, Кузнецов несколько раз затянулся, потом выбил трубку и отложил ее в сторону. Вдруг он повернулся к Коршунову: — Как твое мнение, Александр Александрович? — спросил он и хитро прищурился. — Как тебе нравится то, что здесь предлагали товарищи командиры? Я скажу о моих соображениях. Затем мы дадим слово Коршунову. План Кузнецова, заранее, задолго до совещания продуманный им во всех деталях, совершенно отличался от всего, что говорили на совещании. Но Кузнецов сумел так рассказать о своем плане, что у всех командиров создалось впечатление, будто Кузнецов составил свой план, развив и улучшив некоторые подробности из их высказываний. В результате совещания все командиры знали план начальника так, будто они действительно принимали участие в его создании. План Кузнецова, в основном, заключался в следующем: как можно скорее снарядить небольшой отряд, не больше полуэскадрона. Этому отряду пройти через горный хребет, через снежные перевалы, без дорог, переправляясь через бесчисленные реки, пробраться по местам, где еще никогда не бывал человек, и кружным путем достичь ущелья Трех овец между расположением банды Ризабека и границей. В условленное время два других отряда ударят по Ризабеку с фронта. Ризабек, надеясь уйти за кордон, отступит по ущелью Трех овец, где будет ждать его первый отряд, и окажется окруженным со всех сторон. Труднейшая роль выпадала на долю первого отряда. Нужно было не только успешно завершить тяжелый горный переход, но, проделав его в кратчайший срок, суметь принять участие в бою и устоять против натиска банды. Само собой разумеется, что поход первого отряда и вся подготовка должны были сохраняться в строжайшей тайне. Поэтому чрезвычайно важным обстоятельством был подбор проводников-киргизов для первого отряда, для первой части плана. Необходимо было найти целиком преданных, верных людей. План Кузнецова, при всей его простоте, был необычайно труден именно в первой части. Понимая всю правильность плана Кузнецова и все его преимущества перед первыми двумя вариантами, каждый из командиров задумался над тем, кому будет поручено командование первым отрядом. Кузнецов кончил, и несколько минут все молчали. Первым заговорил Петров. Он был самым старшим по возрасту и больше всех проработал в Средней Азии. Он был спокойный, рассудительный человек, о его хладнокровии рассказывали легенды, так же, впрочем, как и о его храбрости. До сих пор он молчал, и, когда в комнате становилось тихо, было слышно только, как сопит его кривая трубка. — Позвольте мне, товарищ начальник, — сказал Петров, вставая во весь свой громадный рост и выпуская изо рта облако дыма. — Позвольте я скажу. Мне думается, товарищи, что план, который мы слышали сейчас, наиболее правилен. Мне думается, это мнение всех. Только я вот о чем подумал, товарищ начальник. На долю первого отряда выпадает наиболее ответственная, даже решающая задача и наибольшие трудности. Нужно, товарищ начальник, сугубо внимательно подумать о подборе людей для всего отряда и, главное, о командире. Что уж говорить, товарищи, поход этот — такое дело, на котором любой из нас может очень даже свободно сломать себе шею. Да и далеко не всякому из нас можно было бы поручить это дело. И еще вот что, товарищ начальник. Торопиться необходимо. Торопиться изо всех сил. Сейчас у нас конец сентября. Октябрь, даже первая половина октября, время еще более или менее подходящее. А ежели позднее затевать поход первого отряда, то это, товарищ начальник, будет просто самоубийство.Вот и все, что я хотел сказать. Петров сел. Пока он говорил, его трубка не успела погаснуть. — Что ж… Старик говорил правильно, — сказал кто-то из командиров. Кузнецов снова повернулся к Коршунову. — Как твое мнение, Александр Александрович? — По-моему, план правильный, товарищ начальник. По-моему, очень правильно говорил товарищ Петров. Кузнецов обернулся к Петрову. — Ты, конечно, прав, Николай Петрович. Я думал о том, что ты говорил. И вот что я хотел сказать, товарищи: недавно один из командиров нашего округа отлично справился с таким делом, которое не многим легче нашего похода первого отряда. Мы докладывали в Москву об этом деле, и Москва потребовала дополнительные материалы, и мы отправили дополнительные материалы, и Москва прислала благодарность. Вот только сегодня я получил телеграмму от начальника войск. Могу огласить, если желаете: «Ликвидация банды Аильчинова проведена отлично. Коршунову объявите благодарность приказе». Кузнецов хитро прищурился, и все посмотрели в ту сторону, где сидел Коршунов. Коршунов встал и растерянно смотрел на Кузнецова. — Приказ я уже отдал, — продолжал Кузнецов, — и тебя, Александр Александрович, благодарю и поздравляю. К тебе у меня два вопроса: первый через сколько времени ты можешь выступить с первым отрядом, и второй через сколько времени, по-твоему, первый отряд может быть на месте? Коршунов молчал. Петров сосредоточенно сопел своей трубкой. — Ну, так как? — Выступить отряд, по-моему, может через пять дней, — тихо заговорил Коршунов. — Поход займет дней десять. Может быть, даже двенадцать, товарищ начальник. Видите ли, на перевалах очень большие снега, и потом переправы и высоты там очень уж… Хотя в десять дней дойду, пожалуй… Через десять дней отряд будет на месте. После совещания Кузнецов задержал Коршунова. Вдвоем они просидели над картой до семи часов утра. В семь пятнадцать Коршунов сел в поезд и в пять часов дня приехал в комендатуру.5
Четыре дня прошли в сборах. На пятый день рано утром красноармеец Суббота ввел в кабинет Коршунова молодого киргиза с одним глазом и со шрамом на щеке. — Здравствуй, Алы. — Здравствуй, командир. — Садись, пожалуйста. Вот чай. Пей. — Спасибо, командир. — Сахар бери. Еще. Ты откуда русский язык так хорошо знаешь? — Мальчишкой был — батраком работал у русского кулака. — А потом? — Потом работал у бая. Бай мне выбил глаз. Я говорил тебе? — Говорил. Потом басмачом был? — Ты же знаешь! Зачем ты, командир, спрашиваешь, что сам знаешь? Это плохо. — Не злись, Алы. Ты много плохого сделал. Ты еще не расплатился за это. — Не расплатился? Чем заплатить? Скажи мне, командир! Скажи мне, прошу тебя, чем заплатить? Скажи скорее. У меня кровь горит. Ты бы лучше расстрелял меня! Ведь я был басмачом, был врагом тебе, был врагом советской власти. Почему ты оставил меня на свободе? Почему ты мне хлеба дал? Почему ты мне дал жить, командир? Почему ты не убил меня, как бешеную собаку? — Успокойся, Алы. Сядь. Советская власть не расстреливает таких, как ты. Советская власть — друг беднякам. Ты — бедняк. И если тебя обманули богачи, если ты виноват перед советской властью, то советская власть будет не расстреливать тебя, а помогать тебе. Понял, Алы? — Я понял то, что ты сказал мне, командир, но я все-таки не знаю, чем я смогу заплатить советской власти. — Может быть, скоро ты и узнаешь, Алы, подожди немного. Чаю больше не хочешь? Ну, кури. Вот спички. — Спасибо, командир. — Алы, ты, говорят, хороший охотник. Дорогу в горах ты хорошо знаешь? — Ты, наверное, смеешься, командир. Ты не найдешь человека, который лучше меня знает горы. Мне каждый камень дорогу покажет, каждая речка покажет брод. Я всю жизнь прожил в горах, командир. — Хорошо, Алы. Поедем со мной в горы охотиться. Поедем за козлами, Алы? — Поедем, конечно, командир. Когда хочешь поедем. Хоть завтра. — Зачем завтра, Алы? Поедем сегодня. Вечером Коршунов и Алы вдвоем уехали на охоту.6
Задолго до рассвета два всадника ехали по дну ущелья. Где-то далеко за горным хребтом вставало солнце. Горы на фоне неба казались черными. Внизу, где ехали всадники, туман плыл над ручьем. Ветки шиповника и тянь-шаньской березы сгибались над водой. Листья на шиповнике были бурые и коричневые, на березе — ярко-оранжевые и желтые. Пятна осенних листьев отражались в воде, в тех местах, где течение было спокойное. Горы внизу, у дна ущелья, заросли лесом. Ели цеплялись корнями за крутые склоны. Корни вились между камнями. Все ветви елей были повернуты в одну сторону, по направлению ветра. Ветры дули из ущелья. Над лесом виднелись кустарники, еще выше — каменистые осыпи и поросшие низкой травой лужайки, и еще выше снег. Осенним утром в горах холодно. Один всадник был одет в бараний тулуп и белую войлочную шапку. Второй был в бурке и в кубанке с зеленым верхом. Лошади шли шагом. Всадники ехали молча. Передний остановил лошадь и поднял руку в направлении гор. Задний привстал на стременах. — Смотри, — тихо сказал передний всадник. — Ходит стадо теке[38]. Видишь? — Где, Алы? Не вижу. — Вон там, смотри. Левее тех скал. Видишь? — Ах, да! Вижу теперь. Вижу. — Скорее, командир. Нужно скорее идти, потому что, пока нет солнца, снег низко, и козел ходит низко. А когда солнце выйдет, снег растает, и козел уйдет вверх. — Знаю, знаю, Алы. Идем. Они слезли и привязали лошадей в кустах. Один снял тулуп, другой снял бурку. У них были трехлинейные винтовки, в карманы они положили обоймы с патронами. Они быстро, почти бегом, стали подыматься в гору. Они подымались не прямо, а огибая склон, где паслось стадо, с той стороны, откуда дул ветер. Они подымались, торопясь изо всех сил, и ветер дул им в лицо. Сначала им было холодно. Потом стало так жарко, что они радовались ветру. Они прошли между стволами елей и остановились передохнуть. Они тяжело дышали, и кровь шумела у них в ушах. Под их ногами расстилалось ущелье, кое-где в просветах между ветвями поблескивал ручей. Они отдыхали не больше минуты, и дыхание их еще не успокоилось, когда они начали подыматься дальше. Они шли пригнувшись и винтовки несли наперевес. Чем выше они забирались, тем чаще приходилось отдыхать. Наконец они дошли до снега. Теперь дно ущелья было скрыто в тумане. Они видели горы на много километров вокруг, и лучи солнца сверкали на остриях вершин. Под их ногами, далеко внизу, пролетел ястреб. Не двигая крыльями, ястреб плыл по воздуху, и они услышали, как он крикнул. Из-под снега торчали острые камни. Держась за камни, охотники двинулись вокруг горы. Они шли осторожно и старались, чтобы камни не катились из-под ног. Теперь им было так жарко, что пот тек по их лицам и гимнастерки их намокли от пота. Винтовки казались тяжелыми, и от напряжения жилы вздувались на руках. Они останавливались через каждые десять — пятнадцать шагов. Они совсем выбились из сил, когда из-за гряды камней увидели стадо козлов. Козлы разрывали снег и ели влажную под снегом траву. Стадо было большое — голов в полтораста или двести. У взрослых козлов были огромные, бугорчатые рога. Казалось странным, что маленькая голова животного держит такие тяжелые рога. На вершине горы, над стадом, стоял на страже большой козел. Он стоял неподвижно, как высеченный из серого мшистого камня, голова его была откинута, и рога касались спины. Охотники несколько минут следили за стадом. Сторожевой козел был от охотников не дальше пятидесяти шагов, остальные животные — не дальше ста. — Бей сторожевого, Коршун, — едва слышно сказал Алы. Коршунов сразу услышал и поднял винтовку. Лежа на снегу и широко расставив ноги, он просунул винтовку в расщелину между камнями и нацелился. В разреженном воздухе звук выстрела показался негромким. Козлы, все как один, подняли головы и повернулись в ту сторону, где из-за груды камней поднимался легкий дымок. Сторожевой козел, крутясь и взрывая рогами снег, катился вниз, мимо неподвижного стада. Выстрелил Алы, и молодой козленок ткнулся мордой в снег. После второго выстрела все стадо сорвалось с места и понеслось вверх, к вершине горы. Охотники стреляли лихорадочно торопясь. Еще два больших козла упали и скатились вниз. Животные мчались огромными прыжками, и первые из них достигли вершины. По ту сторону склон был почти отвесный. Мгновение козлы задержались на гребне горы и кинулись в пропасть. Они прыгали, поджимали ноги и падали вниз головой. Рогами они ударялись о камни, вскакивали и мчались дальше. Через несколько секунд только легкое облачко взрытого снега вилось над вершиной горы, и откуда-то снизу слышно было, как будто удаляясь, осыпаются камни. Это убегало стадо. Охотники вышли из-за камней. Возбужденные стрельбой, они смеялись. Первый убитый козел упал по одну сторону склона, а остальные — по другую сторону. Коршунов пошел за первым козлом, Алы — за остальными. Алы вскинул винтовку и бегом стал спускаться. Он скоро скрылся из виду. Козел лежал там, где кончался снег. Взошло солнце. Коршунов на ходу снял гимнастерку и обмотал ее вокруг пояса. Когда он подошел к козлу, снег начал таять, и из-под снега потекли тонкие струйки воды. Козел лежал подвернув голову. Большие круглые глаза его смотрели в небо, и солнце отражалось в зрачках. Рога глубоко зарылись в землю. Коршунов с трудом приподнял тяжелую тушу, — в козле было не меньше восьми пудов весу. Коршунов перевернул его, и козел покатился вниз. Он прокатился несколько метров, и снова рога зарылись в землю. Коршунов подошел к нему, раскачал и толкнул дальше. Так он спускался до первых елей. Там взял за рога убитого зверя и потащил по земле. Через час Коршунов добрался до ручья. Алы сидел на корточках у самой воды. Шкура козла была разостлана у его ног. На серых камнях ярко краснело свежее мясо. Руки Алы были в крови, и кровь стекала по лезвию ножа в ручей. Коршунов подтащил своего козла к самой воде, стал на колени и напился. Вода была холодная. Коршунов вымыл лицо и руки и окунул голову в воду. Алы засмеялся. — Устал, командир? — Ну его к черту. Тяжелый, дьявол. Давай, Алы, разведем костер, мясо будем варить и немножко отдохнем. — Ладно, командир. — Лошади пусть тоже отдохнут. — Ладно. Алы вымыл руки и нож. — Где же еще два козла, Алы? — Я оставил их на горе. Зачем нам столько? Все равно съесть не сможем и увезти не сможем. — Нет, Алы. Ты их притащи сюда. — Зачем, командир? — Принеси, принеси. Не ленись. Я пока костер разожгу. Иди. — Какой ты жадный, командир! — Иди, иди, Алы. Алы пошел. Он запел песню. Песня была протяжная. Коршунов долго слышал, как пел Алы. Коршунов развел огонь. Сначала он зажег кучку тонких веточек, потом подбросил толстые ветки ели, огонь охватил их, и Коршунов навалил большую кучу ветвей. Огонь трещал, пробиваясь вверх, дым запах смолой. Коршунов расседлал лошадей, стреножил их и пустил пастись. Когда вернулся Алы, Коршунов без рубашки сидел возле костра и помешивал ложкой мясо в котелке. Котелок висел над огнем на треноге из толстых ветвей. Алы подсел к огню. — Слушай, Алы, — сказал Коршунов, — поговорим, пока варится мясо. — Хорошо, командир. Поговорим. — Скажи, Алы, если бы я предложил тебе пойти воевать с басмачами, что бы ты мне ответил? — Басмач — это бай, правда, командир? — Да. — Басмач — это еще и тот, кто идет за баями, правда? — Да. — Бай сделал плохой всю мою жизнь. Бай был врагом Алы всю жизнь. Алы ненавидит бая. — Так что же ответил бы мне Алы? — Зачем зря говорить, командир? Вчера Алы сам был басмачом. Разве сегодня ты поверишь Алы? — Ну, а если поверю? — Если поверишь? — Да. — Если ты мне поверишь, командир? Если ты мне поверишь, тогда скажи мне: пойди, Алы, один на большую банду, пойди, Алы, один на сто басмачей, пойди, Алы, в огонь, — вот так скажи мне! И я пойду и не побоюсь, и, если надо, умру, но исполню. Коршунов молчал. — Только ты не поверишь мне, командир!.. — Давай есть, Алы. Мясо готово. — Ну, давай. — На ложку. — Мне не надо ложки. — Ложкой же удобнее, чудак. — Нет. Рукой удобнее. Ложкой я не умею. Они съели мясо и легли возле костра. Костер догорал. Языки пламени перебегали по черным головешкам. — Ну так вот, Алы, я тебе верю. — Что ты сказал?.. — Я верю тебе, Алы, и ты должен оправдать мое доверие. — Если это правда… — Это правда. Слушай. То, что я расскажу тебе, не знает никто. Тебе я верю и тебе расскажу. — Говори, командир. Говори, что я должен делать? — Слушай. Ты знаешь ущелье Трех овец? — Знаю, конечно. — У входа в ущелье Трех овец сидит Ризабек Касым со своей бандой. — Ризабек Касым — бешеный волк! — Погоди, Алы, погоди. По ущелью Трех овец можно уйти за границу. Ризабеку ничего не страшно, пока есть у него за спиной эта дорога. Ризабек ничего не боится, пока есть у него путь к бегству. — Ризабек — глупый, трусливый шакал! — Неверно, Алы. Ризабек и умный, и хитрый, и храбрый, когда надо. Слушай дальше, Алы. — Говори, командир, говори. — Мне нужно пройти к ущелью Трех овец через горы так, чтобы выйти в ущелье между границей и Ризабеком, и так, чтобы Ризабек ничего не знал. Можно это сделать? — Но ведь через горы нет дороги, командир! — Я знаю. Все-таки нужно пройти. Можно это сделать? — Очень, очень трудно, командир. — Алы, пойми: мне нужно пройти к ущелью. Мне нужно провести к ущелью отряд. Я знаю, что трудно, но я получил приказ, и я пойду, и мои пограничники пойдут со мной. Понимаешь, Алы? — Понимаю. — Так вот, теперь я спрашиваю, Алы: хочешь ты воевать с басмачами? — Я уже сказал, командир, и я никогда не врал. Приказывай. Если тебе нужна жизнь Алы — возьми ее. — Хорошо. Ты пойдешь проводником с моим отрядом. — Командир! Очень трудно… — Хорошо. Тогда ты вернешься домой. Я пойду без проводника. Я не думал, что ты трус. Алы вскочил. — Никогда Алы не был трусом! Зачем ты так сказал? Коршунов молчал. — Я проведу тебя к ущелью. Через три недели ты будешь в ущелье и скажешь: Алы молодец. — Нет, Алы. Моему отряду нужно быть в ущелье через десять дней. — В десять дней нельзя сделать этот путь, командир! — Нельзя? Алы сел и ударил веткой по углям. Костер вспыхнул. Искры взвились вместе с дымом. — Нельзя, Алы? — Хорошо. Я дойду в десять дней, но пусть пограничники не отстают от Алы. — Алы, когда ты был джигитом у Аильчинова, вы пошли в горы на сутки раньше пограничников, и пограничники догнали вас. Помнишь? — Ты шайтан, командир. Ты, наверное, если захочешь, можешь гору сдвинуть. — Нет, не могу. Они долго молчали. Коршунов лежал так неподвижно, что Алы показалось, будто он спит. Неожиданно Коршунов поднял голову. — Сколько тебе лет, Алы? — Двадцать пять. — Я думал — больше. — Это потому, что у меня один глаз. Костер совсем потух. — Ты не спишь, командир? — тихо спросил Алы. — Нет. — Когда выступает твой отряд? — Скоро. — Когда скоро? — Сегодня. Алы с удивлением посмотрел на Коршунова. — Я не понял, что ты сказал, командир. Коршунов молчал. Он лежал все так же, голову подперев рукой и вытянув ноги. Глаза его были закрыты. Прошло часа два. За это время не было произнесено ни слова. Вдруг Алы приподнялся и прислушался. — Кто-то едет, командир. Коршунов не шевелился. — Командир, кто-то едет. Слышишь? Алы взял винтовку. Коршунов лежал по-прежнему. За поворотом ущелья был слышен приглушенный шумом ручья стук копыт. Алы зарядил винтовку. — Оставь винтовку, Алы, — сказал Коршунов и встал. Из-за поворота выехали комвзвода Иванов и рядом с ним старый киргиз. Иванов подъехал к Коршунову и взял под козырек. — Товарищ командир, согласно приказанию за мной следует отряд в количестве тридцати… Коршунов бросился мимо Иванова и схватил винтовку старого киргиза как раз вовремя. Еще секунда — и старик выстрелил бы. — Что это значит, Абдумаман? — сказал Коршунов. — Отдай винтовку и слезай с коня. Что это такое? Старик соскочил с седла. — Коршун, верни мне мултук, — хрипло заговорил он. Голос его срывался. — Отдай мне мултук и не мешай мне. Очень прошу тебя. — Как тебе не стыдно, Абдумаман? Что это значит, спрашиваю? — Ты разве не знаешь, кто этот человек, командир? — Знаю. Это Алы. Он мой друг. Он второй проводник, такой же, как ты. — Он басмач! — Он был басмачом, Абдумаман. Был. Понимаешь? Теперь он мой друг. Старик вдруг сел на землю. — Я не пойду дальше, — сказал он. — Я не поведу тебя дальше, если твои друзья — байские собаки. Алы, до сих пор неподвижно стоявший с винтовкой наперевес, при последних словах старика шагнул вперед и замахнулся прикладом. — Назад, Алы, — сказал Коршунов, и Алы попятился и опустил винтовку. Коршунов снова обратился к старику: — Хорошо, Абдумаман. Я сам хотел вернуть тебя. Мне не нужно в отряде людей, для которых ничего не значит приказ командира. Отряд поведет Алы. Старик вскочил на ноги. — Что ты делаешь, Коршун? — крикнул он, хватая Коршунова за руку. — Он обманет тебя! Нельзя верить басмачу. — Замолчи, старик. Я командир отряда, а не ты. Можешь думать все, что тебе угодно, но я не потерплю, чтобы в отряде зря щелкали затворами. Мне не нужны бойцы, которые стреляют друг в друга. Я верю Алы. Возвращайся назад, Абдумаман. — Погоди, командир! — Старик не выпускал руки Коршунова. — Погоди. Прости меня. Очень прошу тебя. Я старый, я много жил на земле, и мне стыдно. Я плохо сделал. Я никогда больше не сделай так. Но не гони меня, командир. У меня был сын, такой же джигит, как ты, и басмачи убили его за то, что он был комсомолец. Я не знаю — может быть, этот человек убил его. Мне совсем мало осталось жить. Может быть, через несколько дней смерть придет за мной. Но до последнего часа я буду мстить басмачам. Я увидел этого человека и все забыл. Ты знаешь меня не первый день, Коршун. Мне стыдно, потому что я нарушил твой приказ. — Довольно, Абдумаман! Ты молодец. Ты настоящий красный джигит, и не нужно вспоминать о смерти. Ты еще меня переживешь, Абдумаман. Только ты напрасно так говорил об Алы: Алы — такой же бедняк, как ты. Не он виноват в том, что баи обманули его. Я верю Алы. За то, что он был басмачом, баи дорого заплатят. Правильно я говорю, Алы? Теперь я прошу вас — пожмите руки друг другу, и забудем о том, что было. Алы подошел к старику и протянул руку. — Нет, командир, — старик спрятал руки за спину. — Не проси меня, командир. Я обещал тебе, и я исполню то, что обещал. Но руку басмачу я не дам. Алы отвернулся. Из-за поворота ущелья один за другим выехали пограничники. Их было тридцать человек. Иванов скомандовал, и они спешились и расположились на отдых. Козлы, убитые Коршуновым и Алы, были хорошим ужином. Пограничники развели костры и выставили караулы. Здесь же, у ручья, отряд остался ночевать. Короткие сумерки прошли быстро. Ночь была безлунная и темная. Коршунов подошел к одному из костров. — Товарищ Суббота, — сказал он, — у меня подпруга на седле оборвалась. Почините, пожалуйста. Суббота вскочил и пошел за командиром. — Слушайте, Суббота, — тихо сказал Коршунов, когда они отошли достаточно далеко, — вы будете следить за новым проводником, Алы. Знаете? Вы будете следить за ним во время всего похода, но ни один человек не должен знать об этом. Понятно? Ни наши ребята, ни, особенно, сам Алы ничего не должны заметить. Вам понятно, Суббота? — Понятно, товарищ командир. — Хорошо, Суббота. Можете идти. Подпруга на моем седле в порядке. Спокойной ночи.7
Прошло восемь дней. До ущелья Трех овец отряду Коршунова остался один день пути. Позади был мучительный переход на высотах в несколько тысяч метров, на высотах, где задыхались люди и лошади. Через снега, вьюги и бесчисленные реки прошел отряд. Несмотря на осень, в горных потоках было много воды. Вода неслась с огромной силой, привычные лошади едва могли идти, и всадники еле удерживались в седлах. На перевалах впереди шли проводники — Абдумаман и Алы — и самые сильные из пограничников. Они прокладывали тропу. Они шли налегке. Сзади поднимался отряд. Красноармеец Суббота подружился с одноглазым Алы, и, когда даже неутомимый старик Абдумаман выбивался из сил, Суббота и Алы вдвоем отправлялись искать путь через снежные вершины. В пропасть сорвалась запасная лошадь с вьюком. Она сломала обе передние ноги и билась на дне пропасти. Иванов хотел пристрелить лошадь, но Алы остановил его: от выстрела могли сорваться камни и сугробы снега с вершин, и лавина могла засыпать отряд. В другом месте упал вместе с лошадью пулеметчик Зайцев. Спасая пулемет, он сильно разбился. Три дня он то терял сознание, то бредил, и его везли, привязав к седлу. Потом он оправился, но был слаб. Коршунов, исхудавший и заросший бородой, всегда был впереди и первый шел в самые трудные места, подбодрял уставших и на привалах шутил с бойцами. Никто из пограничников никогда раньше не видел командира таким оживленным и веселым, никто не думал, что командир так хорошо умеет рассказывать и знает столько смешных историй. Если отряд оставался ночевать там, где можно было развести костры, Коршунов переходил от одного костра к другому и разговаривал с пограничниками. Никто не знал, как мучительно устает сам Коршунов. Никто не знал, как у Коршунова болит по ночам раненая нога. Никто не видел, как на самом трудном перевале у Коршунова носом шла кровь и как он выбросил намокший в крови платок. Пограничники дивились выносливости командира. Они старались подражать ему, и никто не жаловался на усталость и холод. Во время похода бойцы, тщательно подобранные Коршуновым, еще больше подружились друг с другом, еще ближе узнали друг друга. Боевая дружба соединяла их. Целыми днями люди молча шли вперед. Молча помогали друг другу. Никто не просил о помощи, и никто не благодарил за помощь, но если кто-нибудь уставал, рядом оказывался товарищ, который помогал уставшему; если кто-нибудь падал, товарищ помогал подняться. Коршунов торопил отряд. Каждое утро он совещался с проводниками. По вечерам он и Иванов осматривали лошадей. Чем ближе было ущелье Трех овец, тем скорее шел отряд. Казалось, люди больше не устают. Но Коршунов знал, что после непрерывного напряжения будет непреодолимая усталость. Важно было продержаться в этом напряжении до конца похода, до конца операции. Важно было, чтобы хватило сил. И вот — прошло восемь дней похода. Еще один день, еще один перевал и отряд будет у цели. Переход до ущелья Трех овец удалось проделать на день раньше срока. Это значит, что, укрывшись в ущелье, люди смогут отдохнуть на день больше. Это значит, что первый раз за весь поход люди отоспятся. По плану наступление на Ризабека с фронта должно было начаться на двенадцатый день после выхода из комендатуры отряда Коршунова. Окончив поход в девять дней, Коршунов имел для подготовки к бою больше двух суток. Чем ближе было ущелье Трех овец, тем большие меры предосторожности принимал Коршунов. Все могло погибнуть, если бы Ризабек раньше времени узнал об отряде. Ночь с восьмого на девятый день похода отряд провел в большой пещере. Пещеру отыскали Алы и Суббота. Утром Коршунов выслал в разведку Абдумамана, Алы и Субботу. Разведка вышла еще до рассвета и должна была вернуться часам к десяти. В восемь отряд был готов к выступлению. В пещере был полумрак. Тусклый коричневый свет кое-где выхватывал из темноты морду лошади, или дуло винтовки, или лицо бойца в шлеме с синими очками, поднятыми на лоб. Люди тихо переговаривались, лошади фыркали и переступали ногами. В глубине пещеры тлели угли костров. Коршунов раздвинул ветви, скрывавшие вход в пещеру, и вышел наружу. Солнце было высоко, и день был ясный. Снег блестел на перевале. Маленькие пушистые облачка неподвижно стояли на небе, как бы зацепившись за вершины гор. Низко над перевалом медленно пролетел беркут, и его тень проплыла по снегу. Тихо. Только ручей журчал у входа в пещеру. Коршунов посмотрел на часы. Пять минут одиннадцатого. Разведка могла опоздать и на бо́льшее время, чем пять минут, но почему-то Коршунов встревожился. Подавляя все растущее беспокойство, он насильно заставил себя думать об удачном окончании похода. Ясный день обещал легкий путь через перевал. Все складывалось хорошо. Коршунов еще раз оглянулся вокруг, щурясь и заслоняя обеими руками глаза от солнца, и повернулся, чтобы уйти в пещеру, когда вдалеке ударил выстрел. Эхо откликнулось, горохом прокатилось в ущелье, и уже ближе прозвучал еще выстрел, третий, четвертый. Из пещеры выскочили бойцы, но Коршунов встал у входа. — Назад! — сказал он. — Назад, товарищи! Выстрелы гремели, не переставая, еще минут пять, потом все смолкло, и эхо стихло в отдалении. Потом на каменистом склоне горы раздался стук копыт. Коршунов прислушался. Две лошади вскачь приближались к пещере. «Две лошади, — подумал Коршунов. — Алы обманул!» Топот копыт приближался, и скоро стали видны два всадника. Они гнали лошадей. Впереди был Алы. Поперек его седла лежал человек. Сзади скакал Суббота. На голове Субботы не было шлема, и лоб был обмотан бинтом. Винтовку Суббота держал в руках и несколько раз оглядывался назад. Всадники подскакали. Лошади дышали тяжело, пена клочьями падала с их боков. На седле Алы лежал Абдумаман. Грудь старика была прострелена. Алы легко поднял раненого и бережно передал пограничникам. Потом он слез с лошади и, став на колени, напился воды из ручья. Суббота подошел к Коршунову. — Товарищ командир… Басмачи… На перевале… — Суббота задыхался. — Спокойней, товарищ Суббота. В чем дело? — Согласно приказу мы проехали на перевал и нашли тропу… Абдумаман сказал: едем назад… А он, Алы, говорит: посмотрим на ту сторону… На ту сторону перевала, значит… Я говорю: правильно, надо посмотреть, как спуск… Мы поехали… Старик впереди, потом Алы, потом я… Спускаемся, значит… Спуск, товарищ командир, там тяжелый, крутой… Немного спустились, и старик, Абдумаман, останавливается и показывает рукой вниз… Смотрю я — низом едут басмачи… Человек десять… Они, товарищ командир, наверное на охоту ездили, потому что у некоторых к седлам были убитые козлы приторочены. Ну, мы с коней слезли, за камни поползли и поглядели на басмачей. Потом я говорю: назад ехать нужно. Поскорее, значит, пока нас не заметили. Алы говорит: верно. Едем назад, говорит. А старик Абдумаман молчит и все смотрит, все смотрит вниз. И вдруг он винтовку вскинул — и по басмачам. Раз, второй, третий. Три выстрела дал три басмача упали с коней. А старик вскочил на камень, бьет кулаком себя в грудь и кричит, кричит что-то по-киргизски… — Это он про сына кричал, — сказал Алы. — Дальше, Суббота. И скорее. — Да все уж, товарищ командир. Они, басмачи, значит, старика увидели, выстрелили, — он Алы на руки и повалился. В грудь пуля ему попала. А басмачи на нас лезут. Алы старика потащил. Я немного задержал басмачей. Потом Алы дополз до коней, а басмачи и увидели. Коня у Алы убили. Ну, Алы сел на коня Абдумамана и мне кричит: едем! А басмачи уже тут уходить стали. Трое их осталось. Сначала я хотел преследовать их, но решил скорее донести о случившемся, и погнали мы с Алы сюда. Мне вот голову поранили. Только немного, товарищ командир, чуть-чуть… Подошел Иванов. — Товарищ командир, — сказал он Коршунову, — старик умирает. Хочет поговорить с вами. Коршунов пошел в пещеру. В глубине пограничники раздули костер и около огня положили Абдумамана. «Что же делать? Что же делать теперь?» — мучительно думал Коршунов, проходя в глубь пещеры мимо притихших, взволнованных бойцов. Все шло прахом. Весь поход оказался впустую. Через два или три часа басмачи доскачут до ущелья Трех овец, Ризабек узнает о приближении пограничников и уйдет. Уйдет за границу. Значит — зря был поход Коршунова и зря два больших отряда будут идти на Ризабека по ущелью и по руслу ручья. Коршунов наклонился над Абдумаманом. Старик лежал на спине и смотрел прямо вверх. Он дышал с трудом, кровь шумно клокотала у него в горле и вытекала сбоку рта тонкой струйкой на жилистую шею. Когда подошел Коршунов, старик с трудом повернул голову. — Что ты наделал, старик? — сказал Коршунов. Старик молчал. — Ты слышишь меня, старик? Слышишь меня? — Да, — очень тихо сказал умирающий. — Ты хотел говорить со мной? — Да… — Что ты хотел сказать? — Нагнись… Коршунов стал на колени и нагнулся. Умирающий шептал, задыхаясь и обдавая горячим дыханием лицо Коршунова: — Когда… ты… поймаешь… Ризабека… скажи… ему… что… его… брата… я убил… — Какого брата, Абдумаман? — Я убил… Старик Абдумаман… Убил… Пусть он знает… — Кого ты убил, старик? Где ты убил? — Пусть знает… Ризабек… Собака… Его брата… за моего сына… я убил… — Алы! — Я здесь, командир. — Ты понимаешь, что он сказал? — Да, командир. Среди басмачей был брат Ризабека. Старик убил его. Верно. Первым выстрелом он его убил. — Алы говорил здесь?.. — снова захрипел умирающий. — Да, отец. Это я, Алы. Что ты хочешь сказать мне, отец? — Прости… меня… Алы… Прости, — старик сказал что-то так тихо, что нельзя было расслышать. — Что ты сказал? — спросил Алы. Старик молчал. — Что ты сказал, отец? Молчание. — Что ты сказал? Ты слышишь, меня, отец? Коршунов встал с колен. — Оставь, Алы, он умер. Абдумамана похоронили у входа в пещеру. Над могилой врыли невысокий столб, и на его свежем срезе Суббота написал чернильным карандашом:АБДУМАМАН — КРАСНЫЙ ДЖИГИТ на семьдесят пятом году своей героической жизни погиб, храбро сражаясь с басмачами, утром 30 сентября 1928 года.Под надписью оставалось свободное место, и Суббота нарисовал пятиконечную звезду. Звезда получилась неровная, потому что Суббота торопился. Похороны и последние сборы заняли не больше десяти минут. Пока пограничники рыли могилу, Коршунов отозвал в сторону Алы и Иванова. — Алы, хорошо слушай меня, — сказал Коршунов. — Хорошо слушай и хорошо думай. Наше дело очень плохо. Ризабек узнает раньше времени о нашем приходе, и когда мы дойдем до берлоги, зверь может уйти из нее. Понимаешь, Алы? Я так решил: все лишнее мы оставим в пещере и налегке, как можно скорее, пойдем в ущелье Трех овец. Пока Ризабек снимет юрты, пока он дойдет до конца ущелья, мы успеем. Но мы, наверное, столкнемся с Ризабеком сразу, спустившись в ущелье, и сразу начнется бой. Понимаешь, Алы? В нашем отряде тридцать сабель. У Ризабека — не меньше трехсот. Как устали наши люди, ты знаешь сам, Алы. Что же будет? Кзыл-аскеры подойдут с другой стороны ущелья к вечеру второго октября, то есть через двое с половиной суток. Мы, тридцать, должны сдерживать триста басмачей Ризабека Касым. Понимаешь, Алы? Мы будем держаться до последнего, но удастся ли нам продержаться так долго?.. Не думаю, Алы. Ризабек уничтожит наш отряд и уйдет за кордон, и кзыл-аскеры, придя в ущелье Трех овец, ничего не найдут, кроме трупов, и ничего не узнают. Понимаешь, Алы? Нужно добраться до кзыл-аскеров. Нужно добраться до Черной долины — там идет отряд. Я пошлю тебя и Субботу. Вы перевалите гору не на запад, как мы, а на север. Я дам вам по две лошади, и вы не жалейте лошадей. И себя не жалейте. Хоть один из вас должен добраться до кзыл-аскеров. Понимаешь? Понимаешь, Алы? — Я все понял, командир. Пиши письмо. Я найду дорогу. Пиши скорее. Через час на снежном гребне перевала Коршунов попрощался с Субботой и Алы. Каждый из них вел в поводу запасную лошадь. Пулеметчик Зайцев отдал Субботе свой шлем, а в шлеме лежало письмо от Коршунова Кузнецову. Суббота и Алы попрощались с отрядом и пошли на север. Отряд спускался на запад — к ущелью Трех овец.
8
Ризабек Касым уснул под утро. Ночью приехал гость, и до рассвета Ризабек разговаривал с ним. Гость приехал из-за границы через ущелье Трех овец. Он привез Ризабеку письмо. В письме торопили Ризабека, и гость говорил сдержанно, но настойчиво, о том, что давно пора поднять восстание, давно поря заняться большим делом. Гость говорил негромким, ровным голосом, без интонаций. Он сидел у огня, скрестив ноги и полузакрыв глаза. Лицо его было неподвижно и безжизненно. Бледное, худое лицо с морщинистой кожей. Уже несколько раз гость приезжал к Ризабеку, а Ризабек до сих пор не знал толком, что он за человек. Гость никогда ничего не приказывал: он только советовал и никогда не говорил прямо. Но всегда получалось так, что Ризабек слушался неопределенных советов гостя и делал так, как хотелось гостю. Гость переправлял через границу оружие. Первый раз гость приехал в становище Ризабека как простой контрабандист и купец. Тогда он продал Ризабеку несколько кусков маты[39], несколько пар сапог и ящик спирту. Тогда он пробыл в становище Ризабека два дня. С тех пор прошло всего пять месяцев. Гость приезжал несколько раз, и незаметно получалось так, что Ризабек во всем зависел от гостя. Ризабек даже не знал точно, в чем заключается власть гостя над ним, но власть эту он чувствовал непрерывно. Без помощи из-за границы Ризабек обойтись не мог. Сначала гость связывал Ризабека с нужными людьми за границей. Потом Ризабек, пытаясь освободиться от гостя, попробовал сам сноситься со своими заграничными друзьями, но гость каким-то образом устраивал так, что ответы на письма Ризабека передавали гостю и гость привозил их. Ризабек злился. Он ничего не мог сделать. Гость приезжал по-прежнему, и все сильнее становилась его власть над Ризабеком. После бессонной ночи гость уснул, лежа на кошмах. Ризабек смотрел на его неподвижное лицо. Глаза гостя были закрыты, но Ризабеку показалось, что гость не спит. Ризабек едва удержался от желания пристрелить этого человека. Злоба душила Ризабека. Им хорошо там, за границей, слать приказания и торопить и выражать недовольство. Все было далеко не так просто, как казалось. Раньше Ризабек думал, что советская власть не продержится больше недели. Недели тянулись, потом пошли месяцы, потом годы. Советская власть крепла. Раньше Ризабеку казалось, что темный киргизский народ, как стадо, пойдет туда, куда укажут ему муллы, куда поведут его баи. Киргизский народ шел за большевиками, и муллы и баи бежали из аулов. Раньше Ризабек мечтал о том, как, подобно великим ханам, он поведет бесчисленную орду джигитов, и орда эта сметет все на своем пути. Теперь Ризабек напрягал все силы в борьбе с соединениями пограничников, и не орда шла за Ризабеком, а кучка басмачей. Все-таки Ризабеку удалось соединить несколько мелких шаек и чуть ли не вдвое увеличить число своих джигитов. Все это стоило невероятных трудов, и Ризабек сам давно уже не верил в большое восстание. Засыпая, Ризабек вспомнил о гибели Иркембая Оджубекова, о расстреле Асана Аильчинова, о разгроме Джантая Оманова. Сон Ризабека был тревожен и некрепок. Когда распахнулись двери юрты, Ризабек сразу проснулся и схватил винтовку. В дверях стоял джигит. Он задыхался. Лицо его было в крови, и одежда была разорвана. — Что случилось? — Кзыл-аскеры! Кзыл-аскеры идут… Кзыл-аскеры идут к ущелью Трех овец… — Где ты их видел? — На Большом перевале. — Что ты сказал? — На Большом перевале, Ризабек. Они идут к ущелью с востока. — Этого не может быть! Ты врешь! Еще ни один человек не проходил к ущелью Трех овец через горы! — Я не знаю, Ризабек, как они прошли… Но кзыл-аскеры перевалили Большой перевал и идут сюда с востока… Ризабек опустился на подушки. Винтовка выпала из его рук. Ее приклад попал в тлеющие угли костра. Гость встал и молча поднял винтовку. Ризабек повернулся к нему. — Это конец, — сказал он. — Мы отрезаны от границы. Джигит в дверях заговорил снова: — Я не все сказал, Ризабек Касым… Твой брат Гасан убит… Ризабек медленно поднялся на ноги. Джигит, торопясь и сбиваясь, рассказал о столкновении с пограничниками и о смерти Гасана. Боясь гнева Ризабека, он не сказал, что против десяти джигитов был только один пограничник с двумя проводниками-киргизами. По его словам выходило, будто по склону перевала шел отряд численностью не меньше пятидесяти пограничников. Джигит, увлекаясь, врал о подробностях боя. Пока он говорил, лицо Ризабека исказилось, и пена выступила на губах. Он хотел вытащить револьвер из кобуры, револьвер запутался в ремнях, и Ризабек рвал ремни и скрипел зубами. Джигит бросился прочь. Тогда Ризабек повалился на кошмы и закрыл лицо руками. Гость подошел и тронул Ризабека за плечо. — Успокойтесь, — сказал гость. — Успокойтесь. Слышите вы? Мне нужно уйти за границу. Поняли? Поняли или нет? Ризабек вскочил. — Понял или нет ты, пес, что мы окружены? Понял ты или нет, что путь к границе отрезан? Все пошло к дьяволу. Все кончено… — Я сказал — успокойтесь. Вы не знаете даже, как велики силы пограничников. Ризабек секунду стоял неподвижно. Резко повернувшись, он прошел в тот угол юрты, где лежала его одежда, и стал быстро одеваться. Когда он обернулся, гость был уже одет. Он стоял в черном своем халате и в меховой шапке, опираясь на винтовку Ризабека. Ризабек молча вырвал винтовку из его рук и выбежал из юрты. Через полчаса человек двести басмачей поскакали по ущелью. Ризабек на сером жеребце несся впереди. На Ризабеке был яркий дунганский халат, распахнутый на груди, и лисья шапка. Он безжалостно гнал жеребца, и джигиты едва поспевали за ним. Сзади ехал гость Ризабека, окруженный своими караванщиками. Ризабек решил попытаться задержать пограничников, пока оставшиеся в становище соберут юрты и скот. Если же задержать пограничников не удастся, Ризабек решил бросить все, постараться пробиться и уйти за границу.9
Ущелье Трех овец прорезало горный хребет. Стены ущелья были почти отвесные, и только в нескольких местах можно было спуститься сверху на дно или подняться из ущелья наверх. Чем ближе подходило ущелье к границе, тем круче становились его стены. Внизу было прохладно и сыро. Горы отбрасывали тени на дно ущелья. Узкий ручей вился между камнями. Кое-где одинокие ели возвышались над грудами серых скал. Наверху, на горах, лежал снег. Внизу снега не было. Густая трава росла в расщелинах между камнями. С Большого перевала был спуск прямо в ущелье. Спуск был крутой. Отряд Коршунова спускался, гремя камнями, скользя на снежных склонах и скатываясь по каменистым осыпям. На головокружительной высоте люди шли не разбирая дороги, падая, подымаясь и снова кидаясь вниз. Все время впереди пограничники видели развевающуюся бурку командира и его вороного Басмача. Коршунов часто оборачивался. Пограничники не отставали. В облаках пыли, катя впереди себя осколки камней, отряд низвергался в ущелье Трех овец. Коршунов первым достиг дна. Не останавливаясь, он перебежал ущелье и внимательно осмотрел землю. Следов не было видно. Ризабек еще не проходил по ущелью. Пограничники собирались вокруг Коршунова. Времени терять было нельзя. Ризабек мог появиться в любую минуту. На склонах ущелья были большие каменные выступы. В этих выступах, как в гнездах, спрятались пулеметчики, по одному с каждой стороны. Остальные бойцы залегли цепью за камнями поперек ущелья. Сам Коршунов выбрал себе такое место посредине, откуда он был виден всем бойцам. Лошадей отвели под прикрытие группы скал. Когда все было готово, Коршунов приподнялся и еще раз осмотрел своих людей. Спереди, с той стороны, откуда должен был появиться Ризабек, не было заметно ничего подозрительного. Коршунов сказал так громко, что все слышали: — Все в порядке, товарищи. Повторяю еще раз: стрелять только после моей команды. Коршунов лег, и все стихло. Журчал ручей. В траве громко затрещал кузнечик. Какая-то маленькая птичка села на камень близко от Коршунова. Птичка была серая. Она дергала коротким хвостиком и, наклонив голову набок, внимательно смотрела на Коршунова. У птички был хохолок на голове. «Жаворонок», — подумал Коршунов. Кузнечик смолк. Теперь только ручей нарушал тишину. Коршунову захотелось спать. На секунду он закрыл глаза и сразу открыл их и прислушался. Впереди по ущелью ехали на лошадях. Шум усиливался. Уже слышны были голоса, звон металла, фырканье лошадей. Коршунов лег удобнее и приложил к плечу приклад маузера. Пограничники насторожились и часто оглядывались на командира. Коршунов не шевелился. Из-за поворота ущелья показались всадники. Впереди на сером коне ехал высокий человек в распахнутом халате. За ним толпой двигались басмачи. Лошадям трудно было идти по каменистому дну ущелья, и басмачи ехали не быстро. Из-за поворота выезжали все новые и новые всадники. Оружие они держали наготове. Передний, очевидно вожак, остановился, и за ним остановились остальные. Задние напирали, и банда заполнила все ущелье. Вожак обернулся назад и что-то сказал. Расталкивая толпу всадников, к нему подъехал человек в черном халате на пегой лошади. Вожак дулом револьвера показал на сверкающую снежную глыбу Большого перевала и засмеялся. Человек в черном халате кивнул головой и отъехал назад. Вожак тронул лошадь. Басмачи двинулись. Коршунов не шевелился. Пограничники неподвижно лежали за камнями. Басмачи приближались. Вожак отдал какое-то приказание, и группа всадников человек в пятьдесят выехала вперед. Коршунов не шевелился. Авангард басмачей был совсем близко. Коршунов нацелился в толстого бородатого джигита с клычом в руке. Джигит погонял лошадь камчой. Жирное лицо джигита было покрыто потом. Коршунов нацелился в грудь джигита и следил мушкой маузера за его движениями. Когда джигит был на расстоянии метров сорока, Коршунов громко крикнул. — Эскадрон, огонь! Ударил залп, и дымом заволокло ущелье. Опрокидывая друг друга, басмачи бросились назад. С двух сторон, наискось, по ним начали бить пулеметы, и они повернули и снова поскакали к засаде. Коршунов махнул рукой, и второй залп заглушил частую дробь пулеметов. Крики людей, ржанье лошадей, треск выстрелов подхватило эхо. Горы ответили громом. Эхо визжало и ухало. Не больше десятка басмачей вырвалось и доскакало до основного отряда. Вся банда отхлынула за поворот ущелья. На земле остались раненые и убитые. Лошадь толстого джигита носилась по ущелью. Ее мертвый хозяин лежал на ее шее. Эхо замерло. Снова стало тихо в ущелье. Пограничники возбужденно переговаривались. Скрываться больше было не нужно. Иванов лежал недалеко от Коршунова. — Получили они, товарищ командир! — крикнул он. — Теперь не сунутся! Коршунов, сняв бурку, расстилал ее на камнях. — Погоди, — ответил он. — Посмотрим, что дальше будет. — И, помолчав, позвал: — Иванов, пойди-ка сюда. Иванов перебежал за камнями, подошел к Коршунову и лег рядом с ним. — Вот что, Иванов. Если меня убьют сегодня… — Товарищ командир!.. — Да слушай ты! Если убьют меня, говорю, ты останешься командиром. Держаться до конца. Понял? Я не очень верю, что успеют наши подойти сюда вовремя, но, может, и успеют. Понял? — Да. — Много у него джигитов, у Ризабека. Это еще не всех мы видели. Не меньше половины осталось в стойбище юрты снимать и собирать скот. А тут человек полтораста было. Не меньше. — Я думаю, человек двести. — Видишь. И вот еще что, Иванов: если совсем плохо будет, не давайтесь Ризабеку. Помнишь Котова и Петренко? Иванов вспомнил обезображенные тела замученных басмачами красноармейцев и поежился. — Вот и все, кажется. В сумке у меня записка. Я еще ночью написал. Если убьют, отправишь отцу. Адрес там есть. — Бросьте, товарищ командир. Что это с вами такое? Убьют да убьют. Нельзя так! — Черт его знает, что. Предчувствие. Нет, ты не смейся. Верно, предчувствие. Ну, прощай. Теперь по местам. Товарищи! По местам и не высовываться! Внимание. Начинается. Басмачи пошли в атаку.10
Три раза Ризабек водил своих людей в атаку, и три раза пограничники отбрасывали их назад. Басмачи потеряли несколько десятков человек, и джигиты роптали. Ризабек спе́шил часть банды, и, разделившись на две группы, басмачи подошли близко к засаде пограничников и начали перестрелку. Пулеметчики нащупали басмачей, и треть стрелков не вернулась назад. К вечеру подошли свежие силы из стойбища. Стемнело. Басмачи поползли по ущелью. Пограничники снова подпустили их совсем близко, и басмачи уже готовились кинуться врукопашную, когда над ущельем взвилась ракета. Красный свет осветил ущелье. Пограничники забросали наступающих гранатами. Басмачи решили ждать утра. Пограничники ночь провели без сна. Утром басмачи открыли огонь из-за камней на склонах, и одновременно Ризабек сам повел лучших джигитов в атаку. На этот раз басмачам удалось подойти совсем близко, и с большим трудом пограничники отогнали их назад. Трое из пограничников было убито, один ранен легко, и тяжело ранен пулеметчик Зайцев. Ризабек, сам раненный в руку, сразу заметил, что смолк один из пулеметов. Он послал десяток пеших джигитов по склону ущелья к тому месту, где сидел Зайцев. Зайцев не мог стрелять. Перебегая за камнями, басмачи приближались к пулемету. Тогда Коршунов дал сигнал второму пулеметчику, и тот огнем остановил басмачей. Коршунов с пятью бойцами бросился из засады на выручку Зайцеву. Ризабек понял, что происходит, когда Коршунов уже пробежал половину расстояния до Зайцева. Ризабек на коне поскакал вперед, и сотня басмачей поскакала за ним. Пограничники били по басмачам и не могли остановить их. Пулеметчик оставил басмачей, идущих к Зайцеву, и струя пуль обрушилась на атаковавших. Ризабек все-таки скакал вперед, и часть басмачей следовала за ним. Они были уже совсем близко от пограничников, когда заработал пулемет Зайцева. Коршунов и его бойцы опередили басмачей и завладели пулеметом. Под Ризабеком убили лошадь, и басмачи отступили. Ризабек ушел пешком. Коршунов поднял на плечи Зайцева, пограничники взяли пулемет и патроны. Басмачи заметили, как они пробирались за камнями. Ризабек визжал от ярости и бил камчой всех, кто был возле него. Басмачи стреляли так часто, что их выстрелы и звуки эхо слились в сплошном грохоте. Коршунову было трудно идти, неся на плече раненого. Не доходя нескольких шагов до камней, где лежали пограничники, Коршунов почувствовал жгучую боль в животе, у него закружилась голова, и он упал. Иванов подполз к нему, дотащил его до камней и наскоро сделал перевязку. Коршунов был ранен в живот.11
Басмачи бежали, ехали на лошадях, стреляли непрерывно. В центре толпы на новой лошади скакал Ризабек. Охрипшим голосом он прокричал слова боевой молитвы. Джигиты подхватили молитву. В исступлении они пели, призывая аллаха. Вся банда шла на засаду пограничников. Пограничники стреляли в толпу, раненые и убитые падали на землю, но новые ряды басмачей лезли через камни и упорно подвигались вперед. Один из пулеметов пограничников вышел из строя. В затворе перекосило патрон. Пулеметчик лихорадочно, торопясь и ругаясь, разбирал затвор. Только второй пулемет еще сдерживал басмачей. Несколько раз басмачи пытались пробежать небольшое расстояние до засады, но пулемет останавливал их. Вдруг пулемет смолк. Иванов, командовавший вместо раненого Коршунова, обернулся к тому месту, где в скалах на склоне ущелья сидел пулеметчик Никитенко. Пулеметчик лицом вниз лежал на камнях. Над ним с окровавленной шашкой и маузером в руках стоял басмач в черном халате и меховой шапке. Коршунов приподнялся на локтях. — Что с пулеметом? — прохрипел он. — Конец, товарищ командир, — ответил Иванов. Патронник его винтовки был пуст, перезаряжать не было времени. Басмачи, не слыша пулемета, побежали на засаду. — Прощайте, Александр Александрович, — сказал Иванов. Коршунов, от боли скрежеща зубами, поднялся на колени, уперся в камень шашкой и встал на ноги. Он увидел совсем близко искаженные лица басмачей. В дыму тускло блестели кривые клычи. Справа наверху, на каменном выступе, где лежал мертвый Никитенко, человек в черном халате кричал что-то и размахивал маузером. Скала низко нависла над ущельем, и Коршунову показалось, что черная фигура в мохнатой шапке летит над толпой басмачей. Иванов с гранатой в руке встал рядом с Коршуновым. — Иванов! Гранату… — крикнул Коршунов, протягивая руку к скале. Иванов сорвал кольцо, размахнулся и изо всех сил швырнул гранату. Раздался глухой удар, скала раскололась, и рухнула огромная груда камней. Когда дым рассеялся, пограничники увидели, что камнями завалило большое пространство перед ними. Эхо прокатилось в последний раз, и в тишине стало слышно, как стонут придавленные камнями басмачи. Иванов оглянулся на бойцов. У всех были бледные лица и воспаленные глаза. От усталости люди едва держались на ногах. Из тридцати человек в живых осталось десять, сам Иванов — одиннадцатый, и Коршунов двенадцатый. Коршунов сидел на земле низко опустив голову. Левой рукой он держался за живот, в правой сжимал шашку. Снова стало тихо, и снова где-то, совсем близко, затрещал кузнечик. Коршунов с трудом улыбнулся и поднял голову. — Товарищи, — сказал Коршунов, и собственный голос показался ему еле слышным. В голове шумело и назойливо пел кузнечик. Коршунов скрипнул зубами и еще раз попробовал улыбнуться. — Товарищи! Еще немного. Совсем немного осталось. Ризабек, собирайся. Осталось последнее действие. Представление кончается, Ризабек. Приготовьтесь, товарищи. Споем на прощанье. Споем? Ладно? Пограничники молчали и отворачивались. Иванов с тоской глядел на Коршунова. — Нужно петь. Обязательно нужно петь, друзья. Песня — это очень важно. Что ж вы? Споем? Ладно? — Александр Александрович, не надо, — тихо говорил Иванов, Александр Александрович, голубчик… — Что? Почему не надо, Иванов? Песня, Иванов, это очень важно. Разве не так, Иванов? И Коршунов запел:Трансваль, Трансваль, страна моя,
Весь мир горит огнем…
Трансваль, Трансваль, страна моя,
Весь мир горит огнем…
Трансваль, Трансваль, страна моя,
Весь мир горит огнем…
12
После взрыва скалы басмачи в страхе отхлынули от засады пограничников. Ризабек старался остановить джигитов, но его не слушали. Только за поворотом ущелья басмачи почувствовали себя в безопасности и остановились. Как и пограничники, они слушали раскаты эхо. Эхо смолкло, и стало тихо в ущелье. Ризабек, прижимая к груди раненую руку, стоял один, скрытый от пограничников грудой обвалившихся со скалы камней. Он тоже слышал, как затрещал кузнечик. Потом до него донесся странный, хриплый голос. Голос пел:Трансваль, Трансваль, страна моя,
Весь мир горит огнем…
Трансваль, Трансваль, страна моя,
Весь мир горит огнем…
13
Кузнецова разбудил телефонный звонок. Кузнецов сразу проснулся, сел на кровати и взял трубку. — Да, — сказал он негромко, чтобы не разбудить жену. — Товарищ начальник, говорит дежурный. Срочное радио от Петрова, товарищ начальник. От Коршунова получено известие. Прочесть текст телеграммы? — Нет. Машину пришлите. — Слушаюсь, товарищ начальник. Через десять минут Кузнецов ехал по пустым улицам спящего города. Он сидел рядом с шофером. «Фиат» ехал быстро. Кузнецов нагнулся, чтобы заслониться от ветра, раскурил трубку и откинулся на кожаные подушки. Минуту ни о чем не думал. Ничего — кроме вкуса табака и ощущения скорости и прохладного ветра. Потом отчетливо вспомнились нахмуренное лицо Шурки Коршунова и его сдержанная манера разговаривать. Шурка всегда нравился Кузнецову. Что с ним? И сразу тревога охватила Кузнецова. — Скорее. — Слушаюсь, товарищ начальник. Машина заревела, и ветер ударил в смотровое стекло. В здании Управления было тихо, в коридорах тускло горели дежурные лампочки. Он быстро прошел в свой кабинет, выбил пепел из трубки, снова набил и закурил. В телеграмме Петрова было следующее:Получил известие Коршунова тчк Ризабек открыл приближение первого отряда тчк Коршунов пытается спуститься ущелье раньше ухода Ризабека границу тчк случае успеха зпт вся банда против первого отряда тчк Коршунов опасается исход боя зпт возможность задержать Ризабека до прихода моего отряда зпт отряда Степанова тчк получив известие Коршунова Черной долине зпт форсированно иду ущелье Трех овец тчк прошу ваших указаний тчк ПетровКузнецов прочел телеграмму и долго молчал. Дежурный терпеливо ждал, стоя у стола. — Пошлите мою машину домой к Алексееву, — сказал Кузнецов. Дежурный повернулся и вышел. Кузнецов снял трубку с телефона, назвал номер и сказал телефонистке, чтобы звонила, пока не ответят. Телефон трещал долго. Кузнецов переложил трубку в левую руку и, прижимая локтем блокнот, написал телеграмму Петрову:
Идти Ризабека как можно скорее тчк полагаю Коршунов остановит банду тчк необходимо выручить первый отряд захватить Ризабека тчк КузнецовЗаспанный голос сердито сказал в трубку: — Ну, слушаю… — Дмитрий Анатольевич, говорит Кузнецов. — Да, товарищ начальник. — Ты проснулся? — Да, да. В чем дело? — Моя машина едет к тебе. Нужно будет тебе приехать сюда, в Управление. — Но… — Машина будет у тебя минут через пять, так что поспеши. — Андрей Александрович… Кузнецов, не слушая, повесил трубку. Он написал телеграмму Степанову, начальнику второго отряда, идущего к ущелью Трех овец, вызвал дежурного, отправил телеграммы, достал карту, разложил ее на столе, встал и начал ходить по кабинету. На полу лежал ковер, и шагов Кузнецова не было слышно. В тишине только звякали шпоры и тикали часы. Через десять минут в кабинет вошел Алексеев. Алексеев был маленького роста, толстый, с красным лицом. Из-за яркой красноты лица голубые глаза его казались совсем светлыми. Он был без шапки, и волосы его были растрепаны. Поверх заправленной в штаны ночной рубашки он накинул черное кожаное пальто. Он зевал, и глаза его слипались. — Явился, товарищ начальник. — Садись. Выпей воды. — Да нет. Что вы. Не надо. — Выпей, выпей. Легче будет. Алексеев налил полный стакан и выпил залпом. — Проснулся? — прищурился Кузнецов. — Проснулся, конечно. — А протрезвился? — Да что вы, товарищ начальник! Я ведь не очень, так сказать… — Ладно. Слушать можешь? Алексеев нахмурился. Круглое лицо его все сморщилось в мелких сосредоточенных складках. — Слушаю, товарищ начальник. Кузнецов подошел к карте. — Вот сюда мне нужно, Дмитрий Анатольевич. Учти, пожалуйста, вот этот хребет, и этот, и эти вот горы. Можно? — С грузом, товарищ начальник? — С грузом. — Вот оно что… Изрядно, так сказать. — Ну как? Можно? — Что ж, это хозяйство, так сказать, товарищ начальник, горки. Опять-таки тут вот, изволите видеть, такое хозяйство. Конечно, хребет. Тысяч пять метриков будет, Андрей Александрович? — Пять тысяч триста. — Да… Алексеев помолчал и почесал голову. — Когда, Андрей Александрович? — Ночью нельзя? Сейчас же? — Ну, уж нет. Ночью я в такое хозяйство не полезу. Увольте. Вообще, Андрей Александрович, имейте в виду, что, так сказать, страшновато. — Тогда с рассветом. Алексеев зевнул и сладко потянулся. Он с ногами залез на кресло. — Ну, Дмитрий Анатольевич? — Что ж, товарищ начальник, жаль только, что я не выспался. Вчера именины жены были, знаете ли. Это такое хозяйство… Алексеев зевнул. Кузнецов щурился, улыбаясь, и пыхтел трубкой. Алексеев встал. — Сейчас который час-то? Кузнецов посмотрел на часы. — Половина четвертого. — Ну что ж, надо вот одеться, привести хозяйство в порядок. — Зевота не давала Алексееву говорить. — В пять тридцать я буду готов, товарищ начальник. — Я приеду в пять тридцать. Алексеев зевнул еще раз и, пошатываясь, вышел.
14
Басмачи лезли со всех сторон. Пешие джигиты перебегали за камнями по склонам, конные скакали по дну ущелья. Еще трое пограничников было убито. Иванов был ранен в ногу. Пограничники лежали за камнями в середине ущелья, тесно прижавшись друг к другу. Только сзади, со стороны границы, не было басмачей. Единственный пулемет пограничников, захлебываясь, бил по наступавшей банде. Там, куда поворачивалось дуло пулемета, басмачи останавливались, но в это время с других сторон лезли ближе. У пограничников оставалась последняя граната. Иванов положил ее возле себя. Он решил, когда басмачи подойдут совсем близко, этой гранатой взорвать себя и своих товарищей. Басмачи готовились к последнему удару. Горсточка пограничников внушала им такой страх, что они подбадривали друг друга, звали аллаха и кричали. Ризабек подгонял своих джигитов. Теперь Ризабек был уверен в победе. Несколько часов тому назад он послал гонцов в стойбище, и пастухи пригнали стада к повороту ущелья, чтобы скорее можно было увести их за границу. Ризабек решил захватить пограничников в плен. Он приказал прекратить огонь. Выстрелы и крики смолкли. Пограничники тоже не стреляли. Они понимали, что наступает конец. Иванов нагнулся и поднял свою гранату. — Прощайте, Александр Александрович, — тихо сказал он. Коршунов, бледный, с искривленным от боли лицом, оперся на плечо одного из бойцов и встал на ноги. — Прощайте, товарищи, — сказал он. — Мы сделали все, что могли. Прощайте. Он тяжело дышал. Пот каплями выступил на его лице. Медленно подняв руку, он поправил свою кубанку. — Вот, пошла банда. Жаль, Ризабек, что не я положил тебе конец. Ну, товарищи. Басмачи с воем бежали по ущелью. Все пограничники встали рядом. Совсем близко были уже басмачи, и Иванов взялся за кольцо гранаты, когда страшный взрыв потряс воздух и земля дрогнула. Коршунов не удержался на ногах и тяжело сел на камни. В самом центре толпы басмачей поднялся столб желтого дыма. Со склонов срывались осколки скал и, гремя, катились вниз. Эхо долго грохотало в ущелье. Оно смолкло только через несколько минут. Тогда пограничники услышали, как, перекрывая крики басмачей и приближаясь, ревел мотор. Все головы поднялись вверх. Самолет снижался так быстро, что показалось, будто он падает. Над самой землей, оглушительно рыча мотором, он выровнялся, бреющим полетом пронесся над басмачами, четко простучал пулеметом и взмыл вверх. Снова ударил взрыв, снова обрушились камни, к снова дымом заволокло ущелье. Самолет развернулся, круто кренясь на крыло, и опять пошел в пике. Басмачи бежали. Третья бомба разорвалась в середине стада верблюдов. Пастухи Ризабека гнали верблюдов по ущелью. Обезумевшие от страха животные бросились навстречу бегущей банде. В панике басмачи метались по ущелью. Самолет подымался, пикировал и, проносясь бреющим полетом, бил в толпу из пулеметов. Ризабек с лучшими джигитами прорвался через взбесившееся стадо и устремился по ущелью прочь от границы. Но в ущелье входил уже отряд Петрова. Басмачи сдавались. Ризабек хотел застрелиться. Его же джигиты связали его и выдали пограничникам. Петров с авангардом своего отряда проскакал по ущелью и встретился с бойцами Коршунова. Пограничники на руках несли своего командира, за ними, опираясь на шашку, шел Иванов. Коршунов лежал закрыв глаза и пел. Самолет в последний раз совсем низко пролетел над ущельем Трех овец. Кузнецов высунулся из кабины. Он увидел кучку пограничников и Коршунова на их руках. Серая кубанка с зеленым верхом косо держалась на откинутой голове Коршунова. Кузнецову показалось, что Коршунов смотрит вверх, на самолет. Кузнецов улыбнулся и тронул спину летчика. Летчик взял руль на себя, самолет взмыл вверх и выровнялся над снежной горой. Тогда Кузнецов крикнул в трубку: — Молодец, Дмитрий Анатольевич! Летчик обернулся, засмеялся и рукой показал вниз. Внизу, под самолетом, расстилались горы, блестели ледники и снега на вершинах, текли реки в ущелье. Ущелья Трех овец уже не было видно. — Вот это хозяйство! — крикнул Кузнецов.АЛЫ
Был закон: если умирает старший брат, жена его переходит к младшему брату. Был этот закон — законом бедняков. За жену платили калым[40]. Нельзя семье бедняка расточительствовать и неоткуда взять деньги. Один раз калым заплачен, — зачем платить два раза? И жена старшего брата хоронила мужа и становилась женою младшего брата. Отец Алы женился на матери Алы после смерти ее первого мужа. Отец Алы был младшим братом. Матери было почти пятьдесят лет, когда родился Алы. Отцу было тогда тридцать лет. Мать умерла через полгода после рождения Алы, и Алы не помнил ее. Нянчила Алы дочь матери от первого брака. Звали ее Джамиля, и приходилась она одновременно родной и двоюродной сестрой Алы. В страшной бедности жила семья. Отец батрачил у русского кулака, и целыми днями Джамиля и Алы одни оставались в изодранной юрте. Кошмы на юрте были такие рваные, что ночью сотни звезд смотрели в юрту, а когда шел дождь или снег, Джамиля с Алы прижимались друг к другу и с головой закрывались рваными одеялами. На всю жизнь запомнил Алы затхлый запах старого тряпья. Снег и дождь гасили костер в юрте. В костре жгли джаргонак — колючий кустарник. Джаргонак горел жарко, но быстро сгорал и легко гас. Чудом выжил маленький Алы. Джамиля кормила его жеваным хлебным мякишем и ягодами и очень редко молоком. Мясо в первый раз ел Алы, когда ему было меньше года. Это было на поминках по умершей матери. Отец зарезал тогда единственного барана. После этого Алы ел мясо через много лет, когда Джамилю продали старому бию[41], и бий заплатил за Джамилю калым. Пять баранов и старая кобыла — вот сколько стоила Джамиля. Чудом выкормила Джамиля Алы, но Алы вырос сильным и крепким. Был он очень худ и невысок ростом, но в тонких руках его была большая сила. Еще не было Алы десяти лет, когда русские мальчишки поймали его и Джамилю на краю селения. Мальчишки дразнили Джамилю. Их предводителем был Митька, сын кулака, у которого батрачил отец Алы. Митька был рослым и здоровым. Лет ему было не меньше двенадцати. Митька сзади подкрался к Джамиле и повалил ее на землю. При этом разорвалось ветхое платье Джамили, и русские мальчишки увидели ее смуглое тело и закричали ей русские ругательства. У Алы потемнело в глазах. Не помня себя, он бросился на обидчика, сбил его с ног и вцепился ему в горло. Митька уже начал задыхаться, когда остальным мальчишкам и Джамиле удалось оттащить от него Алы. Мальчишки не тронули Алы. Но Митька пожаловался своему отцу, и отец Митьки пришел в юрту, скрутил Алы руки и долго бил Алы камчой. Кожа клочьями висела у Алы на спине. Джамиля, плача, обмыла Алы тепловатой водой из арыка. Алы болел три недели, но выжил и поправился. Только шрамы остались на спине. Через год Алы начал вместе с отцом батрачить у русского. Еще через год за Джамилю заплатил калым богатый старик-бий. Джамиля стала третьей его женой. На праздничном тое[42] отец Алы напился до бесчувствия, и старик муж Джамили смеялся над ним. У старика была болезнь глаз. Глаза его были красные, и из них тек гной. Джамиле плохо жилось в доме бия. Две старшие жены били ее и заставляли делать самую грязную и тяжелую работу. По ночам муж брал ее в свою юрту. Старик был противен Джамиле, и он мучил Джамилю и бил плеткой. Джамиля терпела полгода. Через полгода она убежала от мужа. Она пришла в юрту отца Алы, своего дяди и отчима. Отец Алы лежал больной. У него была чахотка. Он умирал от этой болезни. До вечера Джамиля ухаживала за больным. Вечером с работы вернулся Алы. Джамиля плакала. Она рассказала Алы, как плохо ей было у мужа, и показала синяки и страшные кровоподтеки на своем теле. Алы ничего не сказал. Алы только скрипел зубами и мотал головой. Ночью в юрту пришли люди с фонарями и ружьями. Впереди шел старик бий. Он пришел за своей женой, за Джамилей. Он бил Джамилю ногами и в кровь разбил ей лицо. Потом он увел Джамилю. Алы плакал и грыз себе руки. Через несколько дней умер отец Алы. Алы остался совсем один. Он все еще батрачил у кулака. Джамилю Алы увидел через два месяца. Они встретились на поле далеко за селением. Джамилю трудно было узнать, — так она похудела и осунулась. Она говорила очень тихим голосом и смотрела в землю. Она рассказала Алы, что жизнь ее стала совсем невыносимой. Муж бил ее и вырывал волосы у нее на голове и раскаленными щипцами для углей жег ее тело. На следующий день Алы пришел к своему хозяину и попросил расчет. Хозяин не хотел отпускать Алы, потому что Алы, несмотря на молодость, был отличным работником. Но Алы настаивал. Тогда хозяин расплатился с ним. При этом он заплатил Алы меньше половины того, что полагалось. Алы ничего не сказал. Он попрощался с хозяином и ушел. В лавке Алы купил муки, соли и большой нож. Нож был садовый. Алы купил его, потому что других ножей не было в лавке, а Алы нужен был большой нож для того дела, которое Алы задумал. Вечером Алы подстерег мужа Джамили на темной улице, когда старик шел домой из кабака. Алы выскочил из-за дувала и ударил старика ножом в бок. Старик упал. От страха и боли он не мог кричать. Алы убежал. Он прибежал в свою юрту, забрал муку и соль, поджег юрту и ушел. Он ушел в горы. Несколько дней он жил хорошо. Он ничего не делал и много спал. Но когда кончилась еда, голод начал мучить Алы. Через неделю, блуждая по горам и питаясь ягодами. Алы набрел на табун лошадей, и пастухи приютили его. Еще через некоторое время к пастухам приехал хозяин табуна. Он был старик и очень богатый бай. Ему нужны были пастухи, и он нанял Алы и ни о чем его не спрашивал. Через год произошло несчастье. Любимая кобыла бая родила вороного жеребенка. Алы, когда полагалось, отнял жеребенка от матки и доил кобылу вместе с остальными. Старый бай приехал посмотреть свои табуны. Алы показал ему жеребят. Увидев вороного жеребенка, бай очень рассердился. Он закричал, что такого жеребенка нельзя отнимать от матки ради кумыса для грязных пастухов. Алы молчал. Тогда бай ударил Алы камчой по лицу. Алы почувствовал страшную боль и упал, обливаясь кровью. Кровь текла из левого глаза. Вороной жеребенок понюхал руки Алы и слизал с них кровь. Уже вечером Алы поднялся, с трудом дотащился до реки и обмыл лицо. Левый глаз вытек, и Алы окривел. Зимой, в этом же году, Алы узнал, что старик бий не умер, а вылечился. Он еще больше истязал Джамилю, и Джамиля не вытерпела. Она повесилась. В селение приехал исправник, чтобы производить следствие, но бий дал ему взятку, и исправник уехал. Шли годы. Алы пас стада. Алы, вырос и окреп. Характер у Алы был замкнутый. Алы мало говорил. Друзей не было у Алы, и никого Алы не любил. Когда старый бай умер, все имущество унаследовал его сын. Сыну было сорок лет, но его называли «молодой бай». Однажды молодой бай приехал к пастухам и с ним много джигитов. Бай собрал пастухов и говорил с ними. Он рассказал, будто русские идут против киргизского народа и хотят отнять у киргизов скот, нарушить все старые обычаи и надругаться над верой. Бай дал каждому пастуху по винтовке и сказал, что теперь они не пастухи, а джигиты. У Алы не было скота, который могли бы у него отобрать, но Алы всегда хотелось иметь винтовку, и Алы стал джигитом у молодого бая, стал басмачом. Однажды пограничники догнали басмачей, был бой, и пограничники победили. В бою Алы ранили в голову. Рана была легкая. Когда бой кончился, пограничник перевязал голову Алы чистым бинтом. Командир пограничников говорил с пленными басмачами. Он сказал, чтобы курбаши назвали свои имена, но баи, которые всегда кричали о храбрости, боялись и молчали. Тогда Алы встал и сказал все, что он думал, и назвал имена баев. Потом всех пленных отвезли в город. Баев судили, и молодого бая приговорили к расстрелу. Алы был на суде. После суда тот же командир, который победил басмачей и взял в плен молодого бая, говорил с Алы. Еще никогда никто не говорил с Алы так, как этот командир. Алы никак не мог понять, почему командир пограничников говорит с басмачом, со своим врагом, как будто он говорит со своим другом. Командир угостил Алы и отпустил его на свободу. Алы давно не был в мирных аулах и теперь увидел, как изменилась жизнь. Киргизы учились обрабатывать землю, и бедняки жили так хорошо, как Алы не мог и мечтать. Земля принадлежала беднякам, и баев и богатых не было в аулах. Алы нанялся пастухом в совхоз, и ему платили за работу и дали хорошую одежду. Потом Алы снова вызвал командир пограничников. Он сказал, что верит Алы, и просил помочь пограничникам победить басмачей. Потом отряд пограничников пошел через горы, и Алы показывал дорогу. Еще один киргиз, старик Абдумаман, тоже показывал дорогу. Он был очень храбрый, этот старик, и Алы он очень нравился. Пограничники нравились Алы, и он никогда не видел, чтобы люди были такие храбрые и такие друзья, как пограничники. С Алы особенно подружился один боец, его звали Суббота. Суббота много разговаривал с Алы, и Алы узнал важные вещи про советскую власть, и про пограничников, и про колхозы, и про партию большевиков. Когда басмачи заметили разведку отряда, командир пограничников написал письмо и послал Алы с Субботой к другому командиру. Ехать нужно было через горы, и Алы с Субботой командир дал запасных лошадей. Суббота и Алы ехали, не жалея ни себя, ни лошадей, нигде не отдыхали, загнали первых лошадей и пересели на запасных. Алы разыскивал дорогу. Он искал дорогу самую короткую и не заботился, чтобы дорога была хорошей. Только один раз Суббота и Алы остановились, чтобы покормить лошадей, потому что и вторые лошади устали. Суббота и Алы говорили о командире пограничников. Алы спросил: кто научил командира так воевать, и так говорить с людьми, и так относиться к людям? Суббота ничего не ответил, и Алы сказал, что он сам знает, кто научил командира всему этому. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Потом Суббота и Алы ехали дальше. Они гнали лошадей, и лошади совсем выбились из сил. Лошадь Субботы сорвалась с тропы, и Суббота упал и сломал ногу. Тогда Алы поехал один. Суббота отдал Алы письмо командира. Алы доскакал до Черной долины, где шел большой отряд пограничников, и отдал их начальнику письмо. Потом Алы повел большой отряд к ущелью Трех овец. По дороге подобрали Субботу. В ущелье Трех овец шел бой, и тридцать пограничников уже второй день бились со всей бандой Ризабека Касым. Из тридцати пограничников осталось десять, когда пришел большой отряд, и, как ни спешил большой отряд, он пришел бы слишком поздно, если бы не прилетел самолет. Самолет разогнал басмачей бомбами и пулеметом. Алы в первый раз в жизни видел самолет. Командир пограничников был тяжело ранен. Его несли на руках, он был почти без памяти и тихо пел. Командир чуть не умер, и доктор в больнице в городе дежурил около командира дни и ночи. Алы много раз ходил в больницу узнать о здоровье командира. Наконец через две недели доктор сказал Алы, что командир будет жив и поправится. Еще через неделю доктор разрешил Алы на несколько минут зайти в комнату, где лежал командир. На Алы надели белый халат, и командир не сразу узнал его. Командир был очень бледный и слабый. Он говорил еле слышно, и у него не было сил говорить громче. Через два месяца после боя в ущелье Трех овец Алы подал заявление в партию большевиков. Первую рекомендацию Алы дал командир. Командир этот был Коршунов.ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Поезд шел на север. С каждым днем становилось холоднее. Коршунов был один в купе. Он редко выходил. Опираясь на палку, медленно прохаживался по перрону на больших станциях. Рана не болела, но Коршунов был слаб. Почти все время он лежал на мягкой вагонной постели, и ему приятно было слушать стук колес и думать. Скучая в больнице, Коршунов выучился курить. Иногда казалось, будто папиросы успокаивают боль. Теперь, в поезде, курение доставляло Коршунову удовольствие. Коршунов много думал о Кузнецове и о последнем разговоре с ним. Разговор этот происходил перед самым отъездом, когда Коршунов явился проститься с Кузнецовым. Собственно, ничего особенного Кузнецов не сказал, и Коршунов даже не мог вспомнить точно те выражения, в которых Кузнецов пожелал ему счастливого пути и хорошего отдыха. Но что-то во всем этом разговоре было такое, что оставило у Коршунова очень приятное воспоминание. Показалось Коршунову, что в голосе Кузнецова, во всем его обращении была необычная мягкость, чуть ли не нежность какая-то. Еще и еще раз вспоминая этот разговор, Коршунов пытался убедить себя, что Кузнецов говорил с ним, как говорил бы со всяким другим командиром, уезжающим на поправку после раны. Но первое ощущение не проходило. В Самаре Коршунов пересел в другой поезд, идущий на юг.2
Первые две недели жизни в санатории Коршунов почти не выходил из комнаты. Была плохая погода. Шли дожди, тяжелые тучи заволакивали горы. Коршунов подходил к окну. Струи воды текли по стеклу. Голая ветка билась снаружи о стекло. Коршунова раздражал неровный стук сучьев. Изредка дождь прекращался и расходились облака. Тогда становились видны горы. Горы казались Коршунову невысокими, и очертания их были однообразны. Отдыхать Коршунов не умел, и вынужденное безделье тяготило его. Глядя на горы, он с тоской вспоминал привычную жизнь на границе. Чувствовал себя Коршунов с каждым днем все лучше и лучше, слабость проходила, рана заживала хорошо. Через две недели погода изменилась. Как-то утром Коршунов проснулся от яркого света. Солнце било в окно, заливало всю комнату. Коршунов долго лежал в постели. Потом встал, оделся и спустился в сад. Он встретил главного врача и попросил его, чтобы еду не приносили больше в комнату. Коршунову хотелось есть в общей столовой. Врач сказал, что отдаст нужные распоряжения, и предложил Коршунову сегодня же завтракать в общей столовой. Вместе с врачом Коршунов еще погулял по саду. Они поговорили о ране Коршунова и о перемене погоды. Когда прозвенел гонг к завтраку, Коршунов вошел в столовую. Он пришел первый, в столовой было пусто и вкусно пахло горячим молоком и свежим хлебом. Сестра-хозяйка пожелала Коршунову доброго утра и указала место за столом. Сестра-хозяйка была немолодая. Коршунову она показалась милой в белом халате и с белой косынкой на голове. Столовая наполнялась больными. Коршунов никого не знал. Ему очень хотелось разговаривать, знакомиться с людьми, но он всегда немного смущался, а теперь, в непривычной обстановке, смущение овладело им еще сильней обычного. Стол, где сидел Коршунов, был накрыт на четверых, но занятыми были два места. Так сказала сестра-хозяйка. Коршунову было интересно узнать, кто окажется его соседями. Наконец соседи пришли. Один из них, высокий худой человек, в очках, со странным скуластым лицом и длинными зубами, был известный писатель. Он поздоровался с Коршуновым, приветливо улыбнулся, и пожимая руку, назвал свою фамилию. Фамилию писателя Коршунов слышал и читал его статьи в газетах, но книг его не читал. Почему-то Коршунову сделалось неловко. Писатель был веселый человек. Он говорил все время, и то, что он говорил, было смешно. Даже если писатель говорил о серьезных вещах, лицо его было таким жизнерадостным и веселым, что слушателям хотелось улыбаться. Писатель Коршунову понравился. Второй сосед по столу Коршунову не понравился. Он был директором какого-то учреждения, — грузный человек с большим животом, розовым гладким лицом, на котором маленькие квадратные усики казались наклеенными. Он молчал в течение всего завтрака и много ел. Только один раз он сказал официантке, что пища ему не понравилась, и сердито отодвинул тарелку. Писатель кончил есть и ушел. Второй сосед посмотрел ему вслед и сказал, неприятно улыбаясь, что вот как человек веселится и как ему все нравится, а ведь он полумертвец. Коршунов не понял, почему веселый писатель может быть полумертвецом, но ему так не нравился второй сосед, что он не хотел с ним разговаривать и ничего не спросил. Позднее Коршунов узнал, что веселый писатель действительно смертельно болен и что положение его всеми врачами признано безнадежным. Второй сосед по столу через несколько дней переехал в другой санаторий. Неделю Коршунов и писатель ели вдвоем. Два других места были свободны. Писатель по-прежнему нравился Коршунову. В то утро, когда Коршунов в первый раз завтракал в общей столовой, он почувствовал себя совершенно здоровым.3
К концу третьей недели Коршунов, придя однажды к завтраку, увидел, что за столом рядом с писателем сидит девушка. Писатель оживленно разговаривал с ней, и оба они не заметили, как подошел Коршунов. Коршунов остановился в нерешительности. Девушка сидела к нему спиной. Она была в шелковом платье, волосы ее были коротко острижены. Девушка громко смеялась. Писатель говорил что-то смешное, наклонясь над столом и блестя толстыми стеклами очков. Коршунов поздоровался, и писатель вскочил и церемонно представил Коршунова девушке. Ее звали Елена Ивановна, она только что приехала из Москвы. Девушка протянула Коршунову руку и сказала, что писатель уже все рассказал ей о нем, о Коршунове, что они, конечно, будут друзьями и что она сразу просит называть ее Леной. Коршунов пожал девушке руку, ничего не сказал, покраснел и разозлился, чувствуя, что его смущение заметили и девушка и писатель. Девушка и писатель продолжали прерванный разговор. Они говорили о новых книгах и постановках в театре. У них оказалось много общих знакомых, и девушка рассказывала писателю последние московские новости. Девушка работала секретаршей у начальника большого отдела одного из наркоматов. Она сказала, что ее патрон никак не соглашался дать ей отпуск, пока сам не поехал отдыхать, и поэтому ей пришлось ехать в отпуск не летом, а зимой, но она надеется все-таки хорошо провести время, особенно в таком блестящем окружении. Она, смеясь, посмотрела на писателя и на Коршунова. Писатель поклонился, а Коршунов снова покраснел. Разговор не умолкал, но Коршунов не произнес ни слова. Все, о чем говорили девушка и писатель, было незнакомо Коршунову. Он не читал книг, о которых упоминали, и не видел спектаклей и фильмов. Ему показалось, что девушка очень много знает, и стадо стыдно своего невежества. Он вспомнил о жалкой опереточной труппе, которая приводила в восторг его и других командиров. Труппа эта редко бывала в их городе, и командиры съезжались с границы, ночи напролет гоня лошадей, чтобы поспеть на представление. Девушка и писатель говорили об известных артистах и писателях, имена которых Коршунов только слышал. Девушка говорила о многих из них как о своих знакомых и называла их по именам или по имени и отчеству. Завтрак окончился. Коршунов хотел уйти, но девушка взяла его под руку, писатель взял под руку девушку, и они втроем долго ходили по саду. Коршунов по-прежнему мучительно молчал, и когда девушка обратилась к нему и спросила, нравится ли ему какая-то книга, о которой они с писателем спорили, Коршунов сердито сказал, что книги этой он не читал и что ему нездоровится, и ушел. Девушка удивленно на него посмотрела. Коршунов пошел в свою комнату, лег на кровать и не вставал до обеда. К обеду он вышел мрачный. Ему казалось, что девушка поняла причину его смущения и что она будет свысока обращаться с ним. Но девушка так приветливо встретила его и так искренне спросила, как он себя чувствует, что Коршунов повеселел. Писатель смешно рассказывал о санаторских нравах, и девушка смеялась так заразительно, что Коршунов почувствовал себя совсем свободно. Под конец обеда заговорили почему-то о лошадях, и Коршунов настолько разошелся, что рассказал о своих жеребцах и о Басмаче. Рассказывал он, очевидно, интересно, потому что девушка и писатель притихли и внимательно слушали. Когда Коршунов кончил, девушка сказала, что это замечательно так жить, как живут пограничники, и что это настоящая жизнь, и что она серьезно завидует Коршунову. Коршунов чуть не сказал, что он завидует ей, Лене, потому что она так много знает и так много читала, и видела в театрах и в музеях, и все такое. После обеда писатель предложил завтра утром удрать с завтрака и отправиться в горы. Девушка захлопала в ладоши и сказала, что это замечательно и что она встанет в шесть часов и будет ждать писателя и Коршунова в беседке, и что это будет чудно. На следующий день Коршунов встал в пять часов утра и долго брился и причесывался. Без десяти шесть он постучался в комнату к писателю, и они тихонько пробрались в сад и направились в беседку. Лена опоздала на полчаса. Писатель смешно упрекал ее, и они почти бегом вышли из сада и двинулись к горам. Сначала все было хорошо. Приятно было идти. Солнце только что поднялось из-за гор. Было свежо и ясно. Но в десять часов небо заволокло тучами и начался дождь. Они повернули обратно и пришли в санаторий задолго до обеда. У писателя промокли ноги, и он простудился. К обеду он не вышел. Коршунов не знал, о чем говорить за обедом. Лена несколько раз зевнула, сказала, что ей хочется спать и три раза спросила, что с писателем. Писатель не явился к ужину. После ужина Коршунов и Лена решили его навестить. Писатель лежал в постели. Он был очень бледен, часто кашлял и плевал в платок. Он обрадовался гостям, сел на постели и стал смешить их. Но у него был такой больной вид, что ни Коршунов, ни Лена не смеялись. Лена села на подоконник и перебирала книги, наваленные там. Она предложила почитать стихи. Писатель сказал, что это было бы прекрасно, и откинулся на подушки. Коршунов промолчал. Лена наугад раскрывала книжки и читала. Стихи она читала неплохо, но немного напряженно и слишком громко для маленькой комнаты. Коршунову не нравилось то, что она читала, и становилось скучно. В комнате было почти темно. Горела только одна настольная лампа с синим абажуром. Лампу Лена поставила на окно рядом с собой, и шнур протянулся через всю комнату. Сидя в кресле, Коршунов курил и смотрел на смуглое лицо Лены, снизу освещенное лампой. Писатель сказал, что почему-то попадаются сплошь плохие стихи, и попросил Лену почитать лучше книжку, которую до их прихода читал он сам. Он протянул Коршунову маленькую книжечку в сером переплете, и Коршунов встал и передал книжку Лене. Лена долго молча перелистывала книжку, и Коршунов хотел уже попрощаться и идти спать, когда Лена сказала, что она еще не читала этих стихов и пусть ее простят, если онабудет читать плохо. Она начала, и с каждым словом Коршуновым овладевало незнакомое ему волнение. Ритм стихотворения подчинил себе его мысли. Давно и хорошо известные Коршунову ощущения, ощущения, которые он никогда не смог бы выразить, вдруг получили ясную, точную форму. Коршунов не представлял себе, что стихи могут так действовать, и слушал, застыв на месте, глядя в темноту, почти оглушенный силой слов. Лена читала:…Это значит — в песчаном корыте
От шалашной норы до норы
Чабаны-пастухи не в обиде
И чолуки-подпаски бодры.
Что сучи-водоливы довольны,
Значит выхвачен отдыха клок,
Можно легкой камчою привольно
Пыль сбивать с полотняных сапог,
Пить чаи, развалясь осторожно,
Так, чтоб маузер лег не под бок,
Чтоб луна завертела безбожно
Самой длинной беседы клубок…
И — по коням… И странным аллюром,
Той юргой, что мила скакунам,
Вкось по дюнам, по глинам, по бурым
Саксаулам, солончакам…
Чтобы пафосом вечной заботы
Через грязь, лихорадку, цингу
Раскачать этих юрт переплеты,
Этих нищих, что мрут на бегу.
Позабыть о себе и за них побороться,
Дней кочевья принять без числа
И в бессонную ночь на иссохшем колодце
Заметить вдруг, что молодость прошла…
…И — по коням… И странным аллюром,
Той юргой, что мила скакунам,
Вкось по дюнам, по глинам, по бурым
Саксаулам, солончакам…
4
К завтраку Коршунов опоздал. Писатель и Лена уже сидели за столом. — Ну, поздравляю, — сказал писатель и крепко пожал Коршунову руку. — И я поздравляю, — сказала Лена. — От души поздравляю! Она тоже пожала руку Коршунову. Коршунов не понимал, в чем дело. Он решил, что над ним смеются, и нахмурился. — Слушайте, Лена, он, по-моему, ничего не знает, — громко сказал писатель. Коршунов удивленно посмотрел на него. — В чем дело? Я не знаю, о чем вы говорите. — Нет, правда? — Честное слово. Писатель встал и через стол протянул Коршунову газету. Газета была сложена так, что Коршунов сразу увидел свою фамилию. Он два раза прочел заметку, раньше чем ее смысл дошел до его сознания. В заметке было написано:— Теперь-то можно вас поздравить? — сказала Лена. Коршунов растерянно вертел в руках газету. — Спасибо… Я не знаю только… Спасибо вам… К концу завтрака в столовую вошел главный врач. Он подошел к Коршунову, поздравил его и передал ему телеграмму. Телеграмма была от Кузнецова:ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СОЮЗА ССР
За выдающиеся заслуги в деле охраны советских границ ЦИК Союза ССР постановил наградить орденом Красного Знамени Союза ССР тов. Коршунова, Александра Александровича.
Горячо поздравляю тчк КузнецовВечером в тот же день Коршунов получил телеграмму из Главного управления пограничной охраны с приказанием срочно выехать в Москву. На следующий день за завтраком Коршунов простился с Леной и писателем. Поезд уходил в двенадцать часов. На вокзал Коршунов явился рано. Он положил чемодан в вагон и вышел на перрон. Вагон должны были прицепить к поезду, идущему на Москву; поезд еще не приходил, и до отъезда оставалось минут двадцать. Зимнее солнце высушило землю после вчерашнего дождя. Прямой, подтянутый, в кавалерийской шинели и кубанке, Коршунов выглядел щеголевато. Народу на перроне почти не было. Коршунову казалось, что время тянется медленно. Хотелось поскорее уехать. Он вспомнил, что забыл купить папиросы, и направился в буфет, когда его окликнули. — Александр Александрович! Лена стояла за его спиной. Она была в коричневой кожаной куртке и в вязаной шапочке. Коршунов, улыбаясь, подошел к ней и протянул ей руку. Она взяла его руку и тихо засмеялась. — Я пришла проводить вас, Александр Александрович… — А где писатель? — спросил Коршунов. Он спросил это просто для того, чтобы сказать что-нибудь, но сразу заметил, что Лене вопрос не понравился. — Я не знаю, — сказала она и отвернулась. Вид у Лены был обиженный. — У вас нет папирос? — спросила она. — Да, я и забыл: мне же нужно купить папирос. Пойдемте в буфет, Леночка. Они оба обрадовались тому, что нашлось какое-то занятие. — Давайте выпьем на прощание, Александр Александрович, — сказала Лена. В голосе ее Коршунову послышалась какая-то значительность. — Выпьем. Пива? — Лучше коньяку. — Давайте. Две рюмки коньяку, — сказал Коршунов буфетчику. Буфетчик приветливо улыбнулся, махнул полотенцем по стеклу, закрывающему стойку, и весело сказал: — Коньяку нету. Водочки выпейте. — Будете водку пить, Леночка? — Что ж, выпьем. — Дайте две рюмки. — Извольте. Чего на закуску прикажете? — Что у вас есть? — Кильки есть. Яички есть. — Мне кильки, Александр Александрович. — А вам что позволите? — Ничего не нужно. — Слушаюсь. Пожалуйте. Водка была холодная и показалась Коршунову вкусной. Лена не допила рюмки и закашлялась. Коршунов предложил ей воды. Поезд подошел. Лена и Коршунов направились к вагону. Лена спросила, можно ли ей написать Коршунову, и Коршунов сказал: пожалуйста, и Лена записала адрес Коршунова. Раздался звонок. — Прощайте, Александр Александрович! — Прощайте, Леночка. Коршунов пожал ее руку. Поезд тронулся. Проходя по вагону к своему купе, Коршунов видел в окно Лену. Она смотрела вслед поезду и махала рукой. Коршунов снял шинель, достал из кармана шинели пачку папирос и, перекладывая ее в карман своих галифе, выронил сложенную бумажку. Коршунов поднял бумажку и развернул ее. Это была телеграмма от Кузнецова. Коршунов улыбнулся, сложил телеграмму и спрятал ее в карман гимнастерки. На ближайшей станции Коршунов побежал на телеграф. Он взял бланк и написал:
Сердечно благодарю, дорогой Андрей Александрович. Ваш Александр.Потом подумал, разорвал бланк, взял новый и написал на нем:
Благодарю. Коршунов.В поезд Коршунов вскакивал на ходу, и от резкого движения почувствовал легкую боль в том месте, куда был ранен. Через два дня Коршунов был в Москве.
5
На вокзале в Москве Коршунова встретил командир в форме пограничной охраны. — Вы — Коршунов? — Да. — Очень приятно. Я из Управления. Фамилия моя Антипов. Секретарь Управления. Идемте скорее. Они вышли на площадь и сели в автомобиль. Антипов сел рядом с шофером. Он несколько раз смотрел на часы и торопил шофера. — Не опоздать бы. Времени в обрез, — говорил он. Он был подчеркнуто деловит и озабочен. — Вы чувствуете себя хорошо, товарищ Коршунов? Вы совсем оправились от раны? Да? Превосходно! Автомобиль подъехал к Кремлю и остановился возле небольшого домика на Красной площади. В домике помещалось бюро пропусков. Антипов выскочил из автомобиля, и Коршунов пошел за ним. Антипов поговорил с дежурным в окошечке, и тот выдал пропуска. — Скорее, скорее, — торопил Антипов. Они так быстро прошли по Кремлю, что Коршунов ничего не успел толком разглядеть. Несколько раз у них проверяли пропуска. Наконец они дошли до какого-то здания и поднялись во второй этаж. В небольшой прихожей они сняли шинели и, поправляя ремни, прошли в приемную. Приемная была полна народу. На столе стояли стаканы с чаем и вазы с печеньем. Люди разговаривали негромко, и в приемной был сдержанный гул голосов. Из соседней комнаты выходили секретари, выкликали какие-то фамилии, и каждый раз несколько человек вскакивало с мест и уходило через секретарскую в следующую комнату, где происходило заседание президиума ЦИК. Через некоторое время люди возвращались и шли в прихожую одеваться, а секретари выкликали новые фамилии. Около окна стояло четверо военных. Коршунов подошел к ним и закурил. Антипов куда-то исчез. Военные были артиллеристы. Они тихо разговаривали между собой. Когда подошел Коршунов, они замолчали. Коршунов смотрел в окно. На белом снегу и белом зимнем небе четко вырисовывались зубцы стен. — Вы тоже награждаться, товарищ? — Усатый пожилой артиллерист повернулся к Коршунову. — Да. И вы? — И мы. — Артиллерист весело улыбнулся. В приемную вошла большая группа людей. Впереди был высокий человек с большой бородой, длинными волосами и светло-голубыми глазами. Он был похож не то на священника, не то на профессора. Бородатый человек отвел одного из секретарей в сторону и что-то тихо говорил ему, улыбаясь и поглаживая бороду. Люди, явившиеся вместе с ним, остановились посредине приемной. Они держались вместе. Среди них были молодые и старики, и Коршунов никак не мог понять, кто они такие. — Кто это? — спросил Коршунов у пожилого артиллериста. — Вот этот, с бородой? Разве не знаете? — Нет. — Это Шмидт. Полярник. — А эти? — Это его экспедиция. Разве вы не слышали о них? — Кое-что слышал, — неуверенно сказал Коршунов. — Я был ранен и долго не читал газет. Секретарь, с которым разговаривал бородатый профессор, отошел от него и громко сказал: — Товарищи полярники и вы, товарищи, — он обернулся к артиллеристам и к Коршунову, — будьте любезны, на минуту соберитесь вокруг меня. Сюда, сюда, пожалуйста. Он рассказал, куда нужно сесть, когда их впустят на заседание, и что нужно делать. Он ушел и через минуту вернулся. — Прошу, товарищи! Заходите потихоньку. Он распахнул двери. Посредине продолговатой, лишенной всяких украшений комнаты в форме буквы «т» стояли столы. По обеим сторонам длинного стола сидели члены президиума ЦИК. В центре короткого стола, прямо против двери, сидел Калинин. Сбоку стола стоял человек с ворохом бумаг в руках и быстро говорил, все время обращаясь к Калинину и называя его по имени и отчеству. Калинин внимательно слушал, приложив к уху согнутую раковиной руку. Речь шла о каком-то вопросе, связанном с Наркомфином. Калинин вдруг прервал говорившего и тихо сказал что-то, очевидно, смешное, потому что сидевшие поблизости от него засмеялись. Калинин весь повернулся. Глаза его сощурились хитро и весело. Он назвал какую-то фамилию, и сразу с другой стороны стола поднялся человек тоже с ворохом бумаги заговорил, также обращаясь к Калинину по имени и отчеству. Он, очевидно, возражал первому. Калинин слушал и быстро записывал что-то в большом блокноте, лежавшем перед ним на столе. Потом Калинин остановил говорившего и внес предложение по существу вопроса. Предложение было принято. Калинин встал и сказал, что порядок дня должен несколько измениться, так как явились товарищи, награжденные орденами Союза, и им нужно вручить ордена. Все обернулись в ту сторону, где вдоль стены сидели награжденные. Коршунов увидел приветливые, улыбающиеся лица. Ему стало неловко, руки мешали, и он не знал, куда деть их, и стал поправлять гимнастерку. Из боковой двери внесли столик с грудой синих коробочек. Рядом с Калининым встал секретарь и прочел постановление о награждении участников полярной экспедиции. Потом он начал выкликать фамилии, и к Калинину, один за другим, подходили полярники. Михаил Иванович вручал ордена, поздравлял и пожимал руки. Члены президиума аплодировали. Люди возвращались на свои места красные от смущения, возбужденные и радостные. Тут же они привинчивали ордена в петлицы своих костюмов. От имени полярников говорил бородатый профессор. Он говорил горячо, но немного витиевато, как показалось Коршунову. Коршунов с интересом рассматривал полярников. Арктика представлялась ему смутно. Он слушал речь бородатого профессора и вспомнил о ледяных горах, о холоде, о собаках, о ледоколах. Люди, плавающие в Ледовитом океане, путешествующие по пустынным снежным землям, казались ему настоящими героями. Бородатый профессор кончил, и все зааплодировали, и Коршунов аплодировал вместе со всеми. Аплодисменты смолкли, и секретарь начал читать новый текст. Коршунов неожиданно услышал свою фамилию и встал. На секунду он забыл все, что говорил секретарь в приемной, и растерялся и не знал, что нужно делать. Потом раздались аплодисменты, все обернулись к Коршунову, и он пошел к улыбающемуся Калинину. Комната показалась Коршунову очень длинной. Он чувствовал себя неловко и покраснел, и вокруг все было как в тумане. Наконец он дошел до Калинина, и Калинин передал ему орден и протянул руку. Калинин был ниже Коршунова, и Коршунов слегка нагнулся и осторожно пожал руку Михаила Ивановича. Калинин сказал что-то, и аплодисменты грянули снова, и Коршунов растерянно улыбнулся и вернулся на свое место. Потом Калинин вручил ордена артиллеристам, и от имени артиллеристов говорил тот, с которым Коршунов разговаривал в приемной. Он говорил мало, просто и убедительно. «Правильно… правильно говорит… правильно, — думал Коршунов, молодец… Хорошо! Так бы и мне надо сказать…» Артиллерист кончил. Он поблагодарил партию и правительство за высокую награду и сказал от имени всех награжденных, что их жизнь до конца принадлежит родине. Коршунов первый вскочил с места и зааплодировал так громко, что на него оглянулись. Потом говорил Калинин. Он поздравил награжденных. Он говорил о полярниках. Отдельно он говорил о Коршунове и о пограничниках. Коршунов плохо понимал, что говорил Михаил Иванович, потому что все повернулись к нему, и несколько раз аплодисменты прерывали Калинина, и Калинин сам аплодировал, смеясь и глядя на Коршунова. Когда Калинин кончил, все члены президиума снова аплодировали, и награжденные вышли. Двери за ними закрылись, Калинин сел, и заседание продолжалось. Но долго еще Калинин улыбался, вспоминая о награжденных, и потирал руки. Особенно хорошо запомнился Михаилу Ивановичу рослый пограничник, который так сильно смущался, что Михаилу Ивановичу было весело на него смотреть.6
Десять дней, проведенные Коршуновым в Москве, промелькнули так быстро, что Коршунов не успел опомниться. После награждения расторопный Антипов повез Коршунова в гостиницу. Антипов все время торопился, и Коршунов успел только немного помыться. Вместе с Антиповым он поехал в Главное управление пограничной охраны. Начальник Управления принял его и разговаривал с ним около получаса. Широкое лицо и темные внимательные глаза начальника Управления понравились Коршунову. Начальник говорил негромко и спокойно. Говорил он вообще немного. Больше слушал Коршунова. Коршунову сначала трудно было говорить, но через несколько минут он почувствовал себя совсем свободно. Расспрашивая Коршунова о Средней Азии и о подробностях ликвидации Ризабека Касым, начальник так задавал вопросы, что течение мыслей Коршунова не прерывалось, а наоборот, Коршунову становилось легче говорить. Начальник поздравил Коршунова с награждением орденом, сказал, что просит передать привет Кузнецову, когда Коршунов вернется, и предложил пожить в Москве. Коршунов поблагодарил, щелкнув шпорами, и вышел. В коридорах Управления Коршунова поздравляли знакомые и незнакомые командиры. Со всех сторон его окликали и жали ему руку, и некоторые даже целовались с ним. Все еще немного растерянный, Коршунов разыскал Антипова и спросил его, что он, Коршунов, должен делать дальше. Антипов ответил, что начальник разрешил Коршунову две недели отдыхать в Москве и ему, Антипову, приказал сделать этот отдых возможно более приятным. Первым долгом нужно обеспечить отдых материальной базой. С этими словами Антипов передал Коршунову пачку денег и сказал, что это также по распоряжению начальника. Уже вечером Коршунов пешком дошел до гостиницы. У себя в номере он разделся, лег в кровать и сразу заснул. Проснулся Коршунов рано утром. Днем он бродил по Москве, а вечером встретился с несколькими приятелями — командирами, служившими раньше в Средней Азии. До поздней ночи они говорили, вспоминали дела, в которых вместе участвовали, и товарищей, погибших в боях с басмачами. Они не были трезвенниками, и Коршунов основательно напился. Потом пошли дни, похожие один на другой и полные новых, необычайных впечатлений. Каждый вечер Коршунов ходил в театр. Билеты в лучшие московские театры доставлял все тот же Антипов. Днем Коршунов осматривал Москву. Половину своих денег он истратил на книги, и пришлось купить большой чемодан, чтобы книги уложить. По Москве Коршунов ходил с картой и никого не спрашивал, и к концу пребывания в Москве довольно хорошо знал город. На девятый день утром по телефону позвонил Антипов. Он сказал, что на вечер есть место в Большой театр и что для Коршунова получено письмо. Коршунов зашел в Управление. Письмо было от Кузнецова. В короткой записке Андрей Александрович еще раз поздравлял с орденом, упоминал о допросах Ризабека Касым (Ризабек не верил, что в отряде Коршунова было только тридцать человек) и писал о новых делах в округе. Старик Петров преследует в песках шайку курбаши Абдулы Абдурахманова. Письмо кончалось пожеланиями хорошенько отдохнуть и советом не торопиться с возвращением. Так же, как последний разговор с Коршуновым, письмо Кузнецова не содержало ничего особенного, и, вместе с тем, весь тон письма был проникнут дружеской сердечностью и почти отеческой заботливостью. Коршунов два раза перечитал последнюю фразу:«…советую не спешить, в Москве пробыть дольше и не торопиться с возвращением».Складывая письмо и пряча его в тот карман, где лежала телеграмма Кузнецова, Коршунов задумчиво улыбался. Он подошел к столу Антипова и сказал, что просит забронировать на завтра железнодорожный билет. Антипов удивился. — В нашем распоряжении ведь еще пять дней, товарищ Коршунов. — Да, я знаю. Но мне хотелось бы уехать завтра. — Начальство торопит? — Нет, не в том дело. Впрочем, пожалуй, да — торопит меня начальник. Антипов позвонил на вокзал и забронировал билет. На следующий день Коршунов уехал.
7
Когда Коршунов вошел в кабинет Кузнецова, Кузнецов встал из-за стола и обнял Коршунова. — Здравствуй, Коршунов. — Здравствуйте, товарищ начальник. — Поздравляю. — Спасибо. — Зачем ты приехал раньше срока? А? Я ж писал тебе. Получил письмо? — Получил, товарищ начальник. Спасибо. Я думал только… — Думал, думал! Попал в Москву — надо было сидеть, пока можно. Зря! Зря приехал. — Андрей Александрович… — Вылечился ты хоть как следует? — Здоров совершенно, Андрей Александрович, и потом… — Погоди, погоди. Совершенно здоров? Верно говоришь? — Честное слово! — Это хорошо. Вот что я тебе скажу: ты завтра утром можешь выехать? — Могу, Андрей Александрович. — Что могу? А куда ехать, знаешь? — Нет. Еще не знаю. — Коршунов засмеялся. — Что ж ты можешь? — Куда пошлете, туда и поеду, товарищ начальник, и выехать могу хоть сейчас, — сказал Коршунов серьезно. — Ну ладно, ладно. Не вскидывайся. — Андрей Александрович!.. — Иди сюда. Вот видишь — здесь Петров. Он шел за Абдулой с запада. Вот тут. Понимаешь? Абдула ускользнул и здесь прошел через пески к этим вот колодцам. Теперь Петров нажимает на него отсюда, с юга. Знаешь старика Петрова. Спокойно, не торопясь, наверняка. Хорошо. Но Абдула может, почуяв опасность, повернуть на восток и удрать обратно через границу. Через участок пятого поста. С Абдулой у нас дело давнее, и сейчас Абдулу нам надо взять во что бы то ни стало. Кончим с Абдулой — кончим с басмачами. Мелочь останется. Абдула — последний старый волк. Волк он, Шурка, матерый, и у них на него серьезная ставка. Ну, так вот: пятый пост у нас, сам знаешь, Абдуле на один зуб. Я и решил бросить на пятый пост отряд, чтобы Абдула наткнулся на серьезное сопротивление. Но пройти к пятому посту надо не по дороге, — не успеть, Абдула раньше проскочит, — а вот здесь, прямо через пески. Понял, Шурка, куда я тебя посылаю? — Понял, Андрей Александрович. — Завтра и выезжай. — Слушаюсь. — Сейчас некогда мне. Сегодня мой доклад на партийной конференции. Вечером, часов в одиннадцать приходи. Сговоримся о подробностях. У Щепкина возьми билет на конференцию. — Есть. Хорошо. — Ну, иди. Коршунов пошел к двери. — Постой, Коршунов. Ты знаешь, что Захаров убит? — Захаров!.. — Он был помполит у Петрова. В первой стычке с Абдулой его убили. Коршунов стоял опустив голову. Кузнецов долго молча курил. — Ну, иди теперь. Вечером придешь. Командиры в Управлении рассказали Коршунову подробности смерти Захарова. Пограничники догнали банду Абдулы Абдурахманова и отрезали басмачам путь к границе. Петров разделил свой отряд. Меньшую часть под командованием Захарова он оставил на дороге к границе. Сам с большей частью отряда ударил по басмачам с правого фланга. Петров рассчитывал, что Абдула примет бой, но басмачи бросились по дороге к границе и столкнулись с пограничниками Захарова. Захарову с кучкой бойцов пришлось выдержать натиск большой и хорошо вооруженной банды. Сзади на басмачей наседал Петров. Бой был нелегкий. Захаров сумел удержать за собой дорогу, подошел Петров, и Абдуле пришлось отступить на север, в безводные пески. Но в самом конце боя Захаров был убит. Шальная пуля навылет пробила его шею. Он недолго мучился и умер, не приходя в сознание. Его тело пограничники привезли в город. Они семь дней везли мертвого командира через пустыню, и солнце высушило тело. Нет Захарова. Коршунов отчетливо вспомнил рябое, морщинистое лицо Захарова. Умер Захаров. Коршунов вспомнил свой последний разговор с Захаровым. Многое, что говорил тогда Захаров, теперь показалось Коршунову гораздо более понятным, хотя еще не все до конца понимал Коршунов. Вечером Коршунов опять пришел к Кузнецову, и до утра они совещались над картами. Несколько раз разговор о басмачах прерывался, и Кузнецов молчал, шагал по комнате и курил свою трубку. В эту ночь Коршунов окончательно понял, что отношения между ним и Кузнецовым гораздо глубже и больше, чем простые отношения начальника и подчиненного. Пока Кузнецов молчал, Коршунов думал о дружбе, и хотя Кузнецов не говорил ни о чем, кроме планов боевых операций, Коршунов знал, что Кузнецов думает о том же. Уже светлело небо за окном, когда Кузнецов зевнул и сложил карты. — Пора тебе, Коршунов. Поезжай. — До свидания, Андрей Александрович. — Ты что, Шурка, курить научился? — Привык во время болезни, Андрей Александрович, теперь тянет. — Ну, возьми от меня, — Кузнецов открыл ящик стола и достал прямую английскую трубку. — Трубка хорошая, обкуренная. Сам обкуривал. — Спасибо, Андрей Александрович. — Возьми, возьми. Кури махорку. Лучше папирос. — Хорошо. Буду курить махорку. — Ну, будь здоров. Ни пуха ни пера. — До свидания, товарищ начальник. По дороге домой Кузнецов отвез Коршунова на вокзал, но больше они не разговаривали.8
Снова началась привычная жизнь. По-прежнему Коршунов со своим отрядом носился в погоне за бандами и по-прежнему бился с басмачами, и ставками были храбрость, выносливость и упорство, выигрышем — победа, а проигрышем — смерть. По-прежнему знание врага и обстановки, упорство и мужество бойцов, сила коней и уменье распознавать следы часто решали успех боя. Теперь отряд Коршунова шел не в горах, а в песчаной пустыне, теперь не снег и мороз, а жара и жажда мучили бойцов, но по-прежнему жили пограничники, по-прежнему командиры в боях и на отдыхе учили молодых бойцов. По-прежнему росла и крепла боевая дружба пограничников. Все было как прежде, и внешне не изменилась жизнь Коршунова. Но появилось новое в его жизни. Это новое были книги. Переметные сумы на седле Коршунова всегда были полны книг, и Коршунов читал, читал подряд, все без разбора, читал в походе, бросив поводья на шею Басмача, читал на ночевках, лежа возле костра, читал во время коротких отдыхов. Один из московских друзей присылал Коршунову книги, все, что выходило, и вместе с очередной почтой маленькие увесистые посылки догоняли отряд Коршунова в песках, в самых глухих участках границы. Коршунов читал стихи Маяковского и «Илиаду» Гомера, Толстого и Мопассана, Стендаля и Чехова. Достоевский не понравился Коршунову, но он прочел все, что написал Достоевский. Чем больше Коршунов читал, тем больше ему хотелось прочесть книг, и с каждой новой книгой мир расширялся, становился приятней. Томик стихов Киплинга поразил Коршунова жестокой выразительностью. «Хаджи Мурата» Коршунов считал лучшей вещью Толстого. Стихи Коршунов запоминал наизусть и не расставался с маленьким дешевым изданием Пушкина. Своих бойцов Коршунов учил любви к чтению. По вечерам вслух читал им любимых поэтов и книги раздавал красноармейцам. Проходили месяцы. После изнурительных преследований и кровопролитных схваток был взят Абдула Абдурахманов, и на границе наступило недолгое затишье. Потом появилась новая шайка, и басмачи рыскали далеко в тылу от границы, и никак нельзя было обнаружить шайку, пока не была раскрыта шпионская националистическая организация. В погоне за басмачами Кузнецов послал отряд Коршунова, и, когда шайка была захвачена, отряд Коршунова перебросили на укрепление далекого участка границы. Несколько месяцев прожил Коршунов в крохотной крепости, затерянной среди унылых песков. В крепость Коршунову прислали пачку писем. На письмах был старый адрес Коршунова, и письма пересылали с места на место. Почерк был незнакомый, и Коршунов долго не мог понять, от кого эти письма. Только прочитав до конца первое письмо, он вспомнил смуглую девушку из санатория. Письма были от Елены Ивановны. Всего было шесть писем. В первых трех письмах Лена рассказывала о Москве. Все, о чем она писала, Коршунов уже знал, — поездка в Москву не пропала даром. Только теперь Лена совсем не показалась ему такой образованной, так хорошо понимающей многое, что ему, Коршунову, было непонятно. В четвертом и пятом письмах Лена жаловалась на то, что Коршунов не отвечает ей, и тон этих писем был печальный. Шестое письмо было совсем короткое. Лена была обижена молчанием Коршунова и извещала его о том, что больше писать не будет. Все шесть писем кончались московским адресом Лены, а в шестом письме адрес был многозначительно подчеркнут три раза. Коршунов ничего не ответил Елене Ивановне. Писать ей было нечего. Но ее письма он сохранил, и о ней у Коршунова осталось хорошее воспоминание. Собственно, дело было не в ней, а в том, что вечер, когда Лена читала стихи, и ночь после этого Коршунов считал чуть ли не переломными в своей жизни. Пожалуй, так оно и было на самом деле.9
Однажды, рано утром, дежурный доложил, что Коршунова вызывают по телефону. Голос Кузнецова еле слышно говорил в трубку полевого телефона. Разговор прерывался, и тогда телефонист яростно крутил ручку аппарата и ругался с другим телефонистом на линии. Под конец разговора Кузнецов сказал, что в округ, по всей вероятности, пришлют путевку на одно место в Академию Генерального штаба и что эта путевка предлагается Коршунову. Так вот, хочет ли Коршунов идти учиться и сможет ли подготовиться к экзаменам? Коршунов, прикрывая трубку ладонью, крикнул, что он очень рад и, конечно, очень хочет учиться. Потом разговор прервался, и связь наладить больше не удалось. Несколько дней после этого Коршунов мечтал об Академии. Как-то ночью, проверив дозоры на участке и возвращаясь в крепость, он снова вспомнил о Захарове. Вот то, о чем говорил Захаров. Академия! Настоящее учение, настоящая теория, настоящие знания. Коршунову казалось, что вся его жизнь до сих пор была подготовкой, основанием для новой большой и серьезной работы, для Академии. Разговор с Кузнецовым, казалось, замыкал логическую последовательность всех последних событий. Коршунов вспомнил, как Захаров говорил ему о том, что он, Коршунов, прожил один кусок своей жизни. Вот начинается и второй кусок. Коршунов представлял себе, как он будет жить в Москве и учиться в Академии. Прочитанные книги вспоминались ему. Вспоминалась Москва. Будущее представлялось не очень отчетливо, но интересно и заманчиво. Басмач, не чувствуя поводьев, сам выбирал дорогу. Светила луна, и смутно белели песчаные холмы. Тень коня и всадника, удлиняясь и сокращаясь, бежала у ног Басмача. Покачиваясь в седле, Коршунов задумчиво улыбался. Утром вместе с почтой пришел пакет от Кузнецова. В пакете была печатная программа приемных экзаменов в Академию. Коршунов унес программу в свою комнату и внимательно прочел ее. Программа была длинная. Она едва умещалась на ста страницах убористой печати. Чем больше Коршунов читал, тем яснее он понимал, что не сможет подготовиться к экзаменам за тот срок, который оставался. Оставалось меньше трех месяцев. Мечты рушились. Коршунов дочитал программу до конца и долго сидел неподвижно. Комната Коршунова была крошечной каморкой. Глинобитные стены, низкий глинобитный потолок, земляной пол, и вместо окна пролом в половину одной из стен. В пролом открывался печальный вид на ровные, невысокие холмы с редкими кустиками саксаула. Раскаленный воздух дрожал и струился. Холмы шли один за другим всюду, куда хватал глаз, и вдали растворялись в желтом пыльном тумане. Мелкая пыль летала в воздухе. Пыль попадала в уши, в рот, в глаза. От пыли нигде нельзя было скрыться. Стены в комнате Коршунова были во многих местах пробиты пулями, и штукатурка осыпалась. Через пролом в стене Коршунов видел, как красноармейцы вели поить лошадей. Кто-то из красноармейцев запел, и долго слышалась песня:Ходила младешенька по борочку,
Брала, брала ягодку-земляничку,
Наколола ноженьку на былинку.
Болит, болит ноженька, да не больно.
Пойду к свету-батюшке да спрошуся,
У родимой матушки доложуся:
Пусти, пусти, батюшка, погуляти;
Пусти, пусти, матушка, ягод рвати…
10
Разговор об Академии возобновился через год. Весь этот год Коршунов занимался так же упорно, как те три месяца, когда он готовился к экзамену. Десятая комендатура была ближе к городу, и Кузнецов часто вызывал Коршунова. Каждым своим приездом Коршунов пользовался для того, чтобы побывать в библиотеках, обменять книги и достать нужные учебники. Занимаясь диалектическим материализмом, Коршунов увлекся философией. В городе был комвуз, и Коршунов поступил на философский факультет. Его приняли экстерном на ускоренный курс, и профессора поражались его способностям. Коршунов близко сошелся с одним из профессоров — профессором диамата Николаем Степановичем Глобовым. Старый большевик, Глобов был знающим и культурным человеком. До революции он несколько лет прожил в эмиграции и был в ссылке, и в тюрьме, и на каторге. Он мог бы вести большую работу в центре, но каторга подорвала его здоровье. Глобов был почти инвалидом, и врачи послали его на юг. Как только здоровье его немного улучшилось, он стал добиваться работы. Он не привык к безделью и без работы не мог жить. Его послали в комвуз. Молчаливый молодой пограничник сразу понравился Глобову. Они познакомились и подружились. Коршунов приходил домой к Глобову, и Николай Степанович помогал ему. Часто по вечерам, кончив занятия, Николай Степанович рассказывал Коршунову о загранице, подпольной работе, о тюрьме и ссылке. Коршунов слушал молча. Иногда разговор заходил о литературе, и Николай Степанович удивлялся самостоятельности и определенности суждений Коршунова. О книгах они много спорили, причем Глобов увлекался, кричал и горячился, а Коршунов говорил спокойно и неторопливо, и часто под конец спора Глобов соглашался с Коршуновым. Чтение книг, занятия в комвузе и дружба с Глобовым так вошли в жизнь Коршунова, что иногда ему казалось странным, как он мог обходиться без всего этого раньше. А жизнь на границе шла по-прежнему, и Коршунов командовал пограничным отрядом, и были схватки с басмачами, и пограничники задерживали шпионов на границе и контрабанду, и красноармейцы учились в армии. Коршунов сильно уставал и прожил этот год напряженно. Занятия по ночам лишали его отдыха, но он чувствовал, что живет так, как нужно, и был счастлив. Летом, перебирая старые бумаги, он наткнулся на программу экзаменов в Академию. Он попросил своего помощника по политической части достать программу этого года и проверил себя. В конце лета он сам, без вызова, приехал в Управление. Кузнецов принял его сразу. Коршунов подал рапорт с просьбой откомандировать его для обучения в Академию. Кузнецов долго читал рапорт и щурился. Коршунову показалось, что вид у него недовольный. — Что это вы вдруг, товарищ Коршунов? — Я ведь уже год тому назад собирался, товарищ начальник. Хотел бы попытаться в этом году. Конечно, если это возможно и если вы… — Но вы ведь знаете, что в Академию посылают по разверстке. Чего же вы хотите? — Я просил бы вашего разрешения ходатайствовать о зачислении меня в Академию. — Вот как? — Я не знаю, товарищ начальник… — Не знаете? Вот как? Кузнецов помолчал. — Надоело в Средней Азии? — Андрей Александрович… — Надоело с нами вместе песок глотать? А, Коршунов? — Товарищ начальник, разрешите взять обратно мой рапорт. — Пусть полежит у меня. — Разрешите идти? — Идите. — Слушаюсь, товарищ начальник. — Постой. Вот что, товарищ командир, а на экзамене ты не срежешься? — Думаю, что нет. — Ну, ладно. Посмотрим, как все это получится. Только я советую не рассчитывать. Вряд ли допустят к экзаменам и путевку вряд ли предоставят. Узнать, конечно, можно, но я думаю, что придется тебе еще послужить в Азии. — Верните мне рапорт, товарищ начальник. Право… — Ладно. Посмотрим. Иди теперь. Как только Коршунов вышел, Кузнецов позвонил секретарю. — Отправьте в Москву телеграмму. Срочную. Кузнецов вырвал листок из блокнота и написал:Москва. Главное управление пограничной охраны. Начальнику Управления. Настоятельно прошу одно место Академию Генерального штаба командира Коршунова А. А.Секретарь вышел, и Кузнецов позвонил по телефону. — Николай Степанович, здравствуй. Кузнецов говорит. Как себя чувствуешь? Ну? Это хорошо. Слушай, вот какой вопрос у меня к тебе: там у тебя мой командир подвизался, Коршунов. Да, да, Шурка Коршунов. Что говоришь? Сам знаю, что толковый. Вот, вот. Мы думаем его в Академию Генштаба послать. Учиться. Так как ты полагаешь, сдаст он экзамены? Там волки ведь. Не загрызут его? Что? Знающий парень, говоришь? Да? Значит, стоит посылать? Ну, спасибо. Спасибо и за то, что поднаучил его. Нет, правда, спасибо. Будь здоров. Прости, что потревожил. До свидания. Через три дня из Москвы пришел ответ на телеграмму Кузнецова, а через месяц Коршунов уехал в Москву держать экзамены в Академию Генерального штаба.
СУББОТА
Отец Пашки работал подручным кузнеца. Мать была прачкой, стирала в домах. Отец пил, зарабатывал мало, и мать тоже мало зарабатывала. Трое братьев было у Пашки. Все они умерли совсем маленькими. Пашка рос один. Отца забрали на войну в тысяча девятьсот пятнадцатом. Без него стало совсем плохо, и Пашка с матерью голодали. В тысяча девятьсот восемнадцатом отец вернулся домой. Он сильно изменился и постарел. Лицо у него было худое, бледное, и он был весь во вшах. Он изменился не только с виду. Он стал молчалив и больше не пил. В его вещевом мешке Пашка нашел, вместе с куском черного хлеба и тремя пыльными кусками сахара, несколько тоненьких книжек. Пашка перелистал книжки, но счел их неинтересными, потому что были они без картинок, и Пашка положил книжки обратно в мешок и сунул в рот сахар. Самый большой кусок. Отец пробыл дома меньше месяца. Через месяц на окраине города, где они жили, стало слышно, как стреляют пушки, и отец поздно вечером пришел домой и снял со стены винтовку. Мать плакала, а Пашке было интересно, куда отец уходит, и отец поднял его с пола и поцеловал и что-то стал объяснять. Пашка ничего не понял. Он укололся о небритый подбородок отца и удивился, потому что отец никогда раньше не целовал его. Город заняли белые. Отца не было. Пашка с матерью голодали так сильно, как еще никогда раньше. Пашка заболел. Потом снова стреляли пушки, и белые оставили город, и вернулся отец. Он был ранен в плечо, но он был веселый и шутил с матерью, и мешок его был набит хлебом и мукой. Отец сказал: «Война кончилась», но война не кончилась, и отец снова взял свою винтовку и уехал. Пашка с матерью жили плохо, но однажды к ним явился какой-то человек в шинели и спросил у матери, как ее фамилия. Мать сказала — Суббота, и человек сказал, что все верно и что онслужил вместе с отцом Пашки и в полку еще смеялись, какая странная фамилия — Суббота. Потом этот человек сел и рассказал, как геройски умер Пашкин отец. Оказывается, он шел впереди взвода и убили взводного командира, и Пашкин отец стал командовать взводом и командовал до тех пор, пока осколком неприятельского снаряда ему не снесло голову. Этот человек в шинели все видел своими глазами, потому что он был другом Пашкиного отца и был в том самом взводе. Это он стал командовать взводом после смерти Пашкиного отца. Когда человек в шинели кончил рассказывать, мать заплакала, а Пашка побежал на двор и рассказал всем мальчишкам на дворе, как геройски умер его отец. Все мальчишки сказали, что верно, геройски, только Додик из третьей квартиры сказал, что это все ерунда, раз Пашкин отец не был офицером. Тогда Пашка сказал, что офицеры — сволочи, а Додик сказал, что Пашка сам сволочь и отец Пашкин сволочь, а Пашка ударил Додика в зубы и выбил один зуб. Додик пожаловался, и мать выдрала Пашку. Мать не знала, как ей жить с Пашкой без мужа. Она плакала все время, и когда била Пашку, то тоже плакала. Она била Пашку больно и долго, а потом плакала над ним и утешала его, но Пашка терпел молча. Он знал, что прав был он, а не Додик, и зуб у Додика все равно шатался. Человек в шинели приходил еще раз. Он недолго поговорил с Пашкиной матерью, и мать благодарила его. Через неделю мать вызвали в Соцстрах и выплатили пенсию за мужа, и теперь она получала пенсию каждый месяц. Жить стало лучше, и с этой зимы Пашка начал ходить в школу. Он учился неплохо, но денег все-таки было у них с матерью немного, и Пашка ушел из третьего класса и поступил в фабзавуч на механический завод. Мать не стирала больше. Она была теперь дома, и пенсии вместе с Пашкиной зарплатой им вполне хватало. А Пашка получал зарплату, потому что в фабзавуче их учили полдня, а полдня они работали на производстве. В фабзавуче Пашку приняли в комсомол. Потом Пашка кончил фабзавуч и стал работать в кузнице подручным кузнеца, как когда-то работал его отец. Только отец работал вручную в мастерской, хозяином которой был папа Додика, а Пашка работал на механическом молоте на заводе «Красный пролетарий». Папа Додика стал спекулянтом, и его посадили в тюрьму, а его жену и Додика выслали из города. Пашка был доволен и сказал: «Правильно», и мать Пашки сказала: «Правильно». Но мать вспомнила, как она била Пашку за Додика. Ей стало стыдно, и она заплакала. На заводе «Красный пролетарий» Пашка хорошо зарабатывал. Он сшил себе темно-синий костюм и купил клетчатую кепку. Одна девушка из сборочного гуляла с Пашкой. Девушку звали Тося, и она нравилась Пашке. Он подумал, не поговорить ли с ней о загсе, но осенью призывался его год, и Пашка решил отложить разговор с Тосей до возвращения из армии. Призывников провожал завод, и для них был устроен вечер. Каждый мог пригласить кого-нибудь. Пашка пригласил Тосю. Вечер был хороший, с танцами. Пашка в перерывы бегал с Тосей на крыльцо клуба, и там они целовались, потому что там было темно. Другие ребята тоже бегали на крыльцо целоваться. Пашка прошел комиссию, и его зачислили в пограничную охрану. Когда ему нужно было уезжать, Тося пришла проститься. Она была такая грустная, что Пашка сказал ей про любовь до гробовой доски. Они опять целовались по дороге к Тосиному дому. Потом Пашка уехал. Три месяца он пробыл в учбате. Он был одним из первых по физической и строевой подготовке, но отставал по политической и общеобразовательной, потому что в фабзавуче учили не очень-то хорошо и обращали внимание главным образом на производство. Пашка налег на занятия. К концу учбата он подтянулся, — правда, ему много помог командир взвода. Пашку послали в горы. Первое время было трудно от высоты и от жары днем и холода ночью, и от снега на вершинах, и от походов по дикому бездорожью. Но Пашка скоро привык, и у них в мангруппе был замечательный командир. Пашка мечтал быть похожим на него. От матери приходили письма. Она писала, что живет хорошо и что пенсии ей вполне хватает. Пашка отвечал ей. Он описывал свою жизнь, конечно не упоминая ни о чем, что касалось секретных вещей по охране границы, или по операциям против банд и шаек. От Тоси Пашка получил два письма. Он ответил ей, и письма к Тосе получились просто шикарные, — таким в них Пашка выглядел героем. Но на третье письмо Тося не ответила, а мать написала Пашке, что Тося выходит замуж за Федьку Игнатенкова из литейной. Пашка загрустил и хотел послать Тосе письмо с напоминанием о любви до гроба, но как раз в это время начался горный поход за басмачами. Пашка забыл обо всем, кроме похода. Пашка вспомнил Тосю не скоро и без грусти. Он решил остаться в армии на сверхсрочную и стать таким, как его любимый командир. Потом Пашка был в первом отряде в операции против Ризабека Касым. Во время похода к ущелью Трех овец командир приказал Пашке следить за одним киргизом-проводником, потому что командир доверял Пашке и Пашка был выдержанным бойцом-пограничником. Пашка выполнил задание, а киргиз-проводник оказался замечательным парнем, и они подружились по-настоящему. Потом командир послал Пашку и его друга-киргиза с донесением к отряду номер два. Они скакали почти сутки, и Пашкин конь сорвался с тропы, Пашка упал и сломал ногу. Киргиз один доскакал до Черной долины, где шел второй отряд, и отдал письмо. Потом в ущелье Трех овец Пашка видел, как самолет разогнал басмачей бомбами и пулеметами. Пашка решил стать летчиком. Любимый командир был тяжело ранен. Пашка тоже долго пролежал в госпитале из-за ноги. Когда нога зажила и Пашку выписали из госпиталя, срок Пашкиной службы в Красной Армии кончался. Пашка подал рапорт о сверхсрочной службе и заявление в летную школу. Киргиз, Пашкин друг, подал заявление в партию. Пашка тоже подал заявление в партию. Пашку рекомендовала комсомольская организация комендатуры. Вторую рекомендацию Пашке дал его любимый командир. В летную школу Пашку приняли, и он кончил летную школу и стал летчиком. Учась в школе и потом, командуя звеном, Пашка регулярно переписывался со своим любимым командиром. Командир этот был Коршунов.ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Моросил дождь, и пелена воды серым туманом заволакивала лес и ближние невысокие холмы. Дороги были размыты. Ветра не было, и сизые тучи низко и медленно ползли над землей. Цепь пехотинцев в стальных шлемах лежала вдоль дороги в неглубокой канаве. В канаве была вода, и пехотинцы были мокрые. За лесом стояла батарея, пушки стреляли через лес. До леса оставалось два километра открытого вспаханного поля, по которому и била артиллерия. Пехота не могла передвигаться дальше дороги, и наступление было приостановлено. На дороге стоял длинный черный автомобиль. Он был весь забрызган грязью, и вода стекала по смотровому стеклу. Пехотинцы лежали молча. Командир полка не отрываясь смотрел в бинокль на дорогу. Дождь усилился. Пушечные выстрелы глухо доносились из-за леса. В автомобиле, рядом с шофером, сидел командир с ромбами командира корпуса в петлицах темной шинели. Он смотрел то на дорогу, туда же, куда направлял бинокль командир пехотного полка, то на часы. Прошло пятнадцать минут. Командир пехотного полка опустил бинокль и сказал: — Идут. Он передал какое-то приказание своему адъютанту, и адъютант побежал пригнувшись. Тогда и командир в автомобиле увидел впереди, на дороге, быстро приближающиеся тени. Потом донесся все усиливающийся грохот, и из дождевого тумана появился первый танк. Танк несся, разбрызгивая грязь и ревя моторами. За ним шел второй танк, третий, четвертый. На предельной скорости танки промчались мимо автомобиля. — Давайте, — сказал командир корпуса шоферу. Шофер включил мотор, автомобиль круто развернулся и поехал за танками. Передний танк съехал с дороги вбок, на вспаханное поле, а за ним все остальные с ходу свернули в канаву и двинулись по полю. Комья земли летели из-под гусениц танков. — По дороге до батареи. Скорей! — крикнул командир корпуса. Дорога огибала лес. Автомобиль несся мимо леса, и командир корпуса видел, как танки идут напролом и валят деревья. Один танк застрял, уткнувшись носом в глубокий окоп. Остальные шли не останавливаясь. Передний вырвался далеко вперед. По перелеску, навстречу танкам, бежали пехотинцы. Командир корпуса видел, как повернулась башня переднего танка, но выстрелы не были слышны из-за грохота пушек. Передний танк прорвался сквозь цепь и вышел из перелеска. Теперь между ним и батареей была только небольшая лужайка, но в конце лужайки был овраг, слишком глубокий, чтобы танк смог переползти его. Батарея стояла по ту сторону оврага в небольшой котловине. Черный «кадильяк» командира корпуса остановился на дороге. Танк двигался прямо на овраг, быстро набирая скорость. — Черт! — крикнул шофер командира корпуса. — Черт побери! Что он хочет делать, товарищ комкор? Командир корпуса распахнул дверцу и вышел из машины. Танк несся прямо на овраг. Его тупой нос был почти над обрывом, когда водитель его прибавил газ. Мотор неистово взревел, танк рванулся вперед и перелетел через овраг. Противоположный край оврага был ниже, и танк упал на самый край оврага. Грязь взлетела высоко вверх. Танк мчался прямо на батарею. Боевая башня поворачивалась из стороны в сторону. Командир корпуса видел, как рядом с танком появился всадник с белой повязкой на рукаве, и батарея перестала стрелять. По полю бежала цепь пехоты. Остальные танки, обходя обрыв, направлялись к первому танку. Пехота прошла через лес и заняла батарею. Танки отходили на дорогу. Командир корпуса, улыбаясь, сел в свой «кадильяк». — Вот это работа, товарищ комкор! — сказал шофер. — Вот это класс! Командир корпуса закурил, все еще не переставая улыбаться, и молча протянул шоферу коробку с папиросами. Над лесом взвилась ракета. Командир корпуса посмотрел на часы. — Отбой! — сказал он. Танки шли по дороге. Дождь перестал, и бледная радуга встала над холмами. В открытой башне переднего танка сидел командир в черном шлеме и черной кожаной куртке. Он был очень молод. У него было загорелое лицо и черные, как маслины, глаза. Он улыбался, сверкая зубами, и глаза его возбужденно блестели. Когда «кадильяк» обогнал передний танк, командир корпуса велел затормозить, вышел на дорогу и поднял руку. Танк остановился, и командир корпуса подошел к нему. — Как фамилия командира танка? — Танком командует Левинсон, товарищ комкор. Левинсон — это я. — Хорошо. Командир корпуса повернулся, сел в свою машину, и «кадильяк» поехал по дороге. Танки двинулись. Несколько раз командир корпуса оглядывался назад и смотрел, как вереницей идут танки. Потом танки скрылись за поворотом. Командир корпуса откинулся на спинку сидения и закрыл глаза. За последние три дня командир корпуса в общей сложности спал не больше трех часов. Маневры продолжались еще девять дней. За это время был условно убит командир того дивизиона, где был танк Левинсона, и Левинсон командовал дивизионом, и дивизион блестяще провел атаку совместно с кавалерией. Взятие батареи за лесом и успешная атака танков и кавалерии в значительной степени решила исход маневров. Левинсону в приказе объявили благодарность. Через неделю после окончания маневров Левинсона вызвал в Москву тот командир корпуса, который говорил с ним после взятия батареи.2
Командир корпуса принял Левинсона вечером. Перед началом разговора командир корпуса сказал секретарю, чтобы в кабинет никто не входил и чтобы телефоны секретарь переключил себе. Кабинет командира корпуса был большой, и только одна лампа с темным абажуром горела на столе, так что в кабинете было почти темно. Левинсон стоял у двери, пока командир корпуса говорил с секретарем. Командир корпуса заметил, что Левинсон держится подтянуто и с хорошей выправкой, но свободно, даже почти непринужденно. Это понравилось командиру корпуса. Неуверенных и робких людей командир корпуса не любил. — Сядем на диван, товарищ Левинсон. Удобнее на диване. Тем более, что разговор у нас будет откровенный и, наверное, не короткий. Левинсон молча сел на диван, и командир корпуса сел рядом с ним. — Как вас зовут, Левинсон? — Борис, товарищ командир. — Расскажите мне, Левинсон, что вы делали до армии. Мне нужно знать. Я потом скажу для чего. Рассказывайте подробнее. Ладно? — Слушаюсь, товарищ комкор. Левинсон задумался. Командир корпуса смотрел на него и ждал. Левинсон нравился ему все больше и больше. — Мои родители, товарищ комкор, живут в Себеже. Есть такой город Себеж… — Я знаю. — Может быть, про родителей не нужно рассказывать подробно, товарищ комкор? — Прошу вас, рассказывайте обо всем, Левинсон. — Хорошо. В тысяча девятьсот восемнадцатом году в Себеже были белые, и был погром. У меня убили дедушку — отца моего отца, и второго дедушку отца моей матери. Мои родители и сейчас еще не очень старые, а тогда, в Себеже, они были совсем молодые, и у нас была большая семья, и многих из нашей семьи убили. Я был маленьким тогда, но я помню погром, и я никогда не забуду, никогда во всю мою жизнь… Вы знаете, у евреев-бедняков часто бывают дружные семьи, а у нас была особенно дружная семья, и дедушек я очень любил. Обоих дедушек. Их убили. Они были товарищами, и когда мой отец женился на моей матери, обе семьи слились в одну. Все у нас были кожевниками, и оба дедушки были кожевниками. Они мяли кожи всю жизнь и были сильные старики. Мой отец при белых скрывался, и когда был погром, дедушки стали защищать нас, внуков, и хотели драться с погромщиками. И их убили. Их убили очень страшно, товарищ комкор. Их не просто убили. Их мучили… Простите, товарищ комкор. Я зря говорю, но… — Я сказал вам, Левинсон, что мне нужно знать о вас как можно больше. Говорите, пожалуйста. Хотите курить? — Спасибо, нет. Я не курю. — Я слушаю вас. — Хорошо, товарищ комкор. Левинсон помолчал, собираясь с мыслями. — Отец тоже был кожевником, но он был не таким крепким, как дедушки, а кожевенное дело — вредное, и отец много болел. Сейчас он выглядит гораздо старше своих лет, и со здоровьем у него неважно. Это последствия голода. В голодные годы умерла моя младшая сестра, и отец едва не умер. Только я вырос таким здоровым. У нас в семье считается, что я пошел в дедушек. Ну, я учился в школе. Отец работал в кожевенной артели. Он организовал артель вместе с группой еврейских ремесленников. Отец у меня молодец — и большой общественник, и в партии он давно. С семнадцатого года. Только вот со здоровьем у него неважно. Я, значит, учился в школе. В девятилетке. Еще в школе вступил в комсомол. Учились мы тогда плохо, товарищ комкор, и больше митинговали. Ну, и я тоже увлекался общественными делами. Любил я очень только математику и физику. У нас был отличный учитель по этим дисциплинам, и от него я многое узнал. Я не слишком длинно рассказываю, товарищ комкор? — Нет, нет. Дальше, пожалуйста. — Школу кончить мне не удалось. Я ушел из девятого класса. Пришлось идти на производство. Я поехал в Ленинград и поступил учеником слесаря на Пролетарский завод, и у меня хорошо пошло дело, так что через полгода я уже работал самостоятельно, а через полтора года получил совсем приличный разряд. — Какой? — Седьмой, товарищ комкор. — Это хорошо. Знаете, Левинсон, я когда-то тоже был слесарем. — Правда? И мне нравилось это дело, но я мечтал о другом. — О чем же вы мечтали? — Я мечтал о военной профессии. И о математике. Я, видите ли, всегда был очень здоровым и много занимался спортом, и в комсомоле на заводе руководил военно-физкультурной работой, сталкивался с военными. По комсомольской работе. Мне казалось, что раз война рано или поздно все равно неизбежна, к ней нужно готовиться. Готовиться нужно всем, даже и не военным людям нашей страны, и мне хотелось сделать все, что возможно, чтобы я сам был полезнее на войне. Я не знаю, как это все объяснить. Наверное, тут играют роль и мои физические данные, и то, что я так хорошо помню местечко еврейское, и, может быть, погром. Все играет роль. Я не знаю, поймете ли вы меня, товарищ комкор, но… — Я понимаю, Левинсон. Дальше. — Хорошо. На заводе я старался как можно лучше поставить оборонную работу, и у нас был крепкий актив. Не очень много, товарищ комкор, но были толковые ребята. И всех нас увлекала техника. Создали мы военный кабинет в клубе. Подвал нам отвели. Ну, оборудование кое-какое получили. И все напирали на технику. Я в то время увлекся мотором и ребят заразил этим моим увлечением, и нам очень хотелось от моделей, таблиц, схем всяких перейти поскорее к настоящему делу. Мы, товарищ комкор, решили построить танк. Бились мы долго и наконец добились того, что райсовет ОСО выделил нам для военного кабинета корпус старого танка. Танк наш, товарищ комкор, был музейной реликвией, а не современным танком, но я помню, как мы были горды и счастливы, когда невероятное сооружение водрузилось на клубном дворе. И вот мы стали наш танк приводить в порядок. Полгода, товарищ комкор, мы возились с ним. По винтику, по шайбочке собирали мотор. Сами конструировали, и сами чертили, и сами строили. Через полгода, утром в выходной день, мы его запустили. Теперь, товарищ комкор, я танк неплохо знаю, и теперь я не взялся бы объяснить, как тогда у нас вышло, что эта неуклюжая металлическая штука получила возможность двигаться. Но факт остается фактом: наш танк ходил и поворачивался и даже преодолевал препятствия, — от волнения я наехал на фонарь и свалил его. За это завклубом чуть не сжил со света и меня, и наш танк, и наш кружок. Значит, танк ходил по двору. На заводе узнали об этом, конечно, на следующий день, и в наш кружок повалила молодежь. Раньше, товарищ комкор, до танка, приходилось ребят уговаривать. Теперь отбою не было. Ну и правда, кружок у нас получился хороший. — Тогда, Левинсон, вы и написали книжку о комсомольцах-танкистах? — Вы, товарищ комкор, и про книжку знаете? — Как же. Конечно, знаю, Левинсон. — Ну, разве это книжка, товарищ комкор! Писатель из меня не вышел. Я и не хотел писать. — Напрасно. Книжка ваша принесла пользу, и вы скромничаете совершенно напрасно. Рассказывайте дальше. — Хорошо. Хотя рассказывать уже почти нечего. Мой год должен был призываться, и я пошел в военную школу. Школу кончил на «отлично». Потом… — Ну, остальное я знаю. Скажите, Левинсон, теперь вы тоже о чем-нибудь мечтаете? — Нет, товарищ комкор. Теперь я не мечтаю. Теперь я командую и… — Плохо. Плохо, что не мечтаете. — Как, товарищ комкор? Может быть… — Погодите, Левинсон. Вы рассказали мне много интересного. Я обещал сказать, зачем мне все это нужно. — Да, товарищ комкор. — Ну так вот зачем: мы хотим сделать опыт. Мы хотим молодого командира послать учиться в Академию Генерального штаба. Обычно в нашей Академии учатся старые, опытные, кадровые командиры. Вы, очевидно, знаете о том, что такое Академия? — Да, товарищ комкор. — Что вы сказали бы, если бы вам предложили пойти в Академию? — Я не знаю, справлюсь ли я, товарищ комкор. — Мы тоже не знаем. Мы решили сделать опыт. Я говорил вам… Ну, а вы должны справиться. — Должен? — По-моему, да. Левинсон молчал. Он волновался, и яркий румянец выступил на его щеках. Командир корпуса встал и отошел к столу. Левинсон тоже встал. — Так вот, Левинсон, по-моему, нужно сделать так: вы возвращайтесь в часть. В часть я пошлю приказание. Вас освободят от служебных обязанностей, и вы будете заниматься. Мой секретарь передаст вам программу и доставит нужные книги. До экзаменов осталось меньше двух месяцев, так что вам нужно приналечь. Вы сдадите экзамены и будете учиться. Понятно? — Слушаюсь, товарищ комкор. — Но прошу вас, Левинсон, иметь в виду, что в Академии вам придется очень тяжело. Очень. Вам нужно будет стать наравне с опытными боевыми командирами, с людьми, прошедшими через настоящие войны и через революцию. Понимаете вы это, Левинсон? — Понимаю, товарищ комкор. Именно поэтому я просил бы… — Что еще, Левинсон? Может быть, вы хотите отказаться? Левинсон вытянулся. — Нет, товарищ комкор. — Что же вы хотите сказать, Левинсон? — Простите, товарищ комкор. Больше ничего. — Хорошо, Левинсон. Всего хорошего. Мы увидимся перед экзаменами. Желаю удачи. Комкор сильно пожал руку Левинсона, и Левинсон пошел к двери. — Еще одно слово, Левинсон. — Слушаю, товарищ комкор. — Знаете, я уверен был в вас с самого начала. Я уверен в вас и теперь. Мне хотелось бы не потерять этой уверенности. — Я не знаю, как благодарить вас, товарищ комкор. Я очень… — Меня не надо благодарить, Левинсон. Надо сдать экзамен в Академию, и здорово учиться в Академии, и хорошо кончить Академию. Можете идти. До свидания. — До свидания, товарищ комкор. Через два месяца Левинсон сдал экзамены и был зачислен в число слушателей Академии Генерального штаба.3
Первое время Левинсон чувствовал себя неловко среди слушателей Академии. Большинство слушателей было значительно старше Левинсона по возрасту, Левинсон был самым младшим и по службе, и «кубики» в петлице гимнастерки Левинсона выделялись среди «шпал» и даже «ромбов» других слушателей. Но Левинсону было легче учиться, и общеобразовательные предметы он знал не хуже многих сокурсников, а в начале обучения в Академии основной упор был на общеобразовательные предметы. Через месяц после начала занятий Левинсон был на отличном счету у преподавателей, и почти все слушатели первого курса хорошо познакомились, а многие близко сошлись с молодым командиром. Потом как-то получилось так, что весь курс узнал историю Левинсона, и отношение к нему стало совсем хорошим. Был только один слушатель, с которым Левинсону никак не удавалось сойтись, и именно этот командир нравился Левинсону больше всех. Он был всего на четыре года старше Левинсона и, несмотря на молодость, был командиром с большим практическим опытом. Он прибыл в Академию из пограничных войск, экзамены сдал с большим трудом, и приняли его только потому, что он был заслуженным боевым командиром. Семнадцати лет, во время гражданской войны, он уже командовал ротой и потом служил чуть ли не на всех границах Союза, и бился с басмачами, и несколько раз был ранен, и совсем недавно его наградили орденом. Он был выше среднего роста, широкоплечий и плотный. У него было немного грузное туловище и слегка кривые ноги, ноги истинного кавалериста. У него были правильные черты лица, прямой и короткий нос, большой лоб и голубые глаза. Он носил маленькие квадратные усы и довольно длинные волосы. Волосы у него были русые. Держался он всегда очень прямо, но в выправке его не было ничего нарочитого. Одевался он тщательно, с особым, незаметным штатскому человеку, щегольством. Был он замкнут и молчалив и чаще всего держался один. Он очень много занимался, был упорен, почти упрям, с каждым днем делал заметные успехи, и преподаватели хвалили его. Несмотря на не совсем удачные экзамены, он выдвигался в число первых по успеваемости. Фамилия его была Коршунов. Левинсону в Коршунове нравилось все. Когда Левинсон в первый раз увидел Коршунова, Левинсон обратил внимание на его внешность. Потом Левинсон узнал, кто такой Коршунов, и молчаливый пограничник с орденом показался Левинсону олицетворением всего романтического и героического, что было, по представлению Левинсона, в военной профессии, в судьбе командира Красной Армии. Левинсону очень хотелось подружиться с Коршуновым, но когда Левинсон заговорил с ним, Коршунов отвечал небрежно и сухо и не скрывал пренебрежительного отношения к Левинсону. Самолюбивый до мнительности, Левинсон отошел от Коршунова и больше не пытался даже заговорить с ним. Все-таки прежнее восхищение Коршуновым у Левинсона осталось, и, не видя возможности ближе сойтись с ним, Левинсон не переставал внимательно следить за Коршуновым. Коршунов не замечал отношения Левинсона и не скрывал своего мнения о нем. Именно то, что окончательно сблизило Левинсона с сокурсниками, — вся биография Левинсона и история его направления в Академию, — именно это решительно не понравилось Коршунову. Коршунов считал Левинсона счастливчиком и выскочкой, и направление Левинсона в Академию считал незаслуженным и приписывал якобы удачливому умению Левинсона устраивать свои дела в коридорах штабов. Коршунов так и сказал одному из слушателей, с которым Левинсон был близок, и этот слушатель передал все Левинсону. Глубоко оскорбленный, Левинсон сначала хотел пойти и поговорить с Коршуновым, но потом передумал. Прошло три месяца, и первый курс приступил к изучению специальных предметов. В предметах общеобразовательных Левинсон по-прежнему был впереди, но в изучении военных дисциплин для него встретились большие трудности. Там, где его сокурсники могли опираться на свой практический опыт, там, где они знали и чувствовали самую суть, самую природу войны, там Левинсон терялся. Левинсон бросился за помощью к книгам, но с точки зрения современного марксистского понимания, с точки зрения опыта гражданской войны и Красной Армии в военной литературе были большие пробелы. Левинсон растерялся. Курс стратегии читал заслуженный командир. В прошлом рабочий, он сам проделал весь путь от партизанской войны до вершин военного знания, от рукопашных схваток до математики Генерального штаба. Он был практиком, и теория, которую он преподавал, целиком вырастала из практики. Он видел смятение Левинсона и хорошо понимал его, и он нашел способ помочь молодому командиру. Он поговорил с Левинсоном, и Левинсон сознался во всех своих затруднениях. Тогда преподаватель стратегии сказал, что он прикрепит Левинсона к кому-нибудь из опытных командиров. Он сказал: — Это будет своеобразное шефство, если вы ничего не имеете против, слушатель Левинсон. Через несколько дней к Левинсону подошел Коршунов. — Мне поручено помочь вам, — сказал он, прямо глядя в глаза Левинсона. — Вам?!. — Да, мне. Чем могу быть полезен? — Но, право, я не знаю… — Именно потому, что вы не знаете, вас и прикрепили ко мне. Вы живете в общежитии? — Да. — Я живу недалеко. Запишите адрес: Арбат, восемь, квартира пять. Сегодня вечером вы можете прийти ко мне? — Да, могу. — Я буду ждать вас к десяти часам. Коршунов круто повернулся и отошел. Ровно в десять часов Левинсон пришел к нему, и до двенадцати часов они говорили о стратегии, и многое, чего раньше Левинсон не понимал, Коршунов объяснил ему. С тех пор Левинсон стал регулярно ходить к Коршунову. Долгое время, несколько недель, их отношения были подчеркнуто холодными, и неприязнь Коршунова была для Левинсона мучительнее, чем когда-либо раньше, так как ему приходилось почти ежедневно видеться с Коршуновым и принимать помощь Коршунова. Долгое время Коршунов был вежлив, как дипломат, сдержан, официален и не замечал или делал вид, что не замечает, как мучается Левинсон. Левинсону Коршунов нравился еще больше, чем раньше. Несколько раз Левинсон пытался начистоту поговорить с ним, но всякий раз тон Коршунова пресекал эти попытки в самом начале, и Левинсон замолкал на полуслове. Отношения их оставались прежними. Левинсон не мог забыть, как Коршунов отзывался о нем, и шефство Коршунова казалось ему оскорбительным, и все труднее становилось приходить на Арбат. Левинсон буквально заставлял себя идти и часто, прежде чем постучать, в нерешительности останавливался перед дверью Коршунова. Левинсон хотел было поговорить с профессором стратегии, но он не знал, как рассказать профессору о своих переживаниях. В то же время Коршунов очень помогал Левинсону в учебе. Один раз Левинсон не выдержал: он просто не пошел к Коршунову. На следующий день рано утром Коршунов постучал в дверь Левинсона. Левинсон делал гимнастику. Он стоял совершенно голый на коврике посреди комнаты, и морозный воздух врывался в настежь раскрытое окно. В руках у Левинсона были гантели. Не переставая делать гимнастику, Левинсон крикнул: «Да!» — и повернулся к двери, когда Коршунов был уже в комнате. Несколько секунд оба стояли молча, с удивлением глядя друг на друга. Коршунов рассматривал Левинсона, как будто он видел его в первый раз. Левинсон был прекрасно сложен. У него были тонкие ноги и руки с длинными эластичными мышцами, и грудь и живот его были развиты. Его мускулатура не производила впечатления грубой и неуклюжей силы, как бывает у гиревиков и борцов, и не была разработана с расчетом на внешний эффект, как бывает у гимнастов. Левинсон скорее был немного слишком тонким и хрупким, но голым он выглядел как профессиональный спортсмен, а когда Левинсон был одет, нельзя было предположить, что у него такое тело. Летний загар еще не прошел, и кожа Левинсона была ровного шафранного цвета. Растерянно глядя на Коршунова, Левинсон переминался с ноги на ногу. Коршунов улыбнулся. — Я думал, вы больны. — Я? Что вы. Нет, но… — Почему вы не пришли вчера? Левинсон положил гантели на пол, и когда он нагнулся, Коршунов видел, как мягко напряглись мышцы у него на спине. Левинсон взял халат с кровати, надел его, закрыл окно и пододвинул Коршунову стул. — Садитесь, Александр Александрович. Коршунов не садился. — Почему вы не пришли ко мне, Левинсон? — Простите Александр Александрович. Я никак не мог… Я… — Я ждал вас весь вечер. — Простите. — Приходите сегодня. В девять. Хорошо? — Хорошо, приду. Коршунов повернулся к двери. — Александр Александрович, — сказал Левинсон и шагнул за ним, краснея от волнения. — Александр Александрович, вам не надоело возиться со мной? Коршунов обернулся и помолчал, прежде чем ответить. — Нет, не надоело. — Вы, конечно, знаете, что мне передали все, что вы говорили обо мне, и я, Александр Александрович, все время хотел… — Перестаньте, Левинсон. Все это совсем не так, как вы думаете. — Нет, Александр Александрович. Я давно хотел сказать вам. Я чрезвычайно благодарен, и я… — Перестаньте, Левинсон, говорю вам. Вы не успеете одеться и из-за этаких лирических изъяснений на лекцию диамата пойдете голышом. — Я прошу вас, Александр Александрович… — Я прошу вас, Левинсон, пожаловать ко мне вечером к девяти часам, а сейчас вам необходимо одеваться. Коршунов ушел. Левинсон оделся и пошел на лекцию. Днем он видел Коршунова на лекциях и в коридорах Академии, но не говорил с ним. В девять часов вечера Левинсон сидел в комнате Коршунова. Коршунов ходил из угла в угол, молча курил и улыбался каким-то своим мыслям. Левинсон был мрачен. Он решил во что бы то ни стало довести до конца начатый утром разговор и никак не мог начать, и видел, что Коршунов понимает это. — Утром я хотел сказать, Александр Александрович… — наконец решился Левинсон, но Коршунов перебил его. — Погоди, — сказал Коршунов. — Погоди, Левинсон. Сначала я скажу тебе то, что хотел сказать уже давно, а не сегодня утром. — Я тоже давно, Александр Александрович. — Погоди, говорю. Коршунов остановился посреди комнаты. Он стоял, широко расставив ноги и нагнув голову. Левинсон тоже встал. Коршунов подумал о том, что они стоят друг против друга, будто готовясь к драке, и улыбнулся. Левинсон нахмурился. — Я, Левинсон, плохо думал о тебе и плохо говорил о тебе, и я был неправ. Теперь уже давно я узнал тебя и уже давно думаю совсем не так, как раньше. Я виноват, но ты, может быть, поймешь меня. Ты показался мне очень чистеньким. Понимаешь? У меня в Средней Азии есть командиры и красноармейцы — твои ровесники, и они живут как на войне и хорошо знают, что такое смерть, и кровь, и жажда, и жара, и мороз. Понимаешь, Левинсон? Я вспомнил о них, встретясь с тобой, и ты показался мне чистеньким счастливчиком. Теперь я знаю тебе цену, но тогда я думал иначе, и мне было обидно, что вот ты в Академии и с тобой нянчатся, и с тобой носятся, и ты не имеешь даже представления о том, что такое война, что такое бой, а твои ровесники уже годы прожили в боевой обстановке, и война для них — не игра, не маневры и не книги. Понимаешь, Левинсон? Понимаешь, спрашиваю? Левинсон молчал. Коршунов раскурил трубку. — Давай погуляем сегодня, — сказал он. Молча они оделись и вышли. На лестнице, на площадке второго этажа, Коршунов остановился и тихо сказал: — Все-таки ты многого не понимаешь еще, Левинсон. Левинсон снова промолчал, и Коршунов не видел его лица, потому что на лестнице было темно. По улице они зашагали быстро и шли в ногу, широкими шагами. Левинсон молчал и глядел прямо перед собой. Коршунов смотрел по сторонам, тихонько посвистывая, и косился на Левинсона. Они шли по освещенным улицам, и на земле лежал снег, и огни реклам, и фонарей, и витрин магазинов были еще более яркими от снега. Окна домов были освещены, но верхние этажи домов были темнее нижних этажей, потому что нижние этажи сплошь были заняты магазинами. Огни города отбрасывали пламенный отблеск на темное небо, и казалось, будто где-то пожар, — такое было светлое небо над лиловыми и коричневыми массами крыш. На тротуарах двигалась вечерняя толпа, и у входов в кинематографы были очереди, и на улицах стоял гул от человеческих голосов, и гудели автомобильные сигналы, и звенели трамваи. Коршунов глядел по сторонам и несколько раз оборачивался. Одна женщина, высокая, в модной шляпе и меховом пальто, тоже обернулась и пристально посмотрела на него. Коршунов улыбнулся, и женщина улыбнулась еще несколько раз, и, заворачивая за угол, Коршунов видел, что она смотрела ему вслед. Коршунов замедлил шаги возле подъезда ресторана и взял Левинсона под руку. — Зайдем сюда. Поедим что-нибудь, — сказал Коршунов. — Удобно ли? — хмуро отозвался Левинсон. — Конечно, удобно! Пустяки. Они вошли и разделись. Швейцар с белой бородой, и расшитом золотом мундире отдал им честь. Огромный зал ресторана был почти пуст, и в нем была торжественная тишина и полумрак, и неслышно ходили официанты в белых костюмах и парусиновых туфлях. Оба, Коршунов и Левинсон, в ресторанах почти никогда не бывали и здесь почувствовали себя неловко. Коршунов зашагал вперед, стараясь ничем не выдавать своей неловкости и громко звеня шпорами. Торжественный метрдотель в визитке подошел к ним и подвел к столику в углу. Нагнувшись над меню, метрдотель помог выбрать кушанья. Левинсон отказался от водки, и Коршунов попросил бутылку кахетинского. Официант накрыл стол и скоро принес еду и вино в алюминиевом ведерке с теплой водой. Командиры ели молча и молча выпили по бокалу вина. Потом официант убрал тарелки и снова налил вино в бокалы. Когда официант ушел, Коршунов заговорил. Он говорил негромко и неторопливо. Он рассказывал Левинсону о границе, о басмачах, о сражениях с бандами, о смерти товарищей, о границе в горах и о границе в пустыне. Ресторан постепенно наполнялся, почти все столики были заняты, оркестр на высокой эстраде настраивал свои инструменты, а Коршунов говорил и говорил. Рассказ его был нестроен, Коршунов часто перескакивал с одного предмета на другой и не заботился о связности и последовательности событий. Он говорил не останавливаясь, не задумываясь, и рассказывал Левинсону о себе легко, как о другом человеке. Левинсон слушал затаив дыхание, и совершенно забыл о том, где он находится. Ему слышались выстрелы, и горное эхо, и вой шакалов, и крики басмачей. Ему казалось, что он видит вороного жеребца Басмача, и молчаливого Алы, и скуластые лица вожаков басмаческих шаек. Он узнал о бесхитростной боевой дружбе пограничников и о смертельной ненависти старика Абдумамана. Он узнал о ране Коршунова, и о том, как Коршунов в первый раз готовился в Академию, и о книгах, которые читал Коршунов. Он узнал и о том, как трудно Коршунову заниматься в Академии, потому что не хватает систематических знаний, потому что приходится наверстывать упущенное в самом начале, упущенное в те годы, когда Коршунов воевал, вместо того чтобы учиться. Левинсон узнал о бессонных ночах над учебниками и о напряжении всех сил, чтобы не поддаться слабости и не бросить Академию, чтобы не отстать, чтобы упрямо добиваться первых мест по успеваемости, чтобы биться, биться до конца. Многое еще узнал Левинсон о Коршунове, и только когда оркестр заиграл оглушительную мелодию и танцоры вскочили из-за столиков, только тогда Коршунов замолчал и залпом выпил свой бокал. — Меня прорвало сегодня, — улыбаясь сказал Коршунов. — Пойдем отсюда поскорее. Они расплатились, вышли и молча шли до дома Коршунова. У ворот дома на Арбате они попрощались, и Левинсон сказал: — Я все очень даже хорошо понял, Александр Александрович, я был бы круглым дураком, если бы теперь я помнил то, что вы думали обо мне раньше, и я ничего больше не хочу об этом говорить. Мне не нужно ничего объяснять, Александр Александрович, потому что вы понимаете сами… — Понимаю, Левинсон. Конечно, понимаю. — Коршунов улыбнулся, и Левинсон отчетливо заметил, какое усталое у Коршунова лицо. — Спокойной ночи, Александр Александрович. — Спокойной ночи, Левинсон. С этого вечера Коршунов и Левинсон стали друзьями.4
Коршунов жил в маленькой комнате в коммунальной квартире на третьем этаже. Окно его комнаты выходило во двор, и в комнате никогда не было солнца. В окно были видны задняя стена соседнего дама и клочок неба. В комнате стояли простой стол, два стула, узкая кровать и шкаф с зеркалом. Над столом была полка с книгами, и на стене висела фотография Дзержинского. В комнате всегда было очень чисто, и, несмотря на то, что мебель занимала почти всю площадь, комната создавала ощущение пустоты, свободного пространства. Коршунов питался в академической столовой и дома готовил только чай. Электрический чайник стоял на подоконнике, и когда бы Левинсон ни пришел, на столе стыл стакан крепкого чая. Коршунов много курил. Кроме трубки, он курил и папиросы, и в комнате всегда было дымно. Левинсон фыркал и открывал форточку. Дома Коршунов занимался целыми днями, все свободное от лекций время, и сидел над книгами по ночам. Он спал не больше четырех часов в сутки, и Левинсон поражался его выносливости. Коршунов по-прежнему много читал. Раньше Левинсон не питал особой склонности к чтению, но Коршунов несколько раз спросил, читал ли Левинсон такую-то и такую-то книгу, и Левинсон прочел эти книги и тоже пристрастился к чтению. Они с Коршуновым много разговаривали о книгах. Часто случалось так, что разговоры заходили далеко за полночь, и Левинсон оставался ночевать у Коршунова. Иногда Коршунов отправлялся провожать Левинсона. Они быстро шли по безлюдным ночным улицам. Коршунов обычно молчал, а говорил Левинсон, и Левинсону нравилось говорить все, что приходило в голову, широко шагая в ногу с молчаливым товарищем. Кроме Левинсона, Коршунов почти ни с кем не встречался. Времени не было, да и не хотелось никого видеть. Никто из московских знакомых Коршунова толком не знал, как он прожил все годы учения в Академии. Никто не знал и о том, что в Москве у Коршунова была подруга. Только Левинсон видел ее. Ее звали Анной. Она была невысокого роста, и у нее были большие карие глаза, и волосы она не стригла, а завязывала узлом на голове. Волосы ее были похожи на темное золото. Она была комсомолкой и работала в Наркомвнуделе. Она была серьезна и молчалива. Левинсон несколько раз встречался с Анной у Коршунова, и однажды они втроем — Анна, Коршунов и Левинсон — были в театре. Анна жила с родителями где-то в Замоскворечье. Она много работала и занималась на курсах по подготовке в вуз и редко виделась с Коршуновым. Анна очень любила Коршунова, и Коршунов ее любил.5
На последнем курсе Академии Коршунов занимал первое место. Первым он окончил Академию и лучше всех защитил диплом. Последние месяцы прошли в такой горячке, что ни о чем, кроме экзаменов и дипломной работы, никто из слушателей не думал. Левинсон и Коршунов защищали диплом в один день. На изложение дипломной работы давалось ровно сорок минут и ни секунды больше, и они вызубрили текст наизусть и измучились, репетируя защиту и критикуя друг друга. После защиты, усталые и взволнованные, они вышли из Академии и остановились на улице, сговариваясь о планах на ближайшие дни. Мысль, что Академия окончена, была непривычной и казалась почти неправдоподобной. Весна была в самом разгаре, по тротуарам бежали ручьи, и воробьи чирикали на голых деревьях бульвара. Коршунов щурился на солнце и пыхтел трубкой. Левинсон излагал свой проект отдыха и торжеств по поводу окончания Академии. Проект был блистательный и включал посещения театров, и прогулку за город, и торжественный пир в комнате на Арбате. Решили сейчас разойтись и сразу лечь спать и выспаться как следует, а завтра утром обсудить детали проекта Левинсона и приступить к его выполнению. Но им не хотелось расставаться, и Левинсон отправился провожать Коршунова. По дороге они зашли на телеграф и послали телеграммы об окончании Академии. Левинсон послал телеграмму родителям в Себеж, а Коршунов послал телеграмму своему отцу. У дома Коршунова они еще долго стояли, смеясь и вспоминая подробности защиты диплома, и наконец разошлись, когда солнце скрылось за крышами домов и безоблачное небо порозовело на западе. Утром на следующий день Левинсон явился к Коршунову, но нашел дверь запертой. На двери кнопкой была приколота сложенная записка. Записка была Левинсону. Он снял ее, развернул и прочел:«Бобка, — писал Коршунов, — празднуй сам. Я уехал в Харьков. Умер отец».Телеграмма о смерти отца ждала Коршунова дома, когда он вернулся из Академии, и он уехал с вечерним поездом.
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ КОРШУНОВ-СТАРШИЙ
Двенадцати лет от роду Сашку Коршунова привезли из деревни и отдали в обучение к маляру-живописцу Сидору Никифоровичу Волкову. Привез Сашку отец, и Сашка был потрясен переездом до города на поезде. Самыйгород показался Сашке страшным, — столько в городе было людей и такие огромные были дома. Сашка прожил у Сидора Никифоровича Волкова девять лет, и первые три года он был в «мальчиках» и на его обязанности было убирать мастерскую и квартиру Волкова, выполнять мелкие поручения, тереть краски и на ручной тележке отвозить заказчикам готовые вывески. Отец Сашки умер на второй год Сашкиной жизни у Сидора Никифоровича Волкова, а мать умерла так давно, что Сашка ее не помнил. Сашка остался совсем один. У Сидора Никифоровича Волкова Сашке жилось плохо. Сидор Никифорович был человек мрачный и нелюдимый, и он был женат на молодой (первая его жена умерла). Жена управляла всем в мастерской, Сидор Никифорович боялся ее, и боялся, что она бросит его и уйдет. Сидор Никифорович был вообще боязлив и робок, и только когда он напивался, он не боялся никого и жена пряталась от него. Он с топором искал ее, плакал и страшно ругался. Когда-то Сидор Никифорович писал иконы, но заказов на иконы было мало, Сидор Никифорович стал писать вывески, и он не любил этой работы. Сашка долгое время был самым младшим в мастерской, за Сашку некому было заступиться, и он вытерпел много побоев. Его били за малейшую провинность и просто так, если он в нехорошую минуту попадался под руку. Сидор Никифорович бил Сашку особенно жестоко потому, что на Сашке он безнаказанно мог вымещать все свои обиды, и потому, что Сашки он не боялся. Сашке некуда было деваться, и Сашка терпел побои и старался как можно меньше быть на виду. Сашке нравилось малярное дело и нравились красивые цвета, и поэтому Сашка любил растирать краски. Приглядываясь к работе мастеров, Сашка сам научился нехитрому искусству писать вывески, мастера давали ему работу, и когда он выполнял работу, мастера говорили Сидору Никифоровичу, что это сделали они. Только через три года Сидор Никифорович взял нового «мальчика» и перевел Сашку в ученики. Но Сашку учить было не нужно, и Сашка работал не хуже других мастеров. Несмотря на это, еще три года Сашка считался учеником и получал меньше других мастеров. Только когда Сашке исполнилось восемнадцать лет, Сидор Никифорович приравнял его к остальным мастерам. Теперь Сашку называли Александром и его не только не били, но даже побаивались, потому что однажды он заступился за очередного «мальчика» и ударом в грудь сшиб с ног одного из мастеров — здоровенного и рослого парня. Александр был невысокого роста, но коренастый, широкоплечий и сильный. Он был красивым парнем, и на него заглядывались девушки. Хозяйка, жена Сидора Никифоровича Волкова, стала обращать на Александра внимание, и Сидор Никифорович Волков заметил это. Он был бы рад прогнать Александра, но боялся: Александр был лучшим мастером и выполнял самые сложные работы. Дела Сидора Никифоровича Волкова пошли в гору, и он стал брать подряды на малярную отделку домов. Александр был мастером по разделке штукатурки под мрамор или под дерево. Александр любил тонкую работу и, отделывая стены под мрамор или под дерево, старался, чтобы выходило как настоящий камень, или мореный орех, или дуб. Александр хорошо зарабатывал, он не пил, и у него были кое-какие сбережения. Он женился в тысяча девятисотом году на дочери кузнечного мастера вагонного завода и снял крохотную квартирку неподалеку от мастерской Сидора Никифоровича Волкова. Жену Александра звали Настасьей. Александр очень любил ее. Они жили хорошо, но у них не было детей, а им хотелось иметь ребенка. Настасья Коршунова ходила на богомолье и горячо молилась, чтобы бог послал ей ребеночка. Сидор Никифорович Волков расширял свое дело и богател. В городе строили много домов, и была строительная горячка. Александр по-прежнему работал не спеша и старательно отделывал свою работу. Он делал так, чтобы штукатурка и краска держались много лет. Но Сидору Никифоровичу Волкову это было не нужно, потому что ему было нужно поскорее сдать работу и чтобы работу только приняли. Он не заботился о том, хорошо ли выглядит отделка и долго ли она простоит. Однажды он сделал замечание Александру, и Александр попросил расчет. Он проработал девять лет у Сидора Никифоровича Волкова, но ему не было жалко уходить от него. Александр поступил на вагонный завод, где работал его тесть, и на заводе его скоро оценили и через год назначили мастером малярного цеха. Теперь Александра называли Александром Александровичем. В тысяча девятьсот третьем году у него родился сын. Сына назвали Александром. В тысяча девятьсот пятом году вагонный завод забастовал. Александр Александрович одним из первых примкнул к забастовке. Директор завода был зол на Александра Александровича, потому что Александр Александрович был мастером, а не простым рабочим, и директор рассчитывал на него. Александр Александрович не был ни в какой партии, но он пошел с забастовщиками, и за ним сразу забастовал весь малярный цех. Забастовку директор завода не простил никому, и Александра Александровича забрали в солдаты, хотя, если бы директор захотел, Александра Александровича не взяли бы, так как вагонный завод считался как бы военным. Александр Александрович воевал недолго, потому что его скоро ранили. Его ранили в ногу, и рана была легкая, но из-за небрежности госпитальных врачей Александр Александрович остался хромым на всю жизнь. Однако хромота не мешала ему работать. Его приняли опять на вагонный завод, потому что он вернулся из действующей армии с солдатским Георгием. На вагонном заводе Александр Александрович проработал всю свою остальную жизнь. Сын его рос и был драчливым мальчишкой. Мать не чаяла в нем души и баловала его. Александр Александрович сына за драки ругал, но втайне был доволен, что сын растет не трусом и сумеет за себя постоять. Когда пришло время учить Сашку, Александр Александрович сам отвел его в школу и внимательно и строго следил за его ученьем. Сашка был по-прежнему забиякой, но учился неплохо, хотя учителя и говорили, что при его способностях он мог бы учиться гораздо лучше. Февральскую революцию Александр Александрович встретил с улыбочкой и поверил только в Октябрьскую революцию. Войну Александр Александрович не переставал проклинать, и когда большевики по-настоящему сказали о мире, Александр Александрович заявил, что он с большевиками и что Ленин правильный человек. Но в партию Александр Александрович не вступил и на все разговоры заводских большевиков отвечал, что он, Коршунов, маляр, и политика не его дело. В восемнадцатом году ушел из дому Сашка. Он бросил школу и ушел в Красную Армию, и Александр Александрович с женой остались одни. Сашка писал редко, а потом город заняли белые, и Александр Александрович совсем перестал получать письма от сына. Долгое время Коршуновы не знали, жив ли Сашка и где он. Только когда белых прогнали, Александр Александрович получил известие о том, что сын его жив и командует ротой. Александр Александрович всплакнул над письмом и гордился сыном, но на заводе ворчал, что толку не выйдет, ежели в Красной Армии командирами будут мальчишки. Потом, в голодные годы, умерла жена Александра Александровича. Сын Сашка приехал на похороны. Он был на голову выше отца и шире его в плечах. Он приехал в мохнатой бурке и в кубанке с зеленым верхом, с шашкой и маузером. Он пробыл с отцом три дня и уехал. Проводив его, Александр Александрович впервые почувствовал себя стариком. Завод не работал, но Александр Александрович привык вставать по гудку, и, хоть гудка не было, он вставал рано утром. День казался длинным, и время некуда было девать. Часто Александр Александрович ходил на завод и подолгу бродил по пустым цехам. Когда завод собрались снова пускать, Александр Александрович был счастлив и сам написал новую вывеску для заводских ворот. Завод назывался теперь «Красный Октябрь». Жизнь Александра Александровича снова наполнилась работой, и он работал с жадностью, будто куда-то спешил. Он стал по-стариковски немного суетлив, и походка его стала быстрой и речь торопливой. Ему дали пенсию и объявили его героем труда, но бросить работать он отказался и работал по-прежнему отлично. Сын служил в пограничной охране, и Александр Александрович не виделся с ним годами, но регулярно переписывался, и сын писал ему о борьбе с басмачами. Александр Александрович писал о делах на заводе и обо всем, что казалось ему неправильным. Квартиру Александра Александровича уплотнили, и он был рад этому, потому что ему было скучно жить одному. Ему понравилась семья молодого рабочего, которого вселили к нему в квартиру. Скоро соседи привыкли к Александру Александровичу и считали его своим, и их пятилетний сын называл его дедушкой. От Сашки долго не было писем, и потом он написал, что его серьезно ранили в бою, но он вылечился. Через два дня после того, как пришло это письмо, Александра Александровича на заводе поздравили с награждением сына и показали газету, где было решение президиума ЦИК. Сын прислал письмо из Москвы и потом снова уехал на границу. Александр Александрович работал по отделке спальных вагонов, и вагоны получались просто красавчики. У Александра Александровича были ученики фабзайчата, и он учил их всем тонкостям малярного искусства. С сыном Александр Александрович переписывался по-прежнему регулярно, и Сашка написал, что готовится в Академию Генерального штаба, но потом не оказалось мест, и Сашка в Академию поступил только через год. Александр Александрович гордился сыном и всем рассказывал, что его Сашка лезет в генералы, и в письмах называл Сашку «ваше превосходительство, мой сын Сашка». Из Москвы от Сашки письма приходили чаще, чем с границы, и Сашка подробно описывал Москву и писал про то, как много приходится заниматься, и что когда он кончит Академию, пусть старик возьмет отпуск и приедет посмотреть Москву. Александр Александрович мечтал об этой поездке. Приятелям на заводе он рассказывал о Москве и обещал привезти из Москвы подарки. Поехать в Москву Александру Александровичу не удалось. Он умер на заводе во время работы. Умер от разрыва сердца. Смерть его была легкая. Он торопился покрыть лаком двери в почти готовом вагоне и быстро шел по цеху с банкой лака и с плоской кистью в руках. Не доходя нескольких шагов до вагона, он упал, и ученики-фабзайчата думали, что он споткнулся, и бросились к нему, чтобы помочь ему встать, но он был мертв. С завода послали телеграмму в Москву сыну Александра Александровича. В тот же день из Москвы пришла телеграмма, и сосед Александра Александровича вскрыл ее. В телеграмме было написано:Академию кончил зпт диплом защитил тчк выезде Москву телеграфируй тчк СашкаСын Александра Александровича приехал на следующее утро. Хоронил Александра Александровича весь завод.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Андрея Александровича Кузнецова перевели на северо-западную границу. Он был назначен начальником Управления пограничной охраны одного из самых крупных округов. Участок границы этого округа отличался большой сложностью, так как он был очень велик и разнообразен. Граница тянулась и по непроходимым болотам и лесам, вдали от городов, и по густо населенным местностям, совсем по соседству с важнейшими промышленными центрами страны. Андрей Александрович принял округ и, едва познакомившись с работниками Управления, выехал на границу. Месяц он переезжал из комендатуры в комендатуру и побывал в самых глухих участках границы и на самых далеких заставах. На автомобиле нельзя было проехать, и Андрей Александрович отослал автомобиль и ехал верхом, но и верхом можно было пробраться не всюду. Начальники застав предупреждали Андрея Александровича о бездорожье, о трудностях переходов по болотным тропинкам. Андрей Александрович шел по болоту пешком, молчал, непрерывно курил, и комары не кусали его — так дымила его трубка. Андрей Александрович много разговаривал с бойцами и командирами; вернее, бойцы и командиры говорили, а он молчал и изредка задавал короткие вопросы и размашистыми записями заполнял одну записную книжку за другой. Чем больше ездил Андрей Александрович по границе, тем больше он мрачнел. Вернувшись с границы, он сразу уехал в Москву. Он доложил начальнику пограничной охраны Союза о своей поездке. Он считал плохим состояние дел в округе, и начальник согласился с ним. Близость от границы крупных промышленных центров естественно привлекала внимание враждебных иностранных разведок, и в округе были нарушения границы. Шпионы, нарушители границы, использовали те участки, где граница проходила по лесам и болотам, где дикое бездорожье мешало охране границы. Больше всего нарушений было именно в этих участках. Нарушителям было не трудно прятаться в лесной чаще. Андрей Александрович настаивал на смене некоторых руководящих работников Управления и просил о том, чтобы вместо них были посланы люди, способные найти новые, радикальные меры борьбы в необычайно сложных условиях округа. Начальник согласился с Андреем Александровичем и в этом. С мнением Андрея Александровича начальник пограничной охраны Союза очень считался, и целую ночь они вдвоем совещались о делах в округе и о людях, которых нужно было послать на укрепление округа. Подбирались старые пограничники, опытные командиры, и многие из них были из Средней Азии. В Средней Азии они прошли через испытание борьбы с басмачами, и борьба с басмачами закалила их и была их боевой школой. Басмачество было побеждено ими, и их перебрасывали на другие границы — туда, где было труднее всего. Андрей Александрович одного за другим вспоминал боевых товарищей. Основные кандидатуры были подобраны, оставалось место начальника штаба. — У меня есть на примете один человек, — сказал начальник, — но мне хотелось бы раньше узнать твое мнение, Андрей Александрович. О ком думаешь ты? Учти, что округ твой сложнейший, и начштаба — мозг всей машины управления, и начштаба нужен такой, чтобы он смог потягаться с разведчиками твоих соседей. — У меня, Михаил Петрович, тоже есть на примете один человек, ответил Кузнецов, — и я тоже хотел, раньше чем говорить, узнать твое мнение, но если так, ладно, скажу первый. Есть у вас человек, никуда еще не назначенный. Он только что Академию Генштаба окончил. Он никуда не назначен, я узнавал сегодня. — Ну, ну. Кто это? — Шурка Коршунов. — Полковник Коршунов, Андрей Александрович? — Может, он и полковник, но для меня он давно был Шуркой Коршуновым и останется Шуркой даже тогда, когда станет комбригом. Так как же, Михаил Петрович? Начальник улыбался. — Я и думал о полковнике Коршунове. Из Москвы Кузнецов и Коршунов уехали вместе.2
Забрызганный грязью автомобиль медленно пробирался по дороге к заставе. Дорога шла лесом, прямые стволы сосен обступали дорогу, и корни сосен высовывались из размытой дождями земли. Внизу, у подножий сосен, сплошь рос кустарник, и его ветви, спутанные и переплетенные, сплошной стеной подходили к дороге. Лил дождь, и капли воды монотонно стучали по верху автомобиля. Небо было видно в просветы между ветвями сосен, и небо было серое. Рядом с шофером сидел Коршунов. Он поднял воротник шинели, нахлобучил фуражку и руки глубоко засунул в карманы. Все-таки было холодно. Шофер осторожно вел машину и чертыхался на каждой выбоине. Дорога была вся в выбоинах, и шофер чертыхался непрерывно. Низкое здание заставы было черным от дождя. Дежурный в брезентовом плаще шагал по лужам с винтовкой наперевес. У ворот заставы шофер остановился и дал сигнал. Дежурный неторопливо распахнул ворота и молча заглянул в окно автомобиля. У крыльца Коршунов вышел из автомобиля и, перешагнув через большую лужу, взошел на крыльцо. Дежурный, гремя сапогами, обогнал Коршунова в коридоре и крикнул: «Смирно», раскрывая двери ленинского уголка. Начальник заставы проводил занятия с бойцами и вместе с бойцами встал перед Коршуновым. Начальник заставы был невысокого роста, худощав, и лицо у него было бледное, с красными, воспаленными глазами. Коршунов приказал продолжать занятия и прошел в кабинет начальника заставы. В маленькой комнате с бревенчатыми стенами стояли стол и два стула. На стене, против окна, висела карта участка заставы, на столе стоял телефон. Коршунов сел к столу и закурил. Стол был покрыт старой газетой, и на газете были чернильные пятна, и поля газеты были испещрены одной и той же размашистой подписью. Косые буквы выписывали фамилию «Нестеров», и в конце был завиток, похожий на летящую птицу. В окно билась муха. Начальник заставы вошел в комнату. — Садитесь, товарищ Нестеров. — Товарищ начальник штаба… — Погодите, товарищ Нестеров. Мне хотелось бы пройти по вашему участку, и вас я хотел бы просить сопровождать меня. По дороге мы поговорим. Хорошо, товарищ Нестеров? — Но дождь, товарищ полковник… — Да, дождь. Я попрошу вас дать мне брезентовый плащ и болотные сапоги. — Быть может, вы отдохнете с дороги, товарищ полковник, и дождь пока кончится. Хотя… — Номер сапог у меня сорок второй. Болотные сапоги пусть будут на номер больше. Для теплой портянки. Найдутся такие сапоги? — Конечно, товарищ полковник. — Прежде всего я хотел бы пройти на то место, где было у вас нарушение. — Это на левом фланге, товарищ полковник, но это отсюда не меньше двенадцати километров, и там сплошные болота и… — Тем более нужно поспешить, товарищ лейтенант.3
Коршунов и Нестеров шли по дозорной тропе вдоль границы. Понятие тропы можно было только приблизительно применить к тем местам, по которым они проходили. Изредка в болотных кочках угадывались следы, протоптанные пограничниками, да кое-где в трясине лежали редкие и полусгнившие бревна, долженствующие изображать гать. Чаще всего приходилось просто пробираться сквозь путаницу кустарника, и с обеих сторон кустарник был так густ, что на расстоянии трех шагов ничего нельзя было разглядеть. Попадались лужайки и крохотные болотные озерца, поросшие ряской и окруженные такой же непроходимой стеной кустарника. Дождь не переставал. Из-под ног Нестерова (он шел впереди) несколько раз взлетали лесные птицы, один раз кто-то шарахнулся в сторону, затрещали ветви, и кто-то убегал по лесу, громко фыркая и сопя. Нестеров вздрогнул и прислушался. — Лось, — сказал он. В другом месте из зарослей осоки, как из-под земли, встали два пограничника, и тихий окрик: «Стой! Кто идет?» — остановил Нестерова и Коршунова. Пограничники были в мокрых плащах, и болотная трава налипла на их плечах и спинах. Узнав начальника заставы, они доложили, что все в порядке, и исчезли в зарослях так же внезапно, как появились. Коршунов молчал. Нестеров рассказывал о своем участке, и рассказ его был невеселым. Болота, и непролазная топь, и лесная чаща, и бездорожье. Только три-четыре месяца в году до заставы можно добраться на автомобиле, и то — разве это дорога? Остальное время автомобиль не пройдет, потому что или весенняя и осенняя распутица, или снежные заносы. Коршунов молчал. Нестеров рассказывал, как бьется и он и вся застава и как трудно оградить участок от нарушений. Сам Нестеров давно просил перевести его на другой участок, и он уже два года на этой заставе, и каждый кустик ему надоел, и каждую лужайку он проклял сотни раз. Неожиданно для Нестерова Коршунов, молчавший все время, сказал, что он удовлетворит просьбу Нестерова о переводе на другой участок и что через некоторое время он поставит этот вопрос и еще раз поговорит об этом с Нестеровым. Коршунов не был похож на человека, бросающегося обещаниями, и Нестеров повеселел. Он стал говорить о том, что близость соседней деревни к линии границы мешает работе пограничников. — Вы думаете? — спросил Коршунов. Нестеров оглянулся и понял, что всю дорогу, слушая Нестерова, начальник штаба сосредоточенно думал, думал совсем не так, как думал Нестеров, и, может быть, даже совсем не о том, о чем Нестеров говорил. Нестеров замолчал, и, пока они не вернулись на заставу, никто не сказал ни слова. На заставу пришли, когда уже было темно. Дежурный доложил, что конный привез телеграмму для Коршунова. Телеграмма пришла в комендатуру, и оттуда ее прислали на заставу. Коршунов взял телеграмму, распечатал ее и, посмотрев на подпись, сказал, как бы оправдываясь: — Из дому. Я уже два месяца, как уехал. В телеграмме было:Родилась дочь. Назвала Александрой. Анна.Переодевшись, наскоро закусив и недолго поговорив с бойцами, Коршунов уехал с заставы. Ночью ехать было еще хуже, и шофер ругался неистово. Коршунов молча улыбался и курил трубку за трубкой. Под утро, когда автомобиль наконец выехал на шоссе, Коршунов сказал громко и весело: — А я мечтал о сыне! Шофер удивленно посмотрел на Коршунова. Коршунов улыбался. — Ну ничего, — сказал он. — Теперь жмите изо всех сил, товарищ.
4
— Явился, начштаба? — Явился, товарищ начальник. Вчера. — Какие впечатления? Прав я? — Больше чем прав. Впечатления невеселые. — Ты знаешь о нарушении на пятой заставе? — Знаю. Я был на этой заставе. — Ну? — Очень плохо. Там уже третье нарушение. Третье за три месяца. — Многовато? — Слишком. — А участок? — Участок, действительно, тяжелый. Да дело не в этом. — Люди? — Нет, люди хорошие. Начальник заставы мне понравился, хотя он и просил меня о переводе на другой участок. Дело не в людях. Дело в методе. Дело в том, товарищ начальник, что пока мы природных условий проклятых тех мест не оседлаем, нужно биться, применяясь к местности. Решительные меры принимать необходимо, но нужно менять метод. Я кое-какие соображения имею и кое-каких людей присмотрел. Там же, в той же комендатуре. Нужно добиться, чтобы люди почувствовали интерес и смысл в своей работе именно в том месте, где они находятся, именно в тех проклятых природных условиях, которые сейчас они ругают и ненавидят. Не только ненависть должна пройти, но нужно сделать так, чтобы люди полюбили эти места. Любили же мы нашу Азию, хоть и часто она была нам мачехой. Так же можно полюбить и лесные болота, и так же, как когда-то в Азии, мы должны бить врага его же оружием. Нарушителю удобно потому, что там непролазные чащи, и потому, что он, нарушитель, как зверь, прячется в болоте. Хорошо. Будем бить его, как зверя. По дозорной тропе ходит часовой. Кстати, там и троп почти никаких нет. Часовой ходит по лесу, боец сидит в секрете. Пусть по лесу будет ходить следопыт, и пусть охотник будет сидеть в секрете. Все, что я говорю, давно известно, и людям на пятой, скажем, заставе тоже прекрасно известно, но не делают еще основного упора на это, не используют, не выявляют природных способностей. Талантов, если хотите. Природные же способности есть, люди есть и кроме людей… — Собаки. Я сам уже занялся вопросом о собаках и за время твоей командировки кое-что сделал. Это верно — собаку еще недостаточно используют в округе. Нужно школу наладить и питомник поднять. — Я, товарищ начальник, встретил там в одной из комендатур человека. Исключительно ценный человек. Я написал рапорт о нем. Кузнецов внимательно прочел поданную Коршуновым бумагу и подписал в углу красным карандашом. — Хорошо, согласен. Но ты сказал не все, Александр. Ты сказал — п о к а мы не можем оседлать природные условия. Это верно, но именно «пока не можем», а надо готовиться к тому, чтобы их все-таки оседлать. Техника нам необходима. — Я думал об этом, Андрей Александрович. Совершенно необходимо срочно ставить вопрос о дорогах. — Я вчера выступал на бюро обкома именно по этому поводу. Решение должно быть в ближайшие дни. Дороги будут. Мы, несомненно, должны будем нажать на это дело и помогать его реализации. Но дороги будут. Нам самим нужно подготовиться к ним, к настоящим дорогам. Пусть в тот день, когда в строй вступят новые дороги, мы введем в дело новую технику. Понятно, Александр? — Понятно, Андрей Александрович. — Я попрошу, полковник, подработать этот вопрос и свести воедино все соображения. Потребуется, очевидно, кое-какая реорганизация, и вопрос нужно будет ставить в Москве. Понятно, полковник? — Понятно, товарищ комбриг. — Неделю даю тебе на это дело. Хватит? — Хватит, товарищ комбриг. — Что еще у тебя? — О нарушении на участке пятой заставы, товарищ комбриг. — Да? — Я полагаю, что три этих последних перехода через границу покажутся им очень соблазнительными, и они используют участок пятой заставы еще раз. — Не много ли будет? Остерегутся, пожалуй. — Все три нарушителя, товарищ комбриг, прошли от нас на ту сторону. Я полагаю, что хоть раз они попытаются пройти оттуда к нам. Может быть, кто-нибудь из этих же трех и пойдет обратно тем же путем. — Предположим, что ты прав. Дальше. — Усиливать пятую заставу, мне кажется, нецелесообразно, тем более, что легко можно предположить у них кое-какую агентуру в деревне. Мне казалось бы нужным немедленно вот этого моего человека. — Коршунов кивнул на бумагу, только что подписанную Кузнецовым, — вот его и бросить на пятую заставу. Я на него большие надежды возлагаю. А нам только бы зацепиться, хоть одного там задержать человека, и мы размотали бы весь узел. Узел есть, Андрей Александрович, узел крепкий — и именно в тех местах. Пятая застава мне показалась очень возможным центром. — Согласен. Действуй. — Есть. У меня все, товарищ комбриг. — Нет, не все. Ты что же скрываешь свои семейные торжества? — Андрей Александрович! Я не… — «Я не», «я не»! Что ты «не»? Поздравляю тебя, Шурка. — Спасибо. Спасибо, Андрей Александрович! — Сознайся: ты ведь о сыне мечтал? — Мечтал. Верно. Но дочка очень уж хорошая.5
Лесорубы шли по лесу рядом с узкой проселочной дорогой, и топоры стучали, и дрожали верхушки деревьев, и деревья падали с шумом, ломая ветви. Лесные птицы улетали в глубь леса, и звери бросали норы и уходили в чащу. Лето кончалось, непрестанно лили дожди, но лесорубы работали не переставая, и широкая просека врезалась в лес. У лесорубов были две бригады, и каждая бригада шла по своей стороне дороги, и бригады соревновались между собой, и работа была похожа на состязание, и красное знамя переходило от одной бригады к другой и обратно. Красное знамя двигалось впереди и было на той стороне, где работа делалась скорее. Знамя мочили дожди и сушило солнце, и кумачовое полотнище полиняло, но и блеклый цвет ярко выделялся на фоне уже желтеющего леса. За лесорубами шли тракторы и выкорчевывали пни, и шум тракторов был гораздо сильнее, чем стук топоров, и запах бензина шел по лесу, и звери бежали еще дальше от дороги. За тракторами шли землекопы и каменотесы. Ползли неуклюжие катки и развороченную землю ровняли и засыпали щебнем, и экскаваторы рыли канавы, и плотники строили мосты и ставили столбы, и, километр за километром, широкая просека превращалась в широкую дорогу. За строителями дороги двигался лагерь, и палатки стояли в лесу, и дымили походные кухни. Часто на строительстве появлялся длинный черный автомобиль, и из автомобиля выходил высокий человек в форме полковника пограничной охраны. Полковник осматривал строительство и говорил с рабочими и с десятниками, и торопил, и спрашивал, какая нужна помощь, и если к нему обращались, он всегда делал все, что нужно. Дорога была разбита на участки по десять километров, и строители сдавали готовые участки, и приезжали милиционеры из ОРУДа и устанавливали знаки, и инспектора хвалили прямую и широкую дорогу. Лесорубы шли впереди, и линялое красное знамя шло впереди бригады.6
На пятую заставу прислали проводника с собакой. Проводник привязал собаку в тени, подальше от крыльца, и направился к начальнику заставы. Был проводник мал ростом и сухощав настолько, что гимнастерка и галифе казались на нем мешковатыми и плохо сшитыми. Лицо у него — костистое, немолодое, но сколько проводнику лет, определить было трудно. Движения его были неторопливы, как будто он все время о чем-то сосредоточенно думал. Он представился начальнику, встав «смирно» и не обнаружив никакой выправки. Нестерову, начзаставы пять, за несколько дней до этого прислали бумагу из комендатуры, где предлагались всемерно использовать проводника с собакой Шарик и всячески содействовать их работе. Нестеров сразу скептически отнесся к этой бумаге. Кличка собаки показалась ему смешной и не внушающей доверия. Теперь, увидя самого проводника, Нестеров разочаровался окончательно. — Садитесь, — сказал он хмуро, — мне писали о вас. Из комендатуры. Что ж, попробуйте, попробуйте у нас. Но заранее вам скажу — я эти места вот как знаю: ничего у вас не выйдет. Места эти проклятые, и Шарик ваш ничего не сделает. Пробовали уж здесь с собакой. Не идут собаки в этих болотах и мерзнут, и нюх у них пропадает. Был у нас пес — не Шарик, а Джек звали его. Такой весь поджарый, нос как у щуки, и лапы тонкие, и хвост рубленый. — Очевидно, доберман-пинчер, — медленно и негромко сказал проводник. — А черт его знает! Кажется, что так их порода называлась. Во всяком случае, очень пес был замечательный, и с наградами всякими, и все такое. Ничего не вышло. Не смог этот Джек у нас работать. И у вас с Шариком ничего не получится. Это я заранее знаю. Так что вы не надейтесь особенно и не расстраивайтесь. — Это мы посмотрим, — так же медленно сказал проводник. Нестеров помолчал и искоса посмотрел на проводника. Маленький человек сидел слегка сгорбившись и смотрел в окно. Глаза у него были зеленые и пристальные, почти неподвижные под нахмуренными бровями. — Что ж, поглядим, каков ваш Шарик. Где он у вас? — спросил Нестеров. Проводник молча встал, и они вышли на крыльцо. Группа пограничников рассматривала огромного черного пса, привязанного к дереву. Пограничники держались от пса на почтительном расстоянии. Пес лежал вытянув лапы и положив на них голову. Он безучастно смотрел на пограничников, и глаза его, казалось, выражали презрение и скуку. Проводник тихо позвал: — Шарик… Пес вскочил, подняв уши, и весь вытянулся вперед. Теперь он казался еще больше, чем тогда, когда лежал. Сложением он был похож на крупного волка, но шерсть у него была длиннее и совершенно черная. Хвост он держал прямо, слегка опустив его. У него была широкая грудь и сильные лапы. Пограничники опасливо попятились. — Гм! — сказал Нестеров. Шарик производил серьезное впечатление. — Мне бы хотелось, — раздался тихий голос проводника, — мне хотелось бы положить куда-нибудь мои вещи и ознакомиться с участком. — Конечно, — сказал Нестеров, — сегодня вы отдохните, а завтра мы вместе… — Мне бы хотелось сегодня. — Да? Что ж, пожалуй, пойдем сегодня. Вам к спеху? Проводник ничего не ответил. Нестерова настолько заинтересовали маленький человек и его Шарик, что он сам пошел знакомить проводника с участком. Была та осенняя пора, которую называют «бабьим летом». Перед обычной полосой непрерывных дождей несколько дней стояла прекрасная погода. Ночи были прохладные, но днем было тепло. Лес в ярком осеннем убранстве был очень хорош. Нестеров и проводник с Шариком шли по участку. Нестеров никогда не считался разговорчивым, но проводник показался ему исключительно молчаливым человеком. На все вопросы и замечания Нестерова он отвечал тихо и односложно или вовсе ничего не отвечал. Зато смотрел вокруг проводник с какой-то звериной внимательностью. Шарик бежал впереди или ненадолго скрывался в чаще кустарника, и Нестеров поражался тому, как большой зверь легко и бесшумно пробирается в зарослях. Изредка проводник едва слышно подзывал Шарика и говорил ему какие-то непонятные короткие слова, и Шарик, казалось, понимал и смотрел на своего хозяина почти по-человечьи умными желтыми глазами. На Нестерова Шарик не обращал никакого внимания, но когда Нестеров захотел его погладить, проводник крикнул неожиданно громко: — Осторожней! Нестеров испугался и отдернул руку. — Трогать его не нужно, — по-прежнему тихо и медленно сказал проводник.7
Коршунов работал по двадцать часов в сутки и спал по три часа. Он успевал выполнять много работы. Часто ему нужно было в течение нескольких минут разобраться в сложном деле, сразу вынести решение и отдать приказание. Через его руки проходила огромная переписка, и множество людей обращалось к нему по разным вопросам. Коршунов всюду успевал и все делал вовремя. При этом Коршунов никогда не суетился, говорил не спеша и ходил неторопливо. Весь штаб поражался работоспособности начальника, и Коршунов всегда был спокоен и сдержан и ничем не выдавал своей усталости. А уставал Коршунов сильно. Особенно трудно было вставать по утрам вставал Коршунов в девять часов, — и потом еще во второй половине дня, часов около пяти, нестерпимо хотелось спать. Иногда Коршунов никак не мог совладать со сном, закрывался в кабинете на полчаса и спал не раздеваясь на узком кожаном диване. Часто и этот получасовой отдых прерывался из-за экстренных дел. Никто не знал о мучительной усталости и о напряжении начштаба, и Коршунов вспоминал о том, как в Средней Азии он скрывал усталость и как его неутомимости в походах дивились пограничники. Только Кузнецов знал, чего стоит Коршунову такая работа. Иногда по вечерам, часов в десять, Андрей Александрович входил в кабинет начштаба и приказывал Коршунову кончать все дела и собираться. Если бывала хорошая погода, Кузнецов и Коршунов в открытом автомобиле ехали куда-нибудь за город. Автомобиль мчался по прямым дорогам, и прохладный ветер раздувал искры из неизменной трубки Кузнецова. Обычно и Кузнецов и Коршунов молчали. Через полчаса Кузнецов приказывал шоферу поворачивать, и автомобиль мчался обратно. У дома Коршунова Кузнецов прощался или заходил к Коршунову, шутил с Анной, смотрел, как спит маленькая Александра Александровна, выпивал стакан крепкого чая и уезжал. Один раз Коршунов попробовал обмануть Кузнецова. Когда Кузнецов уехал, Коршунов вызвал дежурную машину и вернулся в штаб. Было много дела. Но на следующий день Кузнецов узнал об этом и всерьез рассердился. Коршунову пришлось дать слово больше не обманывать Андрея Александровича. Коршунов часто уезжал на границу. Он забирался в самые глухие участки и все хотел видеть своими глазами. Он на ходу перестраивал машину управления. Людей не хватало, потому что съехались еще не все командиры, назначенные в округ. В числе других из Средней Азии приехал капитан Иванов, и Коршунов с трудом узнал в нем Яшку Иванова, участника аильчиновского дела и похода на Ризабека Касым, и боев с Абдулой, и многих, многих других среднеазиатских дел. Иванов возмужал и окреп. Он слегка прихрамывал — память о Ризабеке Касым, — был молчалив и весь как-то насторожен. Коршунов обнялся с Ивановым, запер дверь своего кабинета, и они долго разговаривали вспоминая Азию. Прощаясь с Ивановым, Коршунов сказал: — Вот, Яша, Азия для нас кончилась. Здесь все не похоже на Азию, и здесь не легче. Скорее, здесь труднее, Яша. Говоря, Коршунов ходил по комнате. Лицо его было задумчиво и сосредоточенно. Сначала он говорил негромко и медленно, как бы с трудом подыскивая слова или размышляя с самим собой. — Там, в Азии, мы разбивали басмачей, ликвидировали банды, ловили вожаков. Там мы чувствовали, как враг слабел. Враг слабел и сдавался нам или уползал от нас за кордон. Враг слабел с каждым днем. Мы с каждым днем становились сильнее. Здесь нет басмачей. Здесь границу не переходят большие банды. Здесь бой ведут в одиночку. Но это настоящий бой, Яша. Мы одерживаем одну победу за другой. Но они, наши враги, посылают против нас новых людей, и они стараются бить нам в спину. Так будет до тех пор, пока есть граница, Яша. Иначе быть не может. Теперь Коршунов говорил громко и быстро. Казалось, он торопился договорить до конца, торопился сказать обо всем, что давно и глубоко им продумано. Иванов был поражен. Иванов хорошо знал своего командира, и Иванов понимал, что вся речь Коршунова совершенно необычайна. Необычайно было, что на редкость сдержанный и молчаливый Коршунов говорил с таким волнением, что он говорил в таких выражениях. Наконец, было необычайно, что Коршунов говорил так много. Сначала Иванова сильнее всего поразило именно последнее, но по мере того как Коршунов говорил, Иванов все больше и больше заражался его волнением. — Когда-нибудь, — сказал Иванов, — границ не станет. Тогда не будет и пограничников. Коршунов улыбнулся и помолчал. Иванов не отрываясь следил за выражением его лица. Коршунов обращался к Иванову, но говорил так, будто слушал его не только один Иванов, а много людей. Улыбался Коршунов почти смущенно, как бы стыдясь своей неожиданной разговорчивости. — Мы неважные мечтатели, Яша, и сегодня граница остается границей. Нужно побеждать здесь, как мы побеждали в Азии. Правила игры остаются прежними. Тебя этим правилам учить не нужно. Здесь, Яша, на западе, лучше, чем где бы то ни было, чувствуется самая суть, самая природа нашей пограничной борьбы. Это очень важно. Мы с тобой — профессионалы. Наше пограничное дело, конечно, профессия. Профессия сложная, тяжелая и замечательная профессия. Но мы не просто стережем такой-то участок границы, такой-то участок земли с такими-то лесами и болотами, с такими-то реками и озерами. Да, мы охраняем землю. Нашу землю. Коршунов стоял посреди комнаты. Он стоял, широко расставив ноги и слегка опустив голову. Лицо его раскраснелось. Иванов поднялся со своего места. — Да, мы охраняем границу. Каждый день, каждый час, каждую минуту мы охраняем границу нашей земли. Когда будет война, мы первые примем бой. Мы ведем бой и сегодня. Война не объявлена, но война идет. Большая, последняя война. Война между двумя системами. Война между двумя силами, двумя мировоззрениями, двумя началами на земле. В войне победителями будем мы, но победу мы завоюем в бою, и бой будет трудным. Враг собирает все силы, потому что враг готовится к смертельной схватке. Форпосты нашего фронта защищают пограничники. Наш фронт — фронт борьбы за счастье, за право на счастье всего человечества. Это звучит торжественно, Яша, но, право, я не знаю, есть ли другие слова. Каждый наш человек, каждый боец, каждый пограничник, все мы… В дверь настойчиво постучали. Коршунов отщелкнул замок. В дверях стоял секретарь. — Простите, товарищ полковник. Срочная телеграмма. Коршунов прочел:Участке пятой заставы проводником Цветковым розыскной собакой Шарик при переходе на нашу территорию задержан нарушитель тчк Нарушитель вооруженный маузером оказал сопротивление
8
«Москва. Академия Генерального штаба. Адъюнкту Академии капитану Борису Марковичу Левинсону. Здравствуй, Бобка! Заранее предупреждаю: хочу совершить покушение на тишину и уединенность твоих высоких адъюнктских занятий. Нужна мне твоя помощь. Предлагается тебе возглавить организацию большого дела, связанного с моторизацией, с техникой. Установка на то, чтобы создать сложный и разнообразный механизм, который мог бы молниеносно прийти в движение, мог бы стать гибким и оперативным оружием для решения труднейших тактических задач, с основным условием: скорость, скорость, скорость. Подробности могу сообщить только лично. Дело серьезное и особенно интересное в свете тех вопросов, которыми занимаешься ты. Стремительное боевое действие нам понадобится и в бо́льших масштабах, чем в моем округе, но дело, о котором я пишу тебе, вполне достаточно для практического применения и проверки множества теоретических предпосылок. Могу гарантировать, что действенность будет такая, какой на маневрах не добиться. Если можешь, прошу тебя, немедленно приезжай ко мне и выслушай меня. Тогда решишь. Выхода у тебя будет два: или согласиться и потратить полгода твоей жизни на это дело, или не согласиться и вернуться в мягкое твое академическое кресло. В случае первом мой Хозяин берет на себя организацию всех нужных распоряжений по линии твоего начальства. В случае втором ты потеряешь один день, но зато повидаешься со старым товарищем по школьной скамье. А это тоже дело немаловажное, тем более что с перепиской у нас не очень клеится. Я жду тебя.Получив это письмо, Левинсон уехал к Коршунову. Коршунов разговаривал с Левинсоном два часа, и Левинсон согласился на предложение Коршунова. Поздно вечером Коршунов познакомил Левинсона с Кузнецовым. Левинсон вернулся в Москву и уладил свои дела в Академии, а через несколько дней получил соответствующее назначение и уехал из Москвы. Квартиру Левинсону дали в том же доме, где жил Коршунов, и дружба Левинсона и Коршунова возобновилась с прежней силой, только виделись они вне Управления редко, потому что оба были очень заняты.Александр Коршунов».
9
Нарушителя, задержанного на участке пятой заставы, привезли на допрос к Коршунову. Было около часа ночи. В кабинете, кроме Коршунова, был Иванов. Он сидел в кресле, в дальнем от двери углу кабинета. Коршунов стоял у окна, когда ввели арестованного. На столе горела лампа с синим абажуром, и в кабинете был мягкий полусвет. Коршунов отпустил охрану, закрыл дверь и снова подошел к окну. — Сядьте, — сказал он, и арестованный поспешно сел. Кисть правой руки арестованного была забинтована. — Что это? — спросил Коршунов. — Это собака меня… — Голос у арестованного был глухой. — Когда я стрелял, она меня за руку схватила… Я, гражданин начальник, хочу сам все рассказать… Я уже говорил… Я очень хочу все сказать… Имейте в виду, прошу вас… чистосердечное признание… Поверьте… Арестованный ежился и быстрой скороговоркой говорил что-то уже совсем невнятное. — Куда вы шли? — перебил его Коршунов. — А я уже говорил, товарищ… — Гражданин! — Простите, гражданин начальник! Простите меня! Прошу вас.Я, позвольте, все с начала скажу вам. Всю мою печальную историю. Позвольте… — Всю вашу историю я сам знаю. И как вас раскулачивали, и как вы ударили ножом предсельсовета, и как вас выслали, и как вы бежали из концлагерей за границу. Спрашиваю: куда вы шли? Куда и зачем? — В Глухой Бор, — голос арестованного прерывался, — в деревню Глухой Бор… — К кому? Зачем? — К предсельсовету тамошнему… Силкину… К Петру Семеновичу Силкину. — Зачем? — Велели мне только передать ему привет от брата… Поверьте… Поверьте, гражданин начальник… Только привет передать и назад… Сразу же и назад вернуться хотел… Я крайне нуждался, и только нужда… Только деньги… Поверьте мне… — Почему вы ничего не сказали ни на первом, ни на последующих допросах? — Заблуждался… Жестоко заблуждался, гражданин начальник… Но теперь, поверьте… — Кто такой брат Силкина? — Не знаю… Не знаю я… — Не врите! — То есть он имеет отношение к разведке… Я так, простите, заключил, однако достоверно не знаю ничего о нем… Все, что я знаю… Коршунов подошел к столу и нажал звонок. Арестованный заметил это. — Что со мной будет, гражданин начальник?.. Вошел конвой. — Уведите! — сказал Коршунов. Арестованный вскочил и потянулся за рукой Коршунова. Коршунов отдернул руку. — Что со мной будет? Умоляю, гражданин начальник… Коршунов молчал. Арестованный, сгорбившись, пошел от стола. Конвойный раскрыл перед ним дверь. Стоя на пороге, арестованный обернулся. — Убьете меня? — прошептал он еле слышно. — Убьете? Что ж, со мной умрет и то, что мне известно… Конвойный тронул его за плечо, и арестованный вышел. — Видел? — сказал Коршунов, когда конвойный закрыл дверь. — Ничего он больше не знает, Александр Александрович, — сказал Иванов, — цену себе набивает. Гадость. Коршунов молча снял трубку с телефона. — Пятую заставу. Скорее. Коршунов положил трубку, и несколько минут оба сидели молча. Зазвонил телефон. — Товарищ Нестеров? Здравствуйте. Начштаба. Да. Как фамилия предсельсовета деревни Глухой Бор? Спасибо. Все у меня. — Коршунов положил трубку и закурил. — Верно, Александр Александрович? — спросил Иванов. — Верно. Силкин. Тебе, Яша, придется немедленно выехать на пятую заставу. Ты достаточно в курсе дела. С Силкиным ты поговори и сразу позвони мне. — Слушаюсь, Александр Александрович. — Торопись, Яша. Силкин необходим. Иванов ушел. Ночью он позвонил Коршунову и сообщил, что предсельсовета деревни Глухой Бор исчез.10
Все время, после приезда на пятую заставу начштаба округа, жизнь Нестерова была полна волнений и новых забот. Сначала прислали на заставу проводника с собакой. Потом, чуть ли не на следующий день, приехала команда связистов, и они расположились в пустом сарае и целыми днями работали в лесу. Их начальник, очень молодой человек в очках, ничего толком не рассказывал Нестерову, а только посмеивался. Потом пошли дожди. Ночи стали темными, и Нестеров усилил охрану границ. Сам каждую ночь ходил по участку. Днем связисты работали в лесу, работали просто как черти, и никакой дождь не останавливал их. Связисты требовали, чтобы район их работы тщательно охранялся и никого не допускали к тому месту, где они работали, а когда они уходили, то от их работы не оставалось никаких следов, и неизвестно было, что же такое они делали в лесу. Потом бурной, дождливой ночью проводник со своим Шариком взяли нарушителя, и нарушитель открыл огонь из маузера, и Шарик бросился на нарушителя и перекусил ему кисть правой руки, так что нарушитель выронил маузер и сдался. После задержания Нестерову было неловко встречаться с Цветковым, проводником Шарика, но Цветков вел себя так, будто ничего не произошло и будто он вовсе не помнит первого разговора с Нестеровым. Цветков по-прежнему каждую ночь ходил с Шариком по участку и спал днем. Потом связисты кончили свою работу, и их начальник провел Нестерова по участку и показал, что устроили в лесу связисты, и Нестеров просто пришел в восторг. Начальник связистов перед отъездом рассказал всем бойцам заставы, как нужно пользоваться устройством в лесу. Словом, Нестеров был так занят и столько произошло значительного и интересного на пятой заставе, что о разговоре с начштаба относительно перевода на другой участок Нестеров вспомнил только тогда, когда начштаба позвонил ему по телефону. Начштаба ничего не сказал о переводе Нестерова. Ночью на заставу приехал уполномоченный из Управления, и к его приезду Нестеров уже знал об исчезновении предсельсовета. По всему участку были расставлены секреты.11
Цветков шел по участку в полной темноте. Тучи сплошь закрывали небо, дождь хлестал не переставая, ветер раскачивал деревья, и стволы деревьев скрипели. Цветков ощупью находил дорогу. Шарик шел рядом, и было так темно, что Цветков не видел Шарика. Несколько раз Цветков останавливался и прислушивался, но из-за шума дождя, ветра и деревьев ничего нельзя было расслышать. Шарик останавливался вместе с Цветковым, и Цветков чувствовал, как мягкий бок Шарика касается его ноги. Было, вероятно, около двух часов ночи, когда Шарик остановился сам и глухо зарычал. Цветков пригнулся и руками потрогал спину собаки. Шарик стоял нагнув голову, и мокрая шерсть на его спине поднялась дыбом. Цветков вынул наган и пристегнул карабин поводка к ошейнику Шарика. — Искать… Шарик искать, — зашептал Цветков, губами касаясь уха собаки. Шарик потянул поводок и быстро пошел в сторону от тропы. Цветков шел за ним, спотыкался и падал. Сучья били его по лицу и рвали его одежду. Несколько минут Шарик тащил в сторону от тропы, а потом повернул и снова вывел Цветкова на тропу и пошел по тропе. По тому, как Шарик тянул поводок, Цветков понимал, что Шарик нигде не сбивается со следа и ведет уверенно. Было так темно, что даже Шарик плохо видел, часто спотыкался и несколько раз упал, но не сбивался со следа и шел верхним чутьем, негромко рыча и все сильнее натягивая поводок. В темноте Цветков не мог идти быстро. Около получаса продолжалось медленное преследование невидимого врага. Шарик свирепел все больше и больше. Вдруг он остановился, и Цветков наткнулся на него. Шарик больше не рычал. Он дрожал от нетерпения, и Цветков понял. Цветков отстегнул карабин и коротко крикнул: «Фас!» — боевую команду, команду собачьей атаки. Шарик взвыл и ринулся в темноту. Цветков ничего не видел. Ветер выл в верхушках деревьев. Несколько секунд показались Цветкову очень длинными. Потом, перекрывая шум бури, закричал человек, и сразу взвизгнул Шарик, и все стихло. Цветков понял, что с Шариком что-то случилось и решился на крайнюю меру: он зажег электрический фонарь, и яркий луч осветил стволы ближних сосен, мокрую траву и корни деревьев. Шарик неподвижно лежал на земле. Цветков повернулся, свет фонаря пронесся по ветвям кустов, и из-за кустов высокий человек бросился на Цветкова. Раньше чем Цветков успел выстрелить, страшный удар обрушился на его голову, и Цветков упал. Последнее, что он смутно видел, была спина согнувшегося человека. Человек бежал по тропе к границе. Цветков очнулся. Что-то мягкое терлось о его лицо, и кто-то дышал на него. Цветков пошарил руками и в темноте обнял голову Шарика. Шарик скулил и лизал лицо Цветкова. — Очень плохо, Шарик, — сказал Цветков, садясь. Голова нестерпимо болела. — Очень, очень плохо, Шарик! Падая, Цветков разбил стекло фонаря, но лампочка горела, и крохотный огонек освещал пространство в несколько сантиметров. Цветков осторожно поднял фонарь и осмотрел голову Шарика. Голова собаки была разбита, и кровь растекалась по мокрой шерсти. Тогда Цветков вытер ладонь о мокрую траву, потрогал свой затылок и поднес фонарь к ладони: ладонь была красная от крови. Несколько минут Цветков сидел неподвижно. Он старался восстановить в памяти все, что видел во время короткой вспышки фонаря до удара по голове, чтобы сообразить, в какой части участка он находится. — Очевидно, квадрат номер семь, — сказал он Шарику. — Предположим. Да, несомненно седьмой. Цветков пригнулся, заслонил от дождя своим телом полевую сумку, вырвал листок из блокнота и написал записку. Записку он вложил в кожаный карман на ошейнике Шарика. — Шарик, домой! Шарик не двигался с места. — Шарик, домой! На заставу! Шарик! — крикнул Цветков. Шарик встал и отошел в темноту, но Цветков чувствовал, что пес стоит близко. — Что я сказал! Шарик! Марш! Шарик тоскливо завизжал и пошел по тропе. — Марш, марш, Шарик! Скорей, скорей! — несся ему вдогонку голос Цветкова. Шарик залаял и побежал скорее. Чем дальше отбегал он от хозяина, тем скорее становился его бег, и через несколько минут он огромными прыжками несся по лесу. Цветков лицом вниз лег на траву. Голова болела, он застонал и сжал зубы. Боль не утихала. Вдруг Цветков приподнялся и сел. — Черт возьми, Цветков, — сказал он громко. В голове так шумело, что он еле расслышал собственный голос. — Квадрат семь. Цветков! Если это так, если это так… Цветков с трудом встал на четвереньки, уцепился руками за ближайшее дерево и стал выпрямляться. Ему показалось, что прошло много времени, раньше чем удалось встать на ноги. Держась за деревья, он медленно пошел, все время бессмысленно повторяя: — Если это так… Если это так… Если это так… Он прошел шагов десять и поднял фонарь, и маленький кружок света скользнул по стволу толстой ели. — Если это так… Если это так… — говорил Цветков, обнимая ель и гладя ладонями ее шершавую кору. Он нашел дупло и просунул в него руку. На дне дупла было кольцо, и Цветков со всей силы дернул за кольцо. В дупле раскрылась дверка. Цветков просунул руку глубже и достал телефонную трубку. Он поднес фонарь к трубке, увидел на трубке цифру семь и тихо засмеялся, садясь на землю и прикладывая трубку к уху. Когда голос дежурного отчетливо сказал «дежурный слушает», Цветков зашептал в трубку: — Цветков говорит! Цветков говорит! Цветков говорит! Меня слышно?! — Да, да. Что случилось? — ответил дежурный. Силы изменили Цветкову. Он чувствовал, что теряет сознание. — Квадрат семь, — заговорил он, напрягая всю свою волю, чтобы не упасть в обморок. — Нарушитель идет к границе… Я ранен… Скорее, скорее… Меня слышно?.. — Да, да. Я все понял. — Молодец… — сказал Цветков и потерял сознание.12
Нестеров спал в своем домике во дворе заставы. Иванов, уполномоченный из Управления, спал в той же комнате. Оба спали одетыми, сняв только сапоги. Они легли поздно и спали крепко, и оба проснулись сразу, как только зазвонил телефон. Нестеров взял трубку, и дежурный доложил о том, что передал ему Цветков. Еще слушая дежурного, Нестеров соскочил с кровати и потянулся за сапогами. Кончив говорить, он стал натягивать сапоги, и Иванов тоже вскочил и тоже надел сапоги. Нестеров одевался и бросал отрывистые фразы. Одевался он так быстро, что конец несложного донесения дежурного Иванов услышал уже, догоняя Нестерова, на дворе заставы. Пока Нестеров добежал до здания заставы, точный план действий сложился у него в голове: место, откуда Цветков сообщил о нарушителе, было рядом с большим болотом, и дозорная тропа огибала болото, удаляясь от границы. Если нарушитель знает о болоте, то он пойдет дальше по тропе и выйдет к границе за болотом. Но со стороны заставы болото можно обогнуть более коротким путем, идя напрямик через лес, и тогда можно успеть подойти к тому месту, где выйдет к границе нарушитель, раньше, чем он уйдет за кордон. Если нарушитель о болоте не знает, то он завязнет в трясине и никуда не уйдет. Скорее всего, что нарушитель все-таки о болоте знает и будет обходить болото. Нестеров послал десять пограничников и фельдшера по тропе. До болота они должны были идти все вместе. От толстой ели на квадрате семь трое должны были идти дальше, огибая болото до границы, двое и фельдшер должны были найти и доставить на заставу Цветкова, а остальные должны были свернуть в болото и обыскать его. Сам Нестеров с другой группой из семи бойцов пошел прямиком через лес к тому месту, где нарушитель, если он знает о болоте, должен был выйти к границе. План Нестерова был правилен. Только при том знании участка, которое было у Нестерова, можно было так быстро и так верно учесть все обстоятельства дела. Иванов понял, что Нестеров сделает все, что нужно, и ни слова не сказал, пока Нестеров быстро и четко отдавал приказания. Сам Иванов пошел вместе с группой Нестерова. Дождь перестал, и облака немного рассеялись, но все-таки было так темно, что дорогу различить было почти невозможно. Нестеров и Иванов первые вышли из ворот заставы и первые увидели черную собаку. Шарик, высунув язык и тяжело дыша, бежал из леса. Он бежал очень быстро, уши его были прижаты к затылку, и хвост опущен. Он бросился к Нестерову и отчаянно залаял. — Знаю, Шарик. Все знаю! — на бегу крикнул Нестеров, и Шарик как будто понял: он сразу замолчал и побежал за Нестеровым. Иванов и пограничники скоро отстали. Нестеров так хорошо знал дорогу, что в темноте бежал легко, почти как днем, и Шарик бежал рядом с ним. Пограничники тоже знали дорогу, и они тоже не один раз проходили здесь, но они не могли поспеть за своим начальником, и Нестеров с черной собакой исчез в лесу. Иванов и пограничники с трудом пробивались в чаще по краю болота, когда впереди раздались несколько выстрелов и громкий лай Шарика. Спотыкаясь о корни деревьев, скользя и падая, Иванов бросился в ту сторону, откуда раздались выстрелы, и пограничники бежали за ним. Они выскочили из чащи там, где тропа, огибая болото, подходила к границе. На небольшой лужайке стоял Нестеров. Он стоял нагнувшись и держал в левой руке зажженный фонарь, а правой рукой за шею едва удерживал рвущегося и лающего Шарика. Из кармана кожаной куртки Нестерова торчали рукоятки двух маузеров. В луче фонаря был виден бородатый человек. Он сидел на земле, спиной прижимался к стволу дерева, руки держал поднятыми вверх и не отрываясь смотрел на Шарика. По лицу человека текла кровь, и правая рука его была в крови. Человек этот был Силкин.13
Иванов сидел в кабинете Коршунова. Иванов был небрит, и лицо его было утомленное и глаза красные от бессонных ночей на пятой заставе, но Иванов был весел и возбужден. Выражалось это в том, что он поминутно улыбался и был более разговорчив, чем обычно. Глядя на Иванова, улыбался и Коршунов. — Значит, по тревоге он поднял заставу, — рассказывал Иванов, — и работал он отлично, Александр Александрович. Четко, быстро, уверенно. Словом, молодцом себя показал. Ну, значит, выступили двумя группами, как я вам докладывал. Темнота там в лесу кромешная. Он, Нестеров, как кошка видит, что ли. Он бросился в кусты с этим псом, с Шариком, значит, и только мы их и видели. Потом, значит, слышим выстрелы и лай, и мы туда, а Силкин уже готов. Я Нестерова спрашивал: как ты, мол, взял его? Он говорит: взял, как обычно. Пес, говорит, молодец. Он, Силкин, увидел, что деваться некуда, да и до границы два шага, — значит, беречься нечего. Ну, он дубину свою бросил и открыл огонь. Три выстрела дал по Нестерову, да промахнулся в темноте. Нестеров стрельнул в темноте, ничего не видя, целясь по звуку, тоже три раза и тоже промахнулся. Только хотел Нестеров стрелять четвертый раз, как слышит — Силкин заорал и не стреляет больше. Тут Нестеров зажег фонарь и видит: лежит Силкин на земле, а пес сидит на нем и грызет его руку. Маузер валяется возле. Нестеров маузер поднял и пса оттащил. Силкин вскочил на ноги. Пес вырвался — и на Силкина, снова сшиб его и лицо ему покусал. Вот и все. — Молодец Нестеров. — И я говорю — молодец. И пес. Шарик этот, молодец. — Сильно поранил Шарика Силкин? — Нет, пустяки. Оглушил немного да кусок кожи с головы содрал своей дубиной. Цветкову, бедняге, больше досталось, но и он ничего; я уезжал, так он совсем хорошо себя чувствовал. — Ну, хорошо. Теперь, Яша, суть дела. Как тебе удалось Силкина размотать? — Это-то уж было просто, Александр Александрович. Как я ему сказал, что братец привет просил передать, так он весь затрясся. Нервы не выдержали. Я сказал, что нам все известно и что мы взяли этого кулака Артюхина, что Артюхин нам все рассказал. Силкин совсем растерялся. Конец, говорит, всему конец. Ну, и так на него, очевидно, подействовало все это и пятидневное его блуждание по лесу, и бесплодные попытки перейти границу, и встреча с Цветковым, и, наконец, задержание и зубы Шарика, — так все это на него подействовало, что он сам все рассказал. Основное я передал вам по телефону. Подробностей же немного. Брат у Силкина действительно есть, и он бывший офицер, как и Силкин. Брат бежал за границу еще в двадцатом году, а Силкин остался и замаскировался. Документы ему брат устроил, но брат скоро отошел на задний план. Он только связал Силкина с разведкой, а сам брат, значит, играл в разведке роль небольшую. Тот же, о котором Артюхин говорил, тот не брат Силкина, а побольше. Скорее всего он начальник разведки или близко от начальника. Значит, Силкин связан был с ним крепко и проводил большую работу, а кулак, Артюхин этот, несколько раз переходил границу и являлся к Силкину. Мы, Александр Александрович, считали три нарушения на участке пятой заставы, а выходит, что было их побольше. И Артюхин этот вовсе не такая мелочь, как нам показалось. — Тебе показалось, — улыбнулся Коршунов. — Ошибся я, Александр Александрович. Оказывается, условие у них было, у Силкина и Артюхина: Артюхин должен был появиться у Силкина не позднее пятнадцатого числа. Он должен был предупредить Силкина о приходе кого-то другого, кого-то еще серьезнее, чем Артюхин. Сам Артюхин должен был остаться на нашей территории и скрыться, и ждать этого третьего, и помогать ему. Если же до пятнадцатого числа Артюхин не придет — значит, он попался. Тогда Силкин должен был уходить сам и предупредить о провале Артюхина и пронести за границу вот эти планы. Артюхина взяли двенадцатого, но он молчал. Он сказал о Силкине только шестнадцатого. Он думал, что Силкин уже ушел, и спасал свою шкуру. Я полагаю, Александр Александрович, это все правдоподобно, да и Силкин был так потрясен концом всего этого дела, что вряд ли он был способен вилять. — Пожалуй, Яша, теперь ты прав. В том, что первый, Артюхин, врал и не договаривал, я не сомневался, потому-то мне и нужен был Силкин во что бы то ни стало. Но все это, Яша, еще не конец. Есть еще кто-то, и теперь этот кто-то готовится перейти границу. Когда он перейдет и, главное, где? Мы ничего не знаем, не знает и Силкин, а если Артюхин знает, то вряд ли он скажет правду. Он матерый, этот Артюхин. Ясно одно: дело затеяно серьезное, и ждать можно самых неожиданных вещей. Теперь иди. Отдохни как следует. — Хорошо, Александр Александрович. — Да! Как новая дорога? — Дорога отличная и до пятой заставы она не дошла каких-нибудь пяти километров. Затирает их с лошадьми. Я посоветовал Нестерову, и он созвал собрание в Глухом Бору и рассказал о Силкине и о дороге, и колхозники постановили отрядить лошадей и людей на постройку дороги. Тем более, что в дороге они заинтересованы не меньше нас. Теперь, я полагаю, дорога будет закончена через несколько дней. — Это, Яша, пожалуй, самая приятная новость из всех твоих новостей и, может быть, самая важная. Дорога на пятую заставу уже девятое направление. Иди теперь. Иванов ушел, и Коршунов по телефону вызвал пятую заставу. — Товарищ Нестеров? Да, да. Алло. Нестеров? Здравствуйте, лейтенант. Полковник Коршунов. Здравствуйте. Я хочу выполнить свое обещание. Что? Обещание, говорю, хочу выполнить. О переводе на другой участок. Да, да. Комбриг не возражает, и я со своей стороны… Что? Да, да я считаю нужным удовлетворить вашу просьбу. Что? Плохо слышу. Что вы говорите? Нестеров долго говорил, и Коршунов слушал и улыбался. — Ну, как хотите, лейтенант. Как хотите. Во всяком случае, запомните, что я свое обещание выполнил. Что? Да, да. Отменю. Хорошо. Останетесь. Останетесь на пятой заставе. Хорошо. Теперь еще одно дело. За операцию по задержанию Силкина вам объявлена благодарность в приказе. Вам и Цветкову. Да, да. Передайте ему. Благодарю, лейтенант. Благодарю вас и Цветкова, благодарю, передайте ему. Всего хорошего.ПИСАРЬ
Писарь Цветков был человек беспартийный и ничем не примечательный. Он был очень маленького роста, и рост его был значительно ниже норм, установленных для строевой службы, и поэтому Цветков был писарем и считался негодным ни на что, кроме канцелярской работы. Он был молчалив и замкнут, и о прошлом его не было известно ничего интересного. Отец Цветкова был сапожник. Когда-то, до революции, Цветков учился и даже окончил гимназию и поступил в медицинский институт, но его выгнали из института, потому что сочли замешанным в каких-то беспорядках. Его выгнали с первого курса, но он не участвовал ни в каком революционном выступлении, а просто во время беспорядков выгнали из института многих студентов, и сын сапожника Цветков попал в списки. Цветкова забрали в солдаты и сначала его из-за роста сделали полковым писарем, потом послали на позиции, и он несколько месяцев провел в окопах, и там он ничем не отличился. В Красную Армию Цветков пошел с первых дней ее организации, и опять был писарем. Когда Цветкова демобилизовали из Красной Армии, он вернулся в родной город и узнал, что родители его умерли. Он был совсем один и ничего не умел делать. Некоторое время он ходил без работы и не знал, за что взяться. Потом поступил в пограничную охрану, и его в качестве писаря отправили в седьмую комендатуру. Он много лет проработал на этом месте. Он слыл немного чудаком из-за его молчаливости, за ним не знали никаких способностей, и им никто не интересовался. Он жил замкнуто, и у него не было товарищей. Комендатура помещалась в маленьком городке. Цветков жил на окраине городка, лес начинался почти сразу от его дома. Цветков был хорошим охотником и хорошим стрелком. Он подолгу один бродил по лесу и всегда возился с собаками и сам натаскивал их. Свою жизнь Цветков считал неудачной, и канцелярская работа ему опротивела. Он тосковал и мучился, потому что почти всю жизнь был связан с военным делом и с военными людьми, ему нравилось военное дело, он мечтал найти себе настоящее применение в военном деле, а из-за роста он был только писарем. Он был терпеливым человеком, никогда никому не жаловался, и никто не знал о его мучениях. Но постепенно Цветков пришел к мысли о том, чтобы победить свой рост и, вопреки росту, создать себе настоящую военную специальность, настоящую боевую специальность. Он всегда любил собак и умел хорошо учить охотничьих собак и немного разбирался в рефлексологии. Он стал доставать книги по служебному собаководству и книги по рефлексологии и все свободное время занимался. Многое, чего он не находил в книгах, он знал на опыте. Он был хорошим наблюдателем, понимал и любил собак. Цветков получал небольшое жалованье, но у него были очень скромные потребности, он отказал себе во всех удовольствиях, даже в охоте, и копил деньги. Ему нужно было много денег для выполнения его плана, и прошло полгода, пока он собрал нужную сумму. Он попросил отпуск весной, уехал в Москву и вернулся через три недели. Он истратил все свои деньги, но он побывал в лучших питомниках служебных собак и купил отличного щенка, сына знаменитых чемпионов. Щенок был совершенно черной немецкой овчаркой, и в журналах питомника он был записан под звучным именем «Чарли», но Цветков называл его «Шарик», и это имя осталось у пса. Полтора года Цветков растил и обучал Шарика, и через полтора года Шарик превратился в великолепную собаку. Он был почти семидесяти сантиметров роста, голова его, уши, грудь, спина, хвост и лапы были безупречны по экстерьеру. Он абсолютно слушался Цветкова и был силен и свиреп. В комендатуре, конечно, знали о собаке писаря, но Цветков никому не показывал, как работает Шарик, и никто не знал о способностях и изумительной дрессировке черной немецкой овчарки. Цветков готовился к решительной перемене своей судьбы и не сомневался в успехе. Черный пес должен был возместить все физические недостатки Цветкова; черный пес, подчиненный воле Цветкова, был настоящим боевым оружием, это оружие могло действовать только при участии самого Цветкова, и это оружие было особенно важным в условиях пограничной охраны. Цветков знал, что неудачная жизнь маленького писаря скоро кончится. Цветков привел в полный порядок свою канцелярию, чтобы сдать ее в любой момент, и ждал. Когда в комендатуру приехал новый начальник штаба округа, Цветков наконец решился и подал рапорт начальнику штаба. Все работники комендатуры поразились, потому что начальник штаба прочитал рапорт Цветкова, бросил все дела, ушел вдвоем с Цветковым и долго не возвращался. Потом начальник штаба уехал, и Цветков никому не говорил о своем разговоре с начальником штаба, и никто не знал, о чем Цветков подал рапорт. Все раскрылось только тогда, когда пришел приказ о переводе Цветкова на работу проводника розыскной собаки. Жизнь маленького писаря кончилась. Цветков уехал на заставу, и Шарик стал настоящей розыскной собакой, а Цветков стал настоящим следопытом и разведчиком. Первое время на заставе не верили в успех работы с собакой, и на участке этой заставы работать действительно было трудно. Но Шарик задержал первого нарушителя, и скептики сделались искренними друзьями. При задержании второго нарушителя Цветков был ранен, и ранен был Шарик, но нарушитель был задержан, и Шарик работал превосходно. Цветкову была объявлена благодарность в приказе. Потом Цветков вылечился от раны и вместе с Шариком еще два года работал на границе, и много раз был отмечен в приказах и награжден именным оружием, и вместе с Шариком был занесен в книгу почета. Через два года Цветкова назначили старшим инструктором школы-питомника розыскных собак. Цветков учил молодых проводников и выращивал щенков. Шарик был одним из лучших производителей питомника. В одну из годовщин пограничной охраны Союза ССР Цветков был представлен к ордену, и правительство наградило его орденом, и первый, кто поздравил Цветкова с наградой, был начальник штаба округа полковник Коршунов.ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Телеграмма была получена в полночь. Коршунов был в кабинете, когда принесли телеграмму. — Вот, полковник, — сказал Андрей Александрович, — прочитай. Коршунов прочел телеграмму. На участке восьмой заставы в двадцать три часа двадцать минут границу перешла группа нарушителей. При переходе нарушители столкнулись с дозорным пограничником. Нарушители первые открыли огонь, ранили пограничника и ушли в тыл от границы. По следу нарушителей пустили собаку, но следы расходились в разные стороны, собака пошла по одному из следов и, сделав круг по лесу, привела обратно к границе. Начальник заставы по тревоге поднял бойцов и поднял колхозников пограничной деревни. — Что ты думаешь по этому поводу? — спросил Андрей Александрович, когда Коршунов прочел телеграмму. — Я думаю, что начинается, Андрей Александрович. Начинается последнее действие. Первым действием был Артюхин. — Я, Александр, тоже так подумал, но очень уж грубая работа. Как полагаешь? — Это только начало, Андрей Александрович. — Пожалуй. Во всяком случае, нужно послать мангруппу на участок восьмой заставы и нужно собак — и прочесать лес. Сейчас ноль двадцать, столкнулись они с дозорными в двадцать три двадцать, значит, — час тому назад. За час далеко по лесу не уйти. Сколько нужно, чтобы мангруппа была на месте? — Пятнадцать минут, Андрей Александрович. — Хорошо. Распорядись, полковник, и вернись ко мне. — Есть, Андрей Александрович. Через несколько минут отряд пограничников и пять проводников с собаками на грузовиках мчались по новой дороге к восьмой заставе. Шел мокрый снег. Пограничники были в брезентовых плащах, и неподвижные фигуры бойцов спереди были белыми от снега. Отдав приказания, Коршунов вернулся в кабинет Кузнецова, и около часа они разговаривали. Последнее время было много работы, и Кузнецов почти не спал две ночи подряд. Коршунов уговорил его уехать домой. Кузнецов приказал позвонить ему, как только что-нибудь произойдет. Коршунов пошел в свой кабинет. В большом здании Управления было пусто и тихо, и Коршунов медленно прошел по коридору, отпер дверь в свой кабинет и зажег лампу на столе. Тиканье часов казалось громким. Коршунову совсем не хотелось спать. Он сел к столу, просмотрел вечернюю почту и подписал несколько бумаг. Потом он позвонил дежурному по штабу и спросил, нет ли известий с восьмой заставы, и дежурный сказал, что ничего нет. Коршунов встал из-за стола, раскурил трубку и долго ходил по кабинету. Он думал и старался разгадать замыслы невидимого врага, и он знал, что враг хитрит и что враг умен, и опытен, и коварен. Коршунов знал, что враг будет побежден до конца только тогда, когда удастся разбить каждый его ход, и если хоть одно звено в цепи останется нераскрытым, то враг уцепится за это звено и проникнет в глубь страны, и будет путать следы, и бить в спину, и портить, портить, портить. Прошел час. В дверь постучали. — Да! — сказал Коршунов. Вошел дежурный. Он принес телеграмму. Коршунов прочел и нахмурился. — Хорошо, можете идти. Дежурный вышел. Коршунов позвонил Кузнецову. Андрей Александрович ответил сразу. — Андрей Александрович, еще одно дело, — сказал Коршунов, — на участке заставы двенадцать границу нарушил самолет. Направление юга-восток. Из отряда Дмитрия Анатольевича вышло звено истребителей. Работают звукоулавливатели и прожектора. Я получил телеграмму только что. Кузнецов помолчал. — Пожалуй, это-то и есть твое последнее действие, Александр. — Нет, Андрей Александрович, не думаю. Снова вошел дежурный. — Одну минутку, товарищ комбриг, — сказал Коршунов в трубку, — одну минуту. Новая телеграмма, товарищ комбриг. Коршунов взял листок у дежурного, и дежурный вышел. — Вы слушаете, Андрей Александрович? — Да. Какие новости? — Все следы нарушителей на участке восьмой заставы вернулись к границе, причем по нашей территории они прошли совсем немного. Провокация, Андрей Александрович? — Что с раненым? — Плохо. Рана в грудь. Операцию уже сделали, но результат пока неизвестен. — Плохо. Все у тебя, Александр? — Все. Спокойной ночи. Кузнецов засмеялся. — Вряд ли ночь будет особенно спокойной, Александр.2
Нестеров, начзаставы пять, узнал о событиях на восьмой заставе от капитана Иванова. Капитан Иванов приехал в два часа ночи, разбудил Нестерова и рассказал о нарушении на восьмой заставе. Капитан Иванов приехал по приказанию начштаба полковника Коршунова, и полковник приказал усилить охрану границы на участке пятой заставы. Ночь была холодная и ветреная, временами шел снег, первый раз в этом году. Снег шел с перерывами и был мокрый и быстро таял. Нестеров не особенно хорошо понимал, почему Иванов приехал к нему, а не на восьмую заставу, и почему в связи с нарушением на восьмой нужно усиливать охрану границы на пятой заставе, и Нестеров еще больше удивился, когда из округа позвонил дежурный по штабу и спросил, все ли благополучно на пятой заставе, и капитан Иванов ответил, что п о к а все благополучно. Из округа звонили еще три раза на протяжении часа, а через час с четвертью после приезда капитана Иванова Нестеров услышал стрельбу на границе, совсем недалеко от заставы. Нестеров и Иванов побежали на звуки стрельбы. Стреляли всего на расстоянии километра от заставы, но, пока они бежали, стрельба прекратилась. Возбужденные перестрелкой пограничники рассказали Нестерову, что они проходили по дозорной тропе и заметили трех людей, перебегавших за деревьями. Пограничники окликнули нарушителей, и нарушители начали стрелять из автоматических пистолетов. Пограничники ответили, и нарушители отступили за линию границы. Нестеров и Иванов вернулись на заставу. Иванов молчал и хмурился, и Нестеров тоже молчал. Иванов позвонил в округ и доложил о перестрелке. Едва Иванов кончил говорить с округом, как зазвонил телефон с границы, и Нестеров взял трубку. Говорил проводник Цветков. Он говорил с участка по одному из аппаратов, установленных в лесу, и его голос был необычно взволнован. Цветков сообщил, что Шарик взял след, идущий от границы в тыл, и следы даже кое-где были видны на снегу и привели к речке, и тонкий лед на речке оказался взломанным, и Цветков с Шариком перешли речку вброд, но на другом берегу Шарик потерял след и пошел в снег, и Шарик никак не мог найти след, снегом все замело. Иванов снова звонил в округ. Нестеров по тревоге поднял всех оставшихся на заставе бойцов.3
Коршунов не спал всю ночь. Дальнейшие поиски на участке заставы восемь не привели ни к чему. С заставы восемь звонили по телефону. Звукоулавливатели и прожектора нащупали самолет, перелетевший границу на участке заставы двенадцать, и звено истребителей устремилось к самолету, и самолет повернул и ушел за границу. Командир авиаотряда прислал об этом шифрованную радиограмму. Потом, в три часа двадцать пять минут, позвонил Иванов и доложил о перестрелке возле заставы пять, и через несколько минут Иванов позвонил еще раз и доложил о следах нарушителя, замеченных на фланге участка заставы пять, и о тревоге на заставе. Коршунов приказал перебросить на пятую заставу отряд мангруппы и вызвал к себе Левинсона, и Левинсон недолго пробыл в кабинете Коршунова и уехал в седьмую комендатуру. В семь часов утра приехал Кузнецов, и Коршунов еще раз звонил на пятую заставу, и с заставы ответили, что нарушитель не обнаружен, и Кузнецов пошел к себе в кабинет. Коршунов попытался заняться очередными делами, но не мог сосредоточиться и встал из-за стола и долго ходил из угла в угол. В восемь часов он приказал дежурному узнать о положении на заставе пять, и дежурный доложил, что нет никаких перемен. Но в восемь часов пятнадцать минут зазвонил телефон, и взволнованный голос Нестерова прокричал в трубку, что пастух из деревни Глухой Бор прискакал верхом на заставу и рассказал о встрече с неизвестным человеком. Человек этот спросил, не Глухой ли Бор ближняя деревня, и когда пастух ответил, человек быстро ушел и скрылся в лесу. Нестеров сказал, что дело обстоит очень плохо, так как нарушитель по всем признакам пошел обратно к границе, и его нельзя задержать. Путь к границе от места встречи нарушителя с пастухом лежит по тропинке через чащу леса, и со стороны границы к лесу примыкает непроходимое болото, и линия границы огибает болото, а в том месте, где нарушитель выйдет из леса, линия границы делает большой угол внутрь нашей территории. Таким образом, идя по тропинке, нарушитель успеет перейти границу раньше, чем пограничники пройдут половину расстояния до этого места. Кратчайший путь до перекрестка тропинки и линии границы лежит через лес, но лес настолько густой, что для преодоления этого пути потребовалось бы еще больше времени. Слушая Нестерова, Коршунов отыскал на карте болото и лес. Нестеров хорошо знал свой участок и был прав: кроме лесной тропинки, нарушитель нигде не мог пройти, и он шел к границе, и Нестеров был не в силах его задержать. — Все понятно, — сказал Коршунов Нестерову и повесил трубку и по другому телефону вызвал седьмую комендатуру. — Капитан Левинсон? Бобка, срочно и крайне важно. Раскрой карту и слушай. Готово? Найди большое болото на участке пять. Нашел? Так. Рядом лес. Нашел лес? Так. Через лес идет тропинка. Нашел? Единственная тропинка через непроходимую чащу. Примерно час тому назад по тропинке к границе пошел человек. Сейчас он прошел больше половины. Человека надо задержать, и подойти к пересечению тропинки с границей нужно раньше, чем сюда подойдет человек. Понял, Бобка? Есть один путь — напрямик через лес. Ты все понял? Человек должен быть задержан. — Я все понял, полковник Коршунов. — Желаю удачи, капитан Левинсон, — сказал Коршунов и повесил трубку.4
В восемь часов двадцать пять минут утра распахнулись ворота комендатуры, и на улицу выехал небольшой скоростной танк. Разбрызгивая грязь, танк стремительно развернулся и помчался по улице, и тихий городок наполнился громом и скрежетом, и мирные обыватели подбегали к окнам, но не многие успевали разглядеть серую машину, забрызганную грязью и извергающую облака отработанного газа. Танк несся и набирал скорость, и за городом он свернул с шоссе на новую дорогу по направлению к границе. Дорога была пустынная, и только в одном месте навстречу танку попался крестьянин в телеге, и лошаденка крестьянина шарахнулась в сторону от неистовой машины, и крестьянин не успел опомниться, как танк уже пролетел мимо. Потом танк затормозил, повернулся, переполз через канаву и пошел прямо по лесу. Грохоча и стреляя мотором, танк напролом врезался в чащу кустарника, и сломанные ветки стучали по броне, и сучья царапали краску. Небольшие деревья танк валил с ходу, а большие обходил, круто поворачивая и не сбавляя скорости. Низкое солнце вышло из облаков, и косые лучи прорвались сквозь спутанные ветви. Танк шел по лесу, как в атаку. В одном месте левая гусеница завязла в топком болотце, и танк встал, дрожа и фыркая, и несколько раз рванулся вперед, и потом повернулся на месте, и вылез из трясины, и пересек болотце, и снова понесся по лесу. Два раза лесные ручьи преграждали танку путь, и танк бросался в воду, и один раз ручей оказался таким глубоким, что танк почти весь покрылся водой, и танк переполз через оба ручья, и броня была мокрая и тускло поблескивала на солнце, и обрывки ветвей висели на броне, и танк был похож на какое-то лесное чудовище. Лес был все такой же густой, и все больше становилось толстых деревьев, и на земле лежали груды упавших стволов, и, перелезая через них, танку приходилось замедлять ход. Но скоро лес поредел, и чаща кустарника стала реже, и танк опять набрал скорость, и через несколько минут танк выполз на лужайку и остановился. Лужайка была совсем небольшая, и через нее проходила изгородь из колючей проволоки, а напротив того места, где стоял танк, узенькая тропинка выходила на лужайку из леса. Танк попятился в кусты и заглушил моторы, и долго стоял неподвижно, скрытый кустами, как зверь, заползший в нору. Солнце снова скрылось в облаках, и пошел снег. Через полчаса из лесу по тропинке вышел человек. Он шел быстро, почти бежал, он пригибался к земле и оглядывался по сторонам. На самом краю лужайки человек приостановился и вдруг бросился бегом, наискосок пересекая лужайку по направлению к изгороди. Тогда бесшумно и быстро повернулась боевая башенка танка, и часто затарахтел пулемет, и пули взрыли землю перед бегущим человеком. Человек повернулся и побежал обратно к лесу, и башенка повернулась опять, и опять пули преградили человеку путь. Тогда человек остановился и поднял вверх руки. Из танка вылез командир в кожаной одежде и в кожаном шлеме и с револьвером в руке. У командира было совсем молодое загорелое лицо и черные, как маслины, глаза. Он улыбался, сверкая зубами, и глаза его возбужденно блестели.5
— Садитесь, — сказал Коршунов. — Благодарю. Очевидно, произошло какое-то недоразумение. Я все время пытался объяснить, но меня не хотели слушать и со мной не хотели говорить. Между тем происходит явное недоразумение. Да, я случайно перешел границу, я заблудился и перешел границу, я признаю себя виновным в этой неосторожности. Но я прошу вызвать консула, и консул немедленно установит мою личность и рассеет все ваши сомнения. Мне крайне неприятно, что я доставил столько хлопот вашим людям, начальник, но я сразу пытался внести ясность, а меня не хотели слушать. Я боюсь, что меня приняли за другого. Я рад, что вы наконец… — Откуда вы так хорошо знаете русский язык? — Я долго жил в России до революции, и я очень люблю Россию. Прекрасная страна, и, должен сказать, мои симпатии целиком на стороне… — Вы просите вызвать консула? — Да, да. — И вы полагаете, что консул захочет признать в вас подданного своей страны? — Я не совсем понимаю… — Давайте говорить серьезно. Как вас зовут? — Альфред Регель. Инженер Альфред Регель. — Вы инженер? — Да. — Вы занимаетесь авиацией? — Нет. Я механик. — Почему же вас интересовали планы авиационного завода? — Я не понимаю… — Послушайте, Регель! Неужели вы не понимаете, что вы проиграли и что пора начать говорить серьезно. — Я не понимаю вас, и я просил бы прекратить разговор в таком тоне или я перестану отвечать на вопросы. Консул… — Вы не будете отвечать на вопросы, даже если сюда приведут Силкина? — Какой Силкин? — И Артюхина вы не знаете? Задержанный встал. — Артюхина вы знаете? Спрашиваю, Регель! Задержанный молчал. — Нет? Не знаете? Может быть, вам известен техник Герц с авиационного завода? Георгий Герц. Вернее, Георг Герц. Что же вы молчите, Регель? Вы все еще настаиваете на вызове консула? Задержанный овладел собой и сел. — Вы разрешите курить? — Курите. — Я согласен отвечать на ваши вопросы. — Почему вы не пришли в Глухой Бор? — Меня должны были встретить. — Почему же вы сразу не ушли обратно? — Я боялся два раза проходить по тому же месту, и потом мне показалось, что я заблудился. Я заранее хорошо изучил местность, и я имел точные данные, но меня смутила большая дорога неподалеку от деревни. Я ничего не знал о дороге, а последние сведения я получил совсем недавно. Очевидно, дорога появилась позднее? — Очевидно. Коршунов помолчал. — Ради чего вы пошли на все это, Регель? — Я не боюсь умереть! — Отдаю должное вашей выдержке. Но я говорю не о вас. Ради чего вы пошли на диверсию, ради чего вы, инженер, хотели уничтожить прекрасный завод, ради чего вы хотели смерти людей, может быть десятков и сотен людей, мирных рабочих завода? Отвечайте, Регель. — Я неинженер. Я солдат. Мне приказали, и я пошел. И я ненавижу вас. Ненавижу! Вы принесли заразу в мир. Вы взбунтовали серое человеческое стадо! Вы отняли власть у сильного человека, у господина, и отдали власть стаду! Вы попрали личность и возвеличили массу! Право сильного, право господина дано нам, и мы утопим в крови восставших рабов! Сегодня я перешел вашу границу, завтра десятки, сотни, тысячи… — Довольно, Регель. Где же ваша выдержка? Почему фашизм всегда аргументирует криком и почему крик так быстро переходит в истерику? Это плохой признак, господин Регель. Спорить с вами я не буду, потому что нельзя спорить с выкриками одержимого. Но скажите, Регель, разве похожи на серое стадо командир, задержавший вас, и пограничники, прогнавшие ваших друзей, и наши летчики, и наши танкисты? Ваши хозяева думали провокацией отвлечь наше внимание и прикрыть ваш переход границы, но из этого ничего не вышло, Регель. Мы победили вас, и сегодня, если нас тронут, мы победим десятки, и сотни, и тысячи таких, как вы, Регель. И мы победим обязательно, потому что за нас история и у нас миллионы людей, знающих, за что они борются, и знающих, что они защищают право на счастье. Довольно, Регель. Нам, очевидно, еще придется поговорить с вами, но на сегодня хватит. Коршунов позвонил и вызвал конвой. Регель встал. — Разрешите и мне задать вам один вопрос, начальник. — Говорите. — Что со мной будет? — Вас будут судить.6
Когда Регеля увели, Коршунов пошел в кабинет Кузнецова. Там был Левинсон, еще в кожаной куртке, и Алексеев, командир авиаотряда, и уполномоченный Иванов. Кузнецов сидел за столом, и трубка его дымила, и на круглом лице его сияла улыбка, и глаза весело щурились. — Что же вы скажете, товарищи командиры? Что же скажешь ты, полковник Коршунов? — Скажу, Андрей Александрович, что мы сражение выиграли. Вошел секретарь Кузнецова, подошел к Коршунову и тихо сказал ему: — Вас к городскому телефону, товарищ полковник. Коршунов прошел за секретарем в соседнюю комнату и взял трубку. — Да, да, Анна? Прости, пожалуйста, никак не мог. Не хотел будить тебя, потому и не предупредил. Да, немножко много было работы. Что? Что забыл? Да, правда! Спасибо. Ты уходишь в институт? Не пойдешь сегодня? Хорошо, скоро приеду. Хорошо. Пока Коршунов говорил, командиры вышли из кабинета Кузнецова, и Коршунов прошел в кабинет. Кузнецов писал в Москву. — Товарищ комбриг, — сказал Коршунов, — вы как-то упрекали меня в том, что я скрываю свои семейные торжества. — Упрекал, полковник. — Ставлю вас в известность об очередном торжестве. Я сам забыл, да Анна напомнила. Мне сегодня исполнилось тридцать пять лет. — Какой же ты молодой, полковник Коршунов!1937—1938 Каракол — Ленинград
БОЙ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
— Я пойду вперед! — Хорошо! Я подожду минут пять и буду спускаться по твоему следу. Они лежали на снегу. Лыж они не снимали. Задние концы лыж они воткнули в снег и, развалясь, задрали ноги. Подымаясь сюда, они видели широкую просеку. Лавины и горные потоки пробили себе дорогу в лесу. Они заметили груду больших камней вверху просеки. От камней они хотели начать спуск. На вершине горы не было деревьев. Лес начинался ниже. Занесенные снегом деревья теснились и переплетались ветвями. На горизонте показалось солнце. Лежа на снегу, они видели горы вокруг, и красные отсветы блестели на вершинах, и леса темнели мохнатыми пятнами на склонах гор. Было тихо. Тетерев медленно пролетел внизу над елями, и они услышали, как шумят его крылья. Очертания подножий гор казались расплывчатыми: в долинах растекался туман. Солнце, красное, без лучей, взошло над горами. Небо, недавно розовое, стало желтым внизу, над горизонтом, и вверху — зеленым. Было так тихо, что они слышали, как стучат их сердца. Загнутые концы лыж покачивались над их головами. Они долго молчали. — Я пойду вперед! — сказал Андрей. — Если я упаду, я крикну. Он встал и, как собака, отряхнулся от снега. Облако сухих мелких снежинок взлетело над ним, и снежинки, как пыль, искрились на солнце. Борис отвернулся и зажмурился. Снежинки оседали на его лице и таяли. Мелкие капли покрыли его лицо, будто он вдруг вспотел. Андрей натянул рукавицы. Он сделал три коротких осторожных шага, на секунду остановился, согнул ноги в коленях, слегка присел и скользнул вниз. Борис вскочил. Он видел, как Андрей повернул возле первой ели и понесся наискось по склону. Голубая рубашка Андрея мелькала между стволами елей. Потом Андрей повернул еще раз и помчался напрямик вниз. Борис улыбнулся.От вершины гор до первых деревьев уклон был крутой. Борис взмахнул руками и сильно оттолкнулся. Плотно сдвинув ступни ног и поставив лыжи вплотную рядом, он слегка согнул колени, чтобы ноги пружинили. На крутом склоне скорость сразу стала хорошей, и он приготовился к повороту. Он развернул корпус влево, продолжая глядеть вперед по направлению хода. Потом, как бы бросаясь вниз, он сильно повернул плечи и грудь вправо, наружу от поворота. Ноги его повели лыжи в поворот, левая лыжа чуть выдвинулась вперед. В глубоком, рыхлом снегу поворот получился не такой крутой, как хотелось Борису, и он пронесся совсем близко от ствола ели. С нижних ветвей снег посыпался ему на голову и на плечи. Борис засмеялся. Наискось, по склону горы, он скользил между елями. Следы лыж Андрея были слева. Скорость немного уменьшилась. От холодного ветра горело лицо, глаза были полны слез и ресницы заиндевели. Ели проносились мимо. Ели были огромные. Груды снега лежали на черных ветвях, и ветки гнулись под непомерной тяжестью. Косые столбы солнечных лучей стояли между елями. На свету снег был белым и в тени синим. Борису снег в тени казался почти черным. Пятна света и черных теней мелькали в стремительном ритме, и от этого движение ощущалось еще сильнее. В одном месте снегирь сидел на снегу. Красный снегирь, ярко-красным, на освещенном снегу, рядом с синей тенью еловой ветви. Маленькая птичка показалась Борису очень заметной, потому что она была такая красная. Снегирь мелькнул на какую-то долю секунды и скрылся. Может быть, он улетел? Снегирь врезался в память Бориса. Без этого снегиря все было бы совсем иначе. Следы лыж Андрея круто поворачивали вниз. «Ого, Андрей! Отличный поворот!»
После того как Борис сильным рывком повернул направо, скорость сразу так увеличилась, будто кто-то толкнул его в спину. Борис чуть не упал. Чтобы удержать равновесие, он присел на согнутых ногах. Прямо вниз мчался он мимо неподвижных елей, вниз по крутому, почти отвесному склону. Лыжи шуршали о снег, и шорох казался грохотом. Вдруг показалось странным, что ели вокруг, и горы, и небо, и снег, все вокруг так совершенно неподвижно. Только он один мчится вниз, и не ветер летит мимо него, а он разрезает неподвижный, холодный воздух. Слезы наполнили его глаза, и трудно было дышать. Теперь лыжи Бориса скользили по следу. Снег взлетал над загнутыми концами лыж. Скорость все увеличивалась. Спуск становился все круче и круче. Стволы елей мелькали мимо, и концы ветвей касались рук Бориса. Снег слетал с ветвей. Облако снега неслось за Борисом. Скорость стала сумасшедшей. Борис улыбался, но улыбка просто осталась на его лице, он забыл об улыбке: Прищурив глаза, он смотрел вперед. Слезы застилали глаза, текли по щекам, но не вниз, а назад, к ушам. Он видел только несколько метров перед концами своих лыж — дальше было расплывчатое пространство, белое, ослепительное пространство с яркими тенями и с голубыми отсветами. Лыжный след уносился в пространство, и по лыжному следу несся Борис. Прямо вниз, между частыми стволами елей. «Черт возьми, Андрей! Так очень просто можно сломать шею…» Борис согнул колени и присел, вытянув руки вперед. Удерживать равновесие стало легче, но скорость еще возросла. Ели совсем близко обступили узкую просеку, и снег больше не блестел: от елей падали густые тени на снег. В одном месте два толстых ствола стояли так близко друг к другу, что плечи Бориса чуть не ударились о них, и Борис съежился. Он глубоко вздохнул и почувствовал острый запах еловой смолы. «Здесь ты испугался, Андрей!» Ели разлетелись в стороны, снова ударило солнце, и снег заискрился. Лыжный след плавно заворачивал вправо. «Тебе стало страшно? Тише ход! Очень хорошо, Андрей…» Борис чуть-чуть разогнул колени, совсем немножко, чтобы не упасть. Он плавно повернул корпус вправо и еще немного выпрямился. Мышцы напряглись на спине и на ногах. Он как бы ввинчивал свое тело в упрямый, тугой воздух. Левую лыжу он слегка выдвинул вперед. Снег широким облаком поднялся над ногами. Скорость вдруг почти исчезла. Борис пригнулся, выводя лыжи из поворота. Скорость стала немного больше. Выпрямляясь и вытирая глаза, Борис увидел лес слева, выше по склону, и небо над лесом. Ниже, справа от Бориса, шла просека. Груда огромных камней едва видна была под снегом. След лыж Андрея огибал камни. «Все-таки ты испугался, Андрей…» Борис скользил наискось мимо камней, и скорость хода постепенно нарастала. Камни промелькнули мимо. Снег покрывал их только сверху. Сбоку и снизу камни чернели на снегу. Они были похожи на спящих зверей. «Снова прямо вниз, Андрей?..» Следы лыж Андрея огибали груду камней и устремлялись вдоль просеки. Просека, как прямая аллея, шла вниз по склону. Просека была длинная, снег лежал ровно. «Здесь должно здорово нести, Андрей? Ты устоял. Посмотрим…» Борис весь подобрался. Начинается… Ветер ударил ему в лицо с такой силой, будто он падал, проваливался в пропасть. Ноги не чувствовали тяжести. Дыхание замерло. Ничего нельзя было разглядеть. Рядом неслась серая масса — это деревья на краю просеки. Впереди — белая земля, и земля стоит боком, земля падает, неудержимо падает вниз. «Черт возьми, Андрей!..» Падение продолжалось. Потом земля вдруг ушла из-под ног, ноги стали легкие-легкие и выпрямились сами собой. Уклон резко усилился, и Борис пригнулся совсем низко. Земля снова стала ощутимой, и ноги почувствовали опору, но он потерял равновесие, и его потянуло влево. «Не упасть! Ни за что не упасть!» Он немного выпрямил спину и судорожно взмахнул руками. Так подстреленная птица машет крыльями, и ей кажется, что она летит, но воздух не держит ее, и птица падает, проваливается вниз. Он не упал. Он устоял, хотя нелепо задралась правая лыжа, и он некоторое время стоял только на левой ноге, но он не упал. Напрягая все силы, он перегнул корпус вправо, перенес свою тяжесть направо. Он хотел устоять, и он устоял. «Нужно только хотеть, Андрей! Нужно сильно хотеть…» Он хотел устоять, и он заставил себя, заставил свои мышцы перенести тяжесть в правую половину тела, найти равновесие, побороть, победить эту проклятую гору и эту бешеную скорость. Он с трудом и, как ему показалось, очень медленно прижал правую лыжу к земле и перетянул корпус направо — и устоял на ногах. «Нужно сильно хотеть, Андрей!» Он несся все скорей и скорей. Казалось, скорость больше не может расти, но скорость увеличивалась с каждой секундой, и он чувствовал это. Все падало, низвергалось. Небо, белая земля, лес и камни, стволы деревьев и снег на ветвях — все исчезло. Он видел какие-то смутные пятна света. Упругий воздух наполнил рот, воздух распирал грудь. Потом вдруг стало светлей. Он ничего не видел, только вокруг все засветилось. Кончился лес, но он не понял этого. Он думал, все силы сосредоточил на одной, только одной мысли: «Не упасть…» Он несся прямо по ровному, покатому склону, и теперь только белый цвет окружал его. Белый, светящийся цвет. Он наклонился вперед, выпятил грудь и лег грудью на ветер. Воздух держал его, и теперь он крепко стоял на ногах. Снег под ногами, снег справа, снег слева, снег впереди. Прямые следы лыж впереди. Следы лыж, узенькие полосочки, прорезали снег, казались черными глубокими щелями. «Хорошо, Андрей! Мы с тобой не упали!» Снег блестел так сильно, что стало больно глазам. Снег казался совершенно гладким, и только ноги чувствовали, как кидает вверх и проваливается неровный белый покров. Уклон стал уменьшаться. Сначала незаметно, потом уже явно гора переходила в пологую равнину. Тогда Борис увидел впереди на снегу черную точку. Скорость хода все еще была большая. Точка быстро приближалась и росла. Борис несся вперед, он низко присел, так что подбородок его касался колен, и руки вытянул вперед. Точка стала человеком. Человек сидел на снегу и слегка покачивался. Борис повернул голову и поднял руку. — Андрей! Андрей сидел на снегу и слегка покачивался. — Прыгай!.. Здесь канава! Борис не успел ни о чем подумать. Мозг не работал. Тело само подчинилось команде, ноги сами выпрямились. Руки сами разлетелись в стороны. Когда мозг заработал, Борис уже приземлился. Он перепрыгнул канаву, и снег взлетел из-под лыж. Левая лыжа была выдвинута вперед. Борис немного проехал вперед и сделал крутой поворот налево. Он сделал классный поворот, и «христиания» удалась, он коснулся рукой снега, и снег широкой пеленой раскинулся из-под лыж. Борис выпрямился, тяжело дыша, и засмеялся. — Хорошо, Андрей! Андрей сидел на снегу. Он сидел скорчившись. Он слегка покачивался из стороны в сторону. — Я, кажется, растянул сухожилие на правой ноге, — сказал он.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Андрей лежал на спине. Больную ногу он положил на подушку. Нога тупо ныла, но после мучений по дороге к туристской базе, после острой боли в то время, когда Борис стаскивал с распухшей ноги ботинок, после всего этого тупая боль казалась Андрею почти облегчением. Он очень устал. Его слегка подташнивало. Спина его была влажная от пота, и ему стало холодно. Стараясь не шевелить больной ногой, он натянул одеяло и укрылся до подбородка. Вошел Борис. Он принес бинты, вату и компрессную бумагу. — Как же я буду биться? — сказал Андрей. Борис ничего не ответил. Он присел на край кровати, осторожно поднял больную ногу Андрея, положил ее себе на колени и снял шерстяной носок. Нога страшно распухла, и большой синяк растекся под кожей. — Плохо? — сказал Андрей. — Плохо. — Как же я буду биться? Борис возился с компрессом. Андрей тяжело дышал и морщился. Он отвернулся к бревенчатой стене. Пот выступил на лице и на голове, под волосами. Было здорово больно. — Готово, — сказал Борис. — Теперь готово. Он положил на подушку забинтованную ногу и покрыл одеялом. Андрей тяжело дышал. Не поворачивая головы, он лбом прислонился к стене. Круглое гладкое бревно с продольной трещиной посредине показалось теплым. — Хочешь молока? — сказал Борис. — Холодное. — Нет. Андрея тошнило от боли. Вдруг ему показалось, будто рот его полон молока и вкус молока отвратительный. Он проглотил слюну и закрыл глаза. — Как же ты будешь биться? — сказал Борис. Перед глазами Андрея двигались красные светящиеся круги. Некоторые из них были большие, очень большие, и они медленно поворачивались, а некоторые были маленькие, крошечные, как точки, и они крутились, крутились, крутились без остановки. — Как же ты будешь биться? — сказал Борис. Андрей открыл глаза. Круги и кружочки исчезли. Только в самом углу левого глаза дрожало, дергалось что-то, чего никак нельзя было разглядеть. Андрей повернул голову. Борис раздевался. Он стоял посреди комнаты. Он был гол до пояса. Бросив свитер на стул, он нагнулся и стал расшнуровывать ботинки. Он снял правый ботинок, внимательно осмотрел его и бросил на пол. Тяжелый ботинок громко стукнул. Андрей молча отвернулся к стене. Борис снял второй ботинок и осторожно поставил его под кровать. — Ты слышишь, Андрей? — сказал он. — Я спрашиваю тебя: что ты думаешь о бое? Андрей попробовал закрыть глаза, но сразу раскрыл их — красные круги неистово вертелись, росли, становились огромными и лопались, превращались в крошечные точки. Некоторое время Андрей лежал не двигаясь и глядел на стенку. Потом он услышал негромкий, мерный свист и обернулся. Борис в черном трико, в легких башмаках и в свитере прыгал со скакалкой. Он подпрыгивал короткими частыми прыжками, и скакалка со свистом пролетала под ступнями его ног. Слегка согнутые в локтях руки оставались неподвижными, и корпус не двигался. Только кулаки резкими движениями вращали скакалку. Борис начал прыгать по очереди то на левой, то на правой ноге, и снова на обеих ногах, и опять на одной ноге. В частом и четком ритме, как бы слившись со свистящей скакалкой, Борис двигался по комнате и поворачивался вокруг. Он ровно дышал. Лицо его было серьезно и сосредоточенно. Заметив, что Андрей смотрит на него, Борис подпрыгнул выше и повернулся спиной к Андрею. Теперь Андрей видел, как легко вздрагивали мышцы на лопатках и икрах Бориса. Скакалка свистела. — Ты не сможешь, — сказал Борис не оборачиваясь. Он прыгал на левой ноге, правая была вытянута вперед. — Не сможешь биться. — Пожалуй, что так, — тихо ответил Андрей. — Пожалуй, не смогу… — Биться надо. — Борис перепрыгивал скакалку, высоко вскидывая колени, будто бежал на месте. Скакалка свистела. — Биться обязательно надо. — Черт знает как обидно. — Андрей говорил быстро. Ему вдруг захотелось много говорить. — Черт знает как обидно. Я стоял слишком прямо, и потом поворот получился резче, чем я думал. Меня бросило вперед. Если бы я не пытался удержаться, ничего не случилось бы, но я старался устоять во что бы то ни стало… — Он готовился. — Борис снова прыгал мелкими, быстрыми прыжками, тесно сдвинув щиколотки. — Он готов. Он в хорошей форме. — Я никогда не думал, что остановка может быть такой внезапной и что может так сильно рвануть. Понимаешь, я стоял на вытянутых, на прямых ногах, и меня швырнуло вперед и вниз, и вся сила пришлась на связки. Меня просто оглушило в первый момент. Уже позже стало больно. Здорово больно… — И сейчас? — Борис тремя короткими прыжками повернулся вполоборота к Андрею. — И сейчас больно? — Больно. Только, конечно, не так здорово, как сначала, но все-таки болит, проклятая. Ты двигаешь руками в локтях. Держи руки совсем неподвижно. Работай только кистями. — Так? — Так лучше. Биться я не смогу. — Это черт знает как обидно. Он в хорошей форме. — Борис прыгал на правой ноге, потом сказал, отворачиваясь от Андрея: — Он будет кричать, что ты струсил… Андрей сбросил одеяло и сел на кровати. При этом он пошевелил больной ногой и негромко вскрикнул. — Не в этом дело, — сказал он. — Конечно, — сказал Борис. — И потом ему все-таки придется биться, — сказал Андрей. Борис прыгал, наклонив голову набок, его ноги мягко и равномерно подкидывали его тело вверх, быстро пружинили и, отталкиваясь от досок пола, снова подкидывали вверх неподвижное и ненапряженное тело. — Ему придется выдержать бой, — сказал Андрей. Он говорил очень громко. — Ему придется биться, и бой будет такой, что он его как следует запомнит. Бой будет настоящий. Бой должен быть настоящий, и бой должен ему принести поражение. Борис все улыбался и убыстрял темп. Скакалка носилась над его головой, слегка щелкала по полу, свистела все чаще и чаще. Отрывисто, чтобы не нарушать ритма, он сказал: — Глупости. — Нет! Он проиграет! — крикнул Андрей. — Должен проиграть! — Как? А нога? — Черт с ней, с ногой! Черт с ней, понимаешь, с ногой. Важно, чтобы наша команда выиграла, и мне плевать на мою ногу? Понимаешь? — Нет, не понимаю. — Дурак. Борис прыгал, как бешеный. — Дурак, — повторил Андрей. — Слышишь? — Слышу, — сказал Борис. Андрей лег, удобно вытянулся и укрылся одеялом. Он тяжело вздохнул и сказал совсем спокойно: — Выступать против Титова будешь ты. Борис сбился, и скакалка запуталась у него в ногах.ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Борис вышел из дому с лыжами в руках. Солнце уже зашло за горы, но еще не стемнело. Небо светилось, и на снегу были неясные длинные тени. Дом туристской базы стоял на горе, и прямо от крыльца начинался глубокий лыжный след. След сбегал вниз по склону. Пешеходная тропинка извивалась рядом. Борис застегнул крючки креплений и, выпрямляясь, шагнул к спуску. С заходом солнца мороз усилился, и скольжение стало еще лучше, чем днем. Борис несся вниз, и ветер обдавал его разгоряченное лицо. Потом Борис бежал по равнине. Он бежал, низко нагибаясь против ветра. Ему было жарко. Он дышал глубоко и ровно. Начиналась метель. Снег мелкий и сухой, как песок, поднимался и летел над землей. Быстро темнело. Горы вдали уже едва виднелись. Борис бежал по равнине. Теперь ветер налетал сильными порывами, снег поднимался выше, закручивался, белые облака и вихри неслись над равниной. Борис взбежал на пологий холм. На гребне холма ветер сбивал с ног. Снег, взлетая с холма, колол лицо Бориса. В снежном тумане Борис увидел далеко впереди огоньки поселка. Низко присев, Борис понесся вниз с холма. Он не видел снега под лыжами, не видел, где спуск становится круче. Внезапно земля уходила из-под ног, ноги выпрямлялись, сами собой, и Борис, сгибая колени, ловил убегавшую землю. Потом, когда склон кончился и лыжи, теряя скорость, понеслись по равнине, Борис выпрямился и снова побежал вперед. Наст не проламывался под горными лыжами, и бежать было легко. Ветер заглушал громкий шорох лыж. Колючие снежинки били Бориса по лицу. Полчаса бежал Борис, ни разу не останавливаясь. Через полчаса он прибежал в поселок. Он снял лыжи возле домика, где помещался телеграф, и взбежал на крыльцо. Молоденькая телеграфистка в сером свитере и с мелко-мелко завитыми волосами неохотно оторвалась от книги. Не глядя на Бориса, она взяла у него бланк и прочла, беззвучно шевеля губами и ставя точки над каждым словом. Она не поняла смысла телеграммы и перечитала еще раз. Адрес не вызывал никаких сомнений, но самый текст телеграммы показался странным:Андрей повредил ногу. Биться буду я.Телеграфистка получила деньги, написала квитанцию и сердито стукнула печатью. Выходя, Борис видел, как она достала из сумочки круглое зеркальце и подкрасила губы. Она оглянулась, и Борис улыбнулся ей. Дверь захлопнулась с грохотом. Ветер бросил в Бориса целое облако взбесившихся снежинок. Тем же путем Борис вернулся на туристскую базу. Метель замела следы, и стало так темно, что он едва не пробежал мимо дома. Андрей спал. В комнате горел свет, но Андрей спал крепко. Он дышал ровно и негромко. Борис разделся, потушил лампу и лег в темноте. Лицо его горело от ветра, в ногах чувствовалась приятная усталость, и хорошо было лежать на прохладной простыне в теплой комнате. Борис улыбнулся и вытянулся, ногами натягивая одеяло. Он закрыл глаза и тихо сказал сам себе: — Теперь спать… Но он не уснул. Он лежал минут десять с закрытыми глазами, потом раскрыл их и стал смотреть в окно. Окно было темным, почти таким же черным, как комната. За окном бушевала метель. Твердые снежинки колотились о стекло, и то громче, то тише скрипели стволы высоких елей. Борис перевернулся на другой бок и еще раз попробовал заснуть, но заснуть ему не удалось, и через несколько минут он лег на спину и раскрыл глаза. Он думал о предстоящем бое.Борис.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Темные крыши домов с бесчисленными трубами казались силуэтами на фоне вечернего неба. Из труб шел дым, и облака дыма просвечивали и розовели в лучах заходящего солнца. Андрей не мог идти быстро. Он хромал и опирался на палку. Борис шел впереди Андрея и часто приостанавливался и ждал, пока Андрей поравняется с ним. Было холодно. Пешеходы двигались поспешно, почти бегом. Трамваи и автобусы были переполнены. Андрей и Борис шли молча. Прохожие все время обгоняли их.Летний стадион зимой — печальное зрелище. Скамьи на трибунах покрыты снегом, и снежные сугробы лежат в проходах. Снегом покрыты и беговые дорожки и теннисные корты — пустые квадратные ящики. Голые деревья негромко шуршат черными ветвями. Садовые скамейки свалены грудами. Какие-то доски торчат из сугробов посредине футбольного поля. Неосвещенные окна строений тускло поблескивают в темноте, и помещения стадиона кажутся безжизненными и грустными среди снежных аллей пустынного сада. Только в маленьком домике сторожа стадиона светятся три низких окошка, и их желтый свет мужественно борется с густыми сумерками зимнего вечера.
Андрей остался у ворот стадиона, а Борис пошел к сторожу за ключом от гимнастического зала. Сторож стадиона, маленький сухой старичок, сидел за столом перед лампой, курил трубку и читал газету. На носу сторожа красовались очки в неуклюжей оправе из коричневой пластмассы, и лицо его было почти торжественно. Он читал известия из-за границы. За границей было все неспокойно, запутано, и ему казалось, что в газетных сообщениях таится некий скрытый смысл, и он хотел разгадать тайны международной политики. Спокойная профессия приучила его к долгим, неторопливым размышлениям. Он любил не спеша читать газету, не спеша думать. Борис стукнул дверью. Старик недовольно нахмурился и обернулся, глядя поверх очков. — Здравствуйте, Филипп Иванович! — сказал Борис. Сторож встал и снял очки. — Товарищ Горбов?.. — Мы приехали вчера. Здравствуйте. — Здравствуйте, товарищ Горбов. — Сторож протянул Борису руку. Борис крепко пожал твердую старческую ладонь. — Садитесь, товарищ Горбов, — сказал сторож. Он выбил пепел из трубки. — Что-нибудь случилось? Что? Почему вы приехали так скоро? — Нет. То есть случилось, конечно, Филипп Иванович. Мы приехали вчера. — То есть как это понимать — «мы»? Андрей приехал тоже? — Да? — Где же он? — Он ждет внизу. Он болен. То есть он немного болен. Он повредил себе ногу. — Что? Что такое? Как повредил ногу? Выступать-то он будет? — Нет, Филипп Иванович, Андрей выступать не будет. Он здорово испортил ногу и по крайней мере на месяц вышел из строя. Или на полтора месяца. Он растянул связки. Мы даже думали сначала, что он разорвал связки, такое сильное было растяжение. Это чертовски обидно, и у нас рухнули все планы на отпуск. Мы думали, что Андрей отдохнет эти две недели перед соревнованием, а вес ему держать нетрудно. Там очень хорошо, и лыжи… — Лыжи, лыжи, лыжи. Уж вы простите меня, товарищ Горбов, что я перебиваю вас, но, знаете ли, это большая неприятность, вся эта история с Андреем. Ах ты, господи боже мой! И виноваты вы, виноваты вы сами. Петр Петрович говорил же вам об этих лыжах. Он говорил вам, что это глупость ваши лыжи, и совсем не полезно для мышц. Я слушал, как Петр Петрович говорил вам… А когда вы уехали, Петр Петрович сказал мне: «Только бы они не сломали себе шеи с этими лыжами, Филипп Иванович!» Он так и сказал, товарищ Горбов, и вот вы приезжаете через шесть дней, и Андрей испортил себе ногу, и биться он не будет, и соревнование мы проиграем… Ах ты, господи боже мой! — Все это, правда, очень неприятно, Филипп Иванович, но… — Простите, товарищ Горбов. Уж вы простите, что я волнуюсь. Вы же знаете сами. Средний вес, так сказать, самое важное. Как получится в среднем, такой и исход соревнований. Теперь у них победа. Ах ты, господи! Поколотят они нас. Ведь поколотят? Обязательно победят они нас. Ну, кого мы можем выставить против Титова? Некого нам выставить!.. — Вы не совсем правы, Филипп Иванович… — То есть как я не прав? — С Титовым буду драться я. — Вы? — Конечно, я не уверен, но… — Простите меня, товарищ Горбов. Я не знал… Однако… — Дайте ключ от гимнастического, Филипп Иванович. Андрей, наверно, уже превратился в сосульку. — Пожалуйста, товарищ Горбов. Прошу вас. Ах ты, господи боже мой… Однако… — Если Петр Петрович приедет, скажите ему, что мы уже в гимнастическом. — Хорошо, товарищ Горбов. Хорошо, голубчик мой. Хорошо. Борис вышел. Филипп Иванович сел к столу и снова взял газету. Несколько минут он сидел неподвижно, не читая и молча покачивая головой. Потом встал, снял очки, сложил газету, раскурил потухшую трубку, надел овчинную шубу и торопливо вышел. Совсем стемнело, и небо было темным, как темная земля. Пошел снег. Ветра не было, и большие снежные хлопья падали медленно. Филипп Иванович попыхивал трубкой, вглядываясь в неясные очертания строений. Вдруг в глубине темного сада сразу вспыхнули все десять окон гимнастического зала.
Борис бил мешок. Андрей сидел на подоконнике. Больную ногу он положил на стул. Борис передвигался вокруг мешка, отходил, пригибался, бросался вперед и обрушивал на упругую поверхность мешка серии ударов. Пак… пак-пак-пак… пак-пак… — глухо звучали удары. Кулаки Бориса, одетые в черные тренировочные перчатки, вдавливались в мешок, и мешок вздрагивал, пружинил, отклонялся от ударов. Кулаки Бориса настигали его, не давали ему качаться сильно. Длинным, подкрадывающимся шагом Борис подходил к мешку, длинный шаг сопровождался длинным ударом левой рукой, и сразу за длинным ударом следовал короткий, стремительный удар правой рукой и снова левой, и Борис сильно работал всем корпусом. Андрей внимательно следил за всеми движениями Бориса. — Погоди, — сказал Андрей. Борис остановился и опустил руки. Он дышал ровно и глубоко. — Ты подходишь слишком близко, — говорил Андрей, медленно снимая со стула больную ногу. — Ты сразу входишь в среднюю дистанцию. Так тебе нельзя вести бой. Твоя победа зависит от того, сможешь ли ты опережать его, наносить ему удары скорее, чем он тебе, а от его ударов успевать уйти. Ты понимаешь? Все дело в дистанции. Заставь его принять бой на длинной дистанции — и ты победил. Понимаешь? Он не угонится за тобой, он будет злиться, будет кидаться вперед, а ты уходи, ускользай и бей его, бей, когда он тебе не опасен. И береги дистанцию. Игра ног. Понимаешь, Борис? Средняя дистанция… — Именно средняя дистанция! Я хочу вести бой именно на средней дистанции, Андрей. Я хочу… — Нет. Нельзя. Нельзя, чтобы он доставал тебя. Ну, ты нанес удар, и он удар получил, но и он ведь тебя ударит. При средней дистанции ты не сможешь уйти от удара, и ты должен будешь принять рубку, жестокую рубку, Борис. Нельзя позволять ему бить. Дерись с длинной дистанции. С длинной дистанции, чтоб ударить его и уйти самому. Понимаешь? Понимаешь, о чем я говорю? Его прямые справа… — Послушай, Андрей! Я много раз работал с тобой и видел, как ты бился. Я очень хорошо все запомнил. Я очень хорошо запомнил, что только в средней дистанции можно провести удары такой силы и такой скорости, что… — Но пойми, пойми же, Борис… — Я ведь не новичок, Андрей. И сколько раз мы говорили, что не боец тот, кто боится боя. Ты говоришь о жестокой рубке. Ты говоришь о… — Пойми, Борис! Пойми ты меня. — Да. Понимаю. Ты хочешь, чтоб я набрал очки и спасался. Ты хочешь заставить меня биться так, как ты сам никогда не будешь биться. — Погоди, погоди, Борис. Не кидайся на меня. Я совсем не хочу, чтобы ты стал очкистом. Я только хочу, чтобы ты победил. Я хочу… — Я тоже хочу победить. Я должен победить. Но я побью его не осторожностью, а смелостью. Я побью его потому, что я заставлю его биться по-настоящему. Я покажу ему, что я не боюсь его ударов. Пусть он бьет меня. Пусть… — Но это совсем неверно. Так нельзя. Ведь… — Погоди. Погоди минутку, Андрей. Не нужно спорить со мной, Андрей! До боя осталось две недели. Две недели — маленькое время. Двух недель только-только хватит, чтобы войти в боевую форму. Ты ведь знаешь не хуже меня: последние три месяца я тренировался очень плохо. Занятия математикой, занятия историей, занятия физикой, все эти занятия не мешали бы тренировке, если бы их не было так много. Экзамены и все такое. Ты ведь знаешь, Андрей. И я тоже не думал, что мне придется биться так скоро. Титов — это все-таки не очень легкая штука. Вышло так, что биться нужно. Хорошо. Я буду биться. Но осталось только две недели. Только две! Переучиваться некогда. Если мне удастся, нужно как можно лучше восстановить все, что я умею. Или умел. Нужно вычистить и зарядить мое старое испытанное оружие. Новое оружие создавать нельзя. Нет времени. Поздно. Я должен провести бой так, как я привык. Поэтому я и говорю тебе: не нужно спорить со мной, Андрей. Поздно спорить. Андрей молча заковылял к своему окну. Молча он влез на подоконник и долго устраивал больную ногу на стуле. Борис бился с «тенью». — Хорошо, — громко сказал Андрей. Борис остановился. — Хорошо. Ты, пожалуй, прав. Давай мешок. Только не бей так размашисто. Работой корпуса и ног сделай удары короткими, резкими и сокрушительными. Бей не только рукой, но всем телом, вкладывай в удар вес всего твоего тела. Борис пошел к мешку. Снова в пустом гимнастическом зале раздались частые, глухие удары. Пак… пак-пак… пак-пак… Некоторое время, кроме ударов, ничего не было слышно. Потом раздался спокойный голос Андрея: — Хорошо, но удары должны быть еще резче, еще короче и отрывистей.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Борис стоял под душем. Он с наслаждением фыркал и отплевывался. Сильная струя била его плечи и голову. Вода стекала по груди, по животу и ногам. Кожа Бориса блестела. Клочья мыльной пены лежали у его ног. Борис открутил кран, струя усилилась, и вода стала холодной. Он поежился от холода, улыбнулся и, подняв голову, подставил лицо под струю уже совсем ледяной воды. Потом, с сожалением расставаясь с душем, он закрутил краны и пошел в раздевалку, на ходу вытираясь жестким мохнатым полотенцем. Петр Петрович и Андрей сидели в раздевалке. Они ждали Бориса.Петр Петрович был их тренером, их учителем. Ему было пятьдесят лет. Он был почти совершенно лыс. Его лицо, с глубокими морщинами, с нависшими бровями, было сумрачно и неподвижно. У него были маленькие темные глаза. Выражение глаз было живое и добродушное. Впрочем, чаще всего глаза его были прищурены, скрыты в тени мохнатых бровей, и лицо его казалось сердитым, почти злым. Это совсем не соответствовало его характеру, хоть он и хотел, чтобы его считали человеком злым и черствым. Он был молчалив и замкнут. Немногие знали о подробностях его жизни. Двадцать лет тому назад, студент университета, он один из первых бросил юридический факультет и пошел в Красную Армию. Революция сделала его солдатом. Когда гражданская война кончилась, он вернулся в родной город. Оказалось, что он забыл, совершенно забыл все, чему его учили в университете. Он никак не мог найти себе мирное занятие. Слишком долго он был солдатом. Вот тогда-то ему предложили заняться преподаванием бокса. Он еще студентом занимался боксом. Он начал учить боксу рабочих парней в клубах. Оказалось, что бокса он не забыл. Он был необычайно силен. Он без труда мог несколько раз выжать два тяжелых двойника, по одному двойнику в каждой руке. Он был худой и жилистый. Он выглядел гораздо старше своих лет и внешне был непохож на такого сильного человека. Он увлекся боксом, и он добился хороших результатов. Его ученики неплохо показали себя. Через несколько лет он стал одним из лучших тренеров. Он учил драться сильно и храбро, учил боевой решимости. Его ученики становились волевыми и решительными бойцами. Он сам изобретал всякие мази и снадобья, чтобы останавливать кровь во время боя и лечить ушибы. Он проводил с учениками целые дни, водил их на прогулки, бегал с ними кроссы. Он был неутомим. Ученики никогда не видели, чтобы он уставал. Молодые парни выдыхались, а он никогда не уставал. Он требовал от учеников почти аскетического образа жизни, соблюдения строжайшего режима и учил тренироваться методически и серьезно. Он ненавидел хулиганов и лентяев, но он редко прогонял хулиганов и лентяев. Он всегда старался сделать бойца из каждого ученика. Почти всегда это ему удавалось. Только трусов он не мог терпеть. Шли годы. Он старел. Но он был силен и крепок по-прежнему, никогда не болел, никогда не уставал. Может быть, он и уставал, но никто не видел его усталым, он никогда не жаловался на усталость. Он всего себя отдал боксу. Он учил новичков, тренировал молодых боксеров и секундировал своим ученикам. Он жил один, у него никого не было, своим ученикам он отдавал все свое время и все свои силы. Честно говоря, он мечтал о профессиональном боксе, и он всегда грустил, если хорошие ученики бросали бокс. Когда Андрей и Борис уходили служить в Красную Армию, он сказал им: — Прощайте. Именно прощайте, а не до свидания, потому что пока вы будете служить в армии, вы забудете бокс и потом уже не вернетесь к боксу и ко мне. Но они не забыли о боксе, и после Красной Армии они вернулись к Петру Петровичу. Он ничего не сказал им о своем волнении и счастье. Он был именно счастлив. По-настоящему счастлив. Он видел в них результаты своей кропотливой работы. Он научил их боксировать. Он воспитал в них качества бойцов. Он очень хорошо знал, что не только сила и ловкость создают эти качества. Он воспитал в них волю, волю настоящих бойцов. Заботясь о своих питомцах, он жил одной с ними жизнью. Они любили его — он знал и это. Он был почти старик, но он не чувствовал старости. Вот теперь Борис неожиданно должен биться с Титовым. Это не шуточный бой, мальчики волнуются, он волнуется вместе с ними, и в этом волнении для него тоже счастье.
Борис одевался. Андрей тихо насвистывал. Петр Петрович нахмурясь сидел на табуретке посреди раздевалки. — Плохо, — сказал он Борису. — Нужно много работать эти две недели. Я говорил вам. Нужно тренироваться как следует. Он знал, что Борис тренируется как следует, тренируется много и хорошо, но он считал нужным немного поворчать на своих учеников. Борис надевал свитер. Андрей перестал насвистывать. — А побить его вы должны, — сказал Петр Петрович. — И вы можете его побить.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
До боя осталось три дня. Петр Петрович сказал, что Борису нужно три дня отдохнуть. С весом было все в порядке. Борис чувствовал себя хорошо и в форме, но он все-таки немного устал и решил провести день за городом. Он поехал семичасовым поездом. Было еще темно. В вагонах тускло горели фонари. Потом заря осветила морозные узоры на окошках, и окошки порозовели. Небо было чистое, без единого облака. Борис снял лыжи с полки для багажа и вышел на площадку. Поезд заворачивал. Впереди Борис видел маленький паровозик. Паровозик суетливо пыхтел. Белые клубы пара вылетали из трубы и медленно плыли в неподвижном воздухе. Паровозик протяжно гудел. С разгону поезд проехал станцию, и буфера загремели, когда паровозик тормозил. Борис соскочил и пошел по тропинке к лыжной базе. Из поезда выходили лыжники. Их приехало немного. Среди них были знакомые Бориса, но Борис не оборачиваясь пошел поскорее к базе. Ему хотелось побыть одному. Он успел снять пальто, надеть лыжи и уйти с базы раньше, чем лыжники дошли туда. Уже спускаясь с крутого склона вниз от здания базы, Борис видел, как лыжники с лыжами на плечах медленно поднимались по тропинке. Они громко разговаривали и смеялись. Впереди шла группа прыгунов с трамплина. Кто-то из них заметил Бориса и окликнул его. Борис помахал рукой, круто повернул в конце спуска и побежал к лесу. — Приходи к трамплину, Борис! — крикнул вдогонку знакомый лыжник. Приходи к двенадцати. Будем прыгать… Борис еще раз махнул рукой и вбежал в лес. В лесу было тихо. Ели неподвижно стояли в сугробах, и молодые сосенки высовывали из снега крестики зеленых верхушек. Борис один ходил по лесу до полудня. Он ходил очень медленно, чтобы не утомляться. Он думал о бое с Титовым. Около двенадцати он вышел на опушку леса. Вдали виднелась гора с трамплином, над которым развевался флаг. Борис пошел к трамплину. На горах вокруг трамплина толпились лыжники. Борис забрался на одну из гор. Внизу на пологих склонах черные точки лыжников ползали по снегу, сходились и расходились, поднимались и спускались. К трамплину шли прыгуны. Борис низко присел и понесся напрямую. К толпе лыжников он подлетел на хорошей скорости и несколько раз громко крикнул, чтобы ему дали дорогу. Уже в самом низу он чуть не налетел на какую-то девушку. Девушка стояла, опираясь на палки, и смотрела на трамплин. Она не слыхала окрика Бориса. Борис почти наехал на нее. В самый последний момент он круто завернул, осыпав ее снегом. Он не устоял и боком лег на снег. Девушка спокойно повернула голову и пристально на него посмотрела. Борис вскочил на ноги. Девушка пошла к трамплину. Она шла медленно. Она лениво передвигала ногами, и палки волочились по снегу. Она была в черных штанах, в синей куртке и в синей альпийской шапочке. На трамплине прозвенел гонг, и судья махнул флагом. Первый прыгун взлетел над лесом. Он прыгнул некрасиво, слишком мало наклонился вперед, беспорядочно махал руками и упал в самом начале горы приземления. Борис подошел к подножию горы приземления, когда гонг прозвенел второй раз и второй лыжник понесся по трамплину. Только после того, как лыжник прыгнул и устоял, пронесся по прямой и завернул, рукой коснувшись снега, только после этого Борис заметил, что стоит рядом с девушкой в синей альпийской шапочке. — Хороший прыжок, — сказала девушка. — Маша! — сказал Борис. Девушка нахмурилась и посмотрела на него. — Вы… — Я — Борис Горбов, и я сразу узнал тебя, Маша. Еще там на горе я узнал тебя, хотя ты здорово изменилась и мы не виделись массу лет. — Горбов! — девушка улыбнулась и протянула руку. — Сколько же лет мы с тобой не видались? — После школы я ни разу не видел тебя, Маша. Школу мы кончили уже шесть лет тому назад. Шесть лет мы и не виделись. Ты здорово изменилась за эти шесть лет. Ты стала совсем взрослая. Какая-то серьезная стала. — Ты тоже изменился, хотя, в общем, тебя нетрудно узнать. Собственно, я должна была бы сразу узнать тебя. — Что же ты делаешь теперь, Маша? — Я кончила институт, и меня оставили при нем. Я занимаюсь историей, Борис. Это очень интересно. А ты? Чем ты занимаешься? — О, я здорово отстал от тебя. Мне пришлось послешколы пойти работать на завод, и потом я служил в армии. Только теперь мне удалось взяться за учение. Только мне еще далеко до окончания института. — В каком ты институте? — О, я еще даже не в институте. Я кончаю рабфак, Маша. Они помолчали. Борису очень хотелось спросить, вышла ли она замуж, но вместо этого он спросил: — Ты не замерзла, Маша? — Смотри, смотри… — сказала она. Третий прыгун несся по настилу трамплина. — Это Иванов, — сказал Борис. Прыгун кончил разбег и взлетел в воздух. Он сильно наклонился вперед, и казалось, что ноги с тяжелыми лыжами отстают, не поспевают за стремительным полетом согнутого тела. Крутая траектория полета огибала склон горы приземления; полет, казалось, давно уже должен был бы окончиться, но лыжник летел по воздуху, и секунды казались длинными, и руки лыжника махали медленно и плавно, и он еще больше склонился вперед. — Вот это прыжок… — тихо сказала Маша. Борис обернулся и увидел, что она стиснула зубы и глаза ее широко раскрыты. — Он разобьется, — так же тихо сказала она. — Нет, — сказал Борис. В самом конце полета прыгун выпрямился и приземлился. Лыжи громко ударили о твердую и гладкую поверхность горы. Лыжник устоял на ногах и несся мимо зрителей, подняв одну руку. Ветер сорвал с него шапку. Зрители аплодировали. Маша воткнула в снег палки и хлопала в ладоши. Прыгун повернул, остановился и пошел обратно. — Браво, Иванов! — кричали зрители. — Браво, Иванов! — кричала Маша. Судья на вышке объявил в мегафон: — Шестьдесят два метра… Прыгун прошел близко от Бориса. — Здравствуй, Горбов, — негромко сказал он. — Здравствуй, Иванов, — сказал Борис. Он заметил, как Маша внимательно следила за всеми движениями Иванова. Лицо у Иванова было сосредоточенное и немного усталое. — Это — настоящая храбрость… — сказала Маша. Борис улыбнулся. — Это совсем не так уж страшно, — сказал он. — Стоя здесь, внизу, легко говорить все, что угодно, — сказала Маша, и брови ее нахмурились. — Но я могу подняться туда и прыгнуть, если тебе так хочется, — сказал он. — Ну, прыгни. Прыгни — и тогда говори, — сказала она. — Хорошо. Он пошел к трамплину. Он в самом деле мог прыгнуть, он уже много раз прыгал с этого трамплина, но, отойдя от Маши, он подумал, что может быть случайность, что он не имеет права рисковать перед боем, и что если он повредит себе ногу или руку, то боя не будет. Он повернул назад. Маша смотрела на него, и он увидел в ее глазах то же выражение, как тогда, когда она смотрела на прыжок Иванова. — Что же ты? — сказала она. — Я не могу сегодня прыгать, — сказал он. Лицо его было спокойно. — Жаль, — сказала она и отвернулась. Он молчал и смотрел на ее волосы. Волосы выбивались из-под синей шапочки, и мелкие завитки закрывали шею. — Я замерзла, — сказала она. — Пойдем, — сказал он. — Я провожу тебя, если можно. Они пошли к лыжной базе. Сначала они шли быстро, чтобы согреться. Он заметил, что Маша старается идти по всем правилам, но движения ее несвободны. Лыжное оборудование у нее как у заправского чемпиона, но ходит она, как видно, не очень хорошо. Потом на базе они оделись, связали лыжи и бегом спустились к станции. Поезд уже подходил. В вагоне они сидели рядом и говорили всю дорогу. Они вспоминали школьные годы и товарищей, смеялись над учителями, и им было весело, и казалось, будто школа была совсем недавно, а с тех пор прошло уже шесть лет. — Ты всегда был драчуном, — сказала она. — Ты был драчуном и задирой, и я терпеть тебя не могла. — А я просто никогда не обращал на тебя внимания, — сказал он, смеясь. — Ты вечно искал случая подраться. Ты был как петух, — сказала она. Ты и теперь любишь драться? — Нет, — сказал он и мучительно покраснел. — Нет, Маша, теперь я совсем не люблю драться. Она не заметила его смущения. Она не переставала говорить до самого города, а он молчал и смотрел на нее. Она казалась ему красавицей. Она была в синей альпийской шапочке и в шубе с меховым воротником. Зимние сумерки быстро сгущались, и в вагоне становилось все темнее и темнее. Потом Борис провожал ее до дому. Он нес ее лыжи. Она держала его под руку — и говорила, говорила без конца. Они попрощались в темной парадной, и, отдавая ей лыжи, он подумал, что случилось бы, если бы он обнял и поцеловал ее. Она крепко, по-мужски пожала ему руку.Ночью она ему приснилась. Она хмурила брови и говорила сердито: — Стоя здесь, внизу, легко говорить все, что угодно. А он, Борис, шел вверх по длинной снежной горе, и он шел уже страшно давно, и вершина была недалеко, но он не мог дойти до вершины, и он знал, что ему никогда не дойти, но он шел, шел все вверх и вверх… Утром Борис проснулся рано и сразу подумал о Маше. Он долго лежал в постели. Потом вспомнил, что до боя осталось два дня.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Титов шел через зрительный зал. Он шел медленно, ни на кого не глядя. На нем был сиреневый костюм и малиновый свитер. Завсегдатаи боксерских состязаний за его спиной называли его имя: «Титов идет… Титов… Титов…» И Титов слышал восторженный шепот за своей спиной. Две девушки в ярких шелковых платьях с зеленоватыми от перекиси волосами и с подкрашенными ресницами и губами, увидев его, обе разом улыбнулись ему. Одна из них окликнула: — Вова, привет! Титов еле заметно кивнул. Он шел дальше. Девушки молча смотрели на его широкую спину, на его сиреневый костюм и могучую шею. В первом ряду, возле помоста с рингом сидел человек в гимнастерке полувоенного образца и в щегольских сапогах. Титов остановился возле него. Человек встал и пожал руку Титову. Титов улыбнулся, склонив напомаженную голову. Некоторое время он и человек в полувоенной гимнастерке тихо разговаривали и смеялись. У человека в полувоенной гимнастерке было мягкое лицо пьяницы и тусклые глаза. Он похлопал Титова по спине. Титов улыбнулся и прошел в боковую дверь за рингом.В первом ряду по другую сторону зала Филипп Иванович рассказывал соседям о Титове и о его боксерских качествах. Филипп Иванович был объективен, совершенно объективен, и его соседи, среди которых были завсегдатаи боксерских состязаний, но были и новички, услышали подробную и основательную лекцию о боксе. В числе завсегдатаев был один толстый молодой человек. Он был жирный, этот молодой человек, но он хотел казаться необычайно сильным и весь надувался. Он думал, будто тогда жир выглядит как мускулы. Он не занимался никаким спортом, но считался спортсменом. Он разговаривал глухим басом и нарочно был груб и резок. Титов ему очень понравился. Он постарался придать своему лицу такое же выражение, как у Титова, и от этого еще больше надулся. Он был поэтом, этот толстый молодой человек, он думал о том, как он напишет стихотворение о боксере, и стихотворение получится мужественное-мужественное. Филипп Иванович волновался. Он волновался за исход боя средневесов, он волновался за Бориса Горбова и поэтому особенно горячо расхваливал Владимира Титова. Филипп Иванович, действительно, хорошо знал бокс. Его слушали внимательно и не перебивали. Титов прошел в уборную и начал медленно раздеваться. Он напевал песенку:
Ах, эти черные глаза
Меня погубят…
Их позабыть никак нельзя,
Они стоят передо мной…
Ах, эти черные глаза
Меня погубят…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Титов взошел на помост и перепрыгнул через канаты ринга. На нем голубой мохнатый халат. Руки его забинтованы. Он прошел в угол, ближний от зрителей. Секунданты пододвинули ему табуретку, но он оттолкнул табуретку ногой и остался стоять. Один из его секундантов, шикарный парень в цветном джемпере и в рубашке с короткими рукавами, начал надевать ему перчатки. Титов улыбался. В это время на помост поднялся Борис Горбов. За ним шел Андрей. Андрей слегка прихрамывал. Он нес полотенце и губку. Сзади шел Петр Петрович. Петр Петрович был одет в темную фуфайку. Старые брюки мешками висели на его коленях. Борис был уже в боевых перчатках, и белый халат был накинут на его плечи. Титов перестал улыбаться и, наморщив лоб, выпятил нижнюю челюсть. Рефери подошел к Борису, осмотрел его перчатки и представил публике. В зале нестройно захлопали. Рефери пошел в угол Титова. Андрей просунул под канаты ящичек с канифолью, и Борис потоптался в ящичке. Канифоль громко хрустела. Рефери высоко поднял руку Титова и назвал его имя. Аплодисменты загремели. — Браво, Титов! — крикнул женский голос. Титов улыбался. Когда аплодисменты кончились, рефери сказал: — Бойцы, пожмите руки. Борис сразу пошел на середину ринга. Титов нарочно сделал вид, будто он не слышал слов рефери, и только, когда Борис прошел через весь ринг и подошел к его углу, только тогда Титов неторопливо обернулся и пожал руку Бориса. При этом Титов сказал шепотом: — Ты сегодня получишь… Титов стоял спиной к залу, и зрители не видели его лица. Борис молча вернулся в свой угол. Он сбросил халат и облокотился на канаты. Петр Петрович мягко погладил его спину. Секунданты Титова помогали ему снимать халат. Перчатки туго пролезали в рукава. Когда халат наконец был снят, в зале пронесся восторженный, почти благоговейный шепот. Зрители оценили ширину его груди и могучие мускулы спины и шеи. Сильные руки Титова казались непропорционально тонкими при такой ширине торса. Немного коротковаты и грузны были ноги, но вся фигура Титова производила впечатление такой страшной силы, что по сравнению с ним Горбов сразу показался юношески тоненьким и слабым. Только немногие в зрительном зале отдали должное тонким и длинным ногам Горбова, широкой спине и эластичным мышцам на руках. Титов пристально уставился на противника. Ему хотелось увидеть страх на лице Горбова, но лицо Горбова было спокойно. Петр Петрович не переставая гладил Бориса по спине и сказал ему на ухо: — Что бы ни произошло, бей в корпус. Держись и бей в корпус. — Бойцы готовы, — сказал рефери. Ударил гонг, и Титов ринулся вперед. Борис шагнул навстречу. Он сделал только один длинный, подкрадывающийся шаг. Титов был уже перед ним и ударил прямым слева. Борис закрылся, и удар пришелся по перчаткам. Удар был сильный. Титов сразу ударил прямым справа. Он бил изо всех сил. Он хотел смять, раздавить, уничтожить Бориса. Он умел бить сильно и быстро. Атака продолжалась несколько секунд. Зрители видели, как мелькали черные перчатки и удары градом сыпались на Горбова. Казалось, будто все они попадали по месту, будто вот сейчас Горбов упадет и все кончится. Но Горбов стоял. Он стоял, и он растерялся только в первую секунду. Далеко не все удары Титова достигали цели, и Борис внимательно следил за Титовым и ждал случая. Титов был опытный боец, и, даже так яростно наступая, он не открывал подбородка. Борис видел широкий лоб Титова. Титов смотрел исподлобья, и над бровями у него были большие бугры. Левое плечо Титова защищало челюсть. Борис ждал случая ударить не в голову, а в корпус. Как только Титов открылся, Борис коротко ударил справа, и быстрый крюк[43] попал точно по сердцу. Атака сразу кончилась. Титов отступил. Борис успел провести еще один крюк левой рукой. При ударе он сильно рванулся и сделал короткий шаг вперед, вдогонку за Титовым. Титов закрыл корпус и пригнулся. Он отскочил, но сразу снова пошел на Бориса. Он сделал финт[44] левой рукой. Борис угадал обман, и, когда Титов ударил прямой левой в корпус, Борис опередил его. Удар попал Титову снова по сердцу. Титов тяжело глотнул воздух. Борис понял, что он попал как следует. Титов пошел в инфайтинг[45]. Он ловко связал руки Бориса и прислонился головой к щеке Бориса. Борис почувствовал жирный запах бриолина от влажных волос Титова. Борис попробовал освободить руки. Ему удалось вытащить правую руку, но раньше, чем он успел ударить, Титов провел сильный опперкет[46] в правый глаз Бориса. Было здорово больно. Борис не смог уйти от крюка в корпус. Снова Титов пошел в атаку. Он бил со средней дистанции, и Борис не отходил. Теперь Титов провел больше ударов, чем при первой атаке, но Борис выдержал и снова ударил опперкетом справа. Большинство зрителей не видело этого удара. Зрителям казалось, будто Титов сам прекратил свои безостановочные серии. Очевидно, он крепкий парень, этот Горбов, но, конечно, больше двух раундов такой трепки ему не выдержать. А Горбов, едва только Титов приостановился, бросился к нему, и три быстрые удара по корпусу были такими сильными, что все в зале увидели, как Титов отошел, тяжело наступая на пятки. Горбов хотел продолжать, но Титов нырнул и пошел в клинч[47]. Рефери развел их, и сразу ударил гонг. Кончился первый раунд. Садясь на табуретку в своем углу, Борис тихо сказал Петру Петровичу только одно слово: — Глаз… Титов в своем углу откинулся спиной на канаты и закрыл глаза. Он дышал тяжело. В первом ряду Филипп Иванович вынул платок и молча вытер вспотевшее лицо.ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
За одну минуту перерыва Борис хорошо отдохнул, и дыхание у него было хорошее, и все было в порядке. Плохо было только с глазом. Глаз тупо болел, и быстро росла опухоль. Петр Петрович почти ничего не сказал Борису. Андрей работал полотенцами. Он махал не очень быстро и не сильно. Хронометрист сказал: «Секунданты за ринг», и Андрей полез под канат. Борис встал и глубоко вздохнул. Он был совершенно спокоен. Теперь он был по-настоящему спокоен. Только немного зол. Петр Петрович вытер ему спину и сказал: — Работай. Постарайся еще бить в корпус. Он опустит руки. Но работай спокойно. Борис хотел сказать, что он совсем спокоен, но в это время ударил гонг. Борис круто повернулся и пошел на середину ринга. Во время перерыва Борис не смотрел на противника, и теперь его поразило лицо Титова. Глаза Титова налились кровью, рот был искривлен. Низко опустив голову, он медленно шел к Борису. Борис легкими скользящими шагами обошел Титова справа, и, когда Титов повернулся к нему, Борис сделал вид, будто хочет левой рукой ударить по животу. Титов закрыл живот и открыл голову. Стремительно рванулось тело Бориса. Левая рука выбросилась вперед, прямая и жесткая. Титов пошатнулся. Борис бросился к нему, и он не успел закрыться. В лицо, в корпус, в лицо, в лицо, в корпус… Титов не ожидал такого удара. Он не ожидал такого удара, и никто в зале не думал, что этот тонкий парень сможет так ударить, никто не думал, что он может так вести бой. Это было совсем непохоже на первый раунд. Зрители замерли. Филипп Иванович привстал с места. — Бей, бей, бей, — шептал он, задыхаясь. Петр Петрович сидел на корточках в своем углу. Кулаки его были стиснуты, и губы беззвучно шевелились. Но Титов знал бокс. Он вынес несколько тяжелых ударов и сумел спастись в клинче. Он обмяк, обвис, навалился всей тяжестью на плечи Бориса — и оправился, пока рефери не развел их. Он не совсем оправился, но он пришел в себя. Борис вложил всю силу в прямой удар левой рукой, но Титов низко нырнул, и Борис пролетел мимо, едва устояв на ногах. Титов не использовал возможности нанести удар, зато, пока Борис приготовлялся к новой атаке, он окончательно пришел в себя. Каждая секунда, каждое мгновение передышки было спасением для Титова. Он был опытным бойцом. От следующего прямого удара он снова ушел. Теперь-то он был осторожен. Он наглухо закрылся и стоял в низкой стойке. Борис попробовал провести удар справа. Он ударил два раза левой по корпусу и потом правой в лицо. Корпус Титова был закрыт перчатками, но закрыть лицо он не успел, и Борис попал ему в рот. Титов мотнул головой, и кровь полилась изо рта. Тонкая струйка крови. Борис наступал. Снова Борис нанес левой — теперь в подбородок, но Титов совсем оправился. Он принял удар и ответил Борису по правому глазу. На секунду Борису показалось, будто он падает. Титов близко подошел к нему и ударил еще раз по глазу. Левой рукой он ударил Бориса по глазу, и почти одновременно правой рукой по челюсти. Инстинктивно Борис пошел вперед, и он просто наткнулся на Титова и вынес еще один удар по лицу раньше, чем успел войти в клинч. Голова Бориса была повернута к зрительному залу, и он ничего не видел. Мутный туман плыл перед глазами. В ушах звенел на одной ноте тонкий, дрожащий звук. И было ощущение тишины и неподвижности, и будто ничего, ничего не было — ни боя, ни боли, ни желания победить. Титов ударил Бориса плечом по скуле[48]. Он это сделал незаметно и сильно. Удар был очень неприятным, но этот удар встряхнул Бориса и помог ему прийти в себя. Рефери разъединил их. Титов не сразу кинулся на Бориса. Борис успел совсем оправиться. Хотя боль не прошла, но голова снова стала ясной. Он сильно встретил Титова. Некоторое время они стояли почти неподвижно друг против друга и наносили друг другу удары. Зрители встали с мест, и в зале было очень тихо. Титов первый отошел влево. Борис преследовал его и бил то в лицо, то в живот. Титов уходил, ныряя вниз. Руки его опустились. Он закрывал живот. Борис бил в голову. В зале захлопали, и рефери замахал рукой, чтобы прекратить шум. Борис загнал Титова в угол и бил резкими крюками в голову. Титов совсем скорчился, совсем согнулся. Борис искал нокаута, но никак не мог попасть достаточно точно. Лицо Титова потемнело от ударов. Потом Титов рванулся вправо, и Борис остановил его крюком, и он вложил страшную силу в удар. Он попал слишком высоко в лоб, в лоб, рядом с виском. Прозвенел гонг. Борис отскочил от Титова и быстро пошел в свой угол. Он был бледен. Правый глаз его закрылся. С глазом было совсем плохо. — Молодец, — сказал Андрей и взмахнул полотенцем. Борис только покачал головой. Он сел на табурет и вытянул ноги. Петр Петрович нагнулся над ним. Борис сказал совсем тихо: — Последний удар был высок, Петр Петрович. Я попал ему в голову… — Рука? — сказал Петр Петрович. — Я ударил слишком сильно… — прошептал Борис. — Расшиб руку? Борис молча кивнул.ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Титов ждал атаки Бориса с начала третьего раунда, но Борис не развивал наступления. Он кружился вокруг Титова и почти не бил. Титов тяжело дышал. Он плохо отдохнул в перерыв. Он видел, что Борис дышит совсем спокойно, и он боялся ударов Бориса, а Борис не бил, и Титов злился, злился так, что у него темнело в глазах. Наконец Титов не выдержал и очертя голову бросился в инфайтинг. Борис неожиданно ушел влево. Кулаки Титова ударили воздух. Титов оказался совсем открытым, но Борис не ударил. Борис должен был ударить обязательно, должен был ударить левой… Борис не ударил. Титов ничего не понимал. Еще три раза он пытался перейти в инфайтинг, но Борис ускользал от него и бил совсем не сильно. Так прошел раунд. Титов был в ярости. После перерыва он забыл всякую осторожность и прямо пошел на Бориса. Борис уходил. Титов гонялся за ним по рингу. Титов совсем открылся и тяжело дышал, Борис кружился по рингу. Его игра ног была превосходной. Потом он послал крюк левой Титову в лицо, и удар был не очень сильным, и Титов даже не остановился, а Борис побледнел от боли. Левая рука болела все время, но при ударе боль стала нестерпимой. — Кончено, — прошептал в своем углу Петр Петрович. Его никто не слышал. Титов поймал Бориса в углу. Титов провел три удара — один в живот Бориса и два в голову. Борис ответил только одним ударом правой в корпус. Потом Борис нырнул и ушел без удара. Он по-прежнему дышал ровно, ноги его двигались хорошо, но лицо его было разбито, и правый глаз был просто страшным. Титов провел удар по корпусу и три несильных прямых в лицо. Борис отвечал только правой рукой. Титов понял это и блокировал правую руку. Он был опытный боец. В самом конце раунда он сильно попал Борису по челюсти, и у Бориса подогнулись ноги. Раунд кончился. Борис медленно пошел в свой угол. У него была разбита губа и из носу шла кровь. Он улыбался. Пятый раунд для Бориса был тяжелым испытанием. Правый глаз совсем закрылся, и Борис почтя ничего не видел. Левая рука была как мертвая. Кулак сжать было невозможно. Боль была просто нестерпимой. Титов бил, и Борис почти ничего не мог сделать. Титов старался бросить Бориса на пол, но ноги Бориса все еще хорошо работали. Только один раз Борису удалось сильно ударить Титова по правой челюсти, и Титов зашатался, но у Бориса не было сил продолжать, да он и не очень хорошо соображал, что нужно делать. Он все время улыбался, и Титов боялся его и свирепел из-за этой улыбки. Раунд кончился серией тяжелых ударов. Борис все вытерпел. Титов дышал, как раненый кабан. Иногда, нанося удары, он хрипло вскрикивал. Он бил длинными ударами, похожими на свинги[49]. Когда прозвучал гонг и Борис опустил руки, Титов ударил его по лицу и сделал вид, будто это случайно. В зале крикнули: — Неправильно! Позор!.. Человек в полувоенной гимнастерке ухмыльнулся и громко сказал: — Теперь Вовка его кончит. Филипп Иванович молчал. Лицо его было покрыто капельками пота.В шестом раунде Борис почти ничего не чувствовал. Он был жестоко избит. Левая рука с каждой секундой болела все сильнее и сильнее. Но это было неважно. Важно было только не упасть, устоять на ногах. Борис забыл, почему это так важно. Он и не думал об этом. Он ни о чем не думал. У него просто хватило сил вытерпеть до конца и не упасть. Титов неистовствовал и бил, бил, бил не переставая. Борис смутно видел перед собой искаженное яростью лицо, он не узнавал Титова и плохо понимал, что происходит. Ему хотелось лечь и закрыть глаза. Вернее, левый глаз, потому что правый и так закрылся. Хотелось лечь с закрытыми глазами и вытянуть ноги. Ноги устали. Ноги были тяжелые и двигались с трудом. Хотелось лежать долго и неподвижно. Но он знал, что нельзя, нельзя, ни за что нельзя упасть, и он не упал, и откуда-то издалека, как завернутый в вату, донесся удар гонга, и тогда он пошел в свой угол. Он шел медленно, слегка пошатывался, и лицо его было в крови. Ему казалось, что он улыбается.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Весна наступила сразу, в одну ночь. Ночью вдруг пошел дождь, настоящий теплый дождь. Дождь барабанил по крышам. Под утро дождь перестал. Борис не спал. Он лежал на спине. Он прикладывал к глазу свинцовую примочку. Когда марля высыхала, он зажигал свет и поливал марлю мутной жидкостью из бутылки. Он совсем не спал и считал, сколько раз зажигал свет. После десятого раза он перестал считать. Левая рука болела всю ночь. Всю ночь Борис не спал, он лежал с открытыми глазами и почти ни о чем не думал. Потом окно посветлело. Он слышал, как по улице проехала телега. Копыта лошади звонко стучали по камням мостовой, и колеса гремели. Почему-то эти звуки сразу напоминали про весну. Потом громко зачирикали воробьи. Стая воробьев села на подоконник. Солнце осветило крыши домов. Крыши блестели, как свежевыкрашенные. Только кое-где лежали клочки потемневшего снега. Филипп Иванович сидел на скамейке. Солнце припекало, с крыш текло, ручьи журчали в канавах. Ветер дул с моря. Хороший, весенний ветер. По небу с криком носилась стая ворон. Солнце грело совсем по-настоящему. Весна началась ночью и теперь была в полном разгаре. Филипп Иванович думал о вчерашнем соревновании боксеров. Он думал о Борисе Горбове. После боя он не видел Бориса, но знал о несчастье с рукой. — Жаль мальчика, — сказал Филипп Иванович. Он так подолгу бывал один, что незаметно научился разговаривать сам с собою. — Ах ты, господи боже мой… Очень жаль мальчика. Однако, они крепкие ребята, и они могут хорошо справляться с несчастьями. Опять-таки — молодость. Молодость кое-что значит… Трубка потухла, и старик завозился со спичками. Ветер мешал раскурить трубку. Когда наконец из обгорелого чубука взвился синий дымок, старик откинулся на спинку скамьи и закрыл глаза. Солнце просвечивало сквозь веки. Вороны с криком носились над деревьями. Старику было хорошо сидеть на солнце. Очень хотелось поговорить с кем-нибудь. В восемь часов пришел Петр Петрович. Филипп Иванович рассказал Петру Петровичу, что он думал о бое. Он еще раз переживал все волнения вчерашнего вечера. Он комментировал каждый удар Бориса. Петр Петрович слушал молча. В конце своей длинной речи старый сторож сказал: — И все-таки Борис — хороший боец. Он — настоящий боец. Помяните мое слово, Петр Петрович, Борис рано или поздно поколотит Титова. Жаль, что вчера Титов его так избил. Ах ты, господи боже мой, конечно, жаль! Однако они крепкие ребята, Петр Петрович. Опять-таки — молодость. Молодость кое-что значит… — Вы правы, — сказал Петр Петрович. — Вы правы, Филипп Иванович. Конечно. Но я боюсь, у него плохо с левой рукой. Он может раскиснуть. Поражение в таком бою — нелегкая вещь. Я пойду к нему. Я пойду и поведу его к врачу. Пусть врач посмотрит его руку. Петр Петрович ушел. Старый сторож остался один.Борис сидел на стуле посреди комнаты. Одной, здоровой, рукой он старался завязать шнурки на ботинках. — Не спал? — сказал Петр Петрович сердито и сразу улыбнулся. — Ничего. Вчера ты бился хорошо. Отлично бился. Мы еще победим этого чемпиона. Мы его победим, Борис. Ничего. Петр Петрович повел Бориса к врачу. По дороге Петр Петрович не разговаривал. Он мурлыкал кавалерийские сигналы: «Рысью размашистой, но не раскидистой, чтоб не расходовать силы коней…» «Старик действительно доволен мной!» — подумал Борис и повеселел. Но врач огорчил обоих. Врач сказал, что сломана кисть, одна маленькая кость возле указательного пальца, и перелом серьезный. Лечение займет не меньше двух месяцев. Вышли от врача молча и молча дошли до остановки трамвая. — Врет он, — сказал Петр Петрович. — Врет он все. Но Борис знал, что врач не ошибся. Борис молчал. — Приходи на стадион, — сказал Петр Петрович. — Я зайду в Комитет и тоже приеду туда. Он пошел прочь. Он шагал быстро. Он глубоко засунул руки в карманы куртки, и спина его сутулилась. Борис прошел в распахнутые ворота и медленно брел по аллее. Филипп Иванович встал со своей скамейки. Левая рука Бориса была забинтована. Когда он подошел, Филипп Иванович увидел страшный кровоподтек вокруг его правого глаза. Лицо Бориса осунулось за ночь. — Здравствуйте, товарищ Горбов, — тихо сказал старик и встал. — Здравствуйте, — сказал Борис. Голос у него был какой-то деревянный. Он сел на скамейку. Филипп Иванович тоже сел. Они долго молчали. Филипп Иванович пыхтел своей трубочкой. — Вот я проиграл, — сказал Борис безжизненным голосом. Старик проворчал что-то непонятное. — Плохо, Филипп Иванович, — сказал Борис. — Ах ты, господи боже мой! — сказал старик. — Простите меня, пожалуйста, товарищ Горбов, но я несогласен с вами. Проиграть-то вы, может, и проиграли, но совсем неплохо. Вы бились замечательно. Если он и победил вас… — Он здорово побил меня, — сказал Борис. — И вы знаете, что бы ни говорили о бое, но проигрыш есть проигрыш. Я проиграл, вот и все. Борис замолчал. Он смотрел прямо перед собой. Потом он сказал негромко: — Плохо, Филипп Иванович. Очень плохо. Филипп Иванович выбил трубку о край скамейки. — Товарищ Горбов, — сказал он. — Товарищ Горбов, голубчик, не нужно огорчаться. Я очень даже понимаю вас. Господи боже мой, поражение в таком бою — трудная вещь. Это ж не шутка! Но вы можете поверить мне, товарищ Горбов, если я говорю, что вы бились хорошо. Я совсем старый человек, но я могу понимать вас, молодых людей. Я не зря живу здесь, вижу вас, вижу, как вы тренируетесь, и все такое. Уж вы поверьте мне, товарищ Горбов. В боксе-то я кое-что понимаю. Простите, пожалуйста, простите меня, голубчик, и не обижайтесь, если я вмешиваюсь не в свое дело. — Что вы!.. — сказал Борис. — Что вы, Филипп Иванович! Я нисколько не обижаюсь, но вы неправы… — Я неправ? — сказал старик. — Что я не вижу, что ли? Ах ты, господи, я же вижу, как вам тяжело, а я привык относиться к вам как к родному. Вы и Андрей вроде как родные для меня. Я же знаю, что вам грустно и тяжело. Как же может быть иначе? Боже мой, я только хотел сказать, что я думаю о вас, чтобы вам стало легче. Однако, может быть, я просто не так все это представляю. Уж вы простите… — Спасибо, — сказал Борис. — Спасибо, Филипп Иванович, но вы неправы, если думаете, будто я… — Ах ты, господи, — сказал старик. — Опять я неправ? Я прав, товарищ Горбов, голубчик. Обязательно я прав. Уж вы поверьте мне, старому человеку. Всегда и всюду на земле было так, что самые сильные и самые лучшие люди впереди всех и лучшим приходилось труднее всех. Это ж вроде как на войне, товарищ Горбов. Вот я, старый человек, старый сторож на стадионе, я говорю вам: не нужно грустить. Не нужно. Вчерашний ваш победитель хуже вас. Ах ты, господи боже мой! Ведь завтра, то есть в следующем бою, он будет побежденным, а вы победителем! Это говорю вам я, сторож на стадионе. Уж я-то могу знать такие вещи. — Я благодарю вас, — сказал Борис, — но все-таки вы неправы. Меня не нужно утешать. — То есть как? Уж простите! — сказал старик. В волнении он встал и взмахнул рукой. Косматая овчинная шуба широко распахнулась. — Я ведь вижу! Я ведь вижу, что вы раскисли, товарищ Горбов. Простите, пожалуйста. Как же вас не утешать? Как же вам не сказать, товарищ Горбов? Вы молоды, вы еще не знаете, как больно бьет человека жизнь, и ничего нет удивительного в том, что вы, простите меня, раскисли. Я же вижу! Вы не спали ночь, вы в унынии, вы раскисли, вас нужно утешить. Обязательно нужно утешить. Разве не так? В чем же я неправ? — Меня не надо утешать, — сказал Борис. — Врач сказал, что руку нужно будет лечить два месяца. Два месяца, Филипп Иванович! А через три месяца личное первенство. Понимаете? Андрей будет выступать, и Андрей побьет Титова. Андрей, а не я. Понимаете, Филипп Иванович? Я должен, должен вылечить руку и биться с Титовым. Я должен победить Титова, а это очень трудно, и для этого я должен вылечить руку и тренироваться. Может быть, мне придется до боя с Титовым работать с Андреем. Победить Андрея. И меня не нужно утешать. Я совсем не раскис, и я не в унынии, и меня не нужно утешать. Просто мне не повезло, Филипп Иванович. — Простите меня, голубчик, — сказал старик. — А ночь я не спал, — сказал Борис, — это верно.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
По реке плыли льдины. Вода казалась черной и густой. На льдинах лежал желтый, ноздреватый снег. Вода разъедала его. Там, где течение переворачивало льдины, сверкали синие и зеленые цвета. Лед гремел и ломался. Большие льдины сталкивались, громоздились друг на друга. С моря дул сильный ветер. По небу неслись белые облака. Солнце часто скрывалось за облаками и снова появлялось. Снег искрился на солнце. Сияли окна в домах на набережной. Чайка летала возле моста. Ветер топорщил перья на ее крыльях и швырял ее вниз, к темным пролетам. Чайка пронзительно вскрикивала. Черная вода бурлила под мостом.ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
— Как нога, Андрей? — Хорошо. Совсем хорошо. — Совсем не больно? — Да нет же. Правда, хорошо. Они бежали по аллее парка. Борис прижимал к груди больную руку. Утренний туман стлался по земле, и неясные очертания деревьев, казалось, двигались в глубине сада. По ровным дорожкам бежать было легко. Ноги гулко ударяли о твердую землю. Андрей бежал большими, легкими шагами. Борис бежал чуть сзади, справа от Андрея. Они сделали уже два круга и сейчас третий раз пробегали по парку. Листья на деревьях только начали распускаться. На березах, осинах и ивах были маленькие листики, а дубы стояли еще без листьев, по-зимнему голые. Березы, осины и ивы издали казались окутанными прозрачными, светло-зелеными облаками. Корявые ветви дубов чернели. Солнце поднялось, и туман рассеялся, сразу пропал. Легкий ветерок прошумел в ветвях. Вода на взморье покрылась рябью. Андрей и Борис перепрыгнули невысокую изгородь и побежали напрямик по молодой траве к набережной. На другой стороне реки прозвенел трамвай. Колеса взвизгнули на повороте. Все звуки казались гораздо громче, чем они были на самом деле. По мосту через реку шла небольшая группа людей. Был выходной день. Первые посетители шли в парк от трамвая по мосту. Андрей прибавил шагу. Борис рванулся за ним. — Метров двести, — сказал Борис. — Метров двести побыстрей… — Ладно, — сказал Андрей. Пробегая мимо моста, Борис заметил, как вдали ярко выделяется на фоне бледной зелени красная кофта девушки, идущей по мосту.На маленькой лужайке у пруда они сделали гимнастику. Потом еще пробежались по парку до взморья. Возле лодочной пристани они разделись и оба вместе прыгнули в воду. Вода была очень холодная. Они проплыли совсем немного и вылезли на пристань. Больная рука Бориса слегка ныла, потому что, плывя, Борис невольно пошевелил пальцами. Опухоль на руке почти прошла, но шевелить пальцами было все еще больно. — Калеки мы с тобой, — сказал Андрей и засмеялся. Когда они шли по набережной к мосту, их обогнала байдарка. Девушка в красной фуфайке гребла изо всех сил. Красная фуфайка ярко выделялась на фоне бледной зелени прибрежных кустов. Борис сразу узнал Машу. — Маша! — позвал он и сбежал к воде. Андрей видел, как байдарка круто повернула к берегу. Борис схватил правой рукой борт байдарки. Девушка улыбалась. Лица Бориса не было видно Андрею. Борис стоял одной ногой в воде и не замечал этого. Андрей отвернулся и медленно пошел по аллее к мосту. Через несколько минут Борис догнал его. Андрей шел молча. Он посмотрел на реку. Девушка в байдарке не двигала веслом. Байдарка тихо плыла по течению. — Я с ней в школе учился, — сказал Борис.
Борису очень хотелось рассказать Андрею о Маше, поэтому он рассказал Андрею о Клаузевице. Книга увлекла Андрея. Борис вскользь, между прочим, сказал, что книгу эту дала та самая девушка, которую они встретили в парке, и которая училась с ним в школе, и которая терпеть не может бокса. Андрей оторвался от книги и внимательно посмотрел на Бориса. Борис отвернулся. — Она не любит бокса? — сказал Андрей. — То есть, видишь ли… — сказал Борис. — Видишь ли, она, может быть, изменит свое мнение. — Под твоим влиянием? — сказал Андрей и засмеялся. — Дурак! — сказал Борис.
______
После тренировки Петр Петрович нарочно громко, чтобы слышал Борис, сказал Андрею: — Видите ли, Андрей, ежели боксер связывается с любовными делами, с женщинами и все такое, ежели уж происходит такое несчастье с боксером, то боксер перестает быть боксером. Он становится мужем или папой, или еще чем-нибудь, но боксером он перестает быть. Имейте это в виду, Андрей. В тот же вечер Борис позвонил Маше по телефону. Он сказал ей, что Клаузевица он уже прочел, но нельзя ли еще немного задержать книгу. Один парень, друг Бориса, хочет прочесть. Маша сказала, что, конечно, можно. Борис спросил: «Когда же мы увидимся?» Маша предложила вместе пойти куда-нибудь, например на концерт.ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Высокий человек во фраке пробрался между стульями и пюпитрами музыкантов и вышел на середину эстрады. В зале захлопали. Высокий человек поклонился, поднялся на небольшое возвышение и повернулся лицом к оркестру. Он поднял руки. В правой руке его была тоненькая палочка. Гул голосов смолк. Стало очень тихо. Где-то в задних рядах стукнуло, и этот негромкий звук был слышен во всем зале. Высокий человек взмахнул рукой, и через секунду все разом двинулись смычки, все скрипки запели вместе, потом заиграли трубы и грохнул барабан. Высокий человек управлял оркестром. Он стоял на своем возвышении, руки его взлетали над головой, и светлые волосы спутались. Борис сидел не двигаясь. Он слегка наклонился вперед. Кроме музыки, он ничего не чувствовал, он забыл обо всем, кроме музыки. Первые, самые первые звуки симфонии завладели всеми чувствами Бориса. Он никогда не думал, что музыка может так сильно, так непреклонно владеть человеком. Сначала мелодию сказали скрипки, потом повторили трубы, и музыка загремела, заполнила весь огромный зал грохотом и звоном. Потом мелодия изменялась, росла. Борису казалось, что весь он насквозь пропитан звуками. Какой-то тихий инструмент повторил мелодию ясными ударчиками маленьких колокольчиков, сразу снова грянули трубы, барабаны и медные взрывы тарелок… Три раза музыка ненадолго смолкала. Высокий человек во фраке опускал руки. Большим белым платком он вытирал лоб и шею, сзади, под волосами. Шея у него блестела от пота. Во время трех этих коротких перерывов в зале не хлопали. В зале нарастал легкий шум, похожий на хриплый вздох. Когда человек во фраке снова подымал руки, шум сразу смолкал. Симфония завершилась маршем. Все слилось, все подчинилось сильному, взволнованному ритму. В грохоте и звоне шла мелодия. Барабаны отбивали ее шаги. Трубы и скрипки, виолончели и литавры, все инструменты оркестра кончили симфонию мощными, медленными ударами, и спина высокого человека во фраке дрожала от напряжения. Кончилась симфония. В зале захлопали и закричали. Высокий человек во фраке устало опустил руки. Он весь как-то поник, плечи опустились, волосы повисли по бокам лба. Потом он вздохнул, выпрямился и постарался подтянуться. Он обернулся к зрителям. Зрители захлопали еще громче. Какие-то девицы кричали: «Браво! браво!» и протискивались к самой эстраде. Все музыканты в оркестре встали со своих мест и осторожно стучали смычками по своим инструментам. Высокий человек во фраке нагнулся и пожал руку одному из скрипачей, самому старому и седому. Потом кто-то крикнул: «Автора!» Высокий человек устало улыбнулся и стал аплодировать, глядя куда-то в середину зрительного зала. Тогда сбоку к эстраде быстрыми, мелкими шагами прошел молодой человек в очках. Он шел очень быстро, весь устремясь вперед, будто кто-то толкнул его в спину и он должен передвигать ногами, чтобы не упасть. Он взбежал на эстраду и неловко поклонился зрителям. В зале закричали, захлопали, все встали с мест и аплодировали стоя. Борис тоже встал и хлопал изо всех сил. Он видел, как Андрей аплодирует и кричит что-то, и Маша тоже аплодирует. Лицо у Андрея было просто удивительное. Молодой человек в очках пожал руку высокому во фраке. Высокий устало улыбался. У молодого лицо было очень серьезное и бледное. Он убежал с эстрады. Высокий неторопливо пошел за ним. В фойе к Маше подошли какие-то двое в щегольских костюмах и ярких галстуках. Маша недолго говорила с ними. Один из них, засунув руки в карманы и небрежно покачиваясь, сказал, что музыка ничего себе, хотя, конечно, вовсе не так уж хорошо, как писали, но все-таки шаг вперед. Борис разозлился. Андрей отошел в сторону. Борис тоже отошел. Они стали возле окна. Андрей смотрел на улицу, а Борис сбоку смотрел на Машу и на двух ее знакомых и злился. — Прохвосты, — сказал Андрей. — Кто прохвосты? Борис не спускал глаз с Маши. Маша рассеянно улыбалась. Тот, который сказал, что музыка «шаг вперед», говорил что-то, кривляясь и жеманничая. — Разве можно так говорить о музыке! — сказал Андрей. — Все им понятно, прохвостам, все они должны разъяснить, на все навешивать свои пошлости… Борис взял Андрея под руку и тоже стал смотреть на улицу. Из окна был виден угол темного сада и серый асфальт площади. Маша подошла к ним сзади. — Понравилось? — спросила она. — Понравилось, — сказал Андрей и повернулся к ней. — Спасибо вам. — Почему мне спасибо? — Потому что, если бы не вы, Борис не пошел бы сюда и не притащил бы меня. Маша засмеялась. — Он ни за что не хотел идти, — сказал Борис. — Я насильно притащил его. — Спасибо, — повторил Андрей. Мимо прошли те двое знакомых Маши. — Я хотел бы быть дирижером, — вдруг сказал Борис. — Замечательная это профессия. Маша взяла Бориса под руку. — Правда? — Да. Только у меня совсем нет слуха. Андрей улыбнулся. — Я прочел вашу книгу, — сказал он. — Так это вы и есть друг Бориса? — сказала Маша. Андрей опять улыбнулся. — Откуда вы знаете? — Мне Борис говорил. Неужели вы тоже боксер? — Да. Я занимаюсь боксом. — Вы тоже учитесь? — Нет. Я работаю на заводе. Я слесарем работаю. — И вы любите бокс? Андрей все время улыбался. — Очень люблю. А вы не любите. Мне Борис говорил. — Борис говорил? — Да. А за Клаузевица вам тоже спасибо. Я многое понял, когда прочитал его книгу. О бое, о природе боя, о природе войны — все это здорово у Клаузевица. Боксеры… — При чем тут боксеры? — Как при чем? Почти все эти вещи прямо можно распространить на бокс. Смысл бокса… — Никакого смысла! О каком смысле вы говорите? Какой смысл может быть в том, что люди разбивают друг другу носы? Андрей улыбнулся. Борису показалось, что Андрей улыбается немного снисходительно и говорит с Машей немного свысока. Борису стало неприятно это, хотя он считал, что прав Андрей, а не Маша, и во всем, что говорил Андрей, он был с ним согласен. Спор о боксе продолжался. Андрей говорил спокойно, убедительно, ясно, а Маша горячилась. Борису никак не удавалось ничего сказать, Андрей и Маша говорили, как бы забыв о нем. Борис осторожно высвободил локоть — Маша все еще держала его под руку, — и Маша не заметила этого. — Допустим, — говорила Маша. — Допустим, что бокс действительно вырабатывает некоторые волевые качества. Конечно, нужно обладать известной твердостью характера, чтобы ни с того ни с сего подставлять свою физиономию под удары. Ведь это больно? — Больно, — сказал Андрей. Он все время улыбался. — Ну, ладно. Но почему тогда не сделать проще: пусть человек, который хочет воспитать в себе эту самую твердость характера, пусть он сунет палец в огонь или еще что-нибудь в этом роде… — Видите ли, — сказал Андрей. — Видите ли, вы совсем неправы. Вы говорите о твердости характера, и если иметь в виду только твердость, то, может быть, вы и правы. Но Клаузевиц, например, разделяет понятия о «твердости» и о «стойкости». Я вам покажу одно место. Андрей раскрыл книжку. Маша пристально смотрела на него и хмурила брови. Борис тоже нахмурился. — Маша, — сказал Борис тихо. Маша вздрогнула, будто ее толкнул кто-то, и резко обернулась. — Что? — сказала она. — Вот. Нашел… — громко сказал Андрей. — «…Твердость означает сопротивляемость воли силе единичного удара, а стойкость сопротивляемость продолжительности натиска. Эти качества очень близки, и часто одно выражение употребляют вместо другого; однако нельзя не отметить заметного различия между ними: твердость по отношению к единичному сильному впечатлению может опираться только на силу чувств, стойкость же нуждается в большей мере в поддержке разума, так как она черпает свою силу в планомерности…» Вы напрасно думаете, Маша, что бокс похож на драку, на бессмысленное мордобитие. Конечно, боец часто злится во время борьбы, и чувства имеют значение, и настоящий боец всегда хочет расколотить противника. Но если боксер воспитал в себе волю бойца, настоящего бойца, то он сумеет, должен суметь проявить темперамент по-настоящему. Клаузевиц объясняет и это. Слушайте: «…Сильным темпераментом обладает человек, способный не только чувствовать, но и сохраняющий равновесие при самых сильных испытаниях, и способный, несмотря на бурю в груди, подчиниться тончайшим указаниям разума, как стрелка компаса на корабле, волнуемом бурей…» Правда, здорово сказано? — Хорошо, — сказала Маша, — но… — Погодите, — сказал Андрей. — Этими двумя фразами Клаузевица о стойкости сказано очень много. Это целиком распространяется и на бокс. Если вы захотите сравнить бокс с войной — а вы, очевидно, допускаете такое сравнение, иначе вы не дали бы боксеру Борису Горбову книжку «О войне» Клаузевица, — так вот, если сравнивать бокс с войной, то и получится, что боксерский бой подготавливает человека к войне и физически и, главное, морально. Ну, а если иногда из носу боксера льется кровь, то ведь ее гораздо меньше, чем на войне. И потом, почему нам нужно становиться какими-то пацифистами, или, черт его знает, вегетарианцами какими-то? Ничего страшного в синяке под глазом я не вижу. Ну, а насчет войны правильно, совершенно правильно. Я считаю бокс у нас прямой подготовкой бойца, бойца к настоящей войне. Подготовка эта хороша именно потому, что, кроме силы, бокс воспитывает волю. Волю к бою, волю к победе. Вот. Верно, Борис? — Верно, — хмуро сказал Борис. — Нет, неверно, — сказала Маша. Она даже топнула ногой. — Неверно, неверно, неверно! Вы очень ловко ввернули Клаузевица, которого вы, очевидно, выучили наизусть… — Книжка хорошая, — улыбнулся Андрей. — Я внимательно прочел ее. — Ну и прекрасно! Хвалю за усердие. Но поняли вы ее неверно и говорили неверно. Кончим спор. Надоело. Скажу только одно: бокс — это гадость, и вы целиком неправы. Если Клаузевиц больше ненужен, верните его. — Сейчас, — сказал Андрей. Он не переставал улыбаться. — Только одну фразу прочту вам. Вот. Нашел: «…Сила характера обращается в упрямство всякий раз, когда сопротивление чужим взглядам вытекает не из уверенности в правильности своих убеждений и не из следования высшему принципу, а из чувства противоречия». Маша вспыхнула и закусила губу. — Вот книжка, — сказал Андрей. — Спасибо вам. Маша взяла книжку. — Пойдемте, — сказала она и попробовала мило улыбнуться. — Уже звонили.Второе отделение концерта им не понравилось. Машу пошли провожать оба — и Борис и Андрей. По дороге разговор не ладился. Шли почти все время молча. Прощаясь у подъезда своего дома, Маша сказала: — Приходи, Борис. И вы приходите, Андрей. Спокойной ночи. Маша ушла, помахивая книжкой. Некоторое время Андрей и Борис шли молча. Потом Андрей сказал: — Не понравилась она мне. Борис ничего не ответил. Он знал, что Маша Андрею понравилась. Он думал о том, что между ним и Андреем что-то произошло. Андрей думал, примерно, о том же. Они молча попрощались на углу и разошлись по домам.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
На собрании боксеров и тренеров выступил представитель Спортивного комитета. Он был небольшого роста и совсем не спортивного вида: толстый, с обрюзгшим лицом, с лысиной на темени. Он был еще молодым человеком, но из-за толщины, из-за тусклых, невыразительных глаз, из-за лысины он казался гораздо старше своих лет. Кроме того, у него была такая маленькая верхняя губа, что нижняя губа почти касалась носа, и казалось, будто у него нет передних зубов. Это придавало лицу его какое-то тоскливое, почти плачущее выражение. Его недавно назначили на работу в Городской спортивный комитет, но он уже был известен среди спортсменов подобострастной любовью к чемпионам, грубостью в отношениях с нечемпионами и любовью к заседаниям и пышным речам. Он выступил на собрании по вопросу о личном первенстве. Он ораторствовал долго, и всем было скучно слушать, потому что он ничего не понимал в боксе. Под конец своей речи он заговорил о Титове. Он не скупился на похвалы. Титов сидел у всех на виду и весь надувался от важности. Представитель Комитета улыбался, кивал Титову и подмигивал ему. Он эффектно кончил речь и сел так решительно, будто одной этой речью он победил всех противников нового чемпиона. Петр Петрович с места сказал, что Титов, конечно, неплохой боксер, но все же у него есть достойные противники и не рано ли так восхвалять чемпиона. — Лучше хвалить боксера не до, а после боя, — сказал Петр Петрович. Представитель Комитета вскочил, будто его подбросила какая-то скрытая пружина. Он произнес еще одну речь. Он сказал, что, кроме Титова, есть всего два средневеса, что больше никто не решается выходить против чемпиона, что одного из этих двух Титов уже расколотил и что пусть сначала бьются эти двое между собой, а уж победителя поколотит Титов. — Против жребия я возражаю категорически, — сказал он, — мне поручено руководить соревнованием, и я, как руководитель, считаю излишним жребий, так как мы должны оберегать наших мастеров (поклон в сторону Титова), потому что наши мастера — это наш фонд и наша гордость, так сказать, честь и слава. (Еще один поклон. Титов надулся так, что лицо его побагровело.) Мы должны лучших представителей, так сказать, наших чемпионов, так сказать, цвет нашего спортивного движения… Вообще, я считаю излишним дальнейшее обсуждение этого вопроса, который по существу и вообще совершенно мне ясен. Петр Петрович молча улыбался.После собрания Петр Петрович отозвал Андрея и Бориса. — Пойдем погуляем перед сном, — сказал Петр Петрович. — Хорошо, — сказал Борис. — Пойдемте, — сказал Андрей. На улице Петр Петрович некоторое время шагал молча. Его ученики молча шли с ним рядом. Потом Петр Петрович сказал, осторожно и медленно произнося слова: — Видите ли, товарищи, я полагаю, что нужно было бы обсудить вопрос о дальнейшей тренировке. Вследствие того, что вам предстоит биться друг с другом… — Нужно тренироваться врозь, — сказал Борис, не глядя на Андрея. — Вы полагаете? — сказал Петр Петрович. Он удивился. Он думал, что Борис и Андрей ни за что не захотят работать врозь. — Вы так думаете, Борис? — Да. — А ваше мнение, Андрей? — По-моему, Борис прав, — тихо сказал Андрей.
До начала соревнований Борис был очень занят. На рабфаке к концу учебного года пришлось много заниматься, и много времени уходило на тренировку и лечение руки. Борис недосыпал. Все время хотелось спать. Он дремал в трамваях по дороге на рабфак и на стадион. С Андреем Борис почти не виделся. Андрей тренировался в другие часы, позже Бориса. Только два раза за все это время они встретились в раздевалке. Они разговаривали подчеркнуто дружески. Борис заботливо спрашивал Андрея о его ноге, а Андрей спрашивал, хорошо ли заживает рука Бориса. У Андрея было много работы на заводе и тоже не хватало времени, но Петр Петрович был доволен его тренировкой. Рука Бориса почти не болела, но он боялся бить как следует и никак не мог заставить себя свободно работать левой рукой. Петр Петрович сердился. Он говорил, что тогда лучше вовсе отказаться от боя. Борис нервничал. Настроение было паршивое, и казалось, что он наверняка проиграет Андрею. Оба, и Андрей и Борис, много думали о плане боя. Оба ничего не могли решить. Они слишком хорошо знали друг друга, слишком долго тренировались вместе. Каждому из них казалось, будто нужно драться с самим собой. Так до начала соревнований ни Борис, ни Андрей ничего и не придумали. Оба вышли на ринг без всякого четкого плана действий.
За два дня до боя Борис пришел к Маше. Он очень скучал по ней все это время, много раз собирался пойти к ней, но почему-то не шел и скучал и тосковал еще больше. Подымаясь по лестнице, он придумывал целые фразы, которые он скажет Маше. Ему казалось, что слова получаются значительные, что Маша все поймет, и он думал о том, что она ответит. Но все вышло совсем не так. Дверь открыла домашняя работница (а не Маша, как должно было быть по плану Бориса). Потом домашняя работница ушла куда-то по коридору, и Борис долго ждал один. Он видел себя сбоку в большом зеркале. Волосы его были растрепаны, и костюм показался некрасивым. Он не знал, куда девать руки, как стоять, и неловко переминался с ноги на ногу. Наконец появилась Маша. Она была в красивом шелковом платье. Ее волосы были завиты. — Маша, — тихо сказал Борис и забыл все приготовленные слова. — А, Боря! — сказала она. — Вот хорошо, что ты пришел. Она пропустила его вперед и взяла под руку. В столовой вокруг стола сидело несколько человек. Прямо против входа сидел Машин отец. — Знакомьтесь, — сказала Маша. — Это Борис Горбов. Он боксер! Все обернулись, и Борис смутился. Он плохо видел лица людей. Он пожал всем руки. Обходя вокруг стола, он зацепился ногой за чей-то стул и смутился окончательно. Маша усадила его, налила ему чаю, и все стали расспрашивать его о боксе. Он отвечал односложно и уже начал злиться, но один из Машиных гостей стал громко и самоуверенно рассказывать о боксе. Все слушали его, а Борису стало смешно — такие глупости говорил этот человек. Потом Борису показалось, будто он где-то видел этого человека. Что-то неприятное встало в памяти Бориса, но он не мог вспомнить, что именно, и никак не мог вспомнить, кто этот человек. — Я видел ваш бой, — сказал Машин гость. — Какой бой? — спросил Борис. — Бой с Титовым, — сказал Машин гость. Борис покраснел. Он вспомнил, что видел этого человека в публике, в первом ряду, рядом с Филиппом Ивановичем. Потом говорили о театре, о литературе и о музыке. Во всех этих вещах Борис разбирался не очень хорошо. Он был рад, что о нем забыли. В одиннадцать часов он сказал Маше, что ему нужно идти. Он попрощался со всеми. Маша пошла проводить его. — Я обязательно приду посмотреть, как ты будешь биться, — сказала Маша. Борис вдруг представил себя во время боя с Титовым. Заплывший глаз, окровавленный рот, потные спутавшиеся волосы, страшное лицо Титова. — Ты же бокс терпеть не можешь, — сказал Борис. Он увидел себя падающим на пол. Рефери нагибается над ним. Раз… два… — Честно говоря, я ведь бокса никогда не видела, — сказала Маша. — Андрей говорит… Андрей! Андрей стоит в углу и готовится броситься, как только Борис встанет на ноги. Три… четыре. — Андрей говорит, что мне обязательно понравится, — говорила Маша. — Андрей был у меня и принес мне билет. Я приду обязательно. До свиданья, Борис. Желаю удачи. — Маша, — сказал Борис. — Маша, очень прошу тебя не приходить. Дай мне честное слово, что ты не придешь. Очень прошу тебя, Маша… — Но почему? — сказала она. — Вот чудак!.. — Дай честное слово, Маша, — сказал он. — Пожалуйста, Маша, милая. Дай честное слово, что ты не придешь. — Если это обязательно нужно, — сказала она. — Хорошо. Не приду. У нее был обиженный вид. — Маша, ты не сердись, — сказал он. — Маша, милая. Ты пойми… Я ведь не зря, Маша… — Хорошо, — сказала она. — Хорошо. Не приду. Честное слово, не приду. Прощай! — До свиданья, Маша…
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Перед боем оба — Борис и Андрей — волновались. Они старались ничем не обнаружить волнения, но они хорошо знали друг друга, и каждый думал о противнике: «Он волнуется!» Их пара была последней. Они долго лежали на кушетках в раздевалке, одетые к бою. Петр Петрович заходил к ним и ушел, каждому пожелав удачи. У него было хорошее настроение. Он знал, что оба его ученика в хорошей форме и хорошо подготовлены к бою. Он действительно желал победы обоим одинаково. Публики в зале было много. На сцене с трех сторон возле ринга сидели боксеры и судьи. Петр Петрович пробрался за кулисы и стал, облокотясь о какую-то балку. Филипп Иванович, как всегда, сидел в первом ряду. В публике громко переговаривались. Только что кончился бой полусредневесов. Должна была биться следующая пара, наиболее интересная пара вечера, пара средневесов. Титов сидел на сцене у самых канатов ринга. Он тоже с нетерпением ждал начала боя. Кто-то из этих двоих будет выступать против него в финале. Который же? Титов никак не мог забыть боя с Борисом, никак не мог отделаться от смутного чувства страха. Этот неясный страх родился еще во время боя, когда избитый, окровавленный Борис спокойно улыбался. С тех пор Титов втайне боялся Бориса. Андрей? Андрей был хорошим боксером и приятелем Бориса. Кто из них выиграет? Они вместе взошли на сцену. Андрей предупредительно поднял верхнюю веревку и ногой наступил на среднюю. Борис пролез на ринг. Андрей отступил на шаг и перепрыгнул через веревки. — Нога в порядке, Андрей? — сказал Борис, улыбаясь. — Полный порядок, — тоже улыбаясь, сказал Андрей. — Поработаем сегодня, — сказал Борис. — Поработаем, значит, — сказал Андрей. Они улыбались друг другу. Им казалось, будто вот теперь, перед боем, вдруг исчезло, прошло чувство какой-то неприязни, которое появилось у них в последнее время. Борис подумал, что хорошо снова встретиться с Андреем на ринге. Зрители аплодировали им обоим, когда рефери представлял их публике. Оба были без халатов, секунданты быстро надели им перчатки, рефери сказал: «Бойцы готовы!» — и звонко ударил гонг. Оба они точно не знали, как будут вести бой, и оба начали бой сразу. Сразу после гонга Борис быстро пошел на середину ринга, Андрей тоже быстро прошел свою половину, и они встретились. Им не надо было разведывать. Они отлично знали друг друга. Андрей повел атаку. Стремительными ударами он заставил Бориса отойти к углу, но Борис ускользнул вправо и сам напал. Теперь Андрей перешел в защиту. Оба прекрасно дышали, ноги обоих хорошо работали, они без остановки кружились по рингу, нападали, парировали и снова нападали. В первую атаку Андрею удалось два раза попасть по корпусу, но Борис отплатил хорошим ударом в лицо и серией по животу. Темп боя все ускорялся и ускорялся. Они так быстро передвигались, били так стремительно, что зрители не успевали следить за ударами. Многим зрителям казалось, будто удары не могут быть сильными при такой быстроте. Борис ни о чем не думал, ничего не видел, кроме Андрея. Каждый раз, когда Андрей нападал, Борис старался не только защищаться, но и нападать, Андрей делал то же самое. Все заключалось в том, чтобы опередить противника. Они были бойцами одного стиля, и они очень хорошо знали друг друга. Петр Петрович улыбался, прикрывая рот ладонью. Он внимательно следил за боем. Он был доволен. Мальчики работали превосходно. Петр Петрович раньше Бориса увидел, что Андрей нарочно промахнулся справа и нарочно принял удар по корпусу. Андрей ждал, что Борис откроется. Борис сделал ошибку. Молниеносно Андрей ударил левой. У Бориса подогнулись ноги, и от удара сильно тряхнулась голова. Андрей бросился вперед. — Слева, Борис, слева… — отчетливо подумал Петр Петрович. Борис ударил слева. Андрей продолжал наступать. Борис пошел в контратаку, но Андрей теснил его. Ударил гонг. Раунд был за Андреем. Ясный план боя вдруг сложился в голове Бориса. Удар по челюсти, который в конце раунда провел Андрей, был точен и силен. Борис хорошо знал, как Андрей умеет бить левой, и хорошо знал, как опасна левая Андрея. Андрей попал. Хорошо попал. Он правильно использовал ошибку. Очень хорошо. Но Борис выдержал удар. Выдержал. Все в порядке. Конечно, нужно закрывать подбородок. Нельзя рисковать. Голову нужно опустить еще ниже. А по корпусу Андрей пусть бьет. Пусть он форсирует наступление еще в одном раунде. Он, конечно, будет атаковать. Посмотрим. Нужно втянуть его в атаку, нужно заставить его наступать, наступать, наступать. Еще один раунд нужно потерпеть. А левая рука, разбитая левая рука Бориса вовсе не болит. Два раза Борис ударил как следует, и не было больно, и боязнь бить левой исчезла. Совсем исчезла боязнь за левую руку. Очень хорошо. Во втором раунде попробуем еще раза два. Хорошо. Андрей дышит легко и прекрасно работает ногами. Обязательно нужно заставить его вести бой в той же тактике. Пусть наступает, пусть он обязательно наступает. Еще один раунд придется потерпеть. Потом, Андрей, ты не сможешь остановиться. Ты будешь идти вперед и не сможешь остановиться, и не изменишь тактики боя. — Секунданты, за ринг! Андрей сразу встал. Он разминает ноги. Хорошо. Борис не встает. Секунданты с волнением смотрят на него. Неужели он устал? Или удар по челюсти?!! Хорошо. Пусть думают, что Горбов устал. Это как раз то, что нужно. Гонг. — Второй раунд!Весь второй раунд прошел в бурной атаке Андрея. Борис закрывал лицо, и Андрей бил по корпусу, теснил Бориса, не давал ему ни секунды передохнуть. Казалось, Борис ничего не может сделать. Только два раза ему удалось провести прямые левой в лицо Андрея, но Андрей даже не приостановился. Он наступал непрерывно и гонялся за Борисом по рингу. Титов радостно улыбался и потирал руки. Так ему и надо, этому Горбову! Филипп Иванович громким шепотом сказал одному из своих соседей: — Он бьет все время в корпус. Видите? Он бьет по животу, по животу, по животу. Видите? Да? В следующем раунде Горбов опустит руки. Сосед Филиппа Ивановича, толстый молодой человек в спортивном костюме, сказал громко: — Да, конечно, Горбов все-таки неважный боксер. Я всегда говорил это. Всем в зале казалось, что Горбов должен проиграть. Только Петр Петрович заметил, как хороша игра ног Бориса, и какие жесткие получились эти два прямых левой, и как спокойно дышит Борис. — Неужели мальчишка догадался? — думал Петр Петрович. Он улыбался, прикрывая рот ладонью. Второй раунд тоже был за Андреем. Третий раунд почти не отличался от второго. Так же наступал все время Андрей. Только теперь Борис передвигался все время кругами. Андрей был в середине этих кругов, и, нападая, ему приходилось поворачиваться за Борисом. Непрерывное кружение злило Андрея. Он кидался на Бориса и не замечал, что Борис сам вызывает его на атаки.
______
Зрители толком не могли понять, что происходило в четвертом и пятом раундах. Казалось, по-прежнему нападал Андрей. Казалось, Андрей по-прежнему вел бой, а Борис только защищался, но все лицо Андрея было разбито, а он, кидаясь на Бориса, никак не мог попасть в него. Жесткая, прямая левая рука Бориса везде встречала Андрея. Куда бы Андрей ни бросался, левый кулак Бориса бил его в лицо и в корпус. Вся сила Андрея, весь его напор обращались против него. Борис без устали кружился по рингу. Теперь он распоряжался боем. Теперь Андрей атаковал именно тогда, когда хотелось Борису. Бой вел Борис, а не Андрей. Петр Петрович больше не улыбался. Он не отрывал глаз от Бориса. Губы старика беззвучно шевелились. Титов сидел бледный. Спина его покрылась испариной. Ему было страшно. Зрители плохо понимали, что происходит.В шестом раунде Борис перешел в атаку. Сначала Андрей пытался ответить контрнаступлением, но он устал. Борис теснил его. Андрей отступал, закрывался, старался уйти от ударов. Борис работал в бешеном темпе. Серии стремительных ударов обрушивались на голову и корпус Андрея, и Борис передвигался с необычайной легкостью и все время кружился, не переставая кружился вокруг Андрея. Андрей устал. Его ноги стали тяжелыми и непослушными. Он уже не мог гоняться за Борисом, а только неуклюже поворачивался. Иногда он делал несколько порывистых движений и кидался навстречу Борису. Один раз Андрей сильно попал в подбородок Бориса, но Борис сразу отошел, и его ноги прекрасно работали, а у Андрея не было сил продолжать. Андрей с трудом дотянул до конца. Он шатался под ударами Бориса. Бой кончился серией тяжелых ударов по корпусу. Ударил гонг. Борис в воздухе остановил свой кулак. Андрей медленно выпрямился и пошатнулся. Борис обхватил его руками и поддержал. Андрей тяжело дышал. Он был весь мокрый от пота. В зале оглушительно аплодировали. Борис едва слышал, как Андрей сказал: — Ты молодчина… Я сделал ошибку… И все равно у меня не хватило бы сил… Андрей слабо улыбнулся, и они разошлись по своим углам. Андрей тяжело облокотился на канаты. Он очень устал.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Итак, Борис Горбов должен был выступать в финале против Владимира Титова. Петр Петрович увез Бориса в тренировочный лагерь. В сосновом лесу, недалеко от большой деревни, они поставили палатку и жили вдвоем. Они прожили там пятнадцать дней. Петр Петрович следил за каждым шагом Бориса. Бой предстоял серьезный. Борис должен был хорошо подготовиться. Рано утром Петр Петрович поднимал Бориса. Они вместе делали гимнастику, потом купались и завтракали. Они сами готовили пищу. Пища была простая: молоко, яйца, мясо. После завтрака они делали большую прогулку по лесу. Под конец прогулки Борис бегал кросс. Он бегал по лесу, по кругу приблизительно в полтора километра. Петр Петрович сидел где-нибудь под сосной. Борис останавливался возле него и делал бой с тенью. После обеда ложились отдохнуть. Борис сразу засыпал, а Петр Петрович не спал и думал, лежа на спине в тени возле палатки. Потом Борис делал боксерский урок с Петром Петровичем и рубил деревья в лесу. Петр Петрович познакомился с лесником, и старик лесник долго не мог прийти в себя от удивления, когда этот странный человек с сердитым лицом предложил совершенно бесплатно вырубить просеку в лесу. Лесник несколько раз приходил смотреть, как загорелый молодой человек валил деревья, а человек с сердитым лицом сидел возле и покрикивал на молодого. Петр Петрович и Борис ездили в город. У Бориса были спаринги[50]. Прямо с вокзала Петр Петрович и Борис шли в клуб и сразу после тренировки уезжали обратно в свой лагерь. Пятнадцать дней прошли очень быстро. Борис хорошо подготовился к бою. Они с Петром Петровичем выработали план боя. Все обстояло хорошо. Только иногда, главным образом по вечерам, Петр Петрович замечал, что Борис становился как-то рассеян и невпопад отвечал на вопросы. Петр Петрович догадывался, о чем думал Борис, и тихо улыбался, радуясь, что он увез Бориса из города. Борис думал о Маше. Сердится ли она? Борис хотел зайти к Маше сразу же после боя, но не решился. Не решился он и утром следующего дня, а потом Петр Петрович увез его в лагерь. Борис думал о Маше. Он думал о ней так много, что иногда, один гуляя в лесу, он говорил вслух, обращаясь к Маше. Он тихо звал ее, называл ласковыми именами. Думал Борис и об Андрее. Во время боя ему показалось, что холодок, возникший в их отношениях, прошел, что дружба будет такой же, как раньше, что дружбе ничего не помешает. Но после боя они с Андреем почти не видались, и теперь Борису снова казалось, будто что-то вмешалось в их дружбу. Однажды вечером Борис один сидел возле палатки. Петр Петрович ушел в деревню. Солнце спускалось за лес. Небо было розовое над темными деревьями. Высоко сверху одно маленькое красное облачко тихо плыло по небу. Верхний край облачка темнел, как зола возле уголька в костре. Дым от костра поднимался прямо вверх. Ветра не было, и тонко пели комары. Борис думал о Маше. О Маше и об Андрее. Он думал о них обоих. Раньше несколько раз он смутно представлял себе Машу и Андрея вместе. Он ревновал, но он отгонял от себя эти мысли, заставлял себя не думать так об Андрее. Он не хотел давать волю ревности, не хотел, чтобы ревность вмешалась в отношения их с Андреем. Какое основание он имел ревновать Машу? Так он хотел думать. В этот вечер все представлялось совсем иначе. Конечно, Андрей и Маша вместе. Андрей отнял у Бориса Машу. Андрей там, в городе, вместе с Машей, и они даже не помнят о нем, о Борисе. Он им не нужен, он один, совсем один. Борису стало грустно и жалко себя, и вместе с тем было хорошо сидеть одному возле палатки и грустить. Солнце скрылось. Небо стало бледно-голубым. Облачко потухло, сделалось белым, почти растаяло, почти исчезло. Тонко, назойливо пели комары. Угли тлели в костре. Было тихо, очень тихо, и в лесу громко крикнула сойка.ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Помост с рингом стоял на краю футбольного поля. Зрители сидели на трибунах, на теневой стороне стадиона. Дул сильный жаркий ветер, и флаги развевались и хлопали наверху трибун. Ветер нес пыль и песок с дорожек парка. Вокруг помоста прямо на траве стояли стулья. Боксеры, не участвовавшие в состязании, и судьи толпились вокруг помоста. Участники боев проходили через весь стадион. Секунданты несли за ними их вещи. Зрители рассматривали их, пока они шли до помоста с рингом. Было жарко. Солнце стояло низко над крышами домов. Окна домов сверкали на солнце. Тени становились длинными. Борис накинул халат, вышел из дверей раздевалки и пошел к рингу. Зеленая трава поля, и серый бетон трибун, и яркая толпа на трибунах, и розовый свет заходящего солнца — все это показалось Борису очень красивым. Ветер распахнул халат. Борис придержал халат руками, одетыми в боевые перчатки. Издали виден был ринг. Маленькие человеческие фигурки двигались на ринге. Борис видел, как рефери поднял руку одного из боксеров. Ветер донес треск аплодисментов. — Петров все-таки победил, — сказал Петр Петрович. — Он неплохо бился, — сказал Андрей. Андрей нес ведро и полотенце. Справа, из других дверей вышел Титов со своими секундантами. Титов был в ярком халате. Секунданты его были в цветных свитерах. Лицо Титова было неподвижно. Только на его скулах шевелились тугие желваки. Смотрел Титов прямо перед собой. Он молча кивнул Борису. Борис остановился, чтобы пропустить Титова вперед. Титов прошел к помосту, и зрители захлопали. Представитель Спортивного комитета подошел к Титову и, улыбаясь, что-то сказал ему. Титов молча полез на помост. Он был мрачен.Обычный ритуал представления бойцов, осмотра перчаток и объявления судей тянулся долго. Зрители громко разговаривали и перекликались. Когда рефери объявил имя Титова, на трибуне захлопали. Титов нахмурился. Он был бледен, и его тело по-зимнему светлое. — Он тренировался в зале, — тихо сказал Борису Петр Петрович. — Ему будет трудно работать на воздухе. Он быстро устанет… Борис молча кивнул. Борис не волновался. Борис был спокоен, совершенно спокоен, но его жгло нетерпение, и холодное бешенство росло в нем, и хотелось скорееударить Титова, скорее начать бой. Петр Петрович вложил в рот Борису шину[51]. Шина была влажная. Холодная резина приятно освежала рот. Бойцы сняли халаты. Борис был бронзовый от загара. Титов казался совсем белым. Черные перчатки и черные трусы еще больше подчеркивали белизну его тела. — Ну, Борис, — сказал Петр Петрович. — Ну, Борис, только не горячись… Ударил гонг, и на трибунах стало удивительно тихо. Где-то за оградой прозвенел трамвай, и громко чирикали воробьи на деревьях. Титов медленно шел из своего угла. Он низко нагнулся. Он был совершенно закрыт и смотрел исподлобья. Его большое лицо было почти все скрыто белым плечом и черным шаром правой перчатки. Сразу с ударом гонга Борис бросился вперед, и он слышал, как зазвенел трамвай, и потом он начал бой. Он ударил Титова левой. Титов принял удар на перчатку. Удар громко хлопнул. Борис ударил правой в корпус. Титов закрылся, не отвечая на удар. Борис продолжал атаку. Черные кулаки мелькали в воздухе. Титов отступил, нырнув вправо, но Борис настиг его прямой левой и теснил его и плясал так быстро, что Титов не успевал поворачиваться. Борис был как бешеный. Он ни о чем не думал. Его кулаки работали скорее, чем он успевал думать. Ноги работали прекрасно и неутомимо. Титов несколько раз попал в Бориса. Борис смутно почувствовал боль, но не остановился. Он шел, шел вперед и гонял Титова по рингу. На второй минуте Борис попал левым крюком Титову в подбородок. Титов зашатался. Борис прыгнул к нему и ударил еще раз левой и потом правым крюком в подбородок с другой стороны. Титов сделал два шага в сторону и упал на колени. Рефери бросился к Борису. Борис отошел в дальний угол. Рефери начал считать: — Раз… два… три… четыре… Секундометрист отбивал счет деревянной рукояткой молотка. Борис ждал в своем углу, нагнувшись вперед и слегка раскачиваясь на полусогнутых ногах. Титов поднял голову и прямо посмотрел на Бориса. Лицо Титова было совершенно белое, и страх был в его глазах. Страх и животная злоба были в его глазах. Он встал при счете «восемь». Борис кинулся на него. Титов попробовал спастись в клинче, до Борис отскочил в сторону и ударил левей так сильно, что Титов снова зашатался. Тогда Борис погнал его в угол. Титов метался под ударами Бориса. Он ничего не мог сделать. Все движения его были беспорядочны и растерянны. Борис кружился по рингу и бил, бил не переставая, все ускоряя темп боя. Темп боя был просто дьявольский. Раунд кончился. Титов, шатаясь, пошел в свой угол. Титову показалось, что перерыв продолжался не больше десяти секунд. Титов был как пьяный. Он шумно дышал, широко раскрывая рот. Секунданты возились с Титовым. Он ничего не чувствовал. Он попросил пить. Один из секундантов вынул у него изо рта шину и дал ему выпить немного воды. Когда Титов пил, его зубы стучали о край чашки. Ему показалось, что вода теплая, и хотелось пить еще, но перерыв кончился. Он встал на ноги. Борис быстро шел к нему. Борис опустил руки и шел прямо на него. Титов вдруг рассвирепел, хрипло выругался и кинулся навстречу. Он ударил изо всей силы левой рукой и промахнулся. Он хотел ударить правой в коричневое лицо Бориса, он уже поднял правую руку и повернулся к Борису, но вдруг лицо Бориса куда-то исчезло, и все пропало, и он услышал какой-то мягкий, глухой звук, и чем-то черным заволокло все перед глазами. Борис ушел от удара. Кулак Титова просвистел перед самым лицом Бориса. Борис сделал короткий, быстрый шаг и вместе с шагом коротко ударил левой. Титов выпрямился и боком упал на веревки. Его голова легла на нижнюю веревку. Он дышал с трудом. У него было такое лицо, будто он спит и видит страшный сон и никак не может проснуться. Его левая рука локтем уперлась в пол, и кулак медленно опускался.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
— Завтра я пойду к Маше! Завтра я увижусь с Машей! Мне ничто не может помешать, и я пойду к ней утром, и она обязательно будет дома, и я увижусь с ней… Борис говорил с самим собой. Он говорил вслух. Голос его звучал глухо в пустой комнате. После боя Петр Петрович и Андрей проводили Бориса до дома. У Андрея был такой вид, будто ему хочется сказать что-то. Борис очень хотел спросить Андрея о Маше. Они так ничего и не сказали друг другу. Когда Петр Петрович с Андреем ушли, Борис сразу разделся и лег в постель. Он не устал, он почти совсем не устал, но ему хотелось спать. Он лег в постель и вытянулся на спине. Вот тогда он и произнес речь о свидании с Машей. Он улыбнулся, говоря это. Потом он лег на бок, колени поджал к самому подбородку и свернулся клубком. «Как в детстве», — подумал он, засыпая. Он сказал еще раз совсем тихо: — Завтра я увижусь с ней… Засыпая, он видел светлое небо за окном. Где-то прозвенел трамвай. Он вспомнил о бое с Титовым и уснул. Ему ничего ни приснилось в эту ночь. Он проснулся рано и сразу вспомнил о Маше. — Я увижусь с ней сегодня! — сказал он и вскочил с постели. В дверь постучали. Он надел трусы и подошел к двери. — Кто? — Вам письмо, товарищ Горбов. Сосед по комнате, пожилой человек, бухгалтер какого-то учреждения, стоял в коридоре. Он был без пиджака. Голубые подтяжки болтались у него на боках. Он держал в левой руке электрический чайник и в правой руке конверт и квитанцию. Он смотрел на Бориса из-под очков, нагибая голову и улыбаясь. — Вот здесь нужно расписаться, — сказал он. — Заказное письмо. Почтальон ждет на кухне. Вы победили вчера? — Да. Я выиграл вчера. Вот, пожалуйста, отдайте почтальону. Спасибо вам. — Пожалуйста. Всего хорошего. Борис захлопнул дверь. — Я увижусь с Машей сегодня, — сказал он шепотом. — Я сегодня увижусь с ней! Он сел на кровать и разорвал серый конверт с неясным лиловым штампом. Он разорвал конверт и вынул небольшой листок. Он три раза прочел короткий текст, раньше чем смысл написанного стал ему ясен. Это была повестка из Военного комиссариата.«Немедленно по получении сего явиться в Райвоенкомат…»Явиться немедленно! Явиться немедленно! Значит, сейчас же нужно идти, сейчас же идти в Комиссариат, а не к Маше. Явиться немедленно… Текст был отпечатан на машинке. Синими чернилами была вписана фамилия: Горбов, Б. А., и внизу подпись красным карандашом и печать рядом с подписью, и еще ниже число… В полутемном коридоре Военкомата Борис нашел дверь с номером комнаты, который был в его повестке. За большим исцарапанным столом возле окна сидел писарь. Он горбился над столом, и гимнастерка топорщилась на его спине. Он сердито посмотрел на Бориса и нашел его фамилию в списке. — Вам нужно к военкому, — сказал он хмуро. — Погодите. Вдоль стены стояло несколько стульев. Борис сел на один из них. В комнате было накурено. Очевидно, недавно здесь было много народу. В углу стояла высокая плевательница. Вокруг на полу валялись окурки. Пахло горелой бумагой и потухшими папиросами. Писарь рылся в бумагах и монотонно насвистывал. — Зачем меня вызвали? — спросил Борис. — Вы не знаете, товарищ, зачем меня вызвали? Писарь ответил, не глядя на Бориса: — Вас пошлют в часть. Там узнаете. Он снова начал насвистывать. Борис больше не спрашивал. Из-за двери за спиной писаря доносились обрывки разговора. Слов нельзя было разобрать. Говорили два голоса. Один был громкий, взволнованный, а второй тихий. «Я скажу ему, — думал Борис. — Я скажу… Он поймет… Он, наверное, поймет меня… Пусть пошлют, пусть пошлют куда угодно, но не сейчас… Немного позднее я согласен ехать… Куда угодно, только немного позднее… Я попрошу отсрочки…» Дверь открылась. В дверях стоял военный со знаками различия полкового комиссара на красных петлицах. Перед военным стоял человек в штатском. Борис не видел его лица. Этот штатский говорил громким голосом. — Мне необходима отсрочка, — говорил он, и полковой комиссар хмурился и отворачивался. — Мои творческие планы… Я могу представить удостоверения… В конце концов, вы же должны понять! Я готовлю книгу стихов… — Хорошо, — отвечал комиссар. — Я уже сказал вам. Хорошо. Я вычеркну вас. Я уже сказал. Штатский боком пролез в дверь. — Вычеркните этого, — тихо сказал комиссар писарю. Писарь посмотрел на штатского с таким выражением, будто перед ним стоял не человек, а интересная вещь. Штатский повернулся, и Борис узнал его. Это был поэт, гость Маши, знаток бокса. Борис испугался, что толстый молодой человек поздоровается с ним и комиссар увидит, что они знакомы. Но поэт не смотрел на Бориса. — Еще один? — сказал комиссар, мельком взглянув на Бориса. У комиссара было усталое, морщинистое лицо и совсем седые волосы. — Ну, пойдем. Борис вошел. Комиссар закрыл дверь, прошел за свой стол и сел, подперев голову левой рукой. — Фамилия? — Горбов. Комиссар отыскал какую-то бумагу в папке. — Горбов, Борис Андреевич? — Да. — Служил в пограничных войсках? — Да. — Срочную службу? — Да. — Где служил? — На Севере, товарищ полковой комиссар. — Так. Хорошо? Хорошо служил, спрашиваю? Горбов ничего не ответил. — Командир запаса? — Да. Комиссар вдруг улыбнулся. Все морщины на его лице сразу разгладились. Только вокруг глаз остались мелкие веселые складки. — Вот поэт этот… А? Горбов молчал. — Вам нужно ехать, Горбов, — комиссар все еще улыбался. Улыбка медленно сходила с его лица. — Придется ехать быстро. Понятно? — Да. Понятно. — Три часа вам должно хватить, Горбов, на сборы и все такое. Придется снова стать военным. Документы на вас заготовлены. Через три часа вы поедете. Так? — Слушаюсь. — Можете идти. Всего хорошего. Окраины города промелькнули перед окнами. Поезд шел по полю. На краю поля еще виднелись фабричные трубы и серое облако дыма и пыли над городом. Сбоку железнодорожного пути шло шоссе. Поезд обгоняли легковые автомобили. Грузовики ехали медленнее. Грузовики отставали от поезда. На столбах стояли рекламные плакаты. «А я ем повидло и джем», — прочел Борис. «А я ем повидло и джем… А я ем повидло и джем…» Стишок назойливо и скучно звенел в голове Бориса. «А я ем повидло и джем…» Стучали колеса вагонов, громко пыхтел паровоз. Длинная тень от дыма бежала рядом с поездом. Шоссе свернуло вправо и скрылось из виду. Поезд шел по полю. Прощай, Маша! Прощай, Маша! Все вдруг прервалось, все кончилось. Борис так и не повидался с Машей. Уехал, не повидавшись с ней. Он позвонил ей по телефону. Телефон долго трещал. Потом недовольный голос домашней работницы сказал: «Кого надо?» — и Борис попросил Машу, и голос сказал: «Нету дома…» — и Борис повесил трубку. Андрея Борис тоже не застал дома. Очевидно, Андрей был еще на заводе. Перед самым поездом Борис заехал на стадион. Петр Петрович выслушал Бориса и долго молчал. — Очевидно, так нужно, — сказал он. Борис испугался, таким старым показался ему Петр Петрович. — Очевидно, так устроена жизнь, Борис, что часто нужно прощаться. Слишком часто нужно прощаться… Мне очень жаль. Вы знаете… Но так нужно. Я уверен в вас. Я уверен, что вы не сдрейфите в тяжелый момент. Вот и все. Может быть, вы еще вернетесь ко мне. Вот и все. Старик крепко пожал Борису руку и пошел по аллее. Он шел, как всегда, сутуля спину, руки глубоко засунув в карманы. — Прощайте, Петр Петрович! Поезд несся по полю. Паровоз гудел, гремели колеса на стыках рельсов. Серое облако над городом все еще виднелось на краю поля. Ворона летела рядом с поездом. Она долго летела рядом с поездом. Еще две вороны поднялись с проводов и полетели за первой вороной. Небо было синее-синее. Только с краю, там, где был город, стояло серое облако, Потом облака не стало видно. «А я ем повидло и джем… А я ем повидло и джем…» Снова и снова Борис вспоминал все события сегодняшнего дня. Как сразу все кончилось! Сразу все кончилось, все оборвалось. Будет совсем другая жизнь. Какая будет теперь жизнь? Какое усталое было лицо у полкового комиссара в Военкомате… Хорошо, что толстый молодой человек — поэт он, что ли, — хорошо, что он не узнал Бориса, а то было бы стыдно… Очень стыдно было бы… Он Машин знакомый, этот молодой человек… Очень было бы стыдно… Прощай, Маша!..
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Борис привязал лошадь к коновязи возле крыльца комендатуры. Черные бока лошади лоснились. Борис ослабил подпругу. Лошадь тяжело вздохнула, повернула голову и мягкими теплыми губами слегка ткнулась в плечо Бориса. — Ночка! — сказал Борис и улыбнулся. Утро было морозное. Столбы дыма прямо стояли над трубами. В холодном тумане всходило солнце. Снег на крышах розовел. — Устала, Ночка? — сказал Борис. Ночка вздохнула еще раз. Над ее спиной подымалось облачко пара. Шерсть на ее ногах заиндевела. Борис пошел к крыльцу. На ходу он разминал затекшие ноги. Он еще раз оглянулся на лошадь. Ночка, подняв голову и прямо поставив уши, внимательно смотрела вслед Борису. Повод не давал ей повернуть голову. Она негромко заржала. Борис вошел в коридор и расстегнул ремни. Ему было жарко. Гимнастерка сбилась на спине. Он распахнул шинель и поправил гимнастерку. От рук и штанов сильно пахло теплым запахом конского пота. Проходя по коридору, Борис в окно увидел свою Ночку. Лошадь рыла копытом снег и, выгибая шею, грызла обитое железом бревно коновязи. Борис немного задержался у окна. Он очень гордился своей лошадью. В комнате дежурного тускло горело электричество. Дежурный, с землистым от бессонницы лицом, кричал что-то в трубку полевого телефона. Не отрываясь от телефона, он пожал руку Борису. Борис повернул выключатель. Электричество погасло. В комнате стало приятней, когда исчез тусклый свет лампочек. За окном розовел, искрился снег. Ночка хрипло заржала. Дежурный положил трубку и устало дернул ручку телефона. — Уже утро, — сказал Борис. Ему все время хотелось улыбаться. — Ты быстро прискакал, — сказал дежурный. — Ночка — молодчина, — сказал Борис. С дивана в глубине комнаты встал человек в шинели и подошел к столу. Раньше Борис не заметил этого человека. Он обернулся к нему и отступил на шаг. — Здравствуй, Борис, — сказал человек. — Андрей! — крикнул Борис. У них был такой взволнованный вид, что дежурный растерянно вытаращил глаза. — Андрей, — повторил Борис. — Андрей, дорогой, здравствуй! Как же это?.. Андрей протянул руку, но Борис бросился к нему на шею. Они крепко обнялись. — Так вы знаете друг друга? — сказал дежурный. — Знаем, — сказал Борис. — Чуть-чуть знаем… Андрей тихо смеялся. — Это здорово, — сказал дежурный, — он же к тебе на заставу едет! — Врешь! — крикнул Борис. — Черт возьми! Андрей, как же это все получилось? — Что у вас получилось? Борис круто обернулся. В раскрытых дверях стоял полковник. Борис вытянулся. — Товарищ начальник отряда, лейтенант Горбов явился по приказанию коменданта. Андрей искоса поглядывал на Бориса. Борис держался и говорил с непринужденной, слегка щеголеватой выправкой. Он был подтянут, весь собран, но вместе с тем в нем не было никакой напряженности. «Быстро ты снова стал настоящим военным», — подумал Андрей. — Хорошо, — сказал полковник, улыбаясь. — Но о чем же вы так оживленно говорили? Что получилось у вас тут? — Я встретил лучшего своего друга, товарищ полковник, — без улыбки сказал Борис. — Это вы, лейтенант? — полковник повернулся к Андрею. — Да. Мы старые друзья, товарищ полковник, — сказал Андрей. Андрей тоже стоял «смирно». Его шинель и снаряжение совсем новенькие. Борис сразу заметил это. Слишком новенькие. Андрей был похож на человека, только что переодетого в военную форму. «Ничего. Ты скоро привыкнешь», — подумал Борис. — Это хорошо, — сказал полковник. — Хорошо, что вы друзья. Вам, лейтенант Горбов, придется временно быть начальником заставы. Лейтенант Иванов ложится в больницу. Дело несерьезное. Аппендицит. Пустяковая операция. Вам придется командовать, пока Иванов встанет на ноги. Понятно? — Да, товарищ полковник, понятно. — Вашего друга возьмете с собой. Помощником. Введите поскорей во все дело. Учтите, что застава должна работать не хуже, чем при лейтенанте Иванове. Правильно? — Да, товарищ полковник. — Вы довольны? — полковник снова улыбнулся. — Да, я доволен, товарищ полковник, — очень серьезно сказал Борис. В комнату вошел комендант. — Когда лейтенант сможет ехать, капитан? — спросил полковник у коменданта. — Лошадь готова, товарищ полковник, — сказал комендант. — Поедете сейчас же, товарищи, — сказал полковник. Он протянул руку Андрею, и Андрей пожал руку ему и коменданту. — Будь здоров, Горбов, — сказал полковник, прощаясь с Борисом. — Командуй. Борис и Андрей проехали мимо окон комендатуры. Полковник смотрел в окно. Ночка приплясывала, мелко перебирая тонкими ногами. Борис сидел в седле прямо и спокойно. Полковнику, старому кавалеристу, понравилась свободная, почти небрежная посадка Бориса. Борис говорил что-то Андрею, поворачивая голову и смеясь. Под Андреем был белый жеребец. Андрей тоже смеялся. Полковник видел, как Борис посмотрел на часы и подобрал поводья. Ночка взяла в карьер. Комья снега полетели из-под копыт. Борис низко нагнулся. Андрей дал шпоры своему коню и поскакал вдогонку. Снег сверкал на солнце. — Хороших лейтенантов запаса нам прислали, капитан, — сказал полковник и отошел от окна. — Конечно, хороших, — сказал комендант. — Поспим часок и поедем, — сказал полковник. — Скажи дежурному. Пусть машина будет через час. Пусть нас разбудят. — Слушаюсь, — сказал комендант. Он вышел в комнату дежурного и вернулся через несколько минут. Полковник крепко спал на узком кожаном диване. Комендант лег на койку. Он лег, не раздеваясь, поверх одеяла и укрылся шинелью. Полковник и комендант не спали уже три ночи подряд. Дорога шла лесом. Ели вплотную обступали просеку. Снег лежал на иссиня-черных ветвях. Ветви низко гнулись, тонули в снежных сугробах. Борис сдержал Ночку. Жеребец Андрея захрапел, когда Андрей натянул поводья. — Ну, Андрей, теперь рассказывай все по порядку. — Да рассказывать-то почти нечего. Ты уехал три месяца тому назад. Я нашел дома твою записку, и Петр Петрович рассказал. Ты ничего не писал мне. Я не знал, где ты и что с тобой. Я жил по-прежнему. Работы было много. Боксом занимался. Бился с Кирюшкиным. — Как? — Нокаутировал его. В третьем раунде попал слева. Вышло вроде как у тебя с Титовым. Но Кирюшкин слаб все-таки. Хотя удар у него есть. Я попал точно, и он сразу упал. — А Титов как? — С Титовым плохо. Он с горя после поражения напился, устроил драку на улице и сломал кому-то челюсть. Его судили за хулиганство. Выслали на полтора года. Он кончился, твой Титов. — Он — дрянь. — Верно. — Дальше, Андрей. Как же с тобой все получилось? — Ну, взяли меня и послали на границу. Вызвали в Военкомат и послали. Военком говорит: «Три часа вам хватит на то, чтобы снова стать военным?» — Седой такой? — Кто? Военком? Седой. Я говорю: хватит. Попрощался с заводом, со стариком нашим простился и выехал. — Как старик живет? Я, черт возьми, только одно письмо послал ему, и то в самом начале. Когда еще грустил немножко. Времени совсем нет. Ей-богу. — Он говорил мне. Он по-прежнему живет. Постарел, конечно. Но ничего. У него хорошие ребята есть. Один легковес есть. Шестнадцать лет парнишке. Левая просто изумительная. Ну, Петр Петрович по-прежнему злится. Ребята дерутся неплохо, и он доволен, а злится. Знаешь, как он злится всегда? Для виду. — Хороший он старик. — Хорошо здесь у вас. Совсем как на нашем участке. Помнишь, Борис? И тот вот бугор похож. Помнишь, у нас было такое место на левом фланге. — Да, давай рысью. Ночка сразу приняла широкой рысью. Белый жеребец сбивался на галоп. Андрей засмеялся. Борис думал о городе, о Петре Петровиче. В первые дни жизни здесь, на границе, он часто вспоминал о городе, но потом стал вспоминать все реже и реже. Пограничная работа целиком заполнила всю его жизнь. Он нашел друзей среди командиров, и это была крепкая боевая дружба. Теперь он никогда не думал о прошлом с грустью. Только о Маше не переставал Борис вспоминать. Машу нельзя было забыть. О Маше он думал по-прежнему часто. Но Маша была так далеко! Борис, конечно, помнил о ней и тосковал по ней, но все это было спокойнее, чем раньше, в городе. Борис привык к тому, что Маша далеко, привык к постоянным немножко грустным мыслям о Маше. Маша, его Маша существовала на свете, и в его сердце и в его голове было для нее постоянное место, и это ничуть не мешало ему работать изо всех сил, не нарушало его жизни, не вмешивалось в его жизнь. Он жил очень хорошо. Вот приехал Андрей. Вдруг приехал Андрей. Борис вспомнил их размолвку. Размолвка — какое странное слово! И какая, по существу, была между ними размолвка? Теперь все казалось совсем иначе. Что-то было все-таки. Что-то происходило тогда. Но теперь даже никакого осадка не осталось от этого. Андрей здесь! Они будут жить вместе, рядом, помогая друг другу, будут работать и жить здесь. Очень важно жить хорошо, и обязательно нужно работать очень хорошо. Мы с Андреем опять пограничники. Мы — пограничники. Очень важно, что мы опять вместе и что мы опять пограничники. Странно, что мы какое-то время не были пограничниками. Странно, что мы были в запасе. Маша? Конечно, Маша сразу вспомнилась. Но все, что казалось так важно раньше, теперь вообще перестало существовать. Нужно просто спросить Андрея о Маше. Какое отношение имеет Маша к их дружбе? Просто смешно, до чего все это не имеет никакого значения. Мы вместе с Андреем, мы опять пограничники, и мы такие друзья с Андреем… — Ша-агом! — пропел Андрей. Его жеребец снова захрапел. Ночка пошла шагом. Борис нагнулся и погладил Ночку по шее. Андрей не видел его лица, когда он спросил: — Как Маша живет, Андрей? — Маша. Я… я не знаю, как Маша живет… Я не видел ее. — Ты? Ты не виделся с ней все это время? — Я не виделся с ней после нашего боя. Я думал… Борис выпрямился и прямо посмотрел на Андрея. — Я думаю, что я был дураком, — сказал он. Он улыбался, у него было смущенное выражение лица, и вид у него был как у очень счастливого человека.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
На заставе было неспокойно. С участка на заставу пришел старший наряда пограничник Степанов и доложил, что с наблюдательного пункта на холме он заметил на той стороне границы необычайное оживление. К хуторам, которые были за рубежом в расстоянии километра от границы, подъезжали грузовики, и потом два раза проехал легковой автомобиль. В самом сообщении Степанова еще не было ничего особенного, но пограничники все последние дни чувствовали, что за границей что-то готовится. Старшина заставы позвонил в комендатуру и спросил, где лейтенант Горбов. В комендатуре сказали, что лейтенант должен скоро быть на заставе. Пограничник Степанов ушел обратно на наблюдательный пункт. Борис въехал в ворота заставы. Старшина ждал на крыльце. По выражению лица старшины Борис сразу понял: что-то произошло. Борис соскочил с лошади и взбежал на крыльцо. Старшина доложил о донесении Степанова. Борис выслушал и долго молчал. — Ты, Андрей, кажется, прямо с корабля попадешь на бал, — сказал он. — Знакомьтесь. Наш старшина Серебряков. Лейтенант Воронин. Лейтенант Воронин приехал к нам помощником начальника, старшина. Лейтенант Иванов ложится в госпиталь. Пока он не поправится, командовать заставой приказано мне. Вот и все новости. Серебряков был высокого роста, с красивым открытым лицом. Как многие очень сильные люди, он был слегка медлителен. Он улыбнулся Андрею и сильно пожал ему руку. — Что делают люди? — Замполитрука проводит занятия, — сказал Серебряков. — В Ленинской комнате. — Хорошо. Подберите лейтенанту Воронину хорошие лыжи. Когда-то он умел ходить на лыжах. Я на минутку зайду в канцелярию. Ты, Андрей, соберись пока. Подгони крепления, приготовь все. Пойдем с тобой на место происшествия. Заодно и участок осмотрим. Ты устал здорово? — Нет. Я не устал. — Это все равно. Даже если и устал, идти нужно сразу. Чем-то серьезным пахнет все это. Верно, старшина? — Пожалуй, что так, товарищ лейтенант. Старшина снова улыбнулся. — Ну, живо, — сказал Борис. Андрей и старшина пошли в сарай за лыжами, а Борис прошел в кабинет начальника заставы. Он плотно закрыл дверь и остановился посреди комнаты. Нужно было собраться с мыслями. Может быть, через несколько минут придется командовать, приказывать, вести людей. Он, Борис, отвечает за массу необычайно важных вещей. Он отвечает за участок советской земли. Он отвечает за жизнь пятнадцати бойцов. Он отвечает за то, чтобы его бойцы были победителями. Его бойцы обязательно должны быть победителями, потому что иначе не будет неприкосновенна советская земля, не смогут они жить. Все дело в том, чтобы они были победителями. Он, Борис, должен распоряжаться ими, он должен отвечать за них. Он, один он. Он — командир. Борис чувствовал, что сегодня предстоит серьезное дело. По старой привычке он тихо сказал сам себе: — В общем, может быть, все не так уж серьезно.______
Все оказалось очень серьезно. Когда Борис и Андрей подошли к холму, пограничник Степанов сполз по снегу вниз и встал перед Горбовым. Степанов был весь в снегу. На синем от холода лице его белело обмороженное пятно. Горбов, Андрей и Степанов стояли в ложбине, скрытые от границы холмом. На холме в зарослях молодых сосен лежал второй пограничник с биноклем. — Потрите щеку, — тихо и спокойно сказал Борис. Степанов нагнулся, поднял комок снега и раздавил его на своем лице. Степанов был маленького роста и очень широк в плечах. Он был старослужащим. Почти три года он провел на этой заставе. Он знал каждый куст, каждую тропку на участке. За три года службы он стал отличным следопытом. Борису он очень нравился. Нравилось его невозмутимое хладнокровие, нравилась молчаливость и скромность. Степанов был по-настоящему храбрым человеком и к физическим лишениям, к голоду, к боли, к холоду относился с удивительным равнодушием. — Говорите, Степанов, — сказал Борис. — Что у вас слышно? — Они солдат подвезли к границе, — сказал Степанов. — Они много солдат подвезли, товарищ лейтенант. И офицеры. В легковой-то машине офицеры приезжали. Они готовят серьезное дело, товарищ лейтенант. Сверху холма быстро сполз, почти скатился, второй пограничник. — Товарищ лейтенант, — сказал он, дрожа от холода. — Они собираются на нашу сторону… Они идут цепью… Они… Борис низко пригнулся и побежал на холм. Лыж он не снимал. Широко расставив ноги, руками касаясь снега, он взбирался «елочкой». У самой вершины он сбросил лыжи и пополз наверх. Он осторожно выглянул из-за веток молодой сосны на вершине и замер на месте. С холма открывался вид на пологий склон, поросший редкими соснами, и на снежную равнину по ту сторону границы. Линия границы тянулась внизу склона. Изгородь из колючей проволоки шла по границе. Сугробы снега кое-где совершенно скрывали изгородь. На расстоянии полутора километров по ту сторону границы виднелись хутора, и от занесенных снегом домов к границе двигались черные точки. Люди шли к границе. Возле хуторов они шли небольшими группами и ближе к границе расходились и шли цепью в два ряда. Все больше и больше людей выходило из-за хуторов. Цепи широким веером расползались по снегу. Люди шли без лыж и в рыхлом снегу двигались медленно, часто останавливались. Борис достал бинокль. В бинокль стало ясно видно, как идет передовая цепь. Это были солдаты. Они шли по колено в снегу и винтовки несли наперевес. Офицеры шли впереди цепи. Офицеры помахивали пистолетами. Цепи шли молча. В лесу было очень тихо. В полной тишине солдаты и офицеры цепью шли к границе. Некоторые проваливались в снег по пояс. Борис обернулся и знаком позвал Андрея. Андрей взобрался на холм и лег рядом. Борис передал ему бинокль. — Много, — прошептал Андрей. Центр цепи был направлен несколько правее холма. Только край цепи шел прямо на холм. — Слушай, — шептал Борис. Казалось, он говорит сам с собой. — Слушай хорошенько. Помнишь мост? Мы проезжали, когда ехали на заставу. Мост. Это очень важно! Река еще не замерзла. Она часто вовсе не замерзает. Течение. Им нужна переправа. Понимаешь? Они хотят перейти по мосту. Мост — путь в тыл. Так. Очень хорошо! Они идут медленно. Они подтянут заднюю цепь и ударят сразу. Видишь — первая цепь остановилась. Я пойду на заставу. Людей в ружье. Свяжусь с комендатурой. Ты останешься здесь. Степанов с тобой. Отвлечь внимание. Во что бы то ни стало отвлечь их внимание. Отвлечь внимание и выиграть время. Гранаты и пулемет. У Степанова здесь пулемет. Отвлечь внимание и выиграть время. Обманный удар. Передняя цепь остановилась. — Прощай, Андрей, — сказал Борис. — Я постараюсь успеть вернуться к тебе. Прощай. Держись. Борис дополз до своих лыж, надел их и вихрем скатился с холма. Он круто повернул. Облако снега взлетело из-под лыж. Не останавливаясь Борис сказал: — Степанов, Ольгин — наверх! Андрей видел, как Борис бежал по тропинке. Он бежал изо всех сил… Степанов лег рядом с Андреем… — Как раз вовремя вы к нам подоспели, товарищ лейтенант, — сказал Степанов. Лицо его было серьезное, почти торжественное. Передняя цепь медленно двинулась к линии границы. Противник мог вести наступление только в двух местах. Одним местом был склон холма, где остался Андрей. Вторым местом была узкая долина прямо против моста. Всюду в других местах по участку вдоль границы шли глубокие овраги и крутые каменистые осыпи. Советская территория располагалась на возвышенностях, и противнику пришлось бы форсировать чрезвычайно трудные подступы к реке и мосту. Мост, несомненно, был целью вторжения. Все это Борис понимал очень хорошо. Пока он добежал до заставы, ясный план действий сложился в его голове. Он бежал изо всех сил. Руки и ноги двигались в привычном быстром ритме. Через пять минут он был на заставе. Пока люди по тревоге одевались и строились, прошло три минуты. За это время Борис успел позвонить в штаб комендатуры. Он подробно и обстоятельно доложил дежурному. Впоследствии дежурный рассказывал, как поразило его спокойствие молодого лейтенанта. Дежурному даже показалось, будто Горбов бравирует своим хладнокровием. На самом деле Борис волновался так сильно, что вся спина его покрылась потом. Через восемь минут после ухода Бориса от холма одиннадцать пограничников гуськом бежали по лесу. На заставе осталось двое: дежурный и повар. Борис бежал впереди. Он часто оглядывался. Бойцы шли ровно. Никто не отставал. Старшина Серебряков нес пулемет. Старшина шел сразу за Борисом. Не останавливаясь, Борис передал старшине приказание остаться для прикрытия долины напротив моста и назвал фамилии шести бойцов, которые должны были остаться со старшиной. До поворота к долине бежали четыре минуты. Когда старшина с ходу повернул на тропинку, спускавшуюся в долину, и шестеро бойцов повернули за ним, со стороны холма раздался треск пулеметной очереди и нестройные хлопки винтовочных выстрелов.ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Андрей бежал на лыжах по лесу. Он бежал один. Он сильно работал руками. Мешок оттягивал спину. Вдалеке, сзади, глухо гремели выстрелы. Там шел бой. В лесу было тихо. Неподвижные, занесенные снегом ели, и тонкие веточки берез, и кривые сучья старых сосен, и крестики молодых сосен, торчащие из сугробов, и синий снег в тенях, и белый, сверкающий снег на солнце, и голубое небо вверху… — Черт!.. — громко сказал Андрей. — Черт побери… Скорее… Скорее… Он бежал так быстро, что в висках его стучало и шумело в ушах. Все лицо его было покрыто потом. Едкий пот застилал глаза. Андрей не чувствовал тишины. Спокойный лес не казался ему неподвижным. Неясные, слабые звуки стрельбы, звуки боя доносились до Андрея, и оглушительно стучало в висках, и Андрей дышал громко, и все рос, все усиливался шум в ушах. Красные пятна плыли перед глазами. Черные и белые полосы проносились мимо. Все неслось, все летело мимо. Воздуха не хватало… Он дышал, широко раскрывая рот, и хрипел при каждом вздохе. Руки и ноги двигались сами собой, двигались автоматически сами собой. — Скорее… скорее… скорее… Черт… черт… черт… Андрей бежал все скорее и скорее. Звуки боя становились все глуше и невнятней… Борис послал его на мост. Борис послал его на мост со связкой гранат, с катушкой провода, с подрывной машинкой. Борис сказал: «Прямо по просеке до горы. Потом напрямик через гору. Под горой мост». Какой тяжелый этот мешок! Гранаты и провод. Борис сказал: «Молчи. Ничего не говори мне, Андрей. Никто из ребят не умеет ходить на лыжах, как ты. Ты должен идти. Не надо спорить со мной, Андрей…» Стреляют, стреляют, стреляют… Сколько времени они смогут продержаться? Борис сказал: «Беги изо всех сил… Дорога простая. Спуск крутой, внизу поворот у самого моста…» Скорее… скорее… скорее… Борис сказал: «Спуск крутой. Там деревья. Будь осторожен…». Борис сказал: «Беги изо всех сил. Заложи гранаты под средний пролет моста и тяни провод обратно». Вот начался подъем. Значит, скоро конец. Скоро мост. Спуск и мост. Кажется, будто с каждой секундой мешок становится тяжелей. Они страшно тяжелые, гранаты… Гранаты и провод. Борис сказал: «Только в самый последний момент. Только в самом конце, только когда уже ничего нельзя будет сделать, когда уже никого из нас не останется, когда останется последний из нас, только тогда должен быть взорван мост». Вверх идти еще трудней. Скорее… скорее… скорее… Борис сказал: «Прощай! Прощай, Андрей! Прощай, дорогой Андрей. Иди как можно скорее. Прощай…» Проклятый мешок! В ушах так сильно шумит, что выстрелы почти не слышны. Там идет бой. Там идет бой… Может быть, уже конец… Вот вершина. «Круто», — сказал Борис. Вершина, спуск, мост. Вот мост. Внизу мост. Черная вода в реке. Лед у берегов и черная вода посредине. «Течение, — сказал Борис. — Река не замерзает. Спуск крутой и там деревья, и будь осторожен…» Будь осторожен, Андрей!.. Андрей шагнул и понесся вниз. Он пригнулся, и мешок вдруг перестал оттягивать плечи. Снег взлетел из-под лыж. Воздух стал упругим. Воздух стал очень твердым и упругим, и все исчезло. Все исчезло, кроме скорости. Черные стволы сосен разлетались в стороны, и один раз палка кольцом ударилась о ствол сосны, и отудара сильно тряхнуло руку. Будь осторожен, Андрей!.. Андрей повернул плечи. Он чуть-чуть повернул плечи, его ноги напряглись, он повернул вправо и пронесся так близко от сосны, что ему пришлось съежиться, чтобы не удариться плечом. Скорость стала меньше. Он снова повернул. Теперь он повернул налево, под прямым углом налево, и опять понесся вниз. Будь осторожен, Андрей!.. Внизу был бугор. Лыжи взлетели на бугор. Андрей пригнулся совсем низко и прыгнул. Мешок перевесил. Проклятый мешок перевесил, потянул влево. Андрей почувствовал, что падает. Он рванул плечами. Он резко рванул вправо плечами и всем телом. Он напряг все силы, чтобы не упасть. Он не упал. Он удержался и не упал, и у самого моста он круто повернул, касаясь снега рукой.Ольгин был убит. Сидорчук был убит. Лившиц был убит. Замполитрука Торощин был тяжело ранен в живот. Старшина Серебряков был тяжело ранен в грудь. Еще трое бойцов были серьезно ранены, и четверо были ранены легко. Борис был ранен в левое бедро и в кисть левой руки. После того как пограничники отбили вторую атаку, ушел Андрей. Потом еще два раза цепи противника подходили к узкому входу в долину, и пограничники два раза отбрасывали их назад, к границе. Пулеметы противника били не переставая. У них было четыре пулемета. Два пулемета пограничников отвечали короткими очередями. За одним из пулеметов лежал Борис. Он потерял много крови. Из раны в бедре все время текла кровь. Снег возле Бориса был розовый. Левая рука сильно болела. Борис почти не мог шевелиться. Он пересиливал боль и стрелял, тщательно целясь. Из левой руки тоже шла кровь, и пулемет был испачкан кровью. Временами плотный серый туман застилал глаза Бориса, и в висках начинали глухо бить тяжелые мягкие молотки, и все тело становилось тяжелым, и руки не слушались, и боль в левой руке исчезла. Борис напрягал последние силы, чтобы не потерять сознания. Он не знал, как долго это продолжалось… Может быть, минуту… или несколько секунд… Туман перед глазами рассеивался… стихали удары в висках… Ни за что не потерять сознания!.. Левая рука опять остро болит. Нужно сильнее сжать пальцы. Тогда сильнее болит. Пусть болит. Только не потерять сознания… Впереди движутся черные фигурки с ружьями наперевес. Нужно стрелять. — Товарищ лейтенант… Это повар. Заставский повар Кумешко. Почему он здесь? Он оставался на заставе… — Почему вы здесь, Кумешко? — Я пришел сюда, товарищ лейтенант… Разве я могу? Разве я мог не прийти? — Ах, да. Правильно. Правильно, Кумешко. Это хорошо. Хорошо, что вы пришли. Борис совершенно спокоен. Хорошее, боевое спокойствие. — Здесь тоже жарко, Кумешко. Пожалуй, жарче, чем у вашей плиты. Ребята засмеялись. Это хорошо, что ребята смеются. Даже Серебряков попытался улыбнуться. Бедняга Серебряков. — Товарищ лейтенант… — Серебряков приподнялся и снова лег на спину. Изо рта у него пошла кровь. — Лежите спокойно, старшина! Слышите? Вам нельзя шевелиться. — Товарищ лейтенант! — крикнул Кумешко. — Они бегут сюда… — Тише, Кумешко! Они уже четыре раза начинали бежать сюда. Мы уже почти привыкли. Кричать не нужно. Нужно лежать тихо и хорошенько целиться. Пограничники отбили пятую атаку.
Андрей медленно спускался с горы. Он спускался к просеке. Он ставил лыжи боком к склону и боком спускался вниз. В руках Андрей держал катушку. Провод разматывался и тянулся за Андреем. Провод не давал двигаться быстро. Андрей скрежетал зубами от нетерпения. Выстрелы слышались непрерывно. Андрей напрягал слух. Иногда ему казалось, будто он слышит крики людей. Там шел бой. Там дрались пограничники и Борис. Они дрались там, они умирали там, а он, Андрей, должен медленно идти по лесу и осторожно разматывать провод!.. Провод ложился на ветки елей. С веток падали комья пушистого снега. Потом Андрей услыхал, как что-то загрохотало на мосту. Что-то загремело на мосту, и несколько секунд было тихо, и снова повторился тот же звук, и опять тишина, и в третий раз загрохотало на мосту. Андрей остановился. Он стоял на склоне горы у самой просеки. По просеке от моста шла дорога к границе. Дорога огибала гору. Андрей стоял и прислушивался, и вдруг он понял, в чем дело, швырнул в снег катушку с проводом и понесся вниз. Он низко присел, чтобы скорость была как можно больше. Из-под лыж летел снег. На другой дороге Андрей повернул. Он так торопился, что не устоял на ногах и упал. Лежа, он отстегнул лыжи. Он вскочил. Он громко смеялся. Он побежал по дороге. Из-за поворота дороги быстро приближался мерный топот. Андрей бежал, и топот становился все громче и громче. Потом из-за поворота дороги выскочили всадники. Андрей едва успел отбежать в сторону. Всадники неслись галопом. Галоп был просто сумасшедший. Впереди на гнедом жеребце скакал полковник. Снег летел из-под копыт. Всадники скакали ряд за рядом. Ряды мелькали перед Андреем. Лиц людей он не успевал разглядеть. Потом из-за поворота дороги выскочила артиллерийская упряжка, и ездовые погоняли серых мохнатых коней, и кони храпели, и летели комья снега. Первая пушка пронеслась, и за ней вторая пушка на таких же серых конях, и третья пушка с серыми конями в упряжке. Все это с грохотом, в облаке снега промелькнуло мимо Андрея. Андрей стоял по колено в снегу и громко смеялся.
Борис был на грани обморока. Все время слегка тошнило, и серый туман упрямо застилал глаза. Левая рука нестерпимо болела, и Борис с трудом сдерживался, чтобы не стонать. Были убиты повар Кумешко и еще трое бойцов. Пограничники лежали молча. Только Серебряков все время говорил. Он все время говорил и звал лейтенанта, и спрашивал — слышит ли его лейтенант. — Да, Серебряков, да, я слышу тебя. — Слышите, товарищ лейтенант? Мне очень нужно, чтобы вы слышали… Я хотел написать стихи… Я хотел написать про Кубань, и про войну, и про многое еще… Я хотел научиться писать хорошие стихи и тогда показать ребятам… Я боялся говорить, что я поэт… Вы слышите меня, товарищ лейтенант? — Да, да, Серебряков. Я слышу тебя. Только бы не потерять сознания!.. Опять серое облако лезет на глаза… Бедняга Серебряков… Спокойствие! Нужно много спокойствия. Хорошее, боевое спокойствие. Успеет ли Андрей? Сколько времени прошло с тех пор, как он ушел? Еще одной атаки нам не выдержать. Вот и все. Они собираются в атаку. Нам больше не выдержать, Андрей!.. Андрей — молодец. Он сделает все, что нужно. Опять серое закрывает глаза. Только бы не потерять сознания до конца. Выдержать все до конца. В бою нужно обязательно выдержать все до конца и еще хорошее, боевое спокойствие. — Я слышу тебя, Серебряков. Ты еще напишешь хорошие стихи. Я не знаю, как пишут хорошие стихи, но ты напишешь. Я слышу все, что ты говоришь… Что-то неслышно пронеслось в воздухе. Что-то пронеслось над головами… Потом удар… снег полетел вверх, и очень громкий удар… Только не потерять сознания!.. Еще один удар. Еще один удар… Черные фигурки движутся по снегу. Они движутся, — значит атака, значит конец. Конец. Вот и все. — Товарищи!.. Черные фигурки бегут по снегу, и все время бьют эти удары, и снег взлетает наверх, и дым, и опять удары, и удары, и удары, и что-то проносится в воздухе. — Спокойствие, товарищи! Хорошее боевое спокойствие… Кто-то наклонился над ним. Он не видел, кто это. Он почти ничего не видел. Серое облако налезло на глаза. — Ты вернулся, Андрей… Пора, Андрей… Сейчас конец. Я видел, как они двинулись. Я ясно видел, как они двинулись… Раз они двигаются, значит — это атака. Мы выдержали до конца. Теперь конец. Вот и все. Прощай, Андрей. Сегодня мы третий раз прощаемся с тобой. Теперь конец… Я знал, что ты сделаешь все… Они все равно не пройдут, Андрей… Взрывай мост!.. — Несите его осторожней, — сказал полковник.
РАССКАЗЫ
ЛЫЖНЫЙ СЛЕД
Нарушители задержаны в тылу на расстоянии пятидесяти километров от границы.Рапорт коменданта
Уже полдня бежали пограничники. След вел их через перелески и поля. Они подымались на холмы и пробегали ложбины, занесенные снегом. В морозном тумане бледнело солнце. От холода потрескивали ветки. Лыжники обливались потом, мокрые рубашки липли к телу, стесняли движения, винтовки оттягивали плечи, подсумки вдруг сделались невероятно тяжелыми, а ремень все время лез наверх. Лыжники задыхались, широко раскрывая рты, глотали холодный воздух. Пятеро пограничников — тревожная группа — бежали с заставы по следу украинца и горца. Они бежали по той же лыжне. Все так же тянулась полосочка следа, и только по частым точкам от палок видно было, что здесь прошло несколько человек. Горец остановился. Молча расстегнул ремень, сбросил винтовку и стал снимать гимнастерку. Гимнастерка стаскивалась трудно. Запутавшись головой и руками, он нетерпеливо топтался на месте. Украинец сначала удивленно смотрел на товарища. Потом спокойно прислонил винтовку к дереву и тоже разделся до пояса. Разгоряченное тело сразу ожгло холодом. Лыжникам стало легче. Они взбежали на пригорок. Низкое красное солнце вылезло из тумана. Небо стало сиреневым, снег порозовел и ослепительно заискрился. Ели на опушке сделались совсем черными, и только верхушки вспыхнули в косых красных лучах… Прошел еще час. Теперь пограничники бежали очень медленно. Нажимать больше не было сил. Они уже потеряли представление о том, какое расстояние прошли от границы. Бежали совершенно машинально. В висках стучало. Ноги стали подгибаться. А след был все такой же ясный. В одном месте пограничники нашли на снегу окурок. Им показалось, что папироса еще теплая. Но людей не было видно. Когда уже стало темнеть, горец лег в снег. Он лег лицом вниз, нелепо раскинув руки. Снег подтаял под ним. Пар поднимался над его спиной. Украинец один пошел дальше и, выйдя из леса, увидел двоих людей. Они шли медленно. Часто оглядывались назад. Пограничник стал на колено, снял винтовку и выстрелил. Враги залегли и ответили залпом из маузеров. Тогда украинец поднялся и пошел к ним, стреляя на ходу. Увидев, что он один, нарушители отползли друг от друга. Теперь ему приходилось поворачиваться из стороны в сторону, а в него стреляли с флангов. От усталости руки дрожали. Он видел, как прыгает мушка, старался целиться возможно тщательнее, но ничего не мог поделать с руками и мазал. Нарушители снова соединились, поднялись и стали медленно уходить, изредка отстреливаясь. Украинец кусал губы. Вдруг полуголый лыжник выскочил из леса и пробежал мимо него, снимая на ходу винтовку. Горец бежал все скорее и скорее, боясь упасть, боясь остановиться, и все-таки не удержался, споткнулся и повалился в снег. Несколько секунд он лежал неподвижно. Потом поднял голову, приложил винтовку к плечу, раздвинул ноги. Затаив дыхание, стиснув зубы, повел стволом справа налево. Когда мушка, отчетливо черневшая, совпала с маленькой человеческой фигуркой, он дожал спуск. Выстрел встряхнул его. Человек упал. Не глядя на него, горец перезарядил винтовку и прицелился во второго. Снова треснул выстрел. Горец опустил голову. Он не видел, как нарушитель вскинул руками и упал рядом с первым. Стало тихо в лесу. Украинец подошел к товарищу и опустился рядом с ним. Они немного посидели неподвижно. Потом медленно поднялись и пошли к нарушителям. Горец стрелял хорошо: один был мертв, второй, раненный, стонал, лежа на спине. Пограничники подняли обоих, взвалили себе на спины и вынесли на дорогу. Дорога вела к комендатуре.
В последних лучах заходящего солнца на гребне холма показались пять человек. Пять лыжников в остроконечных шлемах летели навстречу измученным пограничникам. По снегу за ними бежали длинные фиолетовые тени. Тревожная группа догнала украинца и горца.
1934
НАЧАЛЬНИК ЛОСЬ
Лес начинался сразу за заставой. Ветер усилился. Деревья скрипели. Иногда с треском ломались ветви. Тропинка извивалась в густом кустарнике. Начальник натыкался на узловатые корни. Мокрые листья хлестали его по лицу. Ноги вязли в глинистой земле. Чем дальше уходил он в лес, тем становилось темнее. Прямая просека, кое-где поросшая молодым сосняком, разделяла две страны. Начальник вышел на линию границы. В просвете между деревьями стало видно мрачное небо. Низко неслись облака, по временам открывая бледную луну. Странное освещение так преображало все в лесу, что начальник с трудом узнавал хорошо знакомые места. Он шел медленно по краю просеки. Старался держаться как можно ближе к деревьям, где было темнее всего. Один раз кряжистый пень показался ему человеком, присевшим на корточки. Начальник схватился за наган и, только подойдя вплотную к пню, заметил свою ошибку. Он улыбнулся и, покачав головой, спрятал револьвер. Но кобуры не застегнул. Начальник уже семь лет на севере. Шахтер из Донбасса, он молодым призывником был прислан на границу и после двух лет службы остался на сверхсрочную. Он возмужал и окреп в лесу. Он привык к лесной жизни и полюбил трудную работу. Он знал каждый кустик на своем участке, каждого человека в редких окрестных деревнях. Нет таких зарослей, в которых не побывал бы начальник. В отряде его прозвали Лосем. Зимой на лыжах, а летом пешком Лось пробирался напрямик через бурелом и болота, проваливаясь грузным телом в снежные сугробы или ломая кусты и отмахиваясь от комаров. Он научился неслышной звериной повадкой проходить по тропинкам и прятаться так, чтобы с двух шагов нельзя было обнаружить засаду. Он стал снайпером. У перекрестка троп Лось спрятался за толстым деревом. Он стоял совершенно неподвижно, вслушиваясь в шум леса и напряженно вглядываясь в темноту. Время тянулось томительно медленно. От неудобного положения затекли ноги, тужурка намокла под дождем, холодная вода текла за воротник, руки закоченели. Очень хотелось курить. Лосю казалось, что ночь давно уже должна бы кончиться, но все так же было темно, все так же выл ветер и скрипели деревья. Он хотел уже возвращаться на заставу, когда заметил что-то темное, мелькнувшее на просеке. Вынув наган и взведя курок, Лось долго вглядывался в темноту, но больше ничего не видел. Он решил, что снова ошибся. Вдруг совсем близко, на повороте тропинки, показался человек. Лось затаил дыхание. Человек шел прямо на него, осторожно раздвигая низко нависавшие ветки. Лось стоял так близко от тропинки и так хорошо видел этого человека, что, казалось, тот обязательно должен был заметить засаду. Лось хотел поднять наган, но боялся, шевельнувшись, выдать себя. Он следил за каждым движением человека, готовый в любой момент первым напасть на него. Разошлись облака, и в зеленоватом свете луны Лось совершенно ясно разглядел обтрепанную куртку серого домотканого сукна, сдвинутую набок шапочку и глуповатое рябое лицо, поросшее реденькой бородкой. Проходя совсем рядом с Лосем, человек поежился от холода и потер замерзшие, красные руки. С вылезшего меха его шапки по шершавому лицу сбегали тонкие струйки воды. Сапоги скользили в размытой земле. Он споткнулся о поваленное дерево, тихо выругался и равнодушно вздохнул. Лось пропустил человека. Лось понял, что это хитрость: нанятый за большие деньги передовой переходит границу, чтобы проверить, свободен ли путь. Он мало рискует — у него нет никаких документов, он ничего не знает. Но сзади идет настоящий нарушитель, и если бы дозор задержал проводника, нарушитель, услышав тревогу, успел бы бежать. Лось не ошибся. На просеке снова мелькнула тень, и на повороте тропинки показался второй человек. Он шел большими шагами, слегка наклонясь вперед. Согнув руку в локте, он держал наготове маузер со взведенным курком. Облака закрыли луну. Стало еще темнее, и нарушитель двигался смутным силуэтом. Лосю вдруг стало жарко. Горячей потной ладонью он крепче сжал рукоятку нагана. Нарушитель прошел мимо, легко перескочив через дерево, о которое раньше споткнулся передовой.
Дальше все произошло необычайно просто. Лось вышел из засады и пошел за нарушителем. Ветер так громко выл вверху и так скрипели деревья, что нарушитель не мог услышать легких, осторожных шагов за своей спиной. Лось догнал его и шел совсем близко. Он шел в ногу и ступал точно в те места, куда ступал нарушитель. Дождь равномерно шумел. Скрипели сосны. Выл вверху ветер. Лось увеличивал шаг. Нарушитель оглянулся. Лось метнулся в кусты. Нарушитель осмотрелся, постоял, прислушиваясь, и пошел дальше… Между ними снова было большое расстояние. Но Лось опять подкрался вплотную к нарушителю. Так вышли они на маленькую лужайку. За черной фигурой нарушителя, будто в странном танце, повторяя все его движения, шла черная фигура Лося. Тучи разошлись, и в свете луны длинные тени заплясали по голубоватому мху. На середине лужайки Лось два раза шагнул шире нарушителя и поднял наган в уровень с головой врага. Почти натыкаясь на его спину, он приставил дуло к виску нарушителя и, нагнувшись к самому его уху, коротко шепнул: «Стой!..» Нарушитель вскрикнул, выпустил из рук маузер и шатнулся в сторону. Но Лось держал наган на уровне его лица. «Руки вверх!..» Они шли по лесу. Впереди нарушитель с поднятыми руками, сзади Лось с наганом. Мерно шумел дождь. Нарушитель сидел на заставе, в комнате начальника. Он без сапог, в нижнем белье. В полуоткрытых дверях прохаживался дежурный пограничник. Под окном стоял часовой с винтовкой. В углу комнаты, на полу, лежал передовой. Он пытался бежать, и его связали. Начальник Лось сидел за столом и писал рапорт в отряд. Нарушитель пил чай из жестяной кружки. Обжигаясь и морщась, он говорил с легким акцентом. Он рассказывал, что специально приучил себя не бояться окрика. Если бы пограничник громко окликнул его, он наверняка изрешетил бы его из своего маузера. И что значит наган против такой прекрасной «пушки»? Но когда ночью в лесу он вдруг почувствовал над самым ухом горячее дыхание, когда вместо привычного окрика он услыхал спокойный шепот, — он растерялся. И это, конечно, большое счастье для начальника заставы… Начальник Лось улыбался, не переставая писать и не подымая головы.
1934
ШПИОН
В другой раз его поймали. На допросе в тюрьме он сказал, что он — «знаменитый Миркин». Ночью он бежал, разломав решетку и выпрыгнув в снег с третьего этажа. В следующий раз Миркин встретился с советскими пограничниками зимой, через год после побега из тюрьмы. Миркин увидал пограничный дозор в лесу, километрах в двух от границы. Он бросился в сторону. В густых зарослях снег рыхлый. Лыжи проваливались, цеплялись за ветки и корни деревьев. Бежать быстро было невозможно. Миркин услышал сигнальный выстрел. Пограничник гнался по следу. Через несколько минут подоспела помощь с заставы. Пограничники бежали молча, но Миркин чувствовал, как стягивается кольцо вокруг него. Пробегая краем лужайки, Миркин увидел проводника с собакой. Собака тянула к лесу, проводник едва поспевал за ней. Миркину стало страшно. Молчаливые, дьявольски умные, свирепые, как волки, пограничные собаки — это единственное на свете, чего по-настоящему боялся Миркин. Он знал, как трудно обмануть собаку, если она идет по следу. Знал, как трудно убить собаку, если она догоняет стремительными неровными прыжками. Знал, как страшно, когда собака, догнав, без единого звука прыгает на спину. Собака шла прямо на Миркина. Спрятавшись за деревьями, он видел, как зверь скалит зубы, кусает на бегу снег. Миркин снова резко повернул в сторону. Теперь он уходил только от собаки. Он выскочил из леса на крутой горе. Пограничники настигали его. Но уже была видна граница — неглубокий овраг и изгородь внизу, у подножия горы. Миркин не оглядываясь, низко согнувшись, летел вниз. Он слышал выстрелы за своей спиной. Пули взрывали снег у его ног. Никогда еще Миркин не бежал на лыжах так хорошо. Он не чувствовал усталости. Финишем лежала перед ним граница. Вдруг сбоку, из-за деревьев, серым клубочком выкатилась собака, и резкий голос прокричал страшную команду: — Фас![52] Миркин оглянулся. Ему показалось, что он стоит на месте, — так быстро приближалась собака. На середине горы, уже у самой границы, торчал из-под снега сенной сарайчик. Бревенчатая постройка, площадью не больше восьми метров. У входа снег был разрыт, тяжелая деревянная дверь стояла приоткрытой. Очевидно, недавно из сарая брали сено. Миркин с разгону вскочил в сарай и, захлопнув дверь, привалился к ней изнутри. Через несколько секунд на дверь налетела собака. Она рычала, прыгала и царапалась. В сарае было темно. Пахло сеном. В щели между бревнами едва просачивался свет. Миркин припер дверь какой-то корягой и, отойдя в глубь сарая, вынул маузер. Он слышал, как к сараю подбежали пограничники. Проводник успокаивал собаку. Потом кто-то подошел к двери. На просветах легла человеческая тень. Дверь задрожала от толчка. Миркин выстрелил. Человек отскочил в сторону. Снаружи ответили залпом из винтовок. Пули застревали в сене. Миркину предложили сдаться. Говорил, очевидно, начальник. Миркин ответил, что два заряженных маузера позволят ему сначала уложить не меньше шести человек, а потом застрелиться самому. Стреляет он неплохо. Пуль хватит. Начальник сказал, что тогда его возьмут измором. Он сам посадил себя в тюрьму. Пограничники стоят тесным кольцом вокруг сарая, и уйти невозможно. Скоро стемнело. Пограничники ежились от холода, топтались на месте. Разговаривать никому не хотелось. Винтовки держали наготове. Изредка начальник монотонным голосом повторял предложение сдаться. Миркин отвечал спокойно. Мороз усилился. Облака заволокли небо, и стало еще темнее. Собака начала скулить, коротко подвывая. Она замерзла, и проводник увел ее на заставу. Вдруг сугроб на крыше сарая провалился внутрь. Миркин незаметно разобрал солому и неожиданно выскочил на крышу с лыжами на ногах. Странный черный силуэт какую-то долю секунды стоял неподвижно на фоне темного неба, крестом раскинув руки с лыжными палками. Потом Миркин прыгнул вниз, через головы пограничников. Лыжи громыхнули. Присев на одно колено, Миркин крутнулся на снегу и понесся под гору. Первым выстрелил начальник пограничников. Сразу за треском нагана залпом ударили винтовки. Пограничники стреляли не целясь, «на вскидку». Так бьют птицу влет. Миркин сжался, низко присев на лыжах. В темноте его почти не было видно. Не сбавляя хода, он перескочил овраг, вторым прыжком перемахнул через изгородь и скрылся в темнеющем за границей лесу. Он снова ушел, но пуля начальника пограничников засела у него в правой лопатке. Может быть, если бы начальник знал это, он легко перенес бы обиду и стыд. То, что Миркин ушел почти из самых рук, было ужасно. Это бросало тень на репутацию всей заставы, мешало победить соседние заставы в соревновании («Ни одного нарушения границы», — говорилось в договоре). Начальник заставы не мог простить своей оплошности. Хотя все доказывали, что Миркин ушел случайно, почти чудом, начальник винил только себя. Ему начинало казаться, будто пограничники не относятся к нему с прежним уважением. Единственно возможным способом реабилитироваться было — самому поймать «неуловимого Миркина». Начальник Лось служил на границе уже несколько лет. Его считали одним из лучших начальников застав в отряде. Через несколько дней он должен был покинуть север, чтобы ехать в город, в военную школу. Это была давнишняя мечта Лося. Каждую весну он посылал рапорты и заявления, но его не отпускали. Наконец в этом году пришло приказание приготовить заставу к сдаче новому начальнику и собираться в школу. Все давно уже было готово. Чемоданы уложены. На стене висел календарь, на котором Лось отмечал дни до отъезда. В отряде знали о его мечте и были очень удивлены, когда был получен рапорт Лося с просьбой отменить приказ о командировании его в школу и оставить на прежнем месте. Начальник отряда вызвал его для объяснений. Он приехал как на парад — верхом, в полном боевом снаряжении. Затянутый в ремни, он прошел по канцелярии штаба, гремя шашкой и звеня шпорами. С начальником отряда он говорил не больше пяти минут. Стоя навытяжку, руки по швам, он слово в слово повторил свой письменный рапорт, еще раз подчеркнув просьбу оставить его на границе. Начотряда понял, что никаких объяснений ему не добиться, но он был рад оставить у себя хорошего, боевого командира. Лось щегольски откозырял, повернулся на каблуках и снова прогрохотал по комнатам. Ни с кем не разговаривая, он сел на лошадь и ускакал на свою заставу.
______
Полгода охотился начальник Лось за Миркиным. В школу послали помкоменданта, а Лося назначили на его место. Потом заболел и демобилизовался комендант. Лось стал комендантом. Он хорошо справлялся с новой работой, но никогда не забывал о Миркине. Стаяли снега. Пришла весна с дождями, бурями и распутицей. По размытым дорогам нельзя было проехать даже верхом. Лось пешком ходил по участку. Забрызганный грязью, в огромных болотных сапогах, он приходил на отдельные заставы. Ночи напролет просиживал в засадах, бродил по самым глухим зарослям, надеясь встретить своего врага. Летом на границе спокойнее. В тихие белые ночи, когда светло как днем, перейти границу очень трудно. Но Лось не переставал искать Миркина. Больше всего он боялся, что Миркина поймают без него. Кончилось лето. В лесу, как костры на фоне черной хвои, засверкали красным и оранжевым листья кленов и берез. Короче стали дни. Темными ночами хлестал дождь. Ветер ломал деревья. Начальник Лось, похудевший, с бронзовым от солнца и ветра лицом, без устали носился по своей комендатуре. Не жалея себя, он метался с фланга на фланг. В самую скверную погоду выходил на самые трудные участки. Он в совершенстве изучил лес. Как зверь, неслышно крался по тропинкам. Мягкой рысьей походкой проходил в кустарниках. Требовательный до педантичности по отношению к другим, он сам был лучшим образцом для пограничников.В начале осени, в сильную бурю, Лось вышел на участок. Казалось, бешеный ветер разнесет все в лесу. Скрипели старые стволы, обросшие лишаями и мхом. Ветер неистово свистел вверху. Внизу шуршали сухие листья. Часто падали сломанные деревья. В такие ночи не спят пограничники. Лось дошел почти до самой линии границы. Он оставил трех пограничников в засаде, подле тропинки, а сам пошел, прячась в кустах, вдоль границы. Начался дождь. Крупные капли дробно трещали по листьям. Низко согнувшись, Лось полз в кустах. Стало так темно, что он едва мог разглядеть свою вытянутую вперед руку. Он не узнавал мест, по которым пробирался, пока не наткнулся на изгородь. Изгородь шла по пограничной просеке. Лось крался дальше, удаляясь от тропинки. Просека становилась все уже и уже. Густые кустарники и частые стволы сосен подходили вплотную к границе. Ничего не видя, Лось двигался наугад. Длинная молния разорвала черное небо. В зеленом свете Лось вдруг увидел, что он на лужайке, в десяти саженях от границы. Прямо против него, пригнувшись к земле, стоит человек. Стоит так близко, что, если бы не молния, они столкнулись бы в темноте. От неожиданности оба на секунду замерли неподвижно. Молния погасла. Лось прыгнул вперед и сшибся с нарушителем. Враг был гораздо больше и сильнее его. Лось чувствовал, как левой рукой нарушитель тянулся к его горлу, Он изо всех сил ударил противника в грудь, и оба, ломая кусты, покатились по земле. Они вязли в намокшем мху, раздирали одежду о корни деревьев. Лось чувствовал на своей щеке горячее дыхание, он слышал, как человек скрипнул зубами. Ему показалось, что победа за ним. Но враг достал его горло. Лось начал задыхаться. Он крикнул. Ему казалось, что крик должен быть очень громким. Но короткое слово «стой!» прозвучало как сдавленный хрип. Лось терял сознание. Все-таки он успел ударить нарушителя кулаком по голове. Удар пришелся в висок. Враг откатился в сторону и вскочил на ноги. Лось лежал неподвижно. Небо слегка просветлело, и огромный смутный силуэт нарушителя показался Лосю странно знакомым. Нарушитель пятился к лесу, держа в вытянутой руке револьвер. Он не хотел стрелять. Боялся, что где-нибудь близко пограничники. Выстрел поднял бы тревогу. Кроме того, он был уверен в своей силе: пограничник, полузадушенный, хрипел, вдавленный в мох. Потом Лось сам удивлялся той быстроте, с какой удалось ему выхватить маузер, вскинуть руку и нацелиться в нарушителя. Последним усилием воли он напряг все мышцы, затаил дыхание. Как пулемет, маузер выбросил десять пуль и щелкнул, пустой. Нарушитель упал, не вскрикнув. Лось поднялся и, шатаясь как пьяный, подошел к врагу. Десять пуль пробили его навылет от левого плеча наискось до пояса, но он был еще жив. Лось нагнулся над ним. Страшное лицо было смертельно бледно. Левый вытекший глаз был сощурен, будто человек целился. Конный пограничник прискакал утром в штаб отряда. Он привез начальнику два рапорта от коменданта Лося. В первом комендант доносил, что при попытке перейти границу убит нарушитель, «оказавшийся неким Миркиным». Во втором рапорте Лось просил начальника отряда командировать его в военную школу.
ПОСТ НОМЕР ДЕВЯТЬ
На посту № 9 десять красноармейцев, начальник поста и начальник отряда со своим шофером. Всего тринадцать человек. Начальник отряда приехал утром. Высокого роста, худой и сгорбленный, с лицом, сожженным солнцем, он был неразговорчив и мрачен. Его мучила малярия. Страшные скачки температуры, ледяной озноб после смертельного жара. То он расстегивал ворот гимнастерки, и пот сплошной пеленой покрывал тело, то зябко кутался в мохнатую бурку, а зубы лихорадочно стучали. Начальник отряда сам обошел весь участок. Басмачи идут к посту № 9. Другого им нет пути. Широкая, быстрая река переходима только у поста № 9, где узкий ручей, соединяясь с главным руслом, нанес песок и камни. Река здесь делает поворот, течение немного медленнее, и глубина меньше. От поста до этого места не больше трех километров, но, пока начальник отряда дошел до брода, ему приходилось раз десять присаживаться на камнях. Какие-то мутные круги и пятна танцевали перед глазами, кружились в надоедливом ритме. Монотонный звон стоял в ушах. Начальник стискивал зубы, мелкие песчинки скрипели на зубах. Загорелая кожа натягивалась на острых скулах. Очень хотелось лечь, укрыться буркой до самого подбородка и зажмурить глаза. Казалось, будто если лежать совсем не двигаясь, утихнет пляска пятен перед глазами, смолкнет звон в ушах. Но начальник подымался и, правда, слегка пошатываясь, упрямо шел по участку. На пост № 9 должен был прибыть из города кавалерийский отряд. По плану давно уже отряд должен был быть здесь. Но разве можно точно рассчитывать в этих проклятых местах. А на посту № 9 одиннадцать человек, да еще шофер… Двенадцать… Да он сам — начальник. Всего тринадцать бойцов. Плохое число тринадцать. Мальчишка кочевник, который прискакал на загнанной лошади и донес пограничникам о басмачах, говорил, что сам Ибрагим-бек едет впереди банды. Если бы не опаздывал отряд! Летя ночью на машине к посту № 9, начальник продумал план во всех деталях. Двумя эскадронами еще днем перейти реку и, отойдя к юго-востоку, закрыть Ибрагим-беку отступление; остальным укрыться за сопками у брода; дать возможность половине басмачей перейти реку, и тогда ударить в лоб, сбросить Ибрагим-бека обратно, двумя эскадронами зажать его с тыла — и кончено. Но вся стратегия ничему не может помочь. Лошади не могут мчаться со скоростью автомобиля. Отряда нет. Уже солнце низко опустилось к горизонту. Через какие-нибудь три часа стемнеет, и Ибрагим-бек перейдет реку. Начальник вернулся на пост. Он прошел в комнату начальника поста. Через тонкую перегородку слышен неистовый охриплый голос: «Алло! Алло! Отряд…» и звон полевого телефона. Уже пять часов безуспешно пытались связаться с городом. Начальник поста встал навстречу. — Разрешите доложить, товарищ начальник отряда, — сказал он, — с городом наладить связь не удалось, очевидно перерезан провод. Отряд не прибыл. Какие будут ваши приказания? «Итак, Ибрагим-бек, против тебя тринадцать человек». — Приказываю участок поста № 9 защищать.
Начальник расставил засады. Весь свой гарнизон он разделил на шесть «отрядов», по два человека в каждом, и разместил на сопках. Ночь, черная безлунная южная ночь распростерлась над пустыней. Начальник погасил лампу и в совершенном мраке вышел из дома. Приступ малярии прошел. Начальник слушал тишину пустыни. А темнота сгущалась все больше и больше. Казалось, уже не может быть темнее, но проходило несколько секунд — и темные силуэты сопок становились еще более черными, и черное небо обнимало землю. Начальник вынеспулемет, вставил диск и лег на землю. Земля была прохладная, чуть сырая. Начальник понимал, как бессмысленна оборона поста против пятисот всадников. В страшной этой темноте бессильны пулемет и винтовки тринадцати храбрецов. Начальник уже полгода охотился за Ибрагим-беком. Лежа у пулемета, начальник думал о том, что враг снова ушел от него, и от досады обгрыз ногти на левой руке. Пустыня взорвалась громом выстрелов, где-то совсем близко завизжали басмачи, призывая аллаха, и сверкнул огонь. Начальник повернул пулемет в эту сторону и расстрелял весь диск в черное пространство. Когда пулемет кончил стрелять, стало совсем тихо. Начальник сел и вытер вспотевшее лицо. Прошло минут пять. Вдруг издалека, со стороны брода, раздались подряд два взрыва и частым горохом затрещали винтовки. Потом снова все смолкло, и до утра уже ничто не нарушало тишины. Только шакалы выли и дрались где-то совсем близко в сопках. Желтое солнце вылезло из-за сопок. Пограничники сходились на заставу. Они докладывали начальнику отряда. Одному из бойцов шальная пуля попала в ногу. Он ковылял, хромая и опираясь на винтовку. Доложив начальнику, он тут же сел на землю и стал стаскивать полный крови сапог. Начальник отряда кутался в бурку. Его снова лихорадило. Все говорили одно и то же: в полной темноте они услышали, как началась стрельба, как пели басмачи свою молитву, как топотали кони. Они все стреляли, но не знали, кто первый начал перестрелку и попадали ли их пули в цель. Измученные бессонной ночью, бойцы молча стояли перед начальником. Он чувствовал, что нужно ободрить их, сказать им что-нибудь. Но никакие слова не складывались у него в голове. Опять пятна заплясали перед глазами и зазвенело в ушах. Стараясь сосредоточиться, начальник машинально сосчитал бойцов. Вдруг он выпрямился и шагнул вперед. — Вас десять. Где еще двое? — сказал он громко. Заговорил начальник поста: — Нет Маркова и Корнеева. Они были в самой отдаленной засаде, в засаде у брода, товарищ начальник, — сказал он. Тревожась за товарищей, пограничники вышли за ворота и увидели на сопках двоих людей, спешивших к заставе. Люди приближались очень быстро, и скоро все узнали красноармейцев Маркова и Корнеева. Марков, коренастый, крепкий и очень сильный человек, был старослужащим. Два года он провел на посту № 9. Лучший стрелок на заставе, боец, отличный во всех отношениях, он с трогательной заботливостью относился к молодому Корнееву. Корнеев, тоненький, стройный блондин, всего три месяца тому назад был призван в Красную Армию. На пост № 9 его прислали совсем недавно, и многое еще казалось ему очень трудным. Пески сопок были так непохожи на сады Киевщины, откуда Корнеев был родом. Корнеев был комсомольцем, как и Марков. Ячейка поручила Маркову помогать молодому бойцу. В опасную засаду у брода послали вместе с опытным Марковым Корнеева. Марков и Корнеев никогда не расставались. За последний месяц они подружились, и дружба их была такой крепкой и самоотверженной, какая может быть только у двух юношей, во всем помогающих друг другу, живущих вместе и работающих в тяжелых условиях почти непрерывного боя. Вся застава очень любила обоих друзей. Поэтому всем стало веселее, когда Марков и Корнеев, совершенно здоровые, запыхавшиеся и возбужденные, подбежали к посту и, тяжело дыша, вытянулись перед начальником отряда. Начальник приказал рассказывать обо всем подробно. — Разрешите доложить, товарищ начальник отряда, — начал Марков. — Еще засветло мы с товарищем Корнеевым дошли до брода и, согласно вашему приказу, расположились, укрывшись за вершиной сопки. В двадцать один час стемнело. С местоположения засады нам был виден довольно обширный участок сопок и реки. Сверху и пост мы видели, но когда совсем стемнело, поста видно не стало. Лежали мы молча, не курили, не производили никакого шума. Около часов двадцати четырех товарищ Корнеев подползает ко мне вплотную. Я его сначала поместил несколько южнее, метрах в десяти от себя, за камнями. Там горкой камни навалены. В случае стрельбы это прикрытие понадежнее. А сам я в песке прорыл некоторое углубление и лег в нем. Значит, подползает товарищ Корнеев ко мне и шепчет прямо в ухо: «Который час?» Только я, конечно, вижу, что просто парню одному лежать тяжело стало. Оно и верно: ночь, не видать ни зги, шакал воет, — жутко. В этом месте рассказа Корнеев смущенно потупился, и тонкое загорелое лицо его залил мучительный румянец. Марков искоса взглянул на товарища и нахмурился. — Я, товарищ начальник, привычнее Корнеева, — продолжал он, — но скажу прямо — был рад, что Корнеев лег рядом. Вдвоем с товарищем не так все кажется. А то — пустыня большая, ночь… словом, конечно, жутковато. Я шепнул товарищу Корнееву про время, что, наверно, уже часа двадцать четыре, и опять мы лежим молча. Тихо очень было, товарищ начальник, и я только слышал, как товарищ Корнеев дышит сбоку от меня. Наверное, час пролежали мы так. Товарищ Корнеев опять к моему уху тянется и шепчет, что слышу ли я, мол, топот в пустыне. А я уже давно топот слышал и только молчал — пусть сам заметит. Я говорю товарищу Корнееву — это, мол, кавалерия. Большое соединение кавалерии передвигается в сторону брода. Тут товарищ Корнеев хватает винтовку и шепчет, что — давай, мол, будем стрелять. Я ему говорю: только попробуй, мол! Я тебе выстрелю! Потом разъяснил ему боевую задачу: огонь надо открывать, только когда противник достигнет реки и голова отряда переправится на наш берег. Засада расположена в таком месте, что миновать ее противнику невозможно, так как мы, согласно вашему приказу, сидели над самым бродом. Товарищ Корнеев, конечно, понял и начал ждать моей команды. А противник приближается быстро, судя по топоту. Потом мы уже увидали большой отряд, который остановился на том берегу реки. Хотя и очень было темно, но сверху песок выглядит белым, а всякий предмет выделяется темным. Противник соблюдал все меры предосторожности, и нам было даже удивительно, товарищ начальник, как могла такая масса всадников сохранять такую тишину. Потом от основных сил противника отделился небольшой отряд человек в двадцать. Они въехали в реку и стали переправляться. Товарищ Корнеев тут снова заторопился стрелять. Я даже схватил рукой его винтовку. Вижу, парня лихорадка колотит. Я уже не стал объяснять ему, товарищ начальник, что это только разведка, а нам надо дождаться, пока станет переправляться главный отряд. Я только отвел рукой винтовку товарища Корнеева и шепнул ему, чтобы он ждал команды, а то худо будет. Разведчики противника перешли реку и проехали под нами в сторону поста. Там они, конечно, наткнулись на наших. Мы слышали перестрелку, шум, и тут весь отряд басмачей кидается в воду и идет на наш берег. И в третий раз хватается товарищ Корнеев за винтовку. Я на него только смотрю и, простите, товарищ начальник, ругаюсь тихо, одними губами. Ну, он, конечно, не стреляет. Я вижу, парень ужас как волнуется, но жду. Согласно вашему приказу нам были выданы две гранаты, и я отложил винтовку, а гранаты положил рядом. И вот, когда голова противника начала подыматься на наш берег, я приготовился бросать. Оглянулся на товарища Корнеева. Он стоит на колене, винтовка у плеча, губы закусил, дрожит сам, а не стреляет, и смотрит на меня не отрываясь. Тогда я кинул гранату вниз, в самую середину отряда противника, и крикнул: «Залп!» Тут товарищ Корнеев наконец начал стрелять. Я не видел, как разорвалась первая граната, так как торопился кинуть вторую. Потом, кинув вторую гранату, взял свою винтовку, и мы с товарищем Корнеевым расстреляли все патроны. Противник открыл по нам огонь, но безуспешно. Потом все стихло, а мы, расстреляв все патроны, не решались выглядывать и до зари пролежали на сопке. А как поднялось солнце, прибежали на пост. Вот и все, товарищ начальник. Очень нам смешно стало, как я от волнения товарищу Корнееву командовал «залп» из одной винтовки. Марков кончил. Начальник отряда пожал ему и Корнееву руки и поблагодарил. «Оказывается, вот они какие, — думал начальник, — молодые бойцы, не видавшие войны…» В своей машине начальник поехал к броду. Марков и Корнеев сопровождали машину верхом, и шофер ехал медленно, чтобы лошади не отставали. Оставив машину наверху, начальник отряда спустился к реке. На берегу лежало с дюжину конских трупов и семь мертвецов в цветных халатах. Один убитый застрял на камнях с краю отмели. Возможно, что еще многих унесло течением. Копыта пятисот коней пропахали в песке широкий след. Около сопки, где сидели Марков и Корнеев, след этот делал огромную петлю длиной в километр. Пятьсот лучших джигитов Ибрагим-бека скакали километр в сторону от двух советских пограничников. А сам Ибрагим-бек так и не принес благодарности аллаху за разрушение плотины. Утром, немного отойдя от поста № 9, банда встретила кавалерийский отряд. Уходить обратно через пост № 9 Ибрагим-бек боялся, так как после боя у переправы басмачи думали, что на посту сосредоточены большие силы. Ибрагим-бек решил попробовать прорваться. Красные отбили атаку, ударили сразу с обоих флангов, смяли басмачей и рассеяли по долине. Под Ибрагим-беком убили коня и самого его, раненного в руку, захватили в плен. Бой кончился. Несколько дней спустя, когда Ибрагим-бека привезли в город, чтобы судить, начальник отряда рассказал ему о том, что на посту № 9 было всего тринадцать человек, а в засаде у брода всего двое. Ибрагим-бек ничего не сказал тогда начальнику. Но ночью в своей камере он плакал от злобы, мучаясь бессильной яростью. Маркова и Корнеева вызвали в Москву. Их наградили орденами Красного Знамени. Поездка в Москву длилась целый месяц. Потом Марков и Корнеев вернулись на пост № 9.
1935
ДОКТОР
1936
РАПОРТ КОМАНДИРА ГОЛОВИНА
1
Серое море, серое небо, серый туман. Гребни волн еле видны только у самых бортов. Самих волн не видно, но глаз угадывает водяные горы, неуклюже вздымающиеся и проваливающиеся вниз в монотонном, надоедливом ритме. В этом же ритме сильно качается катер. Часто нос зарывается, и на палубу из тумана обваливается вода. Ветер громко поет в снастях, и шум моторов не может заглушить его визгливую песню. Катер идет быстро, но скорость хода не чувствуется. Скорость хода не с чем сравнивать: вокруг однообразное серое пространство. И так бурлят, пляшут волны, свистит мимо ушей ветер, что иногда кажется, будто катер неподвижен, а мимо него бешено несется море. На мостике командир катера — Андрей Андреевич Головин. Поверх бушлата он одет в брезентовый плащ, и оттого, что намокший плащ стоит колом, вся фигура Головина кажется неуклюжим деревянным обрубком. Когда катер зарывается носом, вода ударяет в мостик и хлещет Головина по лицу. Ледяные струйки неизвестно каким образом пробираются за воротник и колючими каплями сбегают по спине. На ногах Головина болотные сапоги. Левый сапог протекает. Вчера Головин поставил сапоги сушиться около печки, думал — ненадолго, и уснул. Сапог прогорел сбоку около подошвы. Теперь в дырку проникает вода. Левая нога совершенно закоченела. Головин пробует разогреть ее. Он непрерывно шевелит пальцами. Ничего не помогает. Нога замерзла окончательно, в сапоге вода. Головин думает о том, что если он не простудится в эту мерзкую погоду, то ревматизм разыграется наверное. Ему кажется, будто уже начинает ломить бедро и ноют колени. Головин проклинает море, туман, катер, тяжелую службу и все на свете. Нагнувшись и слегка распахнув плащ, он достает часы. Два часа ночи. Головин минуту соображает. В этом месте на берегу, скрытый туманом, возвышается маяк. Красный свет мигалки не может пробить серого мрака. Но Головин безошибочным чутьем угадал маяк. Он сердитым шепотом говорит в трубку приказание: — Лево руля! — Есть лево руля, — голос рулевого спокоен и весел. — Так держать, — бурчит Головин и почему-то сердится на рулевого за эту веселость. — Есть так держать, — еще веселее отвечает трубка. Головин снова застывает неподвижно, крепко держась обеими руками за релинги. Катер повернул, волна стала ударять в скулу и еще чаще окатывает палубу. Головин устало закрыл глаза. Тридцать три года плавает он на этом море. Как хороших знакомых, знает он каждый кусочек берега, каждый знак или маяк, каждую мель или фарватер. Многие не считают его море за настоящее, называют «лужей» и другими презрительными названиями. И верно — у дачных мест море мелкое, нет пышных, картинных прибоев, до глубокого места надо идти чуть ли не полчаса, очень неудобно купаться. Большие пароходы, начиная или кончая этим морем свое далекое плавание, проходят его быстро и незаметно. Море не радует туристов красивыми берегами или хорошей погодой. Унылый дождик, туман и низкие, унылые отмели. Но Головин-то знает, что стоит эта «лужа», когда на маленьком легком катере в любую погоду, в ветер и снег, нужно пройти по участку, заскочить в капризные, несудоходные бухты. Он знает, что стоит туман, когда не видно ни маяков, ни знаков на берегу, а нужно не только провести свой катер, но и не дать проскочить никому другому. По морю проходит граница. Границу на море трудно представить как нечто реальное. «Воображаемая линия», пересекающая море. А море одинаковое всюду, — вода, вода, вода… Нужно знать море, как знает Головин, чтобы эта «воображаемая линия» превратилась в ощутимую, ясно видную границу. Как в лесу — от этого куста до того дерева, от того дерева до канавы и так далее, — Головин идет по своему морю. От поворота течения до отмели, от отмели до старого буйка, от буйка до траверза крохотного возвышения на берегу и так далее. Тридцать три года — все-таки немало времени. Мальчишкой Головин ходил коком, юнгой и матросом на деревянных шаландах — плавучих гробах. С шаланд перешел на тральщики, потом на военные корабли. Много стоила красота кораблей, ослепительное сияние медяшки и бравая, ни с чем не сравнимая выправка матроса флота его величества. От этих времен у Головина остались — манера ходить выпятив грудь колесом, манера отдавать команду с громогласной лихостью, жесткие усы, желтые от табака, и тайное пристрастие к чарке. Потом была революция, и Головин снова плавал на шаландах — пловучих гробах — и на старых разбитых тральщиках. Только теперь на шаландах и тральщиках стояли пулеметы и пушки, и они считались сторожевыми военными судами. И Головин был не матросом, а командовал этими кораблями. Кончилась война. Головин остался на своем море. Он ходил на первых катерах пограничной охраны. Это были парусно-моторные суденышки, и шхуны контрабандистов легко обгоняли их. Потом выстроили новые, быстроходные, похожие на серых щук катера, и Головин стал командиром пограничного катера номер сто. Как-то незаметно пришла старость. Виски Головина поседели. Очень не хотелось сдаваться. Головин обрил волосы. Кожа на черепе загорела, стала коричневой. Зимой и летом голова блестела чисто выбритым шаром. Усы были такими желтыми, что им не угрожала седина. Теперь Головина часто мучил старый ревматизм. Болела поясница, ныли локти и колени. Андрей Андреевич начал брюзжать, стал обидчивым. Молодые краснофлотцы, сосунки и мальчишки, которых он «оморячивал», учил морскому делу, называли его «стариком». Головин знал о своем прозвище, и ему было грустно. Очень не хотелось сдаваться. Конечно, в любой момент он мог перейти на более спокойную службу. В торговый флот. Или на большой корабль. Но Головин любил именно эту изнурительную, тяжелую работу. Вся жизнь для него была в том, чтобы выйти в море в любую погоду, пройти в любую бухточку с погашенными огнями, чертом выскочить из темноты, вдруг ослепить прожектором зазевавшегося чужого рыбака или отчаянным ходом догнать контрабандиста, срезать ему нос и увести за собой шхуну с перепуганным экипажем и со своими часовыми на борту. Молодых краснофлотцев, приходивших на его катер, Головин учил строго и был требователен, но они лучше всех умели работать и своего командира любили настоящей, хорошей любовью. И Андрей Андреевич любил день изо дня следить, как желторотые мальчишки, неуклюжие, неумелые, пришедшие из самых различных мест, занимавшиеся до армии самыми различными занятиями, превращаются в крепкий боевой коллектив, становятся ловкими, умелыми моряками. Головин знал, что для них первым и самым настоящим образцом служит он, командир и учитель. И поэтому он, стоя на мостике, так лихо командовал, что становилось весело всей команде; поэтому, проделывая сложный маневр, заставляя катер поворачиваться и менять скорости, он так щеголял своим виртуозным умением, что, казалось, катер оживает, превращается в дрессированное животное; поэтому в шторм он спокойно и равнодушно подставлял лицо ледяным брызгам, хотя был мокрым до пят и ныли ноги, поясница и локти. И в этом тоже была жизнь командира Головина. Андрей Андреевич гордился своими воспитанниками. Изредка он получал письма от Шурки Иванова. Шесть лет тому назад Шурка плавал матросом на его катере, а теперь командир на подлодке в Черном море. Прошлым летом на дачном пляже, недалеко от гавани, где стояли пограничные катера, Головина окликнул совершенно голый, загорелый и стройный мужчина, в котором с трудом можно было узнать Колю Яковлева, матроса, пришедшего на год позже Шурки. Оказалось, что Коля теперь курсант Высшей военно-морской школы. Когда Коля одевался, Андрей Андреевич увидел командирские нашивки на рукаве его кителя. Андрей Андреевич носил столько же золотых полосок, и ему стало чуть-чуть обидно, но Коля сделал вид, будто ничего не замечает, и так почтительно называл Головина «товарищем командиром», что Андрей Андреевич заулыбался и засиял. Совсем недавно пришла посылка от Игнатия Коваленко. В посылке была пачка пахучего голландского табака и прямая трубка. Теперь всякий раз, доставая из кармана голубой с золотом бумажный мешочек с табаком и закуривая ароматную трубку, Головин говорит как бы невзначай: — Хороший табачок голландский присылает мне Коваленко. Он у меня был мотористом в тридцатом году, а потом на «Родине»… Много хороших моряков помнят «старика» Головина, много хороших моряков воспитал командир Головин. Но сейчас, стоя с закрытыми глазами на мостике, Головин думает не об этом. Он ругает море, туман, катер, свою службу и все на свете. — Товарищ командир! — Головин открыл глаза. Дозорный в блестящем и мокром плаще стоит у борта. Его заливает водой. — Огни справа по носу… — Дозорный показывает рукой вперед, в туманное пространство. Головин сощурился, приложив бинокль к глазам, напряженно смотрит по направлению руки дозорного. Действительно, низко над водой, еле заметно сквозь туман брезжит огонек. Маяка здесь быть не может. Минуту Головин молчит. — Судно справа по носу, товарищ, — говорит он, нагибаясь к дозорному. — Есть судно справа по носу, — бесстрастно отвечает дозорный и уходит на бак. — Право на борт, — командует Головин и переводит обе ручки машинного телеграфа со среднего хода на полный вперед. Телеграф звякает в ответ, громче взвывают моторы, катер вздрагивает, ныряет носом и, подымая огромную волну за кормой, устремляется к огням, мерцающим в тумане. Огни быстро приближаются, становятся ярче. Теперь уже виден смутный силуэт небольшого судна, прыгающего на волнах. — Вахтенный! — гремит Головин. — К прожектору! Через минуту вспыхивает белый луч. Прожектор упирается в туман, свет тает, поглощенный серым облаком. В ту же секунду на судне впереди тухнут огни. — Врешь, — бормочет Головин. Он забыл о ревматизме, простуде, о всех своих невзгодах. Его бьет охотничья лихорадка. — Право руля, — кричит он в трубку. — Вахтенный! Убрать прожектор! К пулемету! — и снова в трубку: — Так держать. Суденышко впереди неистово пляшет на волнах. Головин снимает крышку со второй трубки. Его голос рычит в машинное отделение: — Самый полный! Поднажмите, товарищ Янов! Ревут моторы. Расстояние между катером и судном быстро уменьшается. В руках Головина рупор. Тускло поблескивающую никелированную трубку он прикладывает ко рту. Громовой голос покрывает вой ветра и грохот моторов. — На баркасе! Приказываю остановиться… Катер Головина проходит вдоль борта пойманного судна. На палубе, возле неуклюжей рубки, стоит человек в кожаной зюйдвестке и клеенчатом плаще. Он растерянно смотрит и почему-то молча подымает руки вверх. Головин сбавляет ход, разворачивает катер и подходит к баркасу. Когда катер уже почти пристал к борту, баркас сильно накренило волной и бросило на катер. Еще секунда — и грубые доски обшивки баркаса сломали бы легкие релинги, смяли бы борт катера. И краснофлотцы Головина и иностранцы на задержанном судне растерялись. Но Головин одним прыжком бросился с мостика к борту и ногой удержал баркас. Красное лицо Головина стало багровым от напряжения. Когда вторая волна ударила в баркас, он вскрикнул и упал на палубу. Теперь краснофлотцы успели оттолкнуться. Катер отошел на безопасное расстояние. Все это произошло очень быстро — в течение не более десятка секунд. Головин неподвижно лежал на палубе. Из кармана его бушлата выпали часы и трубка. Вахтенный и дозорный подбежали к командиру и подняли его. Волна ударила в борт и обдала их с ног до головы холодной водой. Трубку и часы смыло волной. Правая нога Головина болталась беспомощно. Очевидно, было очень больно. Андрей Андреевич кусал губы, стонал и тихо ругался.2
В госпитале у Андрея Андреевича сразу оказалась масса незанятого времени. Это было непривычно. Сломанная нога в тяжелом, неуклюжем лубке неподвижно лежала в постели. И Андрей Андреевич должен был лежать неподвижно. На еду и сон уходило, в общей сложности, десять часов. Кроме того, Андрей Андреевич внимательно прочитывал несколько газет. Это занимало еще два часа. Двенадцать. Все остальное время Головин думал. Мысли были тяжелые, однообразные и нерадостные. В чистой солнечной палате, лежа на белоснежных простынях, окруженный заботливым уходом, Андрей Андреевич злился и тосковал. Его кормили нежной и питательной пищей. Сиделки спешили исполнять все его желания. Андрей Андреевич не замечал, что со всеми больными обращаются одинаково. Ему казалось, что его поместили сюда потому, что он старый, никому не нужный. За всю свою жизнь Головин никогда не болел. Перелом оказался серьезным, и ходить было никак невозможно, но Головину казалось, что забинтовали его нарочно, нарочно положили в «эту богадельню» и что, если бы не считали его стариком, не возились бы с ним, как с маленьким. Даже курить не дают. Иногда Головин вспоминал о своем катере. Как раз теперь проходят инспекторские смотры… Но мысли обо всем, связанном с катером, Андрей Андреевич гнал от себя. Ему казалось, что его забыли, бросили и что никто не хочет, чтобы он вернулся на свое старое место. С каждым днем пребывания в госпитале он мрачнел все больше и больше. Уже ему казалось, что и перелом ноги был никому не нужным, никчемным и нелепым. Сосед по койке, молодой краснофлотец с эсминца, несколько раз рассказывал Головину о жене и дочке. Рассказывал всегдаодно и то же. Смущаясь и краснея, вытаскивал из-под подушки карточку. Молодая женщина в платье очень красивом, как показалось Головину, и с приятным, открытым лицом держала на коленях толстую, смешную девочку. Головин вяло восхищался женой и дочкой краснофлотца. Он думал, что самому ему уже поздно жениться. Кто пойдет за старую, никому не нужную развалину? А если бы женился молодым, сейчас мог бы быть сын вроде этого мальчишки с эсминца. Андрея Андреевича никто не навещал. Он знал, что идут инспекторские смотры и все страшно заняты, но почему-то было приятно думать о том, что его все забыли, что он никому не нужен. Однажды неожиданно приехал начальник отряда. Он просидел минут десять, все время говорил о прекрасных качествах Головина как командира — воспитателя молодых бойцов — и туманно намекал на какие-то радостные новости, которые ожидают Андрея Андреевича после госпиталя. Дружески простившись и пожелав скорейшего выздоровления, он ушел. Весь вечер Головин пролежал в самом мрачном настроении. Он решил, что начальник своим разговором подготовляет его к переводу на берег. Наверное, на какие-нибудь курсы. Пора, мол, старику на покой. Вот и расписал про командира-воспитателя, про радостные новости. Думает — обрадуется старик тепленькому местечку. Так нет же! Не бывать этому! Ночью Головин не спал, а думал. Решение сложилось к утру. После завтрака Андрей Андреевич подозвал сиделку и попросил бумаги, перо и чернила. До обеда он писал, старательно выводя круглые большие буквы, зачеркивая написанное, рвал листки и начинал снова. Наконец, усталый и злой, кончил. Получилось несколько размашистых строчек.Командира катера номер сто Головина Андрея Андреевича. Начальнику отрядаБумажку Головин аккуратно сложил и попросил сиделку спрятать в карман кителя.Рапорт
Прошу отчислить меня в долгосрочный отпуск по причине преклонного возраста (рожд. 1882 года) и болезни. Для продолжения курса лечения мне необходимо демобилизоваться непосредственно после освобождения из госпиталя.
3
В солнечный, холодный по-осеннему день Андрей Андреевич вышел из госпиталя. Он слегка прихрамывал. Краснофлотец с эсминца выстругал ему палку. Белое, ровное дерево удобно лежало в руке. Госпиталь был в военном городке на острове. Головин шел к пристани. На морозном воздухе дышалось легко. Андрей Андреевич вспомнил о том, что с госпиталем кончился запрет на курение. Сунул руку в карман бушлата, нашел пачку с голландским табаком. Но вспомнил о потере трубки, и сразу пропало хорошее настроение. Еще и часы. Хорошие были, хоть и старинные и не особенно шикарные с виду. Подходя к пристани, Головин еще издали услышал гудки пароходика, отходившего на берег. Головин заторопился, забыв о ноге, попробовал побежать, но через пять шагов остановился и даже тихонько застонал от боли. Пароходик отваливал от пристани, а Головин, проклиная все на свете, ковылял к мосткам. — Товарищ командир! Товарищ Головин! — Знакомый веселый голос окликнул его откуда-то снизу. Это был рулевой Захарченко. Он стоял на сходнях к мосткам. Веселый голос разозлил Головина еще больше. Еле сдерживаясь и не оглядываясь, буркнул что-то неопределенное и пошел дальше. — Куда же вы, товарищ командир? — крикнул Захарченко. Тогда Головин обернулся и увидел свой катер. Серый красавец, чистенький, убранный по-праздничному, покачивался в стороне, у края мостков. — Мы за вами пришли, товарищ командир, — болтал Захарченко, начальник отряда послал. Мы знали, что вас сегодня выпускают. А инспекторские смотры… — Захарченко забежал сбоку и протянул руку, чтобы поддержать Головина и помочь спуститься по наклонным сходням. С растопыренными круглыми руками он был похож на человека, бережно несущего драгоценный, легко бьющийся сосуд. Головин обиделся. Ему показалось, что Захарченко смеется над ним. — Я сам могу ходить. Оставьте руки, — отрезал он. Захарченко опустил руки, растерянно заморгал и молча поплелся сзади. Когда Головин подошел к катеру, вахтенный так лихо отрапортовал ему, что Андрей Андреевич не мог не обрадоваться, даже несмотря на свое мрачное настроение. Но, проходя по палубе, он услышал, как механик шепнул радисту: — Наш старик притопал. Андрей Андреевич не понял нежно-добродушной интонации, с какой это было сказано, и снова нахмурился. «Еще не знают, что я не буду у них командиром», — подумал он. Не подымаясь на мостик, Головин прислонился к рубке. Катер вел старшина Денисов, старательный и способный парень. Головин знал, что Денисов считает его, своего командира, идеалом настоящего моряка. Но опять было приятно представлять себя несчастным и обиженным. «Выслужился. В командиры лезет. Выскочка!» — подумал Головин о Денисове, и самому стало стыдно этих мыслей. Сердито застучав палкой, прошел на корму. Катер вошел в гавань и аккуратно пришвартовался. На высокой стенке стояли начальник отряда, помполит, инструктор из Управления и секретарь партбюро. Головин поднялся на стенку. Денисов, Захарченко и другие краснофлотцы вышли за ним. Начальник отряда протянул ему руку. Поздоровавшись с начальником, сумрачный Головин расстегнул бушлат и в кармане кителя нащупал бумажку, написанную в госпитале. — Поздравляю, товарищ Головин, — сказал начальник, и все обступили Андрея Андреевича. «О чем это он?» — с беспокойством подумал Головин. — Поздравляю с превосходными результатами, с прекрасной работой, с настоящим успехом. Головин совсем растерялся. — Вместе со мной, — продолжал начальник, — вас поздравляет весь отряд и вот, — он кивнул на инструктора, — и Управление поздравляет: ваш катер, ваш экипаж, вот эти ваши воспитанники, вышли в инспекторских смотрах на первое место по округу. По округу, товарищ Головин! Лучшие ударники, ваши краснофлотцы, все сфотографированы со знаменем отряда. А вас, товарищ командир, Управление награждает вот этой штукой. — Начальник полез в карман и положил на ладонь Головина серебряные часы. На крышке была выгравирована надпись. Андрей Андреевич, счастливый, сияющий и смущенный, не смог прочитать, что там написано. Наверное, от волнения буквы расплывались. Едва разобрал свое имя в начале надписи: «Андрею…» Сунул часы в карман. Заикаясь и почему-то хрипя, сказал: — Спасибо… Спасибо вам… — и замолчал, тяжело дыша. Все поздравляли его, рассказывали подробности. Он видел лица людей как через пелену тумана и едва понимал слова. Не зная, куда девать руки, сунул их в карман, достал табак. Рассеянно шарил, отыскивая трубку. Потом нащупал руками какую-то бумагу, оторвал кусок от нее и свернул толстую, кривую цыгарку. Закурил и закашлялся. Пробурчал добродушно: «Вот, черт, бумага толстая», и, стряхивая пепел, прочел на цыгарке «Р а п о р т». «Т» уже сгорело. Тогда Андрей Андреевич скомкал в кармане остаток бумаги и незаметно выбросил. Ветер подхватил бумажку, взмыл ее кверху и шлепнул в воду. Хлестнула волна, покрыла пеной серый листок и, закружив его, понесла в море. Море было серое, под серым, осенним небом.ЧОК
Чок, черная кавказская овчарка, был собакой Павла Сизых. В детстве Чок был необычайно добродушным и веселым. Он рос очень быстро и был значительно крупнее своих сверстников. С возрастом он становился все злее и злее. Когда ему исполнилось полтора года, Павел Сизых кончил учить его. Чок должен был начинать работать. Теперь это был огромный, кудлатый и мрачный пес. Ростом с теленка, он был страшно свиреп и силен. Он ненавидел всех людей, кроме своего хозяина. Зато Пашку Чок слушался беспрекословно. Вольер Чока находился в отдаленном углу двора питомника, и когда Павел выводил гулять своего черного зверя, плац питомника пустел мгновенно. Все собаки — нервные, вспыльчивые доберманы, хитрые эрдельтерьеры, смелые овчарки — все поджимали хвосты и опасливо сторонились страшного Чока. Только один пес, очень похожий на матерого волка и ростом и цветом шерсти, сильный и храбрый боец, не боялся Чока. Это был знаменитый Юкон Второй — лучшая розыскная собака питомника. Между Юконом и Чоком установились отношения, напоминающие вооруженный нейтралитет. Встречаясь на плацу, оба делали вид, будто совершенно не замечают друг друга, но оба были все время настороже, в любой момент готовые сцепиться в смертельной схватке. Воспитав Чока, Павел остался на сверхсрочную службу. Со своим псом он охранял военные склады, большие заводы и фабрики. Чок превосходно работал. Он получил призы на двух выставках и, после нескольких задержаний, прославился вместе со своим проводником. Все было прекрасно, но этой весной Пашка Сизых решил уволиться в долгосрочный отпуск. Он написал уже рапорт начальнику питомника, но, колеблясь и мучаясь в нерешительности, еще не подал его. Колосову Пашка сказал о своем решении. Впервые друзья по-настоящему поссорились.
В городе, на окраине которого находился питомник, был ветеринарный техникум. Училась в техникуме и зимой работала на практике в питомнике Таня Кузьмина. Через неделю после того, как Таня в первый раз пришла в питомник, и Колосов и Сизых — оба считали, что Таня самая умная, самая красивая и самая лучшая девушка на свете. Оба всеми силами старались добиться Таниной любви. Но это нисколько не нарушило их дружбы. Наступила весна. Таня уехала в город. Ни Колосов, ни Пашка не сказали ей ни слова о своих чувствах. Пашка никак не мог набраться смелости для этого разговора, а Колосов решил, что Таня отдала предпочтение его красивому, рослому другу, и старался забыть о своих мечтах. Скоро все в питомнике были совершенно уверены в том, что Пашка женится на Тане. На днях Кузьмина должна была кончить техникум. К этому времени Пашка решил уволиться в долгосрочный отпуск и заняться семьей. Больше всего Пашка боялся разговора с Таней. Но общая уверенность в его удаче передалась и ему. Он не знал ничего определенного, но чувствовал, что как-то все должно устроиться, все должно быть хорошо. Неожиданной помехой оказался Чок. Огромный пес не желал не только слушаться, но даже подпускать близко к себе кого бы то ни было, кроме Пашки. Несколько попыток приучить его к другому проводнику окончились полной неудачей. Когда один смельчак попробовал подействовать на Чока силой и ударил его, Чок пришел в неистовую ярость. Он кинулся на проводника, повалил на землю и, если бы не Пашка, оттащивший и успокоивший страшного пса, неудачливому смельчаку пришлось бы плохо. Больше никто не решался даже пытаться приучить к себе Чока, и поэтому-то уход Пашки стоял в непосредственной связи с судьбой Чока — лучшей собакой питомника. На плацу Колосов и Сизых встретили начальника питомника. — Товарищ Сизых, — сказал начальник, — отведите Чока в угловой вольер. Там ждет его невеста. Мы повяжем его с Норой. Щенки должны быть чемпионами. Чок лежал в своем вольере. Огромное его тело занимало всю ширину загородки. Мохнатый хвост плотно прижимался к решетке. Вытянув толстые лапы и положив на них тяжелую голову, Чок, казалось, спал. Но когда люди подошли к вольеру, из-под нависших космами со лба волос сверкнул маленький черный глаз. Увидев Пашку, Чок вскочил, замахал хвостом и, прыгая передними лапами на решетку, отчего дрожали толстые доски перегородки, громко, отрывисто завизжал. Пес то подымался во весь рост, то прижимался животом к земле. Он вилял хвостом с такой силой, что задние лапы сдвигались с места и все грузное тело моталось из стороны в сторону. Но Павел не подошел к вольеру. Он остался стоять в стороне, а Колосов шагнул к дверце загородки и взялся за ручку. Чок попятился назад и стал неподвижно, опустив голову и широко расставив лапы. Колосов принес с собой несколько кусков вареного мяса. Было время кормежки, Чок был голоден, и вкусный запах мяса дразнил его. Колосов разом впрыгнул в вольер и захлопнул за собой дверцу. Он не спускал глаз с Чока. Чок немного удивился храбрости этого маленького человека. Обычно, когда не хозяин, а чужие люди пытались зайти к нему, они сначала долго говорили с ним через решетку. Говорили то ласково, то повелительно, но всегда в голосе их Чок слышал скрытый страх. Потом некоторые из них робко входили в вольер, но стоило Чоку слегка зарычать, как люди уже не могли скрыть своего ужаса перед ним и позорно отступали. Чок помнил случай, когда один такой новичок ударил его. Ударил робко, небольно и слабо, но Чок хорошо проучил обидчика. Почему-то вмешался хозяин, и человек, в общем, отделался несерьезными царапинами. Этот, маленький и кривоногий, вел себя совсем не так, как другие. Он не издал ни звука. Слегка согнувшись и внимательно глядя прямо в глаза Чока, он левой рукой протягивал мясо. В правой держал плетку. Чок зарычал. Ни один мускул не дрогнул в напряженном теле человека. Собаке трудно смотреть человеку в глаза. Чок не мог больше выдержать. Он замотал головой и попятился еще дальше. Человек сделал осторожный шаг. Чок щелкнул зубами и огромным прыжком кинулся на смельчака. Как пружина, стремительно выпрямился человек, плетка со свистом прорезала воздух, и страшная боль от удара по морде остановила Чока. Пес лязгнул зубами, тяжело оседая на задние ноги. Человек бросил ему в нос кусок мяса. Обмазав жиром раскрытую пасть Чока, мясо упало у его ног. — Возьми! — коротко приказал человек. Голос его был отрывистый, тонкий, и ноток обычного страха не услышал в нем Чок. Рыча и снова опуская морду, Чок втянул в себя воздух. Как замечательно пахнет мясо! — Возьми! — повторил человек. Чок колебался. — Чок, возьми! — издали крикнул Пашка. Чок удивленно поднял уши. Пашка сам учил его ничего не брать ни у кого, кроме хозяина, а теперь так хорошо знакомый голос приказывал взять мясо от чужого. Чок понюхал мясо еще раз, медленно взял кусок и осторожно съел. Маленький человек шагнул еще ближе. Чок снова ощерился и попытался схватить ногу человека, но нога молниеносно отскочила в сторону, зубы пса щелкнули в воздухе, а сильный удар снова ожег морду Чока. Снова сразу за ударом последовал кусок мяса и короткое приказание: «Возьми!» Так повторилось четыре раза. Теперь Чок сразу брал мясо. — Довольно на сегодня, — сказал Пашка, подходя к двери вольера. Незнакомый человек повернулся спиной к Чоку и медленно пошел к выходу. Чок видел, как удобно было бы прыгнуть ему на спину и зубами сжать его шею. Но почему-то он не сделал этого. Переступая передними лапами на месте, он искоса посмотрел вслед человеку. Колосов вышел из вольера, закрыл на задвижку дверцу и устало улыбнулся. — Может быть, мне сделаться укротителем тигров? — сказал он.
Через два дня Павел был с Чоком на охране большого склада. Длинные одинаковые корпуса пакгаузов серыми силуэтами едва выделялись на фоне черного неба. Низкие облака неслись по небу, изредка в рваных просветах брезжил мягким светом острый и тонкий полумесяц. Тишина была такая, что каждый самый острый и тонкий звук казался необычайно громким и резким. Где-то в кустах за высокой каменной изгородью свистела птица, и незатейливая песенка звенела и переливалась, без конца повторяя одну и ту же трель. Чок бесшумно бежал вдоль изгороди. Он был один на огромном пространстве складов. Дежурные и Сизых сидели в маленьком домике караульного помещения. Чок уже третий раз обегал вокруг. Он понимал всю ответственность, возложенную на него, и был настороже. Но ни один подозрительный звук, ни один посторонний запах не был замечен им за все время. Вдруг Чок остановился, с разлету присев на задние лапы. Большой кусок мяса лежал перед ним. Когда несколько минут тому назад Чок пробегал здесь, никакого мяса не было. Чок хорошо это помнил. Кусок был большой, жирный, с замечательным запахом. Нельзя было его не заметить. Чок понюхал мясо. Ему очень захотелось попробовать его. Три дня подряд Колосов приучал Чока брать мясо у него, и Чок подзабыл правило о том, что можно есть только ту пищу, которую дает хозяин, Сизых. Рефлекс, выработанный дрессировкой, ослаб, притупился. Чок был голоден. Во рту сразу скопилась масса слюны. Слюна даже повисла тонкой струйкой на нижней губе. Чок отошел на несколько шагов и остановился в нерешительности. Он хотел уже бежать дальше, но вернулся и снова понюхал мясо. Соблазн был слишком велик. Чок лег на живот, зажал кусок передними лапами и начал есть. Половина мяса исчезла, когда Чоку послышался подозрительный шорох. Пес вскочил на ноги. Вдруг все поплыло перед его глазами, лапы задрожали и подогнулись, как от сильного удара. Чок рухнул на землю. Глаза подернулись туманом, во рту стало сухо и жарко. Горячим языком Чок облизал губы, сразу покрывшиеся пеной. Огромное мохнатое тело передернулось страшной судорогой. Чок хотел залаять, но из груди его вырвался только еле слышный жалобный стон. С невероятным трудом Чок протащился несколько шагов и, обессиленный, задыхающийся, лег неподвижно. Тяжелая голова безжизненно повисла, глаза закрылись. Если бы не отрывистое дыхание, с неровным храпом вырывающееся из его горла, можно было бы подумать, что пес издох. Несколько минут было совершенно тихо. Чок хрипел все слабее и слабее. На каменную изгородь снаружи взобрался человек. Сначала показались руки, уцепившиеся за кирпичи, и голова. Потом человек подтянулся, сильным броском вскинул свое тело наверх и легко стал на ноги. Согнувшись, он огляделся. На фоне посветлевшего неба его силуэт выделялся резко и отчетливо. Тихо и осторожно человек снова опустился на корточки и начал спускаться на территорию складов. Он свесил ноги, вытянулся на прямых руках, повисел недолго в таком положении и, не достав земли, прыгнул вниз. Песок громко хрустнул под его ногами. Это было единственным звуком, сопровождавшим его появление. Звук этот заставил вздрогнуть Чока. С мучительным трудом пес слегка приподнялся и открыл глаза. Как через мутную пелену он увидел знакомые линии пакгаузов, высокую изгородь и темное небо. Луна выглянула на несколько секунд. Синие тени пробежали по земле — от изгороди и пакгаузов. В неверном этом свете Чок увидел притаившегося человека. Сейчас же ноздри собаки уловили незнакомый, чужой запах. Чок поднялся. Большое его тело, дрожавшее, ослабевшее, напряглось в последнем усилии. Взлохмаченный, умирающий, невероятно огромный, пес выглядел так страшно при свете луны, что человек как зачарованный застыл на месте. Разинув пасть, покрытую пеной, с высунутым языком и горящими глазами, Чок пошел вперед. На короткий момент агония еще более увеличила его силу. Хрипя и задыхаясь, пес прыгнул на грудь человека, сшиб с ног и, роняя куски пены на его лицо, сжал зубы на его горле. Все произошло так быстро, что человек не успел даже крикнуть.
Павел нашел Чока через десять минут. Уже остывшее мертвое тело собаки лежало на трупе человека. Едва удалось разжать сведенные смертельной судорогой челюсти, почти совершенно перекусившие горло человека. Недоеденный кусок мяса, валявшийся неподалеку, был исследован и оказался отравленным страшным ядом. Павел вызвал караул, обыскал все вокруг. Ничего не было найдено. Потом Павел долго молча стоял над телом Чока. Слеза скатилась по его щеке. Только этого никто не видел.
Наутро о гибели Чока узнали в питомнике. Это событие всех настолько взволновало, что даже несколько нарушился обычный распорядок. Все утро Павел был занят рапортом и участием в расследовании. Днем он бросился искать Колосова, но Колосова в питомнике не было. Он уехал в город. В канцелярии, куда Колосов пришел за газетами, ему передали письмо. Он распечатал и прочел его на ходу. Скомкав листок, сунул его в карман и задумался. Задумался так сильно, что не заметил, как едва не наткнулся на начальника. Колосов попросил разрешения съездить в город. «В райком комсомола», — сказал он. Начальник разрешил, и Колосов бегом бросился к воротам. В письме было написано:
«Милый Колосов. Мне необходимо поговорить с тобой. Завтра я опять приеду в питомник. Теперь уже не на практику, а совсем на работу. Но мне необходимо поговорить с тобой до этого. Для меня это ужасно важно. Приезжай в город сегодня. Я буду ждать тебя в райкоме».И подпись: «Кузьмина». Колосов вернулся из города вечером, и первый, кого он встретил, был Пашка. Пашка, необычайно взволнованный, бросился к другу. Он заговорил, торопясь и сбиваясь. Колосов слушал молча. Пашка так волновался, что не заметил, какой странный, смущенный и растерянный вид у его друга. — Ты все поймешь. Тебе я должен рассказать все, все… — горячо говорил Пашка. — Когда ночью я нашел мертвого Чока, когда я понял, что произошло с мясом этим, с ядом, со смертью, — я увидел, понимаешь, я глазами увидел, как он боролся. Умирающий, отравленный, без сил, он боролся со своим врагом. Тот, наверное, боялся кричать. Боялся шумом привлечь караул. А Чок, наверное, не мог залаять. Ты помнишь, как лаял Чок? Умирающий Чок не мог залаять, но нашел в себе силы свалить и убить врага. Знаешь, мне кажется, что я видел, как Чок пошатываясь подходит к нему, слегка пригибается к земле и молча прыгает на грудь, и человек валится, и Чок достает его глотку. Знаешь, о чем я думал там, ночью? Мы с тобой виноваты в гибели Чока. Да, да. Я и ты виноваты в смерти замечательного пса. Разве когда-нибудь Чок взял бы это мясо, если бы не приучали его к тому, что не я один могу кормить его? Я, я один виноват в этом. Знаешь, я еще подумал: имею ли я право демобилизоваться? Могу ли я уйти сейчас? Тем более, Таня… — Таня? — резко перебил Пашку Колосов. — Она уже говорила тебе? Ты видел ее? Да? — Нет, не видел, ничего она мне не говорила, но я подумал, что я должен, понимаешь, должен воспитать питомнику такого же Чока. А Таня Кузьмина… Павел замолчал. — Ну? Что Таня Кузьмина? — нетерпеливо крикнул Колосов, хватая Пашку за руку. — А Таня Кузьмина, может быть, вовсе и не так уж любит меня, — твердо сказал Сизых. — Ты, Колосочек, никому не говори, пожалуйста, ничего. Рапорта начальнику я не подал и не подам. И с Таней говорить ни о чем не буду. Павел повернулся и пошел, понуро опустив голову. Колосов смотрел ему вслед. Потом он сорвался с места, двумя прыжками догнал Пашку и схватил его за плечи. Павел обернулся, и лицо его было почти спокойно. Колосов сказал ему очень тихо: — Это замечательно — все, что ты говорил мне, Пашка. И мы замечательно будем работать вместе. И Таня Кузьмина получила назначение в наш питомник. И я… Колосов задохнулся. — И что же еще? — слабо улыбнулся Пашка. — Ты, Пашка, прости меня, — совсем шепотом сказал Колосов, — прости, милый… Я женюсь на Тане Кузьминой…
Одного из щенков Норы назвали в честь отца Чоком. «Чок Второй» значилось в журналах питомника. Чок Второй рос очень быстро и был значительно крупнее своих ровесников. С возрастом он становился злее. Павел Сизых, прикомандированный к нему с рождения, учил и воспитывал его.
ВНУК ЦЕЗАРЯ
Глава первая РОЖДЕНИЕ
Серая сука Хильда ощенилась ночью. Уже четверо серых щенков копошились на соломенной подстилке, когда дежурный по питомнику вошел в комнату, где лежала Хильда. Увидев, что собака щенится, дежурный выскочил на двор и, придерживая кобуру нагана, понесся в дежурное помещение. Бешено вертя ручку полевого телефона, он вызвал квартиру начальника питомника. Хильда была лучшей собакой питомника, начальник очень волновался, благополучно ли она родит, и приказал, как только роды начнутся, немедленно доложить. Когда зазвонил телефон, начальник сразу проснулся и вскочил с постели. Выслушав торопливый рапорт дежурного, он сорвал с вешалки шинель и фуражку. Прямо на подштанники натянул сапоги. Спросонья никак не мог попасть левой ногой в голенище. Только выбежав на двор, он проснулся окончательно.Пока дежурный будил начальника, Хильда родила пятого щенка. Она с трудом поднялась на ноги, подтащила щенков в угол комнаты и легла, заслоняя их своим телом. Щенки были мокрые. Они тыкались слепыми мордочками друг в друга. Четверо были одинаковой светло-серой масти. Только последний, самый крупный, выделялся совершенно черной шкуркой. Хильда начала облизывать щенков. Черный прополз по головам и спинам своих братьев и сестер, дотянулся до матери и, найдя сосок, громко зачмокал. Рождение щенков Хильды было событием в жизни питомника пограничных собак, и в комнате собралось несколько красноармейцев. Они были дневальными и не спали. Один принес ведро с теплой водой, чтобы обмыть щенков, другой — чистое полотенце, чтобы щенков вытереть. Но до прихода начальника никто не подходил к Хильде. Когда начальник вошел в комнату, дежурный выступил вперед и, вытянувшись, отрапортовал: — Во время моего дежурства, в двадцать четыре часа сорок пять минут, я обнаружил, что начались роды у племенной немецкой овчарки — кличка «Хильда». Роды окончились в один час десять минут. Хильда родила пятерых щенков. Четыре серой масти. Один черной. Роды прошли благополучно. Начальник нетерпеливо косился на Хильду. Дежурный старался говорить как можно быстрее. Кончив, он взял под козырек. — Хорошо, — сказал начальник и подошел к Хильде. Хильда беспокойно повернула голову. Начальник нагнулся над ней. Он по очереди брал щенков на руки. Хильда не сводила с него глаз. В желтом свете дежурной лампочки пушистые, круглые тельца казались похожими на цыплят. Щенки тихонько повизгивали. Начальник собрал их в кучу. Щенки закопошились, полезли друг на друга. Начальник посмеивался, сидя на корточках. Шинель на его груди распахнулась, в полумраке белела рубашка. Черный щенок вылез наверх, опрокинув на спину одного из серых братьев. Он сопел от напряжения. Начальник высоко поднял победителя. Щенок беззубым ртом крепко ухватился за палец. — Чертенок, — сказал начальник. — Вы знаете, товарищи, так вот американские индейцы, где-нибудь на Юконе, выбирали сильнейшую собаку: который из новорожденных вылезет наверх, тот будет вожаком в упряжке. Черный щенок смешно ворчал. — Товарищ дежурный, этого так и назовем — Юкон. Начальник положил щенка обратно к Хильде и вышел. Внизу неба светлела зеленая полоска. Занималось туманное утро. Прогудел паровоз, товарный поезд прогремел по мосту. В вольерах потягивались, зевали собаки. Начинался день. Первый день черного щенка Юкона.
Глава вторая ВНУК ЦЕЗАРЯ
В Брюсселе живет старый комиссар полиции в отставке, господин Макс Орбан, великий знаток и любитель розыскных собак. Он славится в Бельгии и во всей Европе. Дипломами, аттестатами, медалями сплошь увешаны стены маленького дома комиссара. В бюваре из свиной кожи хранится кипа газетных вырезок — бесчисленные имена собак, бесконечные описания преступлений, раскрытых собаками из брюссельского питомника. Господин Макс Орбан — высокий, седой старик с выправкой настоящего военного — живет один. У него нет семьи, детей. Только собаки. Доберман-пинчеры, эрдельтерьеры, ротвейлеры и, главное, немецкие овчарки, знаменитые овчарки из брюссельского питомника. Каждое утро комиссар совершает прогулку по улицам Брюсселя с каким-нибудь из своих великолепных псов. Его знает весь город. Молчаливый и торжественный, комиссар прикладывает два пальца к козырьку старомодной фуражки, отвечая на приветствия. В питомнике Орбана от Норы (светло-серая сука, рост пятьдесят пять сантиметров, превосходный экстерьер, четыре золотых и две серебряных медали) и Гектора (огромный буро-серый кобель необычайной свирепости и выносливости, одна малая и одна большая золотые медали, замечательная работа по раскрытию сенсационного преступления в Антверпене) родился кобель Ганнибал. К зрелому возрасту он достиг роста в шестьдесят пять сантиметров. За выдающиеся качества удостоен медали по классу щенков на весенней выставке в Брюсселе. Ганнибал был повязан с Шелли (черная сука с ярко-коричневым подпалом, рост пятьдесят сантиметров, несколько мелкие, но изумительно изящные формы). Шелли родила четырех щенков. Трое — в отца, темно-серые, и один — черный, как мать. Черный щенок был записан в книги питомника под кличкой «Цезарь». Господин Орбан хорошо помнит рослого, широкогрудого щенка. Цезаря продали в Россию. Его погрузили на пароход вместе с какими-то машинами. Пароход попал в шторм, и Цезарь очень страдал от морской болезни. Всю дорогу он почти ничего не ел. Когда пароход пришел в Ленинград, Цезарь едва стоял на ногах. Его принял начальник питомника пограничных собак и на автомобиле отвез в питомник. Автомобиль качало почти так же, как пароход. Цезарь жалобно скулил. Первое время выглядел он очень плохо. Начальник сам ухаживал за ним. Но уже через четыре месяца стало ясно, что деньги на Цезаря затратили не зря. От Цезаря и лучшей собаки питомника Леды родилась Хильда. В питомник пограничных собак вернулся из Карелии воспитанник питомника кобель Волк. Замечательный розыскной пес, дважды занесенный в Книгу почета. Огромного роста, коренастый и приземистый, он был очень похож на настоящего волка. Бесстрашный и свирепый, он слушался только своего проводника. Волк был ровесником Хильды и стал ее мужем. Хильда родила пять щенков. Четырех серых и одного черного. Таково было генеалогическое дерево Юкона. Он был черный, как дед Цезарь.Глава третья ЩЕНКИ НАЧИНАЮТ ВИДЕТЬ
У щенков прорезались глаза. Они еще не видели как следует, все было подернуто легкой пеленой, предметы казались или слишком далекими или слишком близкими. Но все-таки они уже не были слепыми. Их занимал самый процесс видения. Когда из расплывчатого тумана возникали четкие формы вещей, щенкам обязательно хотелось проверить свои глаза — потрогать, покусать и понюхать. В поисках необычайных открытий они расползались по всей комнате. Черный щенок задрал голову и увидел окно. Собственно, заинтересовало его не окно, а небо. Голубой четырехугольник ярко выделялся, окруженный серыми и коричневыми цветами стен, потолка и пола. Черный щенок поднялся пошатываясь и пополз, стараясь не опускать головы. Он полз, чтобы узнать, как пахнет этот замечательный свет. Оказалось, что окно очень далеко. Пришлось остановиться, чтобы передохнуть. Кажется, он даже ненадолго задремал. Потом помешала мать. Хильда мягко взяла его зубами за загривок и притащила обратно в угол, где лежали остальные. Все усилия пропали даром. Но, как только Хильда заснула, черный щенок распихал серых, вылез наверх и упорно пополз к окну. Он ковылял и сопел от натуги. Смотрел не отрываясь наверх. Голубой свет слепил глаза. Щенок часто моргал и щурился. Он уже добрался до середины комнаты, когда какой-то темный предмет заслонил небо. Чтобы не наткнуться, щенок шлепнулся на живот и неуклюже растопырил лапы. Наклонив голову, он разглядывал препятствие и никак не мог понять, что это такое. Потрогал носом. Оказалось — твердое и холодное. Тогда щенок осторожно начал двигаться, обходя непонятный предмет. Он не смотрел больше на небо. Идти было неудобно, так как предмет был круглый и все время нужно было поворачиваться, а поворачиваясь, очень трудно устоять на ногах. Щенок падал, откатывался в сторону, подымался и ковылял дальше. Так он сделал несколько кругов, но ничего не понял. Он сел, наклонив голову и наморщив лоб. Потом попятился немного назад и посмотрел, положив голову на передние лапы. Полежал недолго и отполз еще подальше. Оказалось, что с этого расстояния он видит весь предмет. Это была большая железная миска с едой для Хильды. Вблизи нельзя было ничего понять, а стоило отойти — и все было видно прекрасно. Щенок повернулся боком к миске, прыгнул всеми четырьмя лапами в сторону, но не удержался и повалился набок. Лежа, долго еще глядел на миску. Теперь он уже понимал, какое расстояние между ним и ею. Так он учился смотреть.Глава четвертая БЕЗ ХИЛЬДЫ
Мать… Теплый бок, в который так хорошо уткнуться, засыпая, пушистый мех на животе, полные молока соски. Поджарая темная морда. Полузакрытые, будто сонные глаза внимательно следят за всеми движениями щенков. Голос — знакомый в каждой интонации, от добродушного ворчания, когда щенки расшалятся, до короткого (всего два-три раза) тревожного лая, когда люди заходят в их комнату. Влажный, шероховатый язык. Мать часто облизывала щенков с головы до кончика короткого хвоста. Великолепные зубы. Они совершенно не чувствовались, когда мать осторожно брала за загривок. При людях они сверкали в щучьем оскале. Когда сытые щенки спали, сбившись в тесную кучу, мать укладывалась в самую середину, стараясь не толкнуть ни одного из них и всех согреть. Голодные щенки расползались в разные стороны. Тогда мать собирала их около себя. Развалясь на боку, начинала кормить. Щенки урчали, переступали толстыми лапами по мягкому животу матери, толкались, махали обрубочками-хвостами. Мать следила, чтобы все ели одинаково. Обжору отбрасывала осторожным, но сильным ударом лапы. Щенки начинали возиться друг с другом. Мать лежала в углу и спокойно смотрела на них. Если щенки шалили слишком сильно, она рычала глухо и раскатисто. Это значило: «Довольно! Идите все ко мне». Некоторые бросались сразу, другие подходили медленно, делая вид, что они совершенно самостоятельны. Упрямых она подтаскивала, хватая зубами или сбивая лапой. Когда приходили люди, мать закрывала щенков своим телом. Самые смелые высовывались из-за пушистого прикрытия. Уставая лежать неподвижно, мать ходила по комнате. Щенки бегали за ней, прыгали, хватали за обвислый живот, некоторые семенили рядом, подражая походке матери. Голову и хвост старались держать так же, как мать. Щенки росли быстро. Вытягивались, крепли лапы. Укладывалась, начинала лосниться шерсть. Молока Хильды уже недостаточно. Щенков подкармливали коровьим молоком. Они научились есть из блюдца. Молоко теплое, чуть сладковатое. Они залезали в блюдце лапами. Морды и лапы белые. Молоко приносил начальник питомника. Щенки не различали людей. Все эти большие двуногие существа казались им одинаковыми. Но Хильда, очевидно, относилась к людям различно. Когда в комнату входил начальник (от него пахло молоком), Хильда не рычала, не прятала щенков, как от других людей. Наоборот: она махала хвостом, подымалась, потягиваясь, навстречу худому, нескладному человеку в шинели, радостно повизгивала и терлась об его сапоги. Начальник ставил блюдце посредине комнаты и, опустившись на корточки, разглядывал щенков, пока они ели. Хильда стояла тут же. Человек щекотал ее за ушами. Это очень приятно. Хильда сладострастно жмурилась. Начальник разговаривал с ней. С собаками он говорил совсем особенным, воркующим голосом. Наевшись, щенки начинали играть. Начальник дразнил их куском тряпки. Тряпку он приносил в кармане шинели. Щенки тихонько рычали, ухватив зубами конец тряпки, и злобно трясли головой. Начальник тихо смеялся. Особенно полюбил игру с тряпкой черный щенок. Он становился на задние лапы, запускал нос в карман шинели начальника и сам вытаскивал тряпку. Начальник уходил (обычно его вызывали по какому-нибудь делу), а черный щенок еще долго лаял возле двери. Однажды под вечер — уже темнело небо за окном — начальник вошел к Хильде вместе с дневальным по питомнику. На дневального Хильда зарычала, но начальник успокоил ее. Он нагнулся к ней, гладил по голове и что-то ласково говорил. Хильда совсем затихла. Начальник выпрямился и глубоко вздохнул. — Возьмите ее, — сказал он дневальному. Дневальный повел Хильду к выходу. В дверях собака остановилась и оглянулась назад. Щенки теребили шинель начальника. Хильда вильнула хвостом и выскочила в коридор. Потом дневальный вернулся один. Он взял на руки четырех серых щенков. Начальник поднял черного. Их пронесли по коридору на двор питомника. Начальник запахнул шинель. Щенок выглядывал у него из-за пазухи. Он увидел огромное небо и черную весеннюю землю с остатками талого снега. Свежий ветер острыми запахами ударил ему в нос. Пространство поразило его. Он испуганно зажмурился и спрятал голову. Начальник шел покачиваясь. В темноте щенку было тепло и уютно. Он задремал. Вдруг издалека донесся заглушенный вой. Протяжный, тоскливый крик прерывался дребезжащими истерическими визгами. Щенок выглянул, настороженно подняв уши. Солнце садилось, и нестерпимый красный свет резнул по глазам. Он снова услышал вой и узнал голос. Это мать. Это, наверное, она. Никогда Хильда так не выла, но ошибиться было невозможно: мать звала щенков. Черный забился, жалобно заскулил, заплакал. Он изо всех сил рвался к матери, кусаясь и царапаясь. Начальник закрыл его голову шинелью, крепче прижал и пошел очень быстро. Скоро вой затих.Щенков поместили в отдельной комнате маленького дома на краю двора. Им дали молока и жидкой кашицы. Черный ничего не ел. Он тосковал, не переставая скулил и дрожал от холода. Начальник унес его к себе домой. Он согрел его и заставил съесть немного каши. Ночью он положил его вместе с собой на постель. Во сне щенок повизгивал, но к утру успокоился. Начальник отнес его к остальным. Через несколько дней щенки совсем забыли Хильду. Они ее никогда больше не видели. Но черный щенок всю свою жизнь не мог спокойно смотреть на заходящее солнце. Непонятная тоска овладевала им. Хотелось выть, задирая морду по-волчьи.
Глава пятая ТАК РАЗГОВАРИВАЮТ ЩЕНКИ
Хвост поджат к животу. Щенок приседает на дрожащих задних лапах, горбатит спину и вбирает голову в плечи. Воет тихо, временами совсем замирает. От глухого стона вой доходит до дребезжащего фальцета. Это значит: «Кушать… Я голоден».Глава шестая ИМЯ
Снег давно стаял, и на дворе совсем тепло. Щенков перевели из домика в вольеры. Целыми днями они возились за загородкой или спали, греясь на солнце. Из-за решетки виден угол забора, немного травы, дерево с молодыми листьями и кусок неба. Это очень мало, но все-таки больше, чем в комнате. Огромный мир простирается по ту сторону забора. Черный щенок прижал нос к решетке и скосил глаза, стараясь увидеть как можно дальше. Он давно стоял так. Правый бок сильно напекло солнцем. Щенок очень вырос. Грудь его округлилась и выпятилась. Живот приобрел упругую подтянутость. Шерсть отросла и блестела, уши стояли прямо. Вытянувшаяся морда сделалась выразительной и подвижной. Он постепенно учился повадкам взрослой собаки. Иногда в его тоненький лай врывались раскатистые басовые ноты. Ему уже давали мясо. К решетке подошел начальник питомника. Щенок даже не повернул головы. Он заметил только, как тень человека перерезала яркую зелень травы. Щенок был голоден. Скоро дневальный должен был принести еду. Щенок знал это и ждал дневального. Начальник не интересовал его. Начальник приоткрыл дверцу решетки и сказал что-то. Вдруг щенок совершенно явственно почувствовал запах вареного мяса. Он повернул голову. Начальник протягивал ему кусок мяса, все время повторяя одно и то же слово: — Юкон, Юкон, Юкон, Юкон. Щенок нерешительно шагнул к нему. — Юкон… Юкон… Ко мне. Юкон… Голос у начальника ласковый. Щенок подошел и осторожно взял мясо. Когда он съел, начальник снова стал повторять «Юкон, Юкон», и щенок, подойдя, получил второй кусок. — Юкон… Юкон… Юкон… Несколько дней щенок очень часто слышал это слово. Сначала он поворачивал голову, подымал уши и принюхивался, прежде чем подойти. Но потом, услышав знакомое «Юкон», сразу бежал к начальнику. А скоро он забыл о том, что за словом «Юкон» должен получить мясо. Он понял, что его зовут Юконом. Когда люди говорили «Юкон» они говорили о нем. Так черный щенок узнал свое имя.Глава седьмая ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ
— Вы должны понять, товарищи… Что самое главное в вашей работе с собакой? Самое главное — научиться понимать, чувствовать собачью психологию, душу собаки. Конечно, пища, режим, уход за собакой — все это очень и очень серьезные вещи. Но решает успех уменье раскрыть те индивидуальные способности, которыми обладает вверенная вам собака. Изумительные таланты заложены в этих зверях. Страсти, сильнейшие страсти дремлют в них. Подобно героям классических трагедий, каждый подвержен целиком одной, все подчиняющей страсти. Злость или доброта, любовь или ненависть. Вы должны развить таланты, разбудить страсти. Вы должны овладеть волей собаки и заставить работать звериные инстинкты. Никогда не смейте ударить собаку зря. Страх очень плохое средство воздействия. Только если собака наверное знает свою вину, если ни тени обиды на вас не появится у нее, только тогда можете пустить в ход плеть. Но насколько лучше, насколько правильнее поступает дрессировщик, который никогда не пользуется физическим наказанием! Терпение — вот самое необходимое. Кропотливо, день за днем воспитывайте вашего питомца. Во всем однообразии надоедливого ухода за собакой научитесь видеть элементы интереснейшей, необычайно творческой работы. А как приятно, когда собака начинает слушаться вас. Когда она еще неуверенно, как бы все время сомневаясь, исполняет ваши приказания. Потом собака будет проделывать сложнейшие вещи. Потом вы будете гордиться вашей собакой. Вы привяжетесь к собаке, как к лучшему другу. Собака будет чувствовать все ваши настроения. Вдвоем вам ничего не будет казаться страшным. До последнего издыхания собака будет драться за вас, если это понадобится. За доброту и ласку собака отплатит вам такой преданностью, какая редко бывает у людей. И запомните раз навсегда; надо работать, целиком отдаваясь нашему делу. Пусть будут точно выполняться все правила, пусть все будет в полном порядке. Если в работе нет настоящего огня — вдохновения, как у художника, — я скажу, что нам не годится такой проводник. Хорошую собаку я от него отберу. Никогда не думайте, что все в обращении с собакой исчерпывается несложными ветеринарными правилами. Чем больше вы узнаете в теории, тем яснее будет, как нужно работать с собакой. Замечательная наука вам откроется неразрывно связанной с вашим практическим опытом. Ваша собака будет охранять границу. Изумительным обонянием поведет по невидимому следу. Молча будет прятаться в засаду. Стремительно догонять нарушителя. С волчьей яростью бросаться на горло врага. Ваша воля организует дикий инстинкт. Ваш разум постигнет законы психики зверя. Вот какая вам предстоит работа. Эту речь произнес начальник питомника. Молодые курсанты, будущие проводники, слушали его. Собакам начальник отдал всю свою жизнь. Он создал сложные собачьи родословные. Он воспитал и обучил десятки сторожевых розыскных собак. В лесах Карелии, в болотах Белоруссии, на пограничных заставах и кордонах работают его мохнатые воспитанники. Начальник все время следит за ними. Проводники присылают ему подробные письма. Он ведет сложные записи, тщательно отмечая все мельчайшие детали в жизни каждой собаки. Некоторые записи кончаются крестом и коротким описанием смерти. Начальник помнит всех. Сколько их — серых, бурых, черных… Среди них ленивые и прилежные, нервные и апатичные, смелые и трусливые… Среди них любимцы, с которыми так трудно расставаться. Собаки возвращаются в питомник. Начальник подбирает жен и мужей. Сплетаются, скрещиваются ветки родословных. Весной родятся щенки. Новые записи появляются в журналах питомника, и снова начинается медленное воспитание. Незаметная будничная работа питомника завершается на границе. Замечательные поступки собак и людей, изложенные языком рапорта, записаны в Книге почета. Начальник питомника в особый список заносит по алфавиту клички собак и имена проводников, награжденных за работу на границе. Он всегда живет в питомнике. Он увлечен работой и очень любит своих собак. Но иногда становится грустно. Иногда хочется самому пустить собаку, не на красноармейца, одетого в брезентовый тренировочный костюм и бегущего по плацу, а на нарушителя, пробирающегося по лесу. Начальник без устали работает, вникает во все мелочи. По вечерам, когда все, кроме дежурных и дневальных, спят, он садится в своей комнате за рефлексологию или, вооружившись словарями, штудирует классиков методологии разведения служебных собак. Если день выдается особенно утомительный, с полки сходит томик Чехова. Начальник ложится спать незадолго до зари. Утром, обходя вольеры, где веселым лаем встречают его собаки, он напевает себе под нос:Как по лужку, по лужку,
По знакомой доле,
При родимом табуне
Конь гулял по воле…
…Конь гулял по воле,
Казак поневоле…
Как поймаю, зануздаю
Шелковой уздою…
Глава восьмая КОЛЬЦО И ТРЯПКА
Юкон увлекся игрой. Он рычал и мотал головой, стараясь вырвать тряпку из рук начальника. В комнату вошел молодой курсант. Щенок поглядел на него и попробовал залаять. Лай не разжимая рта не получился, а бросать тряпку не хотелось. Щенок просто заворчал и сильно дернул. Начальник выпустил тряпку. От неожиданности Юкон отлетел назад и, перекувырнувшись, шлепнулся на спину. Он вскочил и отряхнулся. Тряпка болталась в зубах. Он подергал ее. Тряпка больше не сопротивлялась. Игра потеряла смысл. Юкон на всякий случай немного помотал головой и разжал зубы. Тряпка лежала неподвижно. Тогда он боком подошел к людям и посмотрел на них, наклонив голову и наморщив лоб. Начальник что-то объяснял, не глядя на щенка. Молодой человек внимательно слушал. Юкону показалось, что говорят о нем. Потом он услышал свое имя. Он тявкнул два раза, отошел в угол и, приняв совершенно независимый вид, стал рассматривать бревенчатую стену. Люди подошли к нему. Начальник поднял тряпку и помахал перед его мордой. Щенок равнодушно отвернулся и даже нарочно зевнул. Тогда начальник легонько шлепнул его тряпкой по носу. Терпеть было невозможно. Юкон зарычал и вцепился в тряпку зубами. Глаза его налились кровью, шерсть на затылке и шее встала дыбом. Он снова увлекся тряпкой и едва заметил, как курсант передал начальнику какое-то кольцо. Он не обратил на это никакого внимания. Начальник взял странный предмет в левую руку, не переставая правой дергать тряпку. Щенок совершенно забылся. Он неистово рычал и тянул изо всех сил. Вдруг что-то твердое скользнуло по его морде и застряло на шее. Начальник пропустил конец тряпки в кольцо и неожиданно надел кольцо на Юкона. На секунду Юкон замер неподвижно. Потом выпустил тряпку, отскочил в сторону и замотал головой. Кольцо, свалилось. Юкон понюхал: противно пахнет кожей. Он отвернулся от кольца и сразу получил тряпкой по носу, но успел ухватиться зубами и снова начал рвать и тянуть. Курсант поднял кожаное кольцо и подал начальнику. Снова щенок в испуге отскочил, когда кольцо оказалось на его шее. Освободившись, он снова вцепился в тряпку. Так повторялось раз десять. Потом тряпку взял курсант. Юкон немного не доверял ему, но скоро увлекся игрой. Курсант тоже раза три проделал маневр с кольцом. После этого люди ушли. На следующий день игра повторилась. Только теперь тряпку все время держал курсант. Юкон совсем привык к нему. Но кожаное кольцо упрямо сбрасывал, сразу прекращая возню с тряпкой. — Какой упорный, стервец, — сказал про него начальник. Через несколько дней щенок так увлекся игрой, что не обратил внимания на надоевшее кольцо. Минуты три он прыгал с кожей на шее. Кольцо случайно свалилось, когда он нагнул голову. День за днем продолжалась игра с тряпкой и кольцом. Кольцо меньше раздражало Юкона. Он позволял надеть его на себя и, кидаясь на тряпку, не вспоминал о нем, пока не кончалась игра. Курсант туже затянул ремень, и Юкон не мог сам сбросить кольцо. Однажды человек ушел и оставил Юкона с ремнем на шее. Вернулся он через час. Все это время щенок скулил, метался по комнате и тряс головой, стараясь сбросить кольцо. Он пробовал схватить его зубами, но никак не мог достать. Кольцо держалось крепко. Юкону показалось, будто кожа душит его и въедается в шею. Потом Юкон каждый день ходил с кольцом на шее. Во время игры курсант незаметно надевал кольцо и снимал только через несколько часов. Постепенно Юкон перестал бояться. Ему уже не казалось, что ремень давит горло. И он не пытался освободиться. А еще через несколько дней щенок просто позволил надеть на себя кольцо. Он больше не придавал этому ремню никакого значения. Кольцо надевали на него утром и снимали вечером. Однажды с курсантом опять пришел начальник. На этот раз курсант принес длинный кусок веревки. — Привяжите к ошейнику, — сказал начальник. Курсант привязал один конец веревки к кожаному кольцу на шее Юкона. Второй конец он передал начальнику. Начальник пошел, держа веревку. Юкон сидел в углу и, подняв уши, с интересом смотрел на людей. Вдруг его сильно дернуло за шею. Он вскочил и хотел отбежать, но веревка потянула его к начальнику. Юкон заворчал и уперся лапами в землю. Кольцо вдавилось в шею. Веревка безжалостно тащила вперед. Начальник повернулся в сторону. Юкон снова попробовал отбежать, и снова веревка заставила его следовать за человеком. — Подтяните потуже ошейник, — сказал начальник и остановился. Юкон рванулся, веревка не пустила его, и он стал, растопырив лапы и кося глазами на начальника. Курсант нагнулся над ним и, ослабив веревку, затянул кожаное кольцо. — Ошейник в порядке, товарищ начальник, — сказал он, выпрямляясь. — Ошейник. Несколько раз повторяли люди это новое слово. Что такое ошейник? Несомненно — это важное слово. Опять пошел начальник, и опять Юкона потащило у его ног. Ноги ходили кругами, и Юкон ходил кругами. Он не мог больше ходить куда хотел.Глава девятая ХОЗЯИН
— Павел Сизых! — Я, товарищ начальник. — Что вы, Павел Сизых, делали до армии? — Был пастухом, товарищ начальник. Овец пас. И коров. — Вас откомандировали к нам в питомник… или?.. — Нет, я сам попросился… Как только я узнал про собак, про питомник, про дрессировку, я сразу подал рапорт начальнику заставы. Тогда меня послали сюда. — Почему же вам так захотелось? — Животных я очень люблю, товарищ начальник. Я с ними свыкся с самого детства… Начальник перестал просматривать бумаги и поднял голову. Перед ним стоял, неловко переминаясь с ноги на ногу, молодой красноармеец. У него было круглое лицо в мелких веснушках, светлые, как солома, волосы и большие голубые глаза. Парень волновался. Руки он держал по швам, стоял навытяжку — смирно, но все время шевелил пальцами и судорожно теребил края гимнастерки. Под взглядом начальника он смутился еще больше. Густая краска залила его и без того красное лицо. Выражение у него было такое, будто он сейчас заплачет. Начальник снова начал просматривать бумаги. — Так вот что… Павел Сизых: те три месяца, что вы пробыли в питомнике, вы работали хорошо. Я даю вам собаку. Собаку будете воспитывать и учить. Потом с этой собакой вы сами будете работать на границе. Понятно? — Понятно, товарищ начальник. — Только вы, Павел Сизых, запомните: вы там пасли овец, возились с собаками, полюбили животных и так далее. Все это прекрасно. Но, воспитывая розыскную собаку, вам придется прежде всего себя воспитывать. Вам придется научиться действовать быстро и решительно. Я слышал, например, как вы говорите с собаками. Очень уж нежно, товарищ Сизых. Прямо сюсюкаете, будто с малыми детьми. Не годится. Нужно приказывать собаке. Отчетливо, ясно, категорически. — Товарищ начальник, но лаской… — Ласка… ласка… Я сам говорил вам о ласке. Лаской очень хорошо, Сизых. Но пусть собака чувствует, что вы ласкаете ее за дело, за хорошую работу. Не забывайте — вы должны сделать из собаки работника, а не украшение или забаву. Работника высокой квалификации. Понятно? — Понятно, товарищ начальник. — Помните щенка, которого вы приучали к ошейнику? Крупного, черного. — Помню, товарищ начальник. Это от Хильды который… — Вот именно. Щенка прикомандировываю к вам. Вернее, вас прикомандировываю к щенку. Завтра будет приказ по питомнику. Кличка щенка — Юкон. Повторите. — Юкон, товарищ начальник. — С сегодняшнего дня за Юкона отвечаете вы, Павел Сизых. Можете идти. Выйдя в коридор, Сизых слышал, как начальник пел басом:…Как по лужку, по лужку,
По знакомой доле…
Глава десятая КОНЧИЛАСЬ ЮНОСТЬ
Прошло восемнадцать месяцев со дня рождения черного щенка Юкона. Прошли весна, лето, осень, зима, и снова весна и лето. Юкон стал взрослой собакой. Ростом он был шестьдесят пять сантиметров. Черная шерсть на спине сверкала синеватым отливом. Прямой пушистый хвост слегка загибался на конце. За полтора года в питомнике Юкон очень многому научился. Он умел: ходить у левой ноги своего проводника, садиться, ложиться и вставать по его команде, подавать голос, перепрыгивать через барьер, находить и носить апорт, давать выборку вещей и людей, а также многое другое, полагающееся собаке при обучении. Потом на плацу питомника он научился догонять человека в брезентовом костюме, отыскивать его след и ловить человека, прыгая на спину, сбивая с ног ударом лап под колени или хватая зубами за руку, если этот человек поднимал револьвер. Последние три месяца Юкон работал не на плацу, а в поле или роще около питомника. След, который он разыскивал, проходил по дорогам, полям и болотам или пересекал железнодорожные пути, ручьи и реки. Человек, которого он преследовал, иногда ехал верхом или в телеге. Юкона пускали по следу через два или три часа после того, как след был проложен. Юкон ничего не боялся. В него стреляли холостыми патронами из револьверов и винтовок с оглушительным грохотом и вонючим дымом, палили из пугачей. Он стал злым и решительным. С Юконом всегда был Павел Сизых — его проводник. Юкон сильно привязался к нему. Он знал все привычки хозяина, все его настроения, интонации. Люди говорили, что «Юкон изумительно восприимчив» и что «общее послушание у Юкона на отлично». Павел Сизых тоже изменился за это время. Он возмужал и окреп. Все время проводя с Юконом, он развил в себе способность понимать и чувствовать собаку. Лаской и поощрениями он заставлял собаку беспрекословно слушаться. Он никогда не ругал зря Юкона, но никогда зря и не хвалил. Вначале все это было очень трудно. Часто хотелось простить щенку мелкие проступки, особенно когда щенок, сам понимая вину, с трогательной хитростью ластился к проводнику. Работая с Юконом, Павел научился терпению. «Общее послушание на отлично» далось ему не легко. Иногда, когда Юкон нервничал или шалил, приходилось десятки раз подряд повторять одно упражнение. При этом Павел не повышал голоса, не кричал и не злился. Спокойно повторяя команду, методически проделывая все еще и еще раз с начала, он заставлял наконец собаку выполнять задание. Правда, нередко бывали дни, когда Юкон работал легко, будто шутя. Свиреп Юкон стал настолько, что никто, кроме Павла Сизых, не решался подходить к нему. Только начальника питомника Юкон слушался почти так же, как своего проводника. Однажды кто-то из курсантов шутя стал бороться с Павлом. Юкону показалось, что они дерутся. Он зарычал по-волчьи, с маху перескочил высокую решетку своего вольера, бросился на курсанта и жестоко покусал его. После этого верх загородки Юкона тоже затянули проволочной решеткой. В июле Павел Сизых получил предписание выехать с Юконом на границу. Поздно вечером начальник вызвал его в кабинет. Он сказал: — Вы, товарищ Сизых, уезжаете от нас. Вы кончили учиться. Вы досрочно получаете звание проводника, а ваш Юкон получает звание розыскной собаки. Вы были лучшим воспитанником школы. Я уверен, вы поддержите честь питомника на границе. Не забывайте нас. Пишите обо всем. Берегите Юкона. Можете идти. Павел стоял не двигаясь. Он хотел ответить начальнику. Хотел рассказать, как грустно уезжать. Как много ему, молодому крестьянскому парню, дало учение в питомнике, как он вырос, как он благодарен. Хотелось сказать о том, как он, Павел Сизых, полюбил этого одинокого человека. Но Павел не знал слов, которые могли бы выразить все, что он чувствовал. Он молчал и неловко переминался с ноги на ногу. Начальник встал из-за стола и как-то боком, неуклюже подошел к Павлу. Не глядя на него, он протянул руку. Павел пожал твердую, как деревяшка, ладонь. — Я вам сказал, можете идти, — сердито буркнул начальник. Когда Павел вышел на двор, начальник распахнул дверь и крикнул: — Счастливо, Сизых… Желаю успеха… Павел обернулся. В освещенном четырехугольнике двери чернела сутулая, длинная фигура начальника. Потом дверь закрылась. Ночь была темная. Плотные низкие тучи закрывали луну. Моросил теплый дождик. Павел побежал в общежитие. Утром проводник Павел Сизых получил в канцелярии школы все документы. После завтрака он надел шинель, заплечный мешок и наган. Пройдя к вольерам, вывел на поводке Юкона. Юкон потянул к учебному полю. Павел скомандовал «рядом» и пошел к воротам питомника. Из канцелярии вышел начальник. — Прощайте, товарищ начальник, — сказал Павел. Начальник пожал ему руку. — До свидания, — сказал он, — счастливого пути! Юкон тянул за ворота.Глава одиннадцатая ПИСЬМО ПЕРВОЕ
Павел достал из тумбочки давно припасенный листок бумаги и устроился у стола в Ленинском уголке. Он написал в верхнем правом углу листка:«Застава № 12, 25 августа 193… г.»Потом задумался. Как обратиться к начальнику? «Многоуважаемый» слишком торжественно. «Дорогой» — слишком фамильярно. Павел написал просто:
«Товарищ начальник! Уже месяц, как мы с Юконом живем на заставе № 12, и все вошло в регулярный порядок. Согласно тому, как вы меня инструктировали, я занимаюсь с Юконом ежедневно часа по три и веду подробные записи занятий в дневнике. Первые дни Юкон нервничал в новой обстановке. Однако теперь обвык и работает снова хорошо. По-прежнему трудно дается лестница. При за держании Юкон очень свиреп. Так и рвется. И, едва спустишь его со сворки, мчится, ни на что не глядя. Уже я и стрелять пробовал и пугать всячески. Питание на заставе хорошее. Варю я Юкону сам. Я уже подробно познакомился с участком. По правому флангу у нас — тринадцать, по левому — четырнадцать километров. Все лес. Только в одном месте, на левом фланге, километрах в десяти от заставы, граница проходит берегом небольшого озерка. А леса совсем дикие, глухие. Внизу болото, кустарники, травы, а вверх подымаются деревья огромной величины. Я видел ели в три обхвата толщиной и более. К лесу Юкон применился неплохо. Я думал — от будет очень отвлекаться всякими животными, птицей и тому подобное. Однако он на посторонние запахи не обращает особого внимания. От комендатуры я шел на заставу пешком. Комендатура километрах в двадцати в тылу, и все без перерыва тянется лес. В лесу можно пройти только по узким тропам. А жилья почти никакого нет. Редкие-редкие деревни. С пограничниками заставы я уже сошелся и подружился. Юкона все очень полюбили. Товарищ начальник! Напишите мне, как быть с купанием: здесь уже становится холодновато, боюсь, как бы Юкон не простудился, если его выкупать. А за дорогу в последнее время он сильно испачкался. Шерсть даже клеится — до того грязная. Книжку (по кинологии), что вы мне дали, я проработал почти всю. Некоторые слова были не совсем понятны, но мне разъяснил наш начальник заставы. Что нового у нас в школе и в питомнике? Только месяц, как я уехал, а уже соскучился сильно. Если урвете свободную минутку и напишете мне несколько строчек, буду очень благодарен.Ваш Павел Сизых»
Глава двенадцатая ПУРГА
Метель продолжалась три дня. Мороз все время усиливался. Упорно дул северный ветер. Тучи закрывали небо. Солнечный свет едва просачивался сквозь снежную пелену. Короткий серый день очень мало отличался от ночи. В эту третью ночь вьюга бесновалась с невероятной яростью. Часового у заставы совершенно заметало снегом. Он отряхивался на ходу, но через минуту снова превращался в движущийся сугроб. Ничего невозможно было разглядеть. Когда часовой отходил от дома на пять шагов, дом сливался со снегом. Только еле-еле брезжил свет в окошках. В доме никто не спал. Сумасшедший ветер выл в трубах. Пограничники сидели в Ленинском уголке. Никому не хотелось разговаривать. Изредка кто-нибудь подходил к темному окну, делал руки козырьком, вплотную прижимал лицо к стеклу и внимательно всматривался. Ничего не видно. Снег, снег, снег… Начальник заставы назначил очередной наряд. Двое пограничников вышли, забрав винтовки. Уже в сенях они ежились, плотно застегивая овчинные полушубки и шлемы. У дома отрыли занесенные снегом лыжи, привязали их и двинулись в лес. Они крикнули что-то часовому, но он не расслышал. Широкие фигуры пограничников растаяли в снегу. Прошел час. На заставе всё еще не ложились. Всё так же сидели в Ленинском уголке, почти не меняя мест и положений. Когда распахнулась наружная дверь, ветер ворвался в дом, пронесся по коридору и взметнул скатерть. Пограничник в полушубке, валенках и шлеме, занесенный снегом, взволнованный и задыхающийся, ворвался в комнату. В руках он держал винтовку и лыжные палки. Начальник заставы вскочил ему навстречу. Пограничник прохрипел: «Человек в лесу… Ветер… сигнального выстрела не слышно… Корнев остался в лесу… Я — сюда… Скорее… Мне пить…» Ему принесли воды. Он пил, захлебываясь. Ковш держал обеими руками. Замерзшие руки были лиловые. Ковш дрожал. Вода текла по подбородку на полушубок. Выпив весь ковш, пограничник молча бросился на двор. Он с лихорадочной поспешностью привязал свои лыжи. Девять человек и начальник заставы ждали его. Пограничник пригнулся навстречу ветру. Часовой видел, как десять теней пронеслись за ним. Рядом с последним человеком мелькнула тень собаки. Дверь в доме осталась открытой. Ветер намел на высоком пороге округлую кучу чистого мелкого снега.Глава тринадцатая ПОБЕГ
Павел Сизых бежал в конце отряда. Юкон тянул изо всех сил. Павел намотал ремень поводка на левую руку. Ремень затянулся петлей. Было больно, но поправить поводок не было времени. Юкон бежал легко, так как перед метелью была оттепель и теперь образовался твердый наст, только сверху покрытый снегом. Ветер бил в лицо. Павел отстал от пограничников. У него лопнул ремень на правой лыже. Починив ремень, он решил пойти подальше в тыл. Быть может, нарушитель прорвется через кольцо пограничников, тогда Павел встретится с ним и возьмет его один на один. Пробираясь в густых зарослях, Павел мечтал о подвиге. Было очень темно. Ветер усилился, и снег пошел еще гуще. Деревья так засыпало снегом, что Павел не узнавал мест, по которым пробегали они с Юконом. Ему начало казаться, что он заблудился. Юкон пытался искать след, но ветер забрасывал снегом его морду. Юкон ворчал и тряс головой. Чтобы подбодрить себя, Павел заговорил с собакой. Было немного стыдно, и он бормотал вполголоса, только для себя. Он говорил: «Вот, Юкон, мы с тобой, кажется, и запутались… А ну-ка, Юкон, собачка… поднажмем. Что, если нам обойти левее эту высохшую сосну? Как ты думаешь, Юкон? Вдвоем нам нечего бояться, Юкон. Правда?» Вдруг Юкон резко повернул в сторону и зарычал. — Осторожно, черт! — крикнул Павел. — Ведь надо же мне с лыжами развернуться. Ну, что ты почуял? Что ты… Павел осекся и замер неподвижно. Впереди мелькнула тень. Павел выхватил наган и взвел курок. С револьвером в руке, он погнался за неясным силуэтом. Тень убегала от него. Лес поредел. Павел выскочил на лужайку. Здесь ветер прямо валил с ног. Снег взметало над сугробами. В середине лужайки Павел столкнулся с пограничниками. Все девять вместе с двумя из наряда стояли кружком с винтовками наперевес. В центре, по пояс провалившись в снег, прислонился спиной к дереву человек в штатском, с поднятыми вверх руками. Он потерял шапку, и снег лежал круглой горкой на его взлохмаченной голове. Снег таял, и тонкие струйки бежали по лицу задержанного. Пока Павел обходил со стороны тыла, пограничники развернулись в лесу и взяли нарушителя в кольцо. Последний замыкающий кольцо обогнал Павла, и за ним-то погнался Павел недалеко от лужайки. Теперь все было кончено. Павлу было обидно, потому что он не только не взял нарушителя один на один, но, по существу, даже не участвовал в операции. Павел не обратил внимания на Юкона. А с Юконом что-то происходило. Он весь подобрался, как бы готовясь к прыжку. Не натягивая поводка, маленькими кружками ходил возле проводника. Зубы оскалились, и шерсть на спине встала дыбом. Метель, очевидно, подходила к концу. Ветер уже не дул с равномерным упорством, а налетал стремительными шквалами. Порывы эти были невероятной силы. После минутного затишья ветер согнул деревья и поднял тучу снега. Люди на лужайке еле удержались на ногах. В этот момент Юкон зарычал и рванулся в лес. Внезапно натянувшийся поводок не выдержал, ремень лопнул у самого ошейника. Павел потерял равновесие и боком повалился в снег. Юкон приложил уши (от этого морда его сделалась совершенно волчьей) и понесся быстрыми прыжками. — Юкон! Юкон, ко мне! — кричал Павел. Выл ветер в верхушках сосен, скрипели стволы деревьев. Шуршал снег, и Павел сам едва слышал свой голос. Не разбирая дороги, цепляясь за ветки и проваливаясь в сугробы, Павел бежал за собакой. Лужайка скрылась в снежном тумане. Юкон исчез в лесу.Глава четырнадцатая ЮКОН БЕЖИТ ПО ЛЕСУ
Снег заметал все и уничтожал следы. Все время, пока Юкон шел вместе с проводником, он пробовал принюхиваться и искать. Но снег забивал нос. Никаких запахов. И вдруг на лужайке, где взяли нарушителя, он явственно почувствовал запах собаки. Где-нибудь на ветвях застрял кусочек шерсти или следы сохранились в корнях деревьев на краю лужайки. Весь дрожа от напряжения, Юкон осторожно кружился у ног проводника. Запах был очень слабый, и установить направление, по которому бежала собака, было очень трудно. Но все-таки Юкон нашел след. Азарт преследования охватил его. Он рванулся изо всех сил, перервал поводок и, свободный, понесся по лесу. Пригибаясь, он пробегал под нависшими ветками елок. Самые низкие перепрыгивал коротким, не нарушающим ритма бега прыжком. В густых зарослях ветра почти не было. Ветер выл в верхушках деревьев. Но когда Юкон вылетел на более открытое место, ветер распушил его хвост. Задние ноги занесло в сторону. Юкон сел, пригнувшись. Вскочив, он опустил хвост и побежал дальше. Теперь, выбегая на лесные лужайки, он поджимал хвост к животу. Теперь ветер не мешал. В чаще хвост Юкона снова выпрямился, продолжая линию крутой спины. Твердый наст не всегда выдерживал вес собаки. Лапы пробивали колючую корочку и глубоко уходили в снег. Неровные края резали, как стекло. Кровь показалась на лапах. Ранки саднили, и Юкон тихонько взвизгивал. Ветер спал, и метель утихла. Из снежного тумана выступили огромные ели, заметенные снегом. Снег оттягивал черные ветки к корням у подножий. Иногда ветки разгибались, не выдерживая тяжести, и снег обваливался с шумом. Свободная ветка долго еще покачивалась. Юкон бежал все скорее и скорее. Ему было жарко и трудно дышать. Широкой разинутой пастью он хватал на бегу снег. Рыхлый комок сразу таял, и Юкон глотал каплю холодной воды. Лес поредел, и Юкон летел вперед огромными скачками. Сильное туловище сгибалось и выпрямлялось с гибкостью змеи. Лапы гулко стукались о твердый наст и стремительно вытягивались. Хвост, как руль, правил бегом. След вел его огромным полукругом, сначала уходящим в тыл, а теперь постепенно приближающимся к границе. Очевидно, Юкон настигал собаку, так как запах стал совсем отчетливым. Юкон еще прибавил скорости. Он несся, почти не касаясь земли. Скоро на снегу замелькали следы. Собака бежала такими же большими скачками, как Юкон. Но ее лапы гораздо глубже продавливали снег. Очевидно, собака была тяжелее. Юкон взбежал на вершину холма. По ту сторону холма когда-то был пожар. На занесенном снегом поле торчали редкие стволы обуглившихся, мертвых сосен. Километрах в двух снова чернел лес. Там была граница. На середине поляны тяжелыми прыжками бежала огромная, как волк, серая собака.Глава пятнадцатая БОЙ
Когда Юкон показался на гребне холма, серая собака оглянулась назад, прижала уши и побежала скорее. Юкон бросился под уклон. Спуск был пологий, длинный и сильно помогал бегу. Снег летел из-под лап. С каждым прыжком Юкон пролетал не меньше двух метров. Расстояние между ним и серой собакой заметно сокращалось. Юкон был легче, и в тех местах, где наст ломался под тяжестью серой собаки, он пробегал свободно. Собака повернула под острым углом и побежала к границе. Юкон с маху остановился, широко растопырив лапы и подняв облако снега. Потом прыгнул и понесся напрямик, срезая угол. Наседая на серую собаку, он уже слышал, как она дышит, перед самым носом видел всклокоченный хвост, задние ноги, сильно бьющие в снег, и круглую бугроватую спину. Спина подымалась в такт тяжелым прыжкам. Юкон нацелился на поджарый зад. Он поднатужился и еще наддал скорости. Прыгнув, он хотел схватить собаку, но немного не достал. Зубы лязгнули в воздухе. Юкон зарычал от ярости. Вдруг серый пес разом остановился, чуть-чуть отскочив влево. Юкон кубарем пролетел мимо и покатился по снегу. На правом боку у него выступило кровавое пятно и отвалился клок шерсти. Враг, увернувшись, укусил Юкона. Рыча от боли, Юкон вскочил на ноги. Серый пес убегал теми же спокойными, слегка медлительными прыжками. Через минуту Юкон снова скакал, почти касаясь носом его хвоста. И снова, когда Юкон попробовал напасть, серый ловко уклонился, а у Юкона появилась вторая рана на боку. Серая собака была еще ближе к границе. Юкон опять догнал ее. Кровь капала рядом с ним редким пунктиром. Теперь он был осторожнее: не нападая, он внимательно следил за врагом, и когда серый вильнул в сторону, Юкон кинулся на него и укусил за шею. Правда, серый успел ответить, но Юкону удалось удержаться на ногах. Враг стоял против него. Пригнувшись, почти касаясь снега животами, оба не сводили друг с друга глаз. Глаза у серого были желтые, неподвижные и злые. Он попробовал отбежать, но Юкон зарычал и преградил ему дорогу. Тогда серый пес принял бой. Внезапно он бросился вперед и сшибся с Юконом раньше, чем тот успел стать в оборонительное положение. Юкон почувствовал жестокую боль — зубы серого впились ему в шею у самого затылка. Морда Юкона уткнулась в снег, снег забил нос и уши. Напрягая все силы, он стряхнул серую собаку со своей спины и сам кинулся в атаку. Он нацелился на горло врага. Но серый нагнул голову и зубами встретил Юкона. Юкон отлетел с разодранной грудью. Серый пес присел на задние лапы. Морда его ощерилась, глаза блестели, уши были прижаты к затылку, из груди вырывалось глухое рычание. Он был опытным бойцом. Снова и снова кидался Юкон на своего врага и всякий раз отлетал еще более окровавленным. Схватываясь и разбегаясь, собаки ходили небольшими кругами. Снег был изрыт и исцарапан их лапами. Огрызаясь и нападая, серый пес медленно подвигался к границе, и Юкону никак не удавалось остановить его. Но с каждой схваткой Юкон постигал тактику боя. Он был изранен больше своего врага, но он был молод и силен. Новые раны учили его осторожности. Боль усиливала злость, однако не сбивала дыхания и не утомляла. А серый пес начал заметно уставать. Он дышал тяжело, с трудом глотая воздух. Все чаще промахивался и, не доставая Юкона, впустую щелкал зубами. Возраст давал себя знать. Наконец Юкон угадал правильный прием: не давая серому сшибаться вплотную, он изнурял его быстрыми короткими атаками. Не нанося врагу серьезного вреда, он без остановки кружил вокруг него, ни на секунду не давая опомниться и заставляя непрерывно вертеться, прыгать и изворачиваться. Серый, в свою очередь, старался схватиться грудь с грудью. Он больше не подвигался к границе. Он гонялся по полю за Юконом, добиваясь ближнего боя, в котором смог бы использовать свои преимущества в весе и опытности. Юкон легкими прыжками уходил от него. Но как только серый становился спиной, он вцеплялся в его зад и снова отскакивал, едва серый оборачивался. Серый начал задыхаться. Тощие бока его резко вздувались и опадали. Пасть была широко разинута. Чувствуя, что слабеет, он свирепел и очертя голову кидался на Юкона. Юкон дразнил его, танцуя на утрамбованном снегу. Один раз, когда серый пес промахнулся, Юкон сильно укусил его в голову около уха. Кровь залила глаз. Серый обезумел от ярости. Ничего не разбирая, он бросился за Юконом. Юкон не рассчитал прыжка, и серый достал его заднюю ногу. В страшных челюстях хрустнула кость. Юкон охромел. На трех ногах он повернулся мордой к своему врагу. Несколько секунд оба стояли неподвижно. Они чувствовали, что из последней схватки кто-нибудь не выйдет живым. Оба прыгнули одновременно, сшиблись и покатились по снегу. Теперь Юкон был волком, бьющимся не на жизнь, а на смерть. Теперь он не имел ничего общего с Юконом из питомника пограничных собак, великолепно дрессированным и послушным. Он дрался молча. Он знал, что пощады не будет. Пасть его была полна теплой крови врага. Из тумана выплыло большое солнце. На порозовевшем снегу два зверя, серый и черный, тесно сплелись в последнем усилии. На этот раз Юкон нацелился верно. Он сжал шею врагу. Он слышал, как серый пес хрипел, задыхаясь. Нижние клыки Юкона наткнулись на ошейник. Дрожа от напряжения, он стиснул челюсти, прокусил толстую кожу и достал горло. Серый завизжал от боли. Ему удалось подняться. Он бил Юкона о снег, в клочья изорвал зубами его спину. Юкон медленно сжимал челюсти, все сильнее и сильнее. Серый пес зашатался и рухнул набок. Он перестал шевелиться. Юкон уперся лапами в тело врага, неистово грыз его горло. Задние ноги серого свело судорогой. Он был мертв. Тогда Юкон поднял вверх дымящуюся, окровавленную морду. Он увидел красное солнце и завыл.Глава шестнадцатая ОШЕЙНИК
— Юкон! Юкон! Юкон! — звал Павел. Стараясь перекричать шум ветра в лесу, он сорвал голос. Его ноги заплетались, лыжи цеплялись за ветки деревьев. Он падал в снег. В голове его шумело. Он задыхался, рот пересох от жажды. Как и Юкон, он ел снег. Холодный комочек утолял жажду только на одну секунду. Потом пить хотелось еще больше. Павел побежал наугад. Временами ему казалось, что он видит следы собаки. Потом следы пропадали. Снег, снег, снег… Павел останавливался в растерянности. Лес обступал его со всех сторон. Павел снова бросался в чащу. Падая и подымаясь, царапая лицо и руки, он звал собаку: — Юкон… Юкон… Юкон… Ветер стихал, и лесное эхо повторяло: — Он… он… он… Павел чуть не плакал от стыда и досады. Он не представлял себе, как вернется на заставу без Юкона. Рядом граница, — что, если собака убежит на ту сторону? И как могло случиться, что Юкон, замечательный, верный Юкон убежал от своего проводника? Недалеко от лужайки, где произошел бой Юкона с серой собакой, Павел наткнулся на пень, сломал лыжную палку и сильно разбил колено. Поднявшись и отряхнув снег, он попробовал бежать дальше. Оказалось, что едва может идти. Было очень больно. В совершенном отчаянии Павел сел на свалившееся дерево. Взошло солнце, и стволы сосен зачернели на оранжевом небе. По снегу побежали яркие тени. Тогда Павел услышал дикий, пронзительный вой. Хромая, цепляясь руками за деревья, Павел приковылял на опушку. Совсем близко от него, отчетливо выделяясь на снегу, стоял Юкон. Передними лапами он упирался в труп серой собаки. Голова была поднята прямо вверх, к ослепительному небу. Снег вокруг пестрел пятнами крови. Павел бросился к собаке. — Юкон! Юкон! — кричал он. Юкон замолчал и повернул голову. Узнав проводника, он завилял хвостом и, приложив уши, с визгом бросился к нему. Он терся о ноги Павла и лизал ему руки. Павел подошел к убитой собаке и снял с нее ошейник. Он говорил: «Юкон, собачка! Ты не убежал. Ты замечательно работал. Ты молодец. Ты умница. Мы возьмем с собой этот ошейник и докажем, что ты не просто удрал». Вдруг Павел замолчал и стал внимательно разглядывать ошейник. — Стоп, Юкон, — сказал он, — здесь нечисто. Идем скорее. Толькотеперь Павел заметил, что Юкон тоже хромает. Он осмотрел его ногу и перевязал носовым платком. Усталые и израненные, человек и собака рядом плелись по лесу. Солнце поднялось выше, и веселый свет заиграл на верхушках елей. Красный снегирь взлетел из-под ног Юкона и сел совсем близко на снежную ветку. Павлу хотелось кричать. Он засмеялся и во весь голос запел:Как по лужку, по лужку,
По знакомой доле,
При родимом табуне
Конь гулял по воле…
Конь гулял по воле,
Казак поневоле,
Как поймаю, зануздаю
Шелковой уздою…
Глава семнадцатая ВОСКРЕСЕНСКИЙ
Задержанный сидит в комнате начальника заставы, на табурете около стола. Начальник стоит против него, широко расставив ноги и засунув руки в карманы. Задержанный — среднего роста, худощавый и на вид физически слабый человек. Он одет в легкую куртку деревенского домотканого сукна, такие же штаны и старенькие, стоптанные сапоги. На шее рваный шарф неопределенного цвета и материала. Задержанный давно не брит. Лицо его заросло колючей серой щетиной. Глаза скрыты под нависшими мохнатыми бровями. Он очень сильно замерз. Начальник дал ему большой кусок хлеба и кружку горячего чая. Ест задержанный со страшной жадностью. Громко чавкает и, обжигаясь, прихлебывает из горячей кружки. Не переставая есть, он говорит с начальником. — Ну, я пошел, мил человек, по тропочке. Думаю — к Мельничному-то ручью как-нибудь выберусь. Я, вишь ты, соображал, будто Мельничный ручей левее будет. А на деле оказывается — вон куда забрел. Родимый ты мой товарищ начальник! Как же теперь я попадать к Мельничному ручью-то буду? Господи, вот, понимаешь, история! Он сокрушенно качает головой и прихлебывает из кружки. — Откуда ты шел, папаша? — Начальник спрашивает доверчиво и добродушно. Только в его слегка прищуренных глазах светится осторожная подозрительность. — Так я ж говорил тебе, мил человек. От брата двоюродного я иду. Он у меня в Льногорском совете секретарь. Из Льногор я, значит, иду. Вышел я еще засветло. Думал прямиком через озеро пройти. А тут, вишь ты, метель-то и разыгралась. Озером идти прямо никак невозможно. С ног валит. Я и пошел лесом. Набрел я, значит, на просеку. По ней до тропочки добрался. Ну и пошел я, мил человек, по тропочке. Мне бы направо идти, а я, вишь ты, соображал, будто Мельничный ручей левее будет. А на деле… — Почему же ты, папаша, от моих ребят удирать стал? — перебивает его начальник. — Да нешто я видел? Да, господи, если бы я увидел живого человека, я б сам к нему бросился. В лесу-то, да в такую темь, всякой душе рад будешь. Особенно, как я заблудился, — задержанный даже привстает от возбуждения. Говорит горячо и убедительно. — Я и так, родимый ты мой, не могу в себя прийти от радости, что твои ребята меня заметили. А не то — пропадать бы мне в лесу. Истинный бог, пропадать. А бежал я действительно. Бежал. Да только тут всякий побежит… Ты смотри, мил человек, промерз я как. Ведь в этой одежонке и час по такому морозу не проходишь. А я, почитай, часов восемь по лесу шатался. Да и страшно… Задержанный разводит руками, шевелит свою ветхую курточку. Снег оттаял, с него течет вода. Под табуреткой натекла маленькая лужица. Начальник присел к столу. — Тебя как зовут-то, папаша? — Так я ж говорил тебе мил человек. Смирнов, Никифор Семенов Смирнов. Мы в Мельничных-то ручьях и проживаем. А я как снес брату своему, двоюродному то есть брату, в Льногоры бумагу… Дверь распахнулась. На пороге стоит Павел Сизых. Задержанный спокойно обернулся на шум. Отхлебнул из чашки. — Товарищ начальник, — говорит Павел, — можно вас на минутку? Начальник нахмурился, вышел в коридор. Сказал недовольно и тихо: — В чем дело, товарищ пограничник? Вы врываетесь, будто у вас пожар. И потом — как работает ваша собака? Куда это годится?.. — Разрешите доложить, товарищ начальник… — Павел волновался, говорил прерывистым шепотом, — …розыскная собака Юкон на месте задержания нарушителя взяла след и пошла в неизвестном направлении. То есть мне неизвестном. Ему, Юкону, направление было известно, согласно следу, который… Начальник улыбнулся. — Ну, ладно, ладно. Следу, который… Дальше что?.. — Розыскная собака Юкон, после длительного преследования, в километре от границы, на старом пожарище настигла и уничтожила обнаруженную по следу серую собаку. — Ничего не понимаю! Какую собаку, товарищ Сизых? — хмурится начальник. — На шее которой, — продолжал Павел, — мною обнаружен ошейник, каковой доставлен на заставу, — Павел протянул начальнику ошейник, — и в каковом, по-моему, что-то зашито, — выпалил он и, тяжело дыша, замолк. Начальник шагнул к окну, низко нагнулся над ошейником. Перочинным ножом он осторожно разрезал его. Из ошейника вывалились две тонкие бумажки. Бумажки слиплись, пробитые двумя дырками. Начальник вопросительно взглянул на Павла. — Следы зубов Юкона. Он его в шею, — шепнул Павел. Начальник расправил и разложил на подоконнике большую бумагу. Она оказалась трехверстной картой пограничной полосы, отпечатанной на тонком пергаменте. Жирной линией на ней были обведены два участка. На одном стояла только цифра «№ 5». Второй был покрыт какими-то знаками. По линии границы шла надпись, написанная широким, размашистым, каллиграфическим почерком: «Линия границы». Начальник развернул вторую бумажку и прочел ее. — Ах ты, сволочь! — пробормотал он тихо. Держа бумажки в руке, он раскрыл дверь в свою комнату. Задержанный сидел в той же позе. Он съел весь хлеб, с крестьянской аккуратностью собрал со стола крошки на ладонь и высыпал их в рот. Начальник молча смотрел на него. Лицо начальника напряженно и сурово. Он внимательно следил за каждым движением задержанного. Задержанный взял кружку, поднес ко рту. — Аркадий Андреевич Воскресенский! — неожиданно резко сказал начальник. Задержанный вскочил, кружка опрокинулась, горячий чай вылился ему на колени. Кружка покатилась по полу. Задержанный нагнулся, казалось, чтобы поднять кружку, и вдруг бросился к окну. Начальник стоял совершенно неподвижно, широко расставив ноги и не сводя глаз с задержанного. За окном, так же расставив ноги и так же неподвижно, стоял часовой с винтовкой. Задержанный выпрямился. — Сдаюсь, — сказал он тихо. — Что с моей собакой? В нем сразу произошла разительная перемена. По существу ничего не изменились. Та же одежда, та же борода, волосы, глаза. Только еле заметно опустились углы губ да левая бровь приподнялась чуть-чуть вверх. Но перед начальником стоял не простой, придурковатый, несчастный и зашибленный мужичонка, а офицер, вылощенный, жесткий и гибкий. Потрепанная одежда, такая подходящая Никифору Семеновичу Смирнову, сейчас казалась нелепым маскарадным костюмом. Начальник прошел к столу. — Как неосторожно, господин ротмистр, доверять собаке такие важные бумаги, — сказал он. — Какая неосмотрительность! Собака ваша, к сожалению, погибла. Ее поймала наша собака. Задержанный сел, прямой, несгибающийся. Руки зябко засунул в карманы тужурки. Он держится спокойно. Только слегка кривит рот, как от сильной боли. Говорит отрывисто: — Собаку жалко. Замечательная была собака. Я получил ее из Брюсселя. На внутренней стороне ошейника была надпись:«Ганнибал — от Норы и Гектора. Брюссель, М. О.»— Я играл наверняка, начальник. Когда вы окружили меня, я надел на Ганнибала ошейник и пустил его за границу. Все бумаги я зашил в ошейник заранее. В Ганнибале я был уверен абсолютно. У вас дьяволы-люди и дьяволы-собаки, начальник. Начальник разложил на столе карту из ошейника. Задержанный поднял руку. — Дайте папиросу, пожалуйста. Очень хочется курить. Начальник протянул ему портсигар. Зазвонил телефон. Начальник взял трубку. — У аппарата начальник заставы 12, — сказал он. — Товарищ комендант? Да. Задержанный нарушитель опознан. (Он долго молчит. Комендант дает какие-то распоряжения.) Нет, не один. Думаю — второго ждать надо. Нет, не говорит пока. Но скажет. Все скажет. Уполномоченный уже выехал? Хорошо. Слушаюсь. Есть, товарищ комендант.
Глава восемнадцатая ПИСЬМО ВТОРОЕ
«Мой молодой друг! Спешу поздравить вас с блестящим успехом. Мы получили копию рапорта начотряда о вашем подвиге. Судя по всему, Юкон работал прекрасно. Строго говоря, побег его от вас — нарушение дисциплины. Но в данном случае — все произошло к лучшему: если бы вы держали Юкона на поводке, тем самым связывая быстроту его бега, враг ушел бы за границу. Некоторую растерянность ваших действий я вполне извиняю. Все условия операции были предельно тяжелыми. Так или иначе, вы с Юконом показали образец работы. Мы гордимся нашими воспитанниками. В рапорте говорится о ранах, полученных Юконом. Как я понял, бедняга пострадал изрядно. Особенно меня смущает повреждение ноги. Осмотрите рану внимательно. Нет ли перелома кости? Перевяжите тщательно. Если нет хороших бинтов, возьмите полотенце или тряпку, но абсолютно чистые. Бинтуйте ногу снизу вверх, переворачивая бинт на каждом туре, чтобы он плотнее лег. Не затягивайте слишком туго, чтобы не препятствовать кровообращению. Внимательно следите за вашим больным. Как только он поправится, выезжайте в питомник. Через три месяца вам предстоит уйти в долгосрочный отпуск. Необходимо заранее подыскать Юкону другого проводника и приучить собаку к вашему преемнику. Вы уходите в гражданскую жизнь с новыми знаниями, с новым уменьем работать, с настоящей высокой квалификацией. Гражданская жизнь откроет перед вами широчайшие возможности. Вы видели, как прекрасно работал Юкон, воспитанный вами. Ясно, что не только сверхчуткому обонянию собаки мы обязаны такими результатами. Ваша воля подчинила себе инстинкты Юкона, заставила его делать героические вещи, на первый взгляд почти очеловечивающие собаку. Ведь он не просто подрался с бродячим псом. Он задержал и убил нарушителя советской границы. Воспитывайте таких Юконов в гражданской жизни. Ни на один день не прекращайте вашей работы. Помните, что и вы и ваши собаки в любой момент должны быть готовы защищать границу Советского Союза. Обо всем этом мы еще поговорим подробно. Надеюсь видеть вас через месяц. Еще раз поздравляю.В тот же конверт была вложена еще одна записка:Начпитомника Викторов»
«Только что звонили из Управления и сообщили, что проводник Павел Сизых и разыскная собака Юкон решением командования занесены в Книгу почета. Поздравляю, товарищ Сизых!»
Глава девятнадцатая НОЧЬ В ВАГОНЕ
Колеса гремели на стыках рельсов. Юкон дремал у ног Павла. За окном плыли равнины и холмы, поросшие лесом. Деревья по-весеннему чернели на сероватом снегу. В проталинах копошились вороны. Сороки прыгающим, неровным полетом проносились рядом с поездом. К вечеру поднялся туман. Павел ехал в питомник. Срок его службы кончался. Павел перебирал в уме события своей жизни в питомнике и на границе. Бессонной ночью он снова переживал все волнения побега Юкона. С гордостью думал Павел о той работе по воспитанию и дрессировке, которая привела Юкона к подвигу. Вот теперь они оба занесены в Книгу почета. Павел вспомнил и о своей погоне за Юконом. О своем отчаянии и растерянности. Ему стало стыдно. Он понял, что, сумев воспитать Юкона, сам еще не научился настоящей уверенности, спокойствию и решительности в работе. Потом Павел попробовал думать о гражданской жизни. Раньше он часто представлял себе, как вернется в родную деревню, с каким уважением станут относиться к демобилизованному пограничнику. Несомненно, он будет первым парнем. Уже давно он купил новую, щегольскую фуражку с зеленым верхом. Набитая газетой, чтоб не измялась, она лежала на дне его сундучка. Он мечтал надеть ее, подъезжая к деревне. Но теперь, когда демобилизация была так близко, Павел никак не мог свыкнуться с мыслью о том, что он не будет больше пограничником. Как много узнал он в школе и на заставе! Как много мог еще узнать! Павлу не спалось. Вагоны сильно качало. Фонарь, мигая, освещал полки и спящих людей. Укрытые шубами и одеялами, люди казались бесформенными грудами. В проходе торчали ноги. Кто-то храпел за перегородкой. Юкон тихонько ворчал во сне. Павел поднялся, накинул шинель и вышел в тамбур. Туман рассеялся. Взошла луна. Лес поредел. Редкие сосны мелькали косыми силуэтами и уносились в темноту. Павел выкурил папиросу и, ежась от холодного ветра, вернулся в вагон. Юкон поднялся навстречу и завилял хвостом. Когда Павел лег, пес положил свою темную морду ему на грудь и лизнул в подбородок. Павел уснул под утро.Глава двадцатая РАПОРТ
В десять часов утра Павел и Юкон вошли в ворота питомника. На плацу молодые курсанты учили собак. Вихлястый серый щенок подвернулся Юкону. Юкон кинулся к нему. Павел едва удержал его. Щенок завизжал и удрал, поджав хвост. Из дверей канцелярии вышел начальник. Он был совершенно такой же, как год назад, — та же шинель, те же фуражка и сапоги. Сутулясь, большими шагами он подошел к Павлу и протянул ему руку. Юкон зарычал. Начальник спокойно положил руку на его голову. — Осторожно! — вскрикнул Павел. Но Юкон успокоился и завилял хвостом. — Я еще не разучился обращаться с этими зверьми, — сказал начальник улыбаясь. — Отведите Юкона в вольер и приходите ко мне, товарищ Сизых. В вольерах на Юкона бешено залаяли собаки. Он шел молча, скаля зубы и зло кося глазами. Молодые курсанты с восхищением смотрели вслед Павлу. Павел был очень горд. Устроив Юкона, он пришел в кабинет начальника. И здесь все осталось по-старому. Только еще одна полка с книгами висела слева от стола. Начальник сказал Павлу: — Мне очень хотелось бы, товарищ Сизых, чтобы вы не оставляли работу со служебными собаками. Вы скоро будете демобилизованы. Подумайте, как бы вы смогли применить свои знания в вашем колхозе. Я уже писал… — Можно попросить вас, товарищ начальник? — Павел волновался и говорил запинаясь. — Я хотел сказать вам… Словом… Вот рапорт… нельзя ли мне еще год? Я хотел бы остаться на сверхсрочную. Как год тому назад, начальник встал и, обойдя стол, подошел к Павлу. — Я писал в поезде… очень трясло, так что почерк неразборчивый. Павел от смущения бормотал почти шепотом: — Я перепишу начисто чернилами.Глава двадцать первая АЛЬМА
Юкон плохо ладил с собаками питомника. Собаки его боялись. Даже самые большие драчуны и задиры утихали, когда его выводили на плац. Один раз кобель Джек сунулся слишком близко. С быстротой молнии Юкон прыгнул к нему, и Джек, воя, отлетел с разодранным боком. Мрачный и одинокий Юкон был признанным вожаком. Однажды к его загородке подошли Павел Сизых и начальник питомника. Юкон дремал в глубине будки. Лениво потягиваясь, он встал и пошел навстречу. Люди открыли дверцу решетки, и в вольер легко впрыгнула небольшая светло-серая овчарка. Юкон даже присел от удивления. Дверца закрылась. Юкон зарычал и подошел к собаке. Он ожидал, что она, как все другие в питомнике, бросится от него, поджимая хвост и испуганно приложив уши. Но серая собака нисколько не боялась. Она спокойно смотрела на Юкона. У нее были стройные ноги, маленькая острая мордочка, черная у носа, округлая грудь и мягко подтянутый живот. Юкон подошел к ней вплотную. Тогда она резко повернулась и грозно оскалилась. Это было просто наглостью. Юкон мог сокрушить ее одним ударом. Но он не тронул ее. Осторожно обходя вокруг и слегка помахивая хвостом, он принюхивался к ее запаху. Потом зашел сбоку, некоторое время постоял неподвижно, как бы в раздумье, и вдруг лизнул серую собаку в затылок. Она равнодушно шевельнула ухом. — Все в порядке, — сказал начальник и вместе с Павлом отошел от загородки Юкона. Вернулись они вечером. Серая собака лежала посредине вольера, кокетливо вытянув лапы и зажмурив глаза. Юкон сидел возле нее с раскрытым ртом и высунутым языком. Он не отрываясь смотрел на нее и тяжело дышал. Сидел совершенно неподвижно, только кончик черного хвоста изредка вздрагивал. Начальник приоткрыл дверцу и крикнул: «Альма!» Серая собака вскочила, подняв уши, и вышла, не глядя на Юкона. Он кинулся за ней, виляя хвостом и осклабясь. Но дверца захлопнулась перед его носом. Альма уходила рядом с начальником. Юкон прижался грудью к холодной ржавой решетке и громко, раскатисто залаял. Серая собака всего один раз равнодушно оглянулась и скрылась за углом. Через три дня пришло экстренное предписание, и Юкон с Павлом снова уехали на границу.Глава двадцать вторая КОНЕЦ ЮКОНА
Павел Сизых с Юконом были в дозоре. Солнце опустилось к горизонту. Косые лучи пробивались сквозь густую листву и частые стволы деревьев. Свет ложился яркими пятнами. Ни одна ветка не шевелилась. В неподвижном воздухе серыми облачками плясала мошкара. Кузнечик трещал в траве у тропинки, и дятел гулко тукал по стволу старой ели. Юкон на длинном поводке бежал впереди Павла. Сзади шли двое пограничников. Дозор двигался молча, не нарушая лесной тишины. Павел внимательно оглядывал все вокруг. Он научился видеть всякую мелочь с острой наблюдательностью настоящего следопыта. Сломанная ветка, примятый куст, растоптанный стебелек рассказывали ему обо всем происшедшем в лесу. Здесь пробегала лисица, там — заяц перескочил тропу и обглодал ствол молодой березы, а здесь проходил лось. У разветвления тропинок Павел резко остановился, разглядывая что-то у своих ног. Юкон тревожно заворчал и припал носом к траве. Пограничники бросились к ним, снимая винтовки. В густой траве лежал окурок. Окурок погас, но сухие листики еще тлели, подожженные папиросой. Павел выпрямился и жестом остановил пограничников. Шепотом он приказал Юкону: — Нюхай след… ищи… Юкон с минуту кружил вокруг окурка, потом зарычал и потянул в сторону. След вел в чащу высоких кустарников. От этого места тропинки расходились углом, напоминающим огромное римское «V». В середине были почти непроходимые заросли. Вершины пятерки упирались в болото, на противоположном краю которого проходила граница. Павел тихо отдавал приказания товарищам. Он послал их порознь по каждой из тропинок. Человек, бросивший окурок, очевидно, продирался напрямик, чтобы сократить расстояние и пройти незаметно. План Павла был такой: двое пограничников должны как можно скорее пробежать до болота и соединиться, отрезая путь к границе. Сам Павел постарается догнать и задержать нарушителя. Окурок выброшен недавно, и человек должен быть близко. Выслушав Павла, пограничники с винтовками наперевес бросились в разные стороны и скрылись за поворотами троп. Юкон рвался на поводке. Павел вынул наган и пустил собаку по следу. Ремень поводка он накрепко привязал к левой руке. Юкон тащил, пригибаясь к земле и хрипя. Веткой с Павла сбило фуражку. Он бежал не останавливаясь. Сучья цеплялись, рвали гимнастерку. Ноги вязли в сыром мху. Юкон выл и рычал. Скрытый в кустах извилистый ручей преградил путь. Юкон вошел в воду и поплыл. Высоко поднимая наган, Павел перешел вброд. Вода дошла ему до груди. Выбравшись из ручья, Юкон отряхнулся на бегу. Намокшие сапоги Павла стали скользить. Бежать стало труднее. Впереди, сквозь густые кусты, замелькало небо. Близко было болото. Задыхаясь, Павел выскочил на опушку. Человек в серой куртке, пригнувшись и часто оглядываясь назад, бежал по болоту. Павел остановился и схватил Юкона за ошейник. Юкон лязгнул зубами и заворчал. — Стой! — крикнул Павел и выстрелил в воздух. Человек оглянулся и побежал еще скорее. Болотная вода брызгала из-под его ног. Павел крикнул: «Фас!» и пустил Юкона. Юкон рванулся с места и огромными прыжками понесся к убегавшему человеку. Расстояние между ними сокращалось с каждой секундой. На болото с двух сторон выбежали оба пограничника. Они бежали к нарушителю изо всех сил. Юкон настигал врага. Павел видел, как человек обернулся и стал, повернувшись лицом к собаке. Юкон бежал прямо на него. Человек медленно поднял руку. Луч заходящего солнца блеснул на револьвере. Павел замер на месте. Белый дымок вылетел из дула. Павел услышал сухой треск выстрела. Юкон упал. Человек не опускал руки. Он выстрелил еще три раза. С каждым выстрелом вздрагивало тело Юкона. Павел отвернулся. Первая пуля попала Юкону в переднюю лапу и раздробила кость. Он повалился в мох. Два раза страшная боль ожгла его спину. Четвертый выстрел содрал кожу с головы. Кровь залила Юкону морду. Он все же открыл глаза и увидел серую спину убегавшего врага. Юкон должен догнать врага. Пока Юкон жив, он должен драться. Он поднялся шатаясь. Несколько раз жадно глотнул воду у своих ног. Прыгнул вперед и взвыл, наступив простреленной лапой. Павел рассчитал верно: пограничники успели соединиться и отрезали нарушителю путь к границе. Павел догонял его сзади. Затравленным зверем нарушитель пригнулся к земле. Пограничники шли к нему с винтовками наперевес. Но когда они были совсем близко, нарушитель вскочил, замахнувшись ручной гранатой. Срывая кольцо, он обернулся и вдруг дико вскрикнул: молча разевая красную пасть, окровавленный, обезумевший от ярости, черный пес летел к нему. В следующую секунду Юкон прыгнул и сшиб его с ног. Нарушитель старался отбросить гранату, но страшные зубы сжали кисть его руки. Силясь оторвать от себя собаку, сунул дуло револьвера ей в бок. Звук выстрела был глухой. Юкона передернуло и подбросило вверх. Но он не выпустил врага. Тесно сплетясь, человек и собака боролись в вязком мху. Граната разорвалась в руке нарушителя. Когда рассеялось облако желтого дыма, Павел подбежал к Юкону. Изуродованный осколками, оглушенный взрывом, он был еще жив. Он открыл глаза и увидел проводника, низко нагнувшегося над ним. Слезы текли по щекам Павла. Носовым платком он вытер кровь с морды собаки. Пограничники сняли с тела нарушителя небольшую кожаную сумку и раскрыли ее. В сумке была карта пограничного района. На участке, где когда-то был задержан Воскресенский, стояла цифра 4, а на втором участке (который на карте Воскресенского был обозначен цифрой 5) была шифрованная съемка. Кровь булькала у Юкона в горле. Он лизнул Павлу руку и хрипло вздохнул. Последняя судорога свела его лапы.ЭПИЛОГ
Серая сука Альма родила трех щенков. Весь питомник ждал этого события и волновался. Два щенка были серые, как мать, а один — самый крупный — был черный.1934—1935
БЕЛАЯ ТРОЙКА
1
День начинался как обычно. Утром командир Николай Семенович Воронов вскочил с постели, голый подошел к окну и распахнул форточку. Морозный воздух ворвался в комнату. Николай Семенович поежился. Стоя под форточкой, он начал делать гимнастику. Приседая и выпрямляясь, нагибая корпус в разные стороны и разводя руками, он ровно и шумно дышал. На дворе бойцы чистили лошадей. Татарин Ахметдинов пел длинную непонятную песню. Он пел каждое утро эту песню, и через открытую форточку Николай Семенович отчетливо слышал протяжные, монотонные слова. Потом затопотал конь. Красноармеец проговорил добродушно: «Тимофей Иванович, не балуй». Тимофеем Ивановичем звали коня командира. Николай Семенович приостановился и, вытянувшись на носках, взглянул в окно. Тимофей Иванович, рослый вороной жеребец, приплясывал на месте, круто сгибал красивую шею, фыркал и косил глазами. Никифоров чистил лоснящиеся бока коня. Николай Семенович улыбнулся и снова стал приседать на носках, вытягивая вперед руки. За окном Никифоров запел приятным тихим баском:…По Дону гуляет,
По Дону гуляет,
Эх, по Дону гуляет.
Казак молодой…
А девица плачет,
А девица плачет,
Эх, а девица плачет
Над быстрой рекой…
Декабря 192… года.Листок бросил в корзину под письменным столом. Потом он оделся и, застегивая ремни, вышел на крыльцо. Бойцы поздоровались с ним. — Здравствуйте, товарищи красноармейцы, — сказал Николай Семенович. Вороной жеребец заржал звонко и весело. — Тимофей Иванович! — с укоризной сказал Никифоров. Николай Семенович пошел по двору. Он зашел в конюшню. Дневальный сидел около двери. Он вскочил навстречу командиру и отрапортовал. Все было в порядке. Выйдя снова на двор, Николай Семенович посмотрел на небо. С запада низко шла темно-серая туча. «Будет снег. Пожалуй, и ветер. Метель», — подумал Николай Семенович. Огромный боров подошел сбоку и хрюкнул низким басом. Боров был «подсобным хозяйством». Маленьким поросенком купил его Николай Семенович. На остатках от кухни боров невероятно разжирел и вырос. Красноармейцы называли его Пуанкарэ. Никифоров утверждал, что Пуанкарэ — чистокровный иоркшир. Николай Семенович почесал Пуанкарэ за ухом. От удовольствия боров громко сопел. Он, как собака, побежал по двору за Николаем Семеновичем. Из помещения канцелярии выскочил дежурный. — Товарищ командир! Из штаба отряда просят к телефону! — еще издали крикнул он. Николай Семенович вошел в канцелярию. Звонил начальник отряда. Хорошо знакомый голос начальника, всегда ровный и спокойный, показался Николаю Семеновичу немного взволнованным. — Товарищ Воронов? — сказал начальник отряда. — Я слушаю, товарищ начальник отряда. — Товарищ Воронов, здравствуйте. Дело необычайно важное. На вашем участке ожидается нарушение границы. Очевидно, перейдут по льду залива. Господа очень серьезные и опытные. Вы должны приготовиться к неожиданным вещам. Вышлите разъезд немедленно. И посылайте самых надежных людей. Нужно взять их живыми. Поняли? — Понял, слушаюсь, товарищ начальник. Воронов повторил приказание. — Ну, счастливо. Желаю успеха. — Спасибо. Я позвоню вам немедленно, как что-либо произойдет.
2
Стоя на крыльце в овчинном полушубке и полном снаряжении, Николай Семенович смотрел, как собирается разъезд. На дворе шла бешено-торопливая суета. Еще недавно двор состоял из целого ряда отдельных, между собой не связанных хозяйств. Конюшни, общежития, канцелярия. Спокойно ходили люди. Каждый делал свое дело. Мирные хозяйственные дела. По боевой тревоге все сразу слилось и смешалось. Но суета была только кажущаяся. Николай Семенович видел порядок, четкую организованность во всей этой беготне, приказаниях, сборах. Он любил стоять так, не вмешиваясь, и следить, как четко и хорошо работает налаженный им живой механизм. И когда через несколько минут суета вдруг сразу оборвалась и аккуратной чертой встали на дворе одетые, вооруженные люди, а позади них оседланные лошади, Николай Семенович улыбнулся весело. Никифоров подвел командиру его лошадь. — По ко-ням! — звонко крикнул Николай Семенович. И снова все смешалось, а через минуту снова пришло в порядок. Бойцы сидели верхом. Николай Семенович, не переставая улыбаться, разобрал поводья, похлопал коня по лоснящейся шее и тихим шажком поехал к воротам. Мягко цокая копытами по плотному снегу, разъезд ехал за его спиной. Всю жизнь Николай Семенович прожил, не расставаясь с лошадью. Сначала мальчишкой в казачьей станице на Кубани, потом конником в гражданскую войну, а теперь в армии, он, вероятно, больше половины всего времени провел в седле. Но всякий раз, как ему приходилось ехать верхом, он испытывал острое удовольствие. Всякий раз ему казалось, что он и лошадь накрепко срастаются в одно целое. Николай Семенович вспомнил сон, который ему на днях приснился. Сон был нелепый и смешной. До этого, днем, Николай Семенович был по делам в городе. У него осталось свободное время, и он пошел в музей. Он ходил по пустым, холодным залам и старался не греметь сапогами и шпорами. Сапоги скрипели, скрип казался Николаю Семеновичу оглушительно громким, и он пугался своих шагов. Картины в тяжелых золотых рамах казались ему сказочно прекрасными. Не верилось, что все это создано руками людей. В маленьком, узком зале он наткнулся на черную статуэтку. Странное существо с головой, грудью и руками человека, но с лошадиным туловищем, хвостом и ногами мчалось вперед, запрокинув курчавую голову и открыв рот. Застывшее в мраморе движение было дико и стремительно. Николай Семенович долго рассматривал статуэтку. Потом подошла старушка сторожиха. У нее было крохотное, сморщенное и серое личико. На рукаве старенькой шубки краснела кумачовая повязка. Старушка фамильярно погладила по спине черного человека-коня и сказала: — Кентавр это, сынок. Из мифологии. Скульптура античная и ценная, кентавр. Николай Семенович не совсем понял, но поблагодарил старушку и ушел из музея. Он запомнил странное слово «кентавр». А ночью ему приснился сон, будто он сам превратился в кентавра; ему очень легко и удобно бежать: и рысью и галопом, и брать барьеры; только шинель ему не годится; потом вошел Ахметдинов и, мучительно краснея, сказал: «Здравствуйте, товарищ кентавр», и Николай Семенович отвечает «здравствуйте» и бьет кованой ногой. Этот сон вспомнил Николай Семенович и засмеялся. — Ну, кентавры, — сказал он тихо и громко скомандовал: — Марш ма-арш! Разъезд выехал на ровный лед залила.3
Разъезд свернул к бухте, скрытой со стороны залива высокими скалами. Скалы странными черными грудами возвышались над ровной снежной поверхностью. Николай Семенович собрал бойцов вокруг себя. Разогревшиеся кони нетерпеливо топтались. Пар легким облачком подымался над всадниками. Николай Семенович подробно рассказал красноармейцам, в чем заключается задание, подчеркнув, что враг опытный и сильный. В заключение он передал приказ начотряда — во что бы то ни стало взять нарушителей живьем — и подробно указал, что должен делать каждый. Когда Николай Семенович кончил, все бойцы знали план операции так хорошо, будто сами его придумали. Казалось, никакие распоряжения больше не нужны. Пока было светло, разъезд оставался в засаде. По белому заливу никто не смог бы пройти незаметно. Стемнело рано. Николай Семенович вывел отряд из бухты, развернул широкой цепью. После осенних оттепелей и снегопадов сразу ударил мороз. Снег был покрыт плотным настом. Лошади шли легко. В центре цепи, рядом с командиром, ехал Никифоров. Он сказал, показывая плеткой на серое небо: — Снег пойдет скоро, товарищ командир. Будет метель… И снег пошел минут через десять. Сначала падали большие медленные хлопья. Потом ветер закрутил, запутал. Снежный вихрь белой пеленой заволок небо. Все стало белым. Вместо мягких хлопьев пошла мелкая, колючая крупа. Ветер подымал снег со льда и кидал снова вниз. Лошади фыркали и мотали головами. На левом фланге вдруг закричал Ахметдинов. Он кричал что-то по-татарски — пронзительное и визгливое. Николай Семенович пригнулся к шее коня и понесся на левый фланг. Татарин крутился в седле, размахивая винтовкой, говорил что-то от волнения сбивчиво и непонятно. Он показывал прямо перед собой. Сначала Николай Семенович ничего не мог разглядеть в белой путанице метели. Потом он увидел большое белое пятно, быстро двигавшееся по льду. Что это такое, разглядеть было невозможно. — Марш-марш! — крикнул Николай Семенович и с места пустил коня в карьер. Снег бил в лицо, ветер засвистел в ушах. Взмахивая сильными ногами, вороной летел неистовым галопом. Рядом с Николаем Семеновичем, стоя на стременах и крутя винтовку над головой, скакал Ахметдинов. Маленькое ловкое тело его согнулось на шее лошади. Он визжал лошади в ухо татарские слова. Обгоняя командира, Ахметдинов обернулся. Николаю Семеновичу раскосо улыбнулось лицо дикого кочевника. Ахметдинов, откидывая голову назад, крикнул: «Не уйдут, командир! Догоним!» — и стал бешено нахлестывать свою лошадь. «Кентавр», — вспомнилось Николаю Семеновичу. Ахметдинов показался странно похожим на изящную черную фигурку. Белое пятно было гораздо ближе, но все еще нельзя было понять, что это такое. Вдруг Николаю Семеновичу показалось, что белое пятно остановилось. В следующую секунду что-то сверкнуло сквозь снежную завесу, и Николай Семенович услышал треск пулеметной очереди. Ахметдинов коротко вскрикнул и повалился боком на снег. Его лошадь проскакала вперед, потом споткнулась и рухнула. Конь Николая Семеновича перескочил через нее. Никифоров догнал командира. Он кусал губы. Срывая винтовку, крикнул: — Сволочи! Ахметдинова убили! Белое пятно снова помчалось по снегу. Никифоров поднял винтовку и выстрелил. Что-то зашевелилось в задней части белого пятна, и затрещал пулемет. Пули тоненько пропели. — Не стрелять! — крикнул Николай Семенович и со всей силы хлестнул своего коня нагайкой. Никифоров опустил винтовку. Лавой летел разъезд. Белое пятно медленно приближалось. Оттуда все время стреляли из пулемета.4
Метель вдруг утихла, и Николай Семенович увидел то, за чем гнались. Тройка рослых рысаков была впряжена в легкие санки. И лошади и сани были покрыты белыми покрывалами. Глаза лошадей смотрели в круглые прорези, как в попонах средневековых рыцарей. В санях скорчились два человека, тоже закутанные в белые халаты. Один правил лошадьми. Второй возился с пулеметом, тупая мордочка которого высовывалась сзади. Пулемет молчал. Очевидно, кончилась лента. Никифоров скакал рядом с командиром. Николай Семенович оглянулся на него. С искаженным яростью лицом, Никифоров подымал ручную гранату. — Не сметь! — крикнул Николай Семенович. — Во что бы то ни стало взять живыми. Танки брали голыми руками, а ты пулемета испугался! Пулемет затарахтел. Николай Семенович почувствовал, что падает вместе с конем. В следующую секунду острой болью ожгло ногу. Он успел крикнуть: — Никифоров, не останавливаться. Взять живыми! — и повалился на снег. Мимо вихрем пролетел разъезд. Бойцы оглядывались на командира. Николай Семенович, лежа, махнул плеткой вперед. Никто не остановился. Разъезд умчался. Стало очень тихо. Конь придавил Николаю Семеновичу ногу. Нога болела. В сапоге стало мокро. Кровь. — Вот тебе и кентавр! — громко сказал Николай Семенович. Он попробовал выбраться, но, падая, конь проломил наст, и снег проваливался под руками, когда Николай Семенович уперся посильнее. Некоторое время Николай Семенович лежал неподвижно. Ему было жарко. Он укусил снег, начал сосать твердый комок. От холода стало больно зубам. Николай Семенович выплюнул ледяной шарик и лег лицом на снег. Вдруг конь захрипел и приподнялся. Нога освободилась. Николай Семенович откатился в сторону и вскочил. — Ты жив, дружище? — сказал он. Конь повернул к нему черную голову. Обе передние ноги его были перебиты пулями. Снег таял, залитый кровью. Николай Семенович пошел к коню. На правую ногу было больно ступать. Кровь хлюпала в сапоге. Издалека, приближаясь, донесся треск пулемета. Николай Семенович увидел черную цепочку, скачущих всадников и белую тройку впереди. Черные фигурки обогнули тройку кривым полукругом. — Молодцы! — сказал Николай Семенович. Тройка повернула. Теперь белое пятно неслось прямо на него. Черные всадники смыкались плотнее, окружая тройку. Вдруг один из них упал, высоко вскинув руки. Его лошадь поскакала в сторону. — Сволочи, — пробормотал Николай Семенович и сразу вспомнил: «Ахметдинова убили». Ни один выстрел не отвечал суетливой трескотне пулемета. Николай Семенович заковылял к коню. Конь опустил голову на снег. Николай Семенович лег рядом с ним, отстегнул маузер и приладил приклад. Дуло маузера положил на спину коню. Тройка быстро приближалась. Николай Семенович приложил маузер к щеке, целясь в тройку. Ладонь привычно нащупала серебряную дощечку на прикладе. Маузер был боевой наградой. Николай Семенович ждал. Он думал о том, что Ахметдинов, вероятно, убит, что, может быть, не одного Ахметдинова уложили нарушители. Можно было бы обойтись без жертв. Например, забросать тройку гранатами. Гранаты были. Имел ли он, командир Воронов, право приказывать не стрелять, не кидать гранаты и подставлять людей под пули? Но нужно взять нарушителей живыми. Таков приказ начальника отряда. И война есть война. Тройка была совсем близко. Черные фигурки всадников двумя плотными стайками сжимали тройку с боков. Николай Семенович прицелился в грудь кореннику. — Молодцы, кентавры, — шепнул он и затаил дыхание, тихонько дожимая спуск. Коренник упал, убитый наповал, и запутался в ногах пристяжных. Николай Семенович видел, как Никифоров махнул шашкой, перерубая постромки. Обезумевшие пристяжные понеслись, волоча по снегу тело коренника. Люди в санях вскочили. Один побежал в сторону. Его поймали. Второй, пулеметчик, выхватил револьвер и сунул себе в висок. Никифоров перегнулся с седла, и снова сверкнул клинок. Револьвер упал в снег. Пулеметчик вскрикнул, сжимая левой рукой перерубленную кисть. Несколько бойцов спешились и с винтовками наперевес окружили пленных. Никифоров подъехал к командиру. — Как Ахметдинов? Кто еще ранен? — спросил Николай Семенович. — Ахметдинов жив, товарищ командир. Ранен в плечо. Под Семеновым коня убили… Кириллов ранен в ногу… Остальные целы… — возбужденно говорил Никифоров, слезая с взмыленной лошади. Он подошел к коню Николая Семеновича и стал на колени перед ним. — Плохо с Тимофеем Ивановичем, товарищ командир. — Он снял винтовку. — Плохо, Никифоров. Николай Семенович видел, как слеза потекла по щеке Никифорова. Никифоров приставил дуло винтовки к уху неподвижно лежавшего коня. Николай Семенович отвернулся.5
Утром Николай Семенович проснулся как обычно. Он хотел вскочить на пол, но сразу заныла забинтованная нога. Рана оказалась пустяковой, но нога побаливала. Николай Семенович осторожно сел на кровати, на одной ноге добрался до окна, распахнул форточку. Бойцы чистили лошадей. Никифоров вывел небольшую, изящную белую кобылу. Николай Семенович вернулся к кровати, лег и поудобнее вытянул ногу под одеялом. За окном запел Никифоров:…По Дону гуляет,
По Дону гуляет,
Эх, по Дону гуляет
Казак молодой…
1935
ТРУС
…Обнаружено, что след собаки пересекает границу.Из рапорта начальника заставы
1935
Я ПРИВЕЗУ ТЕБЕ ЯБЛОКИ ИЗ ДОМУ
1939
СЫН СТАРИКА
Г. Г. Соколову
1940
ХОЛОДНОЕ МОРЕ Очерки
ТОРЖЕСТВО
«…Кто хочет видеть гений человечества в его благороднейшей борьбе с суеверием и мраком, тот пусть прочтет о людях, которые с развевающимися флагами стремились в неведомые края. Человеческий дух не успокоится до тех пор, пока и в этих странах не станет доступна каждая пядь земли, пока не останется здесь ни одной неразрешенной загадки…»Четыре человека стояли во весь рост в шлюпке и стреляли в воздух. Захлебываясь, тарахтел мотор, и шлюпка прыгала на бурых волнах. Четыре человека — все население Северной Земли. Два года провели они совершенно одни на обледенелых островах. Через два года к Северной Земле подходил ледокол. Еще за сутки до прихода с зимовщиками связались по радиотелефону. В белой рубке хрипловатый репродуктор заговорил прерывающимися от возбуждения голосами. Был точно назначен час прихода ледокола. В полночь, когда показался дымок, зимовщики столкнули в воду шлюпку и завели мотор. Было лето, и тусклое незаходящее солнце низко висело над горизонтом. На берегу, у маленького бревенчатого домика, остались одни собаки. Они с лаем подбегали к морю, возвращались к дому, снова подбегали к берегу. Некоторые, беспокойно повизгивая, совались в холодную воду и отскакивали обратно, отряхивая пушистые шкуры. Шлюпка ушла далеко в море. В белесом тумане показались очертания ледокола. Тогда зимовщики дали первый салют. Они стреляли без перерыва до тех пор, пока шлюпка не подошла к борту ледокола. Потом они поднялись по трапу и стали обниматься со всеми людьми, которые стояли на палубе. Они забросали прибывших вопросами. Им отвечали наперебой сразу все. Они ничего не понимали в этом веселом гомоне. Стояли, смущенно улыбаясь, оглушенные криками и объятиями. Потом их повели в кают-компанию, и они сделали доклад о своей работе. Они рассказали, как после ухода «Седова», который высадил их на берег и построил им хижину, они долго приводили в порядок снаряжение и продовольствие. Охотились, чтобы заготовить мясо собакам. Потом море замерзло, и они стали совершать небольшие походы на собаках. Они устраивали базы продовольствия для людей и корма для собак. Короткими переходами двигались по намеченным маршрутам и забрасывали припасы все дальше и дальше в глубь островов. Они рассказывали, как заносило снегом их дом, потому что они сложили дрова с той стороны, откуда обычно дули ветра. Снег наметало очень высоко. Засыпало дом до самой крыши. Летом они переложили дрова на другое место, и вторую зиму их не заносило. Потом они рассказали, как весной они уезжали на собаках за сотни миль. Жили в палатке неделями. Продвигались от одной базы до другой, составляя карту Северной Земли. Возвращались к хижине, чтобы дать отдых собакам. Мылись в бане, спали и через два или три дня снова уезжали. К нартам они приделали велосипедное колесо, и счетчик отмерял их путь милю за милей. Ездило их трое: начальник, геолог и зверобой-промышленник. Четвертый, радист, все время сидел на зимовке. В крохотной комнатке была радиостанция. Потом снова наступила зима, и стало темно. Они обрабатывали собранные весной и летом материалы и устраивали новые базы продовольствия. В следующую весну они снова уехали. Им приходилось проезжать по ледникам и горам или пробираться по льду проливов, которые разделяют острова Северной Земли. Снова они шли от одной базы до другой. Собаки выбивались из сил, и люди впрягались в нарты. Геолог собирал образцы пород. Обломки камней в аккуратных холщовых мешочках складывали в нарты. Потом они рассказывали, как, открывая новые острова, проливы и горные хребты, они давали им имена и заносили на карту: мыс Серп и Молот, острова Октябрьская Революция, Комсомолец, Большевик, Пионер, мыс Визе, мыс Лаврова, мыс Шегенова. Они нашли признаки олова и полезных ископаемых. Карта Северной Земли возникала все отчетливее. Они убили сто белых медведей и очень много моржей, нерп и морских зайцев. Кончив доклад, они показали свою карту: они привезли один экземпляр в подарок ледоколу. На карте обозначены астрономические пункты и магнитные аномалии. Она совершенно непохожа на расплывчатый пунктир, который был на месте Северной Земли на всех картах мира до их зимовки. Зимовщикам пришлось сделать несколько тысяч миль на собаках, для того чтобы нарисовать берега островов тонкой чертежной линией на голубой кальке. Над серым морем бурые камни горных хребтов. Тускло поблескивают ледники. В низинах снег кое-где стаял. Там проступают чернотой голые каменистые прогалины. Легкий туман окрасил горы и низкое небо в белесые, лиловые тона. У самого берега стоит на мели огромный айсберг. Айсберг, изумрудно-зеленого цвета, странной формой напоминает утку. Хижинка зимовщиков — маленькая точка с черточкой-радиомачтой на фоне мрачного великолепия скалистых нагромождений, придавленных расплывчатыми свинцовыми облаками большого неба. Тихо подходит ледокол к низкому берегу островов Каменева. Мы провели с зимовщиками тридцать суматошных часов. Все это время никто не ложился спать, были отменены сами собой обеды и ужины, исчез размеренный судовой распорядок. Мы слушали рассказы зимовщиков, с уважением рассматривали их оружие и меховую одежду. На берегу мы видели аккуратно сложенный и покрытый брезентами штабель свернутых медвежьих шкур. Вокруг домика кружились собаки. Их было три поколения: ветераны, прибывшие на Северную Землю два года тому назад, ободранные и старые; молодые — их первое потомство, и совсем маленькие щенки, прекрасной породы, веселые и сытые. Среди ветеранов ковылял мохнатый, мрачный и глухой Юшар. У него вместо пальцев были ровненькие, голые костяшки. Он стер лапы на бегу о твердый, как битое стекло, снежный наст и, непригодный уже к работе, жил теперь как на персональной пенсии. Мы облазили все уголки зимовки. В скупой обстановке домика все было приспособлено для суровой работы. Показался дымок второго ледокола, который должен был сменить зимовщиков, и мы отошли от островов Каменева. Четыре человека проводили нас ружейным салютом. Несложное это приветствие прекрасно выражает любые радости и огорчения.Fridtjof Nansen
ХОЛОДНОЕ МОРЕ
«Что делать: полярные путешествия, говорят, приучают к большому терпению…»Океанские лесовозы везут в Арктику людей, продовольствие и снаряжение. В трюмах не хватает места, и палубы завалены экспедиционными грузами. Бочки, вперемежку с бревнами для домов, ящиками и мешками, беспорядочно затиснуты между высокими фальшбортами. Грузы принайтовлены запутанной сетью канатов. В сложном лабиринте с трудом пробираются по палубе люди. Тут же в маленьких закутках стоят коровы и свиньи: живые запасы мяса. Коровам так тесно, что они трутся друг о друга впалыми боками. В шторм, когда корабль неуклюже и надоедливо болтается из стороны в сторону, бочки скрипят, передвигаясь и перекатываясь, коровы стонут от мучительной морской болезни. Они тяжело переступают дрожащими ногами, с низко опущенных морд стекает обильная слюна. В больших слезящихся глазах смертельный ужас. Вода ударяет в борта, и холодные брызги перекатываются через палубу. В шторм люди на палубе превращаются в эквилибристов. Часто на корабль обрушиваются огромные массы воды. Море грозит начисто смыть ящики и бочки. Тогда бросаются крепить груз заново. Люди мечутся по палубе, скользят и падают. Мокрые и озябшие, вяжут негнущиеся концы и забивают тяжелые деревянные клинья. Тут же на палубе живут собаки. Некоторые из них привязаны цепями к релингам. Другие свободно ходят по судну. Собаки, голодные и тощие, спят, свернувшись клубком на сырой соломе. Они дрожат от холода и воют заунывно, по-волчьи. Черные корабли грузно переваливаются в свинцовых волнах. Белые гребни с монотонным всплеском разбиваются о борта. Иногда вода бьет на палубу, стремительно моет судно и с шумом сбегает по клюзам. За кормой бурные водовороты. Вдруг обнажается винт, и лопасти хлещут по поверхности, поднимая фонтаны блестящие брызг. Волны порывами натягивают лаглинь, и неравномерно крутится колесико лага. За кораблем вьются чайки. Они то проносятся вперед, низко спустившись над водой и зацепляя крыльями пенистые гребешки, то поднимаются выше и отлетают назад. Ветер крутит их и топорщит белые перья. На грузовых пароходах нет жилых помещений для пассажиров. В кубрик для людей экспедиции превратили один из угольных бункеров. В темном, низком и мрачном помещении тесные ряды нар из грубых, некрашеных досок. Узкие нары так коротки, что еле-еле можно вытянуться во весь рост. Нары в два этажа, причем верхний так придавливает нижний, что сесть на нарах невозможно. Над верхними нарами — палуба.И. С. Соколов-Микитов.«Море, люди, дни»
Железо котельных топок кажется красным от ослепительного отблеска. На стальные листы пола вываливаются уродливые куски раскаленного слипшегося угля. У топки работает кочегар. Ритмически нагибаясь и разгибаясь тонким, сильным телом, он кидает в сияющую дыру полные лопаты угля. Бросая, ловко дергает руками и спиной, уголь летит веером и равномерно засыпает решетку. Первую секунду уголь кажется иссиня-черным на ярком фоне пламени, потом он сразу краснеет, а еще через секунду становятся белым. Страшный жар пышет от котлов. Кочегар бросает лопату, закрывает тяжелую дверцу и вытирает потное лицо сеткой. Сетка всегда висит на шее, как маленький шарф. Она заменяет платок на работе, мочалку в бане и галстук в кают-компании. На блестящей коже остаются черные полосы и подтеки. Кочегар выгребает перегоревший уголь и заливает раскаленную кучу водой. Потом он раскрывает топку, шурует длинным ломом, взглядывает на манометр и снова бросается засыпать уголь. Еле успевает отхлебнуть из ковша тепловатой воды и вытереться грязной сеткой. После четырех часов этой адской работы кочегар вылезет на палубу с ведром пресной воды. По дороге в баню он остановится у релингов. В холодном, прозрачном и неподвижном воздухе подымается пар над голыми руками, торсом в рваной тельняшке и мокрой чумазой головой. Кочегар несколько минут смотрит на сверкающий лед и тяжело дышит. Он остынет, вымоется, поест и свалится спать. Отдыхать он будет восемь часов, и потом снова на вахту.
Караван продвигается томительно медленно. Часто ледокол резко меняет курс, уходит далеко в сторону, ищет лазейку в сплошном ледяном поле. Но лед всюду одинаков. Всюду, куда хватает глаз, однообразные бугры и торосы, разреженные мелкими лужицами и полыньями. Небо, бледно-голубое вверху, резко белеет к горизонту. Ледовое небо. Начинается ветер. Льдины движутся, громоздятся друг на друга, сталкиваются, ломаются и трещат. Колючая снежная пыль поднимается в воздухе. Белые вихри крутятся, застилают небо. Ветер ноет в снастях, поднимает рябь на воде в полыньях, движет большие ледяные поля и наметает сугробы на льду. Засыпанные снегом ходят на мостиках вахтенные. Чаще гудит флагман. Гудки кажутся напряженными и тревожными. На мачте ледокола укреплена бочка. По веревочным вантам капитан забирается в нее и долгие часы не отнимает бинокля от глаз. Внимательно оглядывает ослепительную поверхность льда и командует из бочки вахтенному штурману. Лицо капитана багрово-красное, рыжие усы заиндевели, глаза слезятся. Солнце обходит небо, скатывается к самому горизонту и снова начинает забираться наверх. Капитан не вылезает из бочки. По старым поморским приметам он угадывает, которая льдина подтаяла и легче уступит удару ледокола. Он орет осипшим голосом, на мостике штурман повторяет команду, звякает машинный телеграф. Ледокол с разбегу ударяется в ледяную скалу и от удара кренится набок. Капитан хватается за высокие края бочки. Льдина трескается, ломается, и осколки, переворачиваясь в зеленоватой воде, блестят, как огромные кристаллы. Ледокол продвигается вперед еще на несколько сажен.
АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
«Впереди всех времен авиатор».Над морем опустился туман. Резкий ветер пригнал сырые, белые облака. Туман такой густой, что с мостика еле виден нос парохода. Кажется, будто не воздух, а густая жидкость заполняет пространство. Отдельные рваные хлопья пролетают на фоне темных снастей, лебедок и мачт. На баке все время бьет колокол. Призраком маячит закутанная фигура вахтенного матроса. Он каждую минуту дергает веревку, и тревожный звон глухо доносится сквозь плотный туман. Другие корабли тоже бросили якоря и стоят где-то совсем близко. Двое суток солнца не видно, и время смешалось. Только к вечеру второго дня сплошная стена тумана разорвалась, и неожиданно близко показался холмистый, унылый берег острова Диксон. Загрохотали якорные цепи. Пароходы медленно развернулись, вошли в бухту и снова бросили якоря. Остров Диксон — одна из самых больших и старых раций на советском Севере. На высоком пустынном берегу просторный дом, отдельное здание радиостанции, баня, сараи и службы. Здесь люди живут по нескольку лет с женами и детьми. На стенках комнат красуются семейные фотографии в вычурных рамках. Вместо коек стоят двуспальные кровати с замысловатыми пирамидами из подушек в изголовьях. Едят все вместе, за одним столом, в общей комнате. У большого окна стоит старенький, но хорошо настроенный рояль. На подоконниках — горшки с фикусами, привезенными сюда из далеких родных мест. Вечером зажигаются электрические лампы. Вокруг длинного стола с визгом бегают дети. Пахнет пеленками и кухней. Вся обстановка настолько благоустроена, настолько похожа на обычную «городскую», что никак не верится рассказам зимовщиков о мрачной и тяжелой полярной экзотике. Этой зимой, совсем недавно, погибли две женщины: вышли погулять, прошли с полкилометра — и вдруг неожиданно поднялась пурга. В снежном тумане женщины заблудились и замерзли в десяти минутах ходьбы от дома. Только через несколько дней их трупы нашли под снегом собаки. Старожилы Диксона хранят потрепанную тетрадку в черном кожаном переплете. Сюда записывали свои впечатления все посетившие станцию со дня ее основания. Здесь автографы Амундсена, Вилькицкого, Визе — лучших полярных исследователей — рядом с полуграмотными, неуклюжими каракулями промышленников и зверобоев. В этом году уже не просят всех посетивших Диксон расписываться в тетрадке. Пустынная бухта похожа на большой порт. Пароходы сходятся сюда со всех сторон, гудят моторы катеров, перекликаются люди. Для одних только имен посетителей этого года не хватило бы всей старенькой тетрадки. Диксон издавна славился ездовыми собаками. Много неплохих собак вырастает и сейчас на станции. Но опытные промышленники скептически поглядывают на новое поколение. Сокрушенно качая головами, с грустью перечисляют славные имена знаменитых диксоновских собак. Показывая целую стаю совершенно белых щенков, рассказывают легендарные истории о замечательной их прародительнице — суке Белочке — и вспоминают старое время. На тихой воде маленького мелководного заливчика около станции покачивается большой серый дорнье-валь. От самолета к дому проходит человек в стареньком кителе, огромных рыжих меховых сапогах и пилотском шлеме. Его замечают собаки и с веселым лаем бросаются к нему. Они прыгают, машут пушистыми хвостами и путаются у него в ногах. Он окликает по именам своих любимцев, пробегает по мосткам и скрывается в домике. Этот человек — командир самолета Анатолий Дмитриевич. В похожем на чуланчик помещении библиотеки он разваливается на матрацах и шубах, покрывающих весь пол. Здесь живет он с четырьмя товарищами — экипажем самолета — уже два месяца. Спят не раздеваясь на полу, измазанные маслом и бензином, обросшие бородами и грязные. Сюда прежде всего приходят люди с кораблей. Анатолий Дмитриевич радушно пожимает руки знакомым и незнакомым, приглашает рассаживаться. Мебели очень мало — маленький колченогий стол и шаткая табуретка. Большинство гостей устраивается на полу. Начинаются разговоры, возможные только на Севере, где каждая новость с Большой Земли, каждое слово о последних событиях приобретает огромное, ни с чем не сравнимое значение. Прежде всего летчики расспрашивают о последних авариях в авиации. Внимательно слушают печальные рассказы о разбившихся самолетах, сгоревших моторах и искалеченных людях. Горячо обсуждают возможные причины катастроф и ошибки погибших. Потом Анатолий Дмитриевич рассказывает о своих работах. Уже два месяца дорнье-валь летает над Карским морем, разведывает лед и по радио руководит ходом кораблей. Штурмана судов, уже ходивших от Диксона на восток, рассказывают о том, где и какие льды они встречали. Анатолий Дмитриевич сопоставляет эти сведения с той картиной, которую видел сам с самолета. Высказывает предположения о ледовых условиях, о курсе экспедиций. Лед сделался его специальностью. Увлекаясь любимой темой, он вскакивает с пола, ходит большими шагами по комнате. Говорит веселой скороговоркой, все время хитро улыбаясь и щурясь. Любимое его выражение «это хозяйство». «Хозяйством» он называет и лед, и свой самолет, и ветер… В маленьком квадратном окошечке — вся бухта. Темные облака заволокли небо. Дальний берег острова еле виден в сером сумраке. Океанские лесовозы, черныеледокольные пароходы, легкие шхуны, неуклюжие баржи и лихтера беспорядочной кучей покачиваются на мелкой волне. Дымят трубы, грохочут лебедки, гудят гудки и сирены. Кажется, будто это большой порт, а туманный берег напоминает неясные очертания города. Вдруг порывом налетел ветер. По зеленой воде пошли веселые барашки, туман разорвался, и заходящее солнце осветило пустынные каменистые холмы, припорошенные на вершинах голубоватым снегом.Александр Прокофьев
На флагманском ледоколе собрался совет. Капитаны и начальники съехались на гребных шлюпках, моторных лодках и катерах. В роскошном, как вестибюль отеля, салоне ледокола возились кинематографисты. Вид у кинематографистов совершенно «полярный». Они отпустили экзотические бороды, почему-то никогда не расстаются с неудобными охотничьими ножами и стараются говорить грубым, пропитым голосом. Когда они включили осветительную аппаратуру, яркий синеватый свет заиграл на золоте нашивок и пуговиц, черном сукне кителей и лоснящейся коже курток. Самый щеголеватый вид у капитанов маленьких речных пароходиков и у начальников экспедиций; на рукавах их блестят бесчисленные, чуть ли не адмиральские нашивки. Капитаны ледоколов, опытные коренные полярники, одеты в невзрачные куртки, свитера и грубые сапоги. Только капитан флагмана — в полной парадной форме. Когда все собрались, вошел начальник Первой Ленской экспедиции и сел на председательское место. Совет начался. Сообщили последние данные о состоянии льдов. Выяснилось, что есть два варианта продвижения на восток. Вариант первый: пойти на север от Диксона, с тем чтобы с севера обогнуть большие ледяные массивы. Последнее время дуют северные ветры, и есть основание предполагать, что лед подвинулся к югу. Вариант второй: пойти как можно южнее, как можно ближе к берегу. Прибрежные течения, мели и рельеф берегов должны задержать лед на некотором расстоянии. Очевидно, между материком и ледяной кромкой должна быть чистая вода. Первый вариант привлекал своей смелостью. Некоторые из начальников высказались за него. Но моряки стали энергично защищать второй, «южный» вариант. Начался спор, похожий на обсуждение дислокации боя в настоящем генеральном штабе. Полярные стратеги горячились, стараясь убедить друг друга. В самый разгар спора начальник экспедиции повернулся к Анатолию Дмитриевичу: — Можете ли вы летать на разведку в сторону мыса Челюскин? Анатолий Дмитриевич (с улыбкой): — Летать можем через два часа. Дальность полета моей машины и запас горючего таковы, что я могу без посадки сделать полпути до Челюскина и вернуться обратно. Взгляну, как там устроено все это хозяйство, вернусь и доложу во всех подробностях. Совет окончился. Капитанам было приказано приготовиться к отходу. Через два часа дорнье-валь прогудел над бухтой, набрал высоту и скрылся за холмами. Вернулся самолет уже ночью, и Анатолий Дмитриевич сразу поехал к начальнику экспедиции. По всему курсу вдоль берега летчики видели довольно широкую полынью. Только в двух местах лед вплотную подходил к материку. Если ветер не усилится и лед не продвинется значительно южнее, то две эти перемычки будут единственным серьезным препятствием. От того места, где самолет повернул обратно, полынья продолжалась дальше на восток. Флагман по радио отдал распоряжение капитанам сниматься и пошел вперед. Кильватерной колонной караван вышел из бухты Диксон. Через несколько часов начали попадаться мелкие льдины, а к утру вошли в сплошное поле. Эта была первая перемычка. Караван пошел «южным» путем. Через первую перемычку пароходы пробились ободранные, оставив на льдинах, как кровавый след, краску с бортов. На лесовозах были сильные вмятины в обшивках, заклепки у форштевней расшатались, образовались щели, и вода сочилась в трюмы. Приходилось на ходу ставить цементные пластыри. А один из лесовозов сильно пропорол нос и обломил кусок винта. Пройдя небольшое расстояние по чистой воде, караван снова уперся в ледяное поле. Лед был еще тяжелее, чем в первой перемычке, и в поисках прохода корабли отклонились на север. С каждой милей дело становилось хуже и хуже. Дул резкий нордовый ветер, снежная крупа шуршала по льду. Лесовозы стали. Флагманский ледокол один пошел вперед на разведку. Вернулся он через несколько часов, и сразу поползли тревожные слухи. Люди переходили по льду с корабля на корабль и шепотом, по секрету передавали, что на ледоколе случилась авария. Никто толком не знал, в чем дело. Каждый высказывал свои предположения. Первыми все подробности узнали, как всегда, радисты. Из радиорубок, конечно под строжайшей тайной, поступили точные сведения: флагманский ледокол потерял левый бортовой винт. Гигант стал слабее на одну треть… В маленькой радиорубке мерцают серебряные лампы и назойливо пищит репродуктор. В штормовую погоду и в штиль без перерыва и отдыха работает радист. Спит он тут же, в тесной каюте. Спит не раздеваясь, сном тревожным, как на фронте. Ложась, включает репродуктор и вскакивает, как только слышит хриплые позывные. Бледный, заросший колючей щетиной, он бросается к ключу, машинально включает и выключает рубильник. В полусне стучит ответ и записывает в журнале короткие, отрывочные фразы. Изредка радист выходит на палубу, несколько минут дышит свежим, соленым воздухом и, ежась от мороза, уходит в свою пропитанную табачным дымом будочку. Снова ложится на койку и сразу засыпает. Но через полчаса безжалостный репродуктор трещит торопливые точки и тире. Радист снова вскакивает и бежит к ключу. Часы в радиорубке поставлены по английской станции в Гринвиче. Живет радист по своему времени и никогда не знает толком, что сейчас — ночь или день. В радиорубку приносят официальные телеграммы, подписанные начальником или капитаном. С пространными описаниями «бирюзовых льдов» и «ледяных просторов» надоедают корреспонденты. Матросы и кочегары передают коротенькие записки, адресованные женщинам. Радист знает все. Ему доверяют и секретные распоряжения и нежные чувства к любимой. Когда от наушников начинает болеть голова и стучит в висках, радист включает репродуктор и, регулируя приемник, слушает, о чем говорят корабли в далеких морях и станции на берегу…
Начальник экспедиции по радио предложил Анатолию Дмитриевичу вылететь из Диксона для второй разведки льда. Анатолий Дмитриевич ответил, что вылетает в этот же день. Вечером в легком тумане показался самолет. Он сделал круг над неподвижными кораблями и улетел на восток. К ночи пришла телеграмма с мыса Челюскина: самолет благополучно сел в маленькую полынью около берега. Анатолий Дмитриевич совершил замечательный полет. Он вылетел, получив сведения с Челюскина о том, что под берегом есть небольшое пространство чистой воды. Но он должен был пролететь больше тысячи километров. На это необходимо около шести часов, а за такое время могли произойти подвижки льда и чистая вода могла превратиться в ледяное поле. Дорнье-валь самолет-лодка. Он может опускаться только на воду. Лед для Анатолия Дмитриевича означал бы катастрофу. Вернуться обратно в Диксон он также не смог бы, так как предельный запас горючего позволяет его самолету лететь расстояние не больше полутора тысяч километров. Получив приказ начальника, Анатолий Дмитриевич вылетел почти втемную, полагаясь на удачу, на счастье. Когда он кружился над караваном, никому не пришло в голову, что эта красивая, сильная машина с четырьмя спокойными людьми, может быть, идет к гибели. Ледяное поле надвинулось на берег, но самолет успел сесть на воду. В коротком рапорте Анатолий Дмитриевич доносил, что караван зашел слишком далеко на север. Если держаться южнее, ближе к берегу, то пройти ледяную перемычку будет значительно легче. Дальше, до самого Челюскина, лед сильно разрежен. Корабли повернули на юг. Держась курса, указанного летчиками, караван прошел перемычку и через три дня был на Челюскине. Анатолий Дмитриевич дождался прихода каравана. Он провел несколько часов на флагманском ледоколе и в холодную, ветреную погоду улетел обратно на Диксон.
СОЙМИКО
Мальчика, родившегося на зимовке в заливе Гадаяма, назвали Соймико. Он родился полярной ночью, без врачей и акушерок, в тесной каюте замерзшей промысловой шхуны. Новорожденного завернули в какие-то старенькие тряпки и закутали в меха. Мать лежала на койке, крытой невыделанными оленьими шкурами, и кормила сына. Когда нужно было купать ребенка, отец приносил снег и грел воду на дымном камельке. Соймико рос крепышом. Скоро мать перестала давать ему грудь, начала уходить на охоту. Соймико оставался один в каюте. Он спал вместе с собаками, грелся, прижимаясь к мохнатым, теплым зверям. Его кормили свежим рыбьим жиром. Соймико быстро прибавлялся в весе. Однажды он сам встал на ноги и пошел, держась за шею собаки. Прошел всю каюту, устал, повалился на спину и засмеялся, глядя на черный, закопченный потолок. Ему еще не было года, когда его стали кормить мясом. Он ел жареную белужатину, мясо оленей и белых медведей, печенку тюленей и моржей. Он ел все, что добывали промышленники. К морозам Соймико привык с рождения. Он никогда не хворал и не переносил, если его пытались тепло одевать. Отец сшил ему сапоги из нерпы и рубашку из мягкой оленьей шкуры. Соймико исполнилось год и четыре месяца, когда его родители снова поехали на зимовку. Они выехали из Красноярска вниз по Енисею и добрались до Диксона. Их поместили на барже Севморпути. Они жили со своими собаками в крохотной дощатой хижине на палубе и ждали отправки на место зимовки. По договору они должны два года провести в старой избушке, на берегу шхер Минина. Это место славится песцовыми, оленьими и медвежьими промыслами, и там никто не был уже три или четыре года. Севморпуть обещал снабдить зимовщиков всем необходимым в Диксоне. Они уехали из Красноярска, взяв с собой только своих собак и маленький мешок с чесноком и луком. Но, по неряшливости каких-то чиновников из Севморпути или по какому-то преступному недоразумению, на складе в Диксоне не оказалось ничего, кроме пшена, муки и небольшого количества масла. Зимовщики должны были ехать на невероятно трудную работу без самых необходимых вещей. Когда в Диксон прилетел из Игарки начальник Ленской экспедиции, зимовщики пошли к нему. Они рассказали о своих несчастьях: нет теплых вещей, нет продовольствия, на двоих промышленников на два года охоты им выдали только одно старенькое ружье и пятьдесят патронов. Наконец, они не знают, как попасть на свою зимовку: шхеры Минина забиты льдом, и ни один капитан не хочет туда идти. Начальник вытащил из чемодана свои запасы шоколада, сгущенного молока, какао и отдал все это для Соймико. Потом выпросил на рации собачий совик, пимы и еще одну винтовку. На всех пароходах он рассказал о родителях Соймико. Люди с пароходов поделились с зимовщиками патронами и порохом. Когда пароходы уходили с Диксона, я простился с родителями Соймико. Они все еще не знали, попадут ли в шхеры Минина, но зимовать решили во что бы то ни стало. Если никто не согласится идти в шхеры, они поедут в какое-нибудь другое место, но не вернутся раньше, чем через два года. Мы передали друг другу поручения в город: как знать, кто из нас раньше попадет на Большую землю? Моя шлюпка отвалила от баржи, и Соймико, веселый, толстый, красный от мороза, помахал мне рукой и улыбнулся. Соймико по-эскимосски означает — волчонок.ОХОТА
Маленький ледокол трое суток ходил у входа в бухту. Резкий ветер нагонял облака густого, холодного тумана, почти без перерыва шел снег. Обрывистые берега часто совершенно скрывались из виду. Тогда ледокол опасливо отходил еще дальше в море. Капитан ледокола — старый, опытный «ледовый» капитан. Он славятся своей великой осторожностью. Он так осторожен, что некоторые даже смеются над ним, называют трусом. Но трусом капитан никогда не был. Если бы он действительно боялся, он не смог бы стать северным моряком, не мог бы столько лет плавать в невероятных трудностях и непрерывных опасностях. Капитан один отвечает за судно, груз и жизнь людей. Север приучил его подозревать опасность всюду, всегда быть готовым к любым случайностям, к самым неожиданным катастрофам. И он стал подозрителен и осторожен. Он плавает капитаном около двадцати лет, у него прекрасные штурмана, но в трудные минуты он никогда не уходит с мостика. Все делает сам. «Нетрудных минут» на Севере почти не бывает. В плавании для всей команды загадка: когда капитан спит? Эти три дня он вовсе не ложился. Все время на палубе, ходит большими шагами, кутаясь в потрепанную шубу, бормочет какие-то невнятные заклинания или ругательства. Он запачкал правую щеку сажей, и грязь красуется на его красном, обветренном лице все три дня: он ни разу не умывался. Глаза капитана слезятся от напряжения и от колючего ветра. Он все время, не отрываясь, глядит в сторону берега. Когда на короткое время расходится туман, мучительно старается разглядеть в еще заметной полоске узкую щель входа в бухту. Картам этого места капитан не верит. Никогда еще ни один мореплаватель не заходил в бухту. Никто не измерил ее глубин, никому не известны мели и подводные камни. Линия берега обозначена на карте совершенно наугад. Теперь в бухте должна высадиться и остаться на зимовку партия промышленников-зверобоев с семьями. Капитан должен провести ледокол, найти стоянку и выгрузить зимовщиков со всем их снаряжением. В команде недовольны робостью капитана. Многие считают, что давно пора бросить ходить вокруг да около, давно пора подойти к берегу. Капитан «примеряется» три дня. По признакам, ему одному понятным, распознает приглубые места и отмели. На четвертый день самым малым ходом, вытравив оба якоря и осторожно лавируя, ледокол благополучно вошел в бухту. Бухта, узкая и длинная как река, зажата черными, покатыми берегами. Дальше, над усыпанными галькой отмелями, мягкие зеленоватые холмы. Холмы повышаются и на горизонте вырастают в скалистые горы. Неизвестный, ни на каких картах не обозначенный горный кряж блестит снежными вершинами и ледниками. Идет густой снег, все подернуто серой пеленой. Небо и вода одинакового бурого цвета. И кажется, что нет перспективы — горы и холмы плоскими призраками висят в туманном пространстве. Плывут голубые и зеленые льдины, будто движутся горы. Вдруг вспенивается вода, и такая же бурая, только темнее, поблескивает огромная круглая спина моржа. Зверь фыркает и косится большим карим глазом. Зимовщиков — девятнадцать человек. Десять мужчин, три женщины и шестеро ребят. Все это коренные поморы, архангельские и мурманские. Спокойные, очень сдержанные, молчаливые люди. Разные пути привели их на зимовку, но все они любят Север, только на Севере могут жить и работать по-настоящему. Моторист артели должен был ехать тоже с семьей. В самый последний момент выяснилось, что санитарный надзор запрещает ехать на зимовку его сыну. У ребенка оказалась трахома. Мотористу предложили остаться: он только что вернулся с зимовки. Год, длинный полярный год, не видел своей семьи. Тяжело сразу же уезжать снова одному на двухлетнюю зимовку. Он колеблется не больше десяти минут и решает все-таки ехать. Перед выходом в море всегда очень много хлопот. Моторист не успел съездить на берег и уехал, не повидавшись с семьей.Сергей, начальник зимовки и председатель артели зверобоев, — человек, знаменитый на Севере почти до легендарности. Он один из лучших охотников, прославленный во всей западной Арктике собачник. В городе он почти не живет. Редкие зимы, в перерывах между бесчисленными зимовками, шатается Сергей по Архангельску мрачный, всегда полупьяный. Он очень любит свою семью, особенно детей, но Север тянет его. Он не может жить в городе без привычной работы и снова уезжает на зимовки и промысла. Сын богатого промышленника, Сергей — отпрыск древнего рода зверобоев. Зверобоями были предки его могучей семьи, зверобои его братья, зверобоем будет, наверное, его сын. Север воспитывал этих людей из поколения в поколение. Сухие, жилистые, как кряжистые деревья, они все похожи друг на друга. Сергей настолько отличается от человека «городского», что когда он приезжал в Москву в фетровой шляпе, пальто, со щегольским шарфом на шее и в новых галошах, прохожие останавливались, с удивлением смотрели на нескладную его фигуру, на скуластое лицо. Сергей был в числе четырех зимовщиков Северной Земли. Рассказывают, что первую зиму он очень злился и нервничал: ему не давали охотиться, заставляли ездить по каким-то «маршрутам», бросая прекрасные промысловые места, не обращая внимания на медведей, моржей и нерп. Смысла этой «нелепости» он никак не мог понять. Он говорил, что это «не работа, а сволота». Но к концу первой зимы из путевых заметок, набросков, чертежей и наблюдений стала складываться карта Северной Земли. Все отчетливее вырисовывались контуры островов, все меньше и меньше оставалось разрывов и пустых мест. Это потрясло Сергея. Раньше он пробирался по Северной Земле вслепую, наугад, как зверь, инстинктом угадывал дорогу, часто плутал и путался. Теперь, с новой картой, он будет ходить спокойно, уверенно, как хозяин. Во второй год зимовки Сергея нельзя было узнать. Он стал энтузиастом, забыл о промысле, с самоотверженным рвением помогал во всех научных работах. И когда карта была закончена, он был горд безмерно. Север научил Сергея простой и грубой философии: если ты можешь взять, убить — бери и убивай. Побеждает, живет тот, кто сильнее, и помощи ждать неоткуда. В неравной, тяжелой борьбе Сергей привык рассчитывать только на свои силы. Привык драться в одиночку. Он жесток примитивной жестокостью дикаря. Часто у него бывают вспышки страшной ярости. Под горячую руку он может забить насмерть любимую собаку. Впрочем, собак Сергей всегда бьет нещадно. Он говорит, что собака должна «уважать хозяина», и даже если она ни в чем не виновата, ее нужно ударить хоть раз в день. Пусть помнит. Собаки «помнят» и смертельно боятся Сергея. У него есть несколько любимцев. Этим живется немного лучше. Но если собака ему не понравится, а сбыть ее некому, он будет методически избивать животное до тех пор, пока не избавится от него. Сергей повез на зимовку восемьдесят две собаки. Вместе с пушистыми «туземцами»-лайками он взял мохнатых, злых кавказских овчарок, огромных мрачных волкодавов и добродушных сеттеров. Он мечтает, скрещивая эти породы, вывести идеальную промысловую и ездовую собаку. В пути Сергей кормит собак ровно столько, сколько нужно, чтобы они не подохли. Собаки шатаются по судну, тощие, вечно голодные, с безумными глазами и высунутыми языками. Но, несмотря на такой режим, к концу плавания мясо для собак все-таки кончилось. Пришлось зарезать корову, чтобы сохранить собак. Поэтому, как только ледокол пришел в бухту, промышленники бросились на охоту. Нужно как можно скорее подкормить собак и запасти мясо на зиму.
Моржи вылезли на тонкую льдинку у самого берега. Под тяжестью огромных тел лед обламывается. Звери грузно барахтаются, переваливаясь и фыркая, переползают на землю. На черных камнях пологой отмели тускло поблескивают округлые туловища. Моржи сбиваются в тесную кучу, утыкаются мордами друг в друга. Засыпают быстро и крепко. Изредка зверь вздрогнет во сне, тяжко вздохнет и снова спит, неподвижный как труп. Только один морж часовой — часто подымает тяжелую круглую голову, полузакрытыми глазками зорко поводит вокруг. Над спящим стадом стоит легкое, белое облачко. Зверобои на катере подошли к берегу и почти сразу наткнулись на лежку моржей. Лежка была большая, около пятидесяти голов. Моржи не уходили при приближении людей. Они никого не боятся. Единственный зверь, который мог бы рискнуть померяться с ними силами, белый медведь, очень редко нападает на моржей. Он сохраняет вооруженный нейтралитет. Все остальное не страшно неуклюжему клыкастому великану. Человек никогда не бывал здесь. Моржи лежат неподвижно, только сторожевой поднял голову и внимательно смотрит на людей. От любопытства он даже раскрыл сонные прищуренные глазки. Зверобои подходят совсем близко. Несколько человек осторожно заходят снизу, становятся между стадом и водой, чтобы отрезать моржам отступление. Сергей идет к сторожевому и медленно поднимает винтовку. Зверь, лениво переваливаясь и добродушно сопя, доверчиво ползет навстречу. Нежные ноздри вздрагивают, принюхиваются к новому запаху, часто моргают карие, блестящие глазки. Сергей целит в глаз. Сухой треск выстрела — огонь и дым сразу останавливают моржа. Он высоко поднимается на передних лапах и падает с глухим ревом. Большая серая морда заливается кровью. Тогда начинается избиение. Промышленники расстреливают зверя почти в упор. Бьют в голову: в нос, глаза или затылок (туда, где сонная артерия). У моржа такая толстая, упругая, как каучук, шкура, что винтовочная пуля часто даже не ранит его. Кроме того, дыра в боку или животе портит дорогую кожу. Люди ходят по отмели между огромными обезумевшими животными. Звери хрипло кричат, умирают в грохоте непрерывных выстрелов. Черные камни становятся скользкими от липкой, черной крови. Зверобои привезли на ледокол трех огромных моржей. Собаки набросились на теплые еще туши. Шкуры сняты с моржей, и жирное красное мясо кровавой бесформенной горой лежит на палубе. Волчьи морды собак вымазаны густой дымящейся кровью. Топорщится шерсть на тощих спинах. Собаки рвут мясо, жадно глотают огромные куски, давятся и икают. Отползают в изнеможении и, отдохнув несколько минут, снова бросаются на великолепную пищу. Упершись передними лапами, отдирают зубами куски желтого сала. Нажираются до рвоты и засыпают тут же, на окровавленной, грязной палубе. Убитые моржи остались лежать на черной отмели. Зимой туши замерзнут, а весной, когда стает снег, зверобои снимут шкуры, срежут, засолят и упакуют в бочки сало. По плану артель должна была за целый год заготовить всего двадцать пять моржей. В первую охоту выполнили полностью двухлетний план. Удача!.. Рано утром, когда начался отлив, моржи снова полезли на берег. Они подплывали к черной отмели и ползли к мертвому стаду. Клыкастые самцы и жирные, усталые самки устраивались на лежку среди холодных уже трупов. Нежные детеныши тесно прижимались к шероховатым бокам взрослых зверей. Моржи спокойно спали, и над отмелью снова поднялось легкое облачко. Утром Сергей, веселый, полупьяный, поехал на катере к своему «складу мяса». Он сам правит катером, ухарски заломив шапку и посапывая обгорелой трубочкой. Черная отмель совершенно выступила из воды. Катер ткнулся в каменистое дно. Сергей выскочил, хлюпая по воде сапогами, вышел на берег и пошел к лежке. Вдруг, когда он был совсем близко, один из моржей поднял голову. Сергей схватился за винтовку и стал осторожно заходить со стороны воды. Он убил моржа тремя выстрелами, и сразу же еще десять или пятнадцать голов поднялись среди трупов. Сергей лихорадочно стрелял и перезаряжал винтовку. Он перебил всех моржей, а среди окровавленных тел нашел и взял живыми двух маленьких детенышей. Одного из них Сергей привез на ледокол. Второго оставили на лежке. Его обмотали толстым канатом и крепко прикрутили к врытому в землю столбу. Двое суток пробыл пленный моржонок на черной отмели. Промышленники приезжали к нему, тыкали палкой в его сморщенное тельце и дразнили его. Моржонок сначала злобно фыркал, потом из больших блестящих глаз начинали капать крупные слезы. Детеныш начинал плакать, широко разевая рот. На печальный крик из воды высовывались круглые головы. Взрослые моржи подплывали совсем близко. Зверобои ждали с винтовками наготове. Детеныш рыдал еще громче. Он рвался к воде и натягивал канат. Моржи отвечали глухим рычаньем и лезли на берег. Снова трещали выстрелы. Новые трупы промышленники оттаскивали от воды. Дружная поморская «Дубинушка» раздавалась на пустынном берегу. Моржонок снова плакал. Охотники прозвали его «Иудой». Так продолжалось двое суток. На третьи сутки, ночью, моржи все-таки утащили детеныша. Утром зверобои нашли петлю пустой. Только один большой морж-самец спал, лежа поперек размотанной веревки. Его убили. Это был последний морж, погибший на черной отмели. Второго детеныша почему-то прозвали «Абрашей». Он жил на ледоколе, ползал по палубе, неуклюже переваливаясь на скользких, железных ластах. Первые дни он громко фыркал, огрызался на собак и злобно рычал, если его дразнили. Но от пищи отказывался. Его пробовали поить теплым молоком. Молоко насильно вливали ему в рот. Моржонок все выплевывал. Через три дня он похудел страшно. Серая кожа стала дряблой, сморщилась и обвисла. Теперь он все время лежал около паровой лебедки. Ему было холодно, и он прижимался к горячим трубам паропровода. Он обжигался, и на шершавых боках появились гнойные раны.
СТОЯНКА ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ
«Заход парохода бухту возможен тчк правым берегом коса около шести кабельтов тчк бешеное приливно-отливное течение тчк стоянка по возможностям».К концу дня начали попадаться мелкие льдины. На горизонте показались лиловые горы материка. Совсем заштилело, и над морем поднялся туман. Лед стал плотнее. Пароходу пришлось сбавить ход, а через некоторое время остановиться. Бухта совсем близко, но из-за тумана нельзя подойти к берегу. Молодой тюлень вылез на лед и осмотрелся вокруг, высоко поднимаясь на передних ластах. Потом заснул. Спит он маленькими промежутками времени, не больше минуты. Проснувшись, снова поднимает голову, озирается и опять засыпает. Но спит чрезвычайно крепко. Медведь давно следит за тюленем. Он пробирается вдоль кромки льда, мягко прыгает по торосам, осторожно спускается в воду, неслышно плывет и вылезает на лед. Спустился туман, и медведь подошел совсем близко. Теперь он ползет, распластавшись на льду. Когда тюлень просыпается, медведь неподвижно застывает на месте. Желтоватая, как слоновая кость, шкура совершенно сливается с желтоватым льдом. Только нос и глаза тремя черными точками могут выдать зверя. Поэтому он закрывает морду белой лапой. Как только тюлень опускает голову, медведь стремительно вскакивает и пробегает еще несколько метров. С каждой минутой сна тюленя он подходит все ближе и ближе. Он уже совсем рядом. Только один острый торос отделяет его от цели. Тюлень снова засыпает, и медведь коротким прыжком кидается вперед. От удара льдина обламывается, и оба зверя исчезают под водой. Через минуту медведь показывается на поверхности. В зубах чернеет добыча. Он медленно подплывает к льдине, вылезает и шумно отряхивается. Начинает пожирать тюленя с головы, раздирая мясо лапами, громко чавкая, перегрызает кости. Медведь наелся, отошел несколько шагов, привалился к покатому торосу и задремал. Во сне он сыто урчит и громко фыркает. Его разбудил острый незнакомый запах. Он сразу вскочил и огляделся, высоко поднимая горбоносую, лобастую морду. Запах щекочет ноздри, но из-за плотного тумана ничего не видно. Любопытство разбирает медведя. Сначала он медленно идет на запах, но чем ближе подходит, тем скорее перебегает от полыньи к полынье, плюхается в воду, плывет и отряхивается на бегу. Теперь он уже слышит странные, незнакомые звуки: шум, голоса и лай собак. Налетел ветер и разом разорвал пелену тумана. От неожиданности медведь сразу остановился, упершись передними лапами и присев на зад: прямо перед ним, совсем близко, стоит во льду огромный черный предмет. Что-то шевелится и двигается на нем, а вверх подымается густой, едкий дым. Некоторое время медведь сидит неподвижно. Потом встает на задние лапы, потягивает носом воздух, медленно идет вперед. Вдруг он чувствует жгучую боль в задней ноге и сразу же слышит сухой треск. Он круто поворачивается и хватает зубами воздух. На пушистой шкуре проступает красная точка. Зверь рычит и садится, чтобы облизать рану. Новый треск, и боль в боку заставляет его сразу вскочить. Ему трудно бежать. Он хромает и ворчит, мотая низко опущенной головой. Третья пуля попадает в живот и валит зверя. Медведь еще пытается подняться. Он видит, как огромный, страшный предмет поворачивается и движется к нему…(Радио капитану парохода от капитана ледокола)
______
Туман рассеялся как всегда внезапно. Совсем близко открылись берега и вход в бухту. С левого борта заметили медведя. Он стоял на задних лапах, потом опустился на четвереньки и пошел к пароходу. Его убили четырьмя выстрелами, но не смогли подобрать. Когда пароход подошел и с разгону ударился в льдину, труп соскользнул в воду и течение утащило его под лед. Течение в этом месте оказалось невероятной силы. В узком горле бухты льдины крутило в стремительных водоворотах. Пароход шел тихим ходом. Вдруг весь левый борт заскрежетал по дну. Судно страшно накренилось, корму забросило налево и ударило о льдину. Только теперь заметили, что эта льдина прочно стоит на мели: она неподвижна, а вокруг лед плавает свободно. Отсюда хорошо видна бухта. У левого берега стоит на якоре ледокол. Веселый дым подымается прямо вверх над его трубой. С парохода спустили шлюпку, и капитан с начальником экспедиции поехали на ледокол. Они договорились, что, когда начнется прилив, ледокол подойдет к аварийному судну и попытается снять его с мели. К двум часам утра по высокой воде ледокол, осторожно обходя отмель, подошел к правому борту и подал стальной буксир. Сначала попробовали тянуть с носа. На пароходе буксир пропустили через якорный клюз и закрепили толстыми бревнами. На ледоколе стальной канат обмотали вокруг кнехт на корме. Капитаны с мостика переговаривались в рупоре. В полной тишине слышались попеременно то спокойный, певучий говорок помора — капитана ледокола, то взволнованный, слегка грассирующий голос капитана парохода. Когда все было готово, на ледоколе прозвонил машинный телеграф, и под кормой забурлила вода. Буксир натянулся. Ледокол стал работать средним, потом полным ходом, но пароход не двигался. Вдруг бревна лопнули с оглушительным грохотом. Канат перерезал их и размотался. Ледокол сразу прыгнул вперед. Пароход неподвижно сидел на мели… Тогда попробовали тянуть с кормы. Снова, после долгих приготовлений, ледокол работал «полный вперед», бурлил у себя под кормой и остался на месте. Теперь буксир закрепили за кнехты и на пароходе. Через несколько минут кнехты не выдержали, сломались, и канат стал крушить релинги на корме. Потом он за что-то зацепился и лопнул. Прилив кончился, вода начала спадать, и ледокол ушел в бухту. Пароход остался на мели… Третий штурман парохода считает себя настоящим «морским волком». Толстенький, крохотного роста человечек, он всегда ходит в щегольском кителе и в фуражке с огромным «крабом». Матросы называют его Петухом. Он плавал за границу и в кают-компании бесконечно рассказывает о портовых кабаках и публичных домах. Получается такое впечатление, будто на Западе нет ничего, кроме проституток и ресторанов. А лучшее место в мире, несомненно, знаменитый Сан-Паули в Гамбурге. Профессию моряка Петух считает единственной благородной профессией. Трудная работа усложняется для него массой сложных неписаных «законов моря». Но штурман он плохой. Он плавает уже давно и никак не может подняться выше третьего помощника. Севера он не понимает и боится. Он привык к морям, где рейсы судов проторены, как шоссейные дороги. Морской аристократ, он презирает северных моряков — «трескоедов». Эти люди с тихой, окающей речью, сдержанные и спокойные, всю жизнь проводят в своих холодных морях. Им, воспитанным дикой природой, совершенно не свойственны «морской гонор» и преклонение перед «морскими традициями». Многие из них за границей никогда не бывали и не знают «культуры» европейских кабаков. Начиная от капитана и кончая последним угольщиком, они — простые, наивные люди — совершенно непохожи на «идеал моряка», который создал себе штурман Петух. Штурмана злит, что «трескоеды» оказались опытнее «настоящих моряков». В кают-компании засевшего на мели парохода он критикует команду маленького ледокола и издевается над «мужицким говором» поморов. Сильнее же всего он злится на контору Совторгфлота, которая зачем-то послала его в этот проклятый рейс.ПРЕСТУПЛЕНИЕ СТАРМЕХА ТРУБИНА
В прилив лед приносило из открытого моря. Большие торосы и мелкие осколки плыли, крутясь и обгоняя друг друга. Льдины забивали всю бухту, сталкивались, громоздились и выпирали на берег. Прилив продолжался шесть часов. Потом бухта застывала неподвижно. Через полчаса начинался отлив. Льдины шевелились, сначала медленно поворачивались в образовавшихся разводьях, затем все скорее и скорее неслись к морю, шурша в водоворотах. В узком горле, у входа в бухту, вырастал ледяной затор. Здесь лед уже не шуршал, а ломался с оглушительным грохотом и скрежетом. Вода отступала из бухты. И снова через шесть часов останавливалась. Только кое-где на черном берегу сверкали льдины, выброшенные приливом. Во время прилива ледокол разворачивался носом к морю. Льдины налетали на форштевень и сотрясали корпус судна. Никакие якоря не смогли бы удержать ледокол. Чтобы преодолеть бешеное течение и оставаться на месте, приходилось работать средним ходом. У входа в бухту, беспомощно накренившись, стоял на мели пароход. Льдины наползали на него, и большие поля застревали, упершись в исцарапанный борт. Тогда люди начинали сбрасывать на лед кирпичи, глину, картофель, ящики и мешки. Чтобы сняться с мели, необходимо облегчить вес судна. Сбрасывать тяжелый груз прямо в воду нельзя, так как он, опускаясь на дно, увеличит мель. В воду кидали только бревна и доски. Сначала попробовали отвозить грузы в лодках на берег. Но это было слишком медленно, а становилось все холоднее и холоднее, день заметно укорачивался, ночью вода покрывалась плотным ледяным «салом». Шла зима, и, чтобы спасти судно, нужно было уходить как можно скорее. Поэтому груз сбрасывали за борт. Когда большая льдина подходила к борту, пароход оживал: начинали грохотать лебедки, раздавались слова команды. Часть людей спускалась на лед, часть работала на палубе. Льдина оседала ниже под грудой кирпичей или мешков. Ее относило течением, а новую подтягивали к борту якорями. На «погруженных» льдинах ставили шесты, и долго было видно, как странные корабли кружились по бухте. Многие унесло в открытое море. Трубин, старший механик ледокола, очень недоволен бухтой. Он рассчитывал воспользоваться стоянкой и отремонтировать машину, а это проклятое течение не дает ни минуты покоя. Все время звонит машинный телеграф, с мостика требуют то «малый вперед», то «средний», механики мечутся по трапам, в журнале путаные записи бесчисленных реверсов. Разве тут до ремонта? И все-таки в перерывах между приливами, по частям, урывками, Трубин чинит старенькую машину. Вахтенные штурмана предупреждают его, когда предполагается более или менее спокойная стоянка. Механик спит, не раздеваясь, на диванчике, чтобы не пачкать койку. Трубин сразу вскакивает, бормоча со сна, натягивает огромные болотные сапоги. Голенища прожжены во многих местах. Механик сует пальцы в каждую дыру и сокрушенно качает головой. Сапоги испорчены уже давно, но он заново огорчается всякий раз, как надевает их. Потом Трубин открывает умывальник и плещет на лицо солоноватую воду. Вода коричневая от ржавчины. Он вспоминает о том, как мало осталось пресной воды, и снова расстраивается. Он достает с гвоздя фуражку и надевает ее перед зеркалом. Тут настроение улучшается. Трубин даже улыбается, рассматривая свое отражение. В плавании он перестал бриться. Подбородок и шея заросли густой ярко-рыжей бородой. На щеках курчавятся пушистые бакенбарды. Борода Трубину очень нравится. Он весело посвистывает и старательно расчесывает замечательную бороду. Но когда он выходит на палубу, лицо его снова сосредоточенно-мрачное. Ледокол подходил к аварийному пароходу и пытался стянуть его с мели. Все старания не привели ни к чему, и Трубин расстроился еще больше. Теперь ко всем старым огорчениям прибавилось еще раздражающее зрелище неуклюжего судна, нелепо стоящего на отмели. Трубин не может спокойно видеть, как гибнет такая ценная вещь, как судно. А судно обязательно погибнет, если его не снять с мели как можно скорее. Через несколько дней бухта замерзнет, и тогда уже никто не сможет помочь пароходу. Если же он будет зимовать здесь, при этих течениях, сидя на мели, лед раздавит его, как скорлупку. Команда парохода тоже не очень-то нравится Трубину. Разве можно в такой рейс посылать людей, непривычных к Северу? Их и винить-то особенно нечего. Тут свои поморы подчас растеряются. Но совсем злой становится Трубин после заседания партийной ячейки. Капитан ледокола и капитан парохода присутствуют на ячейке. Когда ставится вопрос о спасении парохода, оба они начинают разговоры о необходимости просить помощи. Трубин прекрасно понимает, в чем дело: капитан парохода так напуган мелями и всеми неожиданностями северного моря, что теперь боится всего на свете. Ну, а капитана ледокола Трубин знает давно. Он знает о его осторожности, знает, как не любит капитан рисковать. Риск, конечно, есть — ледокол может сам наскочить на мель, — но Трубин понимает, что если вызвать помощь, если заставить какое-нибудь судно бросить все и идти в эту проклятую бухту, то будет сорван еще в одном месте общий план работ в Арктике. Нужно во что бы то ни стало справиться своими силами. Трубин берет слово. Он старый член партии, он партизанил в гражданскую войну, он прекрасный механик и опытный моряк, его хорошо знают, и у него большой авторитет в ячейке. Он говорит очень горячо, и вся ячейка с ним согласна. Но капитаны — единоначальники на кораблях. В плаванье их только можно просить, им можно только советовать. Заседание ячейки затянулось до поздней ночи. Наконец капитанов уговорили еще раз самим попробовать стянуть пароход и, только если это не удастся, звать на помощь. Трубин, страшно злой, стягивает сапоги у себя в каюте. Он снова разглядывает дыры и думает, что капитан, конечно, побоится «дернуть как следует». Потянет чуть-чуть, для виду, и запросит: «Помогите!.. помогите!»… И Трубин громко произносит такую энергичную фразу, что матрос, проходивший мимо каюты стармеха, шарахается в сторону.Выгрузка на пароходе продолжается четыре дня. Утром пятнадцатого сентября к борту подогнало большое ледяное поле. Подошел ледокол и тоже стал у льдины. Не прекращая сбрасывать на лед мешки и ящики, начали перегружать на ледокол самое драгоценное: бочки с нефтью и бензином и уголь. Ледокол принял двести тонн угля и двести тонн жидкого топлива. За борт удалось скинуть тоже около двухсот тонн груза. Уже с полудня пароход начал откачивать водяные балласты. К началу вечернего прилива приготовили буксир. Двойной трос закрепили на носу парохода, и ледокол развернулся кормой к аварийному судну. Капитан крикнул в рупор, что все готово. Трубин спустился в машину, скинул меховую куртку и сел на высокий табурет около распределительного щита. Звякнул телеграф, и стрелка показала «малый вперед». Трубин сам перевел рычаги и ответил на мостик. Прошло несколько минут. Телеграф потребовал «средний». Трубин обернулся от рычагов и сказал вахтенному механику, что управится сам. Механик молча полез по трапу. Трубин остался один. Он походил вокруг машины, заглянул в кочегарку. Кочегары работали у топок и не заметили его. Машина ровно стучала, спокойно поблескивая шатунами, весело гудело динамо. Трубин раскурил трубку. Вдруг телеграф звякнул «стоп». Не успел Трубин ответить, как стрелка прыгнула на «малый вперед», затем на «средний». Потом снова сначала: «стоп», «малый», «средний». Ледокол переставал работать, буксир ослабевал, и когда после короткой паузы трос сразу натягивался, получался рывок вперед — «типок». Трубин метался между рычагами и ручкой телеграфа. Но пароход, очевидно, не сдвигался с места. Тогда Трубин оглянулся, еще раз убедился, что он один в машине, и хитро подмигнул сам себе. Снова телеграф приказал «стоп». Трубин остановил машину. Когда же стрелка стала на «малый вперед», он ответил на мостик, но рычагов не тронул. Держась за рукоятку, он медленно сосчитал «раз, два, три, четыре» — и сразу дал средний ход. Ледокол сильно вздрогнул и рванулся вперед. Телеграф испуганно зазвонил. Трубин точно отвечал на команду с мостика, но, задерживая паузы, усиливал рывки. Он понимал, что, нарушая приказание капитана, он всю ответственность возлагает на себя одного. Но другого выхода он не видел. Советоваться с кем-нибудь не было времени. Действовать нужно немедленно. Ему вдруг стало жарко, но не было времени вытирать пот, и тонкие струйки стекали из-под фуражки на всклокоченную бороду.
Капитан от волнения не мог стоять на месте. Он бегал на мостике и, по привычке, что-то невнятно бормотал. Когда Трубин первый раз дернул судно, капитан увидел, как ледокол зарылся носом в воду, как задрожал натянувшийся трос и как заклокотала вода под кормой. Он выругал штурмана, стоявшего у телеграфа, и сам схватился за ручку. Штурман пожал плечами. Поглядев на стрелку, капитан осторожно перевел на «стоп». Машина остановилась. Капитан сразу дал «малый вперед». Телеграф звякнул ответ, но ледокол не двигался. Минутная пауза показалась капитану невероятно длинной. Потом ледокол опять нырнул носом и задрожал от толчка. На корме что-то закричали, по палубе побежали люди. Капитан обмер: ему показалось, что буксир лопнул и что ледокол с разгону уже вскочил на мель. Он бросился к трапу и столкнулся со штурманом. Штурман был без шапки, волосы развевались по ветру. Он размахивал руками и кричал без перерыва: «Пошел!.. Пошел!.. Пошел!..» Тогда капитан увидел, что пароход медленно-медленно поворачивается. Он рванулся к телеграфу и дал «полный вперед». С парохода охрипший голос орал в рупор то же слово: «Пошел!.. Пошел!.. Пошел!..» Капитан скомандовал рулевому «лево на борт» и забормотал, ударяя в такт кулаком по релингам: «Пошел… пошел…» Пароходсошел с мели… Трубин вылез на палубу и вытер бледное лицо влажным платком. Он сказал вахтенному механику, чтобы тот шел вниз.
1934
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Лев Владимирович Канторович родился в Ленинграде в 1911 году. Еще мальчиком-самоучкой он начал работать помощником художника в Театре юного зрителя и в эту же пору увлекся иллюстрированием книг. Девятнадцати лет от роду Лев Канторович выпустил два интереснейших альбома; сильные, броские, энергичные рисунки молодого художника сразу же были замечены и оценены по достоинству. Альбомы назывались: «Будет война» и «За мир». В эту же пору Канторович оформил спектакль в театре Нардома — пьесу Всеволода Вишневского «Набег». А в 1932 году Лев Владимирович ушел матросом в знаменитую полярную экспедицию на «Сибирякове». Рисовать «из головы» в спокойной обстановке мастерской он не любил. Он был путешественником по характеру, по натуре. Поход «Сибирякова» был началом бесконечных отъездов Канторовича. Через год Лев Владимирович ушел в экспедицию на «Русанове», после военной службы, навсегда привязавшей его к погранвойскам, Канторович отправился в высокогорную экспедицию на Тянь-Шань, затем с погранвойсками участвовал в освобождении Западной Украины и Белоруссии, потом провоевал всю финскую кампанию и погиб еще совсем молодым человеком в бою в начале Отечественной войны. Мы, его товарищи, помним Леву Канторовича всегда спокойно-веселым, несколько насмешливым, глубоко жизнерадостным и удивительно легким человеком. И путешествовал он как-то легко, и писал без всякого «избранничества» на челе, и сочинял свои книжки с радостью, жизнелюбиво, всегда и во всем отыскивая хорошее, человечное, сильное, мужественное. И книги, и рисунки, и замыслы Льва Владимировича были полны гордостью за дела советских людей, гордостью за то, что ему выпало счастье не только знать или слышать о том или ином проявлении чувств и дел нашего народа, но и самому участвовать в трудных и ответственных зада высоких ниях, поставленных перед моряками, учеными, воинами нашей страны социализма. Лев Канторович работал всегда, везде, в любых обстоятельствах. Работать для него было совершенно то же, что дышать. И так же, как люди дышат, ничем особым не отмечая эту свою нормальную деятельность, — так трудился Лев Владимирович, никогда не отделяя досуг от работы. Многие свои картины он писал при гостях, но не гостях-пустомелях, а гостях-деятелях, работниках. Канторович писал маслом, а два его приятеля, летчики, рассуждали между собою о своих летных делах, и Лев Владимирович вдруг отрывался от картины и незаметно брал карандаш — записать в блокнот то, о чем толковали летчики, — пригодится на будущее. Работоспособность этого человека была поистине поразительной. Менее чем за десять лет он издал: «Пять японских художников», «Холодное море», сборник очерков об Арктике, книжку рассказов о пограничниках «Пост номер девять», «Граница» — сборник рассказов, «Рассказ пограничного полковника», сборник «Враги», повесть «Кутан Торгоев», еще повесть «Александр Коршунов», книгу «Бой», сборник очерков «Пограничники идут вперед», сборник рассказов «Сын Старика» и даже самоучитель по лыжному спорту под названием «Памятка лыжному бойцу». Кстати, эта последняя работа очень характерна для Канторовича, никогда не чуравшегося никакой работы. «Памятку» он написал потому, что она была нужна бойцам-пограничникам, и слово «нужно» решало вопрос. Отличный лыжник и спортсмен, Лев Владимирович знал, что он напишет памятку хорошим, простым понятным, доходчивым языком, и писал эту свою брошюрку увлеченно, читая ее вслух товарищам нелыжникам и спрашивая: — Тебе все понятно? Вот ты ничего про лыжи не знаешь, а понятно? Объясни то, что тут написано… Или: — Не скучно? Понимаешь ли, такая книжка не имеет права быть скучной. Или еще: — Прочитаешь эту книжку — захочется встать на лыжи? Свои книжки о походах, и путешествиях, о пограничниках и моряках, об Арктике и о нарушителях границы Канторович иллюстрировал сам. И всегда всего ему не хватало: не хватало поездок по стране, не хватало друзей, не хватало впечатлений, не хватало времени, чтобы описать и нарисовать то, что он видел и знал. Ему вечно было как-то весело-некогда, он постоянно не суетливо, но энергично спешил и удивительно мило завидовал своим товарищам художникам, писателям, журналистам только по одному поводу: — Смотри, в какую переделку человеку удалось попасть. Повидает! А что я? Сижу и пишу второй месяц подряд. И писал или рисовал в ожидании нового потока, нового обвала впечатлений, встреч, жизненных переделок и переплетов, в которых, как считал Канторович, и познаются люди. Помню, познакомил он меня с одним из наших известных полярников, а потом с сокрушением говорил: — Нет, это что! Здесь — это другой человек. Жена, детишки, бабушка. Вот ты бы его там посмотрел, в деле, в «переплете», когда он весь виден. Там он орел! И, наверное, это было именно так: в деле человек — орел. Чтобы видеть советских людей в их делах, видеть их совершающими поступки, видеть их лучшие человеческие качества — и ездил по стране Лев Владимирович.Ему все было интересно, а если он за что-нибудь брался, то вкладывал в работу всю душу, и трудно вспомнить случай, когда бы он был полностью доволен сделанным. На моей памяти он интересно и своеобразно иллюстрировал стихи Бориса Корнилова, «Пограничников» Михаила Слонимского, «Катастрофу» Павла Далецкого, книги Дос-Пассоса, Драйзера, Джека Лондона — и всегда работа захватывала его целиком. А разглядывая вышедшую из печати книгу, он сердился: — Черт знает что! Совсем иначе надо было это делать. Иллюстрируя мой роман «Наши знакомые», он показывал мне эскизы и сердился, если я хвалил. Он жаждал спора, ему хотелось доказывать свою правоту, хотелось, чтобы ему возражали и чтобы таким путем возникла истина полная, абсолютная… на сегодня. Завтра Лев Владимирович вновь бы подверг уничтожающей критике собственную работу. А ведь именно в этом и есть залог движения художника вперед. Как к литератору он относился к себе чрезвычайно сурово и строго: — Я пишу плохо, — говорил он,— но дело в том, что я должен писать. Мне интересно рассказывать людям о том, что я видел, знаю, слышал. И, может быть, мои книжки полезны? А? Ведь не могу же я все нарисовать. Верно? Пусть считается, что это подписи под картинками… Он вел удивительные дневники — и литератора и художника. Сейчас они выглядят как шифр, к которому утерян, и, к сожалению, навечно, ключ. В дневниках короткие, непонятные нынче записи и картинки. А в свое время Канторович, перелистывая эти записные книжки, бесконечно и очень увлекательно и рассказывал, и показывал то, что потом будет сделано из этого шифра литератора-художника. Тут были десятки сюжетов, взятых из самой жизни, с подробностями, с пейзажами, с характерами. Лев Владимирович так говорил о себе и о своей работе по радио перед самым началом Отечественной войны: — По-моему, самое большое удовольствие — сложить вещи в чемодан или заплечный мешок и отправиться в дорогу. В странствиях мне удалось провести треть моей жизни. Я был в нескольких полярных экспедициях, на лыжах ходил по Хибинам, плавал на яхте, пешком бродил по Кавказу, летал, ездил верхом, ездил на собаках, на оленях, и первые книжки, которые я написал, были очерками, описаниями путешествий… Сначала я был рядовым пограничником, а потом очень много ездил по границе. Мне нравятся наши пограничники. Я стараюсь учиться у лучших из них. Мне нравится их жизнь. Я стараюсь показать жизнь на границе такой, как она есть,— со всеми трудностями и горестями, лишениями и опасностями. Вы знаете, что в Красной Армии некоторые бойцы срочной службы просят не увольнять их и дают обещание служить пожизненно. Я уже давно дал такое обещание командирам пограничных войск. Художник-литератор-пограничник Лев Владимирович Канторович сдержал свое обещание. 30 июня 1941 года в первом бою он был убит. Пограничники поставили ему памятник.
О Льве Канторовиче невозможно «думать как о человеке, навсегда ушедшем от нас. Слово «смерть» и имя «Лев Владимирович Канторович» — взаимно исключающие понятия. А вот жизнь и Лен Канторович, жизнь — в ее непрерывном поступательном движении, в смене времен года, в дальних и грудных экспедициях, в нелегкой радости бытия — это близкое, неразделимое, единое. «Летчики не умирают! — говорят в авиации. — Летчики просто улетают». Такие люди, как Лев Владимирович Канторович, не умирают. Они просто не возвращаются из экспедиции или из боя. Лев Владимирович прожил всю свою недлинную жизнь на переднем крае. Он был советским человеком в подлинном смысле этого слова. Нет, он не был искателем приключений — он шел туда, где был нужен, где чувствовал себя полезным, он шел туда, куда вел его долг. И шел без всякой патетики, без жертвенности: весело, жизнерадостно, «по собственному желанию». Немыслимо представить себе Льва Канторовича «эвакуированным как талант» в Ташкент, в Алма-Ату. Но ясно видишь его участником военного труда, опасного плавания, тяжелого пешего перехода, ясно представляешь его в условиях блокады, до которой он не дожил,— всегда спокойно-веселого, ясноглазого, всегда работника-делателя. В годы Великой Отечественной войны, в повседневности газетной работы многие из нас постоянно вспоминали Льва Владимировича как живого, а не как ушедшего навсегда И вспоминался он не окутанный некой лирической дымкой, а как делатель, как дозарезу необходимый труженик. Вот прикидываем, бывало, полосу во флотской газете, не ладится дело, серой и скучной кажется работа, — и вдруг с досадой подумаешь: «Эх, сюда бы нашего Льва Владимировича, он бы все придумал и, главное, ничего бы никому не перепоручал, а все бы быстро, толково, интересно и по-своему сделал сам. И всем бы весело было смотреть на его ловкие руки, на прищуренно-оценивающий взгляд, всем было бы не обидно слушать его подшучивания над неудачными стараниями тех, кто до него подготовлял полосу». И пусть будут прощены мне эти слова, но не без раздражения иногда взглянешь на своих коллег по профессии: один, видите ли, прозой не занимается, поскольку он драматург, другой изящно именует себя новеллистом, на третьего не снизошло вдохновенье и он не написал веселой басни, так нужной для этой полосы. И думаешь «Вот был бы с нами Лев Владимирович, показал бы он этим божьим избранникам, этим витиям, он бы с ними поговорил по-настоящему, по-своему, без реверансов и церемоний, поговорил бы, как положено говорить труженику с людьми, желающими легкой жизни». Так вспоминался наш товарищ, а ведь ушедшие от нас продолжают жить с нами своим делом, трудом, умением быть нужными не в праздники, а в будни. Хорошо помнится, как начинал писать Лев Владимирович. Вначале он как бы стеснялся писать прозу и то, что было по существу уже прозой, продолжал называть подписями под картинками. Но не писать прозу он не мог, ему непременно нужно было рассказать людям о том, что он узнал о них, живя с ними не в ленинградской квартире, не в ателье художника, а на пограничной заставе, в кубрике корабля, в землянке на фронте, в лыжном переходе. Он не мог ждать, покуда это все напишут другие, а кисти и карандаша ему не хватало для повествования. Творческая энергия била через край, а устные пересказы друзьям не удовлетворяли его самого. И стыдливо, сначала для себя, потом только для очень близких людей он начал описывать ту правду трудных будней, которую умел наблюдать и которую знал по собственному житейскому опыту. Он всегда рассказывал увлеченно и в то же время стыдливо-целомудренно, с огромной любовью к советским людям. Он не мог не писать эти свои невыдуманные истории. А впоследствии и рамки прозы стали писателю тесны, он написал пьесу, написал киносценарий, и сколько бы он еще сделал, если бы не передний край и не бой, в котором он погиб как солдат, с автоматом в руках! Работал он всегда, везде, всюду, умел и любил делать все. Помню, как смешно и трогательно заарендовал он себе дачку. Пожил там зимой в холоде и мерзлоте несколько дней, потом пришел ко мне посмотреть слово «плита» в энциклопедии. Выяснилось, что два жулика-печника взялись построить на даче плиту, получили задаток и, «представляешь, растворились», как выразился Лев Владимирович. Он рассердился, впрочем не столько рассердился, сколько обиделся: он сам был человеком труда, человеком слова. А обидевшись, принялся сооружать плиту сам. В конце концов ему удалось соорудить нечто напоминающее очаг первобытного человека. В этом очаге затеплился огонь, Лев Владимирович сидел перед горячими угольями, попыхивал трубкой и радовался. А через несколько дней он исчез со своей дачки, соскучился и отправился к пограничникам. Он не умел быть один, не умел отгораживаться от людей, не нужна ему была никакая собственность: красное дерево, хрусталь и прочая дребедень, которая, к сожалению, еще существует в качестве «антуража» у некоторых писателей, художников, актеров и ученых. Пара добрых ботинок на толстой подошве, табак, лыжи, фуфайка, удобный перочинный нож, которым Лев Владимирович мог хвастаться неделями совершенно по-мальчишески, добрые друзья, но такие, С которыми можно подолгу спорить, и отъезды, отъезды, отъезды, причем без проводов, а вот так, сразу, смаху, — телефонный звонок и характерный голос: — Ну как ты там? — Ничего, а ты? — Я-то лично с вокзала. — Провожаешь кого-нибудь? — Боже сохрани! Сам уезжаю. — Надолго? — Не скажу. — Куда? — Не скажу. — Секрет? — Не секрет, а просто чтобы ты как следует помучился от любопытства, а в дальнейшем — от зависти. Будь здоров. Пока… «Пока» — на три-четыре месяца. И возвращение от новых друзей, и новые друзья, которые приезжали вместе с Канторовичем, и рассказы о великолепных парнях (о плохих людях Лев Канторович не любил говорить), новые работы, эскизы, масса планов—всегда и во всем. Помню, Канторович начал учиться управлять автомобилем. Я к тому времени ездил уже давно. Белой предвоенной ночью, за несколько дней до войны поехали мы за город. Всю дорогу с отчаянной смелостью Лев Владимирович «прижимал меня», обгонял, пропускал вперед и вновь обгонял. Это было не лихачество, он просто учился,, но по-своему, в соответствии со своим характером. Учился и хохотал, слушая мои упреки и жалкие слова о том, что так не ездят, что это черт знает что, что мы оба в конце концов разобьемся. А когда доехали, Канторович сказал: — Видишь, оба живы и нисколько не разбились, а я, к тому же, здорово подучился. Посмотришь — я буду великолепно ездить… Но и сейчас я вожу машину не хуже тебя… Лев Канторович погиб, его нет среди нас. Нет участника экспедиций, художника, воина, агитатора, политработника, писателя. Но мы его помним и любим, как всегда любили, когда он уезжал в свои всегдашние отлучки. Самое дорогое — свою жизнь — он отдал, не колеблясь, за нашу Родину. Он никогда не уходил с переднего края. Таким он и остался в нашей памяти — человек, литератор, друг, художник — Лев Владимирович Канторович. В первые дни Отечественной войны он писал своей жене:
«Жизнь течет неплохо, хотя времени мало и что-то не выходит насчет сна. Настроение зато в полном порядке. Встретил здесь много старых друзей, и жить с ними и работать неплохо. Если придется задержаться с ними надолго, не буду возражать. Помни, что главное — хладнокровие и веселый взгляд на вещи. Чем вещи серьезнее, тем важнее веселиться. Вот мы и собираемся повеселиться на славу».А в другом письме сказано:
«Жизнь наша протекает по-прежнему, и по-прежнему здесь хорошая погода. Хотя, очевидно, барометр, падает. Поживем — увидим. Имей в виду и передай всем знакомым, что Адольфу Гитлеру башку мы снесем. Это точно».Накануне своей смерти Канторович написал:
«Ты, наверное, уже знаешь, что у нас тоже началась драка. Все превосходно. Дела идут, настроение хорошее. Времени очень мало».Вот таким человеком был Лев Канторович — автор этой книги. И таким он предстает перед читателем в этой мужественной, человечной и чистой книге.
Юрий Герман


























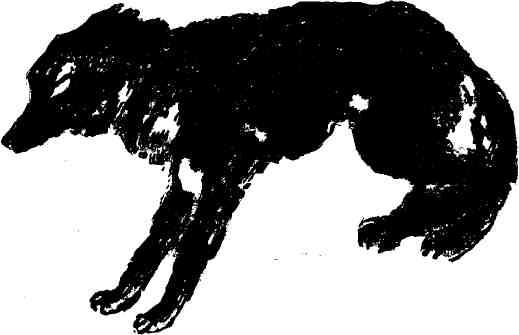






Последние комментарии
3 часов 59 минут назад
4 часов 2 минут назад
2 дней 10 часов назад
2 дней 14 часов назад
2 дней 16 часов назад
2 дней 17 часов назад