За кормой 2000 миль
 На XX съезде ВЛКСМ много говорилось о самодеятельных патриотических клубах и объединениях молодежи, получивших широкое распространение в наши дни. Один из них — петрозаводский научно-спортивный клуб «Полярный Одиссей», который уже 8 лет проводит поисковые экспедиции в прибрежных водах Белого и Баренцева морей. Клуб пропагандирует историко-географические знания, собирает материалы по истории поморского судостроения и мореплавания.
В первом номере журнала за 1987 год мы сообщили о Беломорской комсомольско-молодежной экспедиции журнала «Вокруг света», проведенной при активном участии Карельского обкома ВЛКСМ, Карельского отделения Северного филиала Географического общества СССР.
Продолжаем рассказ об этом плавании.
Из дневника участника экспедиции
Беломорск. Отплытие
На XX съезде ВЛКСМ много говорилось о самодеятельных патриотических клубах и объединениях молодежи, получивших широкое распространение в наши дни. Один из них — петрозаводский научно-спортивный клуб «Полярный Одиссей», который уже 8 лет проводит поисковые экспедиции в прибрежных водах Белого и Баренцева морей. Клуб пропагандирует историко-географические знания, собирает материалы по истории поморского судостроения и мореплавания.
В первом номере журнала за 1987 год мы сообщили о Беломорской комсомольско-молодежной экспедиции журнала «Вокруг света», проведенной при активном участии Карельского обкома ВЛКСМ, Карельского отделения Северного филиала Географического общества СССР.
Продолжаем рассказ об этом плавании.
Из дневника участника экспедиции
Беломорск. Отплытие
Блеклое солнце висело над горизонтом и разливало по всему небу ровный свет. Было далеко за полночь... Серебрились туго натянутые попутным ветром паруса, волны вспыхивали на миг зеркалами, чтобы тут же разбиться о корпус шхуны, засыпав море за кормой сверкающими осколками. «Полярный Одиссей» шел полным ходом прямо на солнце, к Соловецким островам, и весь экипаж — вахтенные и те, кто имел полное право отдыхать в каютах после долгого дня погрузки и предстартовой суеты,— все девятнадцать участников экспедиции стояли на палубе, завороженные белой ночью на Белом море. Сияющая дорожка, которую полуночное солнце выстелило перед бушпритом, будто подсказывала курс нашей беломорской «кругосветке»...
Соловки. Загадочные лабиринты
Соловки выплыли из утреннего тумана как мираж: только что вокруг висела влажная, холодная, непроглядная пелена — и вдруг обозначились расплывчатые контуры берегов, суда на рейде, абрисы крепостных башен. Еще немного, и зыбкие силуэты становятся отчетливыми, и вот уже «Полярный Одиссей» стоит под белыми стенами Соловецкого монастыря — можно сказать, географического и исторического сердца Поморья.
Некогда могущественный монастырь, основанный в XV веке и имевший «на откупе» едва ли не весь русский Север, бывшая темница для смутьянов и бунтовщиков и мятежная обитель, сама бунтовавшая против царя, с 1974 года Соловки — государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Тысячи туристов ежегодно приплывают на эти острова, чтобы ознакомиться хотя бы с некоторыми из 170 различных памятников старины. И непременно — с каменными лабиринтами.
Лабиринт Большого Заяцкого острова, входящего в Соловецкий архипелаг, небросок — на бугристом, усеянном валунами лугу мы, наверное, и не заметили бы его, если бы не мурманский краевед Владимир Афанасьевич Евтушенко, член нашей экспедиции.
— Вот он, родимый! — радостно, словно встретив близкого знакомого, засмеялся Владимир Афанасьевич, шагая по берегу. Недалеко от кромки воды, там, где студеный беломорский накат поглаживал берег, в траве виднелась выложенная камнями спираль диаметром метров восемь, не более.
— И это все? — разочарованно протянул кто-то.
— То есть как «все»?! — возмутился Евтушенко.— Вон то,— он повел рукой в сторону крепостных стен,— XVIII, XVII, в лучшем случае — XVI век. А лабиринты — неолит, I—II тысячелетия до нашей эры.— И он нежно погладил один из слагающих спираль камней.

Владимир Афанасьевич занимается лабиринтами уже два десятилетия, и ему есть что рассказать о них...
В мире сейчас известно около трехсот лабиринтов, главным образом в северных странах. О них сложено множество легенд, но ни одна не объясняет их назначение. В Ирландии и Англии, например, ходило предание о том, что на подобных спиралях лунными ночами танцуют феи; норвежские саги рассказывают, что йотуны — могучие ледяные великаны — дробили мерзлые камни и из камней выкладывали лабиринты; в шведских сказках лабиринтами отмечали входы в свои подземные дворцы карлики-дворги. А на русском Севере, вплоть до нашего столетия, существовал обычай в память об особо важных событиях «класть вавилоны». Этнографы описывали обряд, но смысла его никто объяснить уже не мог... Тайна лабиринтов остается неразгаданной.
— Пока! — заметил Евтушенко и упрямо наклонил голову.
Владимир Афанасьевич еще не ведает, что мы будем обмерять с ним каменные витки близ Кандалакши, искать лабиринт под водой в Бабьем Море и на Кемлудском архипелаге, высматривать спиралевидные фигуры на Терском берегу, но так и не определим, культовое ли было первоначальное предназначение этих странных каменных сооружений или, как предполагает его гипотеза, рыболовное. Впрочем, неудача не убавит его энтузиазма. А сейчас Евтушенко с жаром доказывает:
— Все сорок с лишним беломорских лабиринтов стоят у самого моря. Почему? А вот почему. Представьте себе прилив три тысячи лет назад. Рыбы, разумеется, несравнимо больше; она заходит в лабиринт вместе с водой, набивается в эти коридоры и тупики. А в отлив древний охотник собирает улов...
Тишину острова нарушает шумное разноголосье туристов. Девочка лет восьми подходит к лабиринту и... принимается, что-то напевая, скакать с витка на виток до центра и обратно.
— А это — иллюстрация к еще одной гипотезе. Неверной, конечно,— нимало не смущаясь, комментирует сценку наш «лабиринтщик».— Некоторые полагают, что «вавилоны» служили для праздничных обрядов и игрищ...
Кузова. Плато сейдов
В нескольких часах хода от Соловков лежит архипелаг Кузова. «Полярный Одиссей» бросил якорь у восточной оконечности острова Большой Немецкий Кузов.
Необитаемый остров... В прозрачных голубых бухтах ловили рыбу непуганые выводки гаг, а в хвойной поросли порхали отъевшиеся на ягодниках рябчики. Почти час карабкались мы к вершине острова, обдирая колени о скользкий гранит, нащупывая в склоне трещины, цепляясь за шершавый податливый ягель. И когда добрались до вершины, остановились ошеломленные. Со всех сторон под свист колючего ветра на нас, казалось, надвигались десятки рассерженных каменных богов... Мы не были готовы к мрачному великолепию пантеона, хотя и знали, что поднимаемся на плато сеидов.

Каменные идолы саамов — сеиды — сделаны по одному образцу: ножки из булыжника, массивная глыба-туловище, голова — столбик из мелких камней. Среди них встречаются исполины по нескольку тонн весом и совсем маленькие сеиды, которые под силу перенести одному человеку. Увы, по-видимому, туристы проделывали это нередко: многие сеиды разрушены. Сто сеидов Большого Немецкого Кузова и почти двести соседнего Русского Кузова — уникальные святилища, не имеющие аналогов в мире, но до сих пор никто не взял их под мало-мальски эффективную защиту. И, словно наказывая людей за невнимание, сеиды упрямо оставляют без ответов вопросы ученых. Были ли каменные идолы домашними богами лопарей-саамов? Или, поклоняясь им, они поклонялись предкам? А может, сеиды, которым саамы еще сто лет назад приносили жертвы — рыбу, тюлений жир, оленью кровь, внутренности,— символизировали души погибших охотников, а количество камешков на глыбе — число тех, кто не вернулся с промысла? Загадки, загадки, загадки... Даже датировать сеиды хотя бы с приблизительной точностью пока не удалось, поскольку на них нет следов прямой обработки.
— Посмотри...— негромко позвал меня Вадим Бурлак. Присев на корточки, начальник нашей экспедиции пристально вглядывался в средних размеров сеид. Я подошел.— Ничего не видишь? — Я ничего не видел.— Ну же, напряги фантазию! Олень! — подсказал Вадим. И тут я увидел. Восемь камешков, составленных в столбик на плоскости глыбы, отбрасывали на ее поверхность странную тень: в ней действительно угадывалась оленья голова, увенчанная раскидистыми рогами. Театр теней?! Мы перебежали к соседнему сеиду, третьему, десятому — теней, напоминающих силуэты животных или птиц, не удалось усмотреть. Более того, вернувшись к «оленьему» сеиду, мы уже не увидели и рогатой головы.
«Шутки воображения»,— посмеивались мы, спускаясь с вершины острова.
И лишь когда Кузова исчезли из виду, слившись за кормой с горизонтом, пришла на ум запоздалая мысль: а что, если тень появляется только при определенном положении Солнца? Строго в определенный час. Или минуту?..
 Красный. Северная заповедь
Красный. Северная заповедь
Человек возился на берегу с лодочным мотором, не отвлекаясь ни на «Полярный Одиссей», вставший на якорь в кабельтове от острова, ни на катер, в котором мы двинулись в его сторону, к кордону Красному — двум рубленым избушкам и дощатому сараю на краю леса.
img_txt p=""
<="">
По отлогим деревянным стланям, заменявшим причал, мы вытащили катер на берег. Человек — судя по фуражке, это был лесник — по-прежнему не обращал на нас внимания, всецело поглощенный своим стареньким «Вихрем». Подошли, поздоровались. Лесник принялся внимательно изучать наши бумаги и, когда мы уже потеряли надежду дождаться от него хоть слова, протянул руку.
— Клоковский Юрий Сергеевич. Здравствуйте.— Лесник улыбнулся и из угрюмого пожилого чернобородого помора вдруг превратился в общительного человека лет тридцати пяти, с неторопливой складной речью.— Рад гостям. Я ведь тут один на все девять Кемлудских островов...
Юрий рассказал, что уже третий сезон сидит на островах, а сезон — с апреля и аж по Октябрьские. Раньше работал шофером в Кандалакше, попал в аварию, два года мыкался по больницам, думал, не жилец боле. А как дело на поправку пошло, решил пойти в лесники — к природе ближе. Обратился в дирекцию заповедника — взяли. Определили сюда, на Кемлуды.
— Не скучно ли? — повторил Юрий наш вопрос.— Да разве с таким хозяйством заскучаешь: полдня надо, чтобы объехать только. А главное — душе здесь радостно. Вот пойдемте, покажу Красный...
Мы идем за лесником по тропке, едва заметной в сухом пружинистом мху. Тропинка вьется по-над берегом среди низкорослых пушистых сосенок и чахлых берез, огибает смородиновые кусты, кружит по ягодным полянам — брусничным, черничным, морошковым. Воздух душист и сладок, кажется, он настолько напоен ягодным нектаром, что становятся липкими губы. Но ягод пока нет — только началось цветение.
— Много ли в сезон ягоды, Юрий Сергеевич?
— Как не быть! И ягода, и грибы. Без них-то и загрустить можно, поди. Консервы мясные — дефицит, коровенку можно было б завести — так в заповеднике не положено, а на одной треске и макаронах сидеть не очень чтобы... Так что ждем не дождемся июля, когда грибы-ягоды пойдут.
— Кто ждет? — не понимаю его «ждем».
— Как кто? Птицы ждут. Звери. Я. Да еще три десятка таких, как я!
...Днем позже, когда «Полярный Одиссей» пересек на широте 66°33" линию Северного полярного круга и пришел в порт Кандалакшу, директор Кандалакшского государственного заповедника Геннадий Трифонович Коршунов подтвердил слова лесника. Почти 60 тысяч гектаров заповеданной площади, раскинувшейся на берегах Белого и Баренцева морей и сотнях больших и малых островов, охраняют всего тридцать пять лесничих и лесников. Не густо. И все же в деле охраны природы, как нигде, качество важнее количества: лучше один лесник, но преданный своему делу, как Юрий Клоковский, чем десяток случайных людей, которые вдруг возомнят себя полновластными хозяевами вверенной им территории. В этом мнении были единогласны все сотрудники Кандалакшского заповедника, с которыми нам удалось поговорить,— считанные, но беззаветно влюбленные в свою работу энтузиасты. Именно благодаря им в этой северной заповеди Советского Союза спасен от полного уничтожения тевяк — серый, или горбоносый, тюлень; гнездятся тяжелые ширококрылые гаги, чуть было не истребленные из-за их легчайшего и исключительно теплого пуха; роют норы, чтобы отложить туда одно-единственное яйцо, тупики — редкие забавные птицы с массивным, как у крупного попугая, алым клювом; галдят на птичьих базарах, не опасаясь человека с ружьем, десятки тысяч кайр, чаек-моевок, поморников, бакланов, крачек...
«Полярный Одиссей» отчаливает из Кандалакши вечером, и после нескольких часов хода капитан Виктор Дмитриев заводит шхуну в укромную бухточку, чтобы перестоять ночь. Но едва якорь, прозвенев цепью о клюз, ложится на дно, из-за мыса вылетает катер и мчится к нам. В катере лесник, который сообщает, что мы зашли в заповедные воды, и, не желая ничего слушать, решительно предлагает покинуть бухту. После непродолжительных и тщетных попыток вступить в переговоры снимаемся с якоря и уходим. Впрочем, эпизод этот скорее радует, чем огорчает: если в заповеднике все лесники такие, то браконьерам здесь особо не поживиться.
На ночлег останавливаемся в Пильской губе, укрывшись от ветра за продолговатым лесистым островком. Хотя уже третий час ночи, спать не хочется — солнце, багрово-красное, как шар раскаленного стекла на трубочке стеклодува, зависло высоко над горизонтом, и непонятно, то ли это закат, то ли восход...
Лев-наволок. «Море — наше поле»
От Умбы до тони Лев-Наволок добираемся на рыбацкой мотодоре — нас с Алексеем Татарским, врачом экспедиции, согласился подбросить приемщик рыбы. Идем час, другой: ветер боковой, изрядная качка...
Наконец показывается тоня — небольшая бухточка между двух валунов и избы на опушке леса. Навстречу мотодоре отчаливает карбас с тремя рыбаками в оранжевых роконах. Поравнявшись с нами, один из них вместо приветствия гневно кричит: «Все! Хватит! Еду в суд. Я им покажу! Селедку губят! Тоннами!» Алексей — он принимает самое деятельное участие в экологической программе экспедиции — не оставляет эти слова без внимания. Выясняем, кто губит селедку и как. Оказывается, тара. Было на тоне всего пятнадцать ящиков. Когда сельди ловилось мало, для оборота хватало: приедет приемщик, десяток заберет, десяток взамен оставит. А вчера пошла рыба! Мигом все емкости наполнили, сети полны, аж тонут, а выбирать нельзя — куда сложишь добычу? Еще сутки, и пропадет рыба, испортится в ставнике.
— А я тут при чем? — огрызается приемщик.— У меня таких тоней знаешь сколько, и до каждой — пятнадцать-двадцать километров. Почем мне знать, где идет рыба, а где не идет?
— Так рация, наверное, нужна? — робко вставляю я, и мужики смотрят на меня так, будто я предложил оснастить сети компьютерами. Все ясно: для кого двадцатый век, а у беломорских рыбаков как не было раций, так и нет и, похоже, не предвидится. Но наивная моя реплика все же помогает. Рыбаки успокаиваются, и мы все едем на ту сторону залива к ставному неводу. Над ним снежными хлопьями вьются чайки — признак богатого улова. Пенопластовые поплавки едва виднеются над водой.
— Килограммов шестьсот,— определяет на глаз бригадир.

Бригада выбирает сеть, тут же на волне сортируя улов.
Для чаек начинается самый настоящий пир, они возбужденно кричат, заглушая наши голоса, набивают зобы, садятся, отяжелевшие, на воду, но и тут продолжают подбирать даровую добычу.
Возвращаемся к тоне, оставляем полный почти до бортов карбас на берегу и идем в избу греться. Я гляжу на руки рыбаков — красные, шершавые, с опухшими суставами.
— Все ими,— замечает мой взгляд бригадир,— и ставишь, и выбираешь, и присаливаешь. А вода ледяная... Не все выдерживают. Вот в этом году у нас молодой здоровый парень заменился, Серега,— по рукам экзема пошла.
На раскаленной печной плите появляется чайник, сковорода со свежей селедкой. «Любите беломорку-то?» — спрашивают нас с доктором.
Затруднительный вопрос: пробовать не доводилось. Только недавно на биостанции, на мысе Картеш, от биолога Олега Филипповича Иванченко узнали, что сельдь — самая важная промысловая рыба Белого моря. Испокон веков поморы говорили: «Море — наше поле», и главным урожаем с этого поля была беломорка. И кормила она рыбаков, и заработок давала почти гарантированный, и даже сусло для скота из нее делали. Черпали из моря без ограничения, сколько хватит сил. Море держалось, пока не появились мощные промысловые суда и тралы, а план по рыбе следовало перевыполнять, и чем больше, тем лучше. Бездумный промысел изрядно подкосил сельдяные запасы, а тут еще неизвестно отчего погибла морская трава зостера — лучшее природное нерестилище для беломорки. И на убыль пошла сельдь, да так стремительно, что поморы стали забывать вкус беломорки...
С опозданием промышленность забила тревогу, обратилась к ученым. С помощью науки исчезновение сельди остановили. Олег Филиппович, со студенческих лет занимающийся искусственным разведением беломорской сельди, показал нам сетяные субстраты-дели, на которые охотно мечет икру беломорка; расчет глубин, температур, технологических режимов, при которых выживает максимальное количество оплодотворенных икринок; лотки с мальками, инкубированными на биостанции. И наконец, продемонстрировал ловушки-нерестилища, которые позволяют и икру принять и сохранить, и отнерестившуюся рыбу выловить. Эти ловушки — гордость его лаборатории. Медленно, но достаточно уверенно сельдяные запасы в Белом море восстанавливаются, и — кто знает? — может, в недалеком будущем посетители «Океанов» будут недоверчиво присматриваться к новинке с этикеткой «Сельдь беломорская».
И все же на вопрос лев-наволоцких рыбаков мы с доктором дружно отвечаем: «Любим!» И подсаживаемся к столу.
Приемщик оформляет квитанцию, забирает ящики с уловом. Трогаемся в обратный путь. Погода портится, чем дальше от Лев-Наволока, тем сильнее ветер. Дору швыряет так, что удержаться на скамье можно, лишь вцепившись в планку под фанерным потолком каютки. Лицо у доктора постепенно приобретает белый, а затем желтый оттенок. Заметив это, приемщик смеется:
— Что, кочковато наше поле поморское?
Варзуга. Секрет долголетия
В обмелевшее устье Варзуги «Полярный Одиссей» не вошел, и, чтобы добраться до деревни Варзуга, что в тридцати километрах выше по течению, экипажу шхуны на время пришлось превратиться в пассажиров старенького тряского «пазика».
— Волнуюсь,— признался на подъезде к Варзуге наш боцман Александр Николаев. Он — редактор Карельского телевидения, объездил почти весь Север, а вот в Варзуге еще не бывал.— Ведь в Поморье древнее села, пожалуй, и нет. Тысячу лет стоит как стояло и здравствует. Чудеса! А ты слышал про Успенскую церковь? В 1674 году сами варзужане построили, без единого гвоздя. Пишут — шедевр деревянного зодчества... а вот, кажется, и она...
Из-за холма вынырнула отливающая серебром маковка, затем потянулся в небо стройный шатер, и вот на высоком берегу открылась вся церковь — ладная, высокая, с просторным нарядным крыльцом и изящными, набегающими один на другой ярусами.
— Нравится? — спросил встречающий нас председатель колхоза Петр Прокопьевич Заборщиков.— Понимаю. Сам иной раз иду по селу и глаз не могу оторвать. А ведь всю жизнь здесь.
Мы идем по пружинящему деревянному тротуару за председателем и нет-нет да оглядываемся на церковь, оставшуюся на том берегу Варзуги. Присматриваюсь к варзужским домам — как-то живет тысячелетняя деревня? Избы крепкие, основательные, со скотными сараями, огородами, палисадниками, на крышах торчат телевизионные антенны, во многих дворах стоят мотоциклы.

— Неплохо, похоже, живете, Петр Прокопьевич?
— Да вроде бы ничего,— отзывается Заборщиков,— хотя можно и лучше. Все-таки колхоз наш не из последних.
Скромничает председатель. В Умбе, Терском райцентре, нам рассказывали, что «Восходы коммунизма» — одно из лучших хозяйств, колхоз-миллионер: и семгу ловит, и овощи выращивает, и скот на мясо откармливает, и молоком весь район обеспечивает.
В клубе, новеньком, еще пахнущем краской, мы должны встретиться с варзужанами, но пока никого нет.
— Народ пойдет через час, не раньше,— объясняет Петр Прокопьевич,— только работу кончили. Вы вот пока наших певиц послушайте. Варзужский народный поморский хор.
У клуба уже собрались человек пятнадцать женщин в расшитых сарафанах, атласных передниках, ярких шалях, пришпиленных брошью к кофте. Волосы убраны в повойники — старинный головной убор в виде черной круглой шапочки с плоским верхом, перевитой красной лентой. У одних верх повойника расшит серебряными узорами, у других — речным жемчугом, которым с древности славилась река Варзуга.
С хором идем на «площадь» — высокую зеленую лужайку в конце села. Внизу переливается река, огибая остров; около лодочных мостков с восторгом плещутся ребятишки. Напротив — Успенская сторона с красавицей церковью, избами в два ряда, лесом на горизонте. В безоблачном небе висит нежаркое северное солнце и, кажется, вместе с нами завороженно смотрит, как на крутом откосе выстраиваются варзужские женщины в поморских нарядах и сильными голосами запевают: «Не на-а-па-дывай пороша...» И вот уже певицы пускаются в пляс, водят «ручейки» да хороводы...
С организатором Варзужского хора Александрой Капитоновной Мошниковой мы знакомимся только вечером в клубе — Александра Капитоновна последнее время мало выходит из дома. Годы... Прежде всего она интересуется, понравился ли нам хор: с хором, с поморскими песнями связана вся ее жизнь. Под ее руководством хор, которому в 1986 году исполнилось полвека, стал известен в Мурманской области, Ленинграде, Москве, получил звание народного, записал пластинку, удостоился золотой медали ВДНХ...
После беседы с варзужанами о самом главном — судьбе планеты, ядерной опасности, борьбе за мирное будущее, которую ведут люди доброй воли всей Земли, миролюбивой политике Советского Союза,— мы расстилаем на сцене клуба листы с воззванием в защиту мира. На них уже оставили свои подписи жители городов и сел, где побывал «Полярный Одиссей», рыбаки на тонях, моряки, лесники заповедных островов.
Первой воззвание подписывает Александра Капитоновна. Следом за ней — присутствующие в зале старики, затем люди помоложе, после них — дети. Гляжу, как на ватмане растут столбцы подписей, и вдруг замечаю, что чуть ли не треть всех фамилий — Заборщиковы.
— Нас и правда почти треть,— улыбается Петр Прокопьевич,— человек сто Заборщиковых. Давно в Варзуге живем...
Заборщиков приглашает к себе на чашку чая. Сидим за большим, основательным, как и все в Варзуге, прямоугольным столом и пьем из крутобокого самовара чай с морошкой, в печи уютно потрескивают березовые поленья, а я все гадаю, в чем секрет долголетия Варзуги. Может, место такое исключительное? Земли неплохие, река чистая, рыбная, лес под боком...
— Хорошее место,— соглашается Петр Прокопьевич,— предки знали, где селиться. Только одного места мало. Сколько добрых мест в Поморье обезлюдело, потому что корни не берегли. Гнались за сегодняшним, а завтрашнее потеряли. Кузомень-то видели?

Да, мы уже видели Кузомень, стоящую в устье той же Варзуги. Добротные еще, но уже мертвые избы, мертвая двухэтажная рубленая школа, мертвая улица, занесенная песком... Песок здесь хозяин, ему принадлежит теперь Кузомень — когда-то самая богатая терская деревня. Щедро оделяла всем поморов здешняя земля, брали от нее, не задумываясь, вырубали лес, корчевали пни, жгли негаснущие костры под железными сковородами солеварок в XVII, XVIII, XIX веках — и погибла почва, наказав потомков через несколько поколений. Впрочем, и самих виновных настигла кара даже после смерти: как апофеоз всеобщего запустения возвышается над Кузоменью кладбищенский холм, но не холм это уже, а дюна — огромные трехметровые кресты где перекосились, где попадали, а из-под осыпающейся почвы, людским бездумием обращенной в песок, выползают полуистлевшие домовины...
— А Варзуга потому жива,— заключил Петр Прокопьевич,— что не обирали варзужане никогда будущие поколения. Что получали от отцов, то детям, не убавив, передавали. И лес, и землю, и речку. И песни. И память.
Мы распрощались с председателем, переправились на Успенский берег. Не удержавшись, я еще раз подошел к церкви. В темном от времени рубленом восьмерике, подпирающем шатер, желто поблескивали сосновые бревна.
Совсем свежие бревна. Поставленные взамен прогнивших лесин чьими-то заботливыми хозяйскими руками.
 Святой Нос. Знак на островке
Святой Нос. Знак на островке
Горло Белого моря, стиснутое Кольским полуостровом и Зимним берегом, клокотало, плескало о борта шхуны маленькие злые волны, а за Пялицей, поменяв попутное нам течение на встречное, обволокло «Полярный Одиссей» густым серым туманом...
Беломорское горло всегда пользовалось у поморов дурной славой — каждый год с промысла не возвращались чьи-то кочи и шняки, и тогда говорили: «Горло их проглотило...» Особенно не любили поморы огибать мыс перед Иоканьгским заливом, там, где Белое море соединяется с Баренцевым. Ходила легенда, что у мыса водятся гигантские морские черви: они нападают на проходящие суда, топят их, буравя деревянные днища, а моряков пожирают. Привозили какого-то святого старца заговаривать злокозненных червей, после этого мыс стали называть Святым Носом, однако поморы вплоть до XIX века предпочитали на мурманский берег ходить не вокруг мыса, а волоком через узкий перешеек в его основании.
Увы, благоразумный путь поморских мореходов для «Полярного Одиссея» недоступен. Еще двое суток мы идем на север в сплошном тумане, ориентируясь по лоции и береговым радиомаякам: Сосковец, Вешняк, Орловский, Городецкий, Лумбовский... Святоносский!
Еще немного усилий, и на скалистом островке севернее мыса появляется шест с памятной табличкой: «Беломорская экспедиция журнала ЦК ВЛКСМ «Вокруг света», 1986 год. Мыс Святой Нос».
Впереди — вторая половина пути.
Окончание следует
Григорий Темкин
(обратно)
Поперек середины мира

— И вот вообразите,— рассказывал Олег Владимирович,— я в Кито. Впервые не просто в Эквадоре. Впервые в Южной Америке, впервые в Южном полушарии, впервые почти на экваторе. «Почти» потому, что Кито лежит чуть к югу от нулевой параллели. Сразу и не поймешь, что попал на самую «середину мира». Не жарко. Прохладный ветерок. Впрочем, все это вполне объяснимо: город расположен на высоте почти трех километров над уровнем моря. Четко различимы две части — Новый Кито и Старый. Характерная черта Нового Кито: склоны холмов засажены эвкалиптами. Эти рощи служат защитой от эрозии и образуют противоселевой заслон... Над Старым Кито возвышается гора Панесильо — «Маленький хлебец». На вершине — памятник святой деве Марии... И вот я, совершив первый круг по городу, стою на площади Сан-Франциско, верчу головой, стараясь вобрать в память сразу все — и дома, и горы, и прозрачный воздух, которого чуть-чуть не хватает для дыхания, и замечательную церковь Ла-Кампанья, украшенную индейской резьбой по дереву, где фигуры людей сохраняют — вопреки испанской традиции — естественную пропорциональность... Ко мне подбегает мальчишка с толстенной пачкой газет в руках. К этому я впоследствии так и не смог привыкнуть — детский труд для меня был и остается дикостью. Так вот, разглядываю маленького продавца в огромной, небрежно надвинутой — «как у взрослого» — войлочной шапке, и на верхней губе мальчишки вижу язвочку. Вот он, мой враг: лейшманиоз. И я в очередной раз осознаю, что приехал сюда не напрасно. Здесь пора сделать паузу в беседе и объяснить, кто такой Олег Владимирович Алита и что такое лейшманиоз.
С доктором Алитой я познакомился в Москве — уже после того, как
Олег Владимирович вернулся из командировки в Эквадор. Советских медиков немало в разных странах мира, но О. В. Алита был первым советским врачом по сотрудничеству в Эквадоре, а это вызывало определенный интерес. Специальность Олега Владимировича — кожные болезни, в частности — лейшманиоз. У этой болезни много имен — некоторые, несомненно, знакомы читателям по художественным произведениям, рассказывающим о недавнем прошлом Средней Азии: пендинская язва, годовик, ашхабадская язва, соляк, мургабская язва, наконец, болезнь Боровского. Не буду описывать признаки заболевания. Необходимо лишь отметить, что когда-то оно было широко распространено на юге нашей страны. Теперь же болезнь, носящая эндемичный характер, локализована и встречается лишь в республиках Средней Азии, а также на юге Азербайджана.
Во всем мире от лейшманиозов страдает огромное количество людей — в Азии, Африке, Латинской Америке. Не случайно эта болезнь входит в число шести инфекционных заболеваний, которые взяты под особый контроль Всемирной организацией здравоохранения. В Эквадоре, Перу, Колумбии и прочих странах Южноамериканского континента ее называют болезнью дровосеков, в Мексике — язвой чиклерос (чиклерос — те же дровосеки). Причина появления такого имени понятна: заболевание передается при укусах москитов, которые любят сырые, тенистые места, заболоченные участки.
Олег Владимирович Алита — опытный врач-дерматолог. В Эквадор его командировали поделиться собственным опытом и одновременно изучить местные методы лечения.
Когда я впервые пришел в квартиру Олега Владимировича, мне открыл дверь немалого роста плотный человек, в бороде и усах его пряталась добродушная улыбка. Знакомство наше началось с шутки. На улице было снежно, и я захотел сменить обувь. Все, что мне смогли предложить,— это тапочки хозяина 45-го размера. Шлепанцы, правда, пришлись как раз по ноге, и Олег Владимирович вдруг рассмеялся.
— Вспомнил,— сказал он, провожая меня в комнату,— размер моей ноги вызывал неизменный хохот в магазинах Кито. Видите ли, мне необходимо было ездить в джунгли, москитов там много, поэтому потребовалась плотная крепкая обувь с высокой шнуровкой. Начал ходить по обувным магазинам — везде смеются: у них самый большой размер — сорок третий; вот и идите, мол, гринго, восвояси, ничем вас порадовать не можем. Пришлось специально заказывать армейские ботинки. И костюм тоже заказал по случаю — из вельвета. Нет, не подумайте — не шику ради. Какая может быть защита от москитов? Репелленты да плотная ткань. Вельвет в этом смысле — очень практичный материал. Согласитесь, не брезент же носить под экваториальным солнцем!..
В разговоре выяснилось, что Олег Владимирович заканчивал Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Мы часто встречаем упоминание об этом университете в газетах, слышим о нем по радио, но порой не задумываемся, какую роль играет это высшее учебное заведение в мировой системе образования, сколь важную помощь оказывает УДН развивающимся странам, готовя для них квалифицированные кадры. Десятки тысяч выпускников Университета дружбы народов — теоретики и практики естественных наук, инженеры, специалисты сельского хозяйства, врачи, экономисты, юристы, историки, филологи — работают в разных странах мира, отдавая своим соотечественникам полученные знания.

— Вообще выпускники УДН — это высокая марка,— рассказывал доктор Алита.— Вот я по пути в Эквадор оказался в столице Перу Лиме. Еще в самолете гадал: как бы разумнее распорядиться временем — на осмотр города выкроились считанные часы. Выхожу в холл гостиницы — батюшки! — знакомое лицо. Наш, из Университета дружбы народов, врач. Узнал, что прилетел советский медик, разыскал, приветил. С его помощью я теперь имею представление о Лиме. В Эквадоре мне много помогала Росита Миньо — тоже наша выпускница, мы с ней учились на одном курсе. Росита работает в госпитале социального страхования, а до этого год трудилась в сельской местности — в Эквадоре таков общий порядок для дипломированных врачей. Вообще в стране много выпускников нашего университета — инженеры, медики. Кто-то трудится на ниве образования, кто-то плавает на рыболовных судах. Агустин Паладинес, например, занимает важный пост: работает координатором по сотрудничеству между УДН и Центральным университетом Кито. Помните, я говорил, что склоны в Новом Кито засажены эвкалиптами? Инициатор этих противоселевых посадок тоже наш выпускник, он заслужил в городе титул «борца с селем»...
Около пятисот эквадорцев закончили советские вузы, и не только Университет дружбы народов. Они объединены в Ассоциацию выпускников советских вузов. Эта организация — коллективный член Общества эквадорско-советской дружбы, она издает свой журнал, в котором освещает экономические проблемы, культурную жизнь страны — среди членов Ассоциации есть выпускники ГИТИСа.
В Эквадоре хорошая дерматологическая школа. Заведующий кафедрой дерматологии Центрального университета Кито Ольгер Гарсон познакомил Олега Владимировича с интереснейшей личностью — доктором Луисом Леоном, ранее возглавлявшим кафедру тропикологии в университете. Луис Леон — крупнейший специалист в области тропической патологии, настоящий подвижник. Он буквально по крупицам собрал национальную библиографию по медицине, куда вошли и современные научные данные, и сведения о народной медицине, еще мало изученной...
— Я был прикомандирован к госпиталю «Гонсало Гонсалес»,— продолжал рассказ Олег Владимирович.— Это государственный дерматологический госпиталь совместно с лепрозорием. Каждую субботу и воскресенье мы с директором госпиталя ездили в очаги лейшманиоза. Изучали эпидемиологическую обстановку, ходили по дворам — выявляли больных. Дело осложнялось тем, что точной статистики по лейшманиозу в стране нет — сельские медики стараются скрыть истинные цифры. А бороться с кожным лейшманиозом весьма сложно. Переносят возбудителя, как известно, москиты. Но даже если перешлепать всех москитов какой-нибудь фантастической хлопушкой, проблема не будет решена. Дело в том, что лейшмании содержатся в природных «резервуарах» — грызунах, которым данные простейшие микроорганизмы не причиняют ни малейшего вреда. В Эквадоре этими резервуарами служат кролики, хлопковые крысы, агути — горбатые зайцы, и вот подавить грызунов практически невозможно — в горах, в джунглях никакие средства не эффективны...
В этом месте я позволил себе перебить доктора Алиту и спросил о риске.
— Риск? Конечно, риск был,— прозвучал ответ.— Но любой профессиональный риск должен быть разумным. Например, известно, что пик активности москитов приходится на вторую половину дня, поэтому к шестнадцати часам я старался уезжать из очагов. Ведь никакой четкой профилактики нет. Вся надежда, как я говорил, на репелленты и плотную одежду. Так что командировки мои были частыми, но короткими: рано утром уехал, к вечеру вернулся в Кито. Между прочим, сама природа в Эквадоре работает как метроном и задает режим работы.
Я прилетел в Кито в начале апреля. А в этот период в эквадорской столице дождь идет каждый день, причем строго по часам: начинается в интервале от часа до полвторого и идет не больше пятнадцати-двадцати минут. В поездках та же картина. Часы можно было не брать. Как прошел дождь — значит, надо собираться домой. Тем более что после дождя москиты злеют.
Если говорить о риске, то уж и не знаю, что несет большую опасность — москиты или «бусетас». Это пассажирские автобусы, которые носятся по горным дорогам в Андах. Носятся в буквальном смысле! Бесшабашные водители, не признающие правил движения, могут и на серпантине развить скорость до сотни километров в час. Бусетас разрисованы яркими красками, украшены лампочками. Мчится навстречу такое экзотическое сверкающее чудо — и думаешь: проскочит мимо или сбросит в пропасть?
Но вот возвращаешься в Кито, принимаешь душ, обедаешь — нервы успокаиваются. Можно снова прийти в «Гонсало Гонсалес» и побеседовать с госпитальным падре Мичелино. Разговоры были не только на профессиональные темы. Гуляя по галереям госпиталя — а здание старое, колониальной постройки,— мы много беседовали о войне и мире, об острых проблемах современного политического бытия. Падре оказался убежденным пацифистом, так что нам не нужно было уговаривать друг друга бороться за мир. Чаще всего мы разговаривали о том, что победить основные инфекционные болезни на планете — особенно детские — не так уж и сложно. Были бы средства. А где их взять на все развивающиеся страны, если общемировые военные расходы съедают около триллиона долларов в год?! И ведь все уже давно рассчитано. Известно, например, что программа Всемирной организации здравоохранения по ликвидации малярии не реализуется из-за нехватки средств. А расходы на полное освобождение человечества от этой болезни в три раза меньше стоимости одной современной подводной лодки. Можно было бы покончить и с корью — на это требуется всего 300 миллионов долларов: в пересчете на военные расходы — около трех часов мировых затрат...
После разговора с Олегом Владимировичем я заинтересовался статистикой ВОЗ и к его данным смог добавить следующее. Более 16 миллионов детей умирает ежегодно — в основном в развивающихся странах — от недоедания, диареи, малярии, воспаления легких, кори, коклюша, столбняка. Увы — лишь 40 процентов детей Земли получают прививки против основных инфекционных болезней. Между тем давно подсчитано, во что обошлась бы вакцинация всех детей планеты от кори, дифтерии, коклюша, столбняка: от 600 миллионов (столько человечество тратит на военные нужды за 5 часов) до четырех миллиардов долларов (или 35 часов мировых военных расходов) .
Важнейшее сырье на нашей планете — обыкновенная вода. А чистая пресная вода — главнейший оздоровительный ресурс. Два миллиарда жителей Земли пьют загрязненную воду, что служит причиной 80 процентов всех заболеваний в развивающихся странах. Недостаток воды сказывается не только на качестве и количестве приготовляемой пищи, но и на санитарных условиях. Если женщина — будь то в Азии, Африке или Южной Америке (например, в пустынных районах того же Эквадора) — должна идти по воду за пятнадцать-двадцать километров, то, вернувшись из многочасового похода, она будет тратить драгоценную влагу только на самое необходимое и уж вовсе не на мытье. Таким образом, рушится важнейший барьер против инфекций — гигиенический.
Всемирная организация здравоохранения давно предложила программу по обеспечению развивающихся стран безопасной питьевой водой. Программа эта пока не реализуется. Стоимость ее, кстати, равна всего 18 суточным мировым военным затратам...
— Конечно, мои поездки по Эквадору не ограничивались только обследованием лейшманиоза, — сказал Олег Владимирович, когда мы подводили итог нашим беседам.— Я побывал в Вилькабамбе и видел самых прекрасных в мире старух — долгожительниц этого района. Глядя на столетних женщин, никак не осознаешь груза лежащих на них лет. Ученые до сих пор не установили причину долголетия в Вилькабамбе. Возможно, все дело в местной воде, насыщенной изотопами. Здесь и радон, и серебро, и вообще присутствует вся таблица Менделеева. Не зря, видимо, японцы вывозят воду из Вилькабамбы.
Я несколько раз пересекал экватор в разных местах и видел три, а то и больше памятников, установленных на «середине мира»: как правило, это гигантский глобус на постаменте. Стоя около одного из таких «глобусов», я вспомнил строки из прочитанной перед поездкой книги американских путешественников Элен и Франка Шрейдер «Ля Тортуга». Вот это место.
Олег Владимирович снял с полки книгу, раскрыл на заложенной странице и прочитал:
«Эквадор, названный так из-за воображаемой линии, опоясывающей земной шар, представляет собой явный парадокс. Климат там весьма далек от нашего представления об экваторе — по крайней мере так нам казалось, когда, укутавшись в плащи и широко расставив ноги, мы стояли в этом центре земного шара, а солнце озаряло снежную вершину Кайямбе. У самой дороги возвышался бетонный глобус и обелиск с надписью: «Линия экватора, ноль градусов, ноль минут, ноль секунд».
— Я тоже, было дело, мерз на экваторе,— вспомнил доктор Алита.— А как-то раз закралась мысль: вдруг именно мне доведется отыскать сокровище Руминьяуи. Был такой великий патриот Эквадора, его зверски убили колонизаторы в 1535 году. Руминьяуи — на языке кечуа это означает «Каменный взгляд» — спрятал от испанцев несметные сокровища, которые не найдены и по сей день. А один раз меня пробрал настоящий страх. Было это возле часовни, поставленной в честь единственного чернокожего святого католической церкви — Сан-Мартина. Часовня стоит возле глубочайшего каньона. Есть поверье: если бросишь монету так, чтобы она, не касаясь стенок, упала в воду,— значит, вернешься в Эквадор. Я подошел к краю каньона и... пошатнулся. Бездна словно втягивала в себя. Голова закружилась, как будто вестибулярный аппарат отключился разом. Я преодолел себя, присел на корточки, нащупал в кармане монету, вытащил — и швырнул в пропасть. Наверное, чернокожий святой сжалился надо мной и поправил движение руки. Монета упала точно в воду...
Виталий Бабенко
(обратно)
Тиро Фихо

Невысокого худощавого парня по имени Мигель с черными как смоль, слегка вьющимися волосами я приметил в первый же день. И вот почему. На губах у него часто блуждала застенчивая улыбка, а глаза оставались грустными. Понаблюдав за ним, я решил, что Мигель стесняется своей хромоты и поэтому на пляже уходит подальше от всех. Да и в маленькой гостиной-столовой «Эксельсиора» он старался появляться попозже, когда там уже никого нет. Несмотря на громкое название, наш «Эксельсиор» был вовсе не чопорным отелем, а скромным пансионатом на мексиканском побережье с двумя десятками гостей, к числу которых вскоре присоединился мой знакомый, репортер Фернандо. Я мог только гадать, каким ветром занесло в это тихое пристанище неугомонного потомка майя, поскольку сам он лишь коротко сказал, что тоже приехал поработать. Впрочем, все выяснилось, когда он пришел обедать вместе с... Мигелем. Причем, судя по их оживленной беседе, они хорошо знали друг друга.
Когда я поднялся из-за стола, у дверей меня догнал Фернандо.
— Если хочешь услышать кое-что интересное, в девять приходи ко мне в номер,— заговорщически прошептал он, хотя столовая была уже пуста.
Конечно же, я был у Фернандо минута в минуту, настолько заинтриговал он своим загадочным поведением.
— Это мой советский коллега Андрее,— представил он меня устроившемуся в плетеном кресле Мигелю.— При нем можете рассказывать безо всякой боязни.— И, видя, что я теряюсь в догадках, пояснил: —
Мигель из Сальвадора. Солдат Фронта
(Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти.)
. Лечился здесь после ранения.
Так вот откуда хромота! Правда, закрадывалось подозрение, что Мигель не здешний, а, похоже, из Центральной Америки, но определить по внешности, откуда именно, было сверх моих сил.
— Итак, Мигель, мы остановились на мартовском восстании восемьдесят второго года. После него ты ушел с партизанами в горы,— напомнил Фернандо.— Что было потом?
Как жаль, что я упустил возможность услышать от непосредственного участника о тех памятных событиях, когда отряды Фронта, переброшенные с горы Гуасапа, вели бои в самой столице Сан-Сальвадоре!
Мигель откашлялся, словно оратор перед выступлением, и хрипловатым голосом начал неторопливый рассказ:
— Тогда с партизанами ушли почти все члены университетской организации Союза коммунистической молодежи. Остаться в городе было равносильно самоубийству. Солдаты национальной гвардии расстреливали подозрительных прямо на улицах. А тех, кто попадал в руки секретной полиции, перед смертью ждали пытки. Выйти же на волю после ареста было все равно что пройти аки посуху озеро Илопанго. Поэтому в подполье отбирали самых стойких и опытных. Я тоже просился, но не взяли. Оказался «слишком заметной личностью»,— усмехнулся Мигель.— Хотя всего лишь занимался в университетском стрелковом клубе, пока его не закрыли, случалось, выступал на соревнованиях...
— Поэтому у партизан ты и получил имя «Тиро Фихо»
(Меткий стрелок(исп.).)
? — перебил Фернандо.
— Нет, это произошло гораздо позже, после одной операции. А сначала был просто неопытным новичком, над которым посмеивались старые компаньерос. Да и немудрено. Хотя в университете я активно работал в Союзе коммунистической молодежи — вел агитацию среди студентов и в рабочих кварталах, распространял партийную печать, вместе с другими охранял выступавших на митингах руководителей компартии,— для партизанской жизни этого оказалось слишком мало. Пришлось учиться буквально всему, даже такой простой вещи, как ходить по тропинкам. Дело в том, что местные крестьяне при ходьбе ставят ступни на одной линии и протаптывают узкий желоб. Без привычки ни за что быстро по нему не пройдешь — ноги заплетаются...
Разошлись мы за полночь, когда голос у Мигеля окончательно сел. На следующее утро еще до завтрака я постучался к Фернандо и попросил дать прослушать пленку с записью рассказа Мигеля о бое, принесшем ему славу сверхметкого стрелка...
Несмотря на сравнительную молодость, Лопес Кортес успел заслужить мрачную славу своей чудовищной жестокостью. Там, где действовал его «эскадрон смерти», потом находили изуродованные тела: язык вырезан, глаза выколоты, руки и ноги отрублены. На груди жертв аккуратная табличка: «Такая участь постигнет всех бунтовщиков. Смерть всем врагам свободы!» Эта жестокость и помогла ему сделать карьеру. После того как Кортес прошел курс обучения «тактике борьбы с терроризмом» в специальном центре ЦРУ в Батон-Руже, в штате Луизиана, он получил звание майора национальной гвардии. Именно ему поручили руководить операцией «Феникс» по образцу кампании террора, проводившейся ЦРУ в Южном Вьетнаме
(В ходе слушаний в сенатской комиссии по иностранным делам конгресса США директор ЦРУ У. Колби сообщил, что в ходе операции «Феникс» было брошено за колючую проволоку 47 тысяч человек, а 20 587 расстреляны на месте. В действительности число жертв во много раз превышало официальные данные.).
— Наши разведчики сообщили, что свой временный штаб Кортес устроил в деревне Пенья Бланке, куда завтра к нему должен был прибыть американский советник. Обычно гринго старались без особой надобности не покидать столицы, где чувствовали себя более или менее в безопасности. Но тут был особый случай. Карателям удалось перехватить связную по имени Камила, шедшую к командованию партизанской зоны. Отправлять ее в Сан-Сальвадор чучос (Маленькие собаки — презрительная кличка солдат национальной гвардии.) посчитали рискованным: опасались попасть в засаду. В это время Фронт как раз начал большую операцию по блокированию дорог по всей стране. Поэтому по радио вызвали на помощь гринго, «специалиста по допросам», хваставшегося, что он может развязать язык даже немому.— Мигель старался быть бесстрастным, но голос нет-нет да выдавал его волнение.
— Наши бойцы давно охотились за Кортесом, но безрезультатно. Слишком он был осторожен. А тут представлялся подходящий момент, чтобы попытаться вызволить связную и заодно расквитаться с палачом.
На задание решили послать ударную группу из двадцати пяти человек, в основном молодых ребят, хорошо показавших себя в боях. Командиром назначили Ипсинто, тридцатилетнего рабочего-коммуниста с юга, из Сан-Мигеля. Он был в отряде с первых дней и за шесть лет так изучил район вулкана Гуасапа, что под носом у патрулей мог незаметно провести куда угодно. Меня включили в группу, потому что к этому времени я добыл себе снайперскую винтовку...
Когда вечером, у Фернандо, Мигель дошел до этого места, я сначала подумал, что ослышался, и переспросил. Нет, все точно: на задание отправилось двадцать пять бойцов ФНОФМ, хотя в деревне Пенья Бланко находилось больше двухсот карателей.
Группа вышла из лагеря на рассвете, когда ночной туман потянулся вверх, застилая белой дымкой зубчатые очертания гор. Ориентиром служила расчлененная глубокими ущельями массивная громада Гуасапы. Быстро миновав маленькие селения горцев — кампенсинос с карабкающимися по склонам полями кукурузы и бобов, жиденькая цепочка партизан ступила на тропинки-промоины, вьющиеся среди густого подлеска. Когда заросли горных агав сменились молочаем с красными фонариками цветов, сделали первый привал. Дальше лежала ничейная земля. И хотя чучос избегали появляться вблизи границы партизанской зоны, Ипсинто все же выслал вперед разведчиков. Замысел предстоящей операции строился на внезапности. Если их случайно засекут на подходе, она будет сорвана. Да и горстке партизан придется туго.
Через полчаса вернувшиеся разведчики доложили, что путь свободен. Строго выдерживая интервалы, чтобы сорвавшийся из-под ног камень не покалечил идущего впереди, партизаны начали спуск в заросшую лесом лощину у подошвы хребта, за которым лежала Пенья Бланко.
Лощина встретила их сплошной стеной колючих кустов, но пользоваться мачете Ипсинто запретил. Поэтому, пока добрались до прогалины под огромной нависавшей скалой, исцарапались до крови. Зеленый грот оказался настолько мал, что партизанам пришлось сгрудиться потеснее, чтобы всем хватило места на замшелых валунах. По лощине тянул ветер-сквознячок, ероша верхушки деревьев. Но вот к шелесту листьев добавилось чуть слышное шуршание, и на пятачке возник паренек с привязанной к голове на манер шляпы охапкой зеленых ветвей. Он о чем-то пошептался с Ипсинто, после чего командир махнул рукой, и пятеро партизан вслед за пареньком нырнули в упруго сомкнувшиеся за ними колючие заросли. Этим смельчакам предстояло едва ли не самое трудное — пробраться в деревню, чтобы, возможно, ценой собственной жизни освободить связную. Впрочем, бой есть бой. Всем придется смотреть смерти в лицо. Никто не знает, кому суждено вернуться в лагерь, а кому нет.
Вечером, когда командир знакомил участников с планом операции, то первым назвал имя Мигеля. Ему поручалось совершить акт возмездия — снять из снайперской винтовки палача-майора, когда тот будет встречать приехавшего гринго. Поскольку, по сведениям разведки, американец прибудет на машине, а не на вертолете, эта встреча скорее всего произойдет у дома, занятого под штаб. После выстрела Мигеля наверняка начнется паника, которой и воспользуется пятерка Херонимо, чтобы нейтрализовать охрану и освободить Камилу. Затем проводник отведет их к пятачку под скалой. Туда же должны спуститься Ипсинто с Мигелем, чтобы вместе вернуться в лагерь. Остальные постараются увести чучос за собой в горы, запутают следы и оторвутся от преследователей.

Все просто и одновременно невероятно трудно, поскольку нельзя предусмотреть десятки случайностей, которые могут возникнуть по ходу дела. Многое будет зависеть от находчивости и быстроты действий. Главное — не теряться, что бы ни случилось.
Услышав все это, Мигель почувствовал укол ревности. Почему его не включили в отвлекающую группу? Он будет прятаться, а другие подставлять себя под пули. Разве это справедливо? Что он — трус? Но командир успокоил парня. Объяснил, что никто не сомневается в его храбрости. Людей мало. Если пятерка со связной, которую поведет Ипсинто, нарвется на противника, кто лучше снайпера сможет прикрыть отход?
...Хотя стрелки на часах приближались только к двенадцати, а гринго, по всем расчетам, мог приехать не раньше двух, Ипсинто дал команду занять позиции на гребне хребта.
Мигель устроился рядом с командиром за небольшим плоским камнем. Он положил на него винтовку, снял с прицела чехол и приник к окуляру. Деревня внизу была как на ладони. Вчера там праздновали «Диа де ла крус» — День креста, и перед многими домами стояли деревянные кресты, обвитые белыми полотенцами и украшенные большими белыми цветами аконита. Обычно на следующий день после праздника в полдень от церкви текла длинная процессия с пением и зажженными свечами — тщательно отмытые для такого торжественного случая дети, одетые в свои лучшие платья женщины, дочерна загорелые мужчины в широкополых соломенных шляпах. Но сегодня Пенья Бланко словно вымерла. Лишь увешанные оружием солдаты бесцельно слонялись по улицам.
Разведчики сообщили, что штаб разместился в пятом доме от церкви, и теперь Мигель сразу нашел его по двум часовым, жарившимся на солнцепеке у входа. При двадцатикратном увеличении он отчетливо видел их красные распаренные лица, патронташи на груди. Судя по делениям прицела, которые закрывали маленькие фигурки, до штаба не меньше четырехсот метров. Хорошо, что день выдался безветренный. Но попасть в цель все равно будет очень трудно. Ведь тут не тир с неподвижными мишенями. Пока летит пуля, человек вполне может передвинуться на метр-другой. Значит, нужно суметь предугадать поведение Кортеса и улучить самый подходящий момент для выстрела. Для второго может просто не представиться возможности. Впрочем, все это еще впереди. Пока же нужно набраться терпения и ждать.
Чтобы чем-то занять себя, Мигель достал из подсумка патроны, тщательно осмотрел и протер их. Потом аккуратно разложил рядом на куске ткани, прикрыв от солнца широкими листьями какого-то растения, похожего на салат. Через прицел не спеша изучил деревню, запоминая ориентиры. После этого взглянул на часы. Увы, прошло только полчаса, хотя казалось, он лежит здесь целую вечность. Тогда Мигель опустил голову на руки и закрыл глаза. Почему-то вспомнилась последняя университетская лекция. Седенький толстяк профессор увлеченно рассуждает о средствах выражения эстетического начала в архитектуре — пропорциях, ритме, пластике. Вдруг за окном глухо бухают выстрелы. В одно мгновение аудитория оказывается на ногах. Шум, гам. Одни бросаются к окнам, другие давятся в дверях. А посреди этой сумятицы застыла одинокая фигурка растерянного старичка...
Легкий толчок в плечо заставил Мигеля вскинуть голову.
— Вроде бы едут,— звенящим от волнения голосом сообщил Ипсинто.
Он не ошибся. Надрывно воя мотором, по узкому серпантину горной дороги к Пенья Бланке полз бронетранспортер, издали похожий на большого зеленого жука.
Мигель достал патрон и, положив палец на спусковой крючок, повел прицел от церкви вдоль улицы. Вот и штаб. Он постарался расслабить напрягшееся тело. Сделал несколько глубоких вдохов. Бронетранспортер уже пылил по улице.
Один из часовых поспешно юркнул в дом и тут же вернулся. Почти сразу вслед за ним в прицеле возникла чья-то фигура. Но, словно дразня, человек остановился в дверном проеме, так что вся верхняя половина тела оставалась в тени. Неужели не выйдет? От отчаяния Мигель чуть не выругался.
«Да он же просто надевает фуражку!» — молнией озарила догадка. И действительно, в следующую секунду на залитой солнцем площадке перед штабом появился высокий плотный офицер. Хотя Мигель не знал, как выглядит майор Кортес, чутье безошибочно подсказало, что это он.
Офицер сделал шаг, второй...
— Стреляй же! — не выдержал Ипсинто.
Чтобы не поддаться искушению, Мигель до крови закусил губу. Он все время держал перекрестие прицела на кокарде, ярко блестевшей на фуражке майора. При ходьбе стрелять нужно с опережением почти на метр. Но если нажать на спусковой крючок, а Кортес в этот момент остановится, будет промах. Нет, бить только наверняка.
Между тем к штабу подкатил бронетранспортер. Резко затормозил, подняв клубы пыли. Пережидая, пока она уляжется, майор тоже остановился. Мигель уже начал плавно давить на спусковой крючок, как шедший позади адъютант вдруг подался в сторону и загородил Кортеса. Наблюдавший за деревней в бинокль Ипсинто в бессильной ярости даже скрипнул зубами.
Медленно отошла тяжелая дверца, и на землю неловко выбрался мужчина в мешковатой зеленой форме. Кортес шагнул навстречу, поднося руку к козырьку. Прежде чем он успел приставить ногу, винтовка в руках Мигеля взорвалась грохотом. Не торопясь, он вновь подвел перекрестие к груди карателя, на которой расплывалось красное пятно. Майор наверняка бы грохнулся навзничь, если бы адъютант не поддержал оседающее тело.
Второй выстрел отдался в ушах Мигеля радостным громом. «Ага, не нравится»,— торжествующе прошептал он, наблюдая в прицел, как елозит в пыли светловолосый гринго, прячась под бронетранспортер.
Деревня превратилась в растревоженный муравейник. Солдаты беспорядочно метались во все стороны, не зная, откуда ждать появления противника.
— Не давай им опомниться! — крикнул Ипсинто.— Наши ребята услышали выстрелы и сейчас начнут действовать.
И Мигель бил по мечущимся чучос, не очень заботясь, находят ли цель его пули. Однако в деревне не все поддались панике. По звуку выстрелов кто-то определил, где засел одинокий снайпер, и теперь чернявый офицер, ругаясь и размахивая руками, гнал солдат цепью в сторону хребта.
— Не трать на них время. Пусть подойдут поближе. Встретим их из автоматов. Займись вон теми тремя слева,— приказал Ипсинто, успевавший следить сразу за всей долиной.
Там, куда показал командир, по склону быстро карабкались трое солдат с длинноствольными автоматическими винтовками. «Американские М-16,— машинально определил Мигель.— Если им удастся зайти во фланг на гребне, долго здесь не продержаться». Он поймал на мушку шедшего впереди и спустил курок. Словно споткнувшись, тот дернулся всем телом и покатился вниз. Двое других бросились за камни. Как только кто-то из них пытался продвинуться вперед, Мигель тут же загонял его обратно в укрытие. Стрелять вверх по склону, не видя противника, они даже не пытались, понимая, что толку от этого не будет.
Тем временем бой в центре разгорелся всерьез. Наткнувшись на плотный огонь двух десятков автоматов, солдаты залегли. В свою очередь, пулеметные расчеты у околицы деревни не давали поднять головы находившимся на гребне. Но бесконечно так продолжаться не могло. Рано или поздно каратели вызовут на помощь вертолеты. А это гибель...
Мигель окинул тоскливым взглядом каменистую полоску земли с невысокой травой и редкими кустиками, которой суждено стать местом его последнего боя. Внизу в полукилометре солнце безмятежно заливало своими лучами черепичные крыши и глиняные стены затерянной в горах деревни. Пенья Бланко — Белый Камень, да, видно, не зря в ее названии было что-то кладбищенское.
Какое-то движение совсем рядом заставило Мигеля скосить глаза. Это был паренек-проводник. Рубаха на плече пропиталась кровью, одна рука безжизненно повисла вдоль тела, зато на лице сияла радостная улыбка.
— Она на месте! — крикнул он обернувшемуся Ипсинто.
Командир облегченно вздохнул и торопливо поднес к губам висевший на шее свисток. В трескотню выстрелов ворвалась пронзительная трель.
— За мной,— коротко приказал он Мигелю, ящерицей отползая с гребня...
В зеленом гроте прямо на камнях устало прилегли трое партизан. Четвертый, Херонимо, склонился над чем-то маленьким, завернутым в выгоревшие солдатские куртки. «Откуда взялся ребенок?» — удивился про себя Мигель. Когда он заглянул через плечо командира, волосы у него встали дыбом. Совсем еще юное лицо, по-детски припухлый рот, густые длинные ресницы опущенных век. И заливающие щеки чернотой огромные синяки. А голова, которую бережно поддерживал Херонимо, вся седая.
— Негодяй,— сквозь зубы выдавил Ипсинто, добавив крепкое ругательство в адрес наконец-то нашедшего свою могилу майора Кортеса.
— Мы затаились под скалой, слушая, как, постепенно отдаляясь в горах, затихает перестрелка. Херонимо рассказал о гибели Хосе. Он отходил последним, прикрывая остальных, и подорвал себя гранатой, когда из кустов на него внезапно навалились чучос. С рассветом двинулись домой. Идти Камила не могла, и мы по очереди несли ее на самодельных носилках. В лагере командир перед строем похвалил меня. Сказал, что я меткий стрелок.— Мигель немного помолчал, а потом добавил извиняющимся тоном: — С тех пор меня и зовут «Тиро Фихо».
— А как же ранение?
— Ну, это был уже другой бой...
А. Макаров
(обратно)
Чтить труды и борения ...

Мне повезло: в семнадцать лет я исколесил Томск вдоль и поперек. Такая уж у меня была работа — погрузить, а в нужном месте выгрузить кирпич или бумажные подушки, набитые цементом, но чаще фляги со сметаной или бочки с сухим молоком. Днем работал, а вечером слушал лекции в университете.
Фургоны я не любил — в них темно и сыро, как в подземелье, другое дело — бортовая машина. Закоченеешь в морозы (они тогда были ого-го-го), зато столько разного увидишь.
А посмотреть было на что: Томск, куда я приехал учиться из Восточного Казахстана,— город старинный, теремной, каждый дом в нем поставлен наособицу. Чего только нет — и дворцы с колоннами, и хоромы из лиственницы и кедра с кружевными подзорами, наличниками, пилястрами, и строения из необлицованного красного кирпича, настенные украсы которых выложены под деревянную резьбу, и особняки из одномерных бревен на кирпичных цоколях...

А что за крыши у этих домов! Не крыши, а шатры — то островерхие с чешуйчатыми кровлями, то округлые, похожие на купола. С одной горделиво устремился в небо шпиль, с другой — резной деревянный фонарь, с третьей — фантастические коньки и драконы. Неожиданно промелькнет затейливое слуховое окно, или круглый парапет с солнечной розеткой в углублении, или темный жестяной наголовник водосточной трубы, похожий на диковинный цветок...
...Смотри, постигай, сопоставляй!
И я постигал.
Уже через месяца два-три почувствовал, что более или менее изучил не только достопримечательности Томска, но и его рельеф, географию — взвозы и спуски, мощеные тракты и немощеные улицы с чудными названиями — Эуштинская, Тояновская, Татарская, Басандайская, Обруб, первый и второй Кузнечные взвозы, Лагерный сад, Соляная и Конная площади, Юрточный переулок, Каштак... В каждом тайна, требующая разгадки.
Томск открывался мне то парадной, то будничной стороной. К парадной относилась прежде всего его вузовская часть. Здания здесь, как правило, величавые и вместе с тем академически строгие, старомодные. Иное дело — примыкающие к ней районы. До революции в них жительствовали золотопромышленники, основавшие бывшую Миллионную улицу, и купцы. Они любили роскошество и витиеватость, а потому дома свои, а заодно лавки и магазины, торговые склады и мастерские, конторы и постоялые дворы с каретниками стремились возвести так, чтобы поразить воображение сограждан. При всем несходстве эти две части Томска сливались воедино, образуя запоминающийся ансамбль.
А рядом сосуществовала еще одна сторона, возведенная в начале века ремесленниками, служащими, неимущим рабочим людом. Она не столь узорна и богата, но тоже по-своему интересна. Дома здесь рубленые, окна не по-сибирски просторные, резьба простая, но выразительная. Одно плохо: многие строения обветшали, скособочились; крыши латаны-перелатаны, деревянные кружева порушены, ставни на одном и том же доме покрашены в две, а то и три разные краски — по числу хозяев. О заборах и говорить нечего — покосились, стали щербатыми, того и гляди завалятся.
«Хозяев много, потому, наверное, и нет хозяйского догляда,— думал я, подпрыгивая на мешках с цементом.— Обидно. Музей же...»
Однако вскоре я стал замечать, что в Томске началось наступление на ветхость. В разных концах города почти одновременно было снесено десятка три развалюх. Затем настала очередь заборов. К удивлению моему, вместе с неприглядными загородками рухнули наземь и добротные ограды, железные решетки и даже резные ворота. К счастью, не все. Но те, что остались, торчали теперь в провалах обнажившихся дворов сиротливо и неприютно.
Вот тогда и задумался я впервые о том, что архитектура прошлого имеет свои законы, что ее так просто, лишь отсекая отжившее, мешающее взгляду, к сегодняшнему времени не приспособишь. Те же заборы взять. Возводились они прежде всего с практической целью: охранить дом, отгородить его от внешнего мира... Но ведь была и другая надобность в них. Именно заборы скрывали неприглядность дворовых построек. Заборы же придавали улице непрерывность, заставляя вспомнить линию крепостной стены. А так как практически все сибирские города начинались с крепостей, то становилась понятной именно такая застройка.
Томская крепость поставлена была в начале семнадцатого века на одном из глинистых холмов при слиянии рек Ушайки и Томи. Конечно, ничего из построек того времени здесь не сохранилось да и вряд ли могло сохраниться: даже смолистое дерево служит не более ста пятидесяти лет, к тому же трудно уберечь деревянный город от опустошительных пожаров. И все же крепость исчезла не безвозвратно. В областном краеведческом музее я увидел ее макет, созданный по архивным документам: ряды заостренных кверху бревен над Обрубом (обрубленный и сделанный неприступным склон); пять сторожевых башен, а также складские и жилые избы, встроенные в замкнутую стену, составленную из городен (двухэтажный сруб о две стены, каждый длиною до четырех метров); посредине — трехъярусная деревянная церковь Бориса и Глеба.
Историю создания крепости я узнал там же, в музее. Она оказалась весьма примечательной. В январе 1604 года князь татарского племени эушта Тоян отправился в Москву к Борису Годунову просить защиты от степняков, разорявших его мирные юрты. Русский царь принял его приветливо, и не где-нибудь, а в Грановитой палате, велел отрядить с ним разведчиков. Те и отыскали удобный для крепости холм в низовьях Томи, сделали план местности и доставили его в приказ Казанского и Мещерского дворца. А по весне, как только сошел лед, из Тюмени, Сургута, Тобольска, Пелыма под началом казацкого головы Гаврилы Писемского и письменного головы Василия Тыркова прибыли на грузовых дощаниках в земли Тояна двести русских служилых людей. Всего за лето вместе с эуштинцами и людьми остяцкого князя Онжи Алачева они и построили Томскую крепость.
Вскоре возле нее вырос посад, появились пашни. В 1623 году кузнец Федор Еремеев неподалеку от крепости (район Лагерного сада) нашел железную руду, построил домницу и начал выплавлять сыродутное железо, делать из него пушки. Появились кузнечные и другие ремесленные ряды. Постепенно начал складываться «нижний» город, главным занятием которого на долгое время стали извоз и торговля. И неудивительно, что его облик многое позаимствовал от давшей ему жизнь крепости.
Даже на самых неказистых окраинных улицах Томска, по-деревенски тихих, поросших лопухами и крапивой, загроможденных штабелями дров или кучами золы, а зимою заметенных снегом, ощущал я отголосок той далекой «крепостной» архитектуры. Она давала о себе знать то скрещенными копьями на чердачном окне, то верхними оконцами, похожими на бойницы, то строениями без окон, сложенными наподобие городен...
Удивительное дело, без заборов улицы многое потеряли, враз стали какими-то неприбранными, разворошенными. И теперь я смотрел на них с жалостью и сочувствием.
Однажды машина наша заглохла на Большой Подгорной, как раз под семиглавой церковью на Воскресенской горе, переименованной вскоре в Октябрьскую.
Чтобы скоротать время, пока водитель будет чинить мотор, я по привычке начал приглядываться к строениям вокруг. Мое внимание привлек трехэтажный дом, врезанный в склон задней стеной первого этажа, сложенного из кирпича и хорошо оштукатуренного. В верхние этажи с двух сторон вели крутые лестничные пролеты с огородками и тесовыми тамбурами. Но самое интересное было на крыше — деревянная беседка на шести столбах с выгнутыми скатами кровли и шпилем.
Ноги сами устремились к дому.
— Кого ищешь, сынок? — неожиданно окликнул меня по-домашнему одетый человек преклонных лет с ведром угля в руке.
— Никого,— замялся я.— Смотрю, и все... А это у вас что на крыше? Как наблюдательная вышка.
— Можно сказать, и вышка. А вообще-то веранда.
— Разве веранды на крыше бывают? — усомнился я.
— А чего ж не бывать? Ведь стоит...
Слово за слово, и вот уже вслед за ним я несу по скрипучей лестнице ведро угля на третий этаж. Затем мы поднимаемся на веранду. Взгляду открывается неожиданно широкая панорама. Неподалеку, по улице Розы Люксембург, мимо желтого каменного здания с круглой башней, деловито тарахтит трамвай. Дальше зубчатыми линиями тянутся Ленинский проспект, улица Карла Маркса, набережная Томи...
Немало увидел я с той веранды, еще больше узнал.
— Это хорошо, сынок, что ты не только под ноги, но и наверх заглядываешь,— сказал мне на прощанье новый знакомый.— Так и надо. Интересное под ногами не валяется — за ним полазить надо, поспрашивать, вдуматься. Будет время, на улицу Карла Маркса забеги, где архив. Там раньше ломбард был. А на ломбарде герб Томска есть. Он один в городе и сохранился. Посмотри, не пожалеешь.
Водитель все еще возился с мотором, и я, не мешкая, отправился к зданию областного архива, благо оно почти рядом.
Разгоряченный быстрой ходьбой и нетерпением, остановился под массивными стенами бывшего ломбарда, стал искать глазами герб, но что за чертовщина? — его нигде не было. Пометавшись туда-сюда, догадался наконец перейти на противоположную сторону. И сразу заметил под крышей выразительную лепнину: вздыбленный конь на гербовом щите.
К тому времени мне уже приходилось видеть гербы различных сибирских городов, и вот что я подметил: на гербах Кузнецка, Красноярска и некоторых других в нижней части гарцевал все тот же скакун. Только там он занимал нижнюю часть рисунка, а здесь — весь щит.
«Маленький конь — отражение большого»,— подумалось мне.
Еще подумалось, что скакун, изображенный на гербе старинного Томска, очень похож на мифического Пегаса. Правда, крыльев у него не было, зато грива развивалась крылато и вдохновенно. Именно таким, по моему разумению, и должен быть герб города, давным-давно снискавшего славу сибирских Афин.
Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что конь на щите Томска символизирует вовсе не творческое вдохновение, не знание и молодость, а всего-навсего... торговый извоз.
«Но кто мешает тебе считать этого скакуна Пегасом?» — задал я себе резонный вопрос.

Не знаю, как сложилась бы моя сегодняшняя жизнь без тех давних странствий по Томску. Юность любознательна, но ей почти всегда нужна подсказка, куда и как смотреть. Вероятно, такой подсказкой стали для меня не только сами достопримечательности Томска, но и встречи с его старожилами, и знакомства с библиофилами, все и обо всем ведающими. От них-то я и узнал, что в Научной библиотеке университета имеются издания уникальные. Часть из них собрана в отделе редких книг. Чего только там нет... Полный комплект газеты Великой французской революции «Монитер универсаль»; псалтырь времен Бориса Годунова; альбом видов Египта, принадлежавший Наполеону Бонапарту; первоиздания прославленных восточных, европейских, русских авторов, в том числе библиотека самого Василия Андреевича Жуковского, насчитывающая более четырех с половиной тысяч томов; книги с памятными надписями Гоголя, Герцена, Чернышевского, Белинского... Не менее интересен фонд имени Гавриила Константиновича Тюменцева, бывшего директора Томского реального училища. Всю жизнь собирал он сочинения по истории, географии, этнографии, экономике, издательскому делу Сибири, а после Октябрьской революции передал их университету, всего около десяти тысяч изданий, в том числе карты, летописи, собрания первых сибирских газет и журналов, более трехсот «Сборников статей о Сибири и прилежащих к ней странах».
Помню, как страстно захотелось тогда увидеть сокровища Научной библиотеки самому. Но тут же пришло сомнение: а возможно ли это? Кто я такой, чтобы передо мной вот так, за здорово живешь, раскрылись книжные тайники? Мучаясь сомнениями, решил обратиться к первому встреченному работнику Научной библиотеки.
А встретилась мне Муза Павловна Серебрякова, как узнал потом, бывшая фронтовичка, очень добрый и отзывчивый человек. (В ту пору она работала заместителем директора библиотеки, ныне — директор, заслуженный работник культуры РСФСР.) Молча выслушав мои сбивчивые расспросы, Муза Павловна вздохнула, видимо, решая, как со мной быть, потом сделала знак следовать за собой. Ничего не понимая, я прошагал за нею в книгохранилище, взошел на второй этаж по узкой винтовой лестнице и тут наконец догадался, что нахожусь в отделе редких книг.

Трудно передать чувство, которое я испытал. Еще бы: Томск как-то вдруг открылся мне сокровенной, я бы сказал, душевной стороной. Ведь должна же быть у города с такими духовными ценностями душа, и душа особая... Особая потому, что, собирая, изучая, сберегая лучшее из созданного в веках разными народами, Томск и сам постоянно создавал. Создавал научные школы, рождал идеи, растил кадры — и не просто хороших специалистов, но непременно людей большой культуры и широких интересов. Многие из прославленных ныне людей учились или работали в Томске, впитывая его традиции, прикасаясь к его непростой судьбе, черпая из его многообразных богатств.
Так или примерно так думал я, разглядывая старинные ноты, расписанные золотом и киноварью с цифрами вместо нотных знаков, склоняясь над витринами с рукописными сводами, пожелтевшими от времени, но ничуть не состарившимися.
В отличие от отдела редких книг, издания из фонда Тюменцева можно было выписать в читальный зал. И я засел в студенческом зале «научки» — так мы по-свойски называли Научную библиотеку. Немало интересного и поучительного узнал я за ее столами. Например, о заслугах сибирского купечества в культурном и научном пробуждении Зауралья. Во все времена в различных слоях общества была своя интеллигенция, совестливая, озабоченная судьбами Отечества, чувствующая смутное беспокойство от социального неравенства и потому готовая направить свои силы и состояние на просвещение, здравоохранение, другие посильные и полезные дела. Суровый климат, удаленность от российских центров подсказали лучшим из местных предпринимателей пути служения своему краю.
В 1803 году сын известного уральского промышленника Григория Демидова Павел пожертвовал на открытие университетов в Киеве и Сибири сто тысяч рублей с припискою: «Но пока приспеет время образования сих последних, прошу, дабы мой капитал положен был в государственное место с тем, чтобы обращением своим возрастал в пользу тех университетов...» Время Киевского университета «приспело» через тридцать один год; решение о строительстве Томского университета было принято лишь в 1878 году. Вот тут-то и пригодился Демидовский фонд, возросший до 150 тысяч рублей. 210 тысяч присовокупили к нему иркутский купец, известный полярный исследователь А. М. Сибиряков и томский купец, городской голова З. М. Цибульский. Еще 125 тысяч рублей собрали люди малоимущие. На эти деньги для Томского университета были приобретены книжные сокровища в 97 тысяч томов. Те же купцы направили в Томск «для научных упражнений» минералы со всех крупных рудников Урала, Алтая, Восточной Сибири.
Примечательна в этом отношении и судьба томского купца Петра Ивановича Макушина. Вот начальные ее вехи: слушатель Петербургской духовной академии, учитель православной миссии на Алтае, смотритель духовного училища в Томске. Однако со временем идеи земного просвещения возобладали: Макушин основал платную библиотеку, доходы от которой употреблял исключительно на ее расширение. Потом выговорил у одного из томских купцов пять тысяч рублей, нанял подводы и ямщиков да и отправился в Москву за книгами. Открывая в 1873 году первый в Сибири книжный магазин, сказал взволнованно: «...выставлена первая зимняя рама, и в страну тьмы и бесправия совершился прорыв книги, неся с собой народу свет и знание...»
С именем Макушина связаны и другие памятные события: рождение бесплатной библиотеки и народного театра, Общества попечения о начальном образовании и Народного университета, «Сибирской газеты» и сменившей ее «Сибирской жизни». Ссыльный социал-демократ П. Н. Лепешинский писал об этой газете так: «В «Сибирской жизни» мы чувствовали себя почти что хозяевами газеты. Удивительное зрелище представляла в то время эта покладистая газетка: наряду с фельетонным кувырканием какого-нибудь томского подражателя... шли честные и искренние пробы марксистского пера».
«Сибирскую жизнь» регулярно получал и прочитывал в Шушенском Владимир Ильич Ульянов (Ленин).

В типографии Макушина издавались произведения многих сибирских писателей, а также открытки с видами Томска. Открытки эти позволяют нам вернуться в начало века, пройтись по немощеным, разъезженным улицам с торговыми вывесками, по Университетской роще, взглянуть на каменно-деревянный Томск с Воскресенской горы, побывать в магазинах и храмах, увидеть величавые корпуса первых в Сибири медицинского и технологического институтов, что уверенно утвердились рядом с первым сибирским университетом. На одном из снимков фотограф запечатлел знаменитый Манеж доктора В. С. Пирусского, создавшего третье в России Общество содействия физическому развитию, а на другом — «Центральные номера», в которых нашли приют первые сибирские профессора, общественные деятели, в том числе знаменитый путешественник Г. Н. Потанин, немало сделавший для открытия в Томске университетского центра. Ныне в этом здании расположен Научно-исследовательский институт курортологии, известный далеко за пределами Сибири...
Даже по открыткам видно, что старый Томск — город, в котором богатство уживалось с нищетой, истинная красота — с помпезностью, вкус — с безвкусицей. Вот и в купцах, о которых шла речь, сошлись противоположные стихии. Условия труда в типографии того же Макушина были очень тяжелы, они толкали ее рабочих на неоднократные выступления против хозяина. Не знать о них он, разумеется, не мог. В то же время нет причин не верить девизу Макушина, который он сформулировал в следующих строках: «Для жизни, поставившей себе целью служение какому-либо общественному идеалу, материальных средств требуется немного. И только такая жизнь имеет цену. Жизнь праздная, хотя бы в роскоши и довольстве, родит пустоту, скуку и недовольство».
После революции Макушин без сожаления передал все, что нажил, народу. Будучи уже глубоким стариком, Петр Иванович продолжал формировать книжные фонды для сельских и рабочих библиотек. Умер от воспаления легких, разбирая в холодном помещении пачки книг для съезда врачей.

Ныне каждый томич знает Дом науки имени П. И. Макушина, тот самый, где он когда-то создал первый в Сибири Народный университет. Возле этого здания — памятник Петру Ивановичу: прямоугольная каменная глыба с рельсом, символизирующим путь к знаниям, и бессонная электрическая лампочка, которая горит над этим рельсом и ночью и днем.
Таков этот купец-просветитель, сумевший перебраться по рельсам знаний из одной социальной эпохи в другую, далекий от революционных идей и в то же время немало сделавший для их распространения.
Конечно, судьба Макушина была необычна для людей того сословия, к которому он принадлежал. Но ведь история слагается не только из типических судеб. Она многообразна, как сама жизнь...
Многие из первых томских профессоров были консервативны во взглядах на общественное устройство. Однако благодаря своему таланту и патриотическому отношению к краю они немало сделали для развития духовной жизни города. Зерна марксизма упали на почву, подготовленную деяниями именно ревнителей просвещения. А бросили эти зерна политические ссыльные и студенты. Их стараниями в Томске была создана Сибирская группа революционных социал-демократов — первый за Уралом комитет РСДРП. Революционные университеты Томска прошли С. М. Киров (его имя носит политехнический институт и один из главных проспектов города), В. В. Куйбышев (его именем назван университет, где он учился), видный большевик М. М. Владимирский, Ф. М. Лыткин, поэт, а впоследствии один из легендарных комиссаров Центросибири, Н. Н. Баранский, ставший известным ученым-географом, и многие другие.
В истории нет мелочей, в ней все взаимосвязано — судьбы первопроходцев, зодчих, ученых, купцов, творческих работников, революционных деятелей...
Облик Томска создавался стараниями многих творцов — именитых и безымянных. Среди них декабрист Г. С. Батеньков, прекрасный педагог, литератор, архитектор, ученый. Он считал, что «всякое завезенное в Сибирь умственное добро не должно быть из нее увозимо». (Одна из томских площадей носит имя Батенькова; здесь поставлен его бюст.)
Поначалу Сибирь застраивалась по проектам, идущим из Петербурга, но архитекторы губернского Томска А. П. Деев, П. В. Раевский, А. А. Арефьев и другие решили поспорить с ними. Основываясь на достижениях европейской школы, они творчески развили, приспособили к условиям сибирской Азии, к укладу жизни и вкусам ее жителей наиболее плодотворные архитектурные идеи и достижения. Их поиски продолжили К. К. Лыгин (он первый среди сибирских зодчих отказался от наружной штукатурки, начал проектировать теремные строения из красного кирпича и желтого песчаника), А. Д. Крячков, П. П. Федоровский, В. Ф. Оржешко... И уже их проекты рассылались в Барнаул, Бийск, Ишим, Курган, Петропавловск, Кузнецк, Омск, Новониколаевск (Новосибирск), в Красноярск и даже в Иркутск. Так что не Томск похож на другие города, как мне представлялось раньше, а другие сибирские города во многом похожи на Томск...
Чем больше я узнавал, тем больше мне хотелось узнать — ив студенчестве, и потом, когда стал работать в томских газетах. Эта работа значительно расширила адреса моих встреч и знакомств. Я побывал в музеях различных предприятий Томска, сдружился с краеведами, увидел многие неизвестные мне прежде коллекции, познакомился с интереснейшими архивными документами.
Между тем город жил своими повседневными заботами. Началось освоение мощных нефтяных месторождений Томского Приобья. Оно направлялось из областного центра. Через непроходимые нарымские болота легли нефте- и газопроводы, возникли новые города и поселки, сам Томск стал городом, из которого улетают на трудовую вахту нефтедобытчики. Возле Томска были построены мощные химические заводы. Родились академгородок и Научный центр Академии медицинских наук, созданы были крупные строительные предприятия, появились новые жилые микрорайоны, новые дороги, общественные здания современных форм и конструкций.
Всего за четверть века традиционно вузовский, не очень в прежнем благоустроенный Томск превратился в крупный индустриальный центр. Для старинных городов такие ускорения нередко оборачиваются невосполнимыми потерями. Не избежал таких потерь и Томск, но, к счастью, они не затронули существенно основной части его хоромно-теремного ансамбля. Это по-прежнему сибирские Афины, с которых начинается взрослая жизнь многих тысяч его воспитанников, таких, каким в свое время был и я.
Не знаю, как кому, а мне в Томске нравятся прежде всего деревянные строения. Может быть, потому, что лес и Родина для русского человека неотделимы...
Деревянная летопись Томска, которую читаешь на арках ворот, обрамлениях окон, угловых и лобных досках, безыскусственна и увлекательна, полна символов и реальных подробностей. По ней можно представить, как жили, чему поклонялись, что ценили и чтили наши близкие и далекие предки.
А поклонялись они солнцу, земле, труду. Изображение солнца — наиболее частый элемент резных декоров, однако нетрудно заметить, что в разных композициях элемент этот имеет свой смысл и толкование. В одних случаях это колесо жизни, олицетворение огня и света, в других — глаз всевидящий, в третьих — золотой плод из райского сада, в четвертых — мореплаватель, вершащий ежедневный путь восходов и заходов в парусной лодке или дощанике.
Не меньше любили резчики громовой знак, пришедший еще со времен язычества,— круг с шестью радиусами внутри, будто бы охраняющий от грома и хлябей небесных. Охотно поселяли на домах пернатых дев, драконов, водяных коньков о шести ногах. Украшали окна наличниками, напоминавшими белое полотенце, наброшенное на икону...
И все же земное интересовало их куда больше. Как вдохновенно вырезали они зверей, птиц, деревья, цветы! Как увлеченно повествовали о своих занятиях — охоте (лук и стрелы), ратном труде (скрещенные копья и древки знамен), ямском промысле (удила, вожжи, колокольчики, плетеные канаты). Да, земля, согреваемая солнцем, и труд — главные мотивы творцов. На все времена.
Люблю бродить по Томску, по его зеленым нешумным улицам, где все доступно взгляду и сердцу. И каждый раз открываю для себя что-то новое, пропущенное ранее...
Сколько раз бывал я в Сухоозерном переулке, любовался двухэтажным особняком, нижний этаж которого сложен из кирпича, а верхний сделан из дерева и украшен узорами. В отличие от порушенных кружев на других теремах эти еще в шестидесятые годы
смотрелись так, будто недавно были сделаны.
Теперь-то я знаю, в чем секрет... До революции особняк принадлежал одному из томских рыбопромышленников. Позже здесь располагались различные учреждения. Областному управлению хлебопродуктов дом достался в плачевном состоянии. Случилось это в конце пятидесятых годов. Руководители управления рассудили здраво и по-хозяйски: мало отремонтировать особняк, следует его отреставрировать. Конечно, ни в какие планы и сметы художественные работы включены не были. Однако планы планами, а дело делом. Отыскали за триста верст от Томска умельца-резчика, недавнего фронтовика. По состоянию здоровья приехать в Томск он не мог, и тогда новые хозяева особняка сняли с дома кружевной наличник и отправили как образец мастеру. Тот изготовил десять таких наличников. Нашлись и мастер-жестянщик, и кровельщик, и маляры, и плотники, и штукатуры. Ожил, помолодел, приосанился старый дом. Это был, пожалуй, первый, пока стихийный, опыт реставрационных работ в Томске. Но пример заразителен. Владельцы усадеб на окраинных улицах кое-где решили последовать ему. Иные принялись не только восстанавливать утраченную резьбу, но и новую делать, подражая прежним умельцам.
Весной 1976 года по инициативе партийных и советских организаций в Томске была создана специализированная мастерская Томскреставрация. Она-то и положила начало широким работам по сохранению архитектурного своеобразия города. Томск буквально оделся в реставрационные леса. На многих домах появились желтые, еще пахнущие смолой кружева или вставки на месте утраченных узоров. Надо было видеть, с какой надеждой и заинтересованностью останавливались возле таких домов горожане, как легко вступали в разговор не знакомые друг другу люди, как радовались происходящим переменам.
Да и как не радоваться, если на твоих глазах оживает прошлое, если работа безымянных зодчих становится близкой и понятной, поучительной, если мастера-искусники обретают плоть, становятся реальными людьми? Вон как молодо и самоуглубленно работают резчики Анатолий Жданов, Сергей Воронов, Андрей Близняк, жестянщики Геннадий Аникин, Сергей Желтоногов и многие, многие другие.
Засияли золотом купола Воскресенской церкви, возведенной в 1789— 1807 годах мещанином Иваном Карповым «со товарищи». Ожило, став планетарием, здание римско-католического костела. В бывшей архиерейской церкви, превращенной в наши дни в концертный зал филармонии, зазвучал орган. В старинном особняке, украшающем центр города, естественно «прописался» художественный музей. Преобразились многие деревянные и каменные терема.
За минувшее десятилетие объемы восстановительных работ выросли в городе в пять раз. Но для Томска и этого мало, ведь под государственной охраной здесь находится более трехсот шестидесяти археологических, архитектурных, исторических, историко-революционных памятников. Кроме того, сотни зданий имеют интереснейшие декоративные детали, тоже достойные сохранения. Без них рисунок города, своеобразная его композиция многое утратили бы.
На первых порах томские реставраторы действовали самозабвенно, стремительно, но и беспланово, без надежной производственно-технической базы. Со временем стали очевидны изъяны такой организации дела. И в 1981 году в городе был создан Сибирский филиал проектного института Спецпроектреставрация. Его задача — придать реставрационным работам комплексность, сохранить не отдельные памятные здания, а целые районы.
Уже разработано несколько интересных проектов музейного комплекса «Старый Томск». Первая его очередь охватит холм, на котором когда-то была построена Томская крепость. Со временем здесь разместятся филиалы областного краеведческого музея, кафе, магазины, клубы по интересам. Это позволит создать музей под открытым небом, жизнь которого будет естественно сочетаться с современными нуждами крупного индустриального города.
Трудно перечислить все то новое в городе, что появилось в уважительном единстве с достижениями прошлых эпох. И это характерная черта Томска: чтить труды и борения предшественников.
Мы вглядываемся в Томск, он всматривается в нас...
г. Томск
Сергей Заплавный Фото В. Кондратьев
(обратно)
Ночи циклопа
 Из книги «Катера» французских кинодокументалистов Ж. и Г. Вьенов, повествующей о съемках документальных фильмов в заповедниках Руанды, Танзании, Уганды, Чада, Кении.
Из книги «Катера» французских кинодокументалистов Ж. и Г. Вьенов, повествующей о съемках документальных фильмов в заповедниках Руанды, Танзании, Уганды, Чада, Кении.
Однажды, приступая к наблюдению за львами, мы поняли, что почти ничего не знаем об их нравах. Авторы множества трудов, ученые единодушны в том, что лишь ночью лев становится самим собой. Бывало, что львов наблюдали при лунном свете, но все же ночное поведение хищника детально и регулярно никто не наблюдал. Тогда и пришла в голову мысль использовать современную технику — попросту разогнать прожектором ночной мрак и таким образом приподнять завесу над тайной.
Дело еще и в том, что львы и антилопы после короткой адаптации перестают обращать внимание на свет и занимаются своими делами.
Темнота давно перестала быть для нас проблемой — за два года съемок фильма «Коготь и клык» мы накопили солидный опыт. Осваивали новую специальную аппаратуру и отрабатывали навык обращения с ней более года. Массу хлопот причинил прожектор: объекты отсвечивали, бликовали. Дизель-генератор у нас был сверхмощный, но очень шумный. Изолировали звук, но резко ухудшилась вентиляция. В итоге вес комплекса, смонтированного на прицепе, достиг чуть ли не трех тонн!
Когда готовишься к экспедиции в места столь дальние, как Руанда, с неизвестными климатическими и дорожными условиями, вес оборудования — проблема волнующая.
В конце концов изготовили по нашему заказу прожектор с учетом самых последних научно-технических достижений: мощный луч «глаза циклопа» способен был рассеять мрак и высветить все тайны ночной саванны. Узкий направленный луч позволял вести съемку с расстояния более ста метров при общей «дальнобойности» в две тысячи метров.
Итак, для съемки и слежения за львами у нас имелись легкие автомобили, генератор, прожектор, воздушный шар и аппаратура для киносъемки с воздуха. По сравнению с прежней установкой выигрыш в весе выражался в тоннах. Снятые с помощью всего этого оборудования материалы составили несколько телевизионных фильмов.
Ночной полет
требовал особых условий.
Ясная погода и почти полное отсутствие ветра позволили нам однажды вечером реализовать широкомасштабный замысел: снять львиную охоту одновременно с автомобиля и из корзины воздушного шара. Дело за львами — они должны согласиться сотрудничать с нами! Мы заклинаем их не просто охотиться, но и выбирать для охоты место, видимое с воздушного шара, лучше всего в открытой саванне.
Мартина и Бруно, уехавшие из лагеря два часа назад, пытаются подстегнуть удачу, освещая равнину лучом прожектора и вызывая на свидание хищников, которым этот наш прием уже известен. Между тем в лагере на платформу пикапа устанавливают корзину, укладывают мешок с оболочкой шара, баллоны с пропаном и летное снаряжение. Все в порядке, команда в лагере готова.
Радиосообщение приходит поздно ночью. Бруно лаконичен — прием удался, хищники выбрались на равнину.
До начала охоты надо надуть шар и подготовиться к взлету. Из-за огромной величины оболочки шара, когда она расстелена на земле, приходится работать в отдалении от машин. Прожектор мечется взад-вперед, под его лучом в травах ярко полыхает шелковистая ткань, столь нереальная в саванне. Корзина лежит на земле, в ней приготовлены четыре баллона с пропаном, над ними — жесткая рама с горелками. Прочные канаты соединяют ее с оживающим многоцветным шаром. Вентилятор гонит воздух в колышущуюся в высокотравье нижнюю его часть. Франк Бежа проверяет каждую операцию. Как только объем шара достигает нужной величины, он включает горелки, плюющиеся голубым пламенем на несколько метров внутрь оболочки. Воздух в шаре расширяется, и вот над землей повисает громадная капля — диаметр ее 16 метров, объем две тысячи кубометров. Львы тоже явились полюбоваться грандиозным зрелищем и, как и мы, задирают головы в небо.
Шар, привязанный к одному из грузовиков, висит метрах в тридцати над головами. Гильермо на борту корзины с камерой рассматривает грузовики и животных с неба. Хриплый свист горелок отпугивает животных, и включать их можно только в последний момент. Но львы скоро привыкают к странному поведению людей и начинают играть веревкой, свисающей из корзины.

Для наилучших условий съемки шар надо стабилизировать у земли как можно ниже, маневр этот требует ловкости и координации усилий. Радиосвязь «корзина — земля» позволяет постоянно контролировать высоту полета. Малейший инцидент может превратить опасные съемки в трагедию. «Глаз циклопа» по-прежнему рассекает ночь. Хищники рассыпались по равнине. Львы, львицы и львята перемещаются в радиусе двухсот метров, но несколько животных бродит возле машин. Развлечение с шаром утоляет любопытство, но не голод, и жизненная необходимость отправляет их на охоту...
В каждом прайде есть по крайней мере один зверь, на которого остальные гонят жертву. Ночью в зарослях полно живности, но предвидеть, кого сегодня изберут жертвой хищники, невозможно. На опыте множества наблюдений за охотой мы убедились, что в каждом отдельном случае львы охотятся только за одним видом дичи. Этой ночью львы избрали жертвами антилоп-импала, и мимо других животных львицы проходили равнодушно. Из корзины видно, с какой тщательностью хищники прочесывают местность, как окружают стадо антилоп, как львица бросается на шею животного. Лев — могучий и опытный охотник. Но в зависимости от прошлого опыта, от данного места каждая охота проходит по-своему. В незнакомых условиях некоторые животные теряют ловкость, их действия бесцельны и безуспешны. Стало ясно, что легенды о не знающем промахов льве-убийце не имеют достаточных оснований. В ту ночь мы сняли несколько неудачных попыток. Неопытные и невнимательные львы-загонщики то и дело упускают возможную добычу и даром теряют силы в бессмысленных пробежках.
И вот мы закончили работу. Перед возвращением в лагерь надо закрепить корзину на платформе машины. Обычное дело, которое, как правило, выполняется без всяких затруднений. Но мы не учли усталости и некоторых недостатков используемого газа. Корзина слишком низко висит над землей; включены горелки, шар чуть-чуть поднимается вверх, попадает в восходящий поток воздуха, прыгает в черное небо и оказывается высоко над нами. Мы с ужасом видим, что Гильермо висит на веревке под корзиной: захваченный врасплох, он решил весом своего тела остановить монгольфьер. Отпустить веревку нельзя — высота смертельна. К тому же завис он прямо над львами, рвущими тушу импалы.
Франк, наклонившись над бортом корзины, видит, что поднял в воздух неожиданного пассажира; он ухитряется успокаивать Гильермо, объясняя, как не разбиться при приземлении шара. Пропан в баллонах оказался плохо очищен, и плавно регулировать пламя горелок не удается. Если шар резко снизится, Гильермо разобьется о землю. Франк осторожно идет на снижение, грузовик подъезжает поближе: надо сразу же забрать на борт незадачливого кинооператора. Гильермо, как заправский парашютист, прыгает несколько в сторону и приземляется с широкой улыбкой на устах... Команда успокоилась. Остался «пустяк» — спустить шар, уложить его на землю, скатать и запихнуть в огромный мешок. И все это в присутствии львов, которые затеяли игру с веревками, отдаляя наш заслуженный отдых.
Одна из наших целей
— изучить поведение хищников, услышавших магнитофонные записи голосов саванны. Чтобы сделать опыт более «чистым», мы хотели провести эксперимент ночью. Ночью меньше посторонних шумов. Цель этой затеи вполне практическая: разработать новый метод подсчета хищников. Жвачных можно пересчитать днем с помощью аэрофотосъемки или методом непосредственного наблюдения. Но для подсчета куда меньшей популяции кошачьих, не имеющих определенной территории и обычно хорошо прячущихся, эти способы малопригодны.
Потому-то мы и решили собрать в одном месте всех кошачьих определенного района. Крик травоядной жертвы, переданный через усилитель, мог послужить сигналом «сбора».
Случай позволил нам воплотить идею в практику. Мы ехали по равнине в конце дня, когда непонятное поведение небольшой импалы заставило нас остановиться. Приблизившись, поняли, что импала полупарализована. Оказав малышке экстренную помощь, одновременно записали ее хриплый, с придыханием, стон на магнитофон и решили опробовать запись, не откладывая дела в долгий ящик.
Для начала решили проиграть пленку в разгар дня. Сонные, сытые львы лениво играли и выглядели на редкость мирными. В эти часы в национальных парках львы безучастно рассматривают посетителей, разъезжающих в своих четырехколесных клетках. Надо сказать, что мы потратили несколько недель на то, чтобы львы привыкли к нам. При том они оставались совершенно дикими животными, и наше присутствие никак не сказывалось на их естественном поведении. Мы постепенно приучили их к цвету наших машин, к жестам, к звукам голосов и машин. Такое взаимное привыкание обеспечивало нормальную работу, не нарушающую жизни парка. Это было особенно важно в предстоящем опыте.
Установленный на машине громкоговоритель передал крик раненой импалы. Львы синхронно насторожили уши, привстали, вскочили на ноги... Все головы повернулись в сторону громкоговорителя. Лень и истома в движениях и взглядах исчезли. Хищники сразу определили источник звука и подошли вплотную к грузовику, пытаясь найти животное, хотя зримых следов его присутствия не было. Удовлетворенные пробой, мы выключили звук, но возбуждение у львов не проходило, и они, похоже, не собирались возвращаться к отдыху. Было около четырех часов пополудни, а мы знали, что обычно эта группа отправляется на охоту спустя час после захода солнца. Мы спровоцировали львов на изменение привычки, и в этот день они отправились за добычей раньше обычного.
Выяснилось еще кое-что. Если запись гонять слишком долго, львы устают; звук побуждает их искать импалу, но, не чувствуя ее запаха, они теряют интерес к звукам. Мы получили доказательство, что возможно провоцировать хищников на определенные поступки, но для закрепления их реакции следовало полностью воссоздать естественную обстановку, объединив звук, запах и вид добычи.
Новый случай помог нам улучшить условия опыта, когда Бруно, выискивая львов, заметил в траве самку импалы. Она даже не пошевелилась при его приближении. У нее были повреждены обе задних ноги.
Связываем антилопу, Франк и Ги укладывают ее в кузов грузовика. Ветеринар осматривает животное. Антилопа явно стала жертвой браконьера: проволочная петля, скользнув по ногам животного, перерезала сухожилия. Началась гангрена, и врач может лишь облегчить участь обреченного животного. Получив мощную дозу снотворного, оно уже не проснется.
Метрах в пятидесяти от лагеря растет дерево, полюбившееся леопарду, который навещает лагерь, чтобы полакомиться... мылом. Привязываем антилопу к одной из нижних ветвей, надеясь понаблюдать за реакцией леопарда. Работающий на батареях прожектор освещает сцену. С помощью веревки можно покачивать импалу, чтобы она казалась живой. Крики, транслируемые через громкоговоритель — он закреплен над тушей,— должны созвать хищников всей округи.

К нашему удивлению, первыми появляются львы — и немало! За ночь мы насчитали шесть штук! Пришли и гиены, они осторожно держатся на почтительном расстоянии — побаиваются львов. Но настроение у них боевое: слышно, как они саркастически похохатывают.
Самая отважная львица влезает по почти вертикальному стволу и прыгает на шею импалы, чтобы задушить ее. Львица висит в воздухе, раскачивается вместе с жертвой, но не отпускает ее, пока не вырывает кус мяса и вместе с ним падает на землю. Юный лев, заинтригованный громкоговорителем, проявляет чудеса эквилибристики и, стоя на задних лапах, передней сшибает устройство на землю. Динамик продолжает вопить, возбуждая львят. Они вцепились в провода и, перекусывая их, прекращают опыт.
На исходе ночи исчезают последние львы — им не удалось спустить добычу на землю. Затаившийся в ветвях леопард полакомится от души, когда мы покинем это место.
В итоге опыта замечено двадцать шесть львов, один леопард и шесть пятнистых гиен. Понесены убытки — поврежден громкоговоритель, перекушен в двадцати двух местах пятидесятиметровый электрический кабель, есть следы зубов и когтей на веревке и микрофоне, сожрана пара сапог.
Однако результаты нового метода подсчета хищников — и львов, и пятнистых гиен — весьма убедительны. Леопардов и мелких хищников, похоже, трудно засечь, поскольку свет ночью пугает их.
Опыт решено повторить
так, чтобы животные оказались в других условиях. Адаптация львов к необычной ситуации не во всем была убедительной... Следует создать совершенно иную обстановку.
На этот раз опыт ставили с тушей погибшей зебры. Привязав ее к грузовику, перетащили поближе к лагерю, электролебедкой подняли за задние ноги и закрепили на толстой ветке акации так, что передние конечности зебры зависли метрах в полутора над землей.
Часа в два ночи по тревоге занимаем свои места. Вначале мы замечаем силуэт Рыжего, одного из львов-доминантов, занимающего вторую ступеньку иерархической лестницы прайда. Он явился на разведку — осматривает место, оценивает ситуацию, принюхивается к запахам, но зебру не видит... Странно... Его поведение заставляет старшего льва воздержаться от появления на сцене, чтобы не подвергать себя риску. Следует заметить, что старший по званию лев так поступает в любой ситуации, где не чувствует себя хозяином положения. Подчиненный должен подтверждать свое право на место в иерархии. Создается двусмысленная ситуация: претендент пользуется снисходительностью Старшего, а следовательно, и преимуществами своего положения, но, с другой стороны, ему буквально на пятки наступает молодняк, которому терять нечего.
Лишь два льва из семи обнаруживают зебру, висящую у них над головами. При виде туши они в замешательстве отступают, принюхиваются, наблюдают. Понемногу к ним приближаются остальные. Возникает конфликтная ситуация — Рыжий, сознательно игнорируя добычу, решает утвердить свои права. Он проверяет свою власть над юными самцами, которые постоянно нащупывают его слабые места. Самый требовательный из них, Шрам, бунтует, но его тут же ставят на место. В данном случае два «первых» — Старший и Рыжий — объединились против претендента на власть. Остальные, и самцы и самки, демонстрируя покорность, прижимаются к земле. Грива у Рыжего поднимается торчком, зверь замирает в картинной позе. Юный самец, наказанный несколькими мгновениями раньше, самоутверждается, оставляя на траве пахучие метки.
Потом упорный юнец переходит к делу. Добыча висит над головой, а это не соответствует тому, чему львят учат во время охоты. Удивляет и пассивность жертвы. Но постепенно самоуверенность молодого нарастает и, опершись передними лапами на одного из братьев, он хватает зебру за горло, чтобы задушить в соответствии с классическими правилами охоты. Ясно, что львы быстро адаптируются к новой ситуации. Чем увереннее, динамичнее лев, тем естественнее становятся его движения: хищник почувствовал, что условия охоты стали нормальными. Но веревка мешает, долго стоять на задних лапах утомительно, да и пожирать добычу в такой стойке неудобно.
Вначале участие в трапезе принимают только два юных льва; молодые самки держатся поодаль, избегая конфликта, потом отваживаются на хитрый маневр — пытаются вскарабкаться на дерево. Рыжий по установившемуся ритуалу еще раз напоминает остальному молодняку о своей власти и завершает закрепление своего руководящего места, оставляя метку.

Этот опыт выявил соотношения сил, которые объединяют двух самых крупных львов прайда. «Ночь зебры» стала проверкой «табели о рангах» в прайде. И впервые удалось снять необычные типы поведения львов, о которых мы до сих пор лишь догадывались.
Львы приступают к долгожданной трапезе. По-прежнему висящая вертикально добыча не дает возможности всем сразу принять в ней участие, а иерархические уступки быстро перерастают в демонстрацию силы. Остальная часть прайда, возбужденная запахом добычи, но не сумевшая подобраться к еде, испытывает неудовлетворенность. Вдруг оживает радио в лагере — несколько львов ринулись туда, а это опасно для тех, кто беззаботно спит в своих палатках.
Пробравшиеся в лагерь львы кружат возле пикапа: ведь вначале мы волокли зебру по земле, а потом погрузили ее в кузов. Хищников привлекают запах крови и отрезанная задняя нога зебры. Ее оставили, чтобы проверить состояние трупа и предотвратить распространение эпидемий. (Если, распилив кость, найдем белый костный мозг, то животное здоровое, если мозг желтый — почти наверняка больное.) Один из львов вспрыгивает в кузов и устраивается там; к счастью, в кабине никого нет. Через громкоговоритель предупреждаем всех, чтобы не выходили из палаток, успокаиваем людей, утверждая, что у львов нет воинственных намерений. Два грузовика наготове, и из них дежурные наблюдают за посетителями.
А те резвятся, грызут все, что похоже на веревки — электрические провода, кабели, растяжки палаток, шины. Несколько дней назад мы ненароком научили их перекусывать провода, веревки; урок не прошел даром. Костер вроде бы должен удержать зверей на расстоянии, но они его не боятся. Привыкнув к пожарам в джунглях, львы без страха перекатывают лапами красные головешки.
Юная самочка ухватила за край желтый пластиковый таз. Он опрокидывается и накрывает ей голову. Видно, от удивления львица еще крепче сжимает зубы и пускается в путь. Этот бег вслепую заканчивается в груде пустых канистр: они обрушиваются с ужасающим грохотом около палатки носильщиков, и без того клацающих зубами от страха.
Натешившись, львы покидают лагерь. Каждый прихватил по сувениру, а один визитер перещеголял всех, он уносит в зубах табличку с надписью: «Осторожно! Позади одного льва может прятаться другой!» Табличка стояла у въезда в лагерь, и мы не думали, сколь точным может стать сие предупреждение! Представляем, как отпадет челюсть у туриста, который в бинокль заметит льва с табличкой в зубах и прочтет надпись...
 Наконец состоится премьера —
Наконец состоится премьера —
посвящение львов в охотники. С тех пор как мы кочуем за ними днем и ночью по Чаду, Кении, Танзании и Руанде, нам никогда не доводилось видеть столь жестокой и беспощадной сцены.
Группа из семи «бродяг», за которой мы наблюдали, не очень настроена охотиться. И мы видим, как самка импалы, прыгая из стороны в сторону, легко уходит от охотников, провожающих ее растерянными взглядами. Но и неудача не подогревает их интереса к охоте. Уходящий жаркий день, видно, притомил львов, они лениво укладываются в траву — ну ее, эту охоту! Мы выжидаем целый час, но апатия и беззаботность львят заставляют нас отправиться на поиски объекта съемок. Есть одно местечко в густых зарослях, где можно встретить затаившегося сервала или пантеру...
Прожектор шарит по зарослям молочая и кустарника. На вершине акации четко вырисовываются силуэты трех венценосных журавлей. Луч захватил их врасплох во сне, они воспринимают его как свет восходящего солнца. Поведение птиц меняется, они приступают к утреннему туалету — вытягивают крылья, разглаживают перья. Кстати, по спектральному составу наш луч мало отличается от солнечного света, нам уже и прежде приходилось наблюдать сходное поведение, когда ночью луч прожектора выхватывал из тьмы спящих птиц.
Подобное было во время полного солнечного затмения на берегах озера Туркана в 1973 году. Каждый вечер, едва солнце исчезало за горизонтом, в воздухе становилась на крыло вся колония розовых фламинго. Птицы улетали в строго определенном направлении, а с восходом солнца возвращались на берег озера на место взлета. В день солнечного затмения, примерно к 14 часам, когда наступила полная темнота, фламинго легли на привычный курс, а спустя несколько минут, как только затмение кончилось, вернулись, приводнились и принялись за утренние дела.
Наши журавли топчутся на верхушке дерева, и мы снимаем в разгар ночи некоторые подробности их утреннего туалета. Луч скользит дальше в поисках удобной дороги и тут высвечивает силуэт львицы. Она не замечает нас, высматривает в стойке добычу. Останавливаем грузовик и принимаемся за дело — камера и телеобъектив на месте. Бруно медленно наводит луч на львицу и высвечивает метрах в двадцати одинокого самца импалы — он настороже, поднял голову. Хищница, почти распластавшись, ползет под защитой кустарника и невысокой травы. Чувствуется техника, опыт матерой охотницы: мышцы напряжены, взгляд устремлен на жертву. Антилопа обеспокоена, хотя пока не видит хищника. Она обречена: позади кустарник, бегство невозможно. Вот львица уже в нескольких метрах от жертвы.
Самец импалы слишком поздно заметил опасность. В высоченном прыжке он пытается перескочить через львицу, но та изворачивается и хватает антилопу за горло, когда копыта ее касаются земли. Животное падает на бок, его горло зажато в пасти громадной кошки. Но, к нашему великому удивлению, львица выпускает жертву.
В поле зрения появляется четверка четырехмесячных львят, прыгающих в траве. Один из них, подражая матери, бросается на горло импалы и пытается ее задушить своими крохотными зубками. Два других кусают антилопу за заднюю ногу. Антилопа жива — глаза блестят,— хотя лежит неподвижно, не реагируя на атаки львят, за которыми следит бдительный взгляд мамаши.
Вдруг импала вскакивает, прыгает, сбрасывая с себя пятнистые комочки. Они откатываются в траву; но львица не отпускает добычу далеко, настигает ее и мощным ударом лапы сваливает на землю. Львята снова бросаются вперед, покусывают антилопу за ноги, пытаются ее удушить. Оглушенное животное больше не движется и, похоже, не замечает острых коготков, глубоко вонзившихся в заднюю ногу. Глаза антилопы блестят, но никакой дрожи, стонов, защитных рефлексов.
Прошло двадцать минут с момента первой атаки...
Кажется, с импалой покончено, когда, собрав последние силы, она снова вскакивает. Львица начеку и наконец наносит удар милосердия. Начинается пиршество. Семейство обгладывает добычу до костей.
Реакция съемочной группы на насильственные сцены неодинакова: у каждого в зависимости от темперамента и воспитания, но большинство готово вмешаться и прекратить страдания животного. В этот день все возвращались в лагерь грустными. Видеть некоторые сцены своими глазами куда тяжелей, чем смотреть отобранные кадры. Порой в самых невыносимых ситуациях оператор прекращает съемку, и при монтаже мы выбрасываем слишком кровавые сцены.
Однако наш подход к съемкам фильма о животных — придерживаться истины; мы не равнодушны, но не имеем права по своему усмотрению редактировать сцены охоты. Держать людей в невежестве не дело. Наша цель соблюсти экологическую истину.
Чтобы выжить, хищник должен питаться мясом. Для продолжения вида он должен научить своих потомков убивать жертву, а обучение не может проходить без страданий и пролития крови. Лев нападает на прекрасную газель не из садизма, он не удовлетворяет свои «низменные инстинкты». Животное не знает, что такое жестокость.
Опасаясь разочаровать поклонников царя зверей, скажем, что лев, глава прайда, предпочитает демонстрировать силу, отбивая добычу у своих собратьев, вместо того чтобы охотиться самому. Кстати, тот же лев в конце своей жизни будет изгнан из прайда и окончит свои дни в одиночестве, питаясь падалью и мелкой живностью... Таков безжалостный закон мира животных.
Наш «глаз циклопа» приоткрыл завесу над ночной жизнью львов, и мы теперь знаем, как они проводят большую часть своей жизни — в ночной охоте.
Окончание следует
Жерар Вьен, Ги Вьен
Перевел с французского Аркадий Григорьев
(обратно)
Путешествие в прошлое

Не думал я, что полста лет спустя смогу заново, пусть по памяти, но совершить полет на Северный полюс; заново пережить в подробностях и деталях высадку папанинской четверки, вернуться к хлопотам нашей первой высокоширотной экспедиции; вспомнить товарищей молодыми крепкими парнями, отчаянно преданными идее освоения арктического Севера...
В тот год весна была ранняя, и мы с тоской смотрели, как под горячими лучами солнца исчезал снег. На Центральном аэродроме, откуда мы должны были улетать, появились лужицы и кое-где уже зачернела от оттепели земля. Вся Москва радовалась теплу и солнцу, но только не мы: стало ясно, что на лыжах из Москвы нам уже не взлететь. Пришлось срочно переставить машины на колеса, огромные, выше человеческого роста, а лыжи отправить поездом в Архангельск, где весной еще не пахло.
В составе экспедиции было пять самолетов. Три из них — машины Михаила Водопьянова, Василия Молокова и Анатолия Алексеева,— оборудованные специально, шли на полюс через остров Рудольфа. Четвертый, наш тяжелый самолет, вспомогательный, должен был следовать только до острова Рудольфа. Но впоследствии ситуация изменилась... Наш экипаж: командир — Илья Мазурук, второй пилот — Яков Мошковский (потом, на Рудольфе, он перешел на самолет Алексеева, а его место занял Матвей Козлов), первый бортмеханик — Диомид Шекуров, второй — Дмитрий Тимофеев и, наконец, штурман корабля — автор этих воспоминаний.
Пятый, двухмоторный самолет Павла Головина, должен был использоваться как разведчик погоды.
На флагманском водопьяновском корабле шла четверка зимовщиков: начальник научно-дрейфующей станции «Северный полюс» (потом она стала именоваться просто СП-1) — не раз зимовавший на полярных станциях Иван Дмитриевич Папанин; гидробиолог и врач Петр Петрович Ширшов; астроном и магнитолог — самый молодой из всей четверки — Евгений Константинович Федоров и радист Эрнст Теодорович Кренкель, известный коротковолновик, летавший в 1931 году в Арктику на цеппелине в совместной экспедиции с немцами. Здесь же, на флагмане, находились начальник высокоширотной экспедиции Отто Юльевич Шмидт и начальник полярной авиации Марк Иванович Шевелев, журналисты Лазарь Бронтман, Эрзя Виленский и кинооператор Марк Трояновский.
Для обеспечения работы на СП-1 нам предстояло доставить на льдину десять тонн груза — оборудование, снаряжение, продовольствие, топливо... Расчет был таков, что примерно за год эту льдину вынесет в Гренландское море, и там зимовщиков смогут снять ледокольные суда.
В Холмогорах, снова «переобув» свои самолеты в лыжи, мы подняли их в воздух и взяли курс на остров Рудольфа.
Перелет до Маточкина Шара протекал нормально. Но уже на этом отрезке стало ясно, что из-за погоды задуманный в Москве полет строем в условиях Арктики невозможен. Кроме того, при взлете промежуток времени между вырулившим на старт первым самолетом и последним доходил до часа. Задержка происходила оттого, что со стоянок самолеты надо было подтаскивать тракторами на взлетную дорожку. Тогда на аэродромах было всего по одному трактору, а снег обычно лежал глубокий. Взлетевший первый самолет, чтобы не тратить зря горючее, ложился на курс, не дожидаясь остальных. А в небе догнать, встретить друг друга мешали, как правило, и плохая погода, и отсутствие соответствующего навигационного оборудования.
Обычно большую помощь в полете нам оказывал радиополукомпас, но уже от Нарьян-Мара мы начинали замечать, что чувствительность его стала падать (надо сказать, это были первые у нас в авиации экспериментальные приборы). Еще в Москве при их установке штурманы настояли на том, чтобы в запас были взяты и радиокомпасы «Фейрчалд», испытанные во всех условиях полетов.
На Маточкином Шаре, одной из научных полярных станций на Новой Земле, из-за погоды мы задержались на пять дней. Используя это время, мы с Мазуруком поставили себе на борт радиокомпас «Фейрчалд», не снимая наш советский, чтобы довести его проверку до конца. То же самое позже, уже на острове Рудольфа, когда наши радиополукомпасы окончательно отказали, сделали и остальные три самолета. Но запасных радиокомпасов было всего четыре, а самолетов пять. Тогда-то Шмидт и распорядился снять «Фейрчалд» с нашего корабля и отдать его самолету — разведчику погоды.

Здесь, на Маточкином Шаре, наш экипаж едва не лишился возможности принимать участие в дальнейшем полете. Зная о господствующем направлении местного ветра «бора», достигавшего ураганной силы, все экипажи поставили свои самолеты на якорных стоянках носом к предполагаемому направлению ветра, крепко привязав их к бревнам, вмороженным в лед пролива. Но Анатолий Алексеев рассудил по-своему: поставил свой самолет хвостом к ветру, решил, что сила ветра благодаря обратному углу атаки будет прижимать самолет к земле и тем самым ослаблять напряжение тросов крепления.
Теоретически Алексеев был прав. Обладая большим авторитетом среди летного состава, он нашел даже последователей, но, к счастью, неожиданно обрушившийся ураган не позволил переставить самолеты по его способу. «Бора» задул с такой силой, что самолеты, стоя на привязи, подпрыгивали на месте, а винты медленно, как на ветряной мельнице, проворачивались. Чтобы добраться от зимовки к якорной стоянке, приходилось ползти вдоль натянутого троса.
Кажется, все было хорошо, ветер уже стал затихать, как вдруг в кают-компанию ввалился бортмеханик Сугробов и, мрачно сплюнув, отдирая сосульки льда с бровей, проговорил: «Чертова теория... оторвало хвост»,— и тяжко опустился прямо на пол. Быстро одевшись, все бросились к самолету Алексеева. Сквозь тучи снежных игл, швыряемых порывами ветра, было смутно видно, как у высокого хвоста машины возились люди. Был сломан баллер руля. Ошибка Алексеева заключалась в том, что он не учел изменения поворота ветра. Боковой ветер и сломал руль.
Неспокойнее всех чувствовали себя мы. Наш самолет был запасным, и мы понимали, что если руль нельзя будет исправить, то снимут наш и поставят на самолет Алексеева, а нас оставят в Маточкином Шаре.
Не меньше нас переживал и сам Алексеев. Он был обескуражен своими расчетами. Опытнейший полярный летчик, это он в 1928 году спасал итальянскую экспедицию, когда погиб дирижабль при возвращении с полюса, отыскал в хаосе дрейфующих льдов погибающую группу Мальгрема... Но когда приходит беда в Арктике, люди все вместе. Золотые руки наших бортмехаников спасли положение. Баллер был восстановлен, и на рассвете 19 апреля все корабли поднялись в небо. Набирая высоту, мы направились вдоль берегов Новой Земли, чтобы перевалить через горы и потом взять курс на остров Рудольфа — исходную точку для штурма полюса.
Стояло чудесное арктическое утро. Впервые воздушные корабли летели на виду друг у друга. Почти прямо на севере всходило солнце, неправдоподобно огромное, пурпурное. Медленно поднимаясь, заливало оно потоками света белоснежные горы. Помню, ко мне в рубку вошел Мошковский и, удивленно показывая рукой на солнце, проговорил:
— Что случилось? Почему изменили курс? Должны идти на север, а идем куда-то на восток.
— Идем верно. На солнце не обращай внимания,— сказал я.— Скоро оно совсем не будет заходить. Это арктические широты, здесь не то еще увидишь...
Спустя три часа после старта на фоне ясного голубого неба начали отчетливо вырисовываться оледенелые вершины островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Не заходя в памятную нам с Водопьяновым бухту Тихую, где в мае 1936 года мы из двух самолетов собирали один, наш самолет проследовал прямо на остров Рудольфа.
В то время карты архипелага были очень неточными. Конфигурация островов и их высоты никак не сходились с фактическими данными. Составленные австро-венгерской экспедицией Пайера в 1873 году и в 1896 году английским исследователем Джексоном, они мало соответствовали действительности, часто ставя штурманов в нелепое положение.
Вот показался самый северный остров архипелага. Как купол огромного раскрывшегося парашюта, четко рисовалась его закованная льдом вершина. Подойдя вплотную, легли в круг, осматривая и изучая выбранный нами с Водопьяновым в прошлом году во время разведывательного рейса трамплин для прыжка первой советской экспедиции на Северный полюс.
У подножия острова, с западной стороны, между бухтой Теплиц-Бэй и мысом Столбовым, в 1936 году была построена зимовка и временная база для воздушного отряда. Несколько жилых домов, баня, склады, радиостанция, радиомаяк. Все это расположено на голой базальтовой россыпи, покрытой зимой двухметровым пластом снега. С самолета был отчетливо виден маленький одинокий домик на берегу, где зимовал в 1933 году Евгений Константинович Федоров, рядом — цистерны, бочки, шлюпки... остатки базы американской и итальянской экспедиций Циглера и герцога Абруцкого в 1898—1905 годах.
Один за другим садятся самолеты на узкую полосу аэродрома, расположенного на куполе острова, и заруливают на якорную стоянку у занесенного снегом до трубы домика.
Сразу же после посадки мы, штурманы, начали определять девиацию магнитных компасов, пользуясь тем, что тракторы на ходу. Крутили тракторами самолеты по земле, определяя отклонение магнитной стрелки. На зимовку с купола спустились поздно. У входа в жилой дом полярники специально для нас поставили на задних лапах тушу замороженного белого медведя с большим ключом на блюде, накрытом полотенцем с надписью: «Ключ от Северного полюса».
Но увы, покосившийся крест над могилой американца Сигурда Майера напоминал, как трудно этим ключом воспользоваться. Исчезла в бездне океана и партия итальянского лейтенанта Кзерини, а где-то здесь, на одном из заснеженных мысов южной части острова, нашел последнее пристанище начальник первой русской экспедиции на Северный полюс лейтенант Георгий Седов.
Но мы были уверены, что достигнем полюса и не только для того, чтобы установить на нем флаг Родины, а чтобы оставить людей там и начать изучать тайны точки, где сходятся все меридианы, где курс — только южный, где полгода пуржистая ночь и полгода светит холодное яркое солнце... Сесть на льдину во что бы то ни стало, обжить, выяснить влияние льдов океана на судоходство вдоль берегов Евразии, познать, как зарождаются циклоны. Вся эта работа лежала на четверке папанинцев.
В большой теплой кают-компании за длинным столом было шумно, людно, еда — вкусная. Зимовщики засыпали нас вопросами о Большой земле. Разошлись по своим каютам глубокой солнечной ночью, но казалось, она даже не наступала, а тянулось долгое морозное утро.
На следующий день начались работы по подготовке к последнему этапу перелета — прыжку на льды полюса. Замелькали и солнечные и пуржистые дни, полные авралов и напряженного труда: откапывали самолеты из-под сугробов после пург, доставляли с берега океана сотни бочек с горючим на вершину острова, очищали самолеты — они все время покрывались коркой льда при стоянке на высоте 300 метров в постоянной облачности, висевшей над островом. Казалось, все готово. Дело за погодой. Прилетевший с нами синоптик Борис Дзердзиевский, многозначительно улыбаясь, сдерживал наш пыл, говорил, что погода для полюса еще не пришла. Наши разведывательные самолеты, зимовавшие на Рудольфе, часто летавшие в высокие широты за погодой, возвращались без нее.
Пятнадцать суток мы просидели на берегу моря в ожидании погоды.
Не веря в возможность полета на полюс строем, как ходят на парад, я в свободное от авралов время занялся переконструированием авиационного апериодического магнитного компаса в периодический, более чувствительный к воздействию слабого магнитного поля земли высоких широт, в надежде, что он будет работать до полюса. Для нашего самолета это было очень важно: не имея радиокомпаса «Фейрчалд», при полете в одиночку мы решили обеспечить себя надежно работающим магнитным компасом. Но, увы, как потом выяснилось, уже с восемьдесят пятой широты все магнитные компасы показывали скорее цену на дрова, нежели курс самолета к полюсу, ибо горизонтально составляющая сила земного магнетизма в высоких широтах настолько мала, что она не в состоянии удерживать картушку в плоскости меридиана.
5 мая самолет-разведчик ушел в глубокую разведку. Он достиг 87°, но экипаж не сообщил, что идет дальше, чтобы узнать погоду на самом полюсе. Связь оборвалась. Неожиданно погода испортилась. Что с ними? Мы напряженно ждали. А они уже кружили над нами, низкие тучи закрыли аэродром на куполе. Связавшись, наконец, с экипажем, мы узнали, что горючее у самолета на исходе. Стали готовить полосу внизу у зимовки, где была рабочая видимость. Перед самым островом у них вышел из строя радиокомпас. Мы включили радиомаяк, но, очевидно, вокруг острова образовались ложные равносигнальные зоны, и самолет, находясь в облаках, начал плутать где-то вблизи. И вдруг мы услышали шум моторов, тут же сообщили, что самолет только что прошел над нами. Бортрадист Стромилов принял наш сигнал и передал, что радиокомпас заработал. Видимость ухудшалась с каждой минутой, теперь туман наползал и на нижнюю площадку. Минуты тянулись мучительно долго. Сначала мы услышали приближающийся рев моторов с севера, а потом из облаков вынырнул самолет и с ходу сел на узкую короткую полосу. Бросаемся к нему. Из кабины выходят возбужденные и счастливые Павел Головин, Виктор Волков, Николай Стромилов и бортмеханики Николай Кекушев и Валентин Терентьев. Как оказалось, это были первые советские люди, пролетевшие над полюсом...
На следующий день была создана комиссия в составе Спирина, Шевелева, Папанина, Федорова и автора этих строк для разбора этого полета на полюс. Головин доложил, что радиомаяк был хорошо слышен до самого полюса, но магнитные компасы вели себя очень плохо: картушка «гуляла» при курсе на север от 280° до 80° и совершенно отказывала при кренах самолета. В разрывах облаков видели большие ледяные поля, где вполне возможно выбрать место для посадок тяжелых самолетов...

Опыт разведчиков погоды был
нами учтен, но для проверки зон радиомаяка был послан самолет с летчиком Леонардом Крузе. На борт был взят и синоптик Дзердзиевский. Но и на этот раз Арктика показала свои зубы. Самолет попал в пургу и, потеряв ориентировку, сделал вынужденную посадку на льдах океана, примерно на широте 82°33" и долготе 54°41". Связавшись с нами по радио, они сообщили, что все в порядке, и запросили сбросить на парашюте горючее.
Как только затихла у нас шквальная пурга, был послан самолет. Только через три дня они смогли вернуться на остров Рудольфа.
В ожидании лётной погоды, между пургами и туманами, мы шли на аэродром и снова, в который раз, откапывали занесенные сугробами самолеты, восстанавливали антенны.
Так мы ждали погоду в течение месяца. Помню, пока мы добирались до Рудольфа, Спирин, посмеиваясь над «стариками», спрашивал:
— Где же знаменитая Арктика? Солнце, голубая лазурь, легкая дымка. Это же Гагры.
Случилось, что в первые дни пребывания на Рудольфе надо было проверить точность направления зон радиомаяка. Для этого решили на легком самолете Н-36 слетать с радиоприемником на юг, сесть на лед и прослушать с земли работу маяка. Выполнить эту операцию взялись Спирин, Федоров и бортрадист Иванов.
Вылетев утром, они должны были вернуться через два-три часа. Но прошло двенадцать часов, а их все нет. Стали снаряжать на поиски самолет. На Н-36 рации не положено, и экипаж не мог сообщить, что случилось. К концу вторых суток мы вдруг услышали характерное потрескивание мотора, и самолет сел прямо у зимовки.
По дороге в кают-компанию Спирин, обросший, с обмороженными щеками, смеясь, повторял:
— Нашел, нашел-таки Арктику! Есть, оказывается, Арктика!
Оказалось, что в пятидесяти километрах на юг от Рудольфа они выбрали льдину и сели.
Федоров быстро определил координаты секстантом, а Спирин с Ивановым стали прослушивать сигналы радиомаяка. Но когда работа была закончена и люди уселись в самолет, мотор не завелся. Целые сутки, падая от усталости, они крутили винт, но мотор был мертв. Мороз усиливался, начало пуржить. Ни спальных мешков, ни продуктов с собой не было. Обнявшись, в тесной открытой кабине они отогревали друг друга.
Только на вторые сутки потеплело, и мотор, подогретый пропитанной бензином паклей, удалось запустить.
Были и другие происшествия, но, к счастью, все они кончились благополучно.
После полета «разведчика» на полюс план высадки экспедиции был пересмотрен. Командование отрядом решило, что на полюс сначала пойдет один флагманский корабль. Это вызвало большие споры: остальным участникам экспедиции казалось, что такой план слишком рискован и что если посылать одиночный самолет для поисков и подготовки льдины для всех остальных, то надо посылать не флагманский корабль со всем командованием и папанинской четверкой, а какой-либо другой. Но решение командования было непреклонным.
20 мая ночью Дзердзиевский наконец уверенно сообщил, что погода в районе полюса хорошая и надо вылетать. В 04 часа 50 минут флагман под командованием Водопьянова, имея на борту 13 человек, в том числе папанинцев во главе со Шмидтом, стартовал на полюс...
Наступили тревожные часы. Что с самолетом? Не случилось ли чего при посадке? Ежечасно Москва запрашивала нас, но мы ничего не могли ответить, так как не знали, что они сели благополучно, но не могут сообщить об этом: самолетная рация у них вышла из строя. И только через сутки, когда Кренкель смог собрать свою рацию, Водопьянов сообщил: «Сели благополучно, льдина отличная. Широта 89°25", долгота 68°40", западная. 21 мая 1937 года».
Теперь мы имели свой аэродром на полюсе, свою метеостанцию, и выбрать погоду для старта остальных трех машин было нетрудно. В ночь на 25 мая Кренкель сообщил, что погода в районе полюса ясная, тихая и они готовы нас принять. Мы получили от Папанина наказ захватить с собой его собаку.
25 мая на Рудольфе стояла облачная погода с температурой минус 19 градусов.
Стали собираться, и вдруг с радиостанции острова по телефону сообщают, что погода на куполе, на аэродроме будет быстро портиться, необходимо торопиться, иначе взлетную полосу затянет туманом.
Когда молоковский самолет — теперь он стал нашим флагманом — пошел на взлет, а тракторы подтягивали на полосу алексеевскую машину, с юга уже наступал туман. Но через 12 минут и второй самолет был в воздухе. Настала наша очередь. Но когда вытаскивали со стоянки из глубокой снежной траншеи наш самолет, лопнул стальной трос. Только спустя сорок минут нам удалось выбраться на старт. Туман уже затянул южную часть острова. Взлетали прямо в океан, над стометровым обрывом ледника.
Согласно плану экспедиции после взлета самолеты должны были идти на север в зоне радиомаяка и на широте 83°, где, по сообщению Крузе, облачность кончалась, собраться вместе, чтобы следовать в лагерь Папанина строем.

Однако, спустя 28 минут, когда мы прибыли на границу облачности и ясного неба, здесь, в узкой полосе излучения радиомаяка, самолетов не оказалось. Потом выяснилось: самолет Молокова ожидал остальных в точке рандеву целый час и, не дождавшись, опасаясь перерасхода горючего, улетел на полюс.
Экипаж Алексеева видел на горизонте, где-то за кромкой облачности, флагманскую машину, но тут же потерял ее из виду и тоже пошел самостоятельно. Нам же из-за отсутствия необходимой мощной радиостанции не удалось связаться ни с одним из самолетов. Надо сказать, что в те времена обязанность радиста часто возлагалась в экипажах на штурмана, а он за своими основными делами не всегда находил возможность заняться связью.
Оставшись одни в этом безграничном просторе льдов, где нет ориентиров и не работают магнитные компасы, мы отлично представляли, какие трудности могли возникнуть перед нами.
Весь основной груз научного оборудования экспедиции, а также большая часть продуктов для открывающейся научно-дрейфующей станции были у нас на борту. Если вернуться на остров Рудольфа, значит, сорвать открытие СП-1, тем более что наступавшая весна с каждым днем ухудшала летную погоду. Нам оставалось идти к полюсу самостоятельно, выбрать годную для посадки льдину, сесть и, уточнив свои координаты, перелететь в лагерь папанинцев...
Когда мы достигли восемьдесят третьей широты, облачность резко оборвалась, перед нами возникло ясное голубое небо, внизу тянулись пространства изломанного льда, залитого лучами солнца. Каждые 15— 30 минут я рассчитывал координаты, используя для ориентации солнце, радиомаяк и метод счисления, и, кроме того, вел наблюдение за льдами, наносил данные на карту и в бортовой журнал. На мои запросы и ключом Морзе, и микрофоном ультракоротковолновой рации самолеты нашей тройки не отвечали. На широте 88°30" я перестал их звать, так как с приближением полюса пришлось все свое внимание перенести на штурманские расчеты. С Рудольфа по радио сообщили, что погода там, в приполюсном районе, отличная. И действительно, вокруг нас на бледно-голубом небе не было ни одного облачка. При подходе к полюсу, начиная с восемьдесят девятой широты, я всецело перешел на астрономическую навигацию. Мы находились на высоте тысячи метров. Под нами тянулись тяжелые паковые многолетние льды. Присматриваясь к ним, мы неоднократно замечали большие поля льда с ровной, гладкой поверхностью, вполне пригодные для посадки тяжелых самолетов на лыжах. Это были поля спаянных больших и малых льдов, разделенных между собой грядами торосов и узкими разводьями. На огромной территории океана происходило великое торошение льдов — в хаосе сжатия триллионной массы образовались вздыбленные ледяные горы, широкими грядами медленно ползущие друг на друга. Глядя сверху на эту безбрежную ломку, мы невольно с величайшим уважением вспоминали тех, кто в этой гигантской подвижке пробивался пешком или на собаках к полюсу.
В 04 часа 30 минут выйдя из штурманской рубки, я предупредил, что через 29 минут под нами будет заветная точка — Северный полюс. Астрономические линии положения все ближе и ближе ложились у полюса, склонение солнца приближалось к высоте его, измеренной секстантом. Все расчеты уверенно подтверждали, что очень скоро под нами будет северный конец оси нашей планеты. Удастся ли нам как можно ближе к полюсу найти льдину, на которую можно сесть?
Полюс! Какой же дорогой ценой он достался человечеству! Трагическими холмиками и крестами со славянской и латинской вязью букв усеян путь к этой точке. Первым из русских шел к заветному полюсу лейтенант Георгий Седов. Летали над полюсом знаменитые Амундсен, Нобиле, Берд, Биннет, Рисер Ларсен — люди науки, но они не смогли сесть на льды.
А теперь летим мы — советские люди и везем на созданную станцию все необходимые приборы и снаряжение, чтобы при их помощи изучить, познать тайны полюса.
В 05 часов 00 минут я торжественно поздравил товарищей: под нами полюс. Мы крепко пожали друг другу руки. Молча смотрим вниз, будто там, на дрейфующем льду океана, эта точка отмечена знаком. Нет. Кругом простирался закованный в ледовый панцирь океан.
Мазурук озабоченно спрашивает:
— Что будем делать дальше? Искать лагерь Папанина или садиться на первую найденную льдину?
— Координаты Папанина трехсуточной давности,— сказал я,— кроме того, у нас нет радиокомпаса. Сядем, уточним свой меридиан, получим координаты лагеря и перелетим к ним. Сэкономим горючее.
— Согласен. Давай-ка подыщем для себя льдину для посадки.
Мазурук спокоен. Глаза его внимательно всматриваются в океан. Ни тени растерянности, словно он каждую неделю летал на полюс.
Где-то рядом должен быть лагерь папанинцев, но в этом нагромождении льда нам десятки раз казалось, что мы видели черную палатку и самолет рядом, но все это было причудливой игрой света, льда и черных полыней разводий.
Через пятнадцать минут мы приступили к поискам пригодной льдины. Пошли ломаным курсом. Но куда бы мы ни летели от полюса, курс был один и тот же — южный. В этом ошибки не было — все меридианы, идущие с юга, сосредоточивались в одной точке полюса.
На первый взгляд сесть, казалось, можно куда угодно, но, когда мы снизились, увидели, что ни одна из льдин не годится для посадки. Всюду торосы, снежные наддувы... Наконец наше внимание привлекло небольшое, но мощное ледяное поле, окаймленное высокой грядой торосов. Внимательно осмотрев его со всех сторон, принимаем решение садиться. Чтобы не потерять эту льдину из виду и знать направление ветра, сбрасываем на ее поверхность дымные бомбочки и, рассчитав размеры поля, идем на посадку. Самолет низко скользит над высокими, как горы, грядами соседних льдин, синие, как стекло, торосы на изломах искрятся в лучах низкого солнца, заставляя щурить глаза. Самолет, перевалив последнюю гряду, мягко касается лыжами снежной поверхности и, раза два подпрыгнув на наддувах, останавливается метрах в семидесяти перед новой грядой торосов. Не выключая моторов, мы с Козловым, нашим вторым пилотом, выпрыгиваем на лед, осматриваем его и только после этого самолет переруливаем на край выбранной полосы. Ставим две оранжевые палатки, мачту и поднимаем алый флаг Родины,
Выбранное нами поле при осмотре оказалось не таким ровным, как виделось с высоты, и только единственно пригодное место для посадки было именно там, где сел самолет. Но оно было мало и для взлета непригодно. Обнаружили и две большие трещины, замаскированные снегом и разделившие льдину на три части. Выбрали наиболее крепкую часть и перерулили туда.
Начали обживаться, но в суматохе забыли, что на борту у нас находился седьмой спутник — пес для папанинцев, которого никто не хотел брать из-за перегрузки. С трудом отыскали его среди тюков, вытащили на лед, и он радостно, с лаем, как сумасшедший, бросился бегать по льду, а потом, вдруг ощетинившись, притих и стал жаться к моим ногам.
Этот чудесный ездовой пес и медвежатник, за свой характер получивший кличку Веселый, непоседа и задира, в первый день нашей жизни на льдине был неузнаваем. Он, словно чуя скрытую опасность, недоверчиво и внимательно осматривал льдину, ни на шаг не удалялся от людей. Странно было видеть, как он ползком, по-волчьи приближался к границе разводья и, весь подобравшись, грозно рычал, глядя в черную бездну океана. Чувствовал ли он, что его так далеко завезли от твердой земли, или мертвая тишина и безмолвие льдов будоражили его? Уже потом, спустя дней пять, Веселый стал постепенно приходить в себя, но один все-таки никуда не отлучался.
Устроившись, я сообщил координаты нашей льдины на Рудольф, но лагерь Папанина не отвечал.
Вот что я писал тогда в своем дневнике:
«26 мая. Всю ночь не спал. Брал высоты солнца для уточнения координат и монтировал радиостанцию для работы на земле, так как наша может работать только во время полета от ветрянки, длинноволновая «Баян», очевидно, не проходит...
Мы сидим в точке: широта 89°36", долгота 100°, западная. Каждые первые десять минут каждого часа на волне 72,7 метра зову Диксон, Рудольф и лагерь папанинцев. Сообщил свои координаты, но не слышу их. Организовали метеорологическую станцию, веду наблюдения.
Сегодня тепло, всего — 7°, слабый ветерок. В лагере тихо, все товарищи спят. Бодрствуем вдвоем с Веселым, который все время недоверчиво настораживает уши и, мне кажется, с упреком смотрит на меня. Возможно, он чует зверя. Не верится, что здесь есть жизнь.
27 мая. Пробую наладить питание всеволнового приемника через аварийный моторчик. Для этого снял динамо-ветрянку с крыла самолета и спарил с аварийным моторчиком. Теперь у нас есть электроэнергия. Все остальные товарищи целый день на расчистке взлетной дорожки. Тяжелый, утомительный труд. Я помогаю им в перерыве между вахтами.
28 мая. С Диксоном установил наконец-то двухстороннюю связь. Передаю и получаю даже частную корреспонденцию. «Правда» запросила статью — отправил. Но лагерь до сих пор молчит — очевидно, он находится в «мертвой зоне», так как мы работаем на коротких волнах, они проходят очень плохо. Вечером коротковолновый передатчик отказал.
29 мая. Связался на длинных волнах с Диксоном и через него с лагерем папанинцев. Вначале переговаривались через посредника, а сейчас связь прямая. Шевелев предлагает перелететь к ним. То же желание и у нас, но, увы, аэродром не готов. С ними ведем переговоры по радиотелефону, но нерегулярно — капризничает моторчик.
30 мая. Длинноволновый передатчик «Баян» вышел из строя. Кажется, на этот раз совсем — сгорел делитель напряжения. Всю ночь с бортмехаником Шекуровым сидели за конструированием рации. Наладили с немыслимой схемой коротковолновый. Странно, но действует.
Удалось в разрывах низкой облачности поймать солнце. Наше новое место: широта 89°25", долгота западная, 96°00". Координаты лагеря папанинцев: широта 89° 10", долгота западная, 36°. Следовательно, между нами 95 километров.
Связь с лагерем держим через микрофон ручной радиостанции «Носорог», которую крутят Мазурук и Козлов. Из лагеря сообщили, что вышлют нам на помощь самолет с людьми, чтобы помочь расчистить аэродром и разгрузить нашу машину. Взлетная дорожка уже как коридор меж торосов. Это путь в лагерь папанинцев. Лед необычайно крепок и упруг, а снег настолько плотен, что железная лопата не берет его.
Солнце редко появляется в низкой серой облачности. Ночью где-то вдали было сильное торошение, но у нас спокойно, штиль.
31 мая. Радиосвязь с лагерем нормальная. Пишу в перерыве между вахтами. Кругом мертвая белая пустыня, неизвестная и затаившаяся. Говорил по радиотелефону со Шмидтом. Лагерь папанинцев несет на юг по меридиану 36°, западному, а нас относит ломаным курсом, и тоже на юг. Сегодня весь экипаж побрился, привел себя в порядок. Борьба с торосами не ослабевает. У Козлова появились первые признаки снежной слепоты, глаза красные, воспаленные. Все надели светофильтры, но в них работать очень тяжело, приходится часто протирать.
1 июня. Продолжаем строительство аэродрома. Живем в шелковых двойных палатках. Тепло, уютно. Питаемся прекрасно. Козлов замечательный повар. Спим в спальных мешках, раздеваемся до белья. Экипаж бодр, все веселы, шутят. Вчера вырубили 47 торосов.
Устаем здорово. Но как зато хороши минуты перед сном в палатке с гудящим примусом!
2 июня. Сплошная облачность, морось, температура +1°, ветер северовосточный. Аэродром готов, но при таком ветре нам не взлететь, необходимо, чтобы он дул вдоль дорожки. К вечеру сильный туман и гололед. Солнца нет уже два дня. Дрейфуем, но куда — определить не можем.
3 июня. В 24 часа 30 минут говорил со Шмидтом через микрофон. Он сообщил, что первой погодой вылетает к нам самолет, чтобы взять часть груза. Просил во что бы то ни стало поддерживать связь. В этот же день к нам вылетели Молоков со Спириным, флагманским штурманом. Но они нас не нашли, попали в туман и вернулись обратно в лагерь.
Все спят после восемнадцатичасовой работы на аэродроме. На радиовахте мы вдвоем с Мазуруком.
4 июня. В 01 час 00 минут наладили связь через ручную радиостанцию. Очень капризны здесь прохождения радиоволн. Диксон слышит за 1700 километров, а лагерь не слышит за 100...»
Только к 5 июня стало солнечно и ясно. Сообщил в лагерь, чтобы дали свою погоду, так как мы уже собирались лететь к ним.
Обсудили с Мазуруком схему поисков лагеря. Это очень сложный вопрос. Сближение меридианов, колоссальное магнитное склонение и главное — отсутствие радиокомпаса делают эту задачу чрезвычайно трудной. Решаем идти по гирополукомпасу, взяв первоначальный курс, рассчитанный по солнцу.
В два часа стали свертывать лагерь. Чувствуя, что мы готовимся к отлету, Веселый извелся: метался от одного к другому, лаял, просился в самолет.
Когда все было готово, я сообщил в лагерь папанинцев, чтобы они следили за мной на волне 72,7 метра. Усаживаемся в машину, даем полный газ моторам, но самолет не двигается с места. Лыжи крепко примерзли ко льду. Подкопали снег, побили по пяткам лыж двадцатипятикилограммовой кувалдой... Сумеет ли Мазурук поднять тяжелый корабль со столь хитроумного аэродрома? Полный газ. В самом конце площадки самолет отрывается и, еле одолев гряду торосов, повисает в воздухе.
Нервы напряжены до предела. Верны ли мои расчеты? Что если я ошибся? Тем более перед стартом экипаж недоверчиво спрашивал, верно ли я определил направление на лагерь. Путала близость полюса: солнце круглые сутки имело одну высоту, и всюду юг. Нет, ошибки не может быть. Сотни раз днем и ночью, когда все спали после изнурительного труда на аэродроме, я проверял свои данные. Чутье обманчиво, но математика — наука точная. Через 47 минут мы должны быть в лагере наших товарищей.
В 06 часов 15 минут ложимся на курс. Даю все необходимые данные для Мазурука и бегу в хвост самолета, чтобы сообщить в лагерь о взлете. Лагерь сразу ответил. Теперь связь отличная. Динамо, закрепленное в крыле, вращаясь от встречного потока воздуха, дает достаточное количество энергии.
Вскоре попадаем в снегопад, но лагерь сообщает, что у них погода отличная. Настроение напряженное, но радостное. Через каждые 10 минут ввожу необходимость поправки в гирополукомпас, контролируя курс астрономическим методом. Курс на карданном компасе 279°.
В 06 часов 52 минуты в наушнике шлема ясно услышал: «Мы вас видим. Видите ли вы нас?» Сообщаю по радио: «Следите за нами, вас еще не видим».
Внизу лед и редкие разводья. Никакого намека ни на самолеты, ни на костры. Сообщаю экипажу, что нас видят. Товарищи радостно жмут мне руки и обнимают. Через несколько минут мы увидели огромный костер, три оранжевых самолета и множество палаток. Тяжело опускаюсь в кресло. Моя задача выполнена.
Ровно в 07 часов 02 минуты Мазурук и Козлов мягко сажают самолет на аэродром папанинцев.
Нас встречают Шмидт, Папанин, Кренкель, Молоков, Водопьянов, вытаскивают из самолета, обнимают, радостно трясут руки, поздравляют с благополучным прилетом. Быстро разгружаем машину и торжественно вручаем Папанину Веселого...
15 июня все корабли ушли в Москву. По указанию правительства наш самолет с экипажем остался на Рудольфе для обеспечения безопасности дрейфа папанинцев.
Наша вахта продолжалась весь период дрейфа. Это время навсегда останется в моей памяти как лучшее воспоминание о заснеженной и оледенелой земле на краю света.
Валентин Аккуратов, заслуженный штурман СССР
(обратно)
Скрипач и водяной

Падал густой снег, раскачивались за окном ветки рябины. А в мастерской было тихо и уютно: большая, облицованная зелено-голубым кафелем печь дышала теплом.
Мы сидели за круглым столом, заваленным гравюрами, рисунками, книгами. Со стены на нас смотрела Девочка, разговаривающая со Змеем. На голове его сияла корона.
Хозяин мастерской — художник и писатель Мерчин Новак, а по-немецки Мартин Нойман,— доставал с полок все новые листы, осторожно раскладывал их на столе. Сказочное многоцветье рассеяло сумеречный свет зимнего дня: по зеленому небу над красно-коричневой землей летел дракон; среди мрачного переплетения стволов и корней распускались белые волшебные цветы; в гости к крестьянину шли гномы в синих колпаках... Мерчин Новак тихо ходил по мастерской, мягко улыбаясь. В бархатной куртке и домашних тапочках, он сам казался частью того мира, что создал своей кистью...
Марко Хендрих — это он привез меня в гости к художнику — рассматривал картины, радовался, узнавая:
— Это Крабат? Да? А это Змеиный Король? А это Водяной?
— Марко,— смеялся художник,— ты что, не помнишь сказок, которые тебе рассказывали в детстве? Это же так недавно было...

Чем дольше всматриваешься в таинственный и озорной мир Мерчина Новака, тем более кажется он реальным: колодец-журавель на зеленой земле; изба, сложенная из потемневших бревен; серп в руках жницы; расшитая праздничная одежда девушки из Чельна; внутреннее убранство деревенской избы — с печью, горшками, одеждой. Нечто похожее я только что видела в музее в Бауцене. Пожалуй, по картинам Новака можно было изучать культуру и быт его сородичей — лужицких сербов, или лужичан, или по-немецки — сорбов.
Лужичане живут на юго-востоке ГДР, в округах Дрезден и Котбус, в бассейне реки Шпрее. Сейчас лужичан примерно сто тысяч, это небольшая часть населения республики. Около трехсот городов и селений страны признаны двуязычными. Но не малочисленность лужичан была причиной того, что о них до недавнего времени было известно немного. Почти тысячелетие назад они утратили свою независимость. Века социального и политического угнетения должны были, казалось, окончательно предать эту народность забвению... С истории лужичан и начался наш разговор в Бауцене, или по-лужицки — Будышине, в просторном зале «Сербского дома». Юрий Гросс и Марко Хендрих — первый секретарь и работник отдела пропаганды Центрального руководства «Домовины» — говорили между собой по-лужицки, и я время от времени улавливала знакомые слова: «хлеб» означал «хлеб», «внутроба» — «сердце», а «домовина» — «родина». И все же без переводчика было не обойтись.
Юрий Гросс делил историю своего народа на две части: первая насчитывала много столетий, начинаясь с VI—VII веков нашей эры (как трагический рубеж были отмечены им X—XI века, когда лужичане потеряли независимость); вторая — четыре с половиной десятилетия. Грань проходила по 1945 году.
— Старшие у нас еще помнят, молодые читали, хоть им и поверить в это трудно,— Гросс повернулся в сторону Марко,— но так было: лужичане считались не людьми, а рабочей скотиной. Веками... Что ж говорить про годы фашизма! В 1937 году были запрещены наш язык, наши газеты, закрыта «Домовина» — народная организация лужичан. Перед концом войны отступающая армия Шёрнера должна была перестрелять всех нас... Спасли лужичан советские воины.— Юрий Гросс помолчал и твердым голосом продолжил: — 10 мая 1945 года «Домовина» возобновила свою жизнь. Конституция страны узаконила наше существование,— и он показал на плакат, висевший на стене.
Плакат гласил: «Граждане ГДР лужицкой (сербской) национальности имеют право развивать свой язык и свою культуру. Осуществление этого права поддерживается государством. Статья 40, Конституция ГДР».
В разговор вступил Марко Хендрих. Он рассказал, что созданы и работают Фольклорный центр, лужицкий народный театр, издательство «Домовина», чьи книги всегда помечены рисунком-символом — тремя листами липы; на языке лужичан издаются девять газет и журналов, есть своя редакция на радио и группа «Сербский фильм» при ДЕФА. Язык лужичан — оба наречия: верхне- и нижнелужицкое — преподается в школах. Педагогический институт готовит учителей для лужичан. В Бауцене работает Институт этнографии, языковедения и истории АН ГДР. Недавний труд института — четырехтомник по истории лужичан. Примерно раз в пять лет проводятся фестивали национальной культуры...
— Создается и музей,— заметил Марко.— Приглашаю...
Мы вышли на улицу. Город был весь засыпан рождественским снегом. Иные улочки были так узки, что, казалось, высокому и широкоплечему Марко тесно между домов.
Над островерхими черепичными крышами царила вертикаль старинной башни.
— Это Башня Богатых,— сказал Марко.— Построена в конце XV века как завершение Улицы Знатных. Башня много раз горела, перестраивалась, давно, так же, как и городская стена, потеряла свое оборонное значение и осталась теперь как памятник истории...
Марко говорил по-русски. Говорил хорошо, как человек, долгое время живший среди русских. Он и вправду учился в Москве, получил специальность химика, работал неподалеку от Бауцена на химическом предприятии, но потом резко переменил профессию.
— Вы спросите почему? — Марко задумчиво улыбнулся.— Не знаю, сумею ли объяснить... Может, меня подтолкнула к этому наша история. А может... В нашем институте учились ребята самых разных национальностей и из разных стран. Жили мы дружно. Каждый рассказывал о своем народе. Мне кажется, тогда я и понял, где я, лужичанин, могу быть особенно полезен...
Марко на ходу раскланивался со знакомыми, иногда останавливаясь, чтобы перекинуться с ними парой фраз то по-немецки, то по-лужицки. Родной его язык показался мне приятным и мелодичным.
— А вы знаете,— сказал Марко,— было время, когда за нашу речь на городской улице карали смертной казнью. Это было, к примеру, в Дрездене еще в XVIII веке.
Я невольно замедлила шаг, всматриваясь в тесно прижавшиеся друг к другу дома.
...Снег кружил в желтоватом свете зажженных с утра фонарей. Витрины магазинов сияли огнями и елочной мишурой. Дети катались в скверах на санках. Девушки в заячьих полушубках с непокрытыми головами пробегали по улицам. Из дверей кафе вырывался на улицу терпкий запах свежего кофе и недорогих сигар. Таким устоявшимся мирным бытом, праздничным уютом веяло от города, что вся далекая и трагическая история лужичан казалась нереальной. Но она снова обрела вполне конкретный облик, когда в музее я увидела лицо скорбящей женщины — фотографию барельефа, высеченного на памятнике, и фотографию самого памятника, поставленного неподалеку от Бауцена в честь освободителей — воинов 2-го Украинского фронта.

Собственно, музея еще не было, была только выставка, рассказывающая о прошлой и сегодняшней жизни лужичан. «Через несколько лет,— сказала руководитель выставки Ханка Фаскэ,— будет настоящий Музей лужицкой культуры и истории. Сейчас мы заняты поиском и сбором экспонатов, кое-что уже нашли».
Я переходила из зала в зал, рассматривая одежду, богатое рукоделие, посуду, ярко раскрашенные писаницы — они напомнили мне холодное весеннее утро в закарпатском селе Синевир и стоящие в ряд у стен церкви плетеные корзинки с пасхальными яйцами невиданных расцветок...
— Вам, наверное, стоит познакомиться с работами Мерчина Новака,— голос Марко вернул меня в Бауцен.— Это наш знаменитый художник, я бы сказал, наш скрипач...
— Кто-кто? Скрипач?
Марко, не отвечая, предложил:
— Давайте нагрянем в гости к Мерчину, это недалеко, под Бауценом.
За окном уже разлилась вечерняя синева, а наша беседа в мастерской Мерчина Новака еще в самом разгаре. Мерчин тоже говорит по-русски: выучил язык еще в начале 20-х годов.

— Я ведь ровесник века,— тихо роняет художник.
...Он родился в этой сербской деревне, всегда нищей и голодной. Первым, кто заметил и поддержал его талант, был школьный учитель. Потом была учеба в Лейпциге и Дрездене. Мерчин прилежно следовал академическим канонам, но больше рисовал то, что покинул, что помнил по рассказам сородичей: деревенские избы, домовых и гномов, доброго волшебника Крабата. Уже тогда он ясно осознал, что хочет стать художником своего народа и рассказать о нем. В тогдашней Германии это было невозможно. Он уехал учиться сначала в Прагу, потом в Варшаву. В 1929 году Мерчин вернулся на родину. Его решение окрепло: шла борьба за само существование лужичан, их культуры. Художник, публицист, общественный деятель Мерчин Новак включился в эту борьбу. В годы фашизма он был арестован...
К искусству Новак смог вернуться только после войны. Он понимал, что в те годы, чтобы пробудить самосознание своего народа, надо стать просветителем. Мерчин Новак возглавляет газету «Нова доба» — «Новое время», организует общество лужицких художников и скульпторов «Рабочий круг», много ездит по Советскому Союзу и рассказывает о нашей стране лужичанам.
И конечно, снова и снова обращается к фольклору, создавая небольшие по формату и простые по технике исполнения картины, похожие на те,
что любят вешать крестьяне на стенах горниц. Тут была опасность стать «этнографическим» художником, ведь костюмы лужичан, их танцы так живописны...
— Нет,— сказал Мерчин Новак,— я не хотел быть рисовальщиком национальных костюмов. Мне хотелось выразить душу своего народа. Тогда-то я написал книгу «Крабат — добрый лужицкий колдун». Ведь Крабат — неустрашимый, находчивый, веселый, щедрый на выдумку, простой и мудрый — и есть наша душа.
Крабат. Земля лужичан... Единственная книга о лужичанах, которую я читала перед приездом в этот край, была книга Юрия Врезана «Крабат, или Преображение мира». Она начиналась так:
«Как раз в самом центре нашего континента — многие в наших краях ошибочно полагают, что, значит, и в центре мира,— берет свое начало речка Саткула, весело журчащая мимо семи деревень, чтобы сразу же за ними нырнуть в большую реку. Ни океан, ни море ведать не ведают об этой речке, но море было бы другим, не вбери оно в себя и Саткулу.
Все семь деревень в ее долине уютные и опрятные, однако населены не слишком густо,— правда, и люди здесь живут не совсем такие, как везде, да и в мировой истории они не оставили сколько-нибудь заметного следа, хотя история эта не обделила их малыми и большими войнами, грозными битвами, зловонными чумными эпидемиями, великими страхами и столь же великими надеждами; она же и перебрасывала деревеньки из одних господских рук в другие, по случаю чего на каком-нибудь холме на правом или левом берегу речки всякий раз ставились виселицы.
Войны, битвы и чума поросли быльем, господские косточки сгнили в сырой земле, холмы висельников стали обычными пригорками и ничем не отличаются от прочих, так что мировая история и не знала бы о деревеньках на речке Саткуле, когда бы не жил тут Крабат.
Правда, рождение его нигде не отмечено, да и умереть он вряд ли мог...»
Марко Хендрих долго перебирал разложенные на столе картины. Наконец нашел то, что искал, и положил передо мной. Картина называлась «Скрипач и Водяной».
Добродушный Водяной, свесив со скамьи лапки, с улыбкой внимал игре молодого Скрипача. За их спинами голубела река...
— Я вам сказал, что Мерчин — скрипач, помните? — улыбнулся Марко.— У нас очень много сказок про Водяного. Да и как им не быть, когда здесь столько воды, что весной, во время разливов, люди добираются от селения к селению на лодках. Своей игрой Скрипач веселит Водяного, радует нас, жителей этих мест, и заставляет помнить, что мы — лужичане.
Бауцен — Москва
Лидия Чешкова, наш спец. корр.
(обратно)
Аромат Фукуока

У разных местностей свои характерные запахи. Иногда совершенно явно в смеси слагающих их ароматов можно выделить главный: цветущие акации или тополя, обдуваемую сухими ветрами полынь, йод морских водорослей, влажные корабельные канаты, серу от сгоревшего каменного угля, угар выхлопных газов. Чаще человеческое обоняние не в силах разложить по полочкам многочисленные компоненты этой невидимой и неслышимой, но существенной части местного колорита. Я хорошо помню, например, как пахнут Бомбей, Ханой и Вьентьян, но не могу сказать, чем именно.
Фукуок — остров пряностей, похожий на карте на остроконечный стручок красного перца,— имеет резкий специфический запах. Но насчет его состава ни у кого из знакомых с Вьетнамом не возникает сомнений: остров буквально окутан ароматом «ныок мама» — рыбного соуса.
Правда, человек непривычный счел бы за кощунство применить здесь слово «аромат», а подобрал бы другое, не столь изящное. Но когда привычка наконец приходит (а это рано или поздно все же наступает), то уже трудно обойтись без «ныок мама» за национальным вьетнамским столом. Пища без него кажется пресной.
Вьетнамцы, что живут за рубежами своей родины в разных странах мира — от Франции до Австралии, от Новой Каледонии до Канады,— остаются верными своей национальной кухне. И у кого есть возможность, те непременно покупают «ныок мам». А делают его практически только во Вьетнаме (Сходная приправа из рыбы существует во всех странах Юго-Восточной Азии: кхмерский «прахок», бирманский «нгапи», тайский «нампла», но «ныок мам» не умеют делать нигде, кроме Вьетнама. (Прим. ред.)), причем самый качественный и в наибольших количествах в двух местах: в провинции Тхуанхай, северо-восточнее Хошимина, и на Фукуоке. Самый лучший соус — фукуокский.
За обедом в народном комитете среди прочих тем разговора была и кулинарная. Естественно, кто-то из хозяев поинтересовался, успел ли я привыкнуть к вьетнамской пище. Ведь в России, мол, едят хлеб, а во Вьетнаме рис. Я попытался объяснить, что не в этом главная разница и, хотя «хлеб всему голова», обычный обед москвича состоит вовсе не из буханки «Бородинского». Но собеседники, видимо, решили, что я неточно понял вопрос.
По-вьетнамски слово «ан кым» — «есть» в смысле обедать, ужинать и завтракать — всегда употребляется с дополнением «рис». Стол может быть необычайно разнообразен. Но едят прежде всего рис, а все остальное, включая рыбу, мясо, овощи, служит как бы приправой. Богат обед — и приправ побольше. Но никогда их не бывает больше самого риса, а чаще всего они лишь едва обозначены в пиале. Зато пиала полна рассыпчатым белым рисом, сваренным без соли на пару. А вот обед без «ныок мама» — вовсе не обед. Изо всех приложений к рису он — самое главное.
Сначала мне подумалось, что «ныок мам» служит вместо соли.
Отчасти так. Вьетнамский повар почти не пользуется солью — «ныок мам», который подают на стол отдельно, и так соленый.
Этим, однако, достоинства «ныок мама» не исчерпываются. Однажды я на собственном опыте убедился в главном, пожалуй, свойстве соуса.
Машина застряла в горах на разбухшей от обильных тропических дождей дороге. Пришлось изрядно повозиться, чтобы вытолкнуть ее из красной грязевой каши, и я вымок до нитки. Хоть и тропики, но промерз отчаянно. Вечером, прибыв на место, почувствовал сильный озноб. Увидев это, хозяева дома заставили меня выпить целый стакан неразбавленного «ныок мама». Приятного, скажем честно, было мало, но озноб прошел.
Хозяева, бывшие партизаны, рассказывали, что во время войны они часто пользовались этим средством, когда скрывались от вертолетов карателей. Спрятаться и пересидеть можно было только в воде: в зарослях мангров или водяной пальмы, под зеленым покровом листьев лотоса. Четыре-пять часов в воде, даже не очень холодной,— верная простуда. И пиала крутого «ныок мама» помогала выстоять. Такой напиток обязательно принимают ловцы морских раковин, трепангов и лангустов перед работой в море.
Для большинства вьетнамцев соус «ныок мам» — главный источник протеина, и только за ним следуют рыба и мясо. Так что это не только приправа.
...Я вошел в просторный сарай. Узкие лучи солнца прорезали полумрак, пробиваясь через редкие щели в дощатых стенах и крыше. По сравнению с улицей здесь прохладно, но немедленно начинает пощипывать в носу от провяленной, с душком, рыбы.
Сарай — один из цехов фукуокского государственного предприятия по выработке соуса. Когда глаза после резкого внешнего света привыкли к темноте, взгляду открылись десятка два огромных деревянных бочек, стоящих двумя рядами на мощных подставках.
— Емкость бочки для производства «ныок мама» — десять тонн, а на нашем предприятии таких бочек полсотни. В частном секторе и кооперативах — еще около ста,— пояснил пожилой бригадир.
Вся бригада состоит, собственно, из него и помощника: вместе они выполняют работу распорядителя, сторожа и дегустатора. Только на загрузку и очистку бочки собираются несколько человек из разных цехов в этот, главный. В нем и происходит таинство рождения «ныок мама». В других цехах соус оценивают, разливают, придают ему товарный вид.
Одна из длинных стен сарая выходит прямо на бревенчатый причал, уперший ноги-сваи в дно речки. На его настил из шаланд выгружают сырье для соуса: засоленную еще на борту мелкую рыбу. Здесь, на солнцепеке, она лежит недолго, пока для нее не подготовят одну из бочек-гигантов.
— Лучше всего подходит рыба «ком»,— рассказывает бригадир,— но не всегда удается ее достаточно наловить. Поэтому принимаем также «зе» и «тит».
Все три разновидности мало чем отличаются друг от друга и на вид напоминают тюльку.
Загрузка бочки — дело трудоемкое. Сначала ее изнутри отскребывают от всего, что осталось от прежней порции. Потом выстилают чистыми циновками, наполняют рыбой, сверху засыпают крупной солью, кладут еще циновку и придавливают массивной деревянной крышкой весом в добрый центнер. В таком виде оставляют на целый год.
Бочки-великаны, в которых ферментуется будущий соус, и испускают тот самый дурманящий дух, который окутывает поселки Фукуока. Он впитал в себя йод и соль теплого моря, запах рыбы и дерева. За год остров дает стране более пяти миллионов литров самого вкусного «ныок мама». Полтора миллиона идут на экспорт.
Бригадир включил переносную электрическую помпу, и из тонкого пластикового шланга, протянутого из бочки, в столитровый глиняный кувшин потекла тонкая струйка. В луче солнца, проникшем через щель в крыше, она казалась золотистой.
Старик специально выбрал бочку, которая только-только поспела, чтобы дать мне ощутить аромат и вкус «свежака». Это самый ценный «ныок мам». В нем около сорока процентов питательных азотистых веществ. Последующий процесс производства сравним с доливанием кипятка в уже заваренный чай. В бутылках, которые поступают в торговлю, «крепость» соуса не превышает двадцати пяти процентов.
«Ныок мам» — гордость Фукуока, и на обеденном столе он занимает особое место в разных видах и вариациях. Здесь и тот самый «свежак», что при мне наливали из бочки, и чуть желтоватый, и совсем коричневый, и чистый, и разбавленный уксусом с мелко нарезанным жгучим красным перцем и тертой зеленой папайей. Есть и такой, вид которого с непривычки может шокировать: густая масса с полуразложившимися рыбешками. Впрочем, это дело вкуса.
Непосредственно производством рыбного соуса на Фукуоке занимаются полтысячи человек. Да еще две с половиной тысячи островитян выходят в море. Хотя любой морской дар — удача, но все же в этой армии тружеников голубой нивы есть своя специализация. Главная категория рыбаков Фукуока — конечно, ловцы рыбы «ком». Другие раскидывают сети на прочую рыбу.
До освобождения Фукуок добывал ежегодно более двадцати тысяч тонн морепродуктов, а сейчас только пятнадцать. В первые годы революционной власти рыбное хозяйство было вовсе в плачевном состоянии. Почти весь крупный морской флот вместе с его хозяевами ушел за море к чужим берегам. Остров стал последним пристанищем на вьетнамской земле для сорока тысяч преуспевающих сайгонских торгашей, военных и гражданских чинов, плативших любые деньги за место на судне, которое увезет их из Вьетнама.
Восполнить такую потерю флота нелегко. Эту задачу в меру сил выполняет местная судоверфь. Сейчас на острове 760 рыбацких судов, в основном — небольшие, и только половина из них — с моторами. Но, оценивая развитие рыбного хозяйства Фукуока, можно уверенно сказать, что дело идет на поправку.
Мы решили поужинать в маленькой закусочной. Навес из пальмовых листьев пристроен к одноэтажному домику. Зеленоватые и розовые неоновые лампы придают уют и экзотику. Полдесятка столиков с крохотными табуретками, цветы в горшках — вот и все убранство.
Юная хозяйка, стройная и высокая, с густой гривой черных волос и большими миндалевидными глазами, подвела нас к столику в углу. Из мощного блестящего кассетного магнитофона вырывались ритмы «Бони М», соперничая с музыкой из соседних, еще более скромных заведений.
— Здесь особенно вкусно кормят, и не совсем обычно,— сказал Зунг, местный товарищ, беря на себя выбор блюд.— И это заслуга хозяйки. Сумела сохранить реноме фирмы. Она и официантка, и шеф-повар. Отец после освобождения уехал за границу, а девушка осталась. Молодежь приходит сюда, как в гости к старой знакомой.
На столе стояла пиала с непременным «ныок мамом», из стакана торчали пучком чистые палочки для еды. Потом девушка принесла на большом блюде запеченную прямо в чешуе крупную рыбу, тут же на столе разделала ее. Быстро появились тарелки с составными частями гарнира.
Кусочки белого рыбного филе нужно было вместе с тонкими ломтиками ананаса, еще какого-то чуть вяжущего плода, с виду похожего на мелкий банан, душистыми травами и салатовыми листьями заворачивать в «бань чан» — полупрозрачные, тонкие, как бумага, лепешки из рисовой муки и получившийся пирожок окунать в мутный красновато-серый «ныок мам» с полураспавшимися кусочками рыбной мелочи. Сложно, но вкусно, если отбросить всякие европейские предубеждения.
Затем последовали жареные креветки в красном крилевом соусе, тушеное, но все равно упругое, как резина, мясо кобры, а в довершение всего — кипящий сладкий «кулао» — суп с угрями.
«Кулао» на южновьетнамском диалекте значит «остров». Алюминиевый сосуд с горящими углями, который подают на стол, действительно напоминает раскаленный вулканический остров, окруженный кипящим морем, или, более прозаично, наш самовар — только с супом. Чем южнее, тем больше в «кулао» сладости и кислоты. Вместе с капустой и пореем кипят ананасы, куски рыбы, свиного сала и печенки, куриной кожи, креветки, морские гребешки, трепанги...
На десерт хозяйка подала свой фирменный кофе. Такой бывает только у нее — с пахучей травкой. Большинство посетителей, особенно молодых, приходят сюда на чашку кофе. Но и такие гости желанны.
Возвращаясь в гостиницу, мы поднялись на утес со странным сооружением, что сторожит вход в гавань Зыонгдонга. Не то замок, не то пагода называется Зьенкау. У кого я ни спрашивал о времени постройки и первоначальном предназначении этой достопримечательности, никто ничего не знал — немного на Фукуоке старожилов. Скорее всего это «дэн» — храм поклонения Небу или Морю. А может быть, просто место созерцания предзакатного солнца.
С верхнего яруса Зьенкау открывается вид на отходящий ко сну городок, на россыпи рыбацких огоньков в бескрайней морской дали. Остров выглядел мирным и очень красивым, а резкий запах «ныок мама» напоминал, что само название «Фукуок» значит «богатство страны».
Александр Минеев, корр. ТАСС — специально для «Вокруг света»
(обратно)
Десятидневный полет «Вояджера»
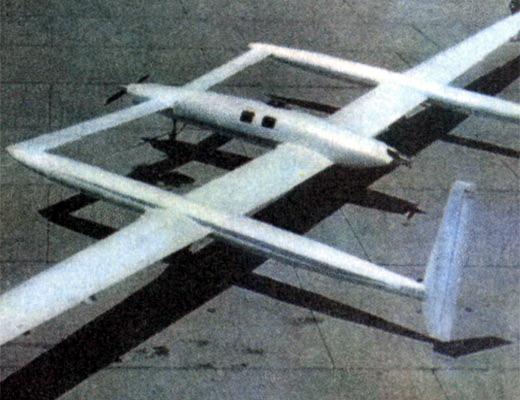
14 декабря 1986 года самолет странной конструкции двинулся, набирая скорость, по взлетно-посадочной полосе аэродрома военно-воздушной базы США Эдвардс, расположенной в калифорнийской пустыне Мохаве. Среди сотен провожавших его людей скептиков было намного больше, чем тех, кто верил в успех предприятия. И ничего удивительного. Самолету предстояло в течение десяти суток (и это в лучшем случае) облететь земной шар без посадки и дозаправки горючим и приземлиться на этом же аэродроме. До сего дня подобный перелет никто даже и не пытался осуществить. Идея полета пришла братьям Берту и Дику Рутанам, жившим в провинциальном городке Мохаве. Свой самолет они назвали «Вояджер», в переводе — «Путешественник».
Дик Рутан овладел техникой пилотирования и совершил свои первые самостоятельные полеты гораздо раньше, чем получил водительские права. Он стал летчиком и прослужил в ВВС США двадцать лет. Уволившись в чине подполковника, Дик Рутан становится ведущим летчиком-испытателем в фирме своего брата в Мохаве. В 1980 году он встретился с Джиной Йигер. А спустя год после их знакомства появилась идея совершить кругосветный перелет, которая, по словам Дика, была настолько притягательной, что «от нее нельзя было отказаться».
Через пять лет напряженной работы и родился необычный, весьма хрупкий на вид и вызывающий улыбку летательный аппарат: своеобразное длинное и узкое крыло-рама размахом в 33 метра, называемое «утиным носом», как бы протыкает веретенообразный фюзеляж, на котором расположены — спереди и сзади — два двигателя. На передней части фюзеляжа крепится еще одно небольшое крыло — для стабилизации. При постройке самолета была применена специальная бумага, пропитанная эпоксидной смолой, и композитные графитоволокнистые материалы. Такой «гибрид» намного легче алюминия, зато в семь раз его прочнее. Но главная особенность «Вояджера» — в его 17 топливных баков можно залить почти 3200 килограммов горючего, когда сам он весит всего лишь 907 килограммов. По признанию Берта Рутана, сконструированный ими самолет — это «летающая бочка с горючим». Но топлива для запланированного полета должно было хватить лишь при условии, что большую часть пути будет работать только один двигатель.
Вести «Вояджер» предстояло экипажу из двух человек: одному из братьев Рутанов — Дику и женщине-пилоту Джине Йигер. К моменту старта экипаж совершил 65 испытательных полетов, во время которых самолет налетал десятки тысяч миль. Уже тогда летчики поняли, что полет значительно затруднит крайне неудобная кабина с одним сиденьем, весьма напоминающая «телефонную будку, лежащую на боку».
И все же воскресным декабрьским днем, после нескольких отсрочек, вызванных неблагоприятной погодой, «Вояджер» взмыл в воздух. При взлете его переполненные топливом крылья несколько раз прогнулись, задев при этом бетонную поверхность взлетно-посадочной полосы и слегка повредив края плоскостей. Описав круг над аэродромом, самолет взял курс к Гавайским островам. Начался первый день кругосветной «одиссеи»...
Полет над Тихим океаном, который на этот раз вполне оправдывал свое название, проходил спокойно. Благоприятные погодные условия и попутный ветер помогали «Вояджеру», и утром 16 декабря он приблизился к Гавайям. Здесь экипажу следовало отключить передний двигатель и лететь далее, максимально используя силу попутного ветра. Но тут поступило предупреждение о надвигающемся тайфуне «Мардж», который и обрушился на самолет у Филиппинских островов. Экипаж решил тогда направить машину... прямо в центр тайфуна, чтобы не тратить время и драгоценное топливо.
Штормовая полоса почти в тысячу километров, сильнейший ветер, достигавший 120 километров в час, вынудили Дика Рутана маневрировать у северной границы шторма. Когда самолет уже прошел сквозь тайфун, вихревые потоки воздуха заставили его развернуться на 180 градусов — некоторое время экипаж был вынужден лететь в обратном направлении...
Ранним утром 18 декабря, пролетая над побережьем Шри-Ланки, пилоты получили сообщение о том, что в борьбе с тайфуном израсходовано слишком много топлива, до цели его может и не хватить. Сам экипаж о количестве горючего в баках не знал, потому что ради уменьшения его веса «Вояджер» не был оснащен соответствующими датчиками. Однако немного позже специалисты произвели более точные расчеты и передали: у самолета есть шансы закончить полет благополучно.
«Как бы то ни было,— заявил в тот момент журналистам в Мохаве один из руководителей полетом — Ли Херрон,— мы ни в коем случае не станем подвергать экипаж опасности, и, если останутся хоть какие-нибудь сомнения в том, что самолет дотянет до калифорнийского побережья, мы заставим летчиков посадить «Вояджер» в безопасном месте».
Рано утром 19 декабря самолет пересек африканское побережье в районе Сомали, и летчики начали готовиться к изнурительной борьбе с суровой африканской стихией. «Вояджер» летел со скоростью самолета времен первой мировой войны — 193 километра в час, но и она была для него максимальной.
Чтобы избежать сильнейших гроз в районе озера Виктория, экипажу пришлось поднять самолет на высоту 6000 метров и надеть кислородные маски. Только оставив позади Заир, он снизился до 4000 метров. Когда же утром следующего дня «Вояджер» пересек береговую линию Габона, завершив полет над Африканским континентом, на помощь ему пришли долгожданные ясная погода и попутный ветер, «разогнав» машину до скорости 265 километров в час. Начался новый этап путешествия — перелет через Атлантику, и «Вояджер» взял курс на самую восточную точку побережья Бразилии, чтобы за 800 километров от нее повернуть на Лос-Анджелес. В это время на борт самолета поступило сообщение о том, что в баках осталось на 500 литров топлива больше, чем предполагалось ранее. Обрадованные этим сообщением летчики позволили себе расслабиться. И были вскоре за это наказаны...
Утром 21 декабря в кабине «Вояджера» внезапно загорелась красная лампочка, указывавшая, что один из двух двигателей сильно нагревается — резко падает давление масла. На Джину и Дика сигнал красной лампочки подействовал как удар. В течение некоторого времени они пребывали буквально в шоке. И все же усилием воли сумели взять себя в руки и попытались выяснить причину неисправности. Ее установили через несколько минут: утомленные борьбой с африканскими грозами, пилоты... забыли долить масло в один из двигателей. Но какого нервного напряжения стоила им эта оплошность! Она могла сорвать не только все предприятие, но и закончиться плачевно для самого экипажа. Джина Йигер и Дик Рутан теперь уже с особым вниманием следили за приборами, жертвуя сном. «Я хочу благополучно долететь до дома и там уже заснуть»,— передал тогда на землю Дик Рутан.
Однако в дальнейшем экипаж поджидала новая неожиданность. И тоже неприятная. Из-за непогоды над побережьем Кубы и в районе Техаса «Вояджеру» предстояло лететь по новому маршруту — вдоль западного побережья Мексики. Но, как вскоре выяснилось, и в этом случае экипаж не миновал сильного встречного ветра, а значит, и увеличения расхода топлива. Скорость самолета упала до 105 километров в час...
До Мохаве осталось совсем немного, когда самолет попал в яростный атмосферный фронт, проходивший над Латинской Америкой. Сколько раз уже вступал «Вояджер» в борьбу с ветрами, которые, как позже скажет Дик, «могли оторвать крылья даже самому мощному «боингу», и пилоты всегда выходили победителями. Но теперь у врачей стало вызывать серьезное беспокойство состояние здоровья членов экипажа.
Постоянное изменение погодных условий, резкие перепады температуры и необходимость часто менять высоту полета не могли не оказать определенного воздействия на психическое состояние людей. «Бывали минуты, когда они переставали передавать информацию на землю или сообщали сбивчивые и не представляющие интереса факты»,— признавался потом Берт Рутан, который за время полета почти не покидал диспетчерскую службу, стараясь всеми силами помочь экипажу.
«Вояджер», преодолевая силу встречного ветра, летел вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки. Вечером 22 декабря он находился в нескольких сотнях километров от Мохаве...
На аэродроме уже готовились к встрече экипажа. Вдоль полосы собралась многотысячная толпа, сотни журналистов готовили фотоаппараты и магнитофоны. В небо поднялись десятки авиаторов-любителей, желавших приветствовать героев в воздухе. Это могло создать серьезную опасность случайного столкновения. Поэтому, рискуя потерять связь с «Вояджером», диспетчерская служба была вынуждена время от времени прекращать переговоры с Диком и Джиной, чтобы их не смогли запеленговать. Но больше всего тревожило другое. «Вояджер» не был оборудован устройством для посадки в ночное время. И если он прилетит в позднее время суток, то ему предстоит кружить над аэродромом до рассвета. Но как раз это он сделать был не в состоянии — горючее могло кончиться в любой момент.
Тем не менее волнения оказались напрасными. Ранним утром 23 декабря, описав круг над взлетно-посадочной полосой, «Вояджер» благополучно совершил посадку. Открылась кабина самолета, в которой пилоты находились в течение почти десяти суток. Обессиленные многодневной болтанкой в воздухе, летчики не могли выбраться из кабины без посторонней помощи. Дик Рутан, приветствуя собравшихся, лишь выбросил шляпу. Карета «Скорой помощи» отвезла пилотов в госпиталь. Самолет, преодолевший расстояние почти в 42 000 километров, отбуксировали в ангар, где и выяснилось, что горючего в его баках осталось, что называется, на донышке.
Итак, первый кругосветный полет самолета без посадки и дозаправки был завершен. Но тут вокруг участников полета начала свою одиссею американская реклама. Незамедлительно со всех сторон стали поступать предложения о книгах, кино- и телефильмах. Компания «Мобил ойл корпорейшн», поставившая для двигателей «Вояджера» новое синтетическое масло, присвоила право использовать изображение самолета на рекламе своей продукции. Дик и Джина летели в своем самолете в специально сшитой для них форме, на которой были фирменные знаки автомобиля марки «Ауди», корпорации «Мобил ойл», «Кинг» и других. Время они сверяли по часам марки «Ролекс». Вовсю идет сейчас распродажа различных сувениров, значков, открыток и футболок с изображением «Вояджера» и его пилотов. Приобрела громкую известность и сама семейная фирма Рутанов — «Вояджер эйркрафт инкорпорейтед», родившаяся пять лет назад одновременно с мечтой о кругосветном перелете.
Но если отбросить элемент сенсационности, без которой немыслимо что-либо значимое в Соединенных Штатах, то, по единодушному мнению специалистов, наибольший интерес представляет сама конструкция «Вояджера», которую, очевидно, можно использовать в качестве превосходного летающего средства для тушения лесных пожаров, надо только залить в большинство баков специальный раствор.
Однако конструкцией «Вояджера» заинтересовался и... Пентагон. Казалось бы, какая связь между самодельным, экспериментальным, хрупким и ненадежным на вид самолетом и военным ведомством Соединенных Штатов? Оказывается, по мнению Пентагона, самолет типа «Вояджер» может быть неуловимым для радаров противника: отключив на время полета двигатели, он превращается в планер, который на низкой высоте практически неуязвим. Как говорится, кому что...
По материалам иностранной печати Максим Кузнецов
(обратно)
Николай Балаев. Солнечные птицы
 Окончание. Начало в № 4.
Окончание. Начало в № 4.
Я бросил взгляд вверх по течению, откуда приплыли рыбы. Там явственно горели два красных огня. Глаза. Кто-то наблюдает за нами.
— Смотри, какие огнята! — прошептал сын.
Огоньки мерцали, и цвет их менялся: на раскаленную угольную красноту секундами наплывала изумрудная зелень. Видно, зверь вертел головой, рассматривая нас под разными углами.
Мы медленно двинулись вперед, стараясь не хрустеть галькой. Огоньки подпустили нас метров на шесть, вокруг них уже стало угадываться темное тело. Еще два-три шага... Но огоньки мгновенными росчерками метнулись в сторону и погасли. Однако чуть позже вспыхнули снова, только дальше.
Мы пошли. И опять, когда до огней оставалось рукой подать, они чиркнули в сторону, и сразу раздался негромкий всплеск. Через минуту мы стояли на берегу широкой ямы. Колыхалась черная с прозеленью вода, к истоку ручья медленно проплыла вереница воздушных пузырьков. Дальше ледяная крыша опускалась вниз и лежала на воде.
— Унырну-уло-о,— разочарованно протянул сын.
— Длинный такой зверек,— сказала жена.— Как горностай, только темный и раза в два больше.
— Такое прыгучее! — восхитился сын.— Вжжи-ик — и нету.
— Все. Пошли назад.
— Жалко, никого не поймали,— сказал сын уже под дырой.— Совсем никакого везения.
— И не надо ловить,— сказала жена.— А то и смотреть будет некого, и кончатся для детей приключения. Вот мы видели кречета...
— Зимнего,— добавил сын.
— Да, Зимнего Кречета... Теперь видели очень интересного зверя... Какого?
— Водяного Красноглазика.
— Вот. Темный, в два раза больше горностая, ловко бегает по суше и прекрасно ныряет. Что за зверь?
— Норка или выдра,— сказал я.— Но выдра гораздо крупнее, а норка подходит. Ее давно выпустили в колымских местах. И на Анадыре. Тут совсем рядом начинаются несколько северных притоков Анадыря... Ну, вылезаем... Надо прикрыть дыру: не залезет никто, а главное — тепло не будет уходить. А лед провалился, потому что торчит тут куполом. Это самая высокая точка, на которой стояла вода осенью. Крепкий лед не успел образоваться. Видите, отсюда во все стороны утолщается. Мороз работал, вода постепенно опадала. Правильно Инайме предупреждал не ходить по льду. Полынью в тумане всегда заметишь, а такие купола над пустотами — трудно. Если идешь один и провалишься, жди беды: почти два метра, камни внизу, а где и яма с водой попадет...
Мы нарезали прутьев, прикрыли отверстие и заложили плитками снега. Пусть изумрудные подледные чертоги спокойно хранят свои тайны. Пусть царит там тепло и покой и обитатели его живут-поживают до появления волшебного ключика, отмыкающего такие царства: весеннего, мокрого и горячего солнечного луча.
В воздухе повисло гудение, унылое и далекое, как отзвук долго блуждавшего в горах эха. Только оно не прерывалось, а звучало на одной органной ноте. Потом в уши полезло тонкое прерывистое пиканье. Один раз, второй. На третий я остановился.
— Что? — спросила жена.
— Ничего не слышишь?
— Гудение. Точно где-то по краешку земли самолет летит.
— Это ветер начинается в горах. А больше ничего?
— Н-не-ет.
— Какое-то тиканье... пиканье... Не пойму.
— Наверное, снег под полозьями,— сказал сын.— Мне тоже чудится.
Мы пошли дальше. Я стал слушать поскрипывание снега под полозьями нарт, под ногами и собачьими лапами. Нет, оно не похоже на померещившееся пиканье. Наверное, тишина играет шутки. Бывает, идешь в зимней тундре, а вокруг тебя шелестят человеческие голоса, смех, вскрики...
— Сейчас бы пельменчиков,— мечтательно сказал сын.
— А?..— Я огляделся, на юго-западе догорал малиновый закат, отблески его текли по темным склонам, чисто и пронзительно глубоко синело над головой холодное небо.— Пельменчиков? Да-а, пожалуй.
Мы выбрали намет под метровым пойменным уступчиком, вкопались в него и поставили палатку. По уступу широко и густо торчали заледенелые руки кустов, и там никто без треска и звона не подойдет, даже самый ловкий зверь.
После ужина сын вдруг удивленно посмотрел на меня:
— А почему вода подо льдом не замерзла?
— Хм. Действительно. Ведь как там ни тепло, а температура минусовая. Ну, в ручье хоть бежит, а на плесе почти неподвижна. Подожди, подожди...
Так ведь Номкэн в переводе — Теплая! Тут, наверное, есть горячие источники. Вот вам и тайна полыней и туманов. И подледных чертогов. Ясно? А теперь давайте спать.
На улице заскулила Шушка. Жена откинула полог.
— Запуталась, бедная. Сейчас выйду... Ой, да вы посмотрите, что творится! Луна-то, луна!
Мы выскочили на улицу.
Луна огромным диском застыла над горами. От ее нижнего края в долину падал широкий желтый столб света. А по бокам висели многоцветные дуги. Каждая состояла из сливающихся на стыках полос. Ближние, фиолетовые, подковами охватывали луну и нижними концами упирались в горы. К ним примыкали яркие красные полосы. Потом следовали оранжевые и желтые. И каждая, чем дальше от луны, тем короче по высоте и шире. Получились цветные треугольники, обращенные вогнутыми основаниями к луне. Из вершин их в стороны, в безмерное пространство, истекали желтые конусы. Призрачный свет наполнил небо и долину, залил горы и снега. Все разбухло в красновато-желтых потоках. Такого мы еще не видели.
— О-ей! — прошептал сын.— Что теперь будет?
— Я могу сказать только одно — еще и погода изменится. Но это уже не колдовство, а деловой прогноз, Великая Наука. Или будет сильный мороз, или ветер...
Мы легли спать, но часа через два прямо-таки подскочили от пропитанного ужасом визга Огурца. На сей раз рычал и Пуфик, толкая меня носом. Я вышел. Над тундрой плыли волчьи голоса. Луна поднялась высоко и уменьшилась, словно отдалилась от Земли. Гало растаяло. Чистые потоки лунного света серебрили темные снега гор, тонули в черных зарослях кустарника. Иди разгляди что-нибудь в них!
Волки разговаривали высоко в горах. Вначале звучал длинный, низкий и могучий голос. По очереди ему отвечали из разных мест голоса пожиже. Некоторые подрагивали, и в них явственно чувствовались вопросы. «Наговорив» две-три минуты, стая умолкала ненадолго. Затем снова раздавался властный и могучий голос. Все это напоминало последнюю перекличку, уточнение заданий перед серьезной работой.

Расстояние до животных по вою определить трудно, особенно в горах. Но Пуфик и Дуремар постепенно успокоились, а голоса вроде бы отдалились. Я вернулся в «дом»...
Утро встретило теплом и серой мглой. Под ней в низовьях долины таяли ночные тени. Оранжевым частоколом горели зубья гор на северо-востоке. Тонкими гаснущими лучиками звезд мерцало чистое небо. Мгла не мешала игре красок. Казалось, смотришь вокруг через чуть запыленное стекло.
— Немного не дошли,— сказала жена.— Вот она, Желтая сопка.
Пологий чистый скат на правом берегу, ведущий к плоской верхушке, начинался метрах в трехстах от ночевки. И под ним, посреди речки Номкэн, тягуче клубился пар. Полынья.
— И увиделась сопка Желтая на краю земли, за туманами.
— Точно. Давайте осмотрим полынью, оставим рядом нарты и слазим вверх, чтобы окончательно убедиться. За Желтой должна быть сопочка с камнем.
— А еще голова с шеей,— напомнил сын.
Против полыньи мы привязали собак и осторожно пошли к воде. Она журчала широкой полосой на мелком перекате. Сквозь светлые волны рябили галечники. Вода медленно выплывала из-под затянутого льдом плеса выше переката, освобожденно отплясывала жадный и веселый танец и вновь возвращалась под ледовые оковы.
В метре от переката лед начал потрескивать.
— Стоп! Ближе нельзя.
Я пошел вокруг полыньи. Перед перекатом, на плесе, лед был гораздо толще. Можно стоять на самом краю.
Цветные стайки рыб появлялись прямо из-под ног и вновь исчезали. Я понаблюдал красочные брызги, потом пошел дальше и увидел окурок «Беломора». За ним торчали вмороженная в лед тряпка, заледенелые обрывки газеты, валялось еще множество окурков, рваный полиэтиленовый пакет, горелые спички. Среди этой грязи с десяток уже замерзших лунок. В сторону, в снежный береговой нанос, уходила утоптанная, присыпанная ночной порошей тропинка. Я пошел по ней и в ста метрах от берега, среди кустов, увидел брошенную стоянку. Рубчатые тракторные следы перекрывались гладкими колеями от полозьев балка, кругом петляли насечки буранных гусениц. На месте стоянки балка кучка угольной золы, цветной ворох стреляных папковых гильз, консервные банки, бочка из-под соляры, жирные пятна мазута. Кустарник в радиусе тридцати метров выломан и втоптан в снег. След трактора с балком приходил на «созданную» поляну с низовьев речки Номкэн и рядом, в десятке метров, уходил обратно. Две рваные раны. Неужели не могли хоть уехать-то по своему следу? Растает снег, исчезнут отпечатки траков, но прогалы в кустах так и останутся. Ольховник очень хрупок, особенно зимой. На морозе он вообще не гнется, а ломается при легком нажиме. Поэтому природа и укрывает его очень заботливо снежными одеялами...
Типичное стойбище людей, что не удовлетворяются высокими северными заработками, а еще и торгуют по приискам награбленными «дарами» природы. Варвары. Вода, мороз и ветер сразу уцепятся за эти прогалы и года через два сдерут покрытие из лишайников и травы, проточат канавы, потом овраги...
Раньше, когда было много птицы и зайцев, охотники разбредались в стороны от балка, облюбовывали укромные местечки, сооружали шалашики-скрадки, где и сидели, подманивая или просто ожидая наскока зверя и птицы. На месте таких скрадков оставались сухая подстилка да несколько, в зависимости от удачи, стреляных гильз.
Теперь, когда птицы и зайцев практически не стало, изменилось и поведение охотника. Чего без толку мерзнуть в скрадке или шастать по пустым кустам? Будем получать удовольствие, не отходя далеко от теплого механизированного закутка с накрытым столом. Прекрасный сервис, бесплатно получаемый за счет государства, его техники и горючего.
Опорожнив посуду, вооруженная пятизарядками компания выставляет ее на кочку или как вот тут: вешает на ветки кустарника и открывает огонь прямо с порога. Поэтому и гильзы остаются не по скрадкам, а большой общей кучей на месте стоянки балка. А летом на стекляшку наступит олень и получит страшную болезнь — копытку. И погибнет от истощения с первыми снегами. Да разве только олень...
Значит, те огни, что мы заметили в первый вечер экспедиции, принадлежали побывавшей и здесь компании добытчиков. Да, много их бродит по Чукотке, все дальше и дальше лезут в глубины гор и везде оставляют вот такие стойбища, «почище» первобытных. Добрались и сюда, а потом уже к оленеводам...
Пуфик весело бежал впереди, а мы шагали следом по крепкому насту на скате сопки Желтой. В нескольких местах я пытался пробить его прикладом карабина, но безуспешно. Поработали осенние пурги и туманы на совесть, и наст был в том состоянии, когда берут его только топор да ножовка. Пожалуй, можно оставить лыжи, по такому снегу легче в валенках...
Неожиданно сын остановился:
— Смотрите, как Пуфик уши вытаращил!
Пес застыл в напряженной позе, поджав переднюю лапу и вытянувшись в сторону горной гряды справа. А его шелковые болоночные уши стояли торчком! Только кончики чуть загибались. Это было невиданное зрелище!
— Вон, вон! — замахала жена рукой в сторону сопки, на которую нацелился Пуфик. Там, высоко, почти под самой верхушкой, по крутому склону бежали звери. Много, больше десятка.
— Олени-дикари? — подумал я вслух и машинально просчитал: —...Восемь... двенадцать... пятнадцать.
— Они же все белые,— возразила жена.— Не олени, не олени!
— Бараны! Снежные бараны!
— Рога прямо колечками! — оторвавшись от бинокля, подтвердил сын.— В нашу сторону скачут. Людей, что ли, не видели?
Да, по склону бежало стадо снежных баранов. Впереди крупный вожак, за ним плотной цепочкой, насколько позволяла тропа, самки с детьми, а далеко сзади еще один большущий баран, крупнее вожака, только с опавшими боками, тощий, с какой-то раздерганной шерстью. Старик, кажется. Да, судя по огромным рогам — бывший вожак. Изгнан молодым, более сильным, однако держится у стада. Знает, что один погибнет сразу. Дикий мир жесток к одиночкам.
— Там кто-то еще,— сказал сын.— Вон у края осыпи.
Я перевел взгляд и увидел, что следом за баранами по тропе бегут два светло-серых зверя.
— Волки!
— Ой, что теперь будет? — заволновалась жена.
Левее нитка тропы вновь уходила за склон, как бусы на шее сопки. Там она наверняка опускается в ложбину и тянется на соседнюю сопку.
— Ничего страшного, уйдут,— успокоил я.— Снежного барана на родной тропе никто не догонит. Силенок у серых маловато. Даже заднего, старого, не дос...
Я осекся. Впереди, там, где тропа, сделав петлю, вновь исчезала за скатом, возникло четыре серых тени...
Сколько я наблюдал волков, они никогда не выходят откуда-то, из-за чего-то. Они возникают сразу, даже посреди совершенно голого места, далеко от всевозможных укрытий. Провел взглядом — пусто. Тут же возвращаешься — вот он! Как-то прорисовываются, наподобие фотографии в проявителе, только резко, враз.

И эти четыре перед нашими взорами и стадом явились неожиданно, сделали несколько прыжков навстречу и застыли, высоко подняв головы. Впереди один явно крупнее остальных.
— Засада,— объявил сын.
— Вот о чем они спевались ночью,— догадалась жена.— Не могу смотреть...
— Уйдут, уйдут,— говорил я, но сомнение уже закрадывалось в сердце. Умный маневр, ничего не скажешь. Теперь баранам надо бы только вверх, через макушку сопки. Должны все же уйти: бараны бегают хорошо.
Я перевел взгляд выше и увидел на одной из террас, прямо над стадом, еще два серо-белых силуэта. Эти звери явно не торопились, стояли спокойно на месте и наблюдали. Видно, видели, что дело сделано, и ждали сигнала к последней атаке. Да, теперь ясно: обложили по всем правилам. Стаду деться некуда.
Вожак стада, увидев врагов, перерезавших тропу впереди, рванулся вверх, к вершине, как я и предполагал. И тогда те двое на террасе подпрыгнули, как на пружинах, и напряглись: наступало их время. Однако вожак заметил мимолетное движение и обнаружил новую засаду. На четвертом прыжке он остановился. Замерло за его спиной стадо. Вожак был полон сил, но в такие передряги, видно, еще не попадал. Стадо оказалось в окружении. Теперь отступать можно было только вниз по склону, за тропу, где начиналась седловина на соседнюю сопку. Однако весенние и летние воды источили ее глубокими трещинами, и седловина напоминала гребешок с тупыми широкими зубьями, направленными вверх. Щели были разной ширины, но не менее трех метров. По краям их висели снежные наддувы. А дальняя, перед чистым склоном соседней сопки, вообще зияла провалом шириной метров в шесть-семь. Да еще противоположный край чуть не на метр выше. Вожак, видно, хорошо знал обстановку на нижней седловине и не думал туда соваться.
— Ух ты-ы! Волчок-то какой большо-о-ой,— протянул сын.— Это, наверное, тот, длиннолапый? Главный вождь?
Волк, бежавший справа, по следу баранов, действительно был огромен. Сухие длинные лапы, как стальные пружины, легко несли могучее тело. Да, только такому и быть вожаком. Чуть сзади волчица, тоже огромная. Слева от стада, в первой засаде, наверное, их дети, из летнего выводка. Вернее, трое из летнего, а четвертый, побольше — сеголеток. Руководит молодняком по заданию родителей. Вот так происходит натаска. Те двое, на террасе вверху, тоже довольно крупные. Скорее всего молодая семья, примкнувшая к стае этой ночью. Может, приглашена на облаву, может — на всю зиму...
Длиннолапый увидел, как стадо метнулось вверх и, натолкнувшись на вторую засаду, растерянно сбилось в кучу. Волк остановился, оценивая обстановку. На тропе оставался один крупный, бежавший сзади стада, старый баран. Теперь он тоже остановился. Бока тяжело ходят, голова дергается. Длиннолапый весело задрал губы, обнажая клыки. Э-э-э, да ты и вправду совсем старый и уже не в состоянии бегать с той скоростью, которая дает право на жизнь в горах Энымченкыльин, Глухих. А все пытаешься угнаться за стадом. Ты совсем потерял гордость от старости и прыгаешь по следу молодых. А может быть, надеешься таким образом получить вторую молодость? Но так не бывает, Старик. Достигнув преклонных лет, надо смириться, гордо уйти в самые дикие и дальние дебри гор и там в одиночестве встретить неизбежное. А ты испугался конца жизни и потому сейчас выглядишь смешно и глупо, трясясь вслед за давно ушедшей молодостью. Ты обрекаешь себя на позор, но я помогу избежать такой участи. И потом — победитель должен быть великодушным. Коснусь твоего горла не сам: я сильный, а ты беспомощен... Это сделает мой младший сын.
Длиннолапый громко и коротко рыкнул. Сеголеток вздернул морду, взвыл и, пропустив вперед молодых волков, длинными прыжками понесся к старому барану. Теперь пришел час Длиннолапого. Надо рассыпать стадо. Оно уже в растерянности, уже не ощущает себя единым, сплоченным организмом. В нем почти убиты воля и целеустремленность, каждый видит себя одиночкой перед бедой, а из этого рождается чувство беззащитности, обреченности. Осталось посеять ужас, и обезумевшие животные совершенно забудут, что тоже сильны, хорошо вооружены и могут защищаться. Тогда клыки молодежи и его собственные довершат разгром стада, и торжествующие кличи наконец-то возвестят о великой долгожданной победе и великом пиршестве в Глухих горах.
Длиннолапый издал торжествующий вопль, призывая сидевшую наверху семью к последнему бою со стадом, и рванулся вперед.
А Старик действительно устал. Давно уже ему не приходилось бегать так много. Волки вышли на след стада еще ночью, когда на небе ярко горели звезды, а рассвет лишь чуть угадывался мерцающей зеленой полоской. Уходя от стаи, молодой вожак делал все правильно и только в последний момент допустил ошибку: не надо было идти на эту сопку. Тропа вокруг сопки похожа на кольцо — слишком близко сходятся бока ее дуги на той стороне, и только совсем глупый зверь не догадается в конце концов устроить на ней засаду. А Длиннолапый неглуп. Этой ночью он дважды выставлял засады на разветвлениях тропы, стараясь загнать стадо на этот склон. И вот добился успеха. Теперь у стада один путь — на зубья седловины.
За спиной завыл Длиннолапый. Старик увидел, как навстречу ему бросились молодые волки. Дальше времени на раздумье не было.
Старик прыгнул к стаду. Откинув огромные рога на спину, он прошил его и даже не оглянулся на соплеменников. Старик знал, что произойдет за спиной, и через секунду услышал: по твердому насту застучали копыта. Вначале разрозненно и нерешительно, потом громче, плотней. Наконец удары слились в тугой дробный топот. Стадо шло следом!
Плавной дугой Старик провел соплеменников через тропу и дальше, вниз, к веренице расщелин. Первую он одолел легко, услышал, как сзади четко застучали копыта, и увидел боковым зрением молодого вожака. Несколько мгновений тот бежал рядом, плечо в плечо. Они вместе перемахнули вторую промоину, и тогда, словно набравшись сил у старого вожака, молодой вновь обрел уверенность и легко пошел вперед. Потом Старика стали обгонять самки и его дети. Они без особого напряжения перемахнули очередную щель, и Старик увидел, что вновь оказался один, и вновь — сзади. Но он не чувствовал сожаления или горечи: стадо спасено!
Бараны, словно диковинные птицы, распластавшись, летят через самую широкую и последнюю пропасть. Два молодых барана, стукнувшись о наст коленями, упали на край наддува, но сумели встать, короткими рывками продвинуться вперед и умчаться вместе с ожидавшими их матерями. Только искристое облачко снежной пыли повисло над пропастью.
Все!
Молодой вожак, конечно, понял, как опасна эта сопка, и больше не приведет сюда соплеменников. Ну а если случится такое — выход теперь известен.
Старик бросил назад торжествующий взгляд, прибавил скорость и взвился в воздух...
— Ужас, ужас...— Жена оборвала шепот и затрясла головой: — Какое жуткое и вели... Ой, да нет... Нет таких слов...
— Вот как надо сражаться за своих.
— А разве он сражался? Он перехитрил.— Сын посмотрел прямо мне в глаза.
— А ты думаешь, сражаться — значит рубить саблей и стрелять? Но есть такое понятие — «битва умов». Это сказано о военной хитрости. Все великие сражения выигрывались умом...
Мы снова глянули вверх, но Длиннолапый исчез. Волки исчезают, как и появляются: из ниоткуда в никуда.
С вершины долина открылась далеко вверх и вниз по течению речки Номкэн. К Желтой действительно тесно примыкали две сопочки.
— Вон голова с шеей! — показал сын на левую, что была ближе к реке.— Правда, похожа на Вожака?
— Очень,— сказала жена.
Я вгляделся в обрывы, добавил капельку фантазии и тоже увидел высеченное природой лицо дикого зверя. Оно было чуть вздернуто вверх, а над обрывами уже текли струи поземки, и казалось, Катэпальгын летит над долиной в последнем прыжке.
— Вот и памятник,— сказал я.
Третья сопка, самая низкая, была увенчана огромным валуном, принесенным, наверное, древними ледниками.
Жена включила рацию, и среди треска и писка мы услышали далекий голос радиста центральной усадьбы. Он звал нас и повторял: «...если слышите: ваше сообщение вчера передал районному инспектору...»
— Что и требовалось доказать! — сказал я.
— Теперь этот трактор с дикарями поймают. Правда? — сказал сын.
— Конечно. С вертолета по зимней колее, как по цепи доберутся.
Спрятав рацию, мы пошли вниз.
— Какой кругом дым! — сказала жена.— И слышите, что творится в горах?
С вершин, чуть видных за мутной пеленой, по серым склонам текли вниз широкие белые шлейфы. Они рушились к подножиям гряд, и там образовалась белая непроницаемая стена. Из нее рядами выходили высокие стройные смерчи, шествовали в долину и опадали, но каждый продвигался на несколько шагов дальше.
— К нам шествует Ее Величество Пурга,— сказал я. В горах висел низкий однотонный звук, его часто перекрывали всхлипы, пронзительные визги, стоны.
— Горы стали как живые,— встревоженно сказал сын.
Мы пришли к нартам и стали рыть укрытие под обрывистым берегом. По кустам уже шарил ветер. Жена достала пакет и пошла собрать подмерзшую рыбу.
И тут мы услышали:
— Пи... Пи... Пи...
— Ой! — испугалась жена.
Я оглянулся. Она смотрела вверх. Над нашими головами порхала птица. Несколько частых взмахов, крылышки сложены, полет по кривой вниз, снова взмахи и вверх, снова полет вниз.
— Пи... Пи... Пи...— раздалось в кустах за палаткой, и оттуда серыми комочками порхнули вверх еще две птахи.
— Солнечные птицы! — хрипло прошептал сын.
Птахи своим волнообразным полетом сделали над нами несколько кругов, порхнули через речку и растаяли в быстро густевшей мгле. Но пока они кружились и позже, и когда уже растворились, мы все слышали:
— Пи... Пи... Пи...
Наконец голоса умолкли, почему-то стало жутко в наступившей тишине, и я опустился на снег. Тихо, не говоря ни слова, стояли и смотрели вслед растаявшим крохотным созданиям жена и сын. Мы слушали таинственные рассказы, собирались в путешествие, но в глубине сознания не верили до конца в то, что нам выпадет удел самим найти, увидеть живых Кайпчекальгын. И вот они своим неожиданным появлением убили все сомнения.
Прилетели и словно прокричали с багрового, в желтых пятнах предпурговой сыпи, неба:
— Да, мы живем здесь, в нашей Нутэнут! Да, мы очень любим солнце, а сегодня тепло, и мы вышли повидаться с ним и спели прощальный гимн, потому что скоро оно исчезнет!
Может, языки наши поразил шок открытия? Говорят же в народе — онемел от удивления или от страха. Молча мы поставили палатку, молча привязали ближе и накормили собак, забрались в дом и разожгли примус.
Пока жена готовила ужин, я лег, слушал шипение примуса, шорохи снега.
— А ты чего испугался? — шепотом спросил сын.
— А ты?
— Не зна-а-аю.
— Вот и я тоже.
Он помолчал, потом задумчиво, уже громче, протянул:
— Наве-е-е-ерно-ое, никто не пове-е-ерит...
Жена услышала и сказала:
— Да-а уж...
И тогда я понял, почему стало жутко: нас потрясла ответственность за увиденное. Время предположений, полумифических рассказов, диспутов на тему «есть или нет» кончилось. Наступило время точного факта: в декабре в одной из долин мы увидели трех птах, о которых годами ходят упорные слухи, что они зимуют, не улетая и даже не откочевывая к югу, и большую часть времени проводят в спячке. Значит, надо сообщить орнитологам, надо привести их сюда. В общем, брать на себя ответственность за судьбу открытия. Ну, наверное, слишком громко — открытия? Тогда так — за судьбу необычного явления, не зарегистрированного в научной литературе, которое мы наблюдали. За право на жизнь крохотного колечка в безмерной цепи живого... Гм... Колечко сие пока только в нашем кармане, если подумать образно. Его еще надо вставить в официальную научную цепь, надеть, так сказать, на пальчик науки. Предстоит, судя по многим читаным описаниям, кропотливое и нервное занятие, попытки доказать, что «она вертится...». Но мы-то птиц видели и посему для собственной моральной поддержки можем твердо воскликнуть: «И все-таки она вертится!»
По крепкому верху палатки ударил ветер, завизжал растираемый в пыль снег.
— А прогноз-то? — вспомнил я.— То-то. Это, братцы, не ворожба. Прогноз — наука точная.
— Но и колдовство у мамики тоже получилось,— весело сказал сын.— Мы испытали ужасные приключения: видели Великую Охоту Могучей Стаи...
— И Великую Жертву,— добавила жена.
— Да. И Водяного Красноглазика, и Зимнего Кречета,— продолжал сын. Но тут он остановился и все же понизил голос, когда произнес: — И Солнечных Птиц...— Он замолчал, а потом мечтательно добавил: — Хорошая страна. Тут, наверное, еще есть всякие тайны.
— Да весь белый свет сделан из сплошных тайн,— кивнула жена.
— Очень хороший этот белый свет,— сказал сын.
(обратно)
Великая австралийская гонка

— Комната Бёрка? — переспросил нас владелец гостиницы.— Пожалуйста, десятый номер.
Вытащив увесистую связку ключей, он открыл дверь с бронзовой десяткой. В номере жил постоялец. Будь это музей, лежавшие вещи вполне можно было принять за пожитки Берка— сапоги, одеяло, саквояж, походный котелок.
— С 1860 года здесь работал мой прадед,— сказал владелец гостиницы Ричард Мейден.— Здесь и ночевал Бёрк со своими людьми.
Для Ричарда это был не исторический эпизод, а событие вчерашнего, ну от силы позавчерашнего дня. Подобная реакция характерна для жителей страны, чья история небогата эпизодами подобного масштаба. Повторив с оператором маршрут Берка от Мельбурна до залива Карпентария, мы убедились, что память об этой эпопее жива в самых удаленных уголках материка. Случайные собеседники выкладывали нам подробности хода экспедиции более чем вековой давности так, словно следили за ней неделю назад по телевизору. Поход Берка, о котором мало кто слышал за пределами Австралии, был исполнен для них особого смысла...
К середине XIX столетия поселенцы освоили лишь побережье континента. Центральная часть Австралии величиной с пол-Европы оставалась неведомой землей, получившей наименование «Зловещее пятно». Смельчаки, отваживавшиеся ходить на разведку, возвращались ни с чем: в центр материка пробиться не удавалось. Лежавшая там красная пустыня обманывала миражами и заводила в ловушки.
Парадоксальным образом именно зной и отсутствие воды породили в воображении колонистов убеждение в том, что в центре континента лежит... «Средиземное море». Напрасно серьезные географы доказывали бесплодность этой гипотезы — легенда о внутреннем море (как и легенда об Эльдорадо) не отпускала умы.
Проверить легенду решил один из самых ярких исследователей Чарлз Стёрт. 10 августа 1844 года его экспедиция в составе 16 человек выступила в путь. Картографом в группе был молодой офицер шотландец Джон Стюарт.
«Центральные области Австралии непредсказуемы. В год здесь может выпасть с равным успехом и семьдесят пять, и семь с половиной сантиметров осадков»,— писал один из географов. Стерт и его спутники не могли знать, что тот год выдастся особенно засушливым. К концу декабря они добрались до вожделенной 29-й параллели и не нашли там моря. Земля на сотни миль вокруг высохла; Стерт оказался прикован к единственному колодцу на полгода.
Особенно тягостной была невозможность вести дневник: грифели выпадали из растрескавшихся карандашей.
Наконец 12 июля 1 845 года пошел дождь. Стерт отправил всех назад, в Аделаиду, а сам со Стюартом двинулся дальше на север, взяв провизии на 1 5 недель. Они поехали верхом вдоль крика — так называют в Австралии периодически пересыхающие реки. На берегу его Стерт обнаружил становище аборигенов.
За полвека, прошедшие с начала европейской колонизации, судьба чернокожих жителей континента фактически была уже решена. Их племена, вытесненные из районов, пригодных для оседлого существования, бродили теперь по «Зловещему пятну». Им приходилось пересекать огромные расстояния в поисках пищи и воды. Доскональное знание пустыни позволило им выжить, но голод и болезни безжалостно делали свое дело.
Белые поселенцы в подавляющем большинстве относились к аборигенам неприязненно. Ходили слухи один страшней другого об их
кровожадности и жестокости. Барьер ненависти разъединил две общины и чем дальше, тем становился непреодолимей.
Стерт не верил россказням. Положив наземь ружье, он пошел к чернокожим охотникам с дружески протянутой рукой. «Этим людям в такой же мере, как и нам, свойственны все человеческие чувства»,— записал он. Мысль по тогдашним временам отнюдь не столь очевидная, как сегодня.
Аборигены указали ему путь к «большой воде». Путешественник и его молодой спутник прошли 120 миль в указанном направлении... и уткнулись в болота.
Оставив чернокожим кочевникам свою шинель и два одеяла, Стерт двинулся назад. Этот отрезок пути был самым тяжким. Поднялся горячий ветер. Ртуть на термометре подскочила в полдень до высшей отметки, и прибор, не выдержав, лопнул.
В январе 1846 года экспедиция возвратилась наконец в Аделаиду. Увидев Стерта на пороге дома, жена упала в обморок, настолько он изменился за время похода.
Продлившаяся без малого полтора года экспедиция Стерта дала обильные плоды. Хотя землепроходцы не обнаружили внутреннего моря, отрицательный результат — тоже результат. Стерт и картограф Стюарт нанесли на карту немало объектов «Зловещего пятна», доставили больше сотни образцов растений и геологических пород. Впоследствии на основе этой коллекции в центре Австралии были открыты рудные месторождения. Перечитывая сейчас его записи, удивляешься точности характеристик и наблюдений.
В качестве главы экспедиции Стерт заслуживает особой похвалы. За все время похода в его группе не возникло разногласий; система базовых лагерей и мелких разведывательных партий полностью оправдала себя. Поскольку сохранить мясо при такой жаре было нельзя, он взял с собой в виде «живого запаса» отару овец. Вдоль маршрута Стерт оставлял записки в бутылках, зарытых в местах, отмеченных опознавательным знаком; это тоже было новшеством.
«Терра инкогнита» была отодвинута за 25° южной широты.
50-е годы прошлого столетия ознаменовались для Австралии двумя событиями. Королева Виктория дала согласие на создание новой колонии, которая должна была носить ее имя. Столицей Виктории стал приморский поселок Мельбурн. Вторым событием — открытие золотых россыпей.
В любом месте земного шара «золотая лихорадка» приводила к коллективному помешательству. Но в захолустном Мельбурне люди буквально потеряли голову. Лавочники, банковские клерки и почтовые служащие, в одночасье бросив работу, ринулись добывать золото. Заходившие в Мельбурн суда мгновенно лишились экипажей — матросы, сойдя на берег, становились старателями. «В иных кварталах не осталось ни единого мужчины, а всеми делами правят женщины»,— докладывал губернатор. На приисках не умолкала стрельба, разбойники устраивали засады на дорогах.

За десять лет бума Виктория, будучи самой маленькой колонией на материке, по богатству и влиянию далеко обошла все остальные. Она обеспечивала треть мировой добычи золота, пятую часть английского импорта шерсти. Мельбурн стал играть главную роль в жизни Австралии. Здесь были открыты театр, университет, библиотека, музей, выходило несколько газет.
Единственное, что не удалось сделать, это «приручить» землю: там, на севере, по-прежнему зияло «Зловещее пятно»...
Между тем разведать центр континента диктовала настоятельная необходимость. Сообщения из Лондона доходили до австралийского юга с опозданием в два месяца, хотя телеграф уже дотянули до Индии и он вот-вот должен был достичь Явы. Если бы удалось проложить через Австралийский континент проволочную линию, связь с Лондоном заняла бы несколько часов. Кроме того, открылась бы возможность наладить через порты северного побережья торговые связи со странами Азии. Наконец, сама земля, нетронутая и неразведанная, манила скотоводов, купцов и предпринимателей...
Отцы Мельбурна образовали комитет по снаряжению экспедиции «в видах пересечения Австралийского континента», были собраны средства в размере 9 тысяч фунтов стерлингов. Газеты известили о том, что кандидатов, желающих принять участие в походе, просят подавать заявления. Таковых набралось довольно много.
Прежде всего предстояло утвердить главу экспедиции. Ученые Королевского общества предложили несколько кандидатур опытных исследователей. Комитет отверг их, поскольку они были жителями соседних колоний, а возглавить исторический поход непременно должен был викторианец. В конечном счете десятью голосами против пяти руководителем экспедиции был утвержден Роберт О"Хара Берк.
Выбор уже тогда многие сочли по меньшей мере странным. Берк не участвовал ни в одном долгом походе и не имел научной подготовки. По отзывам современников, он сочетал в себе типичные ирландские черты — прямоту и отвагу с мнительностью и мечтательностью. Переехав в Австралию, он быстро достиг поста начальника полицейского управления на золотых приисках Виктории и твердой рукой навел там порядок. Это, очевидно, произвело большое впечатление на губернатора. Ко времени начала экспедиции Берку исполнилось 39 лет.
Заместителем Берка был утвержден Джордж Ленделлс. Ему комитет поручил весьма важную миссию: отправиться в Индию и доставить оттуда верблюдов. Поскольку двигаться предполагалось через пустыню, им отводилась роль основного транспортного средства. Ленделлс вернулся с тремя десятками «кораблей пустыни»; из Индии с ним приехал молодой ирландец Джон Кинг, загоревшийся идеей похода. Вести верблюдов должны были двое сипаев Белуджи и Мохамед.
Картографом и штурманом похода стал молодой сотрудник Мельбурнской обсерватории Уильям Уиллс. Это был не по годам серьезный человек. Его заметки и карты легко читаются и сейчас. Трудно поверить, что они сделаны в полевых условиях.
Из семисот кандидатов были отобраны остальные члены походной группы. Одному из них — Уильяму Браге — было суждено сыграть особую роль в судьбе экспедиции.
20 августа 1860 года весь Мельбурн вышел проводить в дальний поход Берка и его спутников. Экспедиция, расположившаяся в Ройял-парке, походила куда больше на бродячий цирк: 23 лошади, 25 верблюдов, несметное количество багажа и снаряжения; в общей сложности груз составил 21 тонну.
Вещей оказалось слишком много.
Вскоре это понял и Берк. 6 сентября, пройдя сотню миль до поселка Суон-Хилл, он решил избавиться от ненужного груза и устроил аукцион.
На следующем отрезке пути возникли трудности. Судя по акварелям ботаника Беккера, экспедиция разделилась на две колонны: верблюдов отделили от лошадей, поскольку животные не уживались друг с другом. Среди людей тоже накалялись страсти. Ленделлс и Берк беспрерывно скандалили. С каждым днем росли непредвиденные расходы. Когда партия добралась до Балраналда, в ней царил полный хаос.
160 миль от Балраналда до Менинди лошади и верблюды с трудом плелись по заболоченной местности. Погода испортилась: начались грозовые ливни. Экспедиция приближалась к границе «Зловещего пятна».
Однажды утром сипай Белуджи разбудил лагерь криками: «Верблюды пропали!» На поиски животных ушло пять дней.
Психологический климат в группе продолжал ухудшаться. Кроме того, прибывший гонец сообщил, что из Аделаиды, столицы колонии Южная Австралия, выступила в поход группа под началом Джона Стюарта. Опытный путешественник намеревался достичь северного побережья, двигаясь по маршруту, проложенному его учителем Стертом.
Два параллельных похода вызвали у публики большое волнение. Люди заключали пари, кто первым достигнет цели. Газеты окрестили экспедиции «Великой Австралийской гонкой».
Берк решает разделить экспедицию и во главе группы из восьми человек с 16 верблюдами и 15 лошадьми двинуться вперед. Остальным предстояло разбить возле Менинди лагерь, дождаться подвод с продовольствием, а затем нагонять ушедших.
План вызывал немало возражений: Берк намеревался идти без врача, без ученых (помимо Уиллса), с малым запасом провианта. Правда, он надеялся, что арьергард подтянется к Куперс-Крику до того, как передовой отряд двинется к океану.
Куперс-Крик появляется только после летних дождей; водная артерия растягивается тогда почти на целые полторы тысячи миль и достигает озера Эйр. В сухой сезон Куперс-Крик уходит под землю, оставляя на поверхности лишь прерывистый след, окаймленный величавыми эвкалиптами.
11 ноября передовой отряд Берка добрался до одной из проток. Их приветствовали радостными воплями сотни птиц. Деревья протягивали ветви над стеклянной поверхностью воды. Место показалось замечательным, и путешественники разбили здесь лагерь 65.
Все попытки Берка пробиться отсюда дальше на север терпели неудачу. Видя, как уходит впустую драгоценное время, он принимает решение вновь разделить группу. В поход через оставшуюся половину континента он двинется с Уиллсом, Кингом и Греем.
Руководителем оставшейся группы был назначен Уильям Браге. Ему предстояло обосноваться на крохотной базе, соорудить вокруг нее укрепление и ждать возвращения Берка.
Ждать, но сколько?
Позднее Браге не раз придется вспоминать свой последний разговор с Берком. Начальник экспедиции велел ему ждать три месяца или пока не иссякнут запасы продовольствия, а затем идти назад к Менинди. При этом Берк был уверен, что через несколько дней тыловая колонна во главе с Райтом подтянется к Куперс-Крику и лагерь 65 превратится в крепкую базу.
На рассвете 16 декабря Берк с тремя спутниками ушел на север. Полевой журнал вел Уиллс. Каждый вечер он делал записи и перед сном зачитывал их руководителю. Благодаря им мы имеем точное представление о маршруте. В случаях, когда не удавалось узнать местных названий водоемов и возвышенностей, путешественники нарекали их в честь участников экспедиции; так появились на карте Браге-Крик и Райт-Крик, гора Кинг и так далее (названия эти давно исчезли, за минувшее столетие их переименовывали не один раз).
Оказавшись вместе в нелегких условиях, четверо людей составили сплоченную группу, где каждый был на своем месте. Перед ними лежал немалый путь: 1500 миль до залива и обратно до Куперс-Крика. Основную часть маршрута предстояло пройти пешком, поскольку лошадей и верблюдов до предела загрузили водой и провизией. Как правило, Берк и Уиллс шли впереди, держа направление по стрелке карманного компаса, за ними шагал Грей, ведя в поводу коня Билли, а замыкал колонну Кинг с шестью верблюдами.
Механическая монотонность изнурительного марша Берка и его спутников просто не укладывается в сознании человека XX века: час за часом, миля за милей одна и та же неохватная равнина, где глаз каждый раз упирается в пустоту, и так— изо дня в день. В подобных условиях мир сужается, человек как завороженный смотрит на носки собственных сапог, мелькающие, словно стрелка маятника, однообразный ритм притупляет все чувства, даже усталость.
Упорство, с которым эти люди шли к цели, их умение справляться с тысячами больших и малых препятствий поистине вызывают восхищение. Маршрут не был начерчен на карте, приходилось то и дело менять направление, огибая болота и скальные гряды, следить за полетом птиц, которые могли привести к воде; наконец, надо было уметь точно рассчитать силы и вовремя остановиться.
Перерывы путники позволяли себе устраивать нечасто и при малейшей возможности двигались вперед. Вычерченный Уиллсом маршрут показывал, что они продвинулись на север до 22-й параллели. Шли по 12 и более часов в день, ни разу не выбившись из этого мучительного ритма. Сейчас кажется, что такого просто не может быть.
Прошел январь. Путники добрались до хребта Селуии, и Берк решает идти напрямик, хотя верблюды «хрипели и задыхались» уже на малой высоте. Хребет вконец измотал и людей и животных. Доказательство тому — дневники Уиллса. Записки становятся отрывочными; только номера лагерей продолжают отщелкиваться с неумолимой четкостью: 101, 102, 103...
В лагере 65 у Куперс-Крика четверо людей терпеливо ждут, изо дня в день с растущим отчаянием вглядываясь в горизонт. Никто не появлялся ни с севера, ни с юга. Можно лишь догадываться, как повел бы себя Берк, узнай он, что Райт вместе с продовольствием и верблюдами только теперь покидает далекое Менинди. Колонна Райта, оставшаяся на другом краю пустыни, не двигалась с места почти три месяца.
Причины? Райт ждал официального уведомления из Мельбурна о том, что он утвержден третьим руководителем экспедиции, а следовательно, зачислен на жалованье. Гонец, доставивший наконец это известие, имел также секретный пакет, адресованный Берку. В нем была информация о ходе дел у конкурентов — экспедиции Стюарта. Не желая откладывать свою миссию, посыльный забрал из лагеря лошадей и поскакал к Куперс-Крику. В результате Райту пришлось дожидаться его возвращения. Гонец не нашел Берка и вернулся назад, лишь вымотав лошадей...
Начинался сезон дождей. Верблюды с трудом переносили обилие влаги; они увязали в трясине, жалобно стенали и отказывались двигаться дальше. Около ста миль все еще отделяли участников похода от моря. Они следовали вдоль течения реки Клонкарри к месту слияния ее с Флиндерсом.
Лагерь 119 разбили на берегу протоки. Когда Уиллс попробовал воду на вкус, та оказалась соленой. Ее мог нагнать только морской прилив! Берк и Уиллс двинулись в обход топей, но одолеть их оказалось невозможным. Даже теперь, столько лет спустя, испытываешь досаду от того, что Берку и Уиллсу так и не удалось взглянуть на море, омывающее берега Карпентария; это было бы заслуженной наградой путешественникам за все лишения и невзгоды. А так с горечью приходилось в последний момент поворачивать назад.
Они смогли совершить то, что не удавалось никому до них. Они первыми пересекли Австралийский континент. Шесть месяцев и 1650 миль отделяли их от Мельбурна. Теперь предстоял путь назад, а продовольствия оставалось всего на четыре недели.
Люди брели к югу, тяжело ступая искалеченными ногами. Отчаянное стремление добраться до Куперс-Крика было единственным стимулом, заставлявшим сделать следующий шаг. Начал жаловаться на здоровье Грей.
17 апреля 1861 года солнце окрасило в малиновый цвет дюны, отполировало добела дно колодцев и теперь прожигало пламенем прозрачный воздух. В тот день трое несчастных рыли могилу: на заре умер Грей. Люди обессилели до такой степени, что на рытье могилы ушел целый день. За неделю до трагического события им пришлось убить коня Билли и съесть его мясо. До Куперс-Крика остается всего 70 миль...
А в это время Уильям Браге, забравшись на холм над Куперс-Криком, приложив ладонь козырьком, до рези в глазах вглядывается в горизонт; в северном или западном направлении вот-вот должны появиться четыре крохотные фигурки, а с юга — целая колонна с лошадьми и верблюдами. Каждый день он сверлит горизонт, и каждый день награждает его лишь нещадной жарой. Пусто.
День за днем одно и то же, никаких перемен, никакой весточки из окружающего мира. В подобных условиях парализуется воля, теряется способность к здравой оценке реальности, человек погружается в полудремотное состояние. Позднее, отвечая на вопрос, вел ли он дневник, Браге отвечал: «Нет. А зачем? Ничего же не происходило».
Сколько еще он вправе ждать, когда Пэттон прикован к постели и тает на глазах, а его самого и Макдоно неотвратимо подтачивает болезнь? Ноги опухли, сесть на лошадь стало нелегкой задачей... Надо уходить. Браге приказывает Макдоно и Мохамеду складывать вещи.
Продовольствие и пожитки упаковали в тюки. Надежда на возвращение Берка практически угасла, тем не менее Браге зарыл запас сушеного мяса, муки, сахара, овсяной крупы и риса на случай, если все же чудо произойдет. В яму положили бутылку с запиской, а на эвкалипте вырезали надпись, навечно оставшуюся в анналах исследования Австралии:
DIG
3 FT
NW
(Рыть в 3 футах к северо-западу).
После этого Браге со своими спутниками покинул лагерь 65 и медленно двинулся вдоль русла крика. Они прошли всего 14 миль и вечером того же дня встали на привал.
А спустя девять с половиной часов после ухода группы Браге, Берк, Уиллс и Кинг, полуживые, добрались до лагеря. Позади у них лежали 2400 миль. Трое путников надеялись на триумфальную встречу, призванную увенчать их подвиг мужества и выносливости. Но лагерь был пуст! Разрыв в девять с половиной часов оказался роковым.
Это трагическое стечение обстоятельств кажется столь жестоким, что к дню 21 апреля 1861 года вновь и вновь обращаются австралийские художники и писатели, словно пытаясь как-то исправить ход событий и восстановить справедливость.
Но заклинания не способны изменить прошлое. Так все и останется: 9,5 часа и 14 миль.
Браге продолжал двигаться на юго-восток вдоль Куперс-Крика через суровую пустыню по направлению к Буллу. Однажды на рассвете он увидел колонну Райта. Обе партии немало удивились встрече. Состоялся обмен информацией. Оставив людей на дневке, Браге и Райт на трех самых крепких лошадях помчались обратно к Куперс-Крику. Вдруг они застанут там Берка? Но лагерь казался вымершим...
Волнение помешало двум всадникам заметить явные признаки пребывания людей на оставленной базе. Мельком взглянув на место, где была зарыта провизия, они не обратили внимания на рыхлую землю. Если бы они раскопали яму, то убедились бы, что провиант исчез, а вместо него лежит бутылка с запиской Берка.
Всадники повернули назад. Похоронив Пэттона, экспедиция ускоренным маршем двинулась к дому.
Рассказанная Браге история взбудоражила весь Мельбурн. В различных частях Австралии были организованы поисковые партии, ринувшиеся в буш с севера, юга и востока.
А что же произошло в лагере 65?
Берк увидел надпись на эвкалипте, открыл «тайник» и прочел записку Браге, написанную утром того же дня. Можно представить себе все их разочарование. Подкрепившись оставленными припасами, Берк, Уиллс и Кинг решили двигаться на юго-запад от Куперс-Крика. Они надеялись попасть в район, который осваивали переселенцы.
Многие впоследствии не могли понять мотивов этого решения. Куда логичней, казалось бы, двигаться вслед за ушедшим. Но дело в том, что Браге, известив руководителя экспедиции о том, что сворачивает лагерь, написал: «Все члены группы и животные здоровы». Напиши он о том, в каком состоянии находятся люди, Берк бы понял, что у его тройки есть шанс нагнать спутников. Но Берк этого не знал. Не знал он и о том, что Райт так и не добрался до Куперс-Крика, а его колонна все еще движется на север. Берк считал, что ему не догнать пешком конную группу.

Целый месяц они выбирались из окружающих Куперс-Крик болот. Один верблюд увяз в трясине, и его пришлось пристрелить; второй вскоре обессилел настолько, что его постигла та же участь. Уложив в рюкзаки остатки провизии, Берк, Уиллс и Кинг решают совершить форсированный бросок, но, пройдя 45 миль, отступили назад к Куперс-Крику.
Дни становились короче, и трое людей, оказавшиеся пленниками пустыни, чувствовали, как постепенно иссякают их силы. Встреченные аборигены учили их печь лепешки из перетертого тростника и время от времени подкармливали рыбой. Но однажды Берк отогнал их от бивака выстрелом из ружья — ему показалось, что аборигены растаскивают и без того скудные запасы провизии.
Первым стал сдавать Уиллс. Поняв, что не сможет двигаться дальше, он попросил Берка и Кинга оставить его в заброшенной туземной хижине.
29 июня Берк и Кинг покинули умирающего Уиллса и отправились вверх по берегу крика в поисках аборигенов; они понимали, что это единственный путь к спасению. Два дня спустя кончились силы у Берка. Он нацарапал прощальную записку: «Надеюсь, что нам воздастся по заслугам. Мы исполнили свой долг, но нас не дождались...»

Понимая, что у Кинга не хватит сил вырыть могилу, Берк попросил оставить его на земле с пистолетом в руке. Утром 1 июля он умер.
Кинг продолжил путь. Он нашел аборигенов, которые накормили его и дали целебного отвара. 15 сентября один из спасательных отрядов натолкнулся на стойбище и обнаружил среди туземцев оборванного, обросшего белого.
— Кто вы? — спросил человек, первым увидевший его.
— Я Кинг, сэр,— ответил тот.
— Кинг?!
— Да. Последний из экспедиции...
Когда весть о случившемся достигла Мельбурна, викторианцев охватили смешанные чувства. К ликованию по поводу того, что удалось обставить Стюарта и первыми пересечь континент, примешивалась горечь: все-таки столько смертей. Не слишком ли велика цена?
Но то была реакция горожан. Жители глубинки не скрывали своих восторгов. Когда дилижанс, куда посадили шатающегося от слабости Кинга, въехал в Бендиго, ретивые старатели высыпали навстречу, паля из ружей. Кинг забился в угол, и за героя по ошибке приняли сопровождавшего его врача.
В Мельбурне поезд встречали члены экспедиционного комитета. «В свое время при виде Данте,— писала мельбурнская «Геральд»,— люди говорили: «Вот идет человек, вернувшийся из преисподней». Эти слова хочется повторить сейчас, глядя на Джона Кинга».
Трагедия экспедиции Берка и Уиллса породила в колонии не только коллективную истерию: в сознании публики все больше укреплялось чувство вины. И поскольку оно не давало покоя, вину требовалось каким-то образом загладить. Прежде всего вознаградить за честность и мужество Кинга, позаботиться о семьях погибших участников похода.
Трагедию экспедиции никак нельзя было отнести на счет слепого рока; виновного — или виновников — надлежало подвергнуть наказанию или хотя бы осуждению. Губернатор назначил Королевскую комиссию по расследованию с целью выяснить «все обстоятельства, связанные с мученической гибелью Роберта О"Хара Берка и Уильяма Джона Уиллса», а также «истинные причины печального исхода экспедиции».
Выводы комиссии не принесли сюрпризов. Она констатировала, что экспедиция была «тщательно обеспечена всем необходимым» для успешного похода. Однако Берк допустил ошибку, разделив ее и оставив колонну с основным запасом провизии в Менинди. Большим просчетом было назначение Райта главой тылового отряда: «Поведение г-на Райта следует расценивать как в высшей степени предосудительное. Он не смог дать удовлетворительного объяснения своей задержке (в Менинди), поставившей рейдовую группу в тяжелое положение».
Немало упреков досталось и экспедиционному комитету, практически потерявшему контроль за ходом событий. Целая страница отводилась разбору поведения Браге. С одной стороны, члены комиссии утверждали, что он не должен был покидать пост на Купере-Крике до прибытия колонны или возвращения руководителя. С другой, «груз возложенной на него ответственности оказался непосильным. Получив наказ оставаться в лагере не более трех месяцев, он провел в нем четыре месяца и пять дней и покинул стоянку ради спасения смертельно больного спутника. Мы прекрасно понимаем, сколь мучительна для него мысль о том, что, прояви он выдержку и стойкость еще 24 часа, он сделался бы спасителем экспедиции и заслужил бы всеобщее восхищение».
Останки Берка и Уиллса перевезли в Мельбурн, где они покоятся под гранитным монументом. В отделе рукописей библиотеки Виктории мне дали прочесть дневники Уиллса и последнюю написанную нетвердой рукой записку Берка. Трудно передать волнение, которое я ощутил, взяв в руки эти реликвии. Только повидав собственными глазами «Зловещее пятно», по-настоящему понимаешь, что довелось испытать его первопроходцам.
Общие расходы, как скрупулезно подсчитала комиссия, составили 60 000 фунтов стерлингов — огромную по тем временам сумму. Однако, если оценивать итоги Великой Австралийской гонки в перспективе, то видишь, что затраты окупились сторицей.
В 70-х годах прошлого века от Порт-Огасты на южном побережье материка до Дарвина на его северной оконечности протянули телеграфную линию. Фактически она прошла по маршруту Стюарта; все работы были завершены за два года — потрясающее достижение, учитывая технический уровень того времени. Впервые за свою историю Австралия получила оперативную связь с внешним миром.
Наибольший выигрыш от экспедиций получили горнодобытчики. Следуя по маршруту Стерта и Берка, они обнаружили, что Писов холм севернее Менинди на самом деле является богатейшим в мире месторождением серебра, свинца и цинка. Дальше к северу в районе Клонкарри открыли огромные залежи меди, а у поселка с лирическим названием Мэри-Катлин — залежи урана.
Двинувшиеся вслед за Берком и Уиллсом геологи вскоре установили, что представления Стерта о внутреннем море не были чистой фантазией. Выяснилось, что дожди, обрушивающиеся на восточное побережье Австралии, просачиваются под почву и стекают к центру, где вода скапливается в огромном подземном резервуаре. Он так и был назван — Большой артезианский бассейн. Где бы ни бурили скважину в пределах этого необъятного ареала, оттуда — иногда с километровой глубины — начинала бить вода, теплая, чуть солоноватая, но вполне пригодная для питья. Это открытие послужило поворотным пунктом в хозяйственном развитии центральных районов. «Зловещее пятно» перестало существовать.
В один из дней в Мельбурне я шел под дождем — таким желанным после стольких дней в пустыне — на встречу с Алеком Браге, внуком того самого человека, который покинул Куперс-Крик за девять с половиной часов до возвращения Берка, Уиллса и Кинга. Дверь открыл подтянутый 75-летний джентльмен.
Алек Браге оказался приятнейшим собеседником; от него я узнал множество подробностей о дальнейшей судьбе оставшихся в живых членов экспедиции. Кингу не довелось долго пользоваться положенной ему пенсией: он скончался в возрасте 33 лет. Ленделлс и сипаи уехали в Индию.
Отцы колонии выделили племени аборигенов 200 квадратных миль земель вдоль Куперс-Крика в благодарность за помощь и спасение Кинга. Конечно, земли эти и без того принадлежали коренным жителям, однако в исторической перспективе это могло оказаться существенным для аборигенов. К сожалению, контакт с белой цивилизацией стал для них губительным: к началу века в живых осталось лишь пять членов племени. Земли были проданы с аукциона.
По мнению Алека Браге, экспедиция с самого начала была обречена. Берк не имел походного опыта, не знал особенностей австралийской пустыни. Подбор людей был случаен, и это привело к бесконечным конфликтам. Но, главное, атмосфера ажиотажа вокруг Великой Австралийской гонки заставила Берка принимать поспешные решения, исходя не из сложившейся ситуации, а под давлением обязательств, наложенных на него Мельбурном.
— Большинство австралийцев видят в Берке и Уиллсе символы мужества и упорства,— сказал Браге.— Но мало кто знает, что им пришлось искупать мужеством и страданиями чужие просчеты.
Я спросил, как относились к этой истории в семье Браге.
— Тема экспедиции была запретной у нас в доме,— ответил Алек.— Никто никогда не упоминал о ней...
Перевела с английского Н. Равен
Джозеф Джадж, американский писатель
(обратно)
Эктор Пиночет. Крыса
 Вчитайтесь в краткие слова, предваряющие новую книгу чилийского писателя Эктора Пиночета «Ипподром Аликанте» и другие фантастические рассказы»: «Я посвящаю эту книгу движению солидарности. Солидарности с моим народом. И еще посвящаю ее друзьям».
Слова эти принадлежат перу человека, поклявшегося до последнего вздоха бороться с чилийским фашизмом, и фашизм сумел уже по-своему оценить смертельного своего врага. Имя Эктора Пиночета давно уже внесено в списки имен патриотов, особенно неугодных режиму.
Почти с самого момента переворота он вынужден был покинуть родину. В 1973 году, в Париже, публикуется его поэма-воззвание «Остановим смерть!» — и ее, как боевую листовку, читают чилийцы. Болонья, 1980 год — здесь вышел сборник его «Поэм из изгнания», пронизанных болью и ненавистью к предателям родины. В эти же годы Эктор Пиночет начинает писать свою «фантастику». Я намеренно беру это слово в кавычках хотя бы потому, что те, в чей адрес направлены эти рассказы, воспринимают их как самые что ни на есть реалистические произведения. Материальные, как оружие, грозящее свержением диктатуре.
От переводчика
Вчитайтесь в краткие слова, предваряющие новую книгу чилийского писателя Эктора Пиночета «Ипподром Аликанте» и другие фантастические рассказы»: «Я посвящаю эту книгу движению солидарности. Солидарности с моим народом. И еще посвящаю ее друзьям».
Слова эти принадлежат перу человека, поклявшегося до последнего вздоха бороться с чилийским фашизмом, и фашизм сумел уже по-своему оценить смертельного своего врага. Имя Эктора Пиночета давно уже внесено в списки имен патриотов, особенно неугодных режиму.
Почти с самого момента переворота он вынужден был покинуть родину. В 1973 году, в Париже, публикуется его поэма-воззвание «Остановим смерть!» — и ее, как боевую листовку, читают чилийцы. Болонья, 1980 год — здесь вышел сборник его «Поэм из изгнания», пронизанных болью и ненавистью к предателям родины. В эти же годы Эктор Пиночет начинает писать свою «фантастику». Я намеренно беру это слово в кавычках хотя бы потому, что те, в чей адрес направлены эти рассказы, воспринимают их как самые что ни на есть реалистические произведения. Материальные, как оружие, грозящее свержением диктатуре.
От переводчика
Они дошли наконец и, взмыленные, полумертвые от усталости, кое-как примостились в каком-то помещении на куче замшелых балок. Тут же послышался сухой царапающий шорох: потревоженные крысы и ящерицы спешно зарывались в большую кучу мусора. Путники сидели молча, поглядывая друг на друга из-под свинцовых от бессонницы век.
Который потолще оказался и поразговорчивее:
— Это... здесь, лейтенант?..— выдохнул он застрявшие в горле слова.
Второй с усилием кивнул: «Да, сеньор, здесь...» Этот содержательный диалог обошелся толстяку в остаток сил; он завалился на спину, жадно ловя ртом затхлый воздух. Взгляд его мутно плавал по неоштукатуренному потолку, по стенам со следами обоев, пока наконец не зацепился за край едва заметного в темноте оконца.
— А вы... уверены в этом?..
— Так точно... катакомбы внизу...— На последнем слове лейтенант сделал особое ударение.
Они вновь замолчали.
— Время уходит...— мертво обронил лейтенант.
— Ну так пошли! — толстяк деланно приободрился, изображая готовность немедленно покинуть свое импровизированное ложе.
Поднимаясь, зачем-то тщательно стряхивали налипший на мундиры мусор.
— Несмотря на то, что мы отыграли у них приличную фору, дела обстоят не совсем так, как хотелось бы...— обронил толстяк.
— Вы правы, сеньор. Ведь, как говорится, на бога надейся, а сам...— тут лейтенант запнулся, вдруг обнаружив не принятую в их отношениях фамильярность, и перешел на привычно официальный тон.— Я хотел сказать, что, хотя им и нелегко будет обнаружить нас здесь, все же единственное место, где мы можем чувствовать себя в безопасности, так это — подземелье.— Лейтенант уже не рекомендовал — он настаивал.
Тут до толстяка дошло наконец, что весь этот тщательно спланированный отход, вся эта осмотрительность замешены на таком животном страхе, что его бросило в дрожь.
Лейтенант двинулся вперед — дорога была ему известна. Да что там известна — он ориентировался здесь как в собственной квартире; ловко огибая в кромешной тьме выступы стен, лавировал среди коварных островков битого стекла, щебня, мусора. Кругом стояла гулкая колодезная тишина.
В щели лезли пропыленные листья дряхлой смоковницы, мешаясь с ветками ежевики, сплошь покрывавшей пространство бесчисленных комнат и анфилад громадного полуразрушенного дома.
— Здесь,— наконец сказал лейтенант и, скривясь, сунул руку в самую гущу немилосердных колючек. Звякнуло железо — будто оковы спали.— Готово...
Раздался скрежет, и край ежевичной стены грозно и неотвратимо ринулся прямо на них. Но через мгновение движение прекратилось; открылся черный зев входа. Толстяк заглянул — и вдруг смутное ощущение страха подступило к самому сердцу, словно бы он уже был там и даже пытался выбраться оттуда...
Лейтенант вошел первым, и галерею тут же залил неяркий мертвенный свет. Дверь за ними неслышно закрылась.
— Да, трудновато им будет разыскать нас теперь, сеньор! — лейтенант был просто вне себя от восторга, которого, впрочем, толстяк явно не разделял. Поджав губы, он лишь брезгливо процедил в ответ:
— Было бы лучше, если бы мы поторопились...
Подумать только, этот вот сеньор торопыга многие годы был их кумиром, знаменем армии, живым символом возрождения нации! И нате вам — в четыре дня все пошло прахом. Гора родила обыкновеннейшую мышь, серенькое, мокрое от страха существо. Люди из его окружения не преминули отметить эту разительную перемену — кто с горечью и тоской, кто с плохо скрытым злорадством. И он вдруг сделался никому не нужным, всеми презираемым пугалом, способным поразить разве что воображение еще более мелкого хищника — обывателя.
Поглощенный невеселыми мыслями, лейтенант и не заметил, как оказался у второй двери. В затылок ему шумно пыхтел спутник. Лейтенант достал из кармана ключ, вставил в искусно замаскированную в скале щель, глянул на секундную стрелку. Над дверью загорелась красная лампочка. Затем, дрогнув, плавно разошлись створки.
— Некоторые меры предосторожности были тогда просто необходимы... вам известно, в силу каких обстоятельств...
Толстяк понимающе и даже с некоторым одобрением кивнул.
У ног их разверзся черный провал. Каменные ступени спиральной лестницы вели, похоже, в самую преисподнюю. Спускались молча, с неудовольствием вслушиваясь в перестук собственных каблуков. Наверху плотно сомкнулись бронированные створки, и сразу сгустившийся мрак подземелья добавил обоим такой тоски и тревоги, что мучительно захотелось ринуться отсюда прочь...
Сойдя с последней ступени, лейтенант вновь включил освещение: они стояли у самого края ниши, вырубленной прямо в скале. У дальней стены виднелись письменный стол и старинное кресло, обитое кожей. На столе — телефон, бумаги, разбросанные карандаши.
В каждую из стен ниши были врезаны двери, обитые массивными железными полосами. Свет шел от ламп, вмонтированных над притолоками. Лучи их фокусировались на стене прямо перед столом. Толстяк внимательно оглядел полированную его поверхность, ковырнул ногтем засохшее пятно сургучного цвета. Обернулся к лейтенанту. Тот уже отворял одну из дверей.
— Процедура вам предстоит не из легких, сеньор, но у нас действительно нет другого выхода,— лейтенант натянуто улыбнулся: нечаянный каламбур слишком точно выразил создавшуюся ситуацию...
За дверью открылся длинный узкий коридор, образованный двумя рядами тюремных камер.
Дряблые губы толстяка растянулись в подобие кислой улыбки. Подобную веселость лейтенант наблюдал впервые за четверо суток, в течение которых они были поистине неразлучны; приободрившись, офицер заметил уже несколько развязнее:
— Камеры пусты все до единой — хоть любую из них занимай... Всех находившихся здесь ликвидировали, так что свидетелей не будет. Не угодно ли удостовериться?
Он рывком распахнул остальные двери — и тусклый свет затеплился в двух точно таких же коридорах, по которым так же убегали вдаль пронумерованные таблички.
Тут толстяк явственно различил какой-то странный далекий шум. Признаться, он беспокоил его и раньше, но как-то не хотелось нервическим любопытством ронять начальственное достоинство в глазах хранившего невозмутимость подчиненного. Теперь, заметив, как напряглось лицо лейтенанта, можно было небрежно выразить некоторое недоумение: э-э-э... что это там такое?..
— Черт, как же это мы о собаках забыли...— Лейтенант был явно обескуражен и, чтобы затушевать неловкость, преувеличенно деловитым тоном добавил: — У нас есть еще несколько минут в запасе, я вам все объясню. А впрочем, объяснять тут особенно нечего...
Широким жестом он пригласил толстяка занять кресло, и тот с размаху плюхнулся на сиденье.
— Все очень просто, сеньор. Когда я уйду, засекайте время. Ровно через час пятнадцать вы пойдете вот по этому коридору. Запомните: вход — здесь.— Он вывел карандашом жирный крест на одном из дверных косяков.— Рекомендую идти обычным прогулочным шагом. Тогда минут через двадцать пять—тридцать окажетесь у решетчатой перегородки. Она заперта, но откроется автоматически спустя сорок пять минут после начала рабочего цикла. Значит, ждать там придется с четверть часа, может, чуть больше — смотря сколько времени уйдет на дорогу. Когда проход откроется, не мешкайте: заслонка на место встанет автоматически — независимо от того, успели вы пройти или нет.
Лейтенант приостановился на миг, взглянул на толстяка, который, словно усердный школяр, строчил ручкой, не поднимая глаз, вкривь и вкось исписывая листки своего блокнота.
— Прошу вас, сеньор, только откровенно: до сих пор я достаточно ясно излагал суть предприятия?
— Яснее не придумаешь, так что валяйте дальше, лейтенант.
Тот сосредоточенно уставился в пол — так ему легче было сконцентрироваться на особенно важных мыслях. Построив их по ранжиру, офицер вдохновенно продолжил диктант:
— Миновав решетку, вы значительно приблизитесь к цели. Останутся сущие пустяки, какую-нибудь сотню метров вы одолеете за три, от силы четыре минуты, и вот он перед вами — выход! Разумеется, он тоже будет заперт, дверь там устроена в виде люка — из тех, которыми оснащены подводные лодки — массивная такая, тяжелая стальная крышка. Как и у решетки, вы переждете какое-то время. И вот люк начнет медленно... Нет, не так. Пишите: очень медленно открываться. Потом раздастся щелчок, как от щеколды,— это значит, что люк открыт до предела и у вас в запасе ровно три минуты, чтобы выбраться наружу. Трех минут на это хватит с лихвой, сеньор. Однако... поспешайте! Впрочем, я не думаю, что в пути вы испытаете какие-либо затруднения: здесь достаточно слепо довериться букве инструкции.
Ну а об остальном мы тоже позаботились заблаговременно: крышка люка закроется герметически, и больше никто и никогда не проникнет в этот лабиринт, а стало быть, и не узнает о нашем маленьком секрете... Итак, еще затемно вы окажетесь по ту сторону холма и дальше пойдете по следу — как и условились, он будет выложен белыми камешками. Я лично позабочусь об охране — из тех гвардейцев, что еще не разбежались... Они и проводят вас прямехонько к американскому вертолету. А уж гринго вызволят вас оттуда...
Прервав свою скоропись, толстяк выразительно постучал карандашом по столу.
— Да-да,— спохватился лейтенант, угадав настроение шефа.— Вернемся к делу. Пора, я думаю, рассказать, зачем вы должны провести здесь час с четвертью, вместо того чтобы немедленно отправиться... м-м-м... на свободу. Как вам известно, это, так сказать, учреждение мы основали с вашего ведома вскоре после столь блистательно осуществленного вами переворота. И за все эти годы здесь ни разу не случалось осечек, поэтому никто и не подозревал о существовании объекта...
При этих словах толстяк невольно поежился.
— Мы пускали его в ход,— невозмутимо продолжал лейтенант,— обычно убедившись, что поблизости нет даже охраны. Специалисты отвели на весь, как бы это выразиться... производственный цикл ровно два часа пятнадцать минут — из них час пятнадцать как раз уходило на допросы, и мы начинали их одновременно с нажатием кнопки «пуск» — вон там, на пульте. Да, кстати, об электронике: фотоэлементы расположены почти по всей длине коридора — вплоть до решетки. Всего их — пятнадцать пар, действующих по принципу турникетов. Поэтому очень важно не «вспугнуть» их, до добра это еще никого не доводило; вот почему лучше всего идти прогулочным шагом. Как только вы минуете последнюю пару «глаз», свет в коридоре погаснет, и тотчас осветится решетка, та самая, о которой я уже говорил. Одновременно откроются клетки, в которых мы держим собак — черт, угораздило же их здесь оставить... В силу известных обстоятельств бедолаги, надо думать, оголодали ужасно, поэтому, сеньор, вы там особенно не задерживайтесь...
Лейтенант снова взглянул на часы. Толстяк угрюмо перечитывал свои записи. Воцарившееся было тягостное молчание офицер прервал вежливым: «У нас есть еще две минуты, сеньор, и если вам что-то еще неясно...»
— Сколько у вас там содержится псов? — вопрос был задан с эдакой скучающей светской небрежностью.
— Да так... Десятка с четыре. Мы их использовали при допросах... а потом и на охоте,— в тон ему ответствовал лейтенант: он всегда щадил впечатлительность своего патрона.— Ну, нам пора, сеньор.
Толстяк отложил блокнот в сторону и молча стал наблюдать за лейтенантом, направившимся ко входу в коридор,— единственному пути, ведущему к спасению былого «цвета нации». Другие уже отрезаны... На мгновение высвеченное лицо лейтенанта показалось бледнее обычного, черты лица — заостреннее.
Лейтенант уверенно манипулировал на пульте, и эта молчаливая работа вдруг пробудила у толстяка приятные воспоминания. Может быть, потому, что похожий пульт находился в кабине его вертолета. Славное было время! Боевые машины взмывали и ложились на курс, и одним нажатием кнопки в пыль разносились непокорные рабочие кварталы. Бывало, бомбили и на малой высоте: однажды он даже разглядел лицо какой-то женщины. Запрокинутое, все в слезах...
Толстяк встрепенулся, отгоняя непрошеное видение.
— Ну, как там у вас, все готово? Сверим часы?
— Немного терпения, сеньор.
Кнопки на пульте игриво замигали зелеными и красными огоньками.
— Время пошло, сеньор!
Толстяк взглянул на часы. Ровно три. Лейтенант стоял перед ним, вытянувшись по уставу,— как в лучшие времена.
— Задание выполнено, генерал!
— Да, но эти бумаги... На столе их целая куча, а ведь, насколько мне известно, это...
— Списки без вести пропавших. Не извольте беспокоиться, я уже включил взрывное устройство. Оно сработает, как только люк по ту сторону холма захлопнется. И тогда никто и никогда их больше не увидит. Удачи вам.
— Благодарю вас.— В тоне генерала сквозила скорее озабоченность, чем грусть расставания.
Лейтенант круто развернулся на каблуках и парадным шагом прошел к лестнице. Долго еще вслушивался генерал в безостановочный бег по гулким ступеням. Слух его, казалось, обострился настолько, что был слышен даже скрип офицерских сапог — там, за стальной дверью... Все. Мертвая тишина сгустилась в нише.
Что же теперь делать? Рука сама потянулась к стопке листов на столе. Вот дьявол, сплошь известные всем имена! Скомканная бумажка полетела в корзину. Он вытащил еще один лист, за ним — еще, еще... Строка за строкой — ряды исчерканных красными чернилами, кровоточащих имен...
Его замутило, и он тяжело выбрался из кресла. Прошелся, внимательно оглядывая стены,— как голо все, пусто... Вернулся к столу, стараясь не смотреть на проклятые бумаги. Так как же получше убить время? Пожалуй, лучше уж поразмыслить над полученной инструкцией. Тем более что она внушала тревожившие его сомнения.
Толстяк поискал записи — помнится, он оставил их на столе. Здесь их не было... Не было?! Он кинулся перебирать один за другим разбросанные повсюду листки, но на глаза попадались лишь имена, имена, имена... Ничего, кроме имен!
Он запустил руки в корзину — на дне лежал лишь скомканный им в гневе листок. Генералу отчаянно захотелось вдруг выть, кататься по полу, рвать на себе волосы. Он опять зарылся в бумаги, ринулся под стол... Имена, проклятые имена, ничего, кроме исчерканных красным имен! Елозя по каменному настилу, он подобрался к креслу и, ломая ногти, стал отдирать край дорогой обивки... Вдруг ужасное подозрение рывком подняло его на
ноги.
Лейтенант! Записи взял лейтенант! Но... как? Нет, нет, не может быть, ведь он диктовал из того угла, потом... Что было потом? Ах да, щелкнул каблуками, поприветствовал, смылся...
Он почувствовал, что теряет сознание, руки вцепились в застегнутый за крючки ворот... И вдруг разом обмякли. Пальцы коснулись золота мундирных пуговиц, скользнули на дно внутреннего кармана. Фу-ты, господи, гора с плеч! С великой нежностью разворачивал он, разглаживая каждый листочек блокнота, затем бережно упрятал за пазуху. Все равно читать сил уже нет. Колени вдруг подогнулись, и он мешком повалился в кресло. Вялость овладела им, мягко укачивая, смеживая веки. Спать... Спать...
...Он был владыкой пигмеев, власть его распространялась повсюду и всюду внушала страх. В этом страхе и заключалось все величие и могущество, он распоряжался жизнью и смертью, и холеные пальцы цепко держали за горло целый народ.
...Но вот владыка бежит, бежит без оглядки. Восстали все и гонят его отовсюду. Они уже за спиной, ближе, ближе, нет, это уже не пигмеи, гиганты догоняют лилипута, уже настигли, и чья-то громадная ступня нависла надо мной, господи, я пропа-а-ал!!! Громовое эхо, лавиной сорвавшись со стен, вынесло генерала из кресла. В висках неистово пульсировало: «Пропал, пропал, пропал...» Проспал!
Он чуть не до локтя рванул рукав кителя. Часы показывали три тридцать. Лай собак вдруг сделался громче, казалось, они вот-вот ринутся изо всех углов. Генерал платком вытер липкое лицо. Нет, нельзя так распускаться, а то таких дров здесь еще наломаешь, особенно в треклятом этом коридоре. Уж там-то игру заказывают механизмы, с ними не договоришься. Любой промах — смерть; такие вот ставки: пытка «дорогой на волю» всегда заканчивалась одинаково, и до люка не дошел никто... По генеральской спине пробежал холодок.
А что было бы, проснись он всего часом позже? Дьявольские часы уже запущены в ход, их ничем не остановить... Нет, определенно сдают нервы, ох, не ко времени все это. Времени?! Генерал вновь дернул рукав мундира, уставился на циферблат. Протер стекло. Приложил к уху. Вроде бы тикают, но как-то уж очень вяло... А что, если они отстают, или батарейки садятся? Он расстегнул браслет, осторожно, словно боясь расплескать чашу с живой водой, снял часы с руки. Большие, золотые, инкрустированные алмазами часы эти достались ему, в сущности, даром. Так, пустячная услуга солидной фирме — право на беспошлинную торговлю в этой нищей стране.
Он не удержался и еще раз посмотрел на часы. Встал. Одеревеневшие ноги не слушались. Только этого еще не хватало! Лейтенант, скотина, очень уж резвым оказался, мчал сюда по горам, по долам... К лицу ли ему, генералу, такие прыжки? Да еще с его весом — тут и не такие ноги откажут. Особенно икры донимают... Он нагнулся, чтобы растереть их. Черт же дернул его на это! Словно раскаленная игла с маху прошила его. Как подкошенный, он рухнул в кресло. Принялся было массировать сведенную судорогой ногу, но боль была такая, что генерал, не усидев, тихо сполз на пол, оглашая дикими воплями своды пещеры. И тотчас же зловещим эхом ему стал свирепый отдаленный лай.
Чтобы отдышаться, пришлось перевернуться на спину. Заодно снова можно посмотреть на часы. Без двадцати четыре. До входа в туннель тридцать пять минут. Или пять? А может, там надо было быть еще час назад? Эх, и часы-то не сверить — разве что с собственным одиночеством.
Не отрывая подошв от пола, едва переставляя прямые, как палки, ноги, генерал едва ли не целую вечность двигался к креслу. Потом, кряхтя, разворачивал его к двери и наконец, с усилием опираясь на ручки, сел, так и не подогнув колени.
А что, если за сорок пять минут он не успеет миновать все эти фотозападни? Или судороги вновь одолеют? Он с ненавистью вспомнил лейтенанта, его настоятельный совет пройтись по коридору «прогулочным шагом».
Осторожно сдвинув ноги, он титаническим усилием попытался отжаться руками — удалось. Теперь он стоял неподвижный, как памятник самому себе, и панически боялся лишний раз глазом моргнуть. Медленно-медленно поднял левую руку. Зубами оттянул рукав. Осторожно скосил глаза. Пора двигать к выходу...
Вот минутная стрелка замерла на горизонтали — и в то же мгновение от стены к стене коридора на небольшой высоте протянулись желтые полоски лучей. Выхватив из сумрака горловину туннеля, вспыхнули на потолке лампы, и грузный, дряблый человек вдруг ощутил бешеное желание пулей промчаться по адской мышеловке. Разом выбраться из этой могилы, полной грудью вдохнуть свежий, привольный воздух. И вошел в коридор.
Генерал шел, обливаясь холодным потом. И без того неблизкий, стократ вырос путь до луча, перерезавшего коридор как раз на уровне его пояса. Вроде бы до него сейчас метров тридцать. Значит, пройдено уже сто. Или восемьдесят? А может, сто двадцать — кто знает... Та-ак, кажется, ноги совсем отказывают. Эх, согнуть бы их чуточку в коленях, да ведь страшно. Это еще что за окошко в стене? Легонько, тихонько, спешить здесь ни к чему: неизвестно еще, для каких оно тут надобностей. А сейчас он пересечет первый из пятнадцати этих гнусных желтых лучей... Отлично!
Послышался тихий зуммер, генерал испуганно обернулся. Луч за спиной погас. Не останавливаясь, еще раз глянул на циферблат. На весь маршрут до луча ушло шесть минут. Помножим на пятнадцать. Это что же выходит, а? Полтора часа? Да ведь ему отпущена половина этого срока! Надо прибавить. Выбора нет. Нет его, понимаете, нет, нет. Не-е-т!!!
Галерея стала уходить куда-то вбок. Генерал шел уже почти нормальным шагом, понимая, однако, что недостаточно быстро. Поврежденные сухожилия давали знать о себе все настойчивее, все чаще, и при всем желании нельзя было ускорить и без того уже рискованный ход. А где-то там, в глубине, скоро сработают механизмы подъема, решетка, перегораживающая туннель, в последний раз откроет проход и с лязгом обрушится зубьями на асфальт.
Он чуть увеличил шаг — и тут же боль прострелила колено; в считанных метрах от третьего луча правая нога стала подозрительно шаркать. Третий луч генерал пересек, уже заметно хромая. С нетерпением глянул на часы. Вот это да, за две минуты, личный рекорд! А может, дистанция между лучами сократилась? Тоже неплохо.
На четвертый и пятый этапы ушло в среднем по стольку же, что вселяло надежды. Только бы опять не свело ногу. Галерея уже заметнее сворачивала вправо, и дорога, кажется, пошла под уклон. Или почудилось?
...Проходя восьмой участок, он уже умел экономить драгоценное время, сосредоточиваться только на решении одной проблемы — идти, сгибая ноги в коленях.
Пересекая девятый луч, он даже не взглянул на часы; что толку, когда впереди — еще шесть, и неизвестно, дотянет ли он до десятого?
Решив хоть немного взбодриться, генерал попытался было насвистывать любимый марш, но и тут его ждала неудача: с губ сорвалось лишь омерзительное шипение.
Что ж, тогда он будет думать о будущем, о новой жизни — в тиши и спокойствии. Благо денег у него предостаточно, остались и влиятельные друзья. Да, там будет ему вольготно. Там... Если здесь он вовремя доберется до решетки! Робость, конечно, есть, но только так, слегка. Что ж такого? Говорят, и самые храбрые бывают повержены духом, а он, несомненно, из самых, это и раньше многие признавали. Взять тот же переворот. Да разве кто-нибудь провернул бы его с той же отвагой и решимостью?..
...Пройден десятый луч. На часах — четыре сорок семь. Он явно запаздывает, а силы уже на исходе... Значит, надо выжать все, на что еще способны ноги. Идти, идти дальше.
Изломанный болью, с искусанными в кровь губами он преодолел желтый шлагбаум одиннадцатого луча. И в ту секунду, когда казалось, что сейчас он без сил растянется на асфальте, чтобы никогда уже не подняться больше,— в ту самую секунду он все-таки прибавил шагу. А если уж честно — просто очень хотелось в это верить. Он обманывал сам себя. Ласкал, тешил иллюзиями.
Путь до четырнадцатого луча казался уже бесконечным. Каждый шаг давался с запредельным трудом. И тогда он загадал: дойду — взгляну на часы. Только гляну — и все. А там можно воспользоваться и услугами пистолета. Вот он, в заднем кармане... генерал с мстительным наслаждением похлопал по нему.
Но сулившее в недалеком будущем избавление от всех мук, сейчас движение это стало новым сигналом бедствия. Рука отказывалась ему подчиняться. Он шевельнул левой — то же самое. В глазах потемнело от нового приступа боли и страха. Он шел, вперившись невидящим взором в протянувшийся где-то там, впереди, четырнадцатый луч. Шел, как идет на тореро смертельно раненный бык...
Луч погас за спиной. Генерал с ненавистью глянул на циферблат. Без трех минут пять. Три минуты, всего три минуты, чтобы добраться до этой стальной защелки, которая поднимется на мгновение — а там и рухнет ножом гильотины. Так стоит ли вообще совать под нее голову?..
В отражении последнего луча матово блеснула решетка.
И вновь в генерала вцепилось отчаянное желание бежать. И, позабыв обо всем на свете, он было ринулся, но дряблое тело повело в сторону, качнуло...
Прозрачно желтевший финиш преодолен в падении на полоску ничком. В это мгновение ноги триумфатора выкинули какой-то вялый кульбит — и его всем позвоночником припечатало к решетке. И тут генерал — нет, не услышал: слух, как и зрение, затопила волна невыносимой боли,— он нутром почуял настигавший его вой. Словно длинный, отточенный кинжал метнулся из глубин катакомбы и впился в живот по рукоять, рассекая кишки. Долго раздумывать не пришлось — он отлично помнил инструктаж лейтенанта. Сюда, к решетке, лавиной неслась свора обезумевших от голода и пьянящей близости жертвы собак.
В следующую секунду заработал механизм. Горбясь гусеницей, руками поджав к животу колени, генерал истошно вопил от жесточайшей боли и животного страха. Решетка медленно-медленно освобождала проход. Вот она замерла, готовясь низринуться — и тогда страх взял еще раз свое. Воющий, сверкающий лампасами колобок вкатился в дыру. Железные зубья голодно лязгнули об пол.
Голодная мощь порыва была неудержима, и вырвавшийся вперед вожак, не в силах притормозить, со всего маху врезался в стальную преграду, тело его обмякло, и в мгновение ока в него вцепились чудовищные клыки, раздирая на части.
С перекошенным от ужаса лицом генерал наблюдал эту сцену. Он забыл на это время о боли. Убраться отсюда! Как можно быстрее и дальше.
Но подняться сил уже не было. Генерал оборвал остатки ногтей, цепляясь за каждую выщербинку в скалистой стене. Раза два ему удалось чуть оторваться от пола... Тем горше было распластываться на нем. И тогда генерал встал на четвереньки. Так он протащился несколько метров, потом разом надломились руки — и голова ткнулась в асфальт.
...Когда генерал в третий раз растянулся, единственной мыслью было: «Все. Не подняться». Тело разом обмякло.
Его охватило глубокое забытье. Но длилось оно, кажется, недолго, резь в животе вернула к действительности. Встряхнувшись, он окончательно пришел в себя. Прищурил глаза — так почему-то теперь было лучше видно. Люк маячил метрах в двадцати, не больше. Неужто ползком не добраться? Конечно, какие тут разговоры! Да вот только когда? Время, черт, время! Сколько сейчас, сколько осталось — генерал не знал и знать не хотел: что за смысл бежать от одного убийцы, чтобы тут же повстречаться с другим?
Генерал продвигался вперед. Добраться! Застрелиться никогда не поздно. Надо будет — он пустит пулю в лоб у самого люка. Вот именно, только у самого люка, не раньше.
Он снова ткнулся лбом об асфальт. Голова чуть не раскололась от боли. Ледяные иглы вонзились в живот... И вдруг он почуял свежее дуновение ветра. В ликующем порыве радости он вскинул вверх руку... Пальцы больно ткнулись в скалистое тело подземелья.
Все. Невозможно больше. Ему не в чем себя упрекнуть, достаточно было только сил перевернуться на спину, лицом туда, где должно быть небо. Но и это удалось лишь наполовину, и теперь он неловко лежал на боку.
Совершенно отчетливо прямо над головой громыхнули гусеницы. Он машинально скосил глаза в сторону раздражающих своим правдоподобием звуков.
Люк был открыт. Гиппопотам зевнул, демонстрируя темную, звездно мерцающую пасть.
Толстяк животом прижался к камням, с трепетом ощущая, как они отдают ему свою силу. И тогда он медленно стал подниматься. Асфальт разом вздыбился к небу, и дыра выхода заплясала перед глазами, и его самого бросило от стены к стене. Но он всем телом ринулся вверх, к каменному зеву. Ему удалось лишь едва ухватиться за самый край стальной челюсти.
...Они сидели на замшелых балках, молча поглядывая друг на друга из-под свинцовых от бессонницы век. Толстяк на мгновение прикрыл глаза, ущипнул себя за руку. И услышал свой собственный хриплый смех, а взгляд уже плыл в блаженстве по чудесному неоштукатуренному потолку, по прелестной стене со следами обоев.
— Время уходит,— бесстрастно заметил лейтенант.
— Господи, радость-то какая! — невпопад выпалил, легко поднимаясь, толстяк. Его распирало от удовольствия двигаться, смеяться, говорить, и, как никогда, был он весел и оживлен.
Отряхивая брюки от налипшего мусора, он счастливо и спокойно подумал, что нередко мучившие его ночные кошмары стали для него вроде хорошей приметы: они всегда сулили удачу даже в самых рискованных предприятиях.
Лейтенант двинулся вперед — дорога была ему известна.
— Здесь,— сказал он, останавливаясь у заросшей ежевикой стены.
Толстяк насторожился.
Раздался скрежет, и край ежевичной стены грозно и неотвратимо ринулся прямо на них.
Он мертвенно побледнел.
Открылся черный край зева. Они спустились в провал. Ступени спиральной лестницы, похоже, вели в саму преисподнюю... Очень похоже! Мучительно захотелось, не разбирая дороги... Но колени вдруг подогнулись, он едва успел схватиться за перила, ища глазами выход. Дверь за спиной с лязгом закрылась.
Будто зарница полыхнула в мозгу. Страшная боль вернула сознание. Пальцы медленно плющила входившая в пазы крышка тюремного люка. Ледяной ужас стиснул и остановил сердце. Дрогнуло свисшее в горловину туннеля тело. Оторвалось черное время. Черное время крыс.
Перевел с испанского Николай Лопатенко
(обратно)
Свет старого дома

Три дороги, бегущие с разных концов острова Сааремаа, сходятся перед ратушей. Здесь они образуют треугольную площадь, типичную для эстонских городков, выросших из рыбацких деревень. Площадь окружают наиболее богатые и представительные дома, с реставрации которых началась реконструкция Кингисеппа, одного из шести заповедных малых городов Эстонии.
Вхожу в двухэтажное здание ратуши, построенной в XVII веке. Над пышным порталом — старинный, тесанный из камня герб «столицы острова» и латинская надпись: «Всегда он выполняет свой долг на пользу людям и на благо обществу». Девиз и сегодня соответствует назначению здания — в нем размещается Кингисеппский райисполком.
Из просторного вестибюля, выложенного плитами, наверх ведет лестница с крутобокими балясинами. На стенах — гравюры и акварели, которые переносят в далекое прошлое городка.
...Площадь перед ратушей забита телегами, толкутся крестьяне, съехавшиеся со всех концов острова. Продают хлеб, рыбу, поросят; тут же расположились местные ремесленники и заморские купцы. Жены сааремааских рыбаков в длинных серых юбках и белых передниках прицениваются, придирчиво рассматривая товары.
Таких привычных когда-то сценок в Кингисеппе теперь не увидишь. Изредка пересекут ратушную площадь «Жигули» или перебегут стайкой беловолосые школьницы в клетчатых платьях. Да на углу стоят несколько человек, поджидают идущий в аэропорт автобус.
Рынок перебрался во двор стоящего торцом к площади здания с восстановленным недавно высоким узорным фронтоном. Это «важня», бывшая весовая. Как только взойдет солнце, усаживаются здесь за длинные лавки под навесами благообразные старушки и суровые старики со шкиперскими бородами и терпеливо ждут покупателя. Коли такой находится, продавец, заворачивая покупку, непременно благодарит его и оба расстаются довольные.
Кажется, здесь все знают друг друга. Потомственные рыбаки, они и сегодня выходят в море на своих баркасах... И снова, уже нарядно одетые, встречаются на уютных и чистых улочках городка, в магазинах и барах. Современный быт с его привычным ныне комфортом не нарушил цельности неторопливого старого центра, он удивительным образом ужился с высокими черепичными крышами, вычурными фронтонами и дымоходами, с ветряной мельницей, стоящей неподалеку от ратуши.
Над тихой площадью несется короткий перезвон курантов соборной колокольни. И словно по сигналу, из густых туч, проплывающих над островом, начинает моросить дождь. Он загоняет редких прохожих за стеклянные витрины магазинов и кафе, наполняющих главную улицу, ведущую к замку Курессааре.
В средневековых хрониках впервые упоминается замок на Сааремаа под 1381 годом, но историки считают, что монастырь с укрепленной башней существовал здесь еще раньше. В период владычества крестоносцев замок, который они называли Аренсбургом, служил резиденцией Эзель-Викского епископа, власть которого распространялась на острова Сааремаа и Хийумаа и на западную часть средневековой Эстонии — Ляанемаа. В этих равнинных местах, усыпанных ветряками, завоеватели окопались валами и рвами.
В Кингисеппе я остановился в небольшом деревянном особняке под вывеской «Отель «Лосси». Он стоял в старом парке, рядом с замком. По крутой скрипучей лестнице я поднимался в отведенную мне просторную и светлую комнату. Здесь было хорошо слышно, как по островерхой крыше, шелестя, сбегает дождь и скрипят могучие деревья. На мокрую траву из большого решетчатого окна падали клетки электрического света...
По утрам я шел по сырой аллее к деревянному мостику, переброшенному через опушенный осокой крепостной ров, и видел, как на подернутой ряской воде плавно покачиваются белые лилии.
На земляных укреплениях, возвышающихся надо рвом, сохранилась лишь одна Орудийная башня. К ней каждый день приходили плотники-реставраторы Арво Вахер и Пауль Саар, и стук их топоров нарушал тягучую тишину парка. Плотники тесали балки для новых перекрытий башни, и от них я узнал, что остальные реставраторы работали в городе. Они заканчивали ремонт дома-музея Виктора Кингисеппа — эстонского революционера, имя которого с 1952 года носит город.
Низкий сводчатый ход, косо прорезающий крепостной вал, выводит на мощеную площадь. Серая громада курессаарской цитадели, будто вытесанная из одного куска камня, неожиданно открывается из темной арки. Стены, кое-где прорезанные маленькими окошками со свинцовыми рамами, завершаются прямыми зубцами. Именно такими и представлялись мне с детства замки крестоносцев — суровыми, мрачными. Внутри цитадели скрыт маленький дворик, куда ведет единственная низкая стрельчатая арка, которую в любую минуту может закрыть висящая наготове решетка-герса.
Теперь в замке этнографический музей Сааремаа. Можно бесконечно бродить по его этажам и галереям, опоясывающим крохотный внутренний дворик, рассматривать тесаный готический декор торжественных залов, слушать гулкое эхо шагов под сводами капеллы...
О многом поведали эти стены архитекторам-реставраторам Кальви Алуве и Яану Митту. Они увидели следы многочисленных осад, ремонтов и достроек, которым постоянно подвергался Курессааре. В Ливонскую войну замок захватили войска польского короля Сигизмунда. Поляков сменили шведы, соорудившие вокруг цитадели новые укрепления. В Северную войну армия Петра I штурмом овладела крепостью, взорвав ворота. Чтобы восстановить утраты, разобраться в наслоениях эпох, реставраторам потребовалось пятнадцать лет. Основанием для этих кропотливых работ, завершенных только в прошлом году, послужили старинные чертежи, предоставленные Шведским королевским архивом.
Из маленького окошечка, к которому ведут низкие ступени, спрятанные в толще стены, можно охватить взглядом расположенные звездой вокруг цитадели бастионы, а за ними — запутанные улочки Кингисеппа. Видны ратуша, мельница, пожарная каланча и современное здание автовокзала, построенное на окраине,
...Вечером ветер принес с Балтики набухшие фиолетовые тучи. Они снова затянули небо, грозя разразиться над Сааремаа. Но упрямый солнечный луч отыскал прореху в небесной вате и, ударив в землю, расцветил фасады домов. Черепицы башенок Курессааре засветились рябиновыми гроздьями в зеленой листве парка.
Когда самолет, на котором я улетал с Сааремаа, стал набирать высоту, открылась мне желтая плоскость острова с серыми лентами дорог, сбегающихся к россыпи разноцветных домов возле темной громады замка.
Остров, казалось, плыл по синим волнам, как корабль.
г. Кингисепп, Эстонская ССР
Михаил Ефимов
(обратно)
Амброз Бирс. Изобретательный патриот

На аудиенции у Короля Изобретательный Патриот вынул из кармана бумаги и сказал:
— Позвольте предложить Вашему Величеству новую броню, которую не может пробить ни один снаряд. Если эту броню использовать на флоте, наши боевые корабли будут неуязвимы и, следовательно, одержат победу. Вот свидетельства министров Вашего Величества, которые удостоверяют ценность изобретения. Я готов расстаться с ним за миллион тумтумов.
Изучив документы, Король отложил их в сторону и велел Государственному Казначею Министерства Вымогательств выдать миллион тумтумов.
— А вот,— сказал Изобретательный Патриот, вытащив бумаги из другого кармана,— рабочие чертежи изобретенного мной орудия, снаряды которого пробивают эту броню. Их мечтает приобрести брат Вашего Величества, Император Баца, но верноподданнические чувства и преданность Вам лично заставляют меня предложить их сперва Вашему Величеству. Всего за один миллион тумтумов.
Получив согласие, он засунул руку в другой карман.
— Цена этого непревзойденного орудия была бы гораздо выше, Ваше Величество, если бы не тот факт, что его снаряды можно отразить путем обработки моей брони новым...
Король дал знак Главному Доверенному Слуге.
— Обыщи этого человека,— велел он,— и доложи, сколько у него карманов.
— Сорок три, сэр,— сказал Главный Доверенный Слуга, выполнив приказ.
— Да будет известно Вашему Величеству,— в ужасе вскричал Изобретательный Патриот,— что в одном из них табак.
— Переверните-ка его вверх ногами да потрясите хорошенько,— молвил Король.— Потом выпишите ему чек на 42 миллиона тумтумов и предайте казни. И подготовьте указ, объявляющий изобретательность тягчайшим преступлением.
Перевел с английского В. Баканов
(обратно)
Оглавление
За кормой 2000 миль
Поперек середины мира
Тиро Фихо
Чтить труды и борения ...
Ночи циклопа
Путешествие в прошлое
Скрипач и водяной
Аромат Фукуока
Десятидневный полет «Вояджера»
Николай Балаев. Солнечные птицы
Великая австралийская гонка
Эктор Пиночет. Крыса
Свет старого дома
Амброз Бирс. Изобретательный патриот
Последние комментарии
5 часов 46 минут назад
21 часов 50 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад
3 дней 13 часов назад
3 дней 17 часов назад