Атлас Ленина

Они стояли друг против друга на буром, пропитанном нефтью снегу — казачий офицер в длинной шинели и маленький, щуплый механик. Механик спокойно выдерживал настороженные взгляды столпившихся вокруг казаков.
— Так, говоришь, вся сгорит?
— Вся, вся, господин офицер, и быстренько так, ровно, никакого риску.
— Ну, валяй. Только смотри... — офицер кивнул, и несколько казаков пошли за механиком к резервуарам с нефтью.
Струя черного маслянистого дыма рванулась вверх, как только побежали по разлитой на земле тягучей жидкости оранжевые коптящие языки пламени. Столб дыма становился все выше и выше. Он изгибался, клубился на степном ветру.
— Красные!
Офицер вскинул бинокль. Бесцветный зимний горизонт как будто двигался, распадаясь на черные точки, их становилось все больше. И вот уже ясно видно: по заснеженной степи на дым занимающегося пожара скачут, спешат — шашки наголо — всадники.
— Опоздали, большевички. По коням! Теперь сама догорит.
Это было в январе 1920 года в прикаспийской степи. Именно сюда, в междуречье Урала и Эмбы, лежит маршрут нашего нового путешествия с атласом Ленина «Железные дороги России». Составители атласа не обозначили этих мест — здесь тогда не было железных дорог. В правом нижнем углу карты XIII рукой Владимира Ильича схематически нанесена река Урал в ее нижнем течении, вплоть до впадения в Каспий, и поставлены два кружочка — населенные пункты на берегах Урала. Против них надписи, тоже сделанные ленинской рукой: Гурьев, Гребенщиково.
Уездный городок и маленький казачий хутор на правом берегу Урала. Чем же привлекли они внимание Владимира Ильича?..
При взгляде на современную карту этих мест сразу бросаются в глаза многочисленные черные значки. Они рассеяны по междуречью Урала и Эмбы, забираются и за реку Урал, доходят почти до Волги. Нефть... Открытая еще в конце прошлого века, она к семнадцатому году добывалась здесь в немалых количествах.
Не связаны ли ленинские пометки с эмбенской нефтью?
— ...У нас не бывает заседания Совета Народных Комиссаров или Совета Обороны, где бы мы не делили последние миллионы пудов угля или нефти... когда все комиссары берут себе последние остатки и каждому не хватает, и надо решать: закрыть фабрики здесь или там, здесь оставить рабочих без работы или там,— мучительный вопрос...
Так говорил Владимир Ильич еще в мае 1919 года. Республика в то время была начисто отрезана от всех нефтяных бассейнов. Прорваться во что бы то ни стало к спасительным источникам тепла, света, машинного движения! Это становилось одной из насущных, первоочередных задач. В каком направлении сосредоточить усилия? Грозный? Баку? Нет, до них еще долог путь; барьерами на том пути стали деникинская «добровольческая армия», контрреволюционное казачество Кубани и Терека и, наконец, мусаватисты Азербайджана...
Ближе и реальней — Эмба. Колчаковская «империя» уже с грохотом разваливалась, и только уральская белоказачья армия закупоривала путь к нефти северо-восточного Прикаспия.
В Астрахань летит телеграмма, подписанная В.И. Лениным:
«Обсудите немедленно:
...нельзя ли завоевать устье Урала и Гурьева для взятия оттуда нефти, нужда в нефти отчаянная.
Все стремление направьте к быстрейшему получению нефти и телеграфируйте подробно».
И вот ленинский наказ выполнен.
В «Избранных произведениях» М.В. Фрунзе, в оперативных донесениях командующего Туркестанским фронтом читаем:
«Телеграмма. Председателю Совета Обороны тов. Ленину, № 104. 10 января 1920 года...
8 января нашей кавалерией заняты Доссорские промыслы и Большая Ракушечья пристань. Промыслы целы. Ракушечью пристань противник пытался поджечь, но огонь нашими частями потушен, по донесению начдива в Ракушечьей имеется около 12 миллионов пудов нефти».
Большая Ракушечья пристань... Судя по телеграмме, этот маленький поселок на берегу Каспийского моря был 8 января ареной событий значительных и драматических. Подробности этого забытого, но важного эпизода гражданской войны мне предстоит выяснить. Надо ехать в Ракушу...
В книге географа А. Замятина «По Уральской области», изданной в Петербурге в 1914 году. Большой Ракуше посвящено несколько страниц и фотографий. Маленький нефтеналивной порт, затерявшийся в приморской степи на пустынном, сплошь заросшем непролазными камышами, мелководном каспийском берегу, — такой была Ракуша в те годы. Здесь было два хозяина: «Эмба-Каспий» и Урало-Каспийское нефтяное общество.
Ровными рядами, как перед началом игры на клетчатой доске, выстроились гигантские белые шашки резервуаров. Из степей, с промыслов, два нефтепровода гнали в резервуары нефть. Отсюда нефть по мере надобности перекачивалась в нефтепровод, уложенный на замасленный дочерна помост. Помост шагал деревянными опорами вдаль к морскому горизонту, за девять километров, к глубинам, которые позволяли подойти нефтеналивным баржам. Плашкоуты со всякими грузами для «Эмбы—Каспия» причаливали в одной версте от берега к длинной узкой земляной насыпи, где ходили по рельсам вагонетки. Другой хозяин Ракуши — Урало-Каспийское общество — проложил рельсы прямо по прибрежному дну. Вагонетки из соленой воды выкатывали лошадьми.
— Ракуши уже давным-давно не существует, — сказали мне в гурьевском Управлении магистральными нефтепроводами. — Сейчас на том месте голая степь. Море ушло километров на пятьдесят, нефть стали по новому нефтепроводу на Орск качать... Резервуары, оборудование — все демонтировали и вывезли еще перед войной.
— А не знаете ли вы стариков, которые работали в Ракуше в девятнадцатом-двадаатом годах?
Стали вспоминать, звонить нефтяникам-пенсионерам. Десятки имен, десятки людей, живых и умерших...
Этот? Нет, он в Ракуше только в последние годы сторожем был, когда там никого уже не осталось.
А тот там не работал, он тогда на Макате ключником был.
Наконец удалось все же найти двоих — Сергея Петровича Кочнева, бывшего рабочего Ракушечьей пристани, и Петра Ивановича Агафонова, бывшего конника Чапаевской дивизии, красноармейца того самого полка, который освободил Большую Ракушу.
Их рассказы и позволили мне узнать, что же случилось на Большой Ракушечьей пристани в начале 1920 года.
Два года белоказачьей власти эмбенскую нефть по-прежнему выкачивали старые хозяева — «Уралка» (так называли рабочие английскую концессию — Урало-Каспийское нефтяное общество) и «Эмба — Каспий» братьев Нобель... Сергей Петрович Кочнев работал в «Уралке» и на всю свою долгую жизнь запомнил житье-бытье, которое выпало на его горемычную долю. Работали по двенадцати часов. Из густых зарослей камыша и травы белоголовника комариные тучи наползали на Ракушу; даже днем приходилось работать в сетках. Воды не было, ее в бочках с Урала привозили; на каждую семью летом, в самый лютый зной, только по ведру в день отпускали... Невысокий земляной вал, окружавший Ракушу, не спасал от наводнений в пору сильной моряны; и случалось, что ледяная каспийская вода, гонимая этим ветром, прорывалась в поселок вместе со льдом. Заливало так, что в домах рыба плавала, а нефтяники на работу на дощатых плотиках добирались...
Вместе с Сергеем Петровичем работал в Ракуше механиком перекачечной станции его старый приятель Александр Фомич Зяблицов. Невысокого роста, подвижной; борода такая густая, что, кажется, прямо из-под глаз росла. Человек он был замкнутый, разговоры вел только о деле; среди приятелей слыл непоколебимым трезвенником. Как и многие здешние рабочие, он был заядлым охотником, благо для охоты на пернатую дичь в первозданных камышовых дебрях было раздолье сказочное.
Уже перед новым, двадцатым годом управляющих, инженеров и старших мастеров стали выдувать из Ракуши ветры вплотную надвинувшихся военных событий. Выдувать на юг, в Закаспий, в мусаватистский Азербайджан. Рабочим стало ясно, что «царству» генерала Толстова приходит конец и что в последние свои часы белоказачье воинство способно на любое преступление.
Через несколько дней нагрянул в Ракушу — это было серым утром 8 января 1920 года — конный казачий взвод, которому генерал Толстое приказал во что бы то ни стало поджечь Ракушу и уничтожить все резервуары с нефтью.
Казаки спешились, загомонили: с какого конца поджигать? И в эту минуту к ним подошел Зяблицов.
— Господа, — начал он, поклонившись, — позвольте мне помочь вам. Иначе вы, незнакомые с устройством нефтехранения, непременно взлетите на воздух вместе с резервуарами...
Они стояли и смотрели в глаза друг другу — офицер, посланный уничтожить нефть, и бородатый рабочий, твердо решивший эту нефть спасти. Отец пятерых детей, он по своей доброй воле шел на смертельный риск...
Внешне Зяблицов был почтителен и даже угодлив. Отвечая на вопросы хмурого офицера, объяснял, что он здешний мастер, всю жизнь верой и правдой служил господам нефтепромышленникам и всегда был у них в почете и милости, что всей душой сочувствует борцам против большевиков. И поэтому он готов помочь уничтожить все ракушинские запасы, дабы ни одна капля нефти не досталась красным.
И Зяблицов предложил казакам свой план — выпустить из резервуаров по трубам всю нефть в низину за валом и там поджечь ее. Поколебавшись, казаки согласились. Действительно, кому хочется гореть в этом адском огне!
Несколько казаков вместе с Зяблицовым пошли от резервуара к резервуару. Мастер сначала тянул за какой-то трос, а потом начал отвинчивать задвижку. Нефть глухо заурчала в трубах.
— Пошла!.. Идем дальше!.. Торопиться надо... Не ровен час — красные нагрянут... За такие-то дела порубают нас всех без разговору!..
И казаки спешили к следующему резервуару.
Чтобы понять хитрость Зяблицова, необходимо знать некоторые технические подробности устройства резервуаров. Каждый из них имел специальную задвижку для спуска так называемой «подтоварной воды» — воды, которая в качестве примеси всегда присутствует в сырой нефти. Вода, жидкость более тяжелая, чем нефть, постепенно отстаивалась на дне резервуара, и время от времени ее выводили по специальным трубам за вал и сбрасывали прямо на землю. Кроме задвижек, на резервуарах стояли еще «хлопушки»-клапаны обратного действия, которые автоматически закрывали выход нефти под ее же собственной тяжестью... Александр Фомич одновременно оттягивал «хлопушку» и отвинчивал задвижку. А потом, когда казаки, ничего не смыслившие в устройстве резервуаров, отходили, успокоенные рокотом пошедшей по трубам нефти, Зяблицов незаметно отпускал трос, и «хлопушка» вновь закрывала резервуар.
Черная нефтяная вода и вслед за ней небольшое количество нефти хлынули из трубы на замерзшую землю. Офицер поднес спичку, и нефть вспыхнула. Густой дым стал клубами подниматься к небу. Если бы казаки пробыли в Ракушах еще полчаса, нефть в выводной трубе иссякла, и обман раскрылся бы перед ними. Но именно в этот момент на горизонте зачернела кавалерийская лава. 1-й кавалерийский полк 25-й Чапаевской дивизии обходил Ракушу с севера и востока...
Они спешили, погоняя измученных лошадей, голодные, усталые. Четыре месяца прошло с того страшного дня, 5 сентября 1919 года, когда погиб начдив Чапаев. Сегодня они шли вперед, преследуя по пятам уральских белоказаков.
В канун нового, двадцатого года командование 25-й Чапаевской дивизии, во главе которой стоял теперь Иван Кутяков, предоставило белоказакам последнюю возможность прекратить бессмысленное и кровопролитное сопротивление и добровольной сдачей заслужить прощение за все содеянное ими зло. На несколько дней фронт замер на рубеже южнее поселка Гребенщиково (того самого, который был отмечен Лениным в его атласе). Через парламентеров белым передали текст специального постановления Совнаркома, подписанного В.И. Лениным, «Об оказании помощи населению Уральской области...»
На второй день нового года генерал Толстое отверг советский призыв, и на рассвете 3 января Чапаевская дивизия начала последний бросок на юг, к Гурьеву, к нефти.
Главный удар наносила кавалерийская группа Ивана Бубенца, наступавшая по обоим берегам Урала.
Там, где десятилетия назад полыхал огонь гражданской войны, поднимаются сегодня все новые и новые нефтяные вышки, даруя людям богатства Каспия.
В армейском штабе ее называли «кинжалом дивизии».
Бывший чапаевский кавалерист Михаил Никифорович Чурсин, живущий ныне в Гурьеве, рассказывал мне о тех днях:
— Зима была снежная и морозная. В степи холода под сорок. Разуты, раздеты; на плечах — старье и на ногах — рванье, пообносились в походе-то. Помню, хочется слезть с коня, заскочить в избу погреться, а не могу: ноги вместо обуви кошмой обмотаны и в стремена вдеты; если спрыгнешь на снег — все раскрутится, босым останешься.
И так за себя... за умерших... за умирающих... слабых, — писал позднее в воспоминаниях бывший чапаевец Степан Хрипунов (его рукопись хранится в Гурьевском краеведческом музее), — день и ночь, день и ночь, без конца, без отдыха, полуголодные, вшивые. Спать приходилось по три-четыре часа в сутки с перерывами...»
В этих условиях чапаевцы прошли последние полтораста километров менее чем за три дня, и на рассвете 5 января 1920 года эскадрон Василия Беспалова первым вступил в Гурьев. И, не задерживаясь, бойцы 25-й устремились дальше на юго-восток, к нефтяным промыслам...
Итак, эмбенская нефть в наших руках.
Новая и не менее трудная задача — немедленно вывезти в центральные районы России уже добытую нефть. Как ее везти? Железных дорог нет, нефтепровода нет, шоссейных дорог нет, северный Каспий скован льдами, степи занесены снегом.
Еще до освобождения Гурьева и нефтепромыслов, 27 декабря 1919 года, по предложению В. И. Ленина в повестку дня заседания Совета Народных Комиссаров был включен пункт: «Вывоз гужом эмбенской нефти».
Академик И.М. Губкин вспоминал позднее об этих днях:
«Обычно нефть шла из Эмбенского района водным путем. Но как вывезти нефть зимой из пустынного края, где гуляли снежные бураны?
Вспомнили, что единственным транспортным средством в степях, засыпанных снегом, может быть только верблюд, а единственной посудой, в которую можно налить нефть, являлись 8—10-пудовые бочки. На каждого верблюда можно было нагрузить не более двух наполненных нефтью бочек, то есть около 16—20 пудов. Если бы удалось снарядить несколько караванов, то можно было бы вывезти в Уральск несколько сот тонн нефти и направить ее оттуда на помощь Москве.
Ленин одобрил этот план».
Бочки собирали где только возможно — даже с этим было трудно в те годы! Но их собрали, переправили на Эмбу. 15—20 тысяч пудов нефти — минимальная, но необходимая промышленности Москвы доза — были доставлены караванами по назначению.

Так был выполнен ленинский наказ. 15 марта 1920 года Владимир Ильич выступал с речью перед делегатами Всероссийского съезда рабочих водного транспорта.
— Все зависит, может быть, от топлива, — говорил он, — но положение с топливом теперь лучше, чем в прошлом году. Мы дров можем сплавить больше, если не допустим беспорядка. У нас во много раз дело обстоит лучше с нефтью, не говоря уже о том, что Грозный, наверное, в близком будущем будет в наших руках, и если это все-таки еще вопрос, то эмбенская промышленность в наших руках, а там от 10 до 14 миллионов пудов нефти сейчас уже имеются.
О дальнейших событиях, связанных с ленинскими пометками в атласе, я узнал из записок В.А. Радус-Зеньковича, работавшего в годы гражданской войны председателем Саратовского губернского исполкома и Реввоенсовета Поволжской армии. Старый коммунист вспоминал о том, как в конце девятнадцатого — начале двадцатого года был «поставлен в повестку дня» проект срочного строительства железной дороги от Гурьева через нефтепромыслы Доссор и Макат к тупиковой станции Александров-Гай (Алгай). Параллельно должен был протянуться нефтепровод.
«Владимир Ильич, — писал В.А. Радус-Зенькович, — вникая во все детали строительства дороги, дает ряд новых указаний. В телеграмме М.В. Фрунзе (Туркестанский фронт) указывалось, что к началу весенних работ по линии Алгай — Гребенщиково должны быть размещены для земляных работ 6 тысяч чернорабочих, на участке Гребенщиково — Эмба особое внимание обратить на доставку воды и хранение ее...»
Гребенщиково стало важным ориентиром: около этого хутора железная дорога и нефтепровод должны были пересечь реку Урал. Наверное, поэтому Владимир Ильич и нанес на карту железнодорожного атласа этот казачий хутор.
А вскоре стал доступен нефтяной Кавказ. Оттуда потянулись в центральную Россию составы с топливом. Проект дороги и нефтепровода на Александров-Гай потерял свое значение. Вместо них позднее проложили нефтепровод и железную дорогу от Эмбы в сторону промышленного Урала, на Орск и Оренбург.
Такова история, связанная еще с двумя пометками в атласе Ленина. История еще одной замечательной победы молодой республики. Победы в борьбе против интервенции и контрреволюции и s мирном хозяйственном строительстве.
Фото М. Грачева
А. Шамаро, наш спец. корр.
(обратно)
«И стон один, и клич: Россия!..»

Окончание.
Начало в № 3
Цена молчания
Александра Пеева вводят в кабинет следователя. Голая, казарменного вида комната. Грязные, в потеках стены. Зарешеченное окно. Еще одна дверь. В нескольких метрах от стола привинченный к полу табурет. Впрочем, обстановка знакомая: как адвокат, он не раз бывал на свиданиях с подзащитными в подобных кабинетах. Только вот вторая дверь... Это непривычно. Куда она ведет?..
За столом — следователь в военной форме, в чине штабс-капитана. У окна — еще двое. С одним он, кажется, знаком: командующий Первой армией генерал Кочо Стоянов. Второй, полковник — мрачная личность. Тяжелые плечи, длинные, как у гориллы, руки. Из-под густых бровей — угрюмый взгляд.
— Прошу садиться, — приглашает генерал Стоянов.
Адвокат внимательно смотрит на него. Голос молодого генерала ровен, манеры сдержанны. Конечно, рисуется, позер.
Пеев садится. Все молчат.
Следователь поворачивает рефлектор лампы, и на Пеева падает яркий пучок света. Полоса света отделяет его от остальных в этой комнате. Они как бы стушевываются в полумраке.
Только голос Стоянова от черного окна:
— Кажется, я имею честь быть с вами знакомым, господин Пеев. Это поможет нам найти общий язык. Итак...
Александр Пеев молчит. Свет бьет прямо в глаза, выжимая слезы. Он опускает веки.
— Итак, прошу вас, ничего не утаивая, рассказать
о своей деятельности.
Арестованный молчит.
— В данной ситуации молчать неразумно, — в голосе Стоянова легкая насмешка. — Мы все знаем. И о вашей коммунистической деятельности в Карловской околии и о поездке в Советскую Россию. И о том, чем вы занимались до сегодняшнего дня. В последнем нам неоценимо помогла обнаруженная на вашем столе книжка «Бай Ганю». Она служила кодом, не так ли? С ее помощью мы прочли и радиограмму, которую вы не успели дешифровать.
Генерал наблюдает, какое впечатление произвели на арестованного эти слова. Лицо Пеева побледнело. На виске напряженней запульсировала жилка.
— Итак, вы — коммунист, руководитель тайной резидентуры, работали на советскую разведку... Прошу не тратить времени на экскурсы в историю, к этому мы еще вернемся. Прежде всего: состав группы, источники информации, шифр, цели, поставленные перед вами Москвой.
— Пожалуйста, отведите в сторону лампу.
Стоянов делает знак капитану. Тот опускает рефлектор. Фигуры присутствующих снова объемно проступают на фоне зарешеченного окна и грязных стен.
— Цель передо мной стояла одна, — медленно выговаривает Александр Пеев. — Надеюсь, господа, вам известны эти строки:
По всей Болгарии сейчас.
Одно лишь слово есть у нас,
И стон один, и клич: Россия!..
— Хватит дурака валять! — рявкает полковник.
— Не надо горячиться, — сдерживает его Стоянов. — Если не ошибаюсь, это из Ивана Вазова. Продолжайте.
— К этим словам трудно что-нибудь добавить. История нашей родины в прошлом и, я убежден, в будущем кровно слита с Россией. Поэтому я делал все, что мог, чтобы предотвратить катастрофу.
— Что именно?
— Не позволить царю Борису втянуть Болгарию в войну с Россией и помочь России победить фашистскую Германию.
— Дальше!
— Все. Я сказал все, что считал нужным. Больше не скажу ни слова.
— Вы уверены в этом?
Наступила пауза. Стоянов подошел вплотную к Пееву. Посмотрел на него в упор. Заложил руки за спину.
— Что ж, господин адвокат... — Он помедлил.— Прошу вас пройти туда.
Он кивнул на дверь в боковой стене, рядом со столом.
Пеев встал. Сейчас свет падал на лицо молодого генерала. Адвокат увидел, как помутнели глаза Стоянова, затрепетали ноздри. От недавней «интеллигентности» не осталось и следа.
— А вы пока займитесь радистом, — приказал он капитану, переступая порог.
Радиста Емила Попова привести на допрос не смогли. Брошенный сразу же после ареста в камеру, он разломал жестяную кружку и перерезал на обеих руках вены. Охрана спохватилась, Попова отнесли в тюремный лазарет. Врач заверил, что арестованный выживет. Но он потерял много крови и теперь был в глубоком беспамятстве.
Арестованные одновременно с Поповым и Пеевым их жены, железнодорожный рабочий Тодор Василев, писарь штаба военного округа Иван Владков и еще несколько человек, несмотря на допросы и пытки, отрицали свою связь с подпольной разведывательной организацией.
Однако такая организация существовала. Об этом свидетельствовали те несколько радиограмм, которые удалось записать службе перехвата, а затем и расшифровать с помощью кодовой книги — повести «Бай Ганю». Ключом к расшифровке действительно послужил листок, обнаруженный в момент ареста на столе Александра Пеева.
Генерал Кочо Стоянов внимательно, слово за словом вчитывался в тексты радиограмм.
В той, что была найдена в кабинете адвоката — она получена из Москвы, — говорилось: «Донесение о планах германского командования чрезвычайно ценное. Объявляю благодарность Журину. Желаю дальнейших успехов. Сокол».
Уже этот текст настораживал. Планы германского командования? Благодарность Москвы?
Следующие радиограммы ввергли генерала в смятение. Их было всего около десятка, перехваченных с первых чисел апреля по шестнадцатое включительно. Однако в них содержалось огромное количество самой разнообразной и строго секретной информации: о продвижении воинских эшелонов через Софийский железнодорожный узел; о состоянии подвижного состава и путей; о дислокации германских войск на Черноморском побережье и выходе в море военных кораблей с баз Бургаса и Варны; о переброске германских дивизий из Греции на Восточный фронт; об отношениях Германии с Турцией...
Особенно озадачили Стоянова три радиограммы. Первая — с донесением из самой Германии. «В Магдебурге, в зоне среднегерманского канала, расположены крупные склады продовольствия и горючего»; эта была передана накануне ареста Попова. «Донесение Журина. Военный министр Михов сообщил членам совета, что во время посещения им главной штаб-квартиры Гитлера на Восточном фронте фюрер лично рассказал о подготовке небывалой по своим масштабам стратегической наступательной операции, которая начнется в середине лета. Танковые соединения Гудериана и Гота нанесут удар на центральном секторе фронта. К тому времени войска будут оснащены новым оружием. Детали плана уточняются». Это донесение было передано в Москву в самом начале апреля. И третье: «Журин сообщил, что царь Борис в сопровождении начальника генерального штаба Лукаша посетил ставку Гитлера. Подробности следуют». Радиограмма датирована пятнадцатым апреля — накануне ареста. Именно в тот день царь и генерал Лукаш вернулись из Германии. Значит...
Значит, подпольная организация располагает огромными связями, охватывающими не только военный аппарат, но даже самые приближенные к царю круги. И это донесения за неполные две недели. А что содержалось в предыдущих радиограммах? Как давно уже действует в Софии разведгруппа?
Но самое главное: откуда она получает информацию? О железнодорожных перевозках — возможно, от рабочего Василева. О передвижении войск — от писаря Владкова. Но остальное? Из самого рейха, из дворца? И прежде всего: кто такой этот «Журин», сообщивший факты, которые представляют особую государственную тайну?
К сожалению, размышляет генерал, доктор Делиус оказался прав: арестованные молчат. Радист в лазарете еще не пришел в себя. И с адвокатом они тогда перестарались — он тоже не скоро поднимется на ноги...
— Доктор Делиус! — войдя в комнату, доложил адъютант.
— Проси.
Стоянов провел ладонью по лицу, сгоняя оцепенение. Застегнул воротник кителя.
— Какие новости? — спросил абверовец, располагаясь в кресле и доставая неизменный мундштук.
— Все в порядке. Группа обезврежена. Рация прекратила работу.
— Та-ак... — многозначительно протянул доктор. — А кто такой Журин?
Из-за толстых стекол очков глаза Отто Делиуса смотрели на генерала холодно.
«Все знает! — с раздражением подумал Стоянов. — И получает все из первых рук. Кто работает на него? Недев? Или этот прохвост-следователь?..» Впрочем, возмущаться бессмысленно: Стоянову известно, что и за ним самим гестапо и абвер установили слежку...
— Кто такой Журин, мы пока еще не знаем, —
ответил он.
— Не знаете? С-союзнички, нечего сказать! А вы знаете, что этот мифический «Журин» выдал противнику?
Стоянов никогда прежде не слышал от абверовца такого тона. В нем звучали злоба и презрение. «Как он смеет! Он ниже меня по чину!..» Но генерал охладил свой гнев: доктор Делиус — немец, представитель начальника гитлеровского абвера. И ссориться с ним неблагоразумно.
Делиус резко поднялся, подошел к Стоянову. Щеки его были густо напудрены и надушены. Под слоем пудры кожа в сети мелких дряблых морщин — как туалетная бумага.
— Хороши! Болтуны! И ваш министр и ваши члены военного совета! — гневно продолжал он. — Выдать операцию, подготовка которой требует всех усилий рейха!..
Делиус остановился.
— У нас за такой просчет начальник контрразведки получил бы пулю в затылок... Не представляю, что скажут в Берлине.
Он снова помедлил. Потом, еще ближе подойдя к Стоянову, тихо проговорил:
— Об этой радиограмме Журина я докладывать адмиралу Канарису не буду. А вам рекомендую из дела ее изъять — и помалкивать.
«Струсил! — догадался Кочо. — Своя шкура дороже. Ну что ж... Устраивает. Ты теперь у меня в руках!..»
— Согласен, — ответил он.
— Сейчас главное — Журин, — снова взялся за мундштук Делиус и «великодушно» поделил ответственность: — Мы оба недооценили значение этой разведгруппы.
Экстренное совещание
Рано утром 18 апреля члены высшего военного совета были подняты с постелей телефонными звонками своих адъютантов:
— Министр вызывает на экстренное совещание!

Утро было солнечное. По тротуарам, расталкивая прохожих, неслись мальчишки с утренними выпусками «Слово», «Зора», «Днес».
Они пронзительно кричали:
«Налет на заводы Шкода в Чехословакии!», «Монтгомери готовит атаку на Роммеля!»
Генералы собрались е зале, ожидая министра. В образовавшихся группках строили предположения: «Видимо, связано с ростом дезертирства...», «Вчера я был у министра, он был очень озабочен: греческие партизаны активизируются...», «Да нет же, господа! Царь возвратился из Берлина. Я слышал: Гитлер настаивает, чтобы мы послали дивизии на Восточный фронт...»
Министр Михов вошел, как всегда, стремительно. Одновременно с ним из дверей кабинета появились генерал Кочо Стоянов и доктор Делиус.
— Господа! — заторопился Михов, не дожидаясь, когда перестанут скрипеть кресла. — Генерал Стоянов должен сообщить вам нечто чрезвычайное. Прошу!
Кочо встал, неторопливо оглядел лица присутствующих: «Кто из них?» — и без предисловий начал:
— В Софии с помощью немецкой военной разведки раскрыта советская радиофицированная резидентура. Ее руководитель — известный столичный адвокат Александр Пеев.
По залу прошел шумок: многие знали адвоката или по крайней мере слышали о нем.
— Перехвачены радиограммы. Они свидетельствуют, что резидентура располагала широкой сетью информаторов. Возможно, что Александр Пеев, как бывший офицер, использовал свои знакомства и в военных кругах...
Стоянов зачитал некоторые радиограммы, однако ни словом не упомянул о донесении, раскрывающем замысел немецкого наступления, и об ответе на него из Москвы. Докладывая, он продолжал разглядывать членов совета. «Кто?»
Он закончил доклад, помедлил и сказал:
— Наиболее ценные сведения поставлял Пееву некто по кличке «Журин»...
Ни одно лицо не дрогнуло, никто не заерзал. «Нет, не может быть, чтобы кто-то из этих генералов...»
— У нас есть все возможности, чтобы обнаружить эту личность в самое ближайшее время!
Кочо сел. Министр повторил, что он чрезвычайно обеспокоен этим известием и в то же время глубоко благодарен немецким друзьям за сотрудничество (поклон в сторону доктора Делиуса).
— Приказываю каждому члену высшего совета проверить в своем управлении, штабе и отделе все возможные каналы утечки военной информации, — сказал Михов. — Враги трона и государства должны быть обезврежены.
На этом заседание закончилось.
Александр Пеев и Никифор Никифоров
Генерал Никифор Никифоров узнал об аресте адвоката в первый же вечер, 16 апреля.
Жена Пеева Елисавета — ее арестовали вместе с мужем — упросила, чтобы разрешили захватить с собой вещи. Возвращаясь в перевернутую вверх дном квартиру, она столкнулась на лестнице с соседом, с которым дружили Пеевы. Шепнула:
— Площадь Райко, дом генерала Никифорова. Скажите ему, что мы все арестованы.
Никифоров и Пеев познакомились сорок лет назад, в стенах юнкерского училища.
В роду Никифоровых, людей «военной косточки», незыблемой традицией была любовь к России. Это были годы первой русской революции 1905 года, нашедшей отклик и в среде болгарской интеллигенции, у молодежи. Даже в стенах царского военного училища образовался тайный социалистический кружок. В него вошли одиннадцать юнкеров. В их числе Никифор Никифоров. Руководителем кружка стал Александр Пеев, весьма образованный, начитанный юноша, страстно увлеченный революционными идеями.
Общность интересов проявилась и в том, что оба — Никифор и Александр — поступили на юридический факультет. Никифоров начал к тому же работать репортером в газете «Комбана» («Колокол») — левом издании антимонархического направления. А Пеев все свободное время стал отдавать социалистическим кружкам, марксистской литературе.

Началась Балканская война. Оба оказались на одном участке фронта. Оба были награждены «крестами за храбрость» и повышены в чинах. За Балканской последовала первая мировая война. И снова бои, чины, «кресты за храбрость»... Волей своих правителей, вопреки чувствам народа Болгария в первой мировой войне выступила на стороне Германии, против России. Война окончилась для страны поражением и позором...
После войны, оставив службу, Никифоров и Пеев завершили юридическое образование. Александр стал адвокатом и профессионалом-революционером. Никифор же вернулся в армию и начал быстро продвигаться по служебной лестнице: военный прокурор в Софии, председатель военного суда в Русе, председатель высшего военного кассационного суда...
Он оказался талантливым юристом, энергичным и исполнительным. За два года до начала второй мировой войны был произведен в чин генерала и назначен начальником судебного отдела военного министерства и членом высшего военного совета.
С семейством Пеевых Никифоровы поддерживали дружбу. Александр Пеев стал известным столичным адвокатом. А второй стороной его жизни, если она и существовала, Никифоров предпочитал не интересоваться.
Но вот наступил 1941 год. Гитлеровское командование начало срочно перебрасывать войска через Румынию к рубежам Болгарии. Одновременно в стране начались повальные аресты коммунистов, разгон прогрессивных организаций.
3 марта Никифоровы нанесли визит Пеевым. Женщины остались в гостиной, а мужья уединились в кабинете, заставленном шкафами красного дерева.
Закурили. Молчали. О безделицах говорить не хотелось. А о главном — о том, что тревожило... Давненько они не говорили по душам.
Первым прервал молчание Александр. Он подошел к полке, вынул томик в сафьяновом переплете. Перелистал.
— Слушай:
Россия! Свято нам оно.
То имя милое, родное.
Оно, во мраке огневое.
Для нас надеждою полно...
Это не только романтические мечтания, но и возможность помочь родине, — продолжил Пеев. — Мы давно с тобой не говорили откровенно, Никифор... Скажи: как ты относишься к тому, что войска Гитлера в Софии? Ты хочешь, чтобы Болгария вместе с Германией начала войну против России? Ответь честно — или лучше ничего не говори. Никифоров задумался. Потом сказал:
— Я отвечу, Сашо... Присоединение Болгарии к фашистской оси — преступление против нашего народа, против всего славянства. Война же против России приведет Болгарию к третьей национальной катастрофе — более страшной, чем две пережитые.
— Я был уверен, что ты ответишь именно так,— кивнул адвокат. — И я уверен, ты понимаешь: именно планами нападения на Советский Союз продиктована политика Гитлера на Балканах. Фюрер готовит себе выгодный плацдарм.
— Пожалуй, так.
— А теперь самое главное, — Александр Пеев оглянулся, как бы проверяя, нет ли кого-нибудь еще в комнате. — Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы расстроить планы Гитлера и царя Бориса.
— Но как?
— По крайней мере держать Советский Союз в курсе всех военно-политических событий, которые происходят в Болгарии. Прежде всего — знать все о происках фашистской Германии.
— Но как это сделать? — повторил Никифоров.
— Убежден, что ты будешь с нами... Слушай: я поддерживаю прямую связь с генеральным штабом Красной Армии.
— Ты — советский разведчик?
— Да. Потому, что я сын Болгарии.
Генерал Никифоров без колебаний согласился помогать Александру Пееву. Никифоров понимал: от его решения зависит положение в обществе, карьера, благополучие семьи, сама его жизнь. Но что значит все это по сравнению с судьбой родины? Он солдат. Не царя, а отечества...
Знание обстановки, участие в заседаниях высшего военного совета, обширные связи среди генералитета и во дворце помогали ему быстро находить ответы на вопросы, которые интересовали Пеева. Суть их сводилась к следующему: болгаро-немецкое военное сотрудничество; передвижение немецких войск в Болгарии и на всем Балканском полуострове; правительственные переговоры с Берлином; планы царя в связи с присоединением Болгарии к пакту агрессивных держав...
Пеев и Никифоров встречались, как и прежде, нечасто. Обычно вроде бы случайно за столиком сладкарницы на углу у городского сада или во время прогулок по городу. Иногда Пеев являлся прямо в служебный кабинет генерала в судебном отделе: адвокат пришел по делу своих подопечных. В наиболее срочных случаях использовали в качестве связных своих жен, а также жену радиста Попова — Белину.
Вскоре Пеев сказал Никифорову, что Центр утвердил его членом группы. Отныне его псевдоним — «Журин».
13 июня 1941 года генерал Никифоров явился на доклад к министру.
— Придется вам подождать, — остановил его в приемной адъютант. — У министра германский посланник Бекерле.
Наконец дверь кабинета распахнулась. Министр проводил посланника до самой машины. Вернулся, пригласил Никифорова. Его доклад слушал рассеянно. Лицо его было озабоченным. Прервал на полуслове:
— Все это малозначительно. Приближаются куда более важные события, они потребуют от нас удесятеренной энергии.
— Какие события? — стараясь не проявлять чрезмерного интереса, спросил Никифоров.
— Только что Бекерле сообщил мне решение фюрера: Германия начнет войну против России в конце этого месяца.
Министр встал из-за стола, нервно заходил по кабинету.
— Все приготовления завершены. Нападение будет совершено по линии сухопутной границы, а также с воздуха и с моря...
Министр перевел дыхание и бодро добавил:
— Фюрер убежден, что это будет блицкриг.
Война должна завершиться полной победой за три недели.
Он замолчал. И вдруг спохватился:
— Вы понимаете: это сугубо секретная информация. Но я так взволнован, что не мог не поделиться с вами!
В тот же вечер станция на улице Царя Самуила вышла в эфир по запасному, аварийному каналу связи:
«Журин сообщает: по сведениям, полученным непосредственно от военного министра, Германия в конце месяца совершит нападение на Советский Союз. Все приготовления завершены. Нападение произойдет...»
«Разрешите представить: товарищ Журин!..»
28 апреля 1943 года, поздно вечером, генерал Никифоров был срочно вызван в министерство.
В голосе дежурного офицера, хотя и звучал он с обычной почтительностью, Никифорову почудилось что-то недоброе. Предчувствие? Возможно. Но не только... Он понял, что кольцо смыкается, когда услышал в зале высшего военного совета произнесенное Кочо Стояновым имя «Журин». До того момента псевдоним Никифорова был известен в Софии только ему самому и Пееву. Отныне известен и врагам.
От дома генерала до военного министерства было недалеко. Обычно он проделывал этот путь пешком. На этот раз Никифоров вызвал машину. Приказал шоферу сделать большой круг по городу — и не гнать.
Черный «мерседес» генерала неторопливо плыл по улицам вечерней Софии. В толпе много военных. Много немцев. То и дело попадаются на костылях.
В зеркальце, прикрепленном над ветровым стеклом, Никифоров увидел отражение машины с притушенными фарами: она следовала за его «мерседесом». «Следят?.. Может быть, — с неожиданным для себя спокойствием подумал Никифоров.— Я сам выбрал свой путь. Да и успел не так уж мало за эти два года...»
Он стал припоминать.
Сразу же после нападения Германии на Советский Союз Центр поставил перед разведгруппой в Софии задачу: «Выяснить, намерено ли болгарское правительство вступить в войну на стороне фашистской Германии». Как получить ответ на этот вопрос? Газеты были заполнены барабанным боем, восторженной трескотней во славу германских «братьев». Что это, психологическая подготовка накануне решения?
Генерал Никифоров внимательно слушал, что говорят на заседаниях высшего совета. Наводил разговор на эту, тему, беседуя с начальником генерального штаба Лукашем, с военным министром... Пытался не только выведать, но и определенным образом повлиять на это решение. Он намекал членам совета, сообщал в докладах министру, что по многочисленным сведениям, стекающимся в судебный отдел, в армии чрезвычайно широко распространены антигерманские настроения, большинство солдат и офицеров против войны с Россией. И если будет принято опрометчивое решение, не избежать массового дезертирства, перехода частей на сторону русских и даже бунта в армии.
Никифоров не преувеличивал. Действительно, болгарские коммунисты пользовались большим влиянием в армии и лозунг «Ни одного солдата на Восточный фронт!» получил в полках и дивизиях самое горячее одобрение.
Но все же решающее слово оставалось за царем Борисом. Он мог, не посчитавшись ни с чем, ввергнуть страну в войну. Никифоров наведался к давнему своему знакомому, советнику царя Любомиру Люльчеву. Это была своеобразная личность — мистик, астролог, хиромант. Он имел на царя Бориса такое же влияние, как Распутин на русского царя. Борис прислушивался к его словам больше, чем к советам министров и генералов.
Как бы между прочим Никифоров постарался внушить Люльчеву свои опасения за состояние в армии, если царь необдуманно решится... и так далее и тому подобное. При следующей встрече советник сказал Никифорову, что Борис решил подождать со вступлением в войну — по крайней мере до того момента, когда немцы захватят Москву. На заседании высшего военного совета была подтверждена «воля монарха».
В тот же день Попов передал в Центр окончательный ответ на вопрос Москвы. Советское командование в ответной радиограмме выразило разведчикам благодарность.
Новое задание: не собирается ли Германия, используя свои войска в Болгарии, совершить нападение на Турцию, чтобы затем нанести удар во фланг Красной Армии — по Закавказью?
Как получить ответ? Никифоров решил, что прежде всего надо выяснить, не сосредоточиваются ли немецкие дивизии на болгаро-турецкой границе. Во время очередного доклада министру Никифоров сказал, что уже давно пора проинспектировать военные гарнизоны Пловдива, Сливена, Деде-Агача, Харманли. На турецкой границе не очень спокойно, а в тех гарнизонах члены высшего совета не бывали давненько.
— Вот и поезжай сам, — ответил Михов.
Больше недели «мерседес» Никифорова колесил вдоль границы. Ни на одном из участков генерал не обнаружил немецких частей. Проверил наблюдения в беседах с генералами, с высшими гитлеровскими офицерами в Софии. И вот уже группа Пеева с полной уверенностью сообщает в Центр, что Германия, по крайней мере осенью сорок первого года, на Турцию не нападет.
— В Центре высоко оценивают твою работу, — после очередного радиосеанса сказал Никифорову Пеев. — Просят узнать: не согласишься ли ты стать моим заместителем?
— Вряд ли это целесообразно, Сашо... — подумав, ответил генерал. — Я и "без того делаю все, что могу.
— Но тогда ты сможешь делать больше. Сможешь распределять общие усилия наших товарищей. Твой опыт, опыт военного и политика, очень пригодится для нашего общего дела.
— Разве мы работаем не вдвоем? — удивился Никифоров.
Александр усмехнулся:
— Вояки-одиночки? Нет...
Никифоров несколько дней обдумывал предложение. В конце концов согласился.
Став заместителем командира группы, он смог представить себе все масштабы тайной деятельности этой подпольной организации. Он познакомился с радистом Емилом Поповым, о существовании которого раньше только догадывался.
Он узнал, как много ценного сообщает скромный писарь штаба округа Иван Владков. Сведения Владков а дополнял железнодорожный рабочий Тодор Василев. Из Германии регулярно поступали письма от Александра Георгиева. Этот крупный банковский чиновник был направлен министерством финансов на
стажировку. Находясь в самом логове фашизма, он добывал информацию о мобилизации населения вермахтом, о формировании новых частей и передвижении их на Восток, о расположении военных заводов, баз и складов. Кроме того, в группу Пеева входили Борис Белински, ассистент физико-математического факультета Софийского университета, радиотехники братья Джековы — Иван и Борис...
Все собранные ими важнейшие секретные сведения стекались к Александру Пееву. За два года группа передала в Центр почти четыреста радиограмм. Они, представители рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, военных кругов, в миниатюре как бы представляли все слои населения Болгарии. Они все объединились в общей борьбе против фашизма, за освобождение своей родины. И объединило их одно — непреклонная вера, что иного пути нет. Они готовы были отдать жизнь в этой борьбе.
...И вот теперь генерал Никифоров срочно вызван в министерство. Зачем?..
«Мерседес» остановился у подъезда. Шофер распахнул дверцу. Солдат у входа взял на караул. Адъютант в вестибюле подхватил плащ.
В коридорах в этот поздний час было пусто и тихо. Только охрана и дежурные офицеры.
Никифоров неторопливо, чувствуя одышку, поднялся на второй этаж. Вот и кабинет Михова.
Он распахнул дверь. В кабинете — министр, генерал Стоянов и полковник Недев.
— Заждались, — мрачно проговорил Михов, поднимаясь из-за стола.
А Кочо Стоянов артистическим жестом вскинул руку:
— Разрешите представить, господа — он показал на Никифорова. — Товарищ Журин!..
Побег
Радист Емил Попов поправлялся медленно, тяжело. У койки в тюремном лазарете круглосуточно дежурили надзиратели.
Едва он оказался в силах встать на ноги, его повели на допрос.
— Никого, кроме Пеева, не знаю... О чем говорилось в радиограммах, не знаю... Шифра незнаю... Я только передавал... Согласился за деньги, потому что был безработным, семья умирала с голоду...
Капитан, следователь по делу группы Пеева, не очень настаивал на выяснении истины: то ли он опасался, что этот еле живой, сжигаемый туберкулезом и израненный арестант не выдержит пыток, то ли ответы Попова потеряли для него ценность — к тому времени шифр был разгадан, радиограммы дешифрованы и большинство членов группы арестовано. Радист ему был нужен для других целей.
Емила привезли на тихую улицу недалеко от центра. Серое многоэтажное здание. Охрана у подъезда и у ворот. Этаж. Еще этаж... Подниматься по лестнице Попову было тяжело. Останавливался, судорожно переводил дыхание. В комнате под самой крышей — рации, панели приборов. Понял: станция перехвата.
— Приготовься. Через полчаса выйдешь в эфир.
Перед ним положили лист с пятизначными группами цифр. Назвали позывные. Емил понял: это его станция. Он превосходно знал свой шифр. Пробежав глазами по столбцам цифр на листке, прочитал фальшивое донесение... Ясно. Его хотят использовать в «радиоигре» — с его помощью выведать у Центра какие-то важные сведения о других подпольщиках в Софии, а заодно и ввести в заблуждение советское командование.
Емил, замедляя движения, будто бы собрав все силы, опробовал станцию. Когда подошло назначенное время — по обычному его расписанию, — начал медленно, с паузами, отстукивать ключом:
— ВМП... ВМП...
Владимир Понизовский
Рисунки Д. Голяховской
(обратно)
Брак по...
- масайски
- моси
- арабски
- баварски
- японски
- ацтекски
Каждый день, а может и каждый час (такой статистики просто нет), справляются на земле десятки, сотни, тысячи свадеб. В каждой стране они разные, освященные своими, не похожими ни на какие другие, обычаями. Но хотя обычаи и обряды эти самые разные, все же в одном свадьбы схожи: у всех народов брак — светлый, радостный праздник.
Конечно, всех свадебных обычаев нам не перечесть, а потому мы расскажем сегодня лишь о некоторых из них, дошедших до наших дней с давних лет...
Молодой масаи убил своего первого льва в тринадцать лет, в семнадцать — к моменту посвящения в воины — на его шесте колыхались три львиные гривы. В последнем сафари он совершил поступок, достойный настоящего воина: схватил льва за хвост и держал его до тех пор, пока с ним не разделались подоспевшие охотники, вооруженные копьями и мечами. Тот, кто совершит такой подвиг четыре раза, награждается титулом меломбуки. Сегодня нашему герою исполнилось семнадцать, и, удостоившись первой из четырех насечек меломбуки, он стал мораном — бойцом первой оборонительной линии.
...Красавице нет еще тринадцати, она еще не прошла обряда посвящения, после которого ее будут считать невестой, но она очень любит молодого морана и ждет не дождется того времени, когда он набросит ей на шею боевой пояс и скажет: «Будешь моей женой». А как того требуют правила, она для приличия станет вырываться и плакать, хотя всем давно известно, как она его любит и ждет...
Ну что ж, прощай, моран, уходи в саванну, защищай стада! Если станешь меломбуки — слава тебе! А не станешь, я все равно не разлюблю тебя.

Моси живут на севере Верхней Вольты, у них есть король (меро-набо), живущий в столице — городе Уагадугу.
День в королевстве начинается так. Из дверей дворца выходит шумная толпа королевских сановников, министров, советников, слуг и направляется к стоящему наготове, в праздничном уборе коню. Все рыдают, размахивают руками, уговаривают короля. «Уходи, уходи, уходи!» — качает головой печальный король и направляется к лошади. Он твердо решил покинуть дворец, чтобы объехать всю страну и найти себе невесту. «Нет, нет, король! Путь так далек, песок так бел, а солнце так ярко — ты ослепнешь!» — «Уходи, уходи, уходи! — качает головой печальный король. — У моего отца было 300 жен...» — «А может, лучше завтра, король?» — вопрошает тогда ближайший советник, балум-наба. Он всегда говорит только эту одну-единственную фразу: «А может, лучше завтра, король?» — «Завтра?» — с сомнением спрашивает король и... остается.
Меро-набо давно женат, и его единственная жена окончила Оксфорд, но древняя традиция требует соблюдения «брачного ритуала». А потому каждый день короля будет ждать оседланный конь.

И эту шутливую свадьбу устроили для туристов-охотников мужчины одного из кочевых племен неподалеку от Александрии. В пять часов вечера мужчины разожгли костры, притащили освежеванных баранов, рис, чай, черный кофе, лепешки, пригласили четырех музыкантов и двух танцовщиц, и праздник начался. Гремели глиняные барабаны, обтянутые козлиной кожей, — чтобы звук их был звонче, кожу смазали маслом и подержали над жаровней с углями, — пятиструнные арабские мандолины и флейты вели мелодию. Музыканты и танцовщицы сменяли друг друга, им помогали гости и хозяева; «жених» с тросточкой, заменявшей ему копье, и «невеста» несколько раз исполнили традиционный танец.
Шутливая свадьба закончилась неожиданно. К полудню следующего дня глава племени влюбился в молодую танцовщицу и предложил ей стать женой. Начались приготовления к настоящей свадьбе. Конечно, все обычаи обязательно будут соблюдены. На этот раз — всерьез.
Бум!.. Бум!..— раздались выстрелы, страшный грохот ворвался в окна и двери. «Заряжай!» — понеслась вслед команда, и снова прогремел свадебный залп. Друзья и родственники новобрачных — а это чуть ли не все село! — не жалели пороху, чтоб выстрелами разбудить молодоженов. Но что это было за оружие! Старинные, заржавленные кремневые ружья, пистолеты с деревянными ручками, какие-то куски дерева с высверленными «стволами», настоящие, притащенные из замка мортиры, грозящие разорваться от первого же выстрела.
Так проходит один из четырех свадебных дней в горной Баварии. «Польтерабенд» — вечер перед свадьбой — невеста справляет в своем доме с подругами, жених — у себя с друзьями. Пьют, едят, бьют посуду «на счастье». Перед самой свадьбой невесту прячут от жениха, который в сопровождении своих товарищей должен разыскать ее. Впрочем, на это решается только тот, кто заранее уверен в успехе, иначе ему не спастись от насмешек. Часто после долгих поисков жених находит одетую «под невесту» старуху или же ряженый чурбан.
В горных баварских деревнях, в австрийском Тироле и соседних районах Швейцарии до сих пор сохранились шутливые обычаи и обряды, уходящие корнями в глубокую старину. Так во время весенних праздников молодой человек выбирает девушку, которая в течение года считается его партнершей в танцах. Часто эти танцы заканчиваются браком и той шумной «свадебной» пальбой, с которой мы начали рассказ.

— Я проиграл новогоднее «тако», зато нашел красивую жену,— потом не раз говорил он своим друзьям.
Вот как это все произошло. Его «тако» — большой, с перьями и трещотками воздушный змей — был срезан вертким «таком противника и оттащен в сторону на буксире. Когда Он подошел к «скамье» проигравших. Она уже сидела там после проигрыша партии «ханэ-цуким (японский вариант игры в волан). По правилам этой игры за каждый промах на лицо ставится пятнышко туши, и на ее овальном личике — «урид-зангаом («дынное семечко» — говорят о таких лицах японцы) места для новых «проигрышей» уже не оставалось. От смущения Она спрятала лицо в ладонях...
Они вместе ушли с праздника. Потом часто встречались. Затем кто-то из соседей видел Ее в октябре у храма Идузумо, и всем, даже Ему, стало ясно: пора делать предложение. Тут не было никакой кабалистики: просто издревле японцы считают, что женитьбу организуют боги «ками», а в октябре «ками» со всей страны слетаются в храме Идузумо, и тогда в этот храм из самых дальних уголков добираются влюбленные, чтобы принести молитву о счастливом браке. Девушки пишут имя любимого рядом со своим на кусочке рисовой бумаги и привязывают при помощи мизинца и указательного пальца «свадебное послание» к деревянной решетке у входа в храм или к ветвям деревьев, растущих вокруг него. Теперь молитва будет услышана, теперь свадьба обязательно состоится.
...Их свадьба была назначена на самый счастливый день недели— «тайан». По древнему обычаю новобрачные откушали зажаренную до черноты водяную ящерицу. Поверье говорит, что после этого новобрачные будут вечно любить друг друга и никогда не побегут за корой к «эноки» — крапивному «дереву развода». Гости, конечно, не скупились на комплименты. Жениху, например, сказали, что он — «человек желудка» (другими словами, обладает большой силой воли), что у него «большой желудок» (читай «широкий кругозор»), что у него «чистый желудок» (то есть чистая совесть). В общем в чашечках шипела горячая «сакэ», курились ароматные палочки, пир шел горой.
Я цтекская «принцесса» в сопровождении двух молчаливых стражей, гордо несущих пышные короны из разноцветных перьев, медленно направляется к подножию пирамиды. В ее руках священная чаша: сегодня девушка из бедной ацтекской деревеньки Уатуско — «невеста» Солнца, символическая жертва доброму и в то же время жестокому божеству... По-разному объясняют этот древний ритуал археологи и этнографы, знатоки древних обычаев страны. Одни из них утверждают, что праздник связан с обрядом «Нового огня», который зажигали древние ацтеки на вершинах пирамид, в храмах и домах страны раз в 52 года. Другие считают его отголоском культа бога солнца Тонатиу или верховного божества ацтеков Тескатлипоки...

Третью версию вам пропоют всезнающие мексиканские марьячос. Это песня о любви бесстрашного воина Попокатепетля к дочери ацтекского вождя Истак-сихуатля. Конечно же, он любил ее, и она любила его. Но пришли враги, и герой вместе с другими ушел в поход. Лучше всех сражался Попокатепетль, и старый вождь был уже готов отдать свою дочь в жены храброму воину, а вместе с нею и трон. Увы, счастью помешали завистники!
Они сообщили вождю ложную весть о гибели героя, и несчастная Истаксихуатль умерла от горя. С победой вернулся Попокатепетль в столицу, но, узнав о смерти любимой, сорвал с головы праздничный плюмаж победителя и ушел из города. В окрестностях Теночтитлана он воздвиг две гигантские усыпальницы. Когда пирамиды были готовы, Попокатепетль положил на вершину одной из них — той, что была пониже, — тело принцессы; сам же стал с пылающим факелом в руке на вершине другой — той, что была выше и ближе к солнцу, — и склонился над изголовьем любимой...
С тех пор у города Теночтитлана, а потом Мехико, появилась гора Истаксихуатль и вулкан Попокатепетль. Как символ всепобеждающей любви дошел до нас из глубины веков этот торжественный ацтекский обряд обручения с солнцем.
Л. Заседателева
(обратно)
Путь к Луне

3 февраля 1966 года на лунные равнины опустился межпланетный корабль, стартовавший в нашей стране — и Человек впервые в истории увидел Луну так, словно сам прошел по ее поверхности. Начался этап прямого исследования Луны — качественно новый этап тысячелетнего пути Человека к познанию серебристой сестры Земли... И путешествие Человека к Луне становится реальностью нашего времени...
Человек на Луне... А ведь до полета «Луны-9» не было даже полной уверенности, что на Луну вообще может сесть межпланетный корабль.
* * *
Помните научно-фантастический роман Артура Кларка «Лунная пыль»? «Море Жажды заполнено не водой, а пылью. Вот почему оно кажется таким необычным, так привлекает и завораживает. Мелкая, как тальк, суше, чем прокаленные пески Сахары, лунная пыль ведет себя в здешнем вакууме словно самая текучая жидкость. Урони тяжелый предмет, он тотчас исчезнет — ни следа, ни всплеска...»
Это не только фантастика, но и отражение давних научных споров. Чем покрыта Луна?
Сравнивая результаты измерения температуры Луны по интенсивности инфракрасного излучения и по данным радиоастрономических наблюдений, ученые пришли к выводу, что наш естественный спутник укрыт какой-то теплонепроницаемой «шубой».
Но из чего состоит эта «шуба»?
И здесь мнения ученых разошлись. Луна покрыта мельчайшей пылью, говорили одни, базальтом — другие, вулканическим пеплом — третьи, пемзой — четвертые.
Итак, пыль или не пыль?
К ответу на этот вопрос наука вплотную подошла 3 февраля 1966 года в 21 час 47 минут.
...21 час 45 минут. Телескопы направлены в район кратеров Галилея — Кавальери — Рейнер, где должна была осуществить мягкую посадку «Луна-9». Если в районе прилунения есть слой пыли, то она в момент посадки станции взметнется вверх.
...21 час 45 минут 30 секунд. «Луна-9» уже коснулась лунной поверхности.
...21 час 47 минут. На лунной поверхности никаких изменений не замечено...
И действительно, когда советская автоматическая станция передала на Землю первые снимки, стало очевидным, что объектив ее не был запорошен лунной пылью.
Не оказалось пыли и в районе прилунения станции «Луна-13».
А когда при помощи аппаратуры, установленной на станции «Луна-13», впервые были проведены непосредственные измерения плотности лунных пород, оказалось, что эта плотность не превышает одного грамма на кубический сантиметр, то есть близка к плотности пористых или зернистых земных пород.
Ученые считают, что образование лунной поверхности проходило примерно следующим образом. Сначала на лунные равнины изливалась лава, которая дробилась под ударами метеоритов. Затем образовавшиеся частицы слипались в вакуумной «атмосфере» Луны, превращаясь в твердую породу, которая, растрескиваясь от резких колебаний температуры, вновь подвергалась метеоритным ударам, снова слипалась и так много, много раз...
* * *
Теперь уже нет сомнений в том, что именно космические аппараты доставят на Землю сведения, которые по-новому позволят решить такие важнейшие проблемы науки, как происхождение Солнечной системы, возникновение и развитие жизни на других планетах, строение небесных тел. 350 лет рисовались и чертились карты Луны. Начиная с первых зарисовок, эти карты все время уточнялись и дополнялись по мере усовершенствования средств и методов наблюдений... Но обратная сторона Луны была скрыта от взоров людей.

И советские автоматические станции открыли ее человечеству. Открытие это было сенсационным: на снимках, переданных советской станцией «Зонд-3», были видны овальные, довольно правильной формы впадины до 500 и более километров в поперечнике. На той стороне Луны, что доступна земным телескопам, таких впадин, или, как их назвали, талассоидов, нет.
В какой-то степени — по размерам и конфигурациям — они, правда, напоминают «моря» видимой стороны Луны. Более того, на лунном глобусе талассоиды образуют вместе с известными ранее морями что-то вроде единого пояса. Но дно талассоидов не похоже на дно морей — оно усеяно кратерами.
Чем же объясняется различие рельефов двух сторон одного небесного тела?
Может быть, какую-то роль здесь играет Земля.
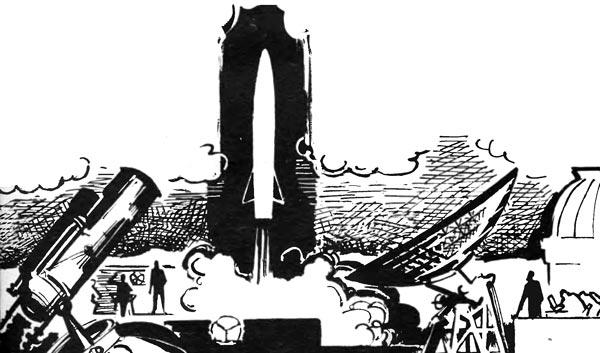
* * *
Так путь к Луне становится дорогой и к тайнам Земли.
«Лунные дела, — говорит академик Трофимук, — для нас, геологов, почти так же важны, как земные... Я держусь той точки зрения, что Луна и Земля сложены из одной и той же материи, что оба эти небесных тела образовались и развивались одновременно. Но на Луне практически нет атмосферы, нет ветров, нет рек, нет таких энергичных химических процессов, какие обычно протекают в земной коре... Мы здесь, на Земле, вынуждены подолгу искать обнажения, то есть выходы коренных пород на земную поверхность, или проникать к ним через толщи осадочных пород. А Луна, как убеждают изумительные фотографии, переданные нам, — планета почти сплошных обнажений... Исследовать Луну — значит разгадать многие земные загадки, роль вулканизма в жизни нашей планеты, условия рождения горных пород и полезных ископаемых, проблемы горообразования...»
А сколько может дать Луна для решения проблемы земного магнетизма — одной из самых интересных в современной науке о Земле!

Большинство ученых считают что магнитное поле нашей планеты связано с быстрым вращением Земли вокруг своей оси, а также с наличием в центре земного шара ядра, в котором могут возникать электрические токи.
Но как выяснить, правильны ли эти предположения?
Вот тут-то на помощь и должна прийти Луна. У нее заведомо не может быть внутреннего ядра, так как они имеются только у массивных небесных тел, и вращается Луна гораздо медленнее, чем Земля. Если, несмотря на все это, у Луны все же были бы обнаружены магнитные свойства, то тогда для природы земного магнетизма пришлось бы искать другие объяснения.
Еще в 1959 году советская космическая станция «Луна-2» впервые установила, что величина лунного магнитного поля по крайней мере в тысячу раз слабее земного. На борту станции «Луна-10», ставшей первым искусственным спутником Луны, был установлен в 15 раз более чувствительный магнитометр. Это позволило не только определить максимальное значение магнитного поля Луны, но и зарегистрировать его изменения. Оказалось, что своего максимального значения магнитное поле Луны достигало в тот момент, когда Луна находилась вблизи полнолуния, то есть на линии, соединяющей Землю и Солнце.
Но принадлежит ли это магнитное поле Луне? Может быть, это магнитосфера Земли имеет своеобразный «хвост», направленный в сторону, противоположную Солнцу, и достигающий орбиты Луны?
* * *
Вопросы, вопросы... Вопросы, еще немыслимые вчера, рожденные великими открытиями наших дней.
...Мы с волнением смотрим на снимки, переданные «Луной-9» и «Луной-13». Мы разглядываем лунные долины так, словно сами ходим по ним, — черные провалы теней от лунных камней, резко очерченный аспидно-черным небом лунный горизонт...
Пройдет немного времени — и Человек действительно пройдет по лунным равнинам, поднимет Лунный камень и подержит его на своей ладони...
В. Комаров
(обратно)
Отход
 Из «Северного дневника»
Из «Северного дневника»
И вытянул мой гениальный друг свою гениальную длинную руку, и бережно, нежно, за горлышко, поэтически взял бутылку шампанского, и, обдирая серебристую шкурку с пробки, оглядывая нас всех круглыми гениальными глазами из-под челки, стал говорить, стал приборматывать, ворковать:
— Ну... ну... Ребята, ребята... Напоследок, а? А? А? Шампанского, а? Володя... Алё... Алеша, а? Хорошо? Хорошо тебе. Юра, а?
И двинули мы стульями, сели теснее, по-братски, и откашлялись, и торопливо закурили, а пробка между тем хлопнула в потолок, дымок пополз из горлышка, и проплыла, прореяла над столом длинная рука с бутылкой, и бокалы наши и сердца наполнились...

«Скоро отход, отход, отход!» — застучало мое сердце под звяк ножей и тарелок, среди этого теплого, низкого, морского ресторанного шума, в который пенье рюмок, их чистые голоса вплетались, как корабельные склянки, как флейта-пикколо в тремолирующий оркестр.
«Отход, отход, дожил, счастливый день, мой день!» — звучало мне во всех голосах и лицах моих друзей за этим длинным столом, в нашем закутке, в углу, скрытом от всего зала, в нашем ресторане, в нашем Архангельске, с бесценным дядей Васей внизу, у входа, с бесценными официантками, которые тебя уж знают, узнают в частые твои приезды за все эти годы, улыбаются, спрашивают: «Надолго к нам? А-а...» — и оркестр игра-играет, и трубачи трубя-трубят, белая ночь за окном, и наша шхуна, наша «Моряна», которая вот уже пятнадцатый раз пойдет надолго во льды, эта шхуна где-то стоит, неизвестно где — на фактории, у холодильника ли, на рейде ли... Но я спокоен, она не уйдет без «ас, потому что рядом со мной, вот я его сейчас по плечу хлопну, рядом со мной капитан Саша, а напротив — Илья Николаевич, стармех, потом Алеша, старший помощник, чиф, все начальство с нами, и Володя-моторист, рыжий, розовый лицом, и женщины веселые сидят, глядят на нас, как на героев, как на полярных волков, и вездесущий Глеб Глебыч Бострем с нами, а его-то знает пол-Архангельска, а уж он-то знает весь Архангельск! И какие-то моряки, пилоты, штурманы и бог знает кто еще — все подходят поздороваться с ним, потом узнают наших моряков-зверобоев, и — сразу восторг: «Ого! У-у! О-о! А я гляжу — кто это? Здоров! Давно пришел? Когда уходишь?»
Все откуда-то пришли или уходят в бесконечность моря, и я счастлив без оглядки, потому что и мы тут, вот тут, в этом ресторане, как птицы, мы только присели, а шхуна уже ждет, как судьба, вот мы сейчас встанем и тоже уйдем, уйдем...
И звучат в нас и вне нас гул, бормотанья, служба, любовь, и музыка ликует, уравновешивает своей стройностью хаос — «Хотят ли русские войны?» — «Нет, нет, русские хотят танцевать перед тем, как уйти в море!» — и все танцуют, одни мы сидим, крепко сидим, последние минуты досиживаем, последние минуты здесь, на берегу, а там — два месяца, целый июль и целый август, все будет — океан, льды, тундра, белуха, ее кровь и немой вопль, а еще работа, работа; нет, мы не танцуем, сквозь гул, сквозь музыку, сквозь оклики, сквозь розовую ночь, брезжущую из-за наших спин, из-за большого окна, мы все говорим, говорим в эти последние минуты, будто прорываемся куда-то.
— Шампанского, а? Ребята, а? Шампанского, Юра? Давайте, давайте, давайте... Ночи в Архангельске — сплошное «быть может»! А, Юра? То ли в Архангельске, то ли в Марселе... (Женя, Женя!) бродят... новехонькие штурмана... А?
— Ну, знаю, я знаю, тут Тыко Вылк жил, приезжал, жил тут, вот в этой гостинице... Знаю, ненец Вылко, художник! Президент Новой Земли!
— А ты как думал? Тут все жили!
— Еще по одной, а?
— Все тут жили, и Отто Юльевич... Ни одна, понимаешь ты, полярная экспедиция не миновала!
— Ты, Юра, ко мне домой приезжай. В гости. Прямо ко мне, понял? Специально «а охоту! У меня лодка-моторка, мы с тобой. Юра...
А я вдруг как-то отдалился, вспомнил о другом поэте, не о том, который вот тут, рядом со мной, — о другом. Мысленно отыскал я его во вселенной, не знаю где—в Сигулде, в Париже ли, но он послушно явился, и я увидел, с какой завистью смотрит он на меня.
Ау, говорю я ему, в дорогу, в дорогу! Давай поедем с тобой на охоту. Дай руку, пойдем в лес — ну, скажем, в ноябрьский лес, который сегодня утром отволг после мороза, и все деревья, все ветки, вся трава, каждая усинка, былинка стали седыми, и светит прохладное солнце, все сверкает, режет глаза белизной, вокруг нас вьются женственные гончие суки, пар клубочками пыхает у них из пасти, и егерь подпоясывается. Подпоясывается егерь, весело глядит на нас, мы — на него, и вот уж мы пошли, зашагали, ружья за плечами, впереди лес с мокро-зеленым мхом, с бурой травой понизу, с серебром поверху, по ветвям, собаки наши одна за другой скрываются в кустах... Мы говорим о погоде, о том, что мало в этом году зайцев (их всегда мало в этом году!), о том, какие у егеря дети, как учатся и чем болеют. Разговоры, табачный дымок, наш стук сердца, волнение, а по сторонам зеленя, опушки, понижения и повышения мохнатеньких издали лесов, холмы и дали проглядываются резко, собаки пока не брешут, и мы идем, ступаем по замерзшим лужам, лед хрупает, жижа на дороге прыскает на иней, и следы за нами остаются грязные на белой дороге, егерь говорит все «чаво» да «каво», и обязательно важный, веселый, умный (они все такие), за спиной у него рог — один золотится на всем серебряном.
И вот собаки подняли, взлаяли вперемежку, в три голоса, погнали, завопили, застонали, ах-ах, мы побежали кто куда, занимать лазы, слушать, перебегать. Собаки заглохли вдали, опять появились на слух, скололись, замолчали, опять дружно взлаяли — куда гонят? — налево, налево — и мы налево, бежим, ломимся сквозь кусты, ах-ах, гон все ближе слышен уже не только лай, слышны всхрипы, взвизги, а по просеке, по поляне, по тропе мягко перекатывается упругими толчками заяц — ох! — выстрел, — ох, еще! — заяц спотыкается, летит кувырком, растягивается как резиновый... С ума, что ли, сошли собаки? Куда они гонят? Куда они опять пошли нести свои голоса, свой брех, свои пятна на боках, брилья, правила, почему они уходят? Егерь, егерь, скорей, где твоя валторна, давай труби!
И затрубил егерь. «У-у-у-у-у-у-у, — проносится заунывно над лесом. — Пфо-о-о-о-о-о-о!» Собак опять не слыхать, но они нас слышат, молчком бегут к нам, возвращаются, выбегают одна за другой на открытое, языки на сторону, пар уже не клубочками — пышет из красных пастей, а мы давно уж держим тяжелого зайца, и голова у него уж поматывается, уши обвисли, но все равно еще не сошлись вместе, смотрят на стороны.
Ну, давай же поедем скорей, давай проживем такой день!
— Женя! Женя, приезжай ко мне, у меня дом, хозяйство, все такое... Женя, приезжай, Женя!
— Женя, потом стихи дай списать, а?
— Вот Копытов выступает на совещании, говорит: «Есть, — говорит, — тюлень! А наука, — говорит, — не имеет тесного контакта со зверобоями. Это, — говорит, — на пять лет закрыть промысел, что тогда зверобои скажут? План есть план, и заработок есть заработок. И слухи об исчезновении тюленя — это, товарищи, непроверенные слухи».
— Илья Николаевич, шампанского, а? Меня два человека спасли в прошлом году. Вот Юра спас... На север увез, давайте, давайте... Саша! Илья Николаевич! Давайте... Алеша! За север!
— Как я в лесу-то блуждал, а? Два дня, а?
— А второй-то кто?
— Надя, Наденька, я вас люблю, я нежно так вас люблю! Скажите мне что-нибудь, а? На прощанье. Подари-и-и и на прощанье мне биле-е-ет!
— Восемьдесят восемь!
— А?
— На! Ты слушай. Выступает тут Яковенко из ПИНРО, и пошел, и пошел! «Как это, — говорит,— есть тюлень?! Наука, — говорит, — вещь точная, и у науки есть данные... Чуть не всего, — говорит, — перебили лысуна! Товарищ, — говорит, — Копытов о плане заботится, это хорошо, но это эко-но-ми-ческая близорукость, а? Нам, товарищи, теперь, к сожалению, не о плане думать нужно, а о наших детях, о наших потомках! А потомки эти нам, товарищ Копытов, спасибо не ска-ажут, нет, не скажут».
— Саша! Саша!
— «...Потому что, — говорит, — если мы не можем контролировать залежки лысуна у Ньюфаундленда или Ян-Майена, то тут у себя, на Белом море, контроль мы осуществить вполне можем и должны...»
— Саша! Александр Константинович! Капитан!
— А?
— Что такое «восемьдесят восемь»?
— А-а... (улыбаясь и подмигивая). Это значит: «Я люблю тебя, мальчик!» Так вот. «Ученые, — говорит, — решительно настаивают на полном запрете забоя лысуна сроком на пять лет!» Видал?
Я повернулся и взглянул за окно. Над гостиничным серым двором; над ящиками и бочками, сваленными в углу; на уровне верхних окон, плоско вспыхивающих от заката, висел в воздухе мой поэт; увидев, что я смотрю на него, он приблизился, влетел в окно и сел за стол между рыжим Володей и Ильей Николаевичем. Они ничего не заметили.
А то поедем, сказал я ему, поедем куда-нибудь на север, подальше, на Канин Нос... (Поэт приоткрыл свой пересохший рот, потрогал заграничный галстук, поправил манжеты; нос его покраснел и распух, а лицо побледнело от волнения; он закивал головой.) Поедем-ка на Канин Нос и проснемся однажды среди бледной природы, под бледной ночью, на берегу реки, недалеко от моря, в старой избе среди всхрапывающих рыбаков.
Натянем мы сапоги и брезентовые штаны, напялим шапки-ушанки. Мы выйдем на рассвете и увидим, что по реке ползет туман, а вода коричнево проглядывает сквозь молочные завитки. Тундра с приплюснутыми островками вереска уныло пахнёт нам в душу. На берегу будет тянуть дымком от вчерашнего, еще тлеющего костра, сладким торфом и далеким сероводородом с моря, от гниющих там водорослей.
Несколько раз хлопнет, стукнет дверь избушки, рыбаки соберутся на берегу, все сразу зазевают, зачешутся. Потом закурят один за другим, закашляются. Потом, скрипя по сырому песку, пойдут вниз, к черной моторной лодке, спихнут ее с хрустом в воду и сами туда же влезут, и уже из воды начнут вваливаться через борта внутрь, рассаживаться и устраиваться. Кто-нибудь зачерпнет сапогом, кто-нибудь ударится коленкой о скамейку, тихо выматерится, а остальные посмеются, заговорят. Голоса далеко будут разноситься по воде. Моторист начнет заводить мотор, лодка станет вздрагивать от его рывков, покачиваться... Мотор застучит, берега и туман двинутся мимо нас, и сначала медленно, а потом все шибче побежим мы к морю.
Первые чайки встретят нас, закружатся над нами, заверещат. С кряком подымутся в тумане утки, черной ниткой потянутся вдоль берега. Нерпа покажется черным мячиком на шелковистой воде. Придет и качнет нас первая океанская волна, мы оглянемся: берег будет уже далеко, избушки, где мы провели ночь, мы уж не увидим. А моторка все будет тарахтеть, вода под носом — шипеть, рыбаки разговорятся окончательно, начнут орать, наклоняясь друг к другу, дикий полярный рассвет окончится, и настанет наш радостный день...
— ...Наденька!
— Что?
— Восемьдесят восемь!
— Ха-ха-ха...
— Ну, еще по одной!
— А на шхуну не опоздаем?
— Ты с начальством сидишь. Будь спокоен, без нас не уйдет.
— А где она стоит-то?
— Да была на рейде, теперь к холодильнику небось подошла.
— Время-то сколько?
— Юра, Юра, у тебя какое ружье?
— «Зимсон», а что?
— А у меня «тулка» штучная, бьет лучше всяких «зимсонов»!
— Ладно, попробуем...
— А вот мы с Юрой скоро в Америку поедем. Поедем, Юра?
— Вот Копытов мне по радио говорит с ледокола. «К тебе, — говорит, — на шхуну писателя с вертолета ссадят». А я думаю, вот, думаю, черти принесли этого писателя! «Нет, — говорю, — товарищ Копытов, пускай его высаживают на «Нерпу», там ребята передовые». — «А ты, — говорит, Копытов, — тоже передовой, принимай гостя». — «Да у меня, — говорю, — вал погнут и все такое», — а сам думаю: «Без писателя-то, — думаю, — оно веселее, на черта он нам сдался!»
— А помнишь потом, как нас буксировали?
— А в Мурманске-то помнишь, как прощались?
— Ты, Женя, на Новой Земле бывал ли? Вот погоди, зайдем, гольца там будем ловить. Гольца ел когда-нибудь? Сла-ад-кий... В губу Саханина зайдем, гусей там полно!
— Бывает, другой раз такое стадо белухи зайдет! Голов на сотню, вот когда работа!
— Ну, ребята, еще по одной, и пойдем! Пора!
— Да-ка, пора, поехали!
— Х-хе!.. Кха! Хорроша!
— Ф-ффу! А ничего — прошла...
— Девушка! Сколько с нас, посчитайте!
И вышли мы в ночь, в пустынный город. Прощай, дядя Вася, прощай, гостиница! Женя, почему тебя, морского волка, зверобоя, в газету не снимают, как идешь ты по ночному городу с ружьем? Почему репортеры не подхватывают на лету твоих прощальных слов? Прощай, Игорь Введенский, молчаливый наш друг, привет, привет! Восемьдесят восемь!
Но почему нет женщин на причале? Почему не пришли жены моряков? Почему не машут нам платками, не вытирают набежавших слез, почему пустынно на пирсе холодильника?
— Время позднее, спят наши жены. Второй час, вон уж сколько. Теперь наши жены — ружья заряжены. Простились уже, простились все, кому есть с кем прощаться. Теперь дело. Теперь не до слез. А «восемьдесят восемь» — это «я вас понял по международному коду... Ха-ха-ха!.. А вы поверили, думали, про любовь? Нет! Теперь дело. Давай, давай, поднимайтесь, ребята, на борт, вот так, вот и все хорошо. Эй, кто там? Сейчас отходим. Эй, Марковский! Плылов! Мартынов!
— Есть!
Две недели провел я на этой палубе зимой, и трюм тогда был забит подсоленными тюленьими шкурами, корма была заколочена досками, и на корме горой — тюленьи красные туши для звероферм. Планшир обледенел, на снастях сосульки, посвист ветра, поземка в торосах, ранние сумерки и поздние рассветы, мартовские зеленоватые закаты, сходящиеся и расходящиеся разводья возле бортов, треск льда по ночам, скрип и треск переборок...
Теперь палуба была чисто умыта, но все равно таила в себе запах ворвани, слабый и нежный от прошедшего с зимы времени, когда она была залита, заляпана тюленьим жиром и кровью, и трюм сейчас был пуст и гулок, как колодец, с наваленной по углам солью, но тоже пахло зверино, дико — пахло промыслами, отдалением, зимними льдами, кровью и кислым пороховым дымком.
Такая крошечная эта шхуна, если поглядеть со стороны, — с белыми бортами, с коричневой рубкой, с двумя мачтами, с бочкой наверху. Но ее палуба, пространство ее от кормы до носа, двадцать четыре человека ее команды, машина, рубка, ходовой мостик, зачехленные катера по бортам, каюты и кубрики — вот наш мир на целый месяц, центр мироздания для нас.
Двигатель уже работает, мягко гудит в глубине, уже Илья Николаевич пошел туда, вниз, поглядеть, как там вахта, а капитан полез в рубку. Поднялся и я в рубку, поздоровался с вахтенными, высунулся с одной, потом с другой стороны — все в рубке было, как прежде, все на месте: слева от штурвала компас, позади эхолот, кренометр, выключатели, справа в ящике бинокли, потом переговорная труба в машину, телефон...
На шхуне завелся щенок, успел нажраться щелоку, вляпался в него всеми лапами и теперь лежит болеет, а все думают, страдают: выживет ли?
Внизу под кают-компанией, в кладовке боцмана, я знаю, висят винтовки, стоят ящики с патронами, под полубаком навалены капроновые сети с поплавками из пенопласта, и продовольствие есть, и горючего полны баки, все готово.
— А погодка хороша! — веселится возвратившийся из машины Илья Николаевич. — Славно пойдем! Нам бы только до Колгуева проскочить, чтоб не тряхануло, а там — там уж льды пойдут, там вода спокойная...
Ну да, конечно, Колгуев, льды, Новая Земля — радуемся мы. А те, кто пришел проводить нас, стоят маленькой группкой внизу, осиротело глядят на нас с пирса, и мы на них поглядываем сверху, но уже отрешенно, рассеянно, поматываем иногда ручкой, улыбаемся, как бы говоря: «Привет! Привет! У нас тут льды, Новая Земля, белухи спят и ныряют... Привет!»
И пока мы устраивались в каютах капитана и стармеха, решая, кому где жить, пока лазили в машину, наполненную жиром, гулом дизеля, маслянистым светом ламп, маслянистыми бликами на металле, пока я здоровался, узнавал кого-то и меня узнавали, пока мы щупали тяжелые винтовки и рассматривали желтые ящики с патронами, пока заглядывали в рубки к штурману и радисту, и в камбуз на корме, и в полубак, где свалены были и крепко, разнообразно пахли сети, поплавки, буи, багры, доски, полушубки, телогрейки, рукавицы, краска и где шипел пар в душевой, пока поглядывали на алое ночное небо, на полированную ширь Двины, на выпуклую огромность рейда с застывшими кораблями, с движущимися катерами и моторками, оставлявшими за собой высокий треск моторов и черный на золотом след длинной волны, — «Моряна» наша тронулась потихоньку, отделилась от пирса и пошла, родная, забирая влево от берега, выходя на стрежень, на фарватер.
Как сначала тихо, почти нежно двигалась она, как потом развила ход до полного и как плавно поворачивала, следуя фарватеру! Правый берег удалился от нас, стали видны все дома спящего Архангельска, его набережная, яхт-клуб, Кузнечиха, Соломбала...
Капитан, нахохлившись, в дождевике почему-то, хотя небеса были чисты, торчал наверху, на ходовом мостике, (похаживал и поглядывал вперед то с одного, то с другого борта и время от времени покрикивал в трубу, в рубку: «Лево руля! Еще левей! Одерживай!»
И затрубили наши пароходы, там и сям возвышавшиеся на рейде, загудели низко, печально, каждый раз троекратно, прощаясь с нами. И мы им отвечали слабой своей сиреной — будто свирель отвечала рогу. Много там стояло теплоходов, лесовозов, танкеров по всем причалам — наших, финских, норвежских, греческих, немецких, стрекотали бревнотаски, поворачивали свои клювы портовые краны, сипел пар, кололи глаз острые бортовые огни, и глазели на нас из громадных домов-рубок вахтенные, и все знали, что шхуна наша уходит во льды...
Ах, как просыпался по ночам я в этом Архангельске, услышав сквозь сон долгий густой гудок, похожий на стон, как подходил я к окну, стараясь что-то разглядеть в узких разрывах крыш, хотя бы блеск воды, потом переводил взгляд выше, на алеющее небо, и, ничего уже не видя, с погасшей сигаретой, видел все-таки «воды многие» — и полярные страны, и Гренландию, и Землю Франца-Иосифа в осиянных льдах...
Я все не спал, когда взошло солнце, малиново стало светить в иллюминатор. Я лег на короткий диванчик, поджал ноги. Двигатель гудел, винт взбивал за кормой воду.
Спал я, как мне показалось, совсем немного и проснулся мгновенно, сразу открыл глаза. Все так же светило в иллюминатор солнце, только свет его был желтей, ярче, все так же взбивал за кормой воду винт. Не качало. Мне подумалось, что мы еще идем устьем Двины. Но заглянул в каюту стармех Илья Николаевич, сказал весело.
— Проснулся, Юра? А мы уж мимо Зимнегорского маяка идем. Скоро Нижняя Золотица будет. Помнишь, как ты там зимой на зверобойке был? А товарищ твой уже давно встал, все пишет чего-то.
Так-то вот и началась наша морская жизнь.
Юрий Казаков
Рисунок В. Чернецова
(обратно)
Сайгон или анти-Сайгон?
 Танки стали для города так же характерны, как и частые выстрелы, как ночные облавы и патрули (снимок внизу), как кровавые расправы с демонстрантами и дымы костров, на которых сжигают себя буддисты.
Танки стали для города так же характерны, как и частые выстрелы, как ночные облавы и патрули (снимок внизу), как кровавые расправы с демонстрантами и дымы костров, на которых сжигают себя буддисты.
Чей город Сайгон? Вопрос этот, увы, не столь уж нелеп и наивен. Хотя карты и географические справочники утверждают, что он вьетнамский город, однако его символы, глядящие со страниц «Лайфа», «Лука», «Тайма», — это американские солдаты и танки, американский кардинал Спеллман и американские гёрлс. Хотя Сайгон находится во Вьетнаме, однако для большинства вьетнамцев он закрыт под угрозой смерти, как, например, закрыт для девушки по имени Куэт Там (что означает «Решительное Сердце»). Ей пришлось бежать из родного города, бежать потому, что ее образ мыслей не устраивал американцев. Зато любому гражданину США (если только он имеет справку о благонадежности) для поездки в Сайгон достаточно лишь обратиться в соответствующее (американское же) ведомство...

«Сайгон стал ныне Техасом, — пишет швейцарский репортер Жюльен Закариотто. — Витрины магазинов завалены высокими ботинками, шляпами, пистолетными кобурами, кожаными рюкзаками. Все — по моде авантюристов из вестернов. Американские солдаты, которых тут полным-полно, чувствуют себя как дома. Здесь можно, как некогда в Америке, фланировать по улицам в джинсах, с газетой в заднем кармане и пистолетом на боку. Все происходящее вокруг страшно напоминает фильм, в котором «настоящие мужчины» знают свое место...
...Еще одна вещь сразу бросается в глаза в этом городе — бары. Бары на американский манер вырастают, как грибы после дождя. Большие длинные залы с общим столом: с одной стороны стола — красивые девушки, с другой — «цивилизованные люди», вечно пьяные. Чего-чего, а виски тут хватает. Особый вид цивилизации!
...Проституция ширится с необычайной быстротой, проститутки повсюду — на улицах, в отелях, даже в самых роскошных. Им война приносит прибыль, цены на них — и без того высокие — все время ползут вверх...
...Каждый в Сайгоне держится настороже, каждый опасается своего соседа, опасается встречного на улице и того, кто толкнул вас в толпе. Война нервов идет в Сайгоне. А причина этой войны заключена в одном-единственном слове: «доллар». За доллары можно купить все. Коррупция охватила весь государственный аппарат — от «правительства», которое, по существу, подает пример, до самого мелкого чиновника. Чтобы получить любую бумагу или номер в гостинице, чтобы встретиться с каким-нибудь официальным лицом — повсюду надо начинать с денег...
...Я постепенно отдаляюсь от толкотни и ищу место поспокойнее, чтобы хоть на минутку отойти от этого мира. Безнадежно! Повсюду адский шум. Проезжают огромные серые грузовики, «джипы», тракторы — и всему этому сопутствует гул американских самолетов».
Замешательство швейцарского журналиста понять нетрудно. Разве это не противоестественно — обнаружить вдруг Техас (со всеми его законами, вкусами и моралью), насильно втиснутый в сердцевину древнего вьетнамского города? Как не прийти в замешательство, если едешь в Сайгон, а попадаешь в анти-Сайгон?
 Город расколот на две части: одна тесно застроена лачугами, которые, будто не уместившись на земле, скатились «экзотичными», нищими кварталами сампанов в реку; другая — раскинула свои роскошные особняки и многоэтажныегостиницы в центре. Две части города, между которыми нет и не может быть мира, — вот почему бессильно болтается звездно-полосатый флаг у взорванного патриотами здания посольства США, вот почему ни днем, ни ночью не знают покоя в своих особняках и гостиницах «хозяева» и их лакеи.
Город расколот на две части: одна тесно застроена лачугами, которые, будто не уместившись на земле, скатились «экзотичными», нищими кварталами сампанов в реку; другая — раскинула свои роскошные особняки и многоэтажныегостиницы в центре. Две части города, между которыми нет и не может быть мира, — вот почему бессильно болтается звездно-полосатый флаг у взорванного патриотами здания посольства США, вот почему ни днем, ни ночью не знают покоя в своих особняках и гостиницах «хозяева» и их лакеи.
Впрочем, сами американцы (по крайней мере их официальные политики и идеологи) находят, что все это как бы само собой разумеется. «Вы служите богу, потому что защищаете справедливость, цивилизацию и самого бога», — говорит кардинал Спеллман солдатам США, посланным во Вьетнам. И они огнем и мечом, бомбами и танками пытаются насаждать здесь «американскую справедливость», «американскую цивилизацию», «американского бога» и при этом делают вид, что само их пребывание в Южном Вьетнаме так же естественно, как где-то в Техасе.
Каким путем, через какие щели и каналы осуществилось это проникновение Техаса в Сайгон? Ответ на это следует искать не только в телеграфных сообщениях, речах дипломатов и кардинальских проповедях, но и в досье Центрального разведывательного управления. 14 лет назад, когда во всем Вьетнаме была лишь горстка янки (и даже те из них, что щеголяли безукоризненной выправкой, называли себя «экономическими советниками»), в Сайгон приехал некто Лэнсдейл — американец с титулом полковника ВВС и репутацией удачливого агента ЦРУ. «Именно с такого вот Лэнсдейла Грэм Грин рисовал портрет своего главного героя в «Тихом американце», — замечали впоследствии журналисты Д. Уайз и Т. Росс в их нашумевшей книге «Невидимое правительство».

Французская экспедиционная армия в тот далекий 1953 год уже истекала кровью в боях с вьетнамскими патриотами, и миссия «маленького полковника», как прозвали Лэнсдейла, не на шутку озадачила французскую контрразведку. Впрочем, ни ей, ни самому Лэнсдейлу в те времена даже не мерещились нынешние сотни тысяч «джи аи» во Вьетнаме, хотя подготовка «законных оснований» для такого вторжения и составляла цель его тайной миссии.
Сначала Лэнсдейл (после проверки нескольких кандидатур) выбрал для Южного Вьетнама президента — небезызвестного Нго Динь Дьема. Затем США провозгласили устами этого «президента» отказ от общевьетнамских выборов, предусмотренных Женевскими соглашениями. Для упрочения американского господства требовались американские штыки. Численность незваных гостей год за годом росла в геометрической прогрессии.
«Передо мной балет американских сил — огромная выставка крылатых чудовищ, которые всюду сопутствуют американцам. На этих махинах и держится американский престиж, с их помощью и устанавливают американцы свою власть», — так выразил Закариотто свое первое впечатление от Сайгона. И все-таки Сайгон не Техас. Нет, далеко не спокойно чувствуют себя здесь янки. Без сомнения, самоуверенность всех этих рослых и сытых «джи ай» показная. Иначе зачем бы им сооружать все эти не то доты, не то бетонные баррикады вокруг собственного посольства, мозгового и нервного центра сайгонского Техаса? И недаром все тот же Закариотто едва отвел взгляд от «балета американских сил» и от внушительных «крылатых чудовищ», как увидел нечто иное. «В стороне, — констатировал он, — останки самолетов и вертолетов. Тут поработали снаряды Вьетконга. Десять, двадцать, тридцать искалеченных машин, может быть, больше. Разбитые самолеты напоминают железные скелеты...»
 По воздушному мосту доставляет Америка в анти-Сайгон необходимые для ее образа жизни аксессуары: развеселых гёрлс из Голливуда — для поддержания бодрости духа; кардинала Спеллмана — для поддержания духа боевитого. «Война до победного конца!» — вот что внушал своей военизированной пастве Спеллман. Но не победу, а смерть находят оккупанты на земле Вьетнама.
По воздушному мосту доставляет Америка в анти-Сайгон необходимые для ее образа жизни аксессуары: развеселых гёрлс из Голливуда — для поддержания бодрости духа; кардинала Спеллмана — для поддержания духа боевитого. «Война до победного конца!» — вот что внушал своей военизированной пастве Спеллман. Но не победу, а смерть находят оккупанты на земле Вьетнама.
Трепещут перед Сайгоном апостолы анти-Сайгона — все до одного, не исключая Лэнсдейла. Да, да — Лэнсдейла, который после десятилетнего антракта не так давно вновь обосновался во Вьетнаме. Теперь он уже генерал, но все так же предпочитает штатское платье. И хотя прибыл он на сей раз не инкогнито, а как специальный помощник посла США по «психологической войне», по-прежнему избегает официальных приемов, проводя время на таинственной вилле, что расположена где-то на полпути от аэродрома до города. «Маленький генерал» (как утверждают, самый маленький из всех генералов США) формирует специальные отряды провокаторов, которые, переодевшись партизанами, совершают зверства в окрестных деревнях. В его распоряжении — тысячи филеров, которые, конечно же, дежурят повсюду — от закоулков «черного рынка» до фешенебельного бара, возле которого нашел свой конец «тихий американец» из романа Грэма Грина. Прототип оказался удачливее своего литературного воплощения, но вечно ли это везение? Когда сайгонские подпольщики устроили взрыв в посольстве США, сильнее всего пострадало, по признанию прессы, то самое крыло, где размещались коллеги генерала Лэнсдейла...
Вопреки ухищрениям Техаса с его танками, гёрлс, кардиналом и американской секретной службой Сайгон все-таки, вьетнамский город. Сайгон — это хижины с черепичной и соломенной кровлей, это «жилые кварталы» джонок, это трудовой люд и армия подпольщиков — огромная и неуловимая, наводящая ужас на воинство анти-Сайгона. И как бы ни изощрялись американские дипломаты, обосновывая «законность» вторжения, народ Южного Вьетнама признает своим законным представителем не сайгонское «правительство», это детище политиков и разведчиков США, а Национальный фронт освобождения. Он не только управляет освобожденной территорией, составляющей 4/5 всей южновьетнамской земли, он нередко является подлинным хозяином положения даже в центрах американской оккупации и противостоит интервентам не только идеалами социальной справедливости, гуманизма, подлинной культуры, но и силой оружия.

...Знойным августовским полднем я беседовал с южновьетнамским писателем Чан Динь Ваном. Мы встретились на улице Ханоя — жаркого, зеленого, деловитого и удивительно спокойного, хотя на его окрестности уже падали американские бомбы. Чан Динь Ван возвращался тогда из только что открывшегося Музея искусств.
— Кстати говоря, патриоты Южного Вьетнама, несмотря на войну, тоже не прекращают работы по развитию культуры и просвещения, — рассказывал он. — Был такой случай. Национальный фронт освобождения подготовил очередной транспорт в Сайгон. В те дни это было связано с большими трудностями и риском. «Придется ограничиться только оружием, — предложил один из партизанских командиров. — С литературой обождем». Но представитель сайгонских подпольщиков возразил: «Нет, нам нужны и книги о Нгуен Ван Чое. Он был настоящим вьетнамцем, настоящим сайгонцем, и город должен знать все о своем герое». Книги и на этот раз были отправлены в Сайгон...
А еще Чан Динь Ван сказал:
— Сайгон был, есть и всегда будет вьетнамским городом.
А. Крушинский
(обратно)
Жорж Арно. Плата за страх

Не у каждого приговоренного к смертной казни бывает такой похоронный вид, какой был у Джонни, когда он устраивался рядом с Жераром. Пока француз пробовал педаль газа, тот от ужаса исходил слюной.
— Кажется, меня тошнит.
Но поздно! Они тронулись с места; теперь — вперед. У обоих остановившийся взгляд; у Жерара от напряжения. Мотор то взвивается, то утихает, даря Джонни мгновенные передышки.
Третья, четвертая передача... Если не считать коротких мгновений на переключение скоростей, стрелка спидометра неуклонно движется вправо: сорок пять, пятьдесят... Для разгона остается ровно половина пути.
Шестьдесят. Пятая скорость. Уже секунд десять Джонни не дышит. Приоткрыв рот, следит за убегающей под грузовик дорогой, за летящей навстречу ночью. В лучах фар вьются столбики пыли; подхваченные безумной, исступленной гонкой песчинки пускаются в дикий пляс. Мотор отдает все, что может. Яростным, бешеным ударом ноги Штурмер вдавливает педаль акселератора в пол. Еще бы! На спидометре шестьдесят, шестьдесят — и ни на деление больше. Бросает взгляд на Джонни. Тот забился в угол, изо всех сил уперся ногами, втиснулся в сиденье. Он вопит, не громко, но вопит. Долгий однотонный вой. Этот вой рвется из него сам по себе, он ничего не может поделать.
Но что же все-таки с грузовиком? Вдруг мозг Жерара пронзила догадка, он кричит изо всех сил:
— Ограничитель!..
Чтобы избежать превышения скорости, американские компании пломбируют карбюратор. Механик и О"Брайен забыли, конечно, снять пломбу, никто об этом и не подумал.
Через тридцать-сорок метров песок кончится. Лучше бы через пятьдесят. Но Жерар уже начал тормозить. При шестидесяти в час о езде по «гофрированному железу» и думать нечего. Самая неподходящая скорость. Надо остановиться раньше.
Сильнее, сильнее жать на педаль! И в то же время не слишком сильно. Нажимая, Жерар чувствует спиной и всем своим нутром массу взрывчатки, напирающую на стенки бочонков, — каждая молекула нитроглицерина вздувает сейчас его вены. Он чувствует, как сам подается вперед. Кровь стучит в висках. Это не из-за торможения, это, наверное, страх.
Остается десять-двенадцать метров песка. А скорость на спидометре — двадцать пять. Последний, самый страшный участок: если грузовик затормозит недостаточно плавно, давление жидкости на переднюю стенку немедленно передастся назад. Один всплеск, его вполне хватит... Но остановиться в конце песчаного участка необходимо.
Ряд мелких толчков сотрясает передний мост, грузовик начинает водить. Будь амортизаторы не в порядке, как несколько часов назад... Но балласт делает свое дело. Яростная дрожь передних колес не передается на остальную часть шасси. И послушный, покорный, дружелюбный грузовик, ведомый обессилевшим Жераром, уже снова ползет по дороге со скоростью улитки, плавно переваливаясь через каждый бугорок. Они еще раз выходят из машины, не говоря друг другу ни слова. Красные лампочки бросают отсвет на их опустошенные лица. Выглядят они жалко.
— Проклятье! С ума сойти можно! Джонни вздохнул, ничего не ответив.
— Ну ладно, старик, начнем сначала.
— Нет!.. Нет!..
Дикий крик. Крик человека, умирающего в страшных муках с распоротым животом. Крик узкобедрой роженицы, которой ребенок разрывает чрево.
Штурмер мертвой хваткой взял его за рубашку и затряс, как трясут погремушку. Снова заныл раненый палец. Жерар глухо выругался и сжал Джонни еще сильнее. Ткань рубашки затрещала и словно нехотя подалась.
— А я сказал: начнем сначала, слышишь, баба!
— Нет, Жерар, нет...
Голос Джонни звучал странно, как умоляющий тоненький голос ребенка, который боится, что его побьют. Штурмер побледнел, его трясло. Ярость, усталость, страх прошедший, страх будущий.
— Послушай, послушай меня, жалкий ублюдок, слушай, что я тебе скажу: если ты не бросишь свои штучки, я тебя оглушу, а потом втащу в кузов и привяжу к цистерне. Я устал, и можешь не сомневаться: мы взорвемся оба. Ты боишься, да?
Боишься, сволочь? Я тоже, идиот несчастный! Но сейчас мы не смеем об этом и думать, не имеем права!
* * *
Задним ходом они еще раз вернулись к месту старта. Джонни размахивал фонарем, словно кадилом перед гробом, и Жерар не смог удержаться от смеха. Он даже просвистел три первых такта похоронного марша. Шутка, конечно, весьма дурного тона.
Отверткой они мгновенно отвинтили ограничитель, узкую оловянную полоску, которую Жерар с яростью швырнул на землю. Сверкнув в двойном свете — луны и фар, — она напомнила маленькую змею, злую, но бессильную.
— Вот так, — сказал Жерар. — Еще раз напоминаю план: когда мы въедем на гофрированное железо, я передам тебе руль, и ты поведешь до самого Лос Тотумоса. Мы воспользуемся цементной полосой при въезде в деревню, чтобы снизить скорость. Бояться особенно нечего — на этом участке ни выбоин, ни ям, — главное, не снижать скорость ниже восьмидесяти!
— А если не выдержит мотор?
— Вряд ли. Но если это случится, мы взлетим на воздух, и дело с концом, так что не о чем рассуждать. И еще одно: я говорю это сейчас, чтобы ты потом не просил меня дать тебе время подумать, написать письмо маме или посоветоваться с адвокатом насчет завещания, когда придется сесть за руль. Если ты только вздумаешь...
* * *
Постепенно увеличивая скорость, грузовик без единого толчка вышел на дорогу и полетел по ребристой поверхности, словно по гладкому льду. Жерара эта победа измучила еще больше предыдущей неудачи, он ощущал тяжесть во всем теле, особенно в плечах, веки жгло еще сильнее. Ветер со свистом врывался в кабину, обдувал лицо сквозь приподнятое ветровое стекло. Но ничто не помогало. Дважды Жерар зажмуривался, потом резко открывал глаза, однако сонливость не покидала его, она словно пылью запорашивала глаза. Он должен поспать!
— Джонни! Эй, Джонни!..
— Что?
— Давай!
Разумеется, тот был не в восторге.
Ночь, прячась в кюветах, неслась навстречу грузовику. Ровный гул мотора сливался с шумом ветра, стрелка спидометра неподвижно застыла на цифре 90...
— Ну, давай! И не забудь — сбавишь газ, и мы взлетим.
Передача полномочий закончена, Джонни брошен в ночь и несется в погоне неизвестно за чем: то ли за чеком, стоимость которого равна свободе, то ли за смертью. Как собака с консервной банкой, привязанной к хвосту. Но их «банка» — с особыми консервами.
Джонни сел за руль, стал шофером грузовика. Честно говоря, до сих пор он был скорее пассажиром. С этой минуты грузовик принадлежал ему. Он откинулся назад, попробовал держать руль и так и эдак, потом, наконец, устроился, твердо схватив руль снизу. Так вроде удобнее.
Теперь уже он требовал внимания:
— Сигарету, старик!
Трижды глубоко затянувшись, он выбросил сигарету в окно: этой ночью табак горчил, раньше он такого привкуса не замечал. Делать ему было особенно нечего — только вести прямо, но на такой скорости лучше не курить.
Немного погодя он повернулся к Штурмеру, откашлялся. Такое сказать нелегко.
— Слушай!
— Что?
— Спасибо тебе.
— За что?
— Что не оставил меня на дороге, когда я бросил тебя одного на виражах. Ты свой парень. Жерар.
— Ба!
— Да, да, ты славный малый. Но вот увидишь, теперь я тебе помогу. Как следует помогу.
— Ладно, ладно.
Когда его напарник прикорнул в углу, Джонни начал напевать забытую песенку далекого детства:
От Плоешти до Георгиу
Странствовал я двадцать лет.
И за это время заработал
Двадцать золотых монет...
* * *
— Жерар! Послушай, Жерар!
Джонни ведет грузовик уже больше часа. Последние два километра перед грузовиком, совсем низко над землей, вьется полоска пыли. Она не ухудшает видимости, но говорит о том, что впереди что-то есть. Что-то довольно большое, движущееся не очень быстро, иначе пыли было бы больше.
— Жерар! Черт тебя подери!
Джонни в отчаянии. Скорость нельзя снизить, не то грузовик тряхнет и он разлетится в прах, а впереди какое-то препятствие, о котором он еще ничего не знает, кроме того, что оно существует и приближается: пыль становится гуще.
— Жерар!
— К черту! — отвечает, наконец, проснувшийся Жерар и тут же добавляет: — Что там еще стряслось?
Впереди ничего не видно. Только что ярко светившая луна куда-то скрылась. Однако француз довольно быстро соображает, что сейчас что-то произойдет. Облачка пыли он заметил сразу. И потом этот загадочный красный свет над самой линией горизонта. Он протер глаза. Сомнений не было.
— Впереди — Луияжи. И он едет медленно, если совсем не остановился.
Глаза Джонни неподвижны. Он пытается взглядом просверлить темноту, чтобы обнаружить за ней нечто более материальное, более твердое. Обо что он разобьется. Невольно он отпускает педаль газа — скорость начинает угрожающе падать — делает именно то, чего нельзя делать. Жерар наступает ему на ногу, прижимая ее к полу.
— А ну, пусти-ка!
Джонни оставил свое место с гораздо большей поспешностью, чем стремился его занять. Жерар угрем проскользнул под ним и взялся за руль.
— Ты знаешь точно, где мы?
— Седьмую насосную проехали примерно пять минут назад.
Да, здесь есть насосные станции. Действующие и не действующие. Они расставлены вдоль нефтепровода, от самой дальней вышки до набережной Лас Пьедраса, чтобы поддерживать постоянное давление.
Восемьдесят в час. Надо держать восемьдесят — это главное. До последнего мгновения, пока не возникнет препятствие. Тогда придется решать.
Внезапно Джонни кричит:
— Фары потухли!
— Не ори так. Это я их выключил. Без фар сейчас дальше видно.
И правда. Тропическая ночь не бывает абсолютно темной — слишком много звезд. Жерар определил общую линию дороги — это плевое дело. Он закрыл глаза, а когда открыл их через три секунды, стена, на которую натыкались лучи фар, расступилась. На ее месте появился неясный, призрачный пейзаж, тянувшийся до самого горизонта. И первое, что заметил Жерар, были гирлянды красных лампочек, которые катились впереди, в двух метрах над землей. Жерар включил фары.
— У нас есть время. Пока мы их догоним, пройдет не меньше пяти минут. Черт, не повезло!.. Еще бы полчаса, и они пришли бы в Лос Тотумос раньше нас.
— Что думаешь делать?
— Попробую обогнать. При их скорости они вполне могут податься на обочину и пропустить нас.
— Им придется совсем съехать с дороги.
— Будем надеяться, что они так и сделают.
Начинает звучать клаксон. Отчаянный вой, сливающийся с завыванием ветра. Крики грузовика, вначале беспорядочные и невнятные, постепенно приобретают стройность. Короткий гудок, длинный, короткий — серия условных знаков всех шоферов на таких дорогах:
— Внимание! Внимание!.. Уступи мне дорогу, уступи мне дорогу... Иду на обгон... Иду на обгон...
* * *
Снова беспорядочный рев гудка. Если те и не поймут, то хотя бы будут предупреждены. Орите, гудки, орите сильнее, напугайте их, если они вас не понимают, орите!.. Сирена прямо-таки взвыла, пронзительно, оглушающе...
— Послушай, перестань-ка сигналить! — просит Джонни.
Теперь они не только всматриваются, но и вслушиваются, пытаясь различить доносящиеся до них звуки. Но ветер воет, и, может быть, им только чудится, будто они слышат удары каждой песчинки, вырвавшейся из-под колеса и бьющей по крыльям и по шасси.
Впереди, метрах в пятистах, а может, и ближе, на фоне неба уже ярко выделяются гирлянды красных лампочек: первая машина близко. Но Луиджи не отвечает. И дорога становится уже. Этого только не хватало!
Жерар снова начинает сигналить. Длинный, короткий, еще и еще раз.
— Послушай, — говорит Джонни, взяв его за локоть.
Сейчас он почти овладел собой. Он слишком занят, чтобы бояться. На страх не остается времени, и он забывает о нем.
— Послушай!.. Кажется...
В самом деле. Похожий на гульканье младенца сигнал, дрожащий, невнятный и в то же время хриплый. Но в нем чувствуется какой-то ритм. Это знак того, что Луиджи понял и отвечает. Но почему он не уступает дорогу? Расстояние между машинами двести метров, и при такой скорости столкновение почти неминуемо.
— Что он там сигналит? — спрашивает Джонни, сообразив, что это азбука Морзе, которой он не знает.
— Э... с... п... р... а... Эспера, подождите... Он передает, что все пропало. Прыгай или молись.
Джонни не отвечает, но и не прыгает. Его губы беззвучно шевелятся, потом он закрывает лицо руками, и руки его белее, чем саван на мертвеце. Красный свет лампочек уже отражается в ветровом стекле. Еще несколько секунд... Жерар сглатывает слюну. Джонни бросает последний взгляд и разевает рот, видимо решив умереть, захлебнувшись криком.
Клаксон воет. Штурмер вцепился в руль, как в спасательный круг. С ним он не так одинок. Он хотел бы закрыть глаза, но не может. Он из породы людей, которые не сдаются: на эшафот их можно втащить, лишь оглушив, и даже на смертном одре они будут препираться с агентом похоронного бюро из-за стоимости собственных похорон... Грузовик Луиджи всего в тридцати метрах.
И как раз в тот момент, когда, кажется, все уже кончено и осталось жить секунду или две, из-под колес головной машины вырывается облако пыли и ослепляет Штурмера. Эх, была не была! Француз отпускает педаль газа, осторожно берет на себя — всего три щелчка — ручной тормоз, слегка нажимает на ножной. Вихрь пыли столбом вздымается до небес, но кажется, что красные огни, готовые обрушиться на ветровое стекло... Да, да! Кажется, они больше не приближаются! Луиджи явно увеличил скорость — от этого столько пыли. Ну конечно, теперь он уходит все дальше и дальше.
Песок забивает горло. Джонни пытается опустить ветровое стекло, но винт не поддается. Пока он с ним справится, они либо уже остановятся, либо взлетят на воздух.
Теперь под шинами мягкая и гладкая дорога. Едешь как по маслу, хотя скорость все время падает. Если в ночи и в пыли не затаилось какое-нибудь препятствие, час их смерти еще не пробил.
Дорога становится все глаже. Облако пыли внезапно рассеивается, открывая две белые полосы, раскатанные по земле, как два рулона ткани. Впереди — уже в свете фар — грузовик Луиджи проезжает между двумя глинобитными лачугами.
Значит, Джонни назвал ориентир неправильно! Значит, даже на это он не способен, даже на это!
— Когда ты меня разбудил, мы проезжали не седьмую насосную! Это была шестая...
Джонни скривился. Но после всего, что они пережили, Штурмеру не до упреков. Один раз он уже высказался, к чему повторяться? Какой от этого толк?
Снизив скорость до первой, они въехали в деревню. Улицы были пустынны, лишь кое-где через распахнутые двери можно было видеть освещенные комнаты и их обитателей, простертых ниц. Сидя на корточках и закрыв лица руками, старики бормочут молитвы. Они уже знают, что за грузовики въехали в деревню. А ведь здесь нет ни телеграфа, ни телефона... Но южнее тропика Рака во всех странах мира новости распространяются неизвестным путем со скоростью, тайну которой европейцам пока что открыть не удалось.
Оба грузовика следуют один за другим на расстоянии нескольких метров. Перед площадью из кабины первого грузовика высовывается рука — белое пятно на фоне красных огней. Это Луиджи или Бимба показывают, что сейчас остановятся. Они ставят свой грузовик прямо на площади, а Штурмер — на правой стороне дороги.
* * *
— Эй, Бимба! Эй, Луиджи!
— Что там с вами стряслось? — спросил итальянец. — Вы что. не видели платка, который мы привязали к столбу у шестой насосной, чтобы вы тормозили? Ведь вас же двое!..
— При чем тут двое? Машину вел Джонни. А я спал.
— Спал?! — от удивления Бимба не может прийти в себя.
— Во время войны, при осаде Мадрида, я был подрывником. Мы бросались на фашистские танки и швыряли гранаты прямо в щели, чтобы оглушить экипаж. Мы прогуливались под огнем противника со связками динамита на поясе и с сигаретой в зубах, чтобы было чем поджечь бикфордов шнур. Я это говорю к тому, что сам неплохо разбираюсь в разных взрывающихся штуковинах. Но спать в таком грузовике на ходу! В господа бога и матерь божью. Мне бы и в голову не пришло... Чертовщина!
— А ты, Джонни, тоже не видел платка?
— Откуда я мог знать, что он означает?
— Все здешние шоферы знают: белый цвет — это опасность. И всегда имеют про запас платок, рубашку или кусок газеты, чтобы оставить на дороге и предупредить приятелей, — объяснил Бимба.
— Я не знал. Я ездил только по Европе. А что с вами случилось?

Экипаж Луиджи — Бимба был вынужден сделать остановку, потому что карбюратор засорился и начал чихать. Потом стал перегреваться мотор, и они отказались от мысли добраться до Лос Тотумоса не останавливаясь.
Едва Жерар, Джонни, Луиджи и Бимба расположились в харчевне вокруг бутылки маисовой чичи, жареных початков, пригорелых маисовых лепешек н маисовой же каши с остатками жаркого — истинное пиршество для тех, кто понимает, — как в дверном проеме появился старик. Он весь трясся, и голос его дрожал:
— Убирайтесь отсюда! Убирайтесь к дьяволу с вашим адским порохом! Я здешний мэр, и у нас никто не желает, чтобы вся деревня была разрушена.
— Не бойся. Из-за того, что американцам надо спасать свою нефть, ничего здесь не взорвется, старик. Выпей с нами стаканчик чичи. А потом мы поедем.
Старик стоял, устремив на них неподвижный взгляд. Он дрожал от ярости и от страха.
— Убирайтесь! Убирайтесь прочь!
— Сядь и выпей с нами, — повторил Бимба. — Мы не американцы.
— Но что они вам сделали, эти американцы? — спросил Джонни.
— Слишком много, — ответил старик. — Они приходят сюда, покупают нефть, платят за нее правительству, а потом правительство смывается с деньгами, мы ему больше не нужны, и мы становимся еще беднее и несчастнее, чем прежде. Янки пинают нас сапогами, чтобы мы строили дороги, но по ним ездят их грузовики, а если на дорогу выберется индеец в повозке, его заставляют платить штраф. Они открывают школы и учат там наших детей читать их газеты, отдавать за них голоса на выборах и работать на них...
Он понизил голос и сделал заговорщицкое лицо. Бимба налил ему еще стаканчик чичи. Это был уже третий, но по виду мэра нельзя было сказать, что чича на него подействовала, должно быть, он пьет ее с детства.
— Они берут нашу кровь, — прошептал мэр.
— Как так?
— Сами подумайте, с их вечными войнами им всегда не хватает крови. А Гватемала не воевала уже сто пятьдесят лет. Поэтому стоит кому-нибудь из наших попасть в больницу, из него обязательно выкачают половину крови. — Он посмотрел Бимбе в глаза, кивнул головой и добавил: — Это точно. И если человек после этого умирает, тем хуже для него.
Ужин подошел к концу. Шоферы поднялись. Сытые и отдохнувшие, они чувствовали себя лучше. Луиджи с Бимбой выезжали первыми, следом за ними, с интервалом в час, отправлялись Штурмер и Джонни.
— Вы не по всей стране проедете? — блеял мэр, сопровождавший их до площади. — Всегда одно и то же: сумасшедшие иностранцы — согласиться умереть за деньги, а на деле-то умираем мы, и никто нам за это не платит.
Подошел священник и присоединился к мэру:
— Вы не имеете права... В нашей деревне семьсот человек. Женщины, старики, невинные дети. Вечной душой вашей заклинаю вас...
— Проклятье, эта сволочь еще накличет на нас беду! — воскликнул Бимба. — Что ты каркаешь, мы ведь пока не взорвались, правильно? И неизвестно, взорвемся ли. Поэтому заткнись-ка, ваше преподобие, все твои прихожане обделаются от страха. Мы поехали...
— Но вы не имеете права... Для вас специальный объезд... Я буду жаловаться в компанию!
— А-а, пошел ты! Если мы взорвемся, не на кого будет жаловаться и некому отвечать. А если все сойдет благополучно, можете идти с вашими жалобами куда угодно, никому до вас не будет дела.
Итальянцу Луиджи конфликт со священником был донельзя неприятен. Он вмешался:
— А в каком состоянии этот объезд?
— В отличном, мистер, в отличном, — заверил священник. — Вчера там прошли бульдозеры, дорога даже лучше, чем главная улица, гораздо лучше!
— Пойдем посмотрим. Если объезд действительно в порядке, что нам стоит свернуть? Может, там даже проще набрать скорость.
И в самом деле, в двадцати метрах за первыми домами начинался объезд, с виду прямой и хорошо расчищенный. Он огибал все селение плавной дугой, уходящей в ночную тьму. Красная стрелка, которую Жерар не заметил при въезде в Лос Тотумос из-за пыли, указывала начало объезда. Ограничения скорости не было.
Мужчины раздумывали. В конечном счете это всего каких-нибудь пять-шесть километров лишку, и дорога, похоже, гладкая, как каток. Идеальный отрезок для разгона перед выездом на гофрированное железо.
Священник настаивал. Мэр исчез сразу же, как только речь зашла об объезде, очевидно целиком полагаясь на красноречие падре. Как-никак это его профессия.
У этого старика в сутане было доброе лицо.
Особенно глаза, нежные и печальные. И говорил он так мягко:
— Я человек старый... Мне-то чего бояться? Но эти бедные люди, их дома, их дети... Я всю ночь стоял и молился, чтобы с ними ничего не случилось. Пощадите их. Вы мужчины, вы знали, что делали, когда взялись за это. Но они-то тут при чем?.. Поезжайте в объезд. А я опять помолюсь... За вас...
— Заткнись, — сказал Бимба. — За войну я таких святош навидался досыта. Я им больше не верю.
— Замолчи ты, дьявол тебя побери! — взорвался набожный Луиджи. — Хорошо, падре, мы поедем в объезд.
Никто не уполномочивал Луиджи говорить это от имени всех. Но, вообще-то говоря, речь шла и о его шкуре. И это давало ему определенные права. Никто не стал протестовать.
— Спасибо, сын мой, спасибо за моих овечек, — проговорил старик. — Бог тебе воздаст.
Я благословляю вас, буду молиться за вас все время. Вот увидите: даже если вы сами не веруете, мои молитвы принесут вам удачу.
* * *
Один за другим два чудовища пятятся к началу объезда. Никогда еще грузовики не казались такими большими — наверное, из-за того, что вся тяжесть ночи навалилась на гирлянды красных огней, на красные тени машин.
Луиджи едет первым. Он помахал приятелям рукой, дважды газанул вхолостую, потом сбросил газ до малых оборотов, чтобы включить первую скорость. Прижав к полу педаль сцепления, он наклоняется, высовывает голову из кабины и говорит:
— Прощайте, падре. И благословите нас, нам это пригодится.
Священник отступает на шаг-другой и вдруг сразу воздевает руки к небу. Свет красных лампочек словно облачает его в пурпурную ризу.
— Благослови вас бог, — он чертит правой рукой огромный крест. — Во имя отца и сына...
Напрасно они делают безразличный вид, они слушают. Они даже взволнованы. Кроме Бимбы, который вполголоса обрушивает на бога все известные ему оскорбления.
— ...и святого духа.
— Аминь, — отвечает Луиджи, отпуская педаль сцепления.
При свете фар белая поверхность дороги кажется почти блестящей. Темная масса грузовика медленно уплывает в ночь.
— Завёл бы ты грузовик на объезд, — говорит Жерар напарнику. — Оставим его там, а сами вернемся в деревушку, отдохнем еще немного. Можно даже вздремнуть. Через час господин кюре нас разбудит.
— Тебе бы только дрыхнуть, — протестует Джонни, садясь за руль.
Штурмер остается наедине со стариком.
— Вы разве не сразу уедете? — спрашивает тот.
— Нет. Для безопасности мы едем с интервалом в один час.
— Но...
Он хочет что-то сказать, однако умолкает на полуслове. Ему явно не по себе. Жерар ничего не замечает. А на Джонни бог знает почему напал стих: ему захотелось поставить машину не где-то позади, а именно так, чтобы задний борт касался стрелки указателя. Грузовик хоть и недогружен, однако его не развернешь, как спичечный коробок. Джонни потеет на совесть.
Но что это? Кажется, грузовик Луиджи возвращается. Да, так оно и есть! На подножке стоит индеец и держит в руке деревянный щит, белый с черными буквами. Бимба спрыгивает на ходу. Он бледен от ярости.
— Где этот падре? Где этот вонючий ублюдок из борделя их сволочного бога?
— В чем дело? Что он тебе сделал?
— Посмотри!
Вырвав щит у индейца, Бимба потрясает им перед носом Жерара.
— «Внимание! Скорость минимальная! Дорога в плохом состоянии. Опасно! Внимание! Внимание!»
— Вот что эта сволочь сделала! Он боялся, что если мы увидим щит, то поедем через его вонючий приход. Испугался за свою драгоценную шкуру, за свой дом и всех этих золотушных, которых он обирает. Где этот гад, я убью его, прежде чем подохну сам...
* * *
Подошли жители деревни. Здесь и трясущийся мэр; впрочем, он и до этого весь дрожал. Жерар схватил его за грудки.
— А ты, ты ведь тоже нас умолял не ехать через твою вшивую деревню!..
Лицо старика становится грустным.
— Я только не хотел, чтобы вы ехали через деревню. Но туда я вас не направлял...
— А надпись все-таки убрали?
— Нет, это не мы. Это все падре.
— Ты с ним заодно, старый негодяй!
Жерар яростно трясет старика, и глаза его мечут молнии. Но старик бесстрашно смотрит ему прямо в глаза. Жители деревни приблизились. Они хотят заступиться за своего мэра, но не осмеливаются. Только один молодой парень поддерживает старика.
— Это падре все сделал. Была даже табличка, прибитая под стрелкой. Посмотрите сами, там еще видны следы гвоздей. А он ее сорвал...
Остальные подтверждают его слова:
— Да. Ее сорвал падре. Он сказал, что вы поедете через деревню, если ее прочтете.
— Мы хотели уйти из деревни на эту ночь, — добавляет другой. — Но падре нам запретил: и церковь и его дом как раз на дороге. Он боялся все потерять.
— Он грозит, что будет молиться, и у того, кто вам это скажет, падет скот и умрут все дети.
— «Я сам это сделаю, — говорил он, — я их уговорю, я покажу им все опасные места на новой дороге».
— Да, «я сам все сделаю» — это его слова.
— А где он теперь?
Все упрямо замолкают.
— Он ушел. Не ищите его, не теряйте времени.
Теперь вы все знаете, а мы ушли из наших домов.
Проезжайте через деревню. Мы вернемся, когда вы уедете.
* * *
— Пошли, ребята! — говорит Бимба приятелям. — Мы-то его найдем...
Один Луиджи против.
— Я побуду у грузовиков, — говорит он. — Нельзя же их так оставить...
Остальные устремляются вслед за Бимбой.
* * *
Долго искать не пришлось. Как они и думали, священник спрятался в своей церкви. Там они его и обнаружили в темном углу за колонной.
— Выходи отсюда, — сказал Жерар.
Но вмешался испанец:
— Нет, именно здесь! В его берлоге. В его притоне. В доме его хозяина. Ну что ж, подлец! Может, твой вонючий бог сойдет с распятия, чтобы защитить такую же падаль?..
Священник был ни жив ни мертв. Но он не пытался защититься, не сказал ни слова. Ударом ноги в грудь Бимба опрокинул его навзничь. Потом бросился на него, перевернул и, схватив за уши, стал возить лицом по цементному полу. Изо всех сил. До бесконечности.
— Остановись, — сказал Джонни. — Какой тебе толк, если он подохнет? Ты не сможешь даже воспользоваться премией, если мы довезем взрывчатку.
Но Бимба отпустил священника не сразу. Только тогда, когда тот умолк и едва дышал.
Перед тем как покинуть церковь, испанец сорвал с алтаря распятие, сломал дверь дарохранительницы. Он разбросал облатки во все стороны и плюнул в дароносицу.
Луиджи, которого они встретили у машин, услышав об этом, тяжело вздохнул.
— Не будет нам удачи, — прошептал он.
* * *
Они медленно проехали деревню и выехали на дорогу со скоростью улитки, вернее, осторожной черепахи, которая каждый раз смотрит, куда ей поставить лапу. Грузовик Штурмера остановился, чтобы первая машина отъехала на нужную дистанцию.
Жерар и Джонни молча курили. Так прошло, наверное, с полчаса. Наконец Жерар открыл дверцу, чтобы выйти из машины, успокоить разгулявшиеся нервы, и тут впереди что-то вспыхнуло неимоверно ярко, брызнули железные обломки, ослепительный свет охватил часть горизонта, а потом и всю ночь. Свет невероятной силы, белый, как вспышка магния, на секунду озарил каждый камушек в каждой выбоине, каждую травинку вокруг, насколько хватало глаз. Холодное белое солнце вспыхнуло на миг и умертвило все живое своим леденящим светом. Едва оно потухло, раздался грохот; докатился раскат звуковых волн; здесь, на равнине, им не за что было зацепиться, и они неслись, нагоняя друг друга и усиливаясь до бесконечности. Потом воздушная волна обрушивается на грузовик. Она хлещет по лицам мужчин, оставшихся снаружи, осыпает кабину и ветровое стекло зернами песка и уносится дальше, за горизонт. И внезапно все затопляет мертвая тишина.
* * *
Джонни вцепился в руль. Его веки сжаты так плотно, словно он боится, что нечто враждебное насильно проникнет в его глаза. От стука открывшейся дверцы он подпрыгивает и бормочет нечто совершенно неуместное:
— Не шуми так!
Оба европейца мысленно соблюдают минуту молчания. Нитроглицерин убил их товарищей. Двое уже перестали ждать, надеяться, терзаться страхом. Для двоих деньги компании «Круд» из почти ощутимой сверхреальности мгновенно превратились в ничто. Эти двое исчезли, вышли из игры, избавились от риска. Кое-кто в Лас Пьедрасе обрадуется. Чья теперь очередь? Смерлова?
Это имя пронзило мозг Штурмера, вспыхнуло огненными буквами. Ну конечно, именно он, этот тип, испортил им грузовик. Смерлов! Как же они раньше не подумали о нем!
Священник благословил Луиджи, посылая его в пекло, Смерлов пожелал ему удачи, когда они проезжали мимо «Корсарио». Должно быть, таков обряд предательства.
* * *
Вскоре начали попадаться, сначала изредка, потом все чаще и чаще, оголенные, поцарапанные или вспаханные взрывом участки. При свете фар было видно, что чем дальше, тем дорога становится хуже. Поначалу лишь ненамного хуже самых трудных участков после подъема на плато. Но потом ехать стало просто страшно. Джонни побледнел как смерть. Вся его уверенность, обретенная было в Лос Тотумосе, испарилась. Руки его дрожали, он снова путался в скоростях, терял педали. Без всякой причины он то коченел от страха, то безрассудно рисковал, пытаясь его преодолеть, но хватало Джонни ненадолго. И грузовик, отвечая на смену его настроений, дергался так, что один или два раза очередной рывок мог стать последним.
— Остановись-ка на минутку, — сказал Жерар. — Нечего полагаться на случай, а то еще застрянем. Вылезай, пойдем посмотрим сами.
* * *
Включив дальний свет во всех фарах, в том числе и в подвижной, светившей дальше других, они двинулись вперед по развороченной дороге, подсвечивая себе ручными фонариками. Им пришлось пересечь три зоны. В первой, уже почти пройденной, дорога была изрыта многочисленными, но неглубокими ямками, очевидно от осколков. Кусок номерного знака с маркой, похожей на крудовскую, — поди-ка теперь разберись, какой здесь был пожар! — отлетел явно с переднего бампера грузовика, ведь они находились еще далеко от воронки, от центра взрыва.
Дальше метров на пятьдесят тянулся истерзанный взрывом участок. Казалось, что здесь колебалась земля. Почва спеклась, раскаленные и холодные потоки воздуха вздыбили щебенку волнами. Похоже было на лужу, в которую бросили камень, на лужу, так и замершую с открытым, разинутым концентрическими кругами ртом. Если бы в ней было хоть какое-то движение, это бы не так пугало, как ее мертвая неподвижность.
Еще дальше чернела яма. Это случилось здесь. И яма-то неглубокая, не больше метра. Взрыв был настолько мгновенным, что не успел как следует разворотить землю; между небом и ночью во все стороны вихрь разметал то, что было Хуаном Бимбой, Луиджн и шеститонным грузовиком.
На дне воронки земля была рыхлой. Склоны воронки осыпались под ногами Штурмера. Джонни остался наверху, на краю ямы. Казалось, он страшился какой-то неожиданности. Обшаривал лучом фонаря каждую впадину. Но о том что здесь были люди, напоминал только один плоский камень, забрызганный кровью.
— Ну что же! — вздохнул Жерар.
Времени для надгробных речей не оставалось. Сейчас нужно было ехать. Жерар поднялся к Джонни.
* * *
Две груды серой земли дрожат в сдвоенном луче, спроецированном на экран ночи. Вылетая из темноты, пылинки цепляются за ослепительный луч, танцуют в нем, завихряются, падают и взлетают вновь, и так без конца. Люди дышат пылью, глотают пыль, выплевывают, но ее не становится меньше.
Потные, облепленные пылью, они тяжело ворочают киркой и лопатой. Нужно облегчить грузовику путь, сделать склоны воронки пологими, тогда он сможет спуститься, встать на дно, зацепиться передними колесами за противоположный склон, как бы подтянуться на них и продолжать путь.
Тут не может быть тридцати шести решений и, вероятно, даже двух. Катастрофа, разумеется, произошла на самом неудачном участке. На целый километр спереди и сзади полотно дороги приподнято самое малое на метр, и по обеим сторонам тянутся трубы нефтепровода, уцелевшие только благодаря тому, что лежат ниже дороги.
Лучше бы их здесь не было! Преодолеть барьер из черного чугуна невозможно. Грузовик зажат с обеих сторон.
Земляные работы — своего рода передышка, работы «кирка — лопата», как говорят местные жители, — закончены. Жерар и Джонни закрепляют инструмент вдоль дверец кабины. Пока еще не светает, хотя уже около четырех часов: солнце в этих краях круглый год встает ровно в шесть. Но уже заметно посвежело. Пока это им на руку.
— Придется поднажать, — говорит Жерар, устраиваясь за рулем. — Через час после рассвета мы должны быть на той стороне. Если все пойдет нормально, управимся за десять минут.
— Нормально! Ты что, еще не сообразил, что на свете нет ничего нормального?
Он включает стартер. Мотор урчит, тихонько присвистывая. Свежий воздух полезен для карбюратора. Джонни заходит вперед и начинает пятиться лицом к Жерару. Экономными жестами он показывает, как ехать.
— Стоп!
Передние колеса дошли до начала выровненного ими спуска с этой стороны воронки.
— Выйди посмотри сам, старик.
Конечно, указания Джонни полезны. Но этого недостаточно. Нужно, чтобы другой увидел сам и запомнил, так сказать, наизусть все препятствия. От него не должно ускользнуть ни единого бугорка, ни одной неровности, ни одного камня, торчащего наполовину из земли, — все должно запечатлеться в памяти с предельной точностью. Джонни может только подсказывать, не больше. Остальное зависит от мозга Жерара. Но не только от мозга: его руки, держащие руль, ноги, правая — на стартере и на педали тормоза, левая — на педали, каждая частица, каждая клетка его тела должна осознать всю серьезность стоящей перед ним задачи. Через мгновенье уже не останется времени советоваться с разумом: все будут решать инстинкт и рефлексы.
Жерар долго изучал путь — сантиметр за сантиметром. Иногда он опускался на корточки и ощупывал землю руками. Он только что не обнюхивал дорогу, только что не вылизывал. Наконец он поднялся и тихо сказал про себя:
— Вроде ясно...
— Ты еще не все осмотрел, — заметил Джонни.
— О чем ты?
— Ты не можешь спуститься, затормозить внизу и потом искать путь для подъема.
— Почему?
— Дно недостаточно твердое, оно вязкое, рыхлое, сырое. Если остановишься, наверх тебе уже не выбраться.
— Ты хочешь сказать — увязнем?
— Наверняка.
— О дьявольщина! Будь проклято все на свете! Надо же было нам вляпаться в эту вонючую западню.

Конечно, проехать воронку с одного захода намного труднее. Надо заранее выучить на память уже не тридцать метров, а три раза по тридцать: спуск, дно и подъем. Выучить наизусть, вздохнуть поглубже, перекреститься и тронуться с места, чтобы через десять секунд обнаружить, что ты все
забыл, через десять секунд, когда остановиться уже нельзя, когда нужно идти до конца, и если это конец — тем хуже! Один шанс из двух, что машина на подъеме застрянет; тогда дело дрянь, грузовик на полколеса уйдет в рыхлую землю, и начинай все сначала, теряй целый день...
— Ну что ж... Значит, ничего другого не остается? Ты уверен, что дно такое слабое?
— Попробуй ногой. Если подпрыгнешь солдатиком — увязнешь.
Жерар топнул ногой. Башмак прилип, да так, что не оторвать! Н-да, дело ясное...
— Но ведь только что дно было твердое! Что
же стряслось с этой проклятой сортирной дырой?
Джонни пощупал песок в том месте, где нога Штурмера оставила глубокий след. Потом поднес руку к носу, понюхал.
— Нефть.
— Что?
— Понюхай сам...
Да, он не ошибся: отвратительный приторно-сладкий запах нефти ни с чем не спутаешь. Что можно было сказать? Проклинай бога, не проклинай — не поможет. Жерар и Джонни молчали.
Ветер стал еще свежее. Первым вздрогнул от озноба Штурмер. Ладно, зато хоть на время они отдохнут от жары. Он отступил на несколько шагов, продолжая мысленно фотографировать дорогу. Затем вернулся к Джонни.
— Наверно, в один из нефтепроводов у дороги попал осколок, и он потек. Учитывая скорость, с какой двенадцать насосов гонят нефть, поддерживая в трубе давление, нам осталось всего полчаса. Потом эта яма превратится в резервуар для нефти. Поехали!
— Ты спятил! — взорвался Джонни. — Совсем рехнулся! Сумасшедший кретин, к тому же контуженый! В желтый дом тебе ехать...
— Послушай!
— Нет уж, извини. До сих пор тебя слушал, потому что сам я едва не блевал от страха, а ты держался за двоих, тут уж ничего не скажешь. Но теперь хватит! Я выхожу из игры. Потому что ты не герой, а шизофреник, буйнопомешанный и болван. Точка.
— Ну и что из того? До сих пор, как ты сам говоришь, ты не блистал геройством, но все же делал свое дело, хотя у тебя за спиной было достаточно взрывчатки, чтобы разнести все вокруг. А теперь, если верить твоим словам, какая-то утечка нефти заставляет тебя бросить карты. Так кто же из нас болван? Да еще куришь над нефтью, бьющей под давлением. Совсем перестал соображать? Если уж взялся, доводи дело до конца!
— Нефть меня не пугает. Но это — знамение.
— Что?
— Знамение.
Очевидно, это слово все ему объясняло. И ничего другого вытянуть из него было невозможно. Знамение...
— Ну ладно, нечего нам сидеть тут всю ночь.
Вернее, то, что от нее осталось, от ночи... Будешь показывать мне дорогу. Понял?
Джонни посмотрел Жерару прямо в глаза.
— Вот что, Жерар. Мы с тобой были приятелями до этой идиотской ночи. До сих пор мы вдвоем могли плевать на все и на всех с высокой лестницы — помнишь? Но теперь все кончено.
— К чему ты клонишь? Рожай быстрее! — сказал Штурмер.
— Я снова поеду с тобой. Влезу в эту дыру, завязну в ней и утону вместе с тобой, выхлопные газы подожгут нефть, и мы изжаримся или взлетим на воздух, это ясно заранее. А если случайно проедем, то взорвемся чуть дальше, это уж наверняка. Я поеду, потому что ты был моим приятелем, и еще потому, что я тебя боюсь: слишком уж ты на короткой ноге со смертью, и я даже думаю — не дьявол ли ты? А я сойду с ума или умру от страха. Но запомни, Штурмер, знамение было, и я тебя предупредил... Для тебя тоже это добром не кончится...
— Когда мне потребуется гадалка, я тебя позову. А теперь по местам.
* * *
Грузовик как бы присел на колесах, готовый влачить свой проклятый груз дальше. Штурмер еще раз посмотрел вперед, туда, где за ямой снова начиналась дорога. Глубоко вздохнув, он залпом вобрал в себя как можно больше ночного воздуха и левой ногой опустил педаль сцепления. Передние колеса примяли землю на краю склона, выдавливая ее валиком, потом перевалили через него, и грузовик, упираясь колесами, как упрямый мул, начал спускаться в воронку. Мотор удерживал его, работая на малых оборотах. О том, чтобы притронуться к сцеплению до начала подъема на той стороне, нечего было и говорить. Только чуть притормаживать...
— В господа бога! Так и есть!
Мотор заглох, колеса заторможены, а грузовик продолжает скользить, он съезжает, скользит, его сносит, как судно, потерявшее управление, ставит поперек склона...

Жерар в отчаянии надавил на стартер, мотор взвыл, и сразу оглушительный рев стихает, колеса грузовика начинают медленно вращаться, как раз в тот момент, когда сцепление выжато, педаль газа касается пола и когда грузовик почти останавливался. Руль в руках Жерара описал два торопливых полукруга. Теперь передние колеса вцепились в жирную землю. Все стало на свои места.
Впереди в белом свете фар, словно зловещая марионетка, дергался Джонни, шлепал по нефтяной грязи, широкими жестами в пустоте звал, манил, увлекал за собой машину. Жерар, оставаясь на самой малой скорости, дал полный газ.
Мотор ревел. Клапаны метались как сумасшедшие, бились головами о своды цилиндров, набивали себе шишки и не имели даже времени почесаться. Шатуны ободряли их своим маслянистым пришептыванием. Сейчас шофер давал волю всей мощи, всей энергии, вложенной инженерами в эту сталь. И эта мощь мотора, многократно увеличенная шестернями коробки, передавалась через мосты колесам, которые неудержимо влекли грузовик со скоростью три километра в час по черному смрадному болоту, через озеро жидкой ночи, тяжело разбегающееся под колесами.
Джонни все отступает перед фарами. В невообразимой нефтяной грязи он скользит и спотыкается, как во сне, скользит и падает навзничь. Но это не сон, потому что он кричит и не может проснуться.
Высунув голову из маслянистой жижи, в которой барахтается его тело, он кричит и кричит. Грузовик неумолимо надвигается прямо на него. Жерар все видел, но не снимает ноги с педали, чтобы замедлить ход,— он должен выбраться! Переднее правое колесо приблизилось к ноге Джонни, вдавило его ступню в грязь, сразу уплотнившуюся от огромного давления. Джонни отбивается, кричит, ему кажется, что нога раздроблена, он воет, как перед смертью. Но Штурмер видит перед собой только верхнюю кромку подъема, который нужно преодолеть; он не обращает внимание на дергающуюся марионетку под колесами, раздавленную в грязи,— разве тут разберешь? Да и что можно сделать, если он должен пройти? Должен пройти!
Последний толчок. Слышится какой-то треск. Джонни откатывается в сторону и тут же вскакивает. Его нога в крови, но даже не сломана. Сознание возвращается к нему, и вот он уже смертельно обижен.
По инерции, приобретенной на плоском дне воронки, грузовик выезжает передними колесами на подъем на длину корпуса. Но как раз в то мгновение, когда задние колеса уже цеплялись за твердую почву, они трижды пробуксовывают в луже нефти, и машина оседает без единого толчка.
Впереди горизонт застилал черный факел пожарища, а сзади, точно напротив него, вставало солнце.
Окончание следует
Перевели с французского Е. Факторович и Ф. Мендельсон
Рисунки Г. Филипповского
(обратно)
Под нами — облака

Видимо, в наше время нет человека, который не хранил бы альбома или просто конверта с фотографиями.
Часто подбор этих фотографий отражает характер человека. А иногда по ним можно судить об истории целого поколения, о времени, о событиях, памятных не только их участникам.
С таким альбомом в нашу «кают-компанию» пришел Михаил Андреевич Филиппенин. По роду службы Михаилу Андреевичу довелось побывать едва ли не во всех обжитых человеком уголках Советской Арктики, участвовать в организации многих научных станций «Северный полюс», носящих это традиционное имя со времен славной папанинской экспедиции. Но, главное, Михаилу Андреевичу хорошо знакома огромная уже ныне семья полярных асов, он одни из руководящих политработников полярной авиации.
— В Арктике работают люди многих профессий, — говорит Михаил Андреевич — но летчик, пожалуй, самая характерная здесь фигура. На неосвоенных ледовых просторах самолет стал вестником жизни, надежным помощником в борьбе с коварной природой Севера. И наши полярные летчики — прежде всего первооткрыватели. Их работа требует подчас качеств героических и большого мастерства. Ведь без их участия не прошло ни одно сколько-нибудь заметное событие в славной эпопее покорения советскими людьми Арктики.
В этом отношении и мой альбом, можно сказать, документ исторический. Я старался снимать то, что хотелось запомнить. И когда я перебираю теперь свои снимки, мне вспоминается множество историй, часто просто удивительных, связанных с моими товарищами, дорогими для меня людьми. Иных событий я был участником, о других мне рассказывали у костра где-нибудь на ледовом аэродроме или на СП в домике за кружкой вечернего чая, в самолете во время долгих разведочных полетов... Вот некоторые из этих историй.
С Яковом Яковлевичем Дмитриевым и его экипажем я познакомился в ледовой разведке. Задание было — найти льдину, пригодную для временной ледовой базы.
Обычный спокойный полет. Над нами сияло ослепительно белое небо, под нами громоздились торосы облаков.
Даже в таком рядовом рейсе опытному глазу заметна была особая слаженность, четкость и уверенность работы летчиков. Казалось, все происходит само собою. В этом мне виделось высшее проявление летного мастерства, доведенного до артистизма. Мастерства, которое, как я узнал тут же в самолете, не раз выручало экипаж.
Это произошло несколько лет назад в Антарктиде. В девятистах километрах от Мирного была создана тогда новая внутриконтинентальная станция Комсомольская. Четыре самолета ЛИ-2, пилотируемые Москаленко, Дмитриевым, Мальковым, Миньковым, доставили сюда грузы для полярников.
Это был первый полет в глубь континента, «характера» которого тогда почти совсем не знали.
И он показал себя: сесть-то самолеты сели, а вот взлететь не могли.
Температура — минус 68 градусов, из-за большой разреженности воздуха моторы работают не на полную мощность, снег сыпучий, словно сахарный песок, и укатке не поддается, лыжи по нему не скользят.
Выход, однако, придумали: собрали ветошь, тряпки, облили все это маслом и бензином, разложили на снегу и подожгли. Образовалась ледяная площадка. На нее вездеходом начали затаскивать самолеты. Площадка была маленькая, но главное, чтобы самолет тронулся с места, тогда для него и сыпучий снег не помеха. За три дня три самолета улетело. Остался лишь экипаж Дмитриева да сопровождавший тогда тягачи инженер Михаил Семенович Кулешов с радистом и механиком. И вот тут-то понадобились от них вся выдержка, все уменье, накопленные за годы работы в Арктике. Три дня они пытались подняться в воздух, но ничего не могли поделать. Ледяная корка разрушилась, а вновь создать ее уже было невозможно — горючего оставалось в обрез.
Все выбились из сил. Положение сложилось отчаянное. Экипаж получил указание в крайнем случае остаться здесь на зимовку. Уставшие, измученные, обмороженные, летчики решили сделать последнюю попытку взлететь. С большим трудом Кулешов лебедкой затащил самолет на два ледяных бугорка, оставшихся от площадки. С них-то и предстояло поднять тяжелый самолет.
Прогрели и запустили двигатели.
И взлетели... Могло показаться, что Дмитриев поднял машину исключительно силой волн — так «сработали» интуиция пилота, расчет и уверенность.
Но это было лишь начало испытаний: уже в воздухе обнаружили, что гидросистема замерзла и вышла из строя, лыжи убрать нельзя, отопление самолета не работает.
Горючего оставалось только до ближайшей станции — Пионерской. И то при попутном ветре. А как раз над Пионерской в это время разыгралась страшная пурга. Самолет словно в молоко влетел — ничего не видно. Летчики понимали, что помочь нм никто не сможет, уйти от урагана некуда, да и горючее — на исходе.
В полной мере участники этого необычного полета узнали тогда степень выдержки и самообладания своего командира. Никакого волнения, он даже улыбался, словно доволен был тем, что попал в свою стихию.
Шел самолет по радиокомпасу. Когда стали подходить к Пионерской, чуть отвернули вправо, чтобы не врезаться в домики, и пошли на посадку. Садились на ощупь, не видя ничего ни впереди, ни внизу.
Мало было надежды, что кончится все благополучно. В таких условиях, пожалуй, еще никто в истории авиации самолеты не сажал. Но они сумели.
А на этом полярном аэродроме я услышал историю из тех времен, когда советским людям пришлось сражаться не только со стихией.
Рассказал мне ее наш старейший полярник Матвей Ильич Козлов.
Шел 1944 год. Последний год Великой Отечественной войны. На западе в Баренцевом море Советский флот и авиация вели бон с фашистами, на большей же части Арктики шла тыловая жизнь. Там плыли суда Северным морским путем, самолеты летали на ледовую разведку, синоптики наблюдали за погодой... И как всегда в тылу, мысли у всех были о фронте. Впрочем, временами он напоминал о себе сам.
Августовским утром гидросамолет Козлова вылетел в Арктику. Задание привычное: доставить полярникам почту и продовольствие, сменить кое-где зимовщиков и провести ледовую разведку для судов.
Погода в тот день была неустойчивая. Облака прижимали к самой воде, а море — словно кипящий котел: начинался шторм.
И тут за островом Белым радист Николай Богаткий вдруг заметил фашистскую подводную лодку. Сообщили на базу. Вернулись домой.
А ранним утром к Козлову прибежал дежурный: фашистская лодка в Карском море потопила наш пароход «Марина Раскова», на котором находилась большая группа полярников. Надо было лететь в этот район и разыскивать оставшихся в живых.
Летчики сразу вышли к месту предполагаемой катастрофы и вскоре увидели на воде масляные пятна, бревна, доски... А где же люди? Ведь на пароходе были шлюпки, кунгас. Но как ни искали — вернулись на базу ни с чем.
Лишь на третий день, как только туман немного приподнялся и стало светлее, Козлов нашел шлюпку с людьми.
Там было двадцать пять человек. Чтобы взять на борт столько людей, пришлось слить около трех тони горючего. С трудом оторвались от воды, но вернулись благополучно.
Теперь надо было разыскать остальных... Шторм усилился, на посадку в море рассчитывать уже не приходилось, поэтому договорились, что гидросамолет будет вести поиски, а при удаче вызовет корабль и он возьмет на борт терпящих бедствие.
Туман низко нависал над бушующим морем. Вода просматривалась только под самолетом. Вдруг штурман крикнул: «Смотрите, кунгас!» Подошли поближе. Кунгас подбрасывало, как щепку, похоже было, что никто им не управлял. Но люди там были.
Сообщили на базу: Нашли кунгас. Сесть нельзя. Если отойдем — потеряем из виду». Последовал ответ: «От кунгаса не отходить, ждать корабль».
Семь часов кружили над суденышком. Устали чертовски, к тому же горючего на обратный рейс могло не хватить. Положение критическое.
Ветер достигал десяти баллов, подымались тяжелые трехметровые волны. Сказать, что в такой обстановке садиться на море опасно, — значит, ничего не сказать: это была почти верная гибель.
Сделав последний заход, гидросамолет коснулся гребня, перескочил на следующий и словно свалился в пропасть. Следующая волна накрыла его, внутри стало темно... Но самолет, словно поплавок, вынырнул и запрыгал на волнах. Сначала казалось, что не выдержали шпангоуты, разошлись швы, но, осмотревшись, летчики увидели, что все в порядке, течи нет. На базу сразу передали: «Сели. Целы». Но вот беда — кунгас исчез. Садились рядом, а его нет! Только через несколько минут, когда кунгас и самолет одновременно оказались на волне, его увидели метрах в трехстах.
План эвакуации людей был продуман еще раньше. Когда подошли поближе, бросили конец, его закрепили на кунгасе, и маленькое судно оказалось на буксире. После этого механик Камирный через задний люк спустил резиновую шлюпку, прикрепил ее к натянутой веревке и они со штурманом Леоновым стали пробираться к кунгасу.
Восемь рейсов совершила шлюпка, пока всех не взяли на борт самолета. А дальше пошла вообще фантастика. То, что с такой высокой волны не взлетишь, понимал каждый. Что делать? И Леонов подсчитал — до ближайшего пролива, где поверхность воды спокойная, сто сорок километров. Решили не лететь, а плыть! Запустили моторы и начали рулить. Через полчаса моторы перегрелись, пришлось их выключить. Легли в дрейф. Медленно, но продвигались вперед. Когда отклонялись от курса, снова запускали моторы...
Через двенадцать часов дрейфа показалась земля... Летчики спасли тридцать восемь человек.

…Знакомая сетка меридианов, расходящихся из одной точки — Северного полюса. Но сейчас она нарисована не на условной белизне карты, а на сверкающем полотне льдины.
Это снимок уникальный. Тогда мы сделали важное географическое открытие. Мы открыли Северный полюс.
Не спешите удивляться. Конечно, первым достиг его Пири в 1909 году, конечно, в 1937 году там была высажена героическая четверка Папанина. В 1962 году на полюсе всплывала советская подводная лодка «Ленинский комсомол».
Словом, люди на полюсе были. И все же точнехонько там, где находится северная точка земной оси, до нас никто не бывал. Дело в том, что ее местонахождение довольно трудно определить.
В 1965 году ученые решили провести исследования точно на полюсе. Высокоширотная воздушная экспедиция шла к концу, когда была задумана хитроумная операция по отысканию географической точки полюса. Долго сидели над картами штурманы и астрономы.
Приземляться на полюс решено было на вертолете. Это гарантировало нам успех — ведь на вертолете можно сесть в любом месте, на любой лед, был бы он достаточной прочности.
Утром — в день начала операции — в воздух с ледовой базы поднялось несколько самолетов АН-2 и вертолет МИ-4. Вел его Герой Советского Союза Василий Борисов.
Сначала мы сели в двадцати километрах от нашей цели, на тридцатом меридиане. Другой самолет приземлился на таком же расстоянии от полюса на сто двадцатом меридиане. Астрономы быстро определили точное нахождение обоих самолетов. Расчеты, поправки. К точке полюса направляется вертолет.
Опускается в назначенном месте.
Вскоре рядом с ним оказываемся и мы на своем лыжном АН-2.
Волнуемся. Сходим на лед. Вот он — полюс! Вокруг льды и льды. И ничем это место не отличается от любого другого в огромных просторах Северного океана — льдина, каких множество... Но... Мы же знаем, что есть только еще одна точка на земле, похожая на эту.
Здесь не существует часовых поясов, суток, месяцев. Солнце всходит и заходит один раз в год, а звезды здесь горят ярко и не уходят за горизонт.
Пока мы осматриваемся, ученые приступают к работе. В эфир уходит первая телеграмма: «На Северном полюсе ясно, видимость 20, температура минус 20 градусов, давление 128 миллибар».
В тот день эти данные были нанесены на все синоптические карты мира.
Океанологи измеряют глубину океана — четыре тысячи двести девяносто метров, берут пробы воды.

А мы рисуем полярный круг, обозначаем ось и устанавливаем в ней Государственный флаг Советского Союза. Под ним мы оставляем запаянную банку с запиской «СССР. Экспедиция «Север-65». 3 мая 1965 года». Интересно, куда погонят нашу льдину ветры и течения...
Только три фотографии... Три истории, которые входят в летопись нашей полярной авиации. Три вехи, которые вместе с тысячами других отмечают одни уверенный, хоть и нелегкий, путь.
Записала Т. Чеховская
(обратно)
Уильям Фолкнер. Розарий

Сильнее всего на свете мистер Харрис ненавидел своего соседа Хуана Вентурия и песенку под названием «Розарий». Он никак не мог решить, что ему ненавистнее, и само это сознание доставляло ему жестокую радость. Когда Вентурия, убирая свой двор, выбрасывал во владения мистера Харриса мусор и консервные банки, а как-то раз швырнул даже дохлую кошку, или когда цыпленок мистера Харриса, забежавший на участок Хуана Вентурия, немедленно поплатился за это жизнью, — в эти дни мистер Харрис знал, что пуще всего ненавидит соседа. Но когда жена и дочери мистера Харриса таскали его на музыкальные вечера и заставляли слушать, как чужеземцы с нечесаными гривами; не умеющие ни говорить, ни играть по-английски, уныло пиликают на скрипках, он мог поклясться, что на свете нет ничего хуже «Розария» или, уж если хотите знать его мнение, любой другой мелодии.
А Хуана Вентурия вовсе не раздражал «Розарий». Он не был женат, а потому ему не приходилось посещать концерты, и это еще сильнее бесило мистера Харриса, считавшего, что тут должна что-то сделать полиция. Вентурия наслаждался жизнью. Он умел раздобыть деньжат, каждый вечер встречался с друзьями в ресторанчике, словом, жил в свое удовольствие. Весь свой запас злости он мог сберечь для мистера Харриса, для цыплят и кошки мистера Харриса, для его дома и вообще всего, что принадлежит мистеру Харрису или нравится ему.
Да, Вентурия наслаждался жизнью. Он подстерегал мистера Харриса и, когда тот проходил мимо, насвистывал «Розарий». Он просматривал объявления в журналах и от имени мистера Харриса просил высылать наложенным платежом средства от чесотки и куренья, туалетные принадлежности, кухонную утварь, а потом злорадно прислушивался, сидя в кресле, к взрывам бессильной ярости мистера Харриса.
Однажды утром мистер Харрис не вышел из своего дома в обычный час. Вентурия, лишенный удовольствия просвистеть ему «Розарий», решил, что враг нарочно подстроил этот номер. Но когда позднее он услышал, что мистер Харрис заболел, его охватило ликование. Целый день, сидя в своей лавке, он радостно улыбался, иногда, к удивлению покупателей, начинал громко хохотать. Вечером, в кафе, он был необычайно оживлен и весел и заставлял своих приятелей покатываться со смеху.
Потом, когда он вернулся домой и, ухмыляясь, ворочался в постели, его внезапно осенила страшная мысль. А вдруг его враг умрет! Вдруг ненавистный сосед станет для него недосягаемым! Он вспоминал обо всех упущенных случаях подстроить настоящую подлость мистеру Харрису, и от его радости не осталось и следа. Прихлопнуть нескольких желтых цыплят или выкинуть мусор на участок Харриса — что это по сравнению с тем, что он мог бы сделать! Пустяки, сущие пустяки! Это детские штучки, десятилетний мальчишка мог бы додуматься до этого. Но он, Вентурия, мужчина, он мог бы придумать что-нибудь такое, что свалило бы его врага в постель и заставило умирать медленной смертью. А сейчас уже поздно. Его враг недосягаем, уже ничем нельзя повредить ему. Вентурия проклинал себя, ломая голову, что бы такое изобрести.
Как же это он позволил ускользнуть своему врагу! Если мистер Харрис умрет, он, Вентурия, окажется в жалком положении: ему придется тоже умереть, чтобы последовать за ним в чистилище и там закончить дело, которым он так преступно пренебрегал, пока был жив. Что бы такое сделать, прежде чем его враг отправится на тот свет и этим навсегда расстроит его планы? Он вертелся в постели и стонал, жалея о потерянных возможностях. Сколько всяких идей приходило ему в голову сейчас, когда было уже слишком поздно. Правда, он еще может поджечь дом мистера Харриса, но это грозит тюрьмой. В ярости он стал бранить и полицию. И случайная болезнь врага и власти — все обернулось против него...
Внезапно он очнулся от беспокойного сна. Предрассветная серость проглядывала в окне. Мимо дома с грохотом проехал фургон, с реки донесся хриплый гудок парохода. Вентурия вскочил с кровати, едва удержавшись от радостного крика. Вот оно, наконец! Сон подсказал ему, что надо делать. Как просто и удачно! Он заставит своего врага с нетерпением ждать смерти. Какой грандиозный замысел! Только одно омрачало его радость. «Так почему же, почему я не подумал об этом раньше, — стонал он. — Я мог бы довести его до безумия, мог превратить его в идиота, хнычущего и плачущего, бьющегося головой об стену!»
Он едва не выскочил из дома, чтобы немедленно приступить к выполнению своего плана, но постепенно к нему вернулось спокойствие. Он забрался обратно в постель и, сгорая от нетерпения, злорадно обдумывал свой план, пока не настало утро. Второпях позавтракав, он запер свою лавку и как одержимый побежал на Роял-стрит. Добежав до ломбарда, он на минутку остановился, лотом устремился в дверь. Через несколько минут он вышел, держа под мышкой какой-то длинный громоздкий предмет, завернутый в газету. Он свернул по Роял-стрит в противоположном направлении от своей лавки, и весь этот день она оставалась закрытой, и всю неделю он не появлялся в своих любимых кабачках.
...Мистер Харрис лежал дома, страдая от жестоких приступов пневмонии. Приходя в сознание, он думал о том, что замышляет сейчас против него Вентурия. Он знал, что тот не позволит ему умереть спокойно. Он ждал чего-нибудь такого, что мог изобрести незрелый ум его врага — сильного шума или другой подобной выходки. Но шли дни, и ничего не случалось. Это стало даже раздражать мистера Харриса. Он оказался в положении человека, ждущего взрыва, который почему-то задерживается. Он ждет его каждую секунду, вздрагивает и, наконец, хочет, чтобы взрыв раздался скорее.
«Пусть уж он кончает со своей затеей, — думал больной. — Впрочем, долго ждать не придется, — тут же успокаивал он себя. — Я уже почти конченый человек, и этот скот, слава богу, не сможет до меня добраться. И слава богу, мне не придется уже больше бывать на концертах. В общем смерть не такая уж плохая штука», — думал мистер Харрис, как и многие люди до него.
Так куда же пропал Вентурия? Приятели, привыкшие видеться с ним каждый день, с недоумением задавали друг другу этот вопрос. Но никто не встречал Вентурия. Он не появлялся в своей лавке, а когда, наконец, пришел туда, то сел и уперся глазами в стену, напряженно вытянул перед собой руки и шевелил в воздухе заскорузлыми грязными пальцами, как бы объясняясь с кем-то неуклюжими, но сложными знаками. Прохожие смотрели с удивлением, а маленькие мерзкие мальчишки с удовольствием на его сосредоточенное, наморщенное лицо и скрюченные руки.
Вечером Вентурия закрыл лавку и, захватив свой громоздкий сверток, ушел. Домой он вернулся к полуночи и лег спать, радостно ухмыляясь и мечтая о мести.
Наконец настало утро. Теперь, когда приблизился назначенный час, возбуждение Хуана Вентурия улеглось. Он был спокоен. Поднявшись с постели, он неторопливо позавтракал, побрился, надел белую сорочку и праздничный костюм, начистил до блеска ботинки, намазал волосы душистой помадой. Потом взял свой сверток, вышел во двор, подошел к дому соседа и остановился прямо под окном, за которым, как он знал, лежит больной.
Вентурия поднял глаза и устремил их на стену дома. Ему казалось, что его взор проникает в комнату врага. Медленно развернув грязную, измятую газету, он извлек орудие мести.
Мистера Харриса, однако, уже не было в комнате. Там была его жена, были его дочери, сидевшие возле постели, лежа на которой мистер Харрис еще вчера размышлял, какую штучку может выкинуть Вентурия. Но теперь мистер Харрис ушел туда, где ни один Вентурия на свете не мог потревожить его, где прирезанные цыплята и даже дохлые кошки не имеют никакого значения.
Внезапно под окном раздался душераздирающий, истошный вой саксофона, на котором упражнялся явный дилетант. Мелодии, казалось, нет, казалось, звучат две мелодии сразу, саксофон кричал, мяукал и рыдал в утреннем воздухе, спугнув с карниза стайку воробьев.
Только Вентурия и мистер Харрис могли бы узнать, что играют «Розарий».
Рисунки С. Прусова
Перевел с английского Г. Бабенышев
(обратно)
И шепот звезд, и блеск алмазный
 Прилетел вертолет. Для якутских добытчиков алмазов он и автобус и грузовик.
Прилетел вертолет. Для якутских добытчиков алмазов он и автобус и грузовик.
 На снимке — помощник топографа Люба Шишмарева.
На снимке — помощник топографа Люба Шишмарева.
Земля цепенеет в тисках жестоких морозов. Не подвижна заснеженная тайга, низкое солнце в радужных кругах; потрескивает, замерзая у самых губ, дыхание — так «шепчут звезды». На термометре — шестьдесят.
Таким был и тот январский день 1960 года, когда из земли, звенящей под ударами кирки, глянул в мир синий удивленный глаз. Кимберлит, синяя глина новой алмазоносной трубки, был открыт для людей. И имя этой трубки, а потом поселка скоро узнал весь мир — Слава! По-якутски — Айхал.
Сегодня, как и тогда, идут в тайгу геологи. Зимой пробивают в мерзлом грунте, разогревая его кострами, шурфы, а летом баюкают в лотках и просто в алюминиевых суповых мисках замешанные на воде отложения речек и ручьев — ищут пиропы, ярко-красные иголочки, верный признак близости кимберлнтовых трубок. Нет-нет да и блеснет в синеватом шлихе и сам драгоценный камень — значит, на верном пути... Вверх по руслам речек, по топким гиблым местам — к цели, к новой трубке — жерлу древнего вулканического взрыва.
Сейчас Айхал — поселок геологов, горняков — добытчиков алмаза, строителей. Растут корпуса новой мощной обогатительной фабрики, все больше становится новых домов среди заботливо сохраняемых вековых тридцатиметровых лиственниц.

...В песнях олонхосутов — народных сказителей — живут предания о мифической прародине якутов, земле, где всегда тепло, где солнце никогда не прячется от людей и священное дерево жизни — Аал-Луук-Мас поддерживает своей вечнозеленой кроной всегда ясный свод небес...
В Советском павильоне на Всемирной выставке в Монреале демонстрируется макет будущего Айхала, города-дворца из стекла и бетона.
Между жилыми и общественными зданиями этого города — крытые улицы-галереи. Под искусственным солнцем — зелень оранжерей, бассейны, спорт-площадки. По городу можно ходить в летней одежде все восемь месяцев лютой якутской зимы...
Ночью над снегами Якутии — призрачные световые волны полярного сияния. Они как волшебные лучи от грвней алмазов, которых не счесть в недрах якутской земли.
Фото Л. Лехмуса
(обратно)
Фолько Куиличи. Огни саванны
 «Огни саванны» — новая глава из книги итальянского кинооператора и путешественника Фолько Куиличи «Тысячи огней», с которой наш читатель уже познакомился в предыдущем номере журнала. «Огни саванны» — в данном случае огни костров. Куиличи описывает свои встречи, приключения, вспоминает рассказы охотников. Говорят, все охотники, по каким бы лесам они ни бродили, чем-то похожи друг на друга. Скорее всего их роднит любовь к природе, к добродушному юмору и, конечно же... к бесконечным рассказам у костра.
О ты, стрела небесного охотника,
что преследует упорно стадо туч,
бегущих в страхе, как слоновье стадо.
О Радуга, скажи Владыке своему «спасибо»,
скажи ему, чтоб он на нас не гневался,
ведь мы дрожим от ужаса, нам очень страшно.
Скажи ему об этом. Радуга.
(Песня пигмеев)
Гнев «великого босса»
«Огни саванны» — новая глава из книги итальянского кинооператора и путешественника Фолько Куиличи «Тысячи огней», с которой наш читатель уже познакомился в предыдущем номере журнала. «Огни саванны» — в данном случае огни костров. Куиличи описывает свои встречи, приключения, вспоминает рассказы охотников. Говорят, все охотники, по каким бы лесам они ни бродили, чем-то похожи друг на друга. Скорее всего их роднит любовь к природе, к добродушному юмору и, конечно же... к бесконечным рассказам у костра.
О ты, стрела небесного охотника,
что преследует упорно стадо туч,
бегущих в страхе, как слоновье стадо.
О Радуга, скажи Владыке своему «спасибо»,
скажи ему, чтоб он на нас не гневался,
ведь мы дрожим от ужаса, нам очень страшно.
Скажи ему об этом. Радуга.
(Песня пигмеев)
Гнев «великого босса»
—Найдете вы, наконец, этого проклятого слона? — ежедневно гремел наш «великий босс», настойчиво требуя снять с натуры сцену купания какого-нибудь одинокого гиганта. Она ведь была одной из самых важных в фильме.
Дошло до того, что мы стали строить замысловатейшие, а порой и просто абсурдные планы, как перехитрить слона.
Как-то вечером один из операторов, Циллих, предложил срубить несколько деревьев, выдолбить их, посадить в полые стволы оператора и охотника и незаметно подобраться к берегу реки. Тогда-то уж нам удастся застать слонов врасплох. Предложение Циллиха было встречено полным молчанием, мы притворились, будто вообще не поняли, о чем идет речь.
Наконец Циллих вместе с охотником Миле и его женой (тоже, кстати, отличным стрелком) встретили большого слона в двух днях ходьбы от лагеря. Они сняли животное. Негатив был отправлен в Лондон. Там его проявили, а на следующей неделе мы получили неприятное известие: лесная тень была такой густой, что на пленке почти ничего не получилось и весь труд охотников и оператора пропал даром.
Было отчего прийти в отчаяние. «Великий босс» перестал с нами разговаривать.
Наконец он вызвал меня и приказал любой ценой отыскать слонов у реки. Я хотел взять с собой Васселе и еще кого-нибудь из охотников, которых хорошо знал, но, увы, все они впали в немилость нашему режиссеру из-за того, что не смогли найти и подстрелить хотя бы одного слона.

Я знал, что их вины тут нет, — просто район поисков был выбран неудачно. Но мои доводы не помогли, и на этот раз мне дали «профессионального охотника» из Браззавиля, который весьма легкомысленно пообещал «найти слона за неделю».
Перед самым моим уходом из лагеря меня разыскал Васселе и без всяких околичностей сказал:
— Не особенно доверяй этому типу, охотник он никудышный. Если после первого же его выстрела слон не рухнет на землю, значит рана оказалась не смертельной, и лучше удирать поскорее куда глаза глядят.
Пять дней спустя я по достоинству оценил совет Васселе. В густейшем экваториальном лесу мы внезапно увидели прямо перед собой слона. Он мирно спал, прислонившись к дереву. На какую-то долю секунды я, гид и «профессионал-охотник» застыли в растерянности. Не успел я подумать: «Как же он нас не учуял», — как охотник вскинул свой «экспресс» и дважды выстрелил. Что произошло потом, я лишь слышал, а не видел, потому что со всех ног бросился наутек.
Дикий рев слона сливался с треском деревьев, которые он крушил, убегая от нас. Мы же трое убегали в другую сторону, и каждый при этом думал только о своей шкуре. Из последних сил я карабкался вверх по холму и не остановился даже тогда, когда киноаппарат зацепился за куст и вырвался из рук.
Постепенно рев слона начал слабеть и вскоре затих вдали. Наступила мертвая тишина. Не слышно было даже обычных криков обезьян, пения птиц или кваканья лягушек.
Я неподвижно лежал под кустом.
— Интересная встреча, — сказал я большому желтому пауку, висевшему над моим носом. — Да только друзья меня потом за лгуна посчитают. Кто же поверит, что я охотился на слона в тропическом лесу Конго? Они знают, что по натуре я человек осторожный и даже робкий и не очень-то похож на искателя приключений. Правда, им известно, что я отправился в Африку снимать охотничий фильм, но все понимают, что это такое. Своего рода стрельба в тире на потеху богатым туристам. Охотники приезжают на машине в заповедник, слезают, углубляются в лес на какой-нибудь десяток метров, два-три выстрела, и вот дома у туриста на стене висит драгоценный трофей.
Ни один из друзей не поверит моему рассказу о слоне, крушившем на бегу деревья, словно это были кегли.
Увы, самому мне пришлось-таки поверить этой невероятной истории. Наконец я поднялся и отправился на поиски гида и охотника, как и я, обратившихся в постыдное бегство.
«Может, они погибли?» — подумал я.
Но тут раздался свист. Я ответил и вскоре состоялась «торжественная» встреча. Гид и «профессионал-охотник» были похожи на мореплавателей, потерпевших кораблекрушение. Оба промокли до нитки. Спасаясь от слона, они бросились в реку, одежда на них была вся изодрана и превратилась в лохмотья. Они о чем-то спорили и были явно удручены и смущены, частично оттого, что в пылу отступления потеряли сигареты, частично же оттого, что выглядело все это приключение весьма неприглядно. С четырех метров не попасть из «экспресса» в слона! Такое непростительно даже для начинающего охотника. Но им и этого было мало. В довершение ко всему оба, несмотря на мои возражения, решили в оставшиеся до заката часы искать раненого слона. Это было уже слишком.
Васселе предупреждал меня (и как я теперь убедился, с полным основанием) о неопытности «охотника-профессионала» и сказал, что особенно опасно преследовать раненое животное.
«А с таким горе-охотником это будет настоящим самоубийством», — дважды повторил он.
К несчастью, сейчас мне нельзя было выказывать ни малейших признаков страха — этот парень способен сказать потом, что слона не удалось заснять по моей же вине. Умолчав о своем бегстве, он в мельчайших подробностях будет расписывать мое.
Я освободил из кустов киноаппарат, и мы отправились на поиски. В глубь леса тянулась кровавая полоска, кругом валялись сломанные деревья — следы бегства раненого животного.
Наконец совсем стемнело, и охотник признал, что искать дальше бесполезно. Мы вернулись в лагерь, а затем на «джипе» выехали в город.
Я сразу же отправил подробную телеграмму «великому боссу» и продюсеру, в которой писал, что готов продолжать поиски слонов, только если мне снова дадут в помощники Нанни Скарпеллини и Васселе. Им я доверяю целиком и полностью. Мое требование было принято, и двое друзей на самолете прилетели в Браззавиль. Оттуда вместе с еще одним охотником, Нансеном, мы отправились на север страны, в саванну.
Атака буйволов
На равнине полыхало пламя. Бескрайняя саванна казалась огромным желтым островком в океане зеленого леса. Огонь шел на нас в ночи фронтом в пять-шесть километров.
Больше часа мы смотрели, как пламя, гонимое ветром, неотвратимо приближалось. Вскоре было уже слышно, как огонь, тяжело дыша, пожирает сухую траву. В нескольких километрах от нашего импровизированного лагеря в траве саванны то появлялись, то исчезали головы загонщиков. Это были негры-бапуну; они шли навстречу огню, громко крича и молотя палками по земле.
Между пламенем и полукругом загонщиков находились буйволы, а в засаде, ожидая атаки, в которую наверняка пойдет стадо животных, выкуренное из убежища огнем и криками людей, сидели три охотника.
— До того, как они появятся, еще не меньше часа, — сказал Васселе.
 Вспыхнула сухая трава, огонь еще невелик, но скоро запылает вся саванна.
Вспыхнула сухая трава, огонь еще невелик, но скоро запылает вся саванна.
Желая скоротать время, я стал вспоминать об охотнике из Камеруна Марселе Дюпле и его встрече с буйволом. Когда он выстрелил, животное рухнуло на землю. Дюпле решил, что пуля из винтовки калибра 9,5 миллиметра, попавшая буйволу прямо в сердце, не могла не уложить его наповал. Но Дюпле ошибался. Когда он подошел к нему поближе, буйвол понял, что настал миг мести. Собрав последние силы, животное вскочило, словно подброшенное пружиной. Пронзив охотника рогами, буйвол последним усилием подбросил его вверх и еще успел поймать беднягу на рога, когда тот падал. Рога вонзились Дюпле в спину, и он полетел в сухую траву саванны. Его отчаянный пронзительный крик слился с предсмертным хрипом животного. И все же, несмотря на тяжелейшее ранение, Дюпле выжил и по-прежнему организует для туристов охоту на животных. Каждый вечер он наверняка показывает своим «клиентам» рубцы и шрамы на спине, с гордостью рассказывая о необычайном приключении, которое необъяснимым образом закончилось благополучным выздоровлением.
— Ну, теперь, кажется, осталось ждать немного, — сказал Васселе.
Время от времени кто-нибудь из нас поднимался на холм или влезал на чахлое деревце и обозревал местность.
— Видишь буйволов? — жестами спрашивали охотники, а наблюдатель в ответ отрицательно качал головой.
Наконец очередной разведчик увидел, как впереди колышется трава, и подал сигнал тревоги.
— Буйволы! Целое стадо!
Мгновенно все замерли в молчаливом ожидании. Главный охотник раздавил белый пакетик с тальком, тот лопнул, словно хлопушка, и из него сразу вырвались, поплыв по ветру, два белых облачка. Итак, первое дело сделано — направление ветра определено.
Длительное ожидание изнуряет. Коротая время, мы следили, как с десяток орлов, распластав крылья, висели над районом пожара. Это помогало нам отвлечься; в какой-то миг птицы камнем падали вниз на уже выгоревший участок саванны и вскоре взмывали ввысь, держа в когтях обгоревшую мышь или черепаху.
Внезапно земля содрогнулась от топота стада буйволов, спасавшихся от огня. Вначале мы не увидели животных, а лишь почувствовали, что они остановились в густой траве.
— Готовьтесь, буйволы рядом, — прошептал один из охотников.
В ту же секунду порыв ветра обрушил на нас клубы дыма, окутав нас плотной белой завесой. Животные догадались, что мы попали в трудное положение, и ринулись в атаку.
Мы снова услышали тяжелый топот копыт, но хорошенько разглядеть буйволов не смогли. Наконец метрах в ста мы увидели, как буйволицы и буйволята бросились врассыпную влево и вправо в надежде вырваться из кольца. Самцы принимали весь удар на себя — они бросились прямо на нас. Это и была грозная атака буйволов.
Васселе вскинул свой карабин калибра 9,5 миллиметра, и его примеру последовали три остальных охотника. Мы навели наши кинокамеры.
В таких случаях охотник метит в позвоночник. Только тогда он может уложить буйвола одним выстрелом. Стрелять в голову бесполезно, потому что крепкая лобовая кость отразит удар.
Метить надо только в позвоночник, а так как буйволы атакуют фронтально, то стрелять приходится с очень близкого расстояния в тот миг, когда животное наклоняет голову, чтобы поддеть вас на рога. У охотника не остается времени перезарядить ружье и сделать второй выстрел.
Три буйвола неслись прямо на нашу группу; двое из них упали на землю буквально вместе с выстрелом, точно споткнувшись о что-то невидимое. Третий подпрыгнул и помчался дальше. Мы бросились кто куда, а животное пронеслось рядом. Выстрел попал в цель, но буйвол по-прежнему рвался вперед. Путь был свободен, и он мог бы спастись бегством. Но когда буйвол разъярен до предела, он не дает врагу пощады. Раненый зверь повернулся и снова бросился на нас. Охотники мгновенно перехватили ружья, но раньше, чем прозвучал хоть один выстрел, буйвол рухнул на землю.
Путь через саванну
После месячного перерыва, вызванного сильнейшей засухой, мы снова углубились в саванну. Тридцать дней мы шли среди желтой, пожухлой травы матити. Наш путь лежал вдоль рек, которые текли по равнине. Нам необходимо было отыскать у реки слона и заснять его. Держась берегов, мы избегали гигантских пожаров, которые неожиданно вспыхивали в долине из-за адской жары. Животные большими стадами убегали от огня, и их тяжелый галоп был слышен еще издали. Стада буйволов, газелей, слонов искали спасения у реки, и мы шли по их следам, в надежде снять их в
тот момент, Когда они несутся словно нам навстречу. Понятно, такая съемка трудна и небезопасна, но сцены эти украшают любой видовой фильм, зримо показывают, сколько яростной силы заключено в неутомимом беге диких животных.
Только вера в меткость обоих охотников позволяла мне спокойно снимать подобные сцены. Ведь когда животные мчатся прямо на вас, нужно обладать редкой выдержкой, хладнокровием, уверенностью и метким глазом, чтобы не дрогнуть. Лишь очень немногие из охотников отваживаются «спровоцировать» буйвола и, легко ранив его, вступить в поединок. В таких случаях охотник ставит на карту свою жизнь, и ни одна из сторон не имеет преимущества в этой смертельной схватке.
Клод Васселе и Нансен принадлежали именно к такого рода охотникам. Первый из них — спокойный, бесстрашный француз с неизменной улыбкой на лице. Казалось, его забавляет эта опаснейшая «игра». Сам он, правда, так не говорил, он вообще был неразговорчив. Когда мы возвращались в лагерь, он обычно читал вечерами в одиночестве.
Второй охотник, Нансен, тоже был весьма своеобразным человеком. Он приехал в Конго из Швейцарии и некоторое время был миссионером. Но Африка изменила его до неузнаваемости: он покинул лоно церкви, женился на самой красивой женщине в стране — «мисс Конго 1948 года», и та родила ему девятерых детей. Он жил в Пото-Пото — африканском квартале Браззавиля, изрядно недолюбливал европейцев и американцев, а также африканцев, «испорченных цивилизацией». Он верил в подлинную черную Африку и зарабатывал на пропитание себе и семье охотой.
Вчетвером мы шли все дальше к северу, пока не достигли берега маленькой речушки Ниамбули.
Здесь мы разбили свой лагерь...
Нам снятся слоны
— Однажды я убил слона возле Банги, — рассказывал вечером Нансен. — Когда животное упало на землю, я с изумлением увидел, что у него не было хобота, — он атрофировался, очевидно, еще в детстве... Учти, что слоны в состоянии есть и пить, только помогая себе хоботом. Теперь ты представляешь себе, насколько у них развито чувство стадности и взаимной выручки. Слону было не меньше пятидесяти лет, и все это время стадо кормило его и поило...

Сначала нужно "убить" слона на стене хижины, только после этого приступать к настоящему делу
С того самого момента, как мы разбили лагерь, определив, что именно в этих местах легче всего подстеречь четвероногих громадин, все разговоры были только о слонах. Потушив керосиновую лампу и занавесив вход в палатку противомоскитной сеткой, мы вспоминали давние и совсем еще свежие эпизоды.
А снаружи, прислонившись к деревьям, носильщики тоже говорили о слонах. Слоны, только слоны! Мы следили за ними, искали их следы, пытались определить издали их запах. Все наши мысли были о них.
В любой стране, на любых широтах охотники говорят о животных, на которых охотятся. А в Африке это стало даже своеобразной традицией, как среди приезжих охотников, так и среди местных. В экваториальных районах Конго я встретил пигмеев, которые перед охотой рисовали на стене хижины изображение животного, которое собирались убить. Тем временем женщины, предводительствуемые колдуньей, часами исполняли танец охоты, беспрестанно повторяя «гхо-доо», «гхо-доо» — «слон», «слон».
Позже, вспоминая этот ритуальный танец да и вообще все, что мне было известно об обычаях первобытных охотников всех стран и времен, начиная с изображений быков в пещерах Альтамиры и кончая обычаями пигмеев современного Конго, я понял, насколько правы ученые, историки и этнографы, отмечавшие, что у первобытных людей охотники всегда старались перед труднейшим единоборством со зверем как-то выразить свой страх и преклонение перед ним. В песнях и танцах они прославляли его силу и отвагу. Быть может, наши беспрестанные разговоры на одну тему — это невольный возврат к прошлому и видоизменившееся повторение тех первобытных ритуальных обрядов, связанных с охотой. Здесь я понял также, что до встречи со «своим» слоном охотник все знает о нем, причем в мельчайших подробностях.
Во время переходов, идя по следам слонов, удается разузнать даже о размерах будущей жертвы. По следам можно определить размеры и вес животного, полосы грязи на стволах деревьев, о которые слон чесал спину, расскажут, насколько он высок, о длине и силе хобота скажут зеленые ветви деревьев, сломанные слоном, когда он поедал листья, размер бивней можно довольно точно представить, себе по причудливым иероглифам, вырезанным на коре деревьев, когда животное счищало с бивней грязь и землю.
Ноги, клыки, хобот... так мало-помалу слон, которого вы преследуете, обретает «лицо» и реальные очертания еще до встречи с охотником.
Слоны, как бабочки
Ниамбули — маленькая, прозрачная и глубоководная речушка. Она течет по саванне, но берега ее поросли не высокой травой, а лесом. Кое-где ложе реки становится шире, образуя песчаные островки. Сюда из раскаленной саванны два раза в день приходят на водопой слоны, и здесь, на этих островах, которые охотники называют «купальнями», мы и пытались их подстеречь. Но сделать это было нелегко, потому что ветер в долине непрерывно менял направление и слоны, почуяв запах человека, мгновенно обращались в бегство. Пытаясь заснять их с близкого расстояния, мы крались с подветренной стороны, маскировались, но все было напрасно.
 К опье остро и рука тверда - в полном боевом снаряжении выходит охотник в саванну
К опье остро и рука тверда - в полном боевом снаряжении выходит охотник в саванну
Ветер был нашим главным врагом. Мы долгими часами, а подчас и днями шли по саванне, чтобы отыскать миролюбивых гигантов, и наконец находили их. И тут в самый последний момент налетал внезапный порыв ветра, и слоны улетучивались, словно бабочки. С верхушек деревьев или с обрыва мы видели, как они резвятся в «купальне», и, надеясь застигнуть их врасплох, быстро и бесшумно спускались к реке. Мы пробирались по густым зеленым, лесным галереям; вокруг царила мертвая тишина, которую изредка нарушал далекий крик обезьяны или неприятный шелест крыльев летящей над самой головой птицы. Но каждый раз, едва мы достигали реки, нас ждал один и тот же набивший оскомину сюрприз. Слоны, учуяв нас, исчезали.
Охотники обвинили во всем одеколон, которым мы обтирались, и запретили нам пользоваться им. Затем «вина» пала на мыло, которым мы мылись по вечерам, и меня с Наини заставили отказаться и от него. Затем они решили, что нас выдавал запах одежды. Поэтому, едва мы обнаруживали животных, Нансен и Васселе заставляли нас раздеваться и продираться голышом через колючий кустарник или ползти в траве. Меня особенно злило то, что если слоны, перейдя в контратаку, растопчут нас или прибьют хоботом, мы отправимся на тот свет в чем мать родила. И тогда экспедиция, отправленная на розыски пропавших, найдя нас в столь непрезентабельном виде, подумает о нас бог весть что. Однажды после очередной неудачной охоты мы не нашли спрятанной под кустом одежды и нам пришлось возвращаться в лагерь, стыдливо прикрывшись руками. Бедняги носильщики были совершенно поражены и окончательно убедились, что мы тронулись в уме.
Хитрость с одеждой тоже не помогла. Дни мелькали один за другим, а наш запах неизменно обращал слонов в бегство. Тогда охотники придумали другую уловку: нам предстояло подкрадываться к слонам не просто голыми, но и обмазавшись фекалиями слонов. Сколько мы ни сопротивлялись, Нансен и Васселе подвергнули нас и этому унижению. Но и оно не дало желанных результатов. В тот раз, когда мы подползли к «купальне» в столь странном, дурно пахнувшем «наряде», слоны, по-моему, удирали быстрее обычного.
Поцелуй
Несмотря на все наши неудачи, мы не потеряли надежду и чувствовали, что рано или поздно сможем застигнуть слонов врасплох. А пока мы передвигались пешком или в пироге, наслаждаясь сценами из повседневной жизни животных на берегу реки. Эти сцены не были ни красочными, ни драматичными, а следовательно, они не годились для фильма об охоте. Но, наверное, эти самые эпизоды позволили Киплингу так поэтично изображать животных в своих книгах. В такие моменты лесные жители совсем не кажутся дикими, они словно «очеловечиваются», и это отнюдь не располагает к охоте на них.
Как-то раз мы увидели на водопое группу старых буйволов. С ними был маленький слоненок, который, очевидно, потерял мать. Когда мы приблизились, буйволы обратились в бегство, не забыв, однако, впихнуть слоненка в середину. Легонько подталкивая слоненка рогами, они заставили его удирать вместе с ними.
Однажды вечером, после заката мы увидели в прибрежной листве целующихся слонов. И хотя они были на расстоянии выстрела и наконец-то не услышали нашего запаха, мы не стали в них стрелять.
— Уж очень они далеко были, — сказали оба охотника, и мы охотно поверили этой очевидной лжи.
У кого подымется рука убить целующихся слонов? Слоны стояли молча, их хоботы сплелись, и они нежно касались друг друга лбами.
Когда прошел месяц с тех пор, как мы начали гоняться за слонами на Ниамбули, я попытался подытожить свои впечатления об этих добродушных толстокожих. Меня поразили не грандиозность, не спокойная сила, исходящая от слонов, а их чувство «коллективности», взаимопомощи.
История со слоном без хобота, рассказанная Нансеном, кажется мне теперь весьма характерной, целиком подтверждающей мои наблюдения.
Было очень интересно выслеживать слонов, но еще интереснее было наблюдать за стадом издали, когда четвероногие гиганты купались и отдыхали от свирепой дневной жары.
Всем им не терпелось броситься в воду, но сначала стадо медленно спускалось к берегу под защиту деревьев. Первыми входили в «купальню» самые старые самцы; они подымали хоботы, словно перископы, и «прощупывали» обстановку. Только затем право спуститься в воду получали самки и слонята. И в самой церемонии купания царил дух взаимопомощи. Слоны набирали хоботом воду и по очереди обливали друг друга, а потом все вместе мыли малышей.
При первом же признаке опасности слоны вытягивали хоботы и пытались уловить, откуда надвигается угроза. Если надо было спасаться бегством, то стадо действовало как единое целое. Малышей ставили в центр, а самцы прикрывали отступление, бесстрашно контратакуя врага.
Меня поражало, как двадцать или тридцать могучих животных умудрялись мгновенно и, главное, бесшумно исчезать в лесу или в густой траве матити. Я сам видел, как они без единого всплеска мчались по воде, стремительно проносились по лугу, но никак не мог поверить в это чудо. Поистине это были не четырехтонные неуклюжие толстокожие, а бабочки, стрекозы.
В итоге игра в жмурки каждый раз заканчивалась для нас самым плачевным образом. Переменчивый ветер с реки сводил на нет все наши ухищрения.
Перевел с итальянского Л. Вершинин
(обратно)
Оглавление
Атлас Ленина
«И стон один, и клич: Россия!..»
Брак по...
Путь к Луне
Отход
Сайгон или анти-Сайгон?
Жорж Арно. Плата за страх
Под нами — облака
Уильям Фолкнер. Розарий
И шепот звезд, и блеск алмазный
Фолько Куиличи. Огни саванны
Последние комментарии
1 час 52 минут назад
6 часов 40 секунд назад
6 часов 17 минут назад
6 часов 38 минут назад
9 часов 20 минут назад
16 часов 43 минут назад